Книга: Идеальная жена
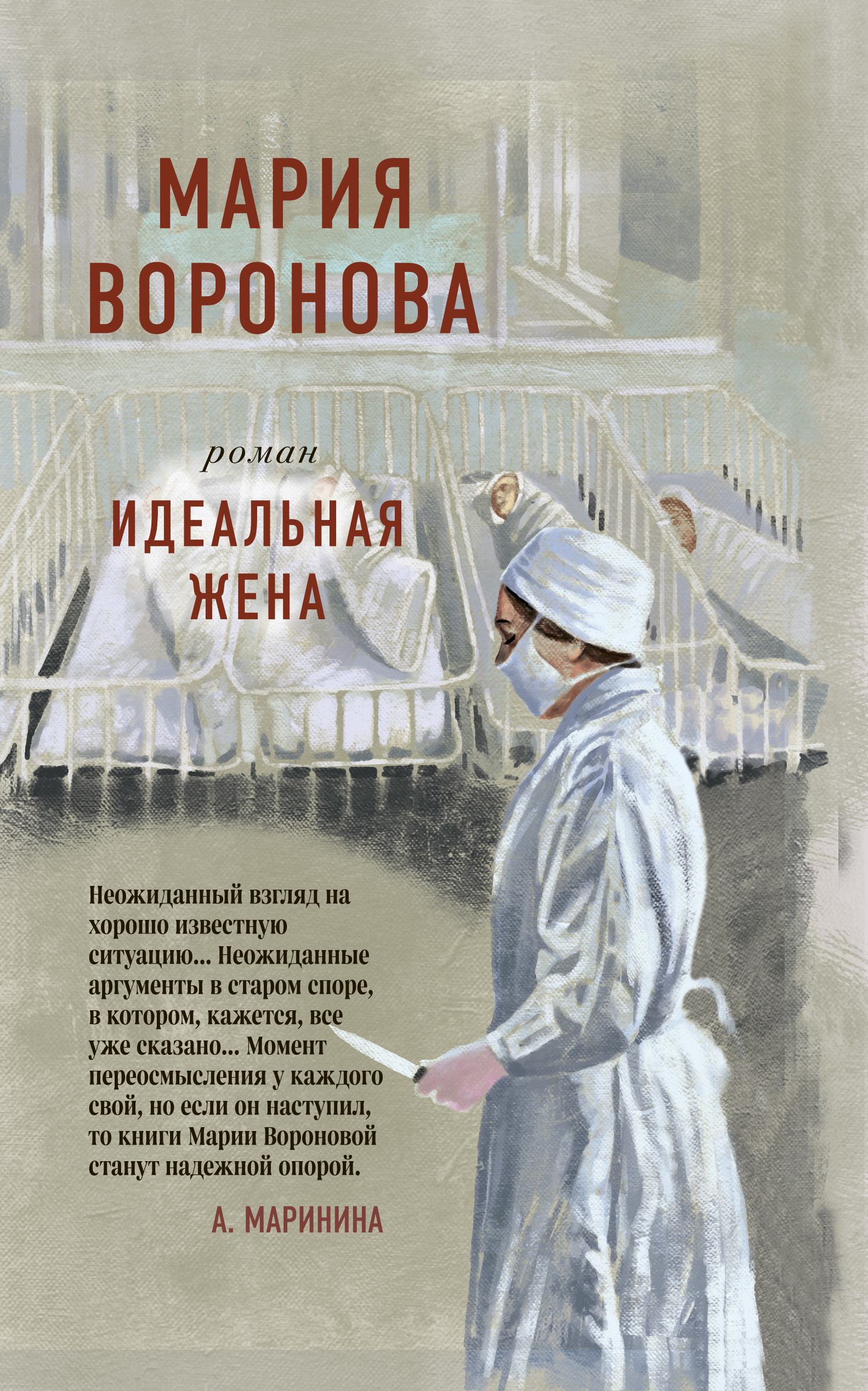
Идеальная жена
Дождь сразу зарядил сильный и быстро превратился в настоящий ливень. Вода струилась по решетчатым окнам веранды, с напористым журчанием низвергалась по желобу в противопожарную бочку. Капли били в крышу так, будто хотели простучать морзянкой что-то важное, молодые листочки на кустах сирени под окном трепетали, а на дорожке активно кипела лужица. Дальше все скрывалось за сплошной жемчужной стеной дождя.
Ирина улыбнулась и нехотя протянула руку к тоненькой брошюре цвета красного вина. Дверь с улицы быстро открылась, вбежал Кирилл, отфыркиваясь, как мокрая собака, пронес через веранду охапку дров.
Дверь в дом он оставил распахнутой, и, делая вид, что читает, Ирина смотрела, как он в комнате открывает печь, ловко закидывает дрова, а на его спине под легкой футболкой перекатываются мышцы.
Сейчас дрова займутся, и печь уютно загудит, но сквозь шум дождя Ирина этого не услышит.
Кирилл вышел на веранду.
– Ир, что-то газетку не найду. Ты свой устав дебильный еще не выучила?
Она покачала головой.
– Дай, а то растопить нечем.
– Не начинай, пожалуйста.
– Ладно, ладно. В холоде посидим, раз такое дело.
Ирина огляделась. На этой даче она стала хозяйкой совсем недавно и еще не успела обрасти бумагами, которые теперь можно было бы сжечь.
– И то правда, я бы лучше этот устав употребил по другому назначению газет, – хихикнул ее муж.
– Фу.
– Дай хоть пару страничек.
– Ага, сейчас! А если кто-нибудь найдет? Нет уж, если жечь, то целиком.
– Ни фига в тебе память поколений говорит! – Кирилл уважительно присвистнул. – Чай, не тридцать седьмой год на дворе, а ты все шугаешься.
Ирина вырвала листок из тетради, в которой делала заметки.
– На. Хватит тебе?
– Обижаешь.
Кирилл быстро растопил печку и вернулся к Ирине, лег на диван рядышком под теплый плед и через ее плечо заглянул в текст.
– Какая ересь, господи! Жаль, что не пожгли.
– Кирилл, ну сколько можно! Если я хочу стать депутатом, то мне обязательно нужно до декрета вступить в партию.
– А ты хочешь?
– Да, представь себе, хочу!
Муж прижался покрепче.
– А может, не надо?
Ох, как Ирине хотелось согласиться! Выкинуть чертов устав и притулиться к сильному плечу мужа, ни о чем не думать, а просто слушать напористый шепот дождя.
– Надо, – буркнула она, отодвигаясь.
Кирилл засмеялся:
– Хочешь быть руководящей и направляющей силой не только для меня одного?
– Просто хочу что-то делать. Что-то менять, – вздохнула Ирина, – я же рвусь в депутаты не ради буфета и прочих привилегий. Мне интересно, и пусть я нескромная, но мне кажется, что я способна принести пользу людям. А раз входной билет туда – членство в партии, то надо вступить, и все. В конце концов, взносы нас не разорят.
Кирилл положил руку ей на живот, послушать, не шевельнется ли ребенок.
– Я знаю, Ирочка, что ты у меня очень умная, – шепнул он, – и смелая, и порядочная, и самостоятельная, и будешь прекрасным депутатом. Только это условие не напоминает ли тебе экзамен на приспособленчество?
– В смысле?
– Получается, что ты должна принять убеждения, которые не разделяешь, и поклясться в том, во что не веришь.
– Ты утрируешь.
– Не думаю. Это механизм известный: сначала присягай на верность, целуй крест, а потом все остальное.
– Если все будут такими чистенькими, то никогда ничего не поменяется.
– Так не бывает, чтобы никогда ничего не менялось. Но ты тоже права, если система останется без притока порядочных людей, то загниет, и все может поменяться слишком резко.
Ирина перелистнула страницу. Автор постарался, растянул на целую книгу парочку немудрящих мыслей, но учить надо, ибо спросить могут с любого места.
Судья Ирина Полякова не рассказывала никому о своей беременности, но животик быстро вырос, губы налились, а у секретаря суда глаз оказался наметанный на такие вещи. Через три месяца все всё знали. Ирина думала, председатель разгневается, но он, отец и дед, отнесся вполне добродушно и обещал ей до декрета «легкий труд», то есть самые простые, незамысловатые дела с признаниями и без подводных камней, и, упаси бог, никакой высшей меры. «Готовьтесь к материнству, дорогая Ирина Андреевна, думайте только о приятном, читайте добрые книги, смотрите на красивое и ни о чем не беспокойтесь», – с улыбкой напутствовал он.
Такое лояльное отношение было очень кстати – как раз пошла волна борьбы с хищениями социалистической собственности, вскрывались хозяйственные преступления просто макабрических масштабов, а это все расстрельные дела. Умом Ирина понимала, что все эти деятели торговли нанесли стране огромный ущерб, но сомневалась, что у нее хватило бы духу приговорить к высшей мере человека, который сам никого не лишил жизни.
Инструктор из горкома сказал, что к выборам она как раз выйдет из декрета, а двое детей лучше, солиднее, чем один, только нужно вступить в ряды прямо сейчас, чтобы партстаж был побольше. Тему мужа инструктор не развивал: официально Кирилл Мостовой – рабочий класс, передовик производства, гегемон, словом, отличный супруг для депутата Верховного Совета. А что он поэт и подпольный рокер – так не смотри и не увидишь. Кирилл так и не сколотил новую группу, творит, как все нормальные люди в СССР, «в стол», и на нем нигде не написано, что он махровый антисоветчик. Ничего подобного, каждое утро встает и идет в свой цех, где является незаменимым работником, уникальным кузнецом ручной ковки.
Ирина вздохнула. Ей нравились стихи Кирилла, но как было бы хорошо, если бы он переболел своей поэзией! В цеху он зарабатывает по пятьсот рублей в месяц, плюс халтурки, о чем еще мечтать? Не пора ли повзрослеть, стать настоящим отцом семейства, и оставить юношеское увлечение, которое не приносит ничего, кроме проблем? Кирилл же не просто лупит молотом, не сваи забивает, а создает настоящие произведения искусства, он нарасхват у самых известных архитекторов, так что его эстетическое чувство и стремление к самореализации должно быть удовлетворено, и филфак ни к чему заканчивать. Жизнь и так удалась, так что нечего ныть, что власть плохая, ведь не выпрыгнешь же отсюда прямиком в сказку. Надо жить, где живешь, и играть по правилам. Вот и Кирилл бы мог, авторитет у него огромный. Руки золотые, не пьет, не жадный, всегда готов выручить, если какой-то аврал. Вот что в уставе написано про образцового строителя коммунизма, так прямо все про него. Тоже мог бы в заводской комитет свой вступить и приносить людям пользу, решать вопросы по уму. Протест – это дело молодых и одиноких…
Закатив глаза от усердия, Ирина повторила про себя: широкая дискуссия, особенно дискуссия всесоюзного масштаба по вопросам партийной политики, должна проводиться так, чтобы обеспечивалось свободное выявление взглядов членов партии и исключалась возможность попыток образования фракционных группировок, ломающих единство партии, попыток раскола партии…
Шикарный абзац, будем надеяться, что Кирилл до него не дочитал и никогда не дочитает, иначе ждет ее бурная филиппика. И правда, если вдуматься, то означает это следующее: дискуссия нужна, чтобы вовремя выявить инакомыслящих и как минимум выгнать из партийных рядов. Умный человек поймет, что лишний раз рот лучше не открывать и своими соображениями с товарищами по партии не делиться.
Она вздохнула. Можно послушать Кирилла, спалить устав и больше не возвращаться к этому вопросу. Потянуть до декрета, а потом никто и не вспомнит о ее карьерных устремлениях. Так и проработает до пенсии судьей. Скромная трудовая биография, зато честная. И скучная. Интересные дела бывают раз в год, а то и реже, да и они тоже надоедят.
А Ирина действительно способна на большее и ведь не сама это решила, не лезла наверх, не угодничала, не «заявляла о себе» на каждом углу, нет, просто честно работала, и ее заметили, и поверили, что она может вырасти в крупного руководителя, и готовы помочь, притом без всякого блата. Выпал редкий шанс, неужели надо от него отказаться из-за малюсенькой лжи? Например, Генрих Четвертый ради короны перешел в католичество, рассудив, что «Париж стоит мессы», и ничего, отлично правил и был одним из самых почитаемых королей.
Так что ничего страшного.
Тут за стенкой раздался быстрый дробный топот, и на веранду вбежал Егорка, румяный со сна. Увидев, что дождь все еще идет, он с досадой остановился.
– Скоро кончится, – сказал Кирилл, – ливень долгим не бывает.
Ирина подумала, что надо достать резиновые сапожки, но так уютно было лежать рядом с мужем… Потом, потом.
Кирилл протянул к Егору руки:
– Иди к нам.
Сын покачал головой:
– Нет, я почитаю, можно? Про собаку Баскервилей можно возьму?
– Что ты спрашиваешь? – удивился Кирилл. – Бери что хочешь, здесь все твое.
Ирина встрепенулась, хотела сказать, что Конан Дойла Егору еще рановато, но не запрещать же после того, как Кирилл разрешил.
Родители мужа собрали прекрасную библиотеку, которую пришлось перевезти на дачу после их смерти, когда у Кирилла в коммунальной квартире отобрали две комнаты из трех.
Вся русская классика, Диккенс, Конан Дойл, Джек Лондон, детская литература – на книгах в семье Кирилла не экономили.
Теперь Егор с удовольствием осваивал эту сокровищницу, а Ирина, конечно, приветствовала страсть сына к чтению, но в то же время боялась, что он без контроля схватит с полки что-нибудь не то и раньше времени приобщится к тайнам взрослой жизни.
– Бери книжку и прыгай к нам, – улыбнулся Кирилл, – вслух почитаем.
Егор покачал головой;
– Нет, я люблю сам с собой.
– Ладно, как скажешь.
– Он так вычитает, в конце концов, что не надо, – буркнула Ирина, когда Егор ушел.
– Ой, я тебя умоляю! Пусть лучше даже Мопассан, чем сказки краденые!
– Да почему краденые? Прекрасные сказки.
– Не спорю. Но плагиат есть плагиат.
– Ты нудный слишком. Авторы указывали первоисточник, так что нечего бочку катить.
– Ладно, пусть. А настоящие авторы просили перерабатывать их тексты?
– Они уже умерли тогда.
– Тем более. Зачем нужна была эта творческая переработка? Если книга так плоха, то зачем с ней возиться, а если хороша, то зачем что-то в ней менять? Если ты такой умный и талантливый, что видишь недостатки и знаешь, как их исправить, то почему не напишешь собственное произведение?
– У тебя слишком обостренное чувство справедливости. Отличные сказки получились, дети их обожают, кому плохо-то от этого?
– Детям и плохо. В их подсознании укореняется мысль, что можно просто взять то, что тебе нравится, и присвоить, да еще и творчески переработать. Это же не просто народные сказки или легенды, а самостоятельные литературные произведения. Сегодня ребенок прочитает про Буратино, а через двадцать лет к нему попадет статья какая-нибудь из иностранного научного журнала, и он выдаст ее за свою, ну а что такого? Все так делают. Немножко только творчески переработает по части марксизма-ленинизма, и нормально. А кто пойдет не в науку, а на завод, тоже станут тянуть все, что плохо лежит, чтобы дома творчески переработать.
Ирина вздохнула и поднялась с диванчика.
– А то и еще хуже, – продолжал разглагольствовать Кирилл, – понравится девочка, и кто-то давай ее творчески перерабатывать.
Ирина притворно нахмурилась:
– Ты что сейчас имеешь в виду?
– Переделывать под себя. Ну а что? Толстой сделал из Пиноккио Буратино, так неужели же я любимую женщину под себя не подгоню?
– А ты подгоняешь?
Кирилл тоже встал, с хрустом потянулся и пошел в дом, к печке. Дверь снова не закрыл, и Ирине было видно, как он открыл дверку и кочергой разбил мерцающие угли. Взвилась стайка искр и тут же пропала.
– Нет, Ир, я тебя люблю как есть, – вернувшись, с улыбкой проговорил Кирилл, – даже если ты конформистка и приспособленка, придется мне с этим как-то смириться.
Ирина молча закинула ногу на ногу и с преувеличенным вниманием уткнулась глазами в устав. Кирилл подошел, обнял.
– С другой стороны, ты женщина, – прошептал он ей в плечо, – а я все время забываю, что вы другие. Мягче и ширше.
– Не ширше.
– Но мягче. И, наверное, поэтому правы.
Она пожала плечами. Как знать… Просто ей очень хочется стать депутатом, вот и все.
Дождь все не унимался, наоборот, небо потемнело еще сильнее, где-то вдалеке промелькнула искра молнии, и чуть позже проворчал гром. Ирина вспомнила, как в детстве папа учил ее, что гром всегда опаздывает, потому что скорость звука ниже скорости света, и по задержке можно вычислить, далеко ли гроза. Как-то он сказал «если ты слышишь свист снаряда, то это не твой снаряд», и Ирина тогда подумала, что папу могли убить на войне, и она бы никогда не родилась. Она тогда почти провалилась в небытие от этой мысли, так глубоко, как это бывает только в детстве, а потом старалась поменьше думать о том, что могло бы быть. И чего не быть.
Как жаль, что у папы родились две девочки, она и сестра, а сына так и не было…
Ирина вздохнула. Отцы куда-то исчезли. Нет, не то чтобы совсем не стало сильных мужиков, но как-то они не бросаются в глаза. Не много их на улицах, и далеко не в каждой семье живет такой мужчина. Одинокая мать, одинокая дочь, и внучка рождается после мимолетного брака, больше похожего на опыление. А на месте главы семьи – пустота и вечная тоскливая жажда счастья.
Господи, как же ей-то повезло с Кириллом! Но, вместо того чтобы радоваться, она, будто старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке», мечтает теперь о каких-то великих свершениях, стать владычицей морскою, надо же быть такой дурой, господи!
Поцеловав Кирилла, она пошла в кухню готовить ужин.
Сын читал в большой комнате так увлеченно, что не замечал ничего вокруг. Ирина хотела окликнуть его, приласкать, но потом просто помыла яблоко и тихонько положила на стол рядом с книжкой.
* * *
– Психоанализ – это, конечно, очень хорошо, как наука, но как метод лечения, на мой взгляд, совершенно не работает, – сказала жена.
– Как скажешь, – пожал плечами Гарафеев.
– Будешь еще картошку?
Он не хотел, но зная, как Соня не любит выкидывать еду, протянул тарелку.
Жена бросила пустую сковородку в раковину и налила воды, чтобы отмокло.
Гарафеев сдобрил картошку горчицей.
– Например, аппендицит, – продолжала жена, видимо, репетируя завтрашнюю дискуссию на кафедре, а может, просто для того, чтобы не молчать, – мы же его просто вырезаем, и все.
– Можно и так сказать. Хотя правильнее будет – выполняем аппендэктомию.
– Не суть. В общем, мы же не заставляем пациента глубоко изучать этиологию и патогенез аппендицита в надежде, что от этого у него все как-нибудь рассосется. Просто оперируем, и все.
– И что ты предлагаешь? Мозг людям отрезать?
– Не передергивай. Просто лечение предполагает полезные действия, а не нытье, между тем с психоанализом люди только будут убаюкивать себя, и ничего не делать. Определенно, это не наш метод. Ты согласен?
Гарафеев понял, что это провокация, но все равно поддался:
– Если бы у нас не насаждали насильно атеизм, то твой Фрейд никому бы и так сейчас не сдался. Находили бы люди утешение в чем надо и в чем привыкли, но с тех пор, как в семнадцатом году власть захватили сама знаешь кто, иных методов вообще не осталось. Ни бога, ничего. Красное знамя только и три бородатых мужика.
– У тебя на все один ответ, – воскликнула жена, – другого я даже не ждала!
Гарафеев развел руками.
– Постоянно одно и то же! – жена резко поднялась и стала мыть посуду отрывистыми движениями, нарочно гремя. Вместе со словами получалось что-то вроде мелодекламации: – чуть что – проклятые большевики! И обои в коридоре тоже они тебе мешают подклеить? Комиссары в пыльных шлемах за руки держат и не дают?
– Сонечка, при чем тут…
– При том! Коммунисты во всем виноваты, прямо не продохнуть, со всех сторон обложили ваше дворянское гнездо! Ладно, учиться твоим предкам не дали, но обои-то!
– Ты же знаешь, что я не люблю это.
– Да дело не в том, что любишь или нет, а в том, что надо это сделать!
Соня наклонилась, убрала чистую сковороду в духовку, а дверца захлопнулась с противным скрипом. «Сейчас и за это огребу», – предположил Гарафеев и не ошибся.
– Тоже, видно, постарались большевики проклятые, – сказала жена, раскачивая дверцу плиты.
– Я подклею. Как буду посвободнее, так и подклею. И подмажу.
– А я как буду посвободнее, так и обед тебе сварю. Господи, Гар, да если бы я делала только то, что нравится, и в свободные минуты, ты бы уже давно умер с голоду и зарос грязью. А ты – пожалуйста! Обои клочьями – пусть, ничего. Розетка сломана – тоже нормально. Дверь в комнату не закрывается – плевать. Какая разница, раз коммунисты у власти!
– Все сделаю, – туманно пообещал Гарафеев, зная, что не сделает.
– Живешь, как хочешь! Нет, я смирилась уже с тем, что у жены всегда на одного ребенка больше чем у мужа, но мы с тобой продвинулись еще дальше и стали как бабушка и внук.
– Что ж, бабуля…
– А ничего смешного! Только пирожками тебя кормлю и умиляюсь, как ты хорошо покушал и сходил на горшочек, а мусор вынес – вообще достиг космического совершенства. Ты хоть вспомни Новый год…
– Сонечка, это же полгода назад было.
– Зато показательно. «А зато я елку нарядил», – передразнила жена, сморщив носик и выпятив нижнюю губу. – Тьфу, как ребенок малый!
– Я же извинился.
– Но ничего не понял.
– Соня…
– Вот когда поймешь, тогда и поговорим, а сейчас я не хочу даже ругаться с тобой!
Жена ушла в комнату дочери. Дверью она не хлопнула, но на пороге обернулась и сказала: «Я просто в ярости сейчас».
С тех пор как Лиза вышла замуж, Соня проводила в этой комнате много времени, иногда даже оставалась на ночь.
Гарафеев поставил чайник. Он не любил и не умел ссориться, просто практики не было, ведь предыдущие двадцать лет супруги прожили в мире и согласии. По крайней мере, он так думал. Поженились они на третьем курсе мединститута, почти сразу родилась Лиза. Жили в общаге, комнате узкой, как пенал, бедно до нищеты, но дружно и весело. Когда видишь много чужого горя, болезней и смертей, то поневоле начинаешь смотреть на вещи проще и мудрее и стараешься не мотать любимым людям нервы по пустякам. И все у них складывалось удачно – после учебы их оставили в Ленинграде, жену на кафедре, а самому Гарафееву предложили работу в новой крупной больнице и дали квартиру в ведомственном доме. Через несколько лет они обменяли ее на двухкомнатную в том же доме и стали считаться вполне зажиточной семьей. Гарафеев трудился анестезиологом-реаниматологом, жена преуспевала на кафедре психиатрии, недавно защитила докторскую. Дочь выросла, поступила по стопам родителей в медицинский и, как и они, на третьем курсе вышла замуж.
Спокойная жизнь без особых треволнений, зато достойная.
Гарафеев вышел в коридор. Да, обои висят, тут не поспоришь. Но если не приглядываться, то и незаметно… Да, в большую комнату дверь не закрывается, но это надо всю коробку переделывать, а он все-таки не плотник. Розетка вообще бог знает как устроена. Гарафеев нахмурился, думая, что зря, наверное, прогуливал в школе уроки труда. С другой стороны, он посвящал это время химии и биологии и без блата поступил в медицинский, а иначе срезался бы и загремел в армию, а после нее к учебе уж, наверное, не вернулся бы.
Лучше накопить денег и сделать нормальный ремонт силами специалистов. Хотя тоже придется таскать мебель из комнаты в комнату, газетами ее накрывать, потом отмывать от мела, который имеет коварную особенность проступать снова. И опять жена скажет, что он внук по сути своей, и уклоняется, и на него невозможно положиться.
Гарафеев поскребся в дверь:
– Сонечка?
– Отвяжись.
– Ты долго еще будешь дуться?
– Сколько надо.
– Я тогда на работу схожу?
– Иди, осчастливь коллектив, а то они без тебя прямо не знают, что и делать.
Чтобы попасть на работу, ему не надо было даже переходить дорогу, и Гарафеев почти каждый вечер заглядывал в отделение реанимации. Проверял пациентов, корректировал назначения с дежурным доктором, словом, всегда ему находилось дело.
Сегодня, редкий случай, все было стабильно, даже пустые койки радовали глаз. Мерно шипели аппараты ИВЛ[1], а пациент, которому Гарафеев сегодня давал наркоз, полностью проснулся и готовился к переводу в отделение.
Ни суеты, ни беготни, благодать. Можно было и не появляться.
Гарафеев сплюнул через левое плечо и постучал по столу медсестры, зная, как обманчива и мимолетна бывает эта тишина.
Он выкурил сигаретку в ординаторской и собирался уже уходить, как в дверях столкнулся с молодым доктором Кожатовым.
– Ой, Игорь Иванович, как хорошо, что вы здесь, – сказал Кожатов, с улыбкой придержав Гарафеева за локоть. – Вы мне, случайно, не поможете?
Улыбка на молодом сытом лице растянулась еще шире и безмятежнее. Действительно, разве можно отказать такому симпатичному парню?
Гарафеев потянулся за халатом, который уже снял.
– Надо пациентку на ИВЛ переводить…
– Точно надо?
– Да, мы с заведующим посоветовались.
– Хорошо.
– А бабка тучная и шея короткая. Вы поможете заинтубировать?
Гарафеев кивнул и ухмыльнулся. Изящный эвфемизм, но интубация трахеи – это тебе не канаву копать. Это работа для одного человека, поэтому Кожатову следовало бы спросить – вы заинтубируете вместо меня?
Подошла сестра-анестезистка с набором, улыбнулась: «Как хорошо, что вы с нами, Игорь Иванович!» Гарафеев сказал, что уже уходит, скомандовал ввести релаксанты, взял клинок[2], вывел челюсть, и через секунду трубка была уже в трахее.
– Все, Петя.
– Ой, спасибо вам огромное!
– Да не за что.
Гарафеев послушал легкие – дыхание проводится, раздул манжетку и сделал режим аппарата искусственной вентиляции чуть помягче.
Тут мимо промчался заведующий – целеустремленный плотный дядька, формой и повадками напоминающий торпеду.
Увидев Гарафеева, он притормозил, подхватил его и увлек в свой кабинет.
– Гар, ну ты чего? – спросил он, закрыв дверь.
– Чего?
– Так и будешь за сыночком подтирать? Я специально сказал ему самому делать.
– Он бы не справился.
– На то и был расчет. Чтобы он хоть раз в жизни обосрался, может, задумался бы тогда о времени и о себе.
Гарафеев пожал плечами.
– Бабке бы все горло истыкал так, что мы бы после него тоже гортань не нашли, и что?
– Что? Он бы виноват был, вот что, и у нас появились бы основания для оргвыводов. И не надо на меня с таким ужасом смотреть. Еще скажи, что в первую очередь надо думать об интересах больного.
– Да, Вить. Не хочется, но надо.
– Гар, ты же врач, а не бабка старая! Хуже мамаши моей, ей-богу!
– Мамаша тут при чем? – не понял Гарафеев.
– Терапевт, которая консультировала хирургию, ушла в декрет, и мою жену пытались подписать на это дело. В смысле больных смотреть перед операцией, а не декрет, – засмеялся заведующий и достал сигареты, настоящее «Мальборо», – угощайся.
– Декрет тоже хорошо, – Гарафеев медленно вдохнул сладковатый дым, – я вот жалею, что у нас с Соней одна Лиза, только поздно теперь.
– Короче, жене стали подпихивать больных, а четверть ставки не дали. Она раз посмотрела, два, три, а денег как не было, так и нет. В итоге она отказалась смотреть, позвонила заведующему хирургией, предупредила, что не будет, а он, такой же иисусик, как и ты, решил, что она же врач, то есть гуманист до мозга костей, поэтому все равно посмотрит, и ни замену ей искать не стал, ни в бухгалтерию не пошел. В итоге операционный день оказался сорван.
– И как? Жене сильно попало?
– Так а за что? Она усердно и добросовестно пашет в пульмонологии, а про консультации в хирургии, простите, где написано? Где приказ? Где расчет? Я тебя сейчас удивлю, Гаричек, скажу одну вещь, которая перевернет все твое мировоззрение: никто никогда и ни при каких обстоятельствах не может заставить тебя работать бесплатно. Даже субботник дело сугубо добровольное. Звучит чудовищно, однако это правда.
Гарафеев засмеялся и с сожалением заметил, что сигарета подходит к концу, а стрелять вторую неудобно.
– А мама твоя тут при чем? – спросил он.
– А мама у меня трудится в нашей доблестной больничке библиотекарем. Насколько я помню, ни разу ее не выдергивали ночью из кровати, потому что людям срочно требуется книги почитать, но поведение моей жены крайне ее возмутило, так что она не поленилась явиться к нам домой с монологом о нашей бездуховности и корысти. Тоже вопила как резаная, что интересы пациента прежде всего и надо сначала их соблюсти, а потом уж решать свои вопросы. Когда речь идет о жизни человека, не время думать о своих шкурных интересах! И это еще самое мягкое, что мы от нее услышали.
Гарафеев промолчал, потому что был больше согласен с мамашей заведующего, чем с ним самим.
– И ты, Брут? – догадался заведующий.
– И я. Уж явно мама на вас дольше орала, чем Таня бы больного смотрела.
– Ты еще скажи, что у нее в голове знаний не убавилось от консультации, так не за что и платить.
– Ну…
– Гну! Запомни, Гар, уже оказанная услуга ничего не стоит. Конечно, нам никогда не будут нормально платить, если знают, что мы поорем-поорем, да и так сделаем. Но, с другой стороны, на чистую совесть сколько можно работать?
– Всю жизнь.
– Фу! Героизм неотделим от глупости. Вот ты пасешь Кожатова, подтираешь за ним все ошибки, так он это считает уже в порядке вещей. Уже и спасибо тебе через раз говорит. А помнишь, к нам инструктор обкома с аппендюком загремел, кто ему по сути наркоз провел?
– По сути я.
– А формально Кожатов. И после операции его смотрел, и в глаза заглядывал, и облизал, а про тебя инструктор даже не узнал, что ты живешь такой на белом свете. В итоге ты в заднице, а Кожатов тут подольстится, там улыбнется, да папа еще словечко замолвит, и вот он уже главврач или профессор и диктует, как нам жить и работать. А виноват кто?
– Кто?
– Да ты, что вывел в люди это жопорукое ничтожество.
Гарафеев улыбнулся. Как хорошо, когда затишье, можно посидеть, покурить и поделиться с другом теми мыслями, о которых не думаешь, а только хочешь думать. Примерить на себя рубашку циника и корыстолюбца.
Закон подлости работает отлично. Пока он здесь сидит, смакуя импортную сигаретку, в отделении тихо, но стоит только уйти за дверь, у смерти тоже закончится перекур, и она вновь примется махать своей косой, и хлынет поток жертв автомобильных аварий, инфарктников, а может, и самоубийц. Все койки заполнятся, и Витька будет стремительно носиться от пациента к пациенту, интубируя, ставя подключички, делая назначения, и не присядет до самого утра, и не вспомнит, что по норме ему полагается двенадцать пациентов, а не двадцать. А Кожатов… Хорошо, если не будет путаться у Витьки под ногами, больше от него ждать нечего.
Гарафеев поморщился. Может быть, в Витькиных словах есть резон? Он действительно думал о больных, когда помогал Кожатову, а стучать с детства не приучен. Ничего нет отвратительнее, чем жаловаться и закладывать товарища, поэтому формально Кожатов хороший молодой доктор, крепкий профессионал, которому можно доверить самостоятельную работу. А по факту Витька остался с больными один.
Гарафеев постоял в дверях. Нет, все тихо. Надо идти домой, к Соне, которая неизвестно будет ли рада его возвращению.
* * *
Стас давно хотел подновить свой стол, и теперь время для этого наступило. Конец мая, все в отпусках или в поле, так что редко встретишь в лаборантской живого человека.
Он распахнул окно и высунулся наружу. Пахло сиренью и теплым асфальтом, а на улице почти никого не было. Солнце ласкало пыльные каменные дома, отражалось в окнах проходящего трамвайчика, который деловито постукивал и звенел, вызывая в памяти стихотворение Гумилева «Заблудившийся трамвай».
Стас нахмурился, потом улыбнулся. Он любил и чувствовал поэзию, но всегда немного огорчался, что сам никогда так хорошо не напишет. Так, может, и не надо?
Ладно, не попробуешь – не узнаешь, а пока на повестке дня стол.
Он подстелил газет в несколько слоев, переоделся в тренировочные брюки и заработал кисточкой. Старое иссохшее дерево вбирало краску как будто с благодарностью.
Увлекшись, он не заметил, как открылась дверь.
– Не свисти, денег не будет, – дружелюбно сказал профессор Шиманский. – А ты чем вообще занимаешься?
– Как вы сами видите, – засмеялся Стас, – не место красит человека, а человек место.
– А человек отчеты составил?
– Составил.
– Образцы?
– Зарегистрировал.
– Документы?
– Разложил.
– А журналы? Приход-расход опасных веществ?
– Тютелька в тютельку.
– То есть все?
– Все.
– Если тебе нечем заняться, это еще не повод вонять краской на весь институт. Лучше бы уж прогулял, ей-богу.
Стас заработал кисточкой быстрее.
– Ага, чтобы меня патрули на улице поймали! Сейчас же трудовую дисциплину неистово блюдут.
– Ладно тебе, у них тоже отпуска. Кто будет сторожить сторожей? – ухмыльнулся Шиманский. – А вообще заходи ко мне, я тебе работу-то быстро найду.
Профессор по широкой дуге обогнул Стаса и выглянул в окно:
– Благодать какая… Сейчас бы в поле, верно?
– И не говорите! Нога моя давно срослась, я ее уже не чувствую. Надо было не слушать врачей, а ехать в экспедицию.
– Это называется – ложно понятое чувство долга, – наставительно произнес Шиманский.
– Ну да, – кисло согласился Стас.
Он знал, что начальники геологических партий дерутся за то, чтобы заполучить его к себе в качестве рабочего, и за десять лет, прошедших после школы, почти не вылезал из экспедиций, за вычетом армии. Судьба хранила его, оберегала и выводила целым и невредимым из самых опасных ситуаций, и все для того, чтобы он этой зимой на ровном месте поскользнулся и сломал ногу. Вроде бы срослось, как на собаке, но врачи настоятельно советовали пропустить этот полевой сезон. И были правы. Он незаменимый работник, только когда здоров, а инвалид станет обузой и может вообще сорвать экспедицию. Ради дела лучше не рисковать.
– Вот здесь еще подмахни, а то потеки, – Шиманский указал на тыл стола.
– Сейчас.
– Так приятно смотреть, как люди работают, а самому ничего не делать.
– Хотите, у вас что-нибудь покрашу?
– Не любишь сидеть сложа руки?
– Нет.
– Слушай, а тебе сколько лет? Двадцать пять исполнилось?
– Двадцать восемь.
– Отлично! – Шиманский спрыгнул с подоконника и весело засмеялся. – Нашел я тебе занятие! Останешься доволен.
По телевизору начался очередной кусок многосерийного фильма, снятого по роману отца, а вставать от письменного стола и переключать на другую программу было лень. Стас присмотрелся. Папа, когда писал, слов не жалел, так что пришлось постараться, чтобы втиснуть его эпопею в шесть часовых серий, и серьезный роман превратился в дешевенькую мелодраму и неубедительный панегирик коллективизации.
Стас сам не понимал, злорадствовать ему или сочувствовать своему маститому отцу.
Иногда он, сидя над чистым листом бумаги в поисках рифмы, ощущал почти физическую потребность писать прозу. Когда в экспедициях он видел какой-нибудь удивительный пейзаж, сразу думал, как бы описал его в романе или повести, а поэтические строки не приходили на ум даже при созерцании самых потрясающих природных красот. Он любил говорить с местными жителями, записывал их предания и обычаи, особенные словечки, и насобирал уже приличный архив, и даже вполне отчетливо представлял себе, о чем мог бы быть его роман, но знал, что никогда его не напишет.
Папа своими многотомными кирпичами надежно заложил для сына окно в бессмертие. Официально отец проклял сына, как только узнал, что тот связался с позорным отребьем, расплывчато именуемым «системой», настолько плотно, что отказался вступать в комсомол. Как многие родители, он попытался быстро и насильно сделать из Стаса человека, и в результате подростковое позерство превратилось в непоколебимые убеждения.
Убеждения отца тоже не отличались пластичностью, поэтому он вскоре заявил, что не намерен терпеть в своем доме оголтелых диссидентов, а тем более их кормить, и Стас был изгнан в коммуналку, где бабушка, давно жившая у них дома, оставляла за собой комнату.
Стас немного ошалел от свободы и устроил себе праздник непослушания. И он даже слегка затянулся, но, к счастью, суровая рука военкома выдернула Стаса из вихря удовольствий. В армии он все-таки вступил в ВЛКСМ, не из-за агитации, в которой недостатка, прямо скажем, не ощущалось, а просто замполит оказался очень душевным мужиком, и Стасу было неловко доставлять ему неприятности.
Демобилизовавшись, он устроился лаборантом в крупный геологический НИИ, исходил в экспедициях полстраны, писал тексты для подпольной рок-группы и считал, что жизнь удалась. Лишь в последние годы появилось легкое, быстропроходящее сожаление оттого, что родители выгнали его до того, как заставили поступить в институт.
Всем известно, что у советского писателя Суханова ребенок – отщепенец и изгой, но стоит только Стасу написать собственную книгу, как он тут же превратится в папенькиного сынка, пропихнувшего в печать свою беспомощную писанину исключительно благодаря отцовским связям. Его книги станут восприниматься всего лишь наглядным пособием, как именно природа отдыхает на детях гениев, тем более что Стас смутно чувствовал, что если будет писать прозу, то очень близко к манере отца.
Нет, самое лучшее так, как сейчас, папа творит в своей вселенной, он – в своей. Один над реальностью, другой – под ней.
…На экране молодая интеллигентная артистка, неумело окая, призывала односельчан идти в колхоз. Изображение в старом телевизоре слегка подрагивало, расплывалось, и, наверное, от этого сцена не достигала проектной мощности пафоса.
Стас потянулся, прикусил синий колпачок шариковой ручки. «Чем издеваться над папиным творчеством, на себя посмотри, – сказал он сердито, – ни слова еще не высидел, а Михаил Григорьевич небось уже полкниги наметал».
Наконец он решил поискать вдохновения на улице. Глупо сидеть дома в хорошую погоду.
После армии он какое-то время ходил одетым так, как полагается человеку «системы», но эпатировать публику быстро надоело. Не стоило возмущение честных граждан тех усилий.
Длинные волосы очень мешали в экспедициях, кольца отвлекали, а выкидывать кровно заработанные деньги на импортные футболки с дурацкими надписями было очень жаль, и Стас сам не заметил, как стал выглядеть обычным парнем, разве что с бородой, но она скорее выдавала в нем бродягу, чем поэта.
Порой ему бывало немного стыдно перед папой, что он так яростно боролся с ним ради того, что теперь совсем не нужно.
Асфальт отдавал дневное тепло, и воздух перед глазами чуть дрожал, солнце пряталось за рыжими крышами, а в высоком небе висел прозрачный диск луны, похожий на облако. Какой-то малыш не хотел уходить со двора и плакал, и Стас прибавил шагу, чтобы не поддаваться жалости. За ним вдруг увязался черный кот с белым галстучком, он держал хвост трубой, и смотрел на Стаса так, будто знал что-то важное, мог предупредить его, но из вредности не хотел.
– Кис-кис-кис, – неуверенно произнес Стас, кот фыркнул и свернул в подворотню.
Усмехнувшись, Стас последовал за ним и оказался в обычном дворе-колодце с тремя глухими стенами, а в четвертой было всего два окна. Почти все пространство занимал раскрытый фургон, из которого мужики кидали половинки мясных туш. На бледной мертвой шкуре выделялись синие печати. Туши летели в окно полуподвала и там падали с глухим стуком.
Кот тем временем завернул в темную нишу, которую Стас считал слепой, но, заглянув, обнаружил узкий проход на улицу.
Пройдя через него, Стас оказался на набережной Смоленки, совсем диком берегу с неряшливо растущей травой. Черная мутная вода закручивалась вокруг камней и старых веток, а на другом берегу стоял черный полуразрушенный деревянный дом. Крыша на нем провисла и обвалилась, в окнах поблескивали обломки стекол, а низкие кусты сирени никак не хотели закрывать это безобразие. Стас удивился. Он редко заходил сюда в своих странствиях и не думал, что в центре Ленинграда есть уголок такого запустения. Он прошел чуть дальше по берегу.
Бурьян исчез, сменился ровной травой, в которой густо росли одуванчики, пушистые, словно цыплята. Близился вечер, и Стас решил посмотреть, как они будут закрываться.
Тут он увидел молодую женщину, и сердце екнуло, потому что Стас узнал ее, но сразу подумал, что ошибся, просто ему хочется встретить Лелю, вот и мерещится она ему во всех незнакомках.
Лишь когда он заметил, как дрогнуло ее лицо, понял, что это действительно Леля.
Она сильно изменилась, слишком сильно, и совсем не так, как он представлял себе.
Стас поскорее окликнул ее, и Леля остановилась. Стас улыбнулся, не зная, что сказать. Она стала совсем старая дева, сухая, строгая. Вместо моря искрящихся волос – строгий пучок, губы сжаты, и даже фигура, по-прежнему стройная и прямая, будто одеревенела.
– Рад тебя видеть.
– И я тоже.
– Давай провожу?
Леля пожала плечами, и Стас пошел рядом с нею, приноравливаясь к быстрым легким шагам. Походка у нее не изменилась.
Леля была первая красавица школы, и Стас замечтал о ней, как только стал интересоваться девочками. Впрочем, он был такой не один и понимал, что шансов нет. Он – обычный парень, ничего особенного. Если быть до конца честным, то в «систему» он пошел именно для того, чтобы как-то выделиться из толпы, но Лелю его метаморфоза не впечатлила.
Как это обычно и бывает, неразделенная любовь заставила его взяться за сочинение стихов. Стас писал много, и однажды, служа в армии, так затосковал, что решился, отправил Леле письмо со своим лучшим стихотворением. Он тут же горько пожалел о своем порыве, решил, что она поиздевается над его солдатским талантом, но неожиданно получил ответ, в котором Леля очень тепло благодарила его за стихи и хвалила их. Длинное, хорошее, душевное письмо, только в конце она просила больше ей не писать.
Стас решил, что она счастлива с кем-то другим.
Он часто думал о Леле и представлял ее радостной красавицей, чьей-то счастливой женой, может быть, уже матерью такой же красивой дочки.
И никогда он не думал, что живой огонь в ее глазах может потухнуть.
Леля скупо и неохотно рассказала, что одна, живет с мамой, окончила медицинский, как и хотела, но работает не врачом, а научным сотрудником в институте гриппа и готовится к защите кандидатской.
Стас уважительно присвистнул. Про себя сообщил только официальную часть – образования ноль, так, шарахается за длинным рублем по экспедициям. Ему казалось, Леле будет приятно позлорадствовать, что он как был, так и остался неудачником, но она вдруг сама спросила:
– А ты стихи еще пишешь?
– Так, постольку-поскольку.
– Ты пиши, пожалуйста! Я помню, у тебя здорово получалось.
– То было лучшее за все годы моего творчества.
На строгом лице вдруг мелькнула тень прежней озорной улыбки:
– Не скромничай, Стас. Я ведь храню то твое письмо.
– Лучше бы ты его хранила затем, что тебе нравлюсь я сам.
Леля снова улыбнулась и ничего не ответила.
В кармане целинки Стас нащупал какую-то денежку, оказалась трешка. Он отскочил к цветочному киоску и купил букетик тюльпанов. Розовато-белые цветы были перехвачены резиночками, чтобы не распустились раньше времени.
– Не нужно этого, – сказала Леля.
– Хорошо, что я тебя встретил. Специально позвонить, наверное, не решился бы…
– Не нужно этого, – повторила Леля.
* * *
Когда председатель суда был доволен своим сотрудником, то сам заходил к нему в кабинет, а если хотел отругать, вызывал к себе, поэтому Ирина не встревожилась, когда он возник на ее пороге.
– Как вы себя чувствуете, дражайшая Ирина Андреевна? – спросил он, усаживаясь напротив.
– Спасибо, не пожалуюсь.
– Вот и отлично. А я вам дело нашел – конфета! – председатель зажмурился и причмокнул. – С оправданием, как вы любите.
– Я люблю по справедливости и по закону.
– Знаю, знаю, голубушка моя! – он отечески похлопал Ирину по руке. Ладонь его была теплой и сухой.
Ирина подалась к нему и понизила немного голос:
– Я сейчас действительно в уязвимом положении. Готовлюсь в партию, да еще и жду ребенка, понятно, что в таких обстоятельствах мне не стоит проявлять строптивость, только…
– Господи, Ирина Андреевна! Что ж вам везде мерещится подвох! – председатель засмеялся. – Я всего лишь дело Тиходольской хочу вам расписать, когда его передадут в суд.
Ирина засмеялась:
– Ах, это! Тут скорее не когда, а если. Честно говоря, я думала, они там у себя в прокуратуре все-таки опомнились и сами прекратили эту глупость.
– Решили для наглядности все-таки через суд провести. У нас, конечно, право беспрецедентное, но тем не менее не можем же мы судить каждый раз как в первый раз. Нужны эталонные дела, чтобы было на что опереться молодому специалисту, и вы как раз и создадите этот чистейшей прелести чистейший образец необходимой самообороны.
Ирина засмеялась.
– И как будущему депутату это вам будет большой плюс.
– Да я не возражаю, вы же знаете, Павел Михайлович, что я никогда не отказываюсь и даже не ропщу.
– За что мы вас и любим, и просим только об одном – не засиживаться в декрете слишком долго.
Председатель ушел, а Ирина от души потянулась в своем кресле.
Сегодня бывшая свекровь забирает Егора из музыкалки, Кирилл допоздна на работе, так что домой можно не спешить. Лучше досидеть до официального конца рабочего дня, чтобы с чистой совестью уйти пораньше в другой раз, когда это действительно будет нужно.
Ирина вздохнула. Свекровь вновь появилась в их жизни сравнительно недавно, уже после ее нового замужества. Она вышла на пенсию и решила помогать с внуком, как настоящая бабушка.
«Главное, вовремя, – усмехнулась Ирина, – когда ребенок уже подрос и не надо за ним смотреть в десять глаз. Не объект заботы, а приятный компаньон, самый момент для самоотверженной помощи».
Они никогда не жили вместе, так что ненавидеть свекровь Ирине было особенно не за что. Вырастила инфантильного и безответственного дурачка, так тоже пожинает теперь кислые и недозрелые плоды своего воспитания, ей даже хуже, потому что жена может уйти, а матери некуда деться.
Было немножко неприятно, что в новой жизни присутствует человек из прошлого, но кто она такая, чтобы запрещать сыну общаться с родной бабушкой? Нет у нее таких полномочий.
Ирина прислушалась к себе – вдруг лукавит? А если бы ее мама, вторая бабушка Егора, была чуть позаботливее, а они с Кириллом не так заняты на работе, как она бы думала тогда? Тоже считала бы, что ребенок имеет право видеться со всей своей родней, или прогнала бы свекровь куда подальше, мол, одного придурка воспитали, второго не надо?
Ладно, история не знает сослагательного наклонения, как есть, так и есть.
Чтобы не углубляться в самоанализ, Ирина стала думать о деле Тиходольской. Пока еще дела как такового на руках у нее не было, следствие еще не завершилось, но случай этот прогремел по всему городу и вызвал большой общественный резонанс.
Там все кристально ясно, не предвидится никаких тайн, загадок и неожиданных поворотов, необходимо всего лишь скрупулезно соблюсти процессуальные тонкости.
Ульяна Алексеевна Тиходольская вернулась домой после суточного дежурства, слегка навела порядок в квартире, сварила обед и прилегла отдохнуть. Разбудил ее звонок в дверь, Тиходольская отправилась открывать в полной уверенности, что это дочь вернулась из института. Спросонья она не спросила «кто там?», а сразу открыла.
На пороге стояла не дочь, а некто Смышляев, который втолкнул Тиходольскую в коридор, закрыл за собой дверь и, удостоверившись, что в квартире больше никого, решил выжать из ситуации максимум и не только ограбить дом, но и изнасиловать хозяйку.
Ульяна Алексеевна яростно сопротивлялась, ей каким-то чудом удалось вырваться, но поскольку негодяй блокировал выход, она выбежала на кухню, надеясь забаррикадироваться там и вызвать милицию, но не успела. Смышляев ворвался вслед за ней, тогда Тиходольская схватила нож, которым за час до этого резала мясо, и нанесла удар, оказавшийся смертельным.
Думала она в тот момент не о себе, а о дочери, которая вот-вот должна была прийти из института, и неизвестно, как развивались бы события, если бы Ульяна Алексеевна не остановила мерзавца.
Будучи врачом, Тиходольская сразу поняла, что убила грабителя, но на всякий случай позвонила не только в милицию, но и в «Скорую помощь». Во всем призналась, сказала, понимает, что лишила человека жизни, и готова понести за это наказание.
Необходимая самооборона в чистом виде, но следователь, видно, был молодой, и не понимал, как это так можно – человек убит, а никого за это не накажут, и возбудил дело о превышении.
Логика его была понятна – он судил по себе, с точки зрения молодого холостого мужика, а не сорокалетней женщины, охваченной материнской тревогой. Поскольку при Смышляеве не нашли оружия, а Тиходольская действовала с помощью ножа, то следователь усмотрел здесь несоответствие средств защиты степени и характеру опасности посягательства. Формально да, нож принадлежал хозяйке, но фактически ей просто повезло, что она успела дотянуться до него первой.
Следователю казалось, что раз он сам бы мог вырваться, убежать, позвать на помощь, то Ульяна Алексеевна тоже была на это способна.
А Ирина – женщина, и ей ясно, что в той ситуации, в которой оказалась бедная Тиходольская, это был единственный выход остаться невредимой, а может, и живой, и спасти дочь. Рискованный, но единственный.
Женщина может быть физически приблизительно так же сильна, как мужчина, но устанет она гораздо быстрее его, и чем отчаяннее будет защищаться, тем скорее силы ее покинут.
Если бы Ульяна Алексеевна просто вырывалась, то кончилось бы все очень плохо, и последний вздох бедной женщины был бы отравлен вонью гнилых зубов матерого зэка, и умерла бы она в ужасе, представляя, что сделает эта мразь с дочерью, когда та вернется из института.
Нет, Тиходольская поступила как надо, любая женщина должна молиться о том, чтобы у нее хватило мужества действовать так же в подобной ситуации.
И потом, какая разница, имел в виду Смышляев убивать или нет? Кстати, если не имел, то даже лучше, поскольку при изнасиловании превышения пределов необходимой самообороны не бывает.
Да и это не главное. Суть в ином. Доктрина крепости, вот что важно. Если человек без приглашения проник на чужую территорию, то он должен понимать, что ничего хорошего там ждать его не может.
Да, слезливые рассказики о детях, которые по недомыслию полезли в чужой сад за яблочком, а получили пулю в голову или разряд тока, конечно, трогают, но это крайности, а вообще в собственном доме хочется чувствовать себя свободно и безопасно.
Vim vi repellere licet – силу можно отражать силой, говорит закон, и тут же лицемерно добавляет, что силы при этом должны быть равнозначны.
Тут вся загвоздка и есть – как определить равнозначность сил? Получается, если ко мне в дом вломился человек с холодным оружием, то я уже не могу застрелить его из пистолета? Или могу, но только убедившись, что он имеет твердое намерение лишить меня жизни, а тут, как говорится, не попробуешь – не узнаешь.
Нет, на сегодняшний день нашему правосудию ближе противоположная доктрина – отступай, пока можешь.
В принципе сроки за превышение не такие уж и большие, и часто приговаривают к условному наказанию, но это все равно судимость. Все равно ты виноват, что защищался.
Если бы Тиходольская была какой-нибудь простоватой тетенькой, умеренно пьющей и неразборчивой в связях, никогда бы мир не узнал, что с ней случилось. Спокойненько присудили бы в районном суде два года условно, и женщина бы еще осталась рада, что так дешево отделалась.
Только Ульяна Алексеевна работала в роддоме врачом-акушером, коллектив чуть ли не молился на нее, а пациентки считали за счастье рожать в ее смену. Настоящая подвижница, самоотверженная и бескорыстная, она не только приняла в мир множество новых жизней, но и воспитала целую плеяду прекрасных специалистов, хотя, не будучи официально преподавателем, не обязана была делиться своим опытом с молодыми коллегами.
Не захваленный профессор с вымученными диссертациями и дурацкими статьями, не дутая величина, а настоящая трудяга.
Когда бедная женщина оказалась под следствием, медицинская общественность встала за нее стеной. Было написано открытое письмо в прокуратуру и копия в «Ленинградскую правду», потом вышла статья известной журналистки о том, как отличного врача пытаются засудить только за то, что та защищала свою жизнь.
В статье было много филиппики, но в целом Ирина была с журналисткой согласна. Человек не только имеет право, но и должен защищать свое – жизнь, семью, личность, имущество, и чем он слабее, тем к более жестким методам может прибегнуть.
Например, слабая беременная женщина вроде нее, наверное, имеет право остановить злоумышленника выстрелом в голову, не дожидаясь, пока он приблизится на расстояние прямого удара. А какой-нибудь мастер спорта по боксу лучше пусть вступит врукопашную.
Нет, Ульяна Алексеевна поступила правильно, и в загнивающей капиталистической Америке у закона к ней не появилось бы даже тени претензий, наоборот, она стала бы национальной героиней, давшей злодею достойный отпор, примером для всех американских женщин. О ней писали бы хвалебные статьи и посвящали телепередачи, и жалели бы ее, что перенесла тяжелый стресс.
У нас не то. Проблема самозащиты осложняется тем, что границы себя и своего у нас размыты и постоянно подтачиваются. Имущество может быть отнято в любую секунду на самых что ни на есть законных основаниях. А раньше… Фамильное достояние, накопленное несколькими поколениями, реквизировалось, в дом, где семья жила двести лет, заселялись сомнительные личности, а урожай, который ты собрал с огромным трудом, в котором каждое зернышко полито твоим потом, комиссары бестрепетно изымали, обрекая тебя и твоих детей на голодную смерть. Забирать чужое нормально, а сохранять свое – преступно.
Хочешь жить – иди в колхоз.
К жизни человека отношение тоже не сказать, чтобы было бережное. Чуть что – расстрел. В лучшем случае лагеря.
Сейчас вроде бы избавились от этих так называемых перегибов, но народ забит и унижен, и в сытой и спокойной жизни это проявляется, может быть, не так остро, но все же достаточно ярко и противно.
Вроде бы законы хорошие теперь, не могут в любую секунду вломиться к тебе в дверь, отобрать золото и арестовать отца семейства просто за то, что он косо посмотрел на портрет Сталина.
Жизнь и имущество вроде бы защищены, а вот личность как была общественным достоянием, так и остается. С детских лет лезут тебе в голову, диктуют, как надо жить и что думать. Взять хоть такую безобидную вещь, как книги. Перед каждым романом – километровое предисловие, где тебе объясняют, кто прав, кто виноват, и какой вывод следует сделать из данного произведения. Обсуждать чужую жизнь в коллективе считается не сплетнями, а важной идеологической работой. Любая бабка может в трамвае сделать тебе замечание, и окружающие сочтут это нормальным, в лучшем случае подумают, ох, какая заботливая старушка, а в худщем – разовьют поднятую бабкой тему. А вот если ты не скромно потупишься, выслушивая бесценные наставления, а ответишь: «Занимайтесь своими делами», то прослывешь непроходимой хамкой. Ну а уж в семье сам бог велел! Если любишь, так пожалуйста, заходи в чужую душу прямо в сапогах и располагайся поудобнее. Диктуй свою волю, ради пользы же человека это все ты делаешь!
Не чувствует большинство граждан границ, ни своих, ни чужих, лезут, пока силой не остановят, а потом обижаются. Стоит ли удивляться, что грань, за которой начинается превышение необходимой самообороны, не ясна для них, даже для профессиональных юристов.
Ирина понимала, что редкие всплески стихийных народных волнений – это очень хорошо, это признак, что не все еще потеряно, и демократия когда-нибудь восторжествует, но когда дело касалось судебной практики, она терпеть не могла все эти открытые письма с требованием осудить или, наоборот, оправдать.
Каждый случай сложен, и нельзя судить поверхностно, зная только часть фактов. Да, с одной стороны, прекрасная женщина, замечательный врач, во всех отношениях достойный член общества, принесшая людям много добра, а с другой – матерый зэк, который с детства сеял вокруг себя разрушение и боль. Понятно, на чьей стороне симпатии общества, только судят не человека в целом, а его деяние. Нельзя сказать – ты хороший, поэтому тебе можно убивать плохих, это порочный подход.
Ирина была убеждена, что люди могут требовать только одного – честного, открытого и справедливого суда, все остальное – путь к произволу.
Однако в данном случае она была с народом солидарна.
Врач перед законом такой же человек, но все же чуть-чуть особенный, так что ради него Фемида может слегка приподнять повязку с одного глаза.
Вот ей самой, например, скоро рожать. Хотела бы она попасть к акушеру, находящемуся под следствием или под судом? Оно, конечно, в народном понимании врач должен быть святым, пекущимся только и исключительно о благе пациентов, полностью свободным от любых житейских стремлений, только он все равно живой человек. Мысли о возможном наказании все равно угнетают, и врач не в силах сосредоточиться на своих прямых обязанностях. Ирина уже не юная девушка, в консультации сказали, что пока все в порядке, но риск осложнений все же достаточно высок. Да и вообще всякое может случиться, острая ситуация, в которой будет один шанс из ста сохранить жизнь и матери и ребенку (тьфу-тьфу, конечно). При прочих равных у кого будет больше шансов разглядеть и использовать этот шанс – у спокойного, уверенного в своем будущем человека, или у без пяти минут зэка, все мысли которого крутятся вокруг предстоящего судебного заседания?
Нет, врач должен быть чуть больше защищен, чем остальные люди. Модно сейчас кричать про врачебные ошибки, с пафосом закатывать глаза, разглагольствуя об ответственности медиков, и с придыханием заявлять, что они не имеют права ошибаться. Прекрасно! Так создайте людям максимально комфортные условия, берегите их, помогите сосредоточиться на работе, а речи ваши ничего, кроме тошноты, не вызывают. Прежде чем требовать от других, подумай, что ты можешь сделать сам.
Ирина не любила принимать поспешных решений, но тут твердо определила для себя, что не только оправдает Ульяну Алексеевну, но и напишет парочку кляуз в прокуратуру, пусть там накатят следователю, что возбудил дело без оснований.
На душе приятно пощипывало – то ли азарт, то ли тщеславие.
Дело будет громкое, для нее, как для будущего народного депутата, лучше и не придумаешь. Надо позвонить знакомому журналисту Лестовскому, который когда-то был у нее заседателем, пусть организует после процесса интервью, а еще можно самой написать статью в газету. Имя ее станет на слуху. Конечно, выборы у нас не слишком демократические, народ голосует не за кого хочет, а за кого скажут, и кандидат всего один, так что это действо, строго говоря, и выборами-то назвать можно только из вежливости, но все-таки… Приятнее ведь отдать голос за человека, которого знаешь и уважаешь, чем за не пойми кого.
Воровато оглядевшись, Ирина насыпала в чай две ложки сахару. Всех нормальных людей тянет на солененькое, а ее на сладкое. Вчера всю ночь промечтала о торте «Полянка», с его мокрым бисквитом и розочками из тяжелого масляного крема. Потом невыносимо захотелось пирожного-трубочки, (конус твердого, как фанера, теста, плотно набитый кремом). Ну и мороженое всякое, эскимо за двадцать копеек, вафельный стаканчик (особенно стаканчик, размокший и безвкусный), фруктовое за семь копеек тоже пошло бы, конечно, «Лакомка», которую она ела только один раз в Москве.
К счастью, пока удавалось сдерживать себя и поглощать все это великолепие только в своем воображении. В консультации сказали, что за весом надо следить очень тщательно, иначе могут быть осложнения и для мамы, и для ребенка.
Перед глазами был пример секретаря суда, да и других очень полных женщин, с их рассказами, что до беременности они были как тростинки, а после родов как на них свалился центнер лишнего веса, так двадцать лет уже от него избавиться не могут.
Ирина терпела, позволяя себе только иногда выпить чаю с сахаром.
Свекровь просила не торопиться за Егором, вот Ирина и сидела, наслаждалась редким для себя состоянием покоя.
Откинулась на спинку стула, включила радиостанцию «Маяк» и прикрыла глаза.
Как раз передавали любимую ее песню Пахмутовой «Надежда». Прекрасная музыка, хорошие слова, душевное исполнение Анны Герман.
Да вообще у нашей эстрады уровень очень даже неплохой, не хуже западной, только молодежи почему-то не нравится. Вот не хочет она Зыкину с Сенчиной, и хоть тресни.
Не будет бесплатно слушать по «Маяку» или смотреть по телику, нет, поедет черт знает куда на толкучку за пластинками «Лед Зеппелин» и прочей публики, не пожалеет четвертной билет ради диска с записью какой-то шайки наркоманов, про которых даже не поймет, о чем они поют.
Или станет шастать по квартирникам и подворотням, переписывать записи подпольных групп, вроде Кирилловой. За допуск в Ленинградский рок-клуб полжизни отдаст, а «Песня года» – спасибо, не надо.
Да что там баллон катить на молодежь, если она сама, когда смотрит передачу «Утренняя почта», ждет только последнюю песню – вдруг покажут запись с фестиваля «Сан-Ремо» или хоть Рафаэллу Кара.
Между тем Муслим Магомаев, например, или Кола Бельды не хуже, вот нисколько не хуже. Кирилл, рокер такой подпольный, что глубже только ядро земли, и тот всегда расчувствуется, когда Магомаев поет песню про море, а Ирина плачет, когда про Бухенвальдский набат.
А молодые принципиально не будут слушать, нарочно. Почему?
Просто хочется им борьбы, протеста. Нельзя «Лед Зеппелин», а я буду. Спекулировать плохо, а я стану. И что там Мостовой сочиняет, какие стихи, хорошие ли, плохие, что у него за эстетика и основной мотив творчества – это мне вообще до фонаря, главное, что он запрещен, официальная пропаганда его не признает, значит, он хороший. Значит, не пожалею кассету, запишу и буду слушать.
Так, наверное, большевики вербовали ребят из хороших семей для своей борьбы, пользуясь их подростковым негативизмом. Чего им там надо, какой коммунизм, Маркс и прибавочная стоимость – дураков нет все это учить. Главное, что таинственно, запрещено и опасно, и родители опупеют, когда узнают, чем их детки заняты. А вот если бы царская власть узаконила большевиков, глядишь, и не случилось бы никакой революции.
Так же и тут. Дайте вы людям свободу творчества, крутите «лед зеппелинов» и рок-клубовцев по радио и в утренней почте, так оглянуться не успеете, как дети к ним остынут.
А ей не придется избегать вопросов о муже. Будет гордо отвечать, что супруг – рабочий высочайшей квалификации и плотно занят в художественной самодеятельности.
Ирина засмеялась. Человек слаб, проще и приятнее ругать государство, чем смириться с тем, что нельзя иметь все.
Чем-то придется поступиться, семейной идиллией или карьерой.
Она ведь даже не спросила Кирилла, как он отнесется к ее возвышению. А вдруг он вроде Гоши из фильма «Москва слезам не верит», не выносит, если женщина добилась больше, чем он сам? Вдруг ему хочется, чтобы жена сидела дома во фланелевом халате и с половником наперевес? Она ведь не выясняла его предпочтений, просто поставила перед фактом, что будет избираться, и все.
А Кирилл не стал, между прочим, стучать кулаком по столу: или я или мандат!
Так что и ей не пристало требовать от мужа, чтобы он перестал, как они говорят, «тусоваться» со всяким отребьем и вел жизнь достойного советского человека.
На черновике приговора Ирина нарисовала две окружности, чуть перекрывающие друг друга, и аккуратно закрасила общий участок. Вот так. У Кирилла свой мир, у нее – свой, и есть общая часть. Можно довольствоваться ею, а можно тянуть на себя, и тогда красивая картинка деформируется схлопнется, и останется непонятно что.
* * *
Рабочий день подошел к концу, но Гарафеев не спешил переодеваться. Домой не тянуло.
Накануне они с Соней подали заявление на развод, и теперь он не совсем понимал, что делать дальше. Как благородный человек и мужчина, он должен удалиться, оставив жене все нажитое, но идти некуда. Таких друзей, чтобы пустили пожить, Гарафеев не нажил, вся родня осталась в Красноярске, а дочь хоть и живет с мужем в двухкомнатной квартире, но ребята еще новобрачные и папаше вряд ли будут рады.
Он не хотел отравлять ребятам зарю семейной жизни зрелищем ее печального конца.
Впрочем, Соня не гнала его.
Оптимист ты или пессимист, боишься будущего или смотришь в него с надеждой, а несчастья всегда сваливаются на голову внезапно.
До последних дней Гарафеев был убежден, что состоит в счастливом браке, и думал, что так и останется, пока жив.
Все рухнуло в субботу, когда Соня уехала на кафедру заниматься с аспирантом, а ему наказала помыть люстры.
Гарафеев терпеть не мог всю эту дрызготню, а люстры ненавидел особенно, потому что боялся что-нибудь разбить.
И вот он сидел и думал, как было бы хорошо, если бы люстры сами как-нибудь очистились или что-то бы произошло, что ему не придется ничего делать (наверное, если бы в квартире вдруг начался пожар, он не стал бы тушить, пока люстры не сгорели).
В общем, Гарафеев томился и почти готов был приступить к ненавистной работе, только сначала необходимо прочитать новый номер журнала «Анестезиология», это ведь важнее. В программной статье шла речь о ДВС[3], так что следовало предварительно освежить в памяти факторы свертывания крови, чтобы полнее понять материал. Статья понравилась, и Гарафеев законспектировал ее в свой рабочий блокнот.
Остальные материалы тоже порадовали, он глотал страницу за страницей, а люстры так и висели немытые.
Наконец журнал был прочитан от корки до корки, Гарафеев огляделся в поисках какой-нибудь еще весомой отмазки, не нашел и почти покорился своей участи, как зазвонил телефон. Кожатов в очередной раз запутался и просил Игоря Ивановича «подскочить» и скорректировать лечение.
Гарафеев положил трубку вне себя от радости. Настоящее полновесное алиби, уважительная причина! Он немедленно начертал жене записку о срочном вызове, схватил куртку и понесся на работу, уверенный, что проблема люстр теперь как-нибудь рассосется. Может, жена сообразит, что не такие уж они и грязные. Или сама помоет.
Главное, что он ни при каких обстоятельствах не мог отказать Кожатову, ведь на кону человеческая жизнь!
Как он и думал, случай не представлял особых трудностей, просто пациент оказался профессором из Высшей партийной школы, вот Кожатов и решил перестраховаться. Что ж, Гарафеев расписал терапию, немножко понаблюдал, потом для гарантии еще без дела поболтался в ординаторской и вернулся домой ближе к вечеру, готовый к легкому скандальчику, но Соня встретила его вполне миролюбиво.
Спокойно, с улыбкой, она сказала, что хочет развестись.
Гарафеев так и сел.
Жена не хотела выяснять отношений, но он заявил, что после двадцати лет совместной жизни надо такое решение как минимум обсудить, и в ответ получил, что жена устала быть, как она сказала, «погонщиком мула», ей надоело жить с человеком, на которого невозможно положиться, который всегда слабое звено в цепи и обязательно завалит дело, если ему поручить хоть малейшую часть. Пресловутая каменная стена оказалась воздушным замком, и Соня не видит больше смысла надрываться ради иллюзии штанов в доме.
Под конец она вспомнила модную в последнее время действительно смешную шутку, что он такой мудак, что на конкурсе мудаков занял бы второе место, и ушла в комнату дочери, куда, оказывается, перенесла почти все свои вещи.
Гарафеев тогда не сильно встревожился, решив, что это воспитательный процесс, а к утру Соня остынет и простит его, тем более он действительно раскаивался, понимая, что с этими люстрами повел себя как полный идиот.
Утром он встал пораньше и, найдя люстры чистыми, сказал Соне, что готов к любым трудам, но она заявила, что единственное действие, которое ей теперь от него нужно, это дойти до загса и подать заявление на развод.
Пока они будут жить каждый в своей комнате, питаться раздельно, а убирать общую площадь по очереди, и на этом все.
Гарафеев ныл и просил прощения, но Соня была непреклонна. Оказалось, что ей давно хотелось развестись, потому что она считает мужа ничтожеством, дурачком и «ссыкотой», который профукал все свои шансы и от лени и трусости ничего абсолютно в жизни не добился. Гордость за своего мужчину – это естественное и необходимое чувство для каждой женщины, настолько важное, что она готова раздуть костер восторга из самой жалкой искры мужского поведения, но когда субстрата вообще нет… Когда приходится стыдиться мужа и мямлить: «Зато человек хороший», – это так унизительно, что лучше и вовсе не надо. Лучше быть разведенной.
Она терпела никчемного мужичонку только ради дочери, потому что девочке вредно расти без отца, но теперь Лиза взрослая, так что нет больше никакого смысла в этой каторге – обслуживать великовозрастного капризного ребенка.
– Но я очень хороший врач, – робко возразил Гарафеев.
– И где это видно? – жена язвительно рассмеялась. – Когда ты даже на высшую категорию поленился сдать!
– Ну поленился, потому что какой смысл? И так все знают, что я лучший!
– Все знают, что тебе можно сесть на шею, вот и все. Торчишь там на работе целыми днями, а толку никакого! Ни прибавки, ни повышения. Может, ты там с медсестрами просто гужуешься.
– Да ты что, Сонечка, какие медсестры! У меня никого не было и нет! – с жаром начал Гарафеев, но жена отмахнулась.
– Дело не в том, Гар, есть у тебя баба или нет, – грустно сказала она, – а в том, что мне на это абсолютно наплевать.
– Соня, я никогда тебе не изменял!
– Очень жаль. Так хоть было бы тебе к кому уйти.
Как он ни уговаривал дать ему шанс, жена была непреклонна. Она обещала обратиться в суд, если он не согласится разводиться, и Гарафеев сходил с нею, подал заявление. Теперь три месяца неопределенности, а потом они официально станут посторонними людьми. Как жить тогда дальше?
Покамест он максимально переселился на работу, набрал дежурств, а в обычные дни засиживался до упора. Впрочем, дома Соня была с ним дружелюбна и приветлива – так сам Гарафеев общался с соседом по комнате в общаге, пока не женился. И от ее хорошего настроения было еще больнее. Лучше бы дулась, мотала ему нервы, обвиняла в загубленной жизни, как делают истинно достойные женщины.
Странно, но вопреки расхожему мнению, что женщина уходит не от мужчины, а к мужчине, он не думал, что жена с ним разводится потому, что у нее кто-то появился. Ни разу не возникло такой мысли, хоть Соня была очень привлекательная женщина и всегда пользовалась успехом.
Если так, то ему стоит поскорее освободить квартиру, только куда идти? Действительно он никчемушник, ничтожество и тютя, раз не в силах даже уйти с одним чемоданом. Все откладывает, надеется сам не знает на что.
Придется искать работу в другом городе, пусть в небольшом, главное, где есть центральная районная больница. Там дадут комнату в общежитии как минимум. Еще можно так подать, что это он делает одолжение, а не ему.
Как бы только узнать, где требуются специалисты?
Гарафеев нахмурился. Жена права, он почти не ориентируется в окружающей действительности. В специальности своей он знает очень много, а житейские дела ему мало интересны, а потому почти не изучены.
Минутная стрелка на часах с усилием и щелчком передвинулась на одно деление. Все равно рано. Дома Соня, веселая, довольная, делает себе ужин из огурца и апельсина, потому что больше не надо кормить мужика и можно сидеть на диете, сколько захочется.
Потом будет гладить, напевая, а ему уже нельзя подойти и прижаться. Теперь у нее один ответ на все: «Иди лесом, Гарафеев».
Вздохнув, он заглянул в оперблок и сообразил, что сегодня работает профессор Завьялов, не последний человек в ГУЗЛе[4]. Надо у него осторожненько спросить насчет вакансий, где о них вообще узнают.
Завьялов делал мениск, а наркоз давал Кожатов, который в принципе работать в операционной не любил, но никогда не упускал шанса засветиться перед нужным человеком. Простых операций не бывает, но все же надо сильно постараться, чтобы облажаться при вмешательстве на мениске, вот сыночек и рискнул.
Маски под рукой не оказалось, Гарафеев закрылся воротником халата и вошел в операционную.
Скорее спинным мозгом, чем сознанием, он уловил, что что-то не так.
– А что это у вас кровь такая черная? – спросил он и перевел взгляд на живот пациента. Или это был необыкновенно полный человек, или дыхательный аппарат подавал воздух в желудок.
– Где черная? А действительно…
Гарафеев взглянул на кисть руки пациента. Ногтевые ложа синие.
Забыв про маску, Гарафеев сорвал с шеи Кожатова фонендоскоп. Так и есть, дыхание не проводится.
– Клинок, – бросил он анестезистке.
Времени надевать перчатки не было, оставалось только надеяться, что пациент не страдает сифилисом или гепатитом.
– Игорь Иванович… – начал Кожатов, но Гарафеев оттолкнул его.
Он ведь не знает, когда началась операция. Вроде бы только кожный разрез успели сделать, но пока накрылись, пока то, се… Сколько больной пролежал с интубационной трубкой в пищеводе? Очень может быть, что он сейчас будет интубировать труп.
Гарафеев поставил трубку, удостоверился, что она наконец оказалась там, где положено, то есть в трахее, и кинулся считать пульс. От волнения он долго не мог его найти, но потом все-таки нащупал.
– Вы давайте закругляйтесь, – сказал он Завьялову, – в следующий раз.
– Как? Игорь Иванович, это же сустав! Не брюшная полость. Сюда нельзя как к себе домой входить.
– А если у мужика кора улетела? Лучше выводить.
– Да я думаю, все в порядке… – встрял Кожатов, – сейчас глюкозки прокапаем для мозгов…
Даже под маской было видно, что он ничуть не взволнован, и Гарафеев не выдержал:
– Себе прокапай! – вскипел он. – Думает он! Вам, Кожатов, это вредно, а нам – опасно! Ваш уровень – это лопата от забора и до обеда! Все! Любое другое орудие производства в ваших руках превращается в смертельное оружие. Вы сейчас должны молчать и молиться, чтобы у мужика от ваших стараний мозги не отвалились! И то он умнее вас останется! Идите отсюда, я сам наркоз закончу.
Кожатов вскинулся, но анестезистка вытолкала его вон.
Гарафеев раздышал пациента, показатели гемодинамики которого вроде бы укладывались в норму, но его собственное сердце колотилось, как бешеное, пока он не экстубировал несчастного мужика и не удостоверился, что с ним все хорошо.
Головные боли, конечно, сильно помучают его, но главное, что мозг не пострадал, человек не остался овощем после операции по поводу заболевания, не угрожающего жизни.
Устроив больного на койку и вкрутив ему наглую ложь про скачок давления, Гарафеев вернулся в ординаторскую, без сил упал на диван и жадно затянулся сигаретой.
Никчемный мужичонка, ничего не добившийся в этой жизни – все так. Только если бы он не заглянул в операционную, мужики сняли бы со стола труп. Все-таки есть, наверное, какой то смысл в его существовании…
Он медленно выпустил дым. Курить вредно, и он в принципе человек некурящий, иногда только прибегает к сигаретке, чтобы успокоиться, но в последнее время столько волнений, что он смолит больше курящего. Пора завязывать.
Гарафеев раздавил окурок в пепельнице, клятвенно пообещав себе, что больше в жизни не притронется к этой отраве.
Для гарантии сделал жест, как на советском плакате «Нет!», где симпатичный молодой человек с негодованием отвергал предложенную ему рюмку.
Это уже так вошло в привычку, что не сразу вспомнилось, как этому жесту их с Лизой научила жена.
Они тогда ездили к Гарафеевской маме погостить, и бабушка решила повоспитывать внучку, научить ее волшебному слову «пожалуйста», а Соня сказала, что настоящее волшебное слово это не «пожалуйста», а «нет», и оно способно совершать настоящие чудеса, если его правильно применять. Главное, не превращать его в «да», потому что очень хочется.
А если трудно, то можно подкрепить жестом, как на плакате. Гарафеев часто видел, как Соня, когда сидела на диете, наедине с собой показывала заслоняющую ладонь плюшкам и конфетам, Лиза быстро переняла эту манеру, а потом и он сам. На работе знали, что если во время пьянки Гарафеев повторил жест молодого человека с плаката, то дальше наливать ему бесполезно. В семье была такая традиция, что просто «нет» еще можно было отменить, но если уже сделал движение, то все.
Гарафеев вздохнул. Теперь семьи нет…
Он запрокинул голову на спинку дивана, прикидывая, не помыться ли чуть теплой ржавой водичкой в душевой оперблока и не завалиться ли на старую сломанную функциональную кровать в подсобке и так скоротать ночку? Пусть Соня наслаждается свободой, посмотрит фильм по цветному телику, который стоит у него в комнате.
Он потянулся к телефону, чтобы предупредить жену, но тут в ординаторскую ворвался Витька, заведующий, и упал на диван с такой силой, что Гарафеев едва не подскочил, как на качелях.
– Ну ты дал, конечно! – сказал Витька.
Гарафеев улыбнулся скромно, но с достоинством.
– Чего лыбишься? – взвился заведующий. – Ты вообще соображал?
– Не понял?
– Ты зачем наорал на сыночка? Совсем страх потерял?
– Слушай, но он чуть человека не угробил…
– Это его дело. Бывает такое, операция это всегда риск, – наставительно произнес Витя и полез в карман за сигаретами. Протянул раскрытую пачку Гарафееву, тот потянулся было, а потом вспомнил свое «нет» и не стал, – труба в пищеводе это форсмажор, она может там оказаться по обстоятельствам, которые доктор не в силах контролировать, а вот свое поведение он всегда в силах контролировать.
– Да?
– Да. В итоге Кожатов у нас хороший врач, нарвавшийся на сложный случай, а ты неуравновешенный хам.
– А что неуравновешенный хам заинтубировал сложный случай в одну секунду, это ничего? Ни на какие мысли не наводит?
– Представь себе, нет. Слушай, ты же всегда тихий, воды не замутишь, сейчас-то что вдруг? При Завьялове и его клевретах?
– Завьялов вообще-то теперь должен меня год коньяком поить.
– Это да. Так он, наверное, и сделает, только Кожатов, после того как ты его выгнал, как только добрался до первого телефона, сразу папашке настучал, а тот мне. Кстати о коньяке, будешь?
– Давай.
Заведующий достал из шкафа початую бутылку и два граненых стакана. Налил по чуть-чуть. Чокнулись, Витя выпил залпом, а Гарафеев только пригубил и стал болтать стакан в ладони, как артисты делали это в заграничных фильмах, только у них были пузатые рюмки тонкого стекла.
– В общем, я получил по полной, что распустил коллектив и держу у себя какого-то неадеквата. Это он тебя имел в виду, а не собственного сына.
– Понятно.
– Требует самых жестких мер.
– Вить, да я сам уволюсь.
– В смысле?
– Я развожусь и хочу уехать. Ты не знаешь, кстати, где можно узнать про работу в других городах?
– Ты серьезно?
Гарафеев кивнул.
– Нет, ну это… Нет, ну как же я тебя отпущу? У меня же все на тебе держится.
– Ты ошибаешься, я ничтожество.
– Жена сказала? Да не слушай ты ее! Ну и дела… – Витя вздохнул. – а я как раз недавно думал, какой у тебя образцовый брак, сплошное счастье… Неудивительно, что ты сорвался.
– Не приплетай. Я высказал Кожатову только и исключительно потому, что он едва не угробил больного.
– Ну, конечно. Слушай, тебе просто надо отдохнуть. Просто погулять пару неделек, ты восстановишься, Кожатов остынет, а там, глядишь, и с женой помиритесь.
Гарафеев покачал головой.
– Правда, Гар.
– Да я все отгулял, а за свой счет не хочу.
Витя поморщился, но быстро просветлел лицом.
– Слушай, а есть вариант. Народным заседателем пойдешь.
– С ума сошел?
– Ну да. Походишь в суд, посмотришь, как люди вообще живут, чем дышат, какие у них проблемы.
– Какие у них проблемы, я и здесь прекрасно вижу.
– В общем, переключишься. А там все наладится у вас.
– Нет.
– Наладится, наладится. Ты, главное, держи себя в руках, пожалуйста, потому что смерть пациента всегда можно объяснить стечением обстоятельств, а за нарушение этики и деонтологии стопроцентно огребешь.
Гарафеев молча допил коньяк. Действительно, распускаться недопустимо. В сплоченном коллективе, где люди понимают друг друга с полуслова и на первом месте дело, а не личные амбиции, порой орут друг на друга, ибо это значительно ускоряет обмен информацией, что важно, когда счет идет на секунды. Но сам Гарафеев сегодня оскоромился первый раз за свою карьеру, он считал, что когда говоришь спокойно и понятно, то это в принципе ничем не хуже мата.
И вот сорвался, дал человеку повод отомстить своему наставнику за науку и поддержку.
Витя потянулся налить по второй, но тут его вызвали к начмеду. Гарафеев остался один. То ли от пережитого волнения, то ли от коньяка голова немного кружилась, он открыл окно и, облокотившись на подоконник, высунулся на улицу. В больничном садике гуляли пациенты, и по некоторым было видно, что они тяжело и неизлечимо больны и вскоре умрут.
Гарафеев вздохнул. Иногда ему становилось жаль, что он такой хороший врач и не сможет обмануться, когда заболеет. Хорошо, если смерть придет к нему в виде инфаркта или кирпича на голову, а вот угасать от рака он бы не хотел. А может, он сумеет найти себе какую-нибудь тень надежды, обманет себя… А может быть, и нет. Он же будет одинокий. Соня забудет о бывшем муже, как о страшном сне, а Лиза… Поедет ли она к больному отцу в тот город, куда он переберется, или ограничится телефонными разговорами? Пришлют ли ей заверенную телеграмму, когда его не станет?
Гарафееву стало так жаль себя, что он не сразу вспомнил, что пока еще здоров.
Смерть пациента всегда можно объяснить стечением обстоятельств, сказал Витька. К сожалению, это так. Впрочем, всегда можно и наоборот – обвинить врача, даже если стечение обстоятельств было поистине фатальным. Все зависит от того, какой врач. Например, рядовой хирург Иванов, если пересечет при холецистэктомии общий желчный проток, то это будет повод для административных решений, а если то же самое сделает профессор Сидоров, то все просто изумятся, о боже мой, какая же у больного оказалась нестандартная анатомия! Хотя самая нестандартная анатомия как раз у профессора Сидорова, руки из задницы растут.
Спаечный процесс, анатомические особенности, атипичная форма, стертая клиника – много есть таких эвфемизмов, оправдывающих ротозейство докторов. Спасение тут одно – много читать, перенимать чужой опыт и делиться своим, чтобы в трудной ситуации вспомнить какой-нибудь мельчайший факт, крошечную деталь, которая позволит вытащить на поверхность болезнь, спрятавшуюся под маской совсем другой патологии. Врач должен постоянно расширять свой кругозор, а не люстры мыть.
В институте Гарафеев не был образцом прилежания, он учился неплохо, но не с таким рвением, как его жена. Вполуха слушал наставления профессора Федосеева, что врач, который не читает, вреден и опасен, и черпал знания только из учебников, почти не открывал монографий, а медицинские журналы наводили на него тоску. Статьи на английском он понимал с пятого на десятое, и удивлялся, как Соня все это постигает.
Зато Гарафеев страшно гордился, что умеет быстро и красиво заинтубировать, отлично ставит подключички и единственный из всего потока овладел навыком регионарной анестезии.
«Золотые руки» – говорили про него, и Гарафееву казалось, что при таких способностях ему не нужен слишком обширный интеллектуальный багаж.
Все изменилось на шестом курсе. Он был уже человек опытный, имел за плечами более двадцати самостоятельных наркозов, так что дежурил и к собственному удовольствию, и к радости старых докторов, которым оставалось только вполглаза наблюдать за юным дарованием.
Гарафеев до сих пор помнил то удивительное чувство не то чтобы всемогущества, но раскрепощенности и свободы, которые дает уверенность в своих силах, с которым отправился давать наркоз на аппендицит.
Пациентка была молодая женщина (впрочем, это он сейчас о ней так думал, тогда она, тридцатилетняя, казалась ему уже порядочно пожившей дамой). Здоровая, цветущая, недавно родившая, без хронических заболеваний – просто подарок для анестезиолога.
Он провел стандартный ингаляционный наркоз, отвез пациентку в палату, расписал обезболивание и вприпрыжку помчался в реанимацию, куда как раз доставили интереснейший инфаркт. Утром он зашел посмотреть на женщину, убедился, что все в порядке и тут же о ней забыл. Стандартный случай, что его держать в голове? Гарафеева не насторожило, что на операции обнаружился неизмененный червеобразный отросток, ибо такое бывает сплошь и рядом. Ничего страшного не произойдет, если удалишь здоровый аппендикс, а вот если оставишь больной, то тут разные варианты, вплоть до летального исхода.
Скорее всего, у женщины была просто почечная колика, которая сплошь и рядом протекает, как аппендицит, а от инфузионной терапии все прошло.
Через сутки он снова пришел подежурить и обнаружил женщину в реанимации с тяжелой дыхательной недостаточностью. Решили, что у нее пневмония, которая иногда протекает, как аппендицит, настучали по голове терапевту, что пропустил, назначили антибиотики и стали ждать выздоровления. Гарафеев корил себя, что сам не послушал легкие и не настоял на том, чтобы сделать снимок. Рентгенография, впрочем, инфильтративных изменений не показала, но такое тоже бывает при некоторых формах пневмоний.
Антибиотики назначили сразу хорошие, новые и в приличной дозировке, и надеялись, что состояние пациентки быстро улучшится, но ей становилось только хуже. Появилась тахикардия, шум в сердце, и ее стали вести, как эндокардит, только без всякого эффекта.
Консилиум следовал за консилиумом, профессора поджимали губы, чтобы скрыть свою растерянность, и сходились только в одном – клиника нетипичная.
Гарафеев не отходил от больной, чувствуя себя виноватым не столько за то, что ошибся, а именно за самоуверенность, которая тогда овладела им. Сейчас он, наоборот, переживал худшую форму бессилия – бессилие от неведения. Плохо, когда погибает пациент с доказанным диагнозом и ты ничего не можешь с этим поделать. Болезнь сильнее, на этом этапе развития медицины тебе ее не победить. Плохо, горько, но в тысячу раз тяжелее, когда ты не знаешь, от чего умирает больной.
Как на олимпиаде по математике – забыл формулу и не можешь решить задачу, но там от твоей глупости страдаешь только ты сам, а тут цена – жизнь. Как говорил его наставник – врач ошибается один раз в чужой жизни.
Гарафееву все время казалось, будто они что-то упускают, не понимают, не видят, а путь к спасению есть, и он где-то рядом.
Женщина понимала, что с ней что-то не так, плакала, просила: «Спасите меня, я не хочу умирать, у меня Андрюша маленький». Ей обещали, что все будет в порядке, но вскоре начались судороги, потом кома, из которой вывести пациентку не удалось, и она через двое суток скончалась.
Вскрытие производили в присутствии всех специалистов, но патологоанатом так и не смог установить причину смерти. Послеоперационная рана заживала без особенностей, в легких воспалительных изменений тоже не нашли, клапаны сердца оказались в порядке.
В общем, аутопсия ясности не прибавила, и в конце концов сошлись на миокардите и острой сердечной недостаточности, как непосредственной причине смерти.
У пациентки был какой-то непростой муж, то ли инженер-оборонщик, то ли физик-ядерщик, в общем, человек не из последних, и некоторое время доктора опасались, что он начнет строчить жалобы, но бедняга не требовал возмездия, и все успокоились и забыли о несчастной женщине.
И Гарафеев с годами вспоминал о ней все реже, и теперь уже не с сожалением, а с признательностью, потому что благодаря ей он понял, как важно врачу много знать, что в буквальном смысле один прочитанный абзац может спасти жизнь.
Он взял за правило читать всю периодику по специальности, новые монографии и как можно чаще перечитывать классические труды.
Он так и не нашел четкого объяснения смерти той женщины и за неимением лучшего считал, что, скорее всего, она переносила тяжелую форму гриппа, а ошибочная операция просто усугубила течение заболевания. Ах, если бы он тогда был внимательнее, если бы думал о пациентке, а не страстно жаждал добавить в свою копилку очередной самостоятельный наркоз, если бы посмотрел ее внимательно и непредвзято, а не поверил хирургу на слово, что там классический аппендицит, то, возможно, женщина осталась бы в живых…
Формально он был тогда ни в чем не виноват хотя бы потому, что был просто студентом, набирающимся опыта, а главное, ставят диагноз и принимают решение об операции хирурги, а не анестезиологи, так что все правильно. Ему сказали дать наркоз – он дал. Какие претензии?
И все же тот давний случай сидел в памяти, как мертвый зуб. Вроде бы не беспокоит, но отзывается, когда посильнее накусаешь.
* * *
Мама поставила перед ним тарелку щей из молодой капусты. Стас вдохнул простой, но аппетитный запах и быстро заработал ложкой.
– Никто не отнимет, – улыбнулась мама, – кушай, кушай.
Она пододвинула ему блюдо с пирожками.
Стас тут же схватил один и впился зубами, зная, что маме приятно видеть, с какой жадностью он накидывается на ее стряпню.
Семнадцать лет эта большая квартира была его домом. Мама говорит, что и сейчас остается, в его комнате до сих пор все, как было при нем, только что-то изменилось, неуловимо, но бесповоротно, как в рассказе «Бабочка» Рэя Брэдбери. Теперь он здесь гость.
– А папа где? – спросил Стас.
– В Москве на конференции.
– Не стая воронов слетелась…
– Зачем ты так? Вы же тоже торчите целыми днями в своем «Сайгоне».
– Мы там только кофе пьем, каннибализмом не занимаемся.
Мама поморщилась:
– Ты кушай, кушай.
Стас взял еще пирожок, откусил, и вдруг от знакомого вкуса словно провалился в детство, так ярко вспомнился воскресный обед. Он ерзает на стуле – не терпится, когда родители доедят и пойдут с ним гулять, может быть, в кино или зоопарк, смотреть на белых медведей, и будут держать его за руки, а он станет разбегаться и подгибать колени, а потом, когда наиграется, налазается по детской площадке, папа возьмет его на руки, и он повиснет «бесчувственной сосиской», и специально расслабит все мышцы, чтобы голова его билась в такт отцовским шагам так, как будто он красный командир и убит в бою, и теперь товарищи выносят его с поля битвы.
И мама будет говорить: «Стас, папе же тяжело», а отец ответит, что ничего, пусть. Пусть сын пользуется, пока он молод и силен, а Стас прижимался к теплой шее и думал, какую глупость говорит папа. Он всегда-всегда останется молодым и сильным.
Заметив, что он задумался, мама потрепала его по макушке, осторожно провела кончиками пальцев по бороде.
– Как странно, – улыбнулась она, – вчера еще был малыш, и нате вдруг – суровый дядька. Ты хоть бороду бы снял.
– Мам, я буду тогда похож на печального клоуна из мультика.
– Это почему это?
– Ну как… Тут вот морда прокоптилась, задубела, а под бородой белое все.
– Хоть подровняй.
– Да уж придется. Я тебе не говорил, меня в народные заседатели выбрали.
– Это тебя-то?
– Прикинь!
– Ну в принципе… – мама пожала плечами, – все слои населения должны быть представлены, даже отщепенцы вроде тебя. Это демократично.
– Ой, я тебя умоляю. У меня сознательность нулевая.
– Ты гражданин? Вот и исполняй свой гражданский долг. Только приведи себя в порядок, действительно, прежде чем в суд идти. Постригись нормально и знаешь что? Я сейчас достану твой костюм с выпускного.
Стас поморщился, но мама уже вышла в гардеробную. Да, у лауреата Государственной премии Суханова, воспевающего спартанский быт советской деревни, был дома такой изыск, как гардеробная, даже со специальным шкафом для обуви.
Мама сняла с вешалки костюм, закованный в серую бумагу, пахнущую сургучом.
– Так это же ботинки надо, – заныл Стас.
– Надо.
Весь его обувной ряд состоял из нескольких пар кед разной степени потрепанности, тяжелых походных ботинок и кирзовых сапог.
– Может, я так?
– Нет уж! Не губи отцовскую репутацию окончательно. Пусть люди знают, что хоть какое-то уважение к государственным институтам осталось в тебе.
– Уважение есть, а ботинок нету.
Мама с шумом разорвала бумагу, и в нос ударило нафталином.
– Проветрится.
Она приложила костюм к его плечу.
– Ах, какой ты был красавец!
– Ладно, мам!
– Все были такие… – мама зажмурилась, – а уж Лелечка! Джина Лоллобриджида просто драная кошка рядом с ней.
Стас улыбнулся.
– Я ее недавно встретил. Она стала такая серьезная, сухая.
– Станешь тут.
– В смысле?
Мама положила костюм на спинку стула, нахмурилась и зачем-то поправила Стасу воротник футболки.
– А ты разве не знаешь? Ну да, ты же в армии был.
Сердце екнуло, и на секунду Стас подумал, что не хочет ничего знать.
– На нее напали.
– О господи!
– Бедная девочка осталась еле жива, но нашла в себе силы пойти в милицию. Она решилась на это унижение и огласку ради того, чтобы другие девушки не пострадали, но как ты понимаешь, ничего хорошего из этого не вышло. С ней обошлись по-хамски, следователь объяснил, что сама, дура, виновата, а преступника так и не нашли. Впрочем, особо и не искали, зачем, с другой стороны, если бабы сами виноваты?
Стас слышал маму как сквозь вату.
– Жених после этого ее бросил, – продолжала мама, – да и вообще люди девочку не поддержали, сам знаешь, у нас жалеют тех, кто сам опустился, а действительно невинных жертв принято добивать. В общем, не повезло Леле, сбили на взлете.
Стас сжал кулаки изо всех сил.
– Я пойду, мам.
– Ладно. Я сегодня позвоню кое-кому, и завтра отправимся с тобой за ботинками. И костюм завтра заберешь, я пока проветрю. И не кривись, пожалуйста, а молча делай, что тебе говорят.
– Хорошо.
Он вышел на Лелиной остановке и устроился в ее дворе. Школьником он проводил здесь немало часов, нес вахту на качелях, чтобы только увидеть ее, столкнуться как бы случайно.
Кто-то еще, какой-то зверь притаился здесь, может быть, на этих самых качелях и ждал. Темный глухой двор, поздним вечером здесь ходить опасно, а он был в армии и не защитил…
Мысли путались, отчетливой была только глухая тоска и страстное, но невозможное желание изменить то, что уже случилось и что нельзя ни отменить, ни исправить. Казалось, и любовь прошла, и сегодняшняя сухая Леля будто утратила связь с той девушкой, по которой он когда-то сходил с ума на этих самых качелях. Их даже вроде бы не красили с тех пор. «Крикну я, но разве кто поможет, чтоб моя душа не умерла? Только змеи сбрасывают кожу, мы меняем души, не тела», – с горечью прошептал он.
Все прошло, прошло… Стас оттолкнулся ногами от земли, и рама со скрипом пошла вверх, тяжело и нехотя. Леля совсем другая, и он тоже.
И поэтому необходимо остаться здесь.
Стас раскачался сильнее, но тут же смутился своего детского порыва и затормозил ногой, оставив на земле глубокий след.
Тут дверь парадной хлопнула и во дворе появилась Леля, в платьице и пестрой шали. На ногах были тяжелые сабо, и от этого лодыжки казались неправдоподобно тонкими.
Стас спрыгнул и подошел к ней.
– Я увидела тебя в окно.
– А я шел мимо, так дай, думаю, зайду.
– Ясно.
– Может, в кино?
Леля пожала плечами.
– И по мороженому.
– Стас, я не хожу на свидания.
– Просто фильм посмотрим.
Леля нахмурилась:
– Не хотелось бы ставить тебя в неловкое положение.
– Не поставишь.
– Какой фильм?
– Не знаю. Что идет… Хочешь, на Невский поедем, там выберем.
– Подожди две минуты, я переоденусь.
Он вернулся на качели.
* * *
Ирина потянула руку к только что полученному делу Тиходольской, и тут раздался телефонный звонок. Оказалась бывшая свекровь с претензией, что Егор плохо ест.
– Ничего, – улыбнулась Ирина, – голодная смерть ему не угрожает, чай, не в Эфиопии живем.
– Ты очень легкомысленно к этому относишься, – проскрежетала в трубку свекровь. – Ребенок должен быть приучен съедать все, что ему дают, и без капризов.
– Да неужели, – пробормотала Ирина.
– Что?
– Ничего.
Она не стала напоминать бывшей свекрови, что ее собственный сын не приобрел этот важный навык даже к тридцати годам и выкаблучивался за столом так, что Ирину всякий раз трясло при мысли об ужине.
– Необходимо, чтобы Егор хорошо кушал.
– Ага, – прижав трубку телефона плечом, Ирина раскрыла дело.
– Сейчас закладывается его здоровье на всю жизнь, поэтому правильное питание крайне важно, – надрывалась свекровь, – а ведь если ты его не приучила, это значит, он и в садике недоедает!
При этом слове Ирине представилось изможденное дитя в лохмотьях, ничего общего не имеющее с Егором.
– Да все нормально с ним. Ест по внутренней потребности.
– Ира, ты должна обратить на это самое пристальное внимание.
– Хорошо.
– Значение хорошей пищи нельзя переоценить.
– Нельзя.
– И он обязательно должен есть свежие фрукты и овощи.
– Ольга Степановна, прошу прощения, но мне сейчас не совсем удобно разговаривать, я на службе…
– В первую очередь ты мать! – сказала свекровь так назидательно, что Ирина чуть не выронила трубку. – Прежде всего ты должна думать о ребенке.
– Всего хорошего, Ольга Степановна!
Положив трубку, Ирина задумалась. Егор действительно ест не так что прямо всем на зависть. Набегается, проголодается, так и поужинает с аппетитом, а если весь вечер просидел за книгой или занимался музыкой, то может попить только чаю.
Ирина никогда не делала из этого проблемы, считая, что нормальный здоровый ребенок никогда не съест меньше, чем требует организм, главное, не приучать его к перекусам.
Когда родился сын, она подошла к его воспитанию ответственно, проштудировала Спока, выслушала множество советов умудренных матерей и бабушек, намотала на ус, а применять не стала. Не смогла. Корила себя за то, что слишком мягкая, балует ребенка, распускает, но так и не сумела научиться наказывать его как следует. Егор рос слишком быстро, а ей так мало времени удавалось уделять ему, что тратить его на ругань и нотации казалось просто абсурдным.
На языке ответственных родителей это называлось «попустительство», и Ирина переживала, что она такая безалаберная, пока не заметила, что Егор объективно ведет себя лучше и спокойнее тех детей, которых держат в ежовых рукавицах.
Недавно она виделась со знакомым профессором психиатрии, и тот заметил, что она в интересном положении. Ирина призналась, что не умеет воспитывать детей и боится, как все будет, а профессор расхохотался и сказал, что большинство граждан воспитывает у своих детей только неврозы и комплексы. «Просто любите и сами живите достойно, – улыбнулся он, – и результат вас приятно удивит. А еще помните, что воспитание это либо усилие над собой, либо насилие над ребенком».
Теперь Ирина прикладывала эту простую формулу к житейским ситуациям, и она ни разу еще не подвела. Взять хоть еду. Конечно, гораздо важнее, что ты готовила, старалась, так не выбрасывать же, в самом деле! Пусть ребенок давится, главное, не придется мне расстраиваться, отправляя плоды своих трудов в мусорное ведро. Чувство, что я хорошая мать, напичкала ребенка витаминами по самые уши, оно ведь настолько необходимо, что ради него можно силой заставить ребенка сломать естественный биологический барьер – чувство сытости.
Так во всем. Лучше мы будем заставлять ребенка сутки напролет чахнуть над учебниками, чем посмотрим в лицо правде и поймем, что родили не гения, а обычного, даже немного глуповатого человека.
К сожалению, у нас слова «сильный» и «насильник» не только однокоренные, но и синонимы, а ведь должны быть антонимы…
Ирина усмехнулась. Интересно, что будет, если она посоветует Ольге Степановне класть Егору на тарелку столько, сколько он попросит, потому что еду выбрасывать действительно нехорошо, а со своей тревогой по поводу низкой концентрации во внуке питательных веществ справляться самостоятельно? Что начнется?
Понятно что. Гнилая риторика, что она слишком много дает свободы сыну, распустила, тогда как ребенок должен знать свое место и уметь слушаться. Припомнит обязательно прежние времена, когда дети с трех лет пахали землю и чуть что, немедленно получали деревянной ложкой по лбу. Почему-то любят у нас с какой-то сладострастной ностальгией вспоминать крестьянские порядки, как муж единственный имел в доме право голоса, жена пикнуть не смела, ну а о детях и говорить нечего. Лишний раз они главе семьи вообще старались на глаза не попадаться. И старые пословицы все на устах: «ты – последняя спица в колеснице», «нос не дорос», «всяк сверчок знай свой шесток», «волос длинный – ум короткий» и «баба должна раз – лежать, и два – тихо». Хотя последняя, кажется, из современного.
Ирине всегда хотелось предложить таким желающим создать для себя царство всеобщего послушания сначала отпахать пару дней, как русский крестьянин, и чтобы еще помещик за какую-нибудь ерунду на конюшне розгами посек, а потом только разворачивать семейный уклад к истокам домостроя.
Кроме того, не надо забывать, что русские крестьяне были рабы и воспитывали таких же рабов, как сами. Слава богу, крепостное право отменили, зачем теперь пропагандировать эти методики, которые, вероятно, и не применялись в таком карикатурном виде, как их сейчас представляют. Зачем хвалить методы, подавляющие личность? Почему не взять за образец воспитание дворянских детей?
Видимо, самой свободной стране не нужны свободные люди.
Ладно, хватит пустомыслия, пора работать.
Ирина попыталась углубиться в дело, но ничего не выходило, разговор со свекровью выбил ее из колеи.
Когда к тебе лезут без спросу в душу, то, может, сильно и не насвинячат, но все равно приходится тратить время, чтобы расставить все обратно по местам, протереть следы от грязной обуви. А не пустить… Будет расценено как злостное превышение необходимой самообороны.
Нет, Тиходольской только оправдание, а следователю накатить по полной.
Нужно внедрять в массовое сознание непостижимую для нашего человека мысль, что если ты лезешь, куда тебя не просят, то действуешь исключительно на свой страх и риск. Никто не обязан тебя щадить и с тобой считаться. Пригласили тебя, например, в гостиную, так и сиди в гостиной, тут радушные хозяева обеспечат тебе комфорт и безопасность, это их долг гостеприимства, но если сунешься без спросу в спальню, то не обессудь, если тебя выкинут вон.
Свекровь – взрослый человек и должна бы понимать, что если ей разрешают общаться с внуком, то это не значит, что можно воспитывать Ирину. Но, увы… Такие люди, они как чернила, если уж пролились, то растекутся по всей твоей территории.
Ирина несколько раз глубоко вздохнула, чтобы прогнать остатки злости, и открыла скоросшиватель.
Биография Ульяны Алексеевны в данном случае для дела большого значения не имела, но Ирине было просто по-человечески любопытно, все же надо иметь определенный склад характера, чтобы дать насильнику достойный отпор. Не всякая женщина на такое способна, большинство будет плакать, звать на помощь и умолять, но кончается это обычно плохо. Преступник неумолим, а крики никто не слышит или делает вид, что не слышит, надеясь, что отзовется кто-то другой. Дом большой, людей в нем живет много, каждый думает: кроме меня герой найдется. Да что там, просто люди веселятся, и я буду выглядеть полным идиотом, если позвоню в милицию. Еще штраф выпишут за ложный вызов, оно мне надо?
Женщины прекрасно это знают, и тем не менее только примерно один из ста насильников гибнет или получает увечье. А если учесть, что далеко не все выжившие жертвы заявляют о преступлении, то и того меньше.
Нормальному человеку, особенно женщине, крайне сложно преодолеть этот барьер «не убий», он составляет неотъемлемую часть личности, так что даже непосредственная опасность для собственной жизни неспособна его сломать.
К счастью, Ульяна Алексеевна врач, оперирующий акушер-гинеколог, а эта специальность не просто младенчики сюсю-мусю. Иногда требуются хладнокровие и жесткий расчет, чтобы новая жизнь появилась на свет. Есть даже такое понятие «акушерская выдержка».
Нет, без умения держать себя в руках и ориентироваться в экстремальной ситуации Тиходольская не добилась бы успеха в профессии. Точнее, регалий, ученых званий, всяких там заслуженных врачей Советского Союза у нее мог быть целый мешок, для этого нужны другие качества, но вот репутации врача, попасть к которому на роды – настоящая удача и гарантия успеха, у нее точно не было бы.
Итак, судя по биографической справке, жизнь поначалу была не слишком ласкова с Ульяной. Она родилась в деревне со смешным названием Тумботино, известной своим заводом медицинских инструментов. Родители – колхозники, отец, вероятно, крепко пил, потому что умер, когда девочка только пошла в школу. Мать растила ее одна и, видимо, неплохо справлялась, потому что Ульяна после восьмилетки пошла в медицинское училище, которое окончила с красным дипломом, что позволило девушке поступить в Ленинградский мединститут.
Достойная судьба и на первый взгляд благополучная, но Ирина знала, сколько сил приходится приложить сельским детям, чтобы выбиться в люди. Их сокурсники из интеллигентных семей, потомственные ленинградцы, и понятия не имеют, что пришлось пережить ребятам из деревни, которых они презирают, обзывают лимитой и не берут в свою компанию.
Ирина слегка покраснела, вспомнив, как сама фыркала и отпускала язвительные замечания насчет Люси Туркиной и Оли Климовой, двух подружек родом из сельской местности, как высмеивала их туалеты и повторяла выражение, что можно вывезти девушку из деревни, но нельзя вывести деревню из девушки, казавшееся ей тогда очень остроумным.
Когда однокурсник пытался подкатить к Люсе, его высмеяли, ах, стираешь грань между городом и деревней, и парень стушевался.
А когда один старшекурсник, родом из какой-то станицы, дерзнул ухаживать за Ириной, она была даже оскорблена. Как это колхозник, перифериец, сельпо – и лезет к ней, воспитанной ленинградской девушке! Все равно что кучер посватался к графине, ха-ха, немыслимая ситуация! Ирина до сих пор помнила, как сказала ему: «Я бы назвала тебя парвеню, но ты ведь даже не поймешь, что это значит». Старшекурсник неизвестно, понял ли, но на высокомерный тон обиделся и отстал, а она долго еще в его присутствии говорила как бы в пространство: «Где родился, там и пригодился».
Сейчас ей было мучительно стыдно за свое тогдашнее поведение.
С другой стороны, что нас не убивает, то делает сильнее, и ребята, сообразив, что нечего ждать милостей от природы, брали их сами. Старшекурсник стал прокурором района, Люся – ведущим юрисконсультом на Кировском заводе, а Оля работала в Москве следователем по особо важным делам.
Зато Ирина вышла замуж за коренного ленинградца и оглянуться не успела, как осталась разведенкой с ребенком.
Она вздохнула и поморщилась, прогоняя жгучий стыд.
Наверное, над Ульяной Алексеевной тоже смеялись, и теперь ее однокурсникам тоже стыдно, но что толку? Прошлого не изменишь, даже если сгоришь со стыда.
Вряд ли мать могла сильно поддерживать дочку материально, наверняка Ульяне приходилось надеяться только на природную красоту и аккуратность. В принципе двадцать лет назад еще не было такого культа импортных шмоток, но все равно женихи смотрели, как девушка одета. Если в фирму, значит, семья со связями, а если носит круглый год одну и ту же юбочку, то ничего, кроме самой себя, предложить не может. Тут уж только по большой любви… Которой, видимо, у Ульяны не случилось, потому что она до окончания института замуж так и не вышла. Зато ей удалось не уехать по распределению черт знает куда, а получить должность врача в ленинградском роддоме, не самом престижном, но и не таком, что роженицы выпрыгивают из машины «Скорой помощи», когда узнают, что их туда везут.
Вместе с работой Ульяна получила место в общежитии, поступила в заочную аспирантуру на кафедру акушерства и гинекологии, словом, в жизни появились перспективы, как вдруг девушка родила сына неизвестно от кого.
Смелый поступок. И сейчас-то к одиноким матерям относятся прохладно, а двадцать лет назад любая уважающая себя женщина считала своим долгом вылить ушат помоев на голову такой мамаше. Родить без мужа значило обречь себя на позор и всеобщее презрение и поставить крест на карьере, но Ульяна Алексеевна решилась на этот шаг.
Наверное, как обычно, сапожник оказался без сапог. Акушер-гинеколог не поняла, что беременна до тех пор, пока что-то делать не стало уже поздно. А может, сознавала риск первого аборта и не захотела жертвовать счастьем материнства.
К счастью, в трудном положении одинокой мамы есть одно преимущество – ее невозможно уволить. Ульяна сохранила место в роддоме, а вот с аспирантурой пришлось проститься, кандидатом наук женщина так и не стала.
Ирина нахмурилась. Кажется, в те годы декретный отпуск составлял сто двенадцать дней, и три месяца можно было еще сидеть без сохранения содержания. Потом или бабушки, или ясли. Интересно, как выживала бедная Ульяна? Помогал ли отец ребенка? Наверное, нет. Если он был свободный человек, то почему не женился, а если женатый – то не мог выкраивать для любовницы значительные суммы. Десять-двадцать рублей, если больше – супруга заметит утечку средств.
Ирине снова стало стыдно. Был грех, она сама когда-то была любовницей женатого и собиралась родить от него, чтобы увести из семьи. После развода вляпалась в классический служебный роман с начальником, принимая великий ужас перед одиночеством за великую любовь. Стыдно вспоминать, на что она тогда была готова. Любовник Валерий был, конечно, редкой сволочью, но спасибо, что у него хватало ума предохраняться. Иначе куковала бы она одна с двумя детьми, озлобленная и разочарованная.
Да нет, пожалуй, Ульяна была еще слишком молода для того, чтобы связаться с женатым мужиком. Нравы тогда были построже, посуровее, а Ульяна не какая-то разведенка и брошенка, а двадцатитрехлетняя девушка с высшим медицинским образованием, хорошей работой и ленинградской пропиской, хоть и в общаге. Не могла она себя так низко ценить в юные годы.
Наверное, просто парень оказался безответственным, как первый муж Ирины, только исчез на более ранней стадии. Тоже какой-нибудь интеллигент в сто пятом поколении, с пропиской, заменяющей все нравственные качества. И с мамочкой, куда ж без нее. Припугнули, наверное, девчонку, что будешь нам тут права качать, тут же вылетишь с работы и из города. Как в любимом народом фильме «Москва слезам не верит».
И как в фильме, судьба в конце концов сжалилась и вознаградила Ульяну, только не облезлым психопатом Гошей, а нормальным мужиком, и не стала ждать для этого двадцать лет.
Когда ребенку исполнился год, Ульяна познакомилась с Дмитрием Тиходольским, начальником кафедры Высшего военно-морского училища имени А. С. Попова. Несмотря на солидную должность, звание полковника и ученую степень доктора наук, мужчина был относительно молод, всего тридцать пять лет. Год назад его жена умерла, оставив новорожденного сына. Наверное, Ульяна с Дмитрием, вращающиеся в совершенно разных сферах, пересеклись благодаря детям-ровесникам, в поликлинике или на детской площадке, и, как знать, чего там было больше, любви, или усталости от одиночества, или желания одаренного ученого скинуть с себя быт, но, главное, брак оказался крепким, еще через год Ульяна родила дочь, и все, казалось, идет прекрасно. Свидетели в один голос твердили, что Тиходольская была прекрасной матерью не только родным детям, но и сыну Дмитрия от первого брака и различия между ребятишками не делала.
Женщине, обремененной тремя детьми и мужем, погруженным в науку, трудно сделать головокружительную карьеру, и действительно, Тиходольская так и осталась рядовым врачом, но квалификацию приобрела высочайшую.
Ирина вздохнула. Умная, неординарная, решительная и самостоятельная женщина. На гнилом Западе она бы тратила процентов тридцать своей зарплаты на няню и домработницу, и преуспевала бы, и дети не стали бы тормозом карьеры.
Правда то, что вместо того, чтобы ныть и ругать «проклятый совок», надо снять драную майку и посмотреть, а что ты сам можешь сделать если не для родины, то хотя бы для себя. Все верно. Нечего высматривать по сторонам врагов, если хочешь увидеть человека, виноватого в твоих неудачах, посмотри в зеркало.
Действуй, шевелись, повышай свой уровень, стань уникальным специалистом и будешь жить хорошо.
Это так, и это правда для молодых людей, только вступающих в жизнь.
А что делать таким, как она или как Ульяна Алексеевна? Как принять, что они шевелились, как электровеники, и таки стали уникальными специалистами, но для того, чтобы жить изобильно, им нужно только одно – переехать на загнивающий Запад, устроиться на ту же должность и делать там абсолютно ту же самую работу.
В общем-то ей, судье городского суда, грех жаловаться, она и до замужества неплохо жила, а теперь так вообще богатая женщина, но только лучше ее доходы не сравнивать с доходами судьи где-нибудь в Америке…
А пропасть между врачами на Западе и врачами у нас вообще гигантская. Колоссальная пропасть. Хорошо, что Тиходольский был известный ученый мирового значения и военный человек, иначе на одну докторскую зарплату Ульяна Алексеевна с тремя детьми ноги бы протянула, когда он умер.
А происходит это потому, что КПСС, как раковая опухоль, сжирает все, что производят граждане. И это бы еще полбеды, главное, что она отравляет народ своей идеологией, как опухоль своими токсинами здоровые клетки, и люди работают вполсилы, а то и меньше.
И к этой опухоли Ирина готовится примкнуть.
Она засмеялась. Ну а что, тут либо ты, либо тебя. Хотя Кирилл бы возразил, что в итоге хозяин и паразит все равно гибнут вместе.
Нет, о своем партийном будущем она подумает потом.
Ирина перелистнула страницу.
Итак, десять лет Ульяна Алексеевна прожила в любви и согласии, но есть люди, к которым судьба неласкова, ничего им не дает в подарок и отнимает даже то, чего они добились сами, вопреки обстоятельствам.
Шесть лет назад Дмитрий Тиходольский скоропостижно скончался.
Ульяна вырастила и вывела в люди всех троих ребятишек. Сыновья успешно окончили школу и поступили в Поповку, куда их приняли, может быть, честным образом, а может, как дань памяти их знаменитому отцу.
Дочь пошла по стопам матери в медицинский институт.
Сыновья жили теперь в казармах училища, усердно там строились и занимались самоподготовкой, а девочка осталась при маме.
Несмотря на то что Ульяна Алексеевна женщина была еще не старая, а, наоборот, в самом соку, и весьма интересная внешне, после смерти мужа она не имела отношений с мужчинами, полностью сосредоточившись на работе и на детях. Коллеги рассказали, что, когда дочь поступила в медицинский, Тиходольская задумалась, а не написать ли ей все-таки диссертацию, и спрашивала, не слишком ли она глупо будет выглядеть, если поступит в аспирантуру в столь солидном возрасте.
Ирина усмехнулась. Что ж, изрядный кусок жизни женщина посвятила детям, теперь они выросли, можно вернуться к собственным делам. И вот только все налаживается, появляются интересные цели, как к тебе в дом вваливается какой-то урод, и вместо аспирантуры ты рискуешь загреметь в совсем другие университеты.
Ну, на то она и судья, чтобы не допустить подобной несправедливости.
Так, а что у нас насчет урода? Как потерпевший проводил свои дни, прежде чем так глупо их закончить?
Смышляев был уже немолод, слегка за пятьдесят, не такая уж и короткая жизнь для засиженного зэка. Официально со стези добродетели он свернул довольно поздно, будучи курсантом Военной академии имени Дзержинского. С третьего курса ушел топтать зону за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.
Раз поступил в военный вуз, значит, или действительно был безгрешен до этого преступления, или вел себя очень осторожно и в поле зрения милиции не попадал. Отбор в будущий офицерский состав ого-го какой!
Оказавшись на зоне, отбыл свои семь лет от звонка до звонка, видимо, нарушал режим, раз не освободился досрочно.
После возвращения мать прописала сына к себе, так что Смышляев осел в Ленинграде, устроился разнорабочим в НИИ и несколько лет вел себя тихо и законопослушно, как вдруг устроил на работе пьяный дебош. Что-то там побил, испортил и снова отправился на зону за хулиганку. Там получил новый срок по своей любимой статье за нанесение тяжких телесных, повлекших за собой смерть потерпевшего, и освободился только в прошлом году.
Стандартный жизненный путь не слишком умного, но агрессивного человека без тормозов. Бедняге повезло, что его мама оказалась еще жива и снова прописала его к себе, но на работу его никуда не брали. Правильно, кому нужны лишние проблемы?
Но мать уже старая, на ее пенсию вдвоем не проживешь, тем более что Смышляеву хочется не овсянки, а покурить и выпить. Пришлось перебиваться ограблениями, и неизвестно, как много он успел накуролесить, прежде чем его остановила Тиходольская.
Не спросишь теперь у него, сколько нераскрытых преступлений на его совести.
Нехорошо так думать, цинично, но мир не погрузился в траур после смерти Смышляева, а совсем наоборот.
Соседи по коммуналке готовы ноги целовать Ульяне Алексеевне, и даже старушка-мать… Нет, мать есть мать, но, насколько можно судить по протоколу допроса, в отчаяние она не впала.
И все же Ирина испытывала что-то вроде сочувствия или жалости, что человек так бездарно прожил хорошо начавшуюся жизнь. В чем, интересно, состояло его первое преступление? Хладнокровное убийство или банальная драка на танцах, где непонятно, кто прав, кто виноват?
К сожалению, система так построена, что если уж прикусит, то вырваться от нее потом практически нереально.
* * *
Гарафеев с удовольствием втянул носом аромат свежей, только что порезанной зелени. Жена приготовила обожаемую им окрошку, и Игорь Иванович облизнулся, но вспомнил, что они теперь без пяти минут чужие люди и питаются каждый сам за себя.
На пороге кухни он развернулся – лучше вообще не заходить, чтобы не расстраиваться, но жена окликнула его:
– Гар, окрошку будешь?
– Нет.
– Садись, я тебя приглашаю.
– В чем подвох?
– Просто приглашаю тебя отведать окрошечки. Если мы разводимся, это еще не значит, что я не могу тебя угостить.
Гарафеев молча сел. Жена поставила перед ним глубокую тарелку, полную восхитительно ароматной окрошки. В центре светилась половинка яйца, а от растворяющейся сметаны шли маленькие пузырьки.
– Волшебно, – сказал Гарафеев и заработал ложкой.
– Горчички?
– С удовольствием.
– Приятного аппетита.
– Спасибо.
– А ты не боишься? – засмеялась Соня.
– Чего?
– Вдруг я хочу тебя отравить?
– Судьба, значит, такая, – фыркнул Гарафеев.
Соня села напротив и тоже стала есть.
Сколько было таких окрошек в их жизни, не сосчитать. Как только в магазине появлялась редиска, Гарафеев хватал трехлитровый бидон и бежал к бочке за квасом. Всегда к ней была тихая молчаливая очередь из детей и старушек, а настоящие мужики стояли за пивом, и там можно было очень душевно пообщаться.
Когда Гарафеев выходил с маленькой Лизой в коляске, то в квасной очереди стоял на общих основаниях, но стоило подойти к бочке с пивом, мужики начинали подвигаться и махать «О, нянька! Пропустите няньку!»
Сегодня, значит, Соня сходила за квасом сама…
– Так здорово пахнет летом, – улыбнулся он.
– Да уж. Ах, как я мечтала, что когда-нибудь буду с собственной грядки все это рвать…
– Да?
– Представь себе! Больше мне ничего в жизни так не хочется, как свою дачу, чтоб в земле копаться.
– А что ж ты мне не говорила никогда?
– А смысл? Все свои проблемы я всю жизнь вынуждена была решать самостоятельно.
– Может, я тоже хотел.
– И все наши общие проблемы я тоже всегда решала сама. Что тебе говорить, что стенке – результат одинаковый.
– Соня, но я не такой уж был ужасный муж. Отдавал тебе все деньги и меньше чем на полторы ставки не работал никогда.
– И что же у нас в сухом остатке? – жена засмеялась фальшиво и язвительно. – вот эта роскошь?
– Вообще-то люди в коммуналках живут.
– И на шикарных дачах тоже люди живут. Мог бы и подсуетиться, найти нормальное место, а не рвать задницу за три копейки. Вот Белоглазов…
– Не начинай. Белоглазов – конъюнктурщик.
– А ты у нас такой бескорыстный, дело прежде всего.
– Да, прежде всего.
– Ну вот когда ты думаешь только о деле, то только оно и делается, а ты сам как сидел в заднице, так и сидишь. Себя тоже нельзя забывать, особенно когда у тебя семья. Ты думаешь, мне степень доктора наук прямо позарез была необходима?
– Думаю, что да.
– А вот и нет! Я старалась только ради вас с Лизой. Только для семьи.
– А я думал, что диссертации пишут ради научного прогресса, – буркнул Гарафеев.
– Вот из-за таких идиотских идей ты и сидишь там, где сидишь! Жил как хотел. Жена пять лет в одних сапогах, дочь в обносках – плевать, главное, чтобы какой-нибудь алкаш не окочурился. Вот истинно достойная цель!
Гарафеев промолчал.
– Ладно, извини, – сказала Соня, – раз мы все равно разводимся, то нечего ругаться. Прости, если испортила аппетит.
– Все в порядке, – примирительно вздохнул Гарафеев. – Аппетит к такой окрошке ты ничем не перебьешь.
– Еще тарелочку?
– А давай.
Гарафеев предвидел, что скоро в животе начнет булькать, но останавливаться не стал.
Жена улыбалась, глядя, как он ест, и Гарафеев отложил ложку:
– Слушай, Сонь, ты если хочешь ругаться, то давай.
– В смысле?
– Ну ты никогда раньше мне не говорила, что я ничтожество и неудачник.
– Такое нельзя говорить своему мужику.
– Но тебя ж распирало, верно?
Соня кивнула.
– Так говори. Все, что накипело.
– Зачем?
– Просто как-то глупо разводиться с целыми нервами. По идее достойная женщина не должна выпускать мужика на свободу, пока не сожрет весь его мозг.
– Твоим мозгом сыт не будешь.
– Чем богаты… Но я да, наверное, был совсем не такой хороший муж, как о себе понимал. Может, и врач не такой хороший… Действительно, помру – и что обо мне будут вспоминать? Что болтался тут один придурок, как пришел после института рядовым врачишкой, так всю жизнь и просидел, пока не сдох на рабочем месте. Ничего не достиг.
– Я сейчас заплачу.
– Правда?
– Нет. Просто ты подвижник, Гар. Это достойно и вызывает восхищение, но подвижник должен быть одинок.
Гарафеев кисло улыбнулся.
* * *
Вернувшись домой, Ирина без сил опустилась на низенький пуфик. Последнее время ей стало тяжело ходить на каблуках, но она крепилась, не сдавала позиции. Было страшно, что, если сейчас перейти на удобные тапочки, нога разобьется, а то и, о ужас, вырастет на целый размер (Ирина слышала, что беременность выкидывает с женщинами подобные страшные вещи). У кого выпадают зубы, у кого – волосы, а у других, наоборот, вырастают, где не надо, кто-то превращается в аэростат, по крайней мере, живот точно перестает быть нежным и упругим, ну а про грудь уж и говорить нечего. Егор нисколько не забрал у нее красоты, но вторая беременность после тридцати не будет так снисходительна.
Пока с Ириной не происходило таких жутких перемен, но она страшно этого боялась, ведь ей так важно оставаться красивой и желанной для мужа, который сам красавец, да еще и моложе почти на пять лет.
Прислонившись к стене, Ирина закрыла глаза. На кухне что-то жарилось, пахло перцем и слышно было, как шкворчит масло. Вдруг зашипело – это Кирилл бросил мясо на сковородку.
Он, кузнец, по профессиональной привычке всегда раскалял посуду до температуры плавления и вообще готовил гораздо лучше, чем Ирина, до брака с ним считавшая себя великолепной кулинаркой.
Ирина пригорюнилась. Скромный скучный быт работающей женщины. Нет у нее сил ни на крахмальные салфеточки, ни на пироги, ни на три салата каждый день. Чистый пол и обед на два дня – вот ее максимальный максимум. А суп – на три, если быть точной.
В маленькой квартирке тесно, а скоро станет еще теснее, а размен даже не начинался. У нее нет сил, а Кирилл целыми днями на работе, плюс левые заказы у него (о которых она как представитель закона ничего не знает и даже не подозревает).
Он муж, добытчик, приносит в семью очень немаленькие деньги и вправе рассчитывать, что все остальное обеспечит подруга жизни, а в реальности все наоборот. Нерадивая подруга приползает позже мужа к готовым котлетам.
Позор! Нет, надо срочно решить хотя бы жилищный вопрос, чтобы до родов переехать.
Она будет занята с малышом и не сможет обслуживать Кирилла лучше, чем сейчас, но хоть бедному парню не придется приходить в крошечную коробочку, увешанную пеленками и ползунками. Эта маленькая двушка, плюс комната Кирилла, плюс доплата, которая у них образовалась очень приличная, плюс гараж он хочет продать… Выходит на все про все шикарная трешка, и уже через месяц можно в ней поселиться, только надо приложить немного усилий. Есть вообще простой вариант – соседки Кирилла готовы выехать из своих комнат, если им предоставить каждой по однушке. Тогда и гараж можно оставить себе, хотя Ирине очень хотелось его продать. Из принципа.
Тоже ситуация – пример необходимой самообороны. Когда-то в незапамятные времена после смерти отца Кирилл пустил в свой гараж папиного близкого приятеля Коркина. Это был дружеский жест, никаких денег Кирилл не брал, пустил просто из добрых чувств и чтобы помещение не простаивало.
Приятель пользовался активно, забил гараж разным барахлом и так уверенно стал считать его своим, что ни разу не предложил Кириллу выкупить его или хотя бы подновить за собственные деньги.
После свадьбы Кирилл заикнулся, что хотел бы продать гараж или вернуть его себе, чтобы перевезти с дачи свою доморощенную студию звукозаписи, ибо не с руки устраивать оргии там, где отдыхают жена и дети.
Приятель отца не только огорчился, но и обрушил на Кирилла град упреков в меркантильности и мелочности, ах, не думал я, что сын Венечки вырастет таким мещанином, и прочая риторика.
В результате Кирилл чувствовал себя виноватым, что выгоняет человека босым на мороз, а что разрешал этому человеку двенадцать лет бесплатно пользоваться своей недвижимостью, совершенно выветрилось у него из головы.
…Кажется, она задремала, потому что очнулась уже босая у Кирилла на руках. Он уложил Ирину на диван и сунул под ноги валик.
– Устала?
Ирина улыбнулась.
– А ты Егора из садика забрал?
– Естественно. Он просто так погрузился в Шерлока Холмса, что ничего не видит и не слышит.
Ирина улыбнулась.
– Не хотел я в эти выходные ехать на дачу, но, видимо, придется.
– Зачем?
– За следующим томом.
Ирина развела руками.
– Надо так надо.
Хорошо быть за городом, самой дышать свежим воздухом и надышивать Егорку и будущего малыша, но Ирина все еще не могла освоиться, что она на этой даче хозяйка.
Да, срочно, срочно надо решать с обменом, потому что получается, что и Кирилл чувствует себя в ее квартире гостем. Немедленно найти надежного маклера, для гарантии десять раз повторить ему, что она работает судьей и в случае чего из-под земли его достанет, и переезжать.
– Давай такси закажем, – сказал Кирилл.
– В смысле?
– Поедем на такси, а то в твоем положении тяжело трястись в электричке.
– Это во столько встанет, что проще еще одну дачу купить.
– Можем себе позволить.
Угрызения совести погнали Ирину с дивана, но Кирилл мягко удержал ее на месте:
– Лежи, лежи.
Она закрыла глаза. Интересно, а если…
– Слушай, а позвони Коркину, – пробормотала она, – попроси, пусть отвезет твое семейство, раз уж пользуется твоим гаражом.
Кирилл рассмеялся.
– Позвони просто ради эксперимента.
– А то я давно о себе гадостей не слушал.
– Вдруг отвезет.
– Да ну…
– Мне для дела. Один момент хочу просто уточнить.
Кирилл вышел и через секунду раздался шум крутящегося наборного диска телефона.
– Алло, это Кирилл… Николай Матвеевич, а вы не могли бы мне помочь?.. Мне бы жену и сына отвезти на дачу… Она в интересном положении… Да почему я превращаю вас в прислугу?.. При чем тут личный шофер?.. Хорошо, извините, если обидел. До свидания.
Ирина улыбнулась. Все ясно, и все так, как она думала. Как в анекдоте про Штирлица, запоминается последняя фраза. Что использовано, проедено, то не считается.
Подумаешь, гараж! Это уже в прошлом, а сейчас с какого перепугу я должен куда-то везти его хозяина?
Последная точка – человек убит. Вот в чем суть. Значит, его убийца должен быть наказан, а что жертва за десять минут до этого влезла в чужой дом и пыталась совершить изнасилование – это уже не так важно. Главное, теперь злодей стал жертвой и грехи его списаны.
Тут Ирина спохватилась, что ей надо не мыслить философскими категориями, а уточнить прозаический организационный момент.
– Кирюш, а ты знаешь такого Станислава Суханова?
– Дохлого?
– Два часа назад он был вполне себе живой…
Кирилл засмеялся:
– Кликуха у него Дохлый. Ты ж его видела? Глиста в беде.
Ирина улыбнулась. Действительно, молодой человек был, что называется, хрупкого сложения. Невысокий, узкоплечий, кажется, некрасивый лицом, но об этом трудно судить из-за бороды. Уши смешные, топориком, а глаза хороши.
– А еще его так зовут, потому что он в своем творчестве много внимания уделяет смерти и потустороннему миру, – продолжал Кирилл, – но пусть его хилый вид не вводит тебя в заблуждение, лучше к нему не задирайся.
– В смысле?
– Мы с ним как-то мерились на руках, и я одолел его с большим-большим трудом. А ты откуда его знаешь? – Кирилл нахмурился. – Неужели влетел?
– Наоборот. Нарзас у меня.
– Да иди ты! Дохлый – заседатель? Мир перевернулся, что ли? Это ж такой диссидент, что хуже его искать будете – не найдете!
– Вот видишь, демократия наступает.
– Прикол! Можно я мужикам расскажу?
– Ты мне лучше расскажи, насколько близкие у вас отношения, потому что если вас много связывает, то мне лучше передать его другому судье.
Кирилл пожал плечами:
– Так, болтаем при случае.
– Точно? Ни конфликтов, ни общих дел нет у вас?
Кирилл покачал головой.
– Точно-преточно? – наседала Ирина. – Он вроде бы симпатичный парень, и второй заседатель у меня тоже хороший в этот раз. Такой милый дядечка, похожий на затрапезного Бельмондо, врач по специальности. И главное, что они оба не хотели быть заседателями, а это очень важно.
– Да? Почему?
– Не знаю почему, но только я ни одного приличного человека не встречала среди тех, кто рвался на судейское место.
– А ты сама тогда как там оказалась? – засмеялся Кирилл.
Ирина фыркнула:
– Да черт его знает… Как говорил Городничий в «Ревизоре», так уж видно судьба! Предложили, а я пошла, потому что от дома недалеко. Я ведь, Кирилл, в те годы вообще о карьере не мечтала.
– Слава богу, что так! Я как подумаю, что, если бы не ты, так меня уже в живых бы не было… Бррр! Ведь расстреляли бы уже, наверное?
Ирина вздрогнула и изо всех сил обняла мужа. Она так редко вспоминает, что ему пришлось пережить обвинение в серии убийств, заключение и суд. Несколько месяцев он ждал смертного приговора, и это оставило в его душе глубокую рану. А она хочет знать только, какая она молодец, разобралась во всем и оправдала его.
– Так расстреляли бы? – глухо переспросил Кирилл.
– Наверное, да. Но ты забудь, пожалуйста. Это прошло, как сон, и больше не вернется, и нас с тобой не должно тревожить.
– Зато я познакомился с тобой.
– Знаешь что, Кирилл?
– Что?
– Ты сейчас врешь. Камера смертников – слишком большая цена даже за Елену Прекрасную.
Кирилл засмеялся:
– Из любой ситуации надо извлекать максимум пользы.
– Ладно, сейчас другое на повестке дня – твои отношения с Сухановым. Какие они?
– Скажем, не такие близкие, как мне бы хотелось. Он – талантливый парень, настоящий поэт…
– Как ты?
– Ир, я попроще, а он серьезный поэт, и по форме, и по содержанию.
– Странно, я ведь знаю всю вашу банду, но о нем ничего не слышала и не подумала бы, что он у вас крутится, если бы он сам не спросил, жена ли я того самого Мостового. Кстати, привет тебе от него горячий.
– Спасибо. Ты тоже передай. О нем мало кто знает, потому что Дохлый сам не поет, только пишет тексты, и вообще его восемь месяцев в году не бывает в городе.
– Что так?
– Он, Ирочка, то, что называется человек трудной судьбы, такой, что Диккенс, как узнал бы про него, тут же схватился бы за перо. Сказал бы: «Обедать сегодня не буду. Несите бумагу» – и настрочил бы минимум двухтомник. Стасу едва минуло восемнадцать, как родной отец проклял его и выставил из дома.
– О господи! За что же это?
– Да за наши мутки. Его папан не кто иной, как Михаил Суханов, певец колхозов и советской власти, коммунист до мозга костей и костей мозга.
– Хороший писатель, между прочим.
– Да, любим народом, – сказал Кирилл таким тоном, что Ирине стало стыдно за свои плебейские вкусы.
Она все-таки встала и, быстро переодевшсь в домашнее платье, вернулась в кухню доделывать ужин. Заглянула к Егору. Сын сидел за письменным столом, поджав под себя ноги, и ни на что не реагировал, так погрузился в книгу. Надо радоваться, ведь другие родители глаз готовы отдать, лишь бы приучить ребенка к чтению, а ей вдруг стало не по себе.
Ирина тряхнула головой, отгоняя эти странные мысли. Пусть читает, осенью в первый класс, и там он будет просто звезда на фоне ребят, с трудом складывающих «мама мыла раму». А хорошо ли это? Егор ведь и считает отлично, так что с первых дней привыкнет, что школа – это очень скучно и совсем не трудно. Пусть дети водопроводчиков научатся читать только в третьем классе, но зато они приобретут важный навык – прилагать усилия к учебе. А Егор как привыкнет, что ничего не надо делать, так и не приучится стараться.
Надо попробовать отдать его сразу во второй класс, кстати, и лишний год будет в запасе для поступления, чтобы в армию не идти. Эх, хорошо бы заседателем какую-нибудь дуру из РОНО прислали, чтобы с ней договориться…
Но сын знаменитого писателя тоже неплохо. Надо же… Ирина усмехнулась. Михаил Суханов, то, что называется, живой классик, он, с одной стороны, издается большими тиражами, а с другой – книг его в магазине не достать. И в библиотеке не вдруг возьмешь, а после того как вышел многосерийный фильм, вообще записываться надо. Кирилл зря смеется, в произведениях Суханова не один сплошной коммунизм, а нормальные человеческие чувства, любовь, интриги… И язык хороший, в общем, интересно почитать.
Жалко, что отец проклял сына, иначе можно было бы поклянчить книжечку. Это же литература, ее просить не стыдно.
– А он прямо окончательно и бесповоротно проклял, – осторожно спросила она, садясь чистить картошку, – прямо по-настоящему?
– Ир, если человека прямо из теплого гнезда выкидывают в коммуналку и предлагают ему жить от собственных трудов, это по-настоящему или нет?
– Ого! Он же еще мальчик был.
Кирилл пожал плечами:
– Восемнадцать лет, совершеннолетний. Сама подумай, на папином продукте воспитывают молодежь, прививают ей любовь к труду и к родине, березки всякие там, трудодни, хлеба налево, хлеба направо, и вдруг в собственном доме этого трубадура режима вырастает такое чучело в заклепках и заявляет, что все ценности, которыми папа кормит народ, не более чем муть голубая и чушь зеленая. Естественно, терпеть подобное невозможно, особенно когда ты секретарь союза писателей, каждого из которых трясет при мысли о твоей славе и успехах. Оглянуться не успеешь, как окажешься в центре дискуссии на тему: «Имеет ли право быть инженером человеческих душ человек, не сумевший спроектировать собственного сына? Можно ли доверить его руке социалистическое перо?»
– Не преувеличивай. Сейчас не те времена.
– Зато люди те.
Ирина опустила глаза на картошину, которую держала в руках. Обычно она не слишком старалась, срезала шкурку толсто, лишь бы поскорее, но при Кирилле надо показать свои таланты – чтобы кожура вилась, как серпантин, одной струйкой.
Картошка была сизая, вялая, с множеством белых проростков и вся в черных пятнах после зимовки. Противно, но молодая только на рынке. Не выращивают ее воспетые Михаилом Сухановым колхозники.
К сожалению, Кирилл прав. Люди всегда «те»: есть плохие, есть хорошие, вопрос только, что позволено плохим, что разрешено делать, чтобы отпихивать ближних от кормушки.
Слава богу, не расстреливают сейчас, но демагогией затоптать человека – почему нет?
На гнилом западе критерий один – прибыль. От этого слова принято кривиться и открещиваться, гнаться за нею очень позорно, особенно для интеллигентного человека, особенно в искусстве. Какие деньги, о чем вы, когда речь идет о формировании человеческой души? Мы ценим людей, воспитываем из них настоящих строителей коммунизма и не собираемся ради денег засорять им головы разным хламом, ничего общего с искусством не имеющим.
На первый взгляд, правильный подход, но где-нибудь в Штатах всем было бы глубоко плевать, что за дети растут у Суханова, пока его книги покупаются. Да хоть с рогами и хвостом, не страшно. Он приносит прибыль, и на этом точка. У нас не то. Взять хоть Высоцкого – на нем можно было делать деньги не меньшие, чем на водке. Проклятые капиталисты без передышки штамповали бы его диски и сборники стихов, снимали фильмы-концерты, в общем, эксплуатировали человека на всю катушку, что ему поесть бы некогда было, не то что пить. У нас – вежливый нейтралитет, несколько пластинок и выступлений на телевидении, а книга ни одна так и не вышла. Хорошо хоть магнитофоны изобрели, и Высоцкий сохранился для следующих поколений, а иначе так бы и канул.
Какими соображениями люди руководствовались, бог знает, только явно не экономическими.
А вдруг я разрешу записать пластинку, а Иван Иванович будет недоволен, испугается гнева вышестоящего Ивана Никифоровича?
И так по эстафете передается страх и парализует хоть талантливого поэта, хоть ученого-новатора.
У проклятых капиталистов такие вопросы решаются просто. Иван Иванович разгневался, вызвал на ковер, а ты ему справочку – смотрите, тираж весь раскуплен, и люди требуют еще. Прибыль составила двести процентов. И недовольство начальника как рукой сняло.
А у нас деньги – не аргумент, поэтому действительно какая-то феодальная лестница, как называет социалистический строй Кирилл.
– Жаль, – вздохнула Ирина, – я не такая утонченная натура, как ты, и мне книги Суханова-старшего очень даже нравятся. Поэтому очень жаль узнать, что он оказался такой козел и трус.
Кирилл пожал плечами и достал из холодильника наливной розовый помидор, явно с рынка.
– Да тут у меня как раз к папаше претензий нет, – протянул он и неуловимым движением ножа разъял помидор пополам. Обнажилась плотная зернистая мякоть, и в кухне запахло югом.
– Как это нет?
– Суханов-пэр сделал лучшее, что может отец сделать для сына, – улыбнулся Кирилл, – мой дом – мои правила, так что или соблюдай, или живи своим домом. Интересное дело, сыночек ищет себя, а папа должен подставляться?
Ирина поежилась.
– Не знала, что ты такой жестокий.
– Ира, жестоко было бы оставить ребенка при себе и ломать его через колено. Я это не просто так говорю, поверь. В тех кругах, где я обычно вращаюсь, таких протестантов вагон и маленькая тележка, и большинство из них со своими предками, как боксеры в клинче. Родители не отпускают от себя и не дают быть самими собой, а дети хотят жить как хотят, но не могут оторваться от родителей. В итоге затяжной конфликт, буря в стакане воды, энергия уходит в пустоту совершенно бесполезно.
А ведь и правда, подумала Ирина. Какой смысл в протесте, если тебе гарантирована крыша над головой, мягкая постель и вкусный ужин? Какая разница, как ты выглядишь, что слушаешь и читаешь, если ты ничем при этом не рискуешь? А родители зачем мотают нервы выросшим детям, если дают им еду и кров?
Забавный парадокс: когда дети маленькие, мы с таким удовольствием пугаем их, что отдадим бабайке или милиционеру, или обменяем в детском доме на более послушного ребенка. Вряд ли найдется в Советском Союзе малыш, который ни разу не получал такого ультиматума: или немедленно прекратить, или отправляться жить на улицу. Но время идет, дети подрастают, и когда действительно приходит пора им жить самостоятельно, мама с папой не спешат отпускать их.
Он еще такой наивный, неопытный, не готов… Но ведь не научишься плавать, пока не войдешь в воду, и самые важные вещи невозможно отрепетировать.
Когда ребенок рождается, необходимо перерезать пуповину. Вероятно, нечто подобное следует сделать и когда он взрослеет.
В мозгу интеллигентной мамаши вроде нее Суханов-старший рисуется зловещей фигурой масштаба Тараса Бульбы, пожертвовавшего сыном ради своих интересов, но если посмотреть с другой стороны… Всегда есть другая сторона.
Стас Суханов живет насыщенной интересной жизнью, полной приключений, хорошо зарабатывает, исходил всю страну, нашел какие-то месторождения чего-то (у Ирины со школы было неважно с географией) и стал, по словам Кирилла, настоящим поэтом.
Диплома о высшем образовании нет, но разве в нем суть? Парень еще молодой, еще выучится, если захочет.
А какая судьба ждала бы со смелым и самоотверженным папашей, не убоявшимся суда коллег по цеху? Учеба на филфаке с пятого на десятое, прогулы, «мам, мне ко второй паре», бессмысленные склоки с отцом по поводу мировоззрения и внешнего вида, словом, затянувшееся до сорока лет детство, плавно перетекающее в старость.
Ирина поставила кастрюлю с картошкой на огонь и посолила. Надо бы дождаться, пока закипит, но она вечно забывала. Лучше сразу.
Прислушалась. Егор так и сидел у себя в комнате.
Господи, только бы ей хватило разума и мужества поступить с сыном по справедливости. Отпустить в свободное плавание и в то же время не лишить того, что ему полагается.
Она покосилась на Кирилла, который с сосредоточенным видом заглядывал под крышку сковородки и что-то там вынюхивал. И тут Ирина впервые подумала, что он, такой хороший, рассудительный и добрый мужчина, все же не отец Егорке. Сможет ли он не делать разницы между детьми, когда родится его родной ребенок? Не задвинет ли Егора, не заставит ли Ирину под видом самостоятельности ущемлять его интересы?
От этой гадкой мысли Ирину затошнило, она опустилась на табуретку и чуть не заплакала.
* * *
Гарафеев внезапно понял, что у него хорошее настроение, и удивился, как это может быть, когда ему предстоят развод и крутые перемены в жизни.
Только мягкий светлый вечер не располагал к грусти. Солнце ушло с горизонта, но все еще тормошило Гарафеева своими лучами, будто било по плечу, как близкий приятель: «Эй, очнись! Соберись! Ты еще молодой, не заглядывай в свою могилу раньше времени!»
И рассыпало блики по искоркам гранитного парапета, и по мелким волнам Обводного канала, будто смеялось над его тоской, и Гарафеев не выдержал, тоже засмеялся.
Сегодня был первый день его заседательства. Сначала ему совершенно не понравилось, а потом ничего. Судья оказалась очень милая молодая женщина в ожидании прибавления семейства, а второй заседатель – молодой обормот, выглядевший так, будто только что сбежал из скита в поисках истины. В общем, законопослушный Гарафеев представлял себе народный суд совсем иначе. Солиднее и монументальнее уж точно.
Судья сказала, что им предстоит рассмотреть нашумевшее дело Тиходольской и она рада, что в составе суда есть медицинский работник. Коллеги-врачи должны знать, что процесс идет открыто, честно и непредвзято. Потом она спросила, не связывают ли Игоря Ивановича и Тиходольскую какие-то личные отношения, потому что в таком случае ему необходимо взять отвод.
Гарафеев замялся, хотел соврать, что да, и соскочить, но тут выяснилось, что тогда его не освободят от общественной нагрузки, а всего лишь отдадут гражданскому судье разбирать разводы, а этого Гарафеев вынести не мог.
Он признался, что слышал о беде Тиходольской и даже подписал коллективное письмо в ее защиту, но сам никогда ее не видел, лично не знал и вообще не вникал в подробности.
Вот если бы бедную Ульяну Алексеевну судили за халатность, тогда совсем другое дело, тут бы он разобрался, а так…
У него не было даже внятной гражданской позиции по поводу необходимой самообороны.
Каждый случай надо рассматривать отдельно, считал Гарафеев, это касается и преступников, и больных.
Пока что он точно знал только одно – сам бы он никогда не полез в чужую квартиру и не стал овладевать женщиной насильно, так что логику Смышляева ему не постичь.
Мимо, балансируя на прямых ногах, проехала девчушка на роликовых коньках, следом – мальчик помладше на детском велосипеде. Прикрученные для равновесия маленькие синие колесики шумно скребли по асфальту. Гарафеев посторонился и посмотрел детям вслед.
Если уедет в другой город, то внуки будут расти без него. Не он отвинтит колесики у велика, и не он побежит рядом, страхуя. И не он скажет, что надо пружинить в коленках, когда катишься на коньках или роликах.
Одинокий старый хрыч… Нет, можно найти женщину, но это будет совсем не то. Любовь или нет, а все рецепторы его центральной нервной системы заняты Соней, он так сроднился с нею, что не мыслит себя рядом с кем-то другим.
Гарафеев облокотился на парапет и зорким глазом разглядел на другом берегу вывеску известного и довольно жуткого пивного бара. Сизый воздух, липкие столы, томящиеся души, короче классика жанра. Не пойти ли туда, утопить свои невзгоды в кружечке пенного, и доставить Соне радость думать, что она, умница такая, разводится не только с ничтожеством, но еще и с алкашом?
– Вот ты где, – сказала Соня, становясь рядом, – а я жду, жду тебя во дворе…
Сердце екнуло.
– Все живы-здоровы, не волнуйся. Я просто хотела тебя предупредить, что Лизочка вернулась домой.
– В смысле?
– Она поссорилась с Володей и пока поживет дома.
Гарафеев нахмурился:
– Что случилось?
– Ой, она не говорит, но я так поняла, что ничего особенного. Обычные размолвки, ты же знаешь, как оно бывает.
– Нет, Соня, я этого не знаю, – замотал головой Гарафеев. – Мы с тобой никогда не разбегались.
– Некуда просто было бежать, – вздохнула Соня. – Пусть поживет пока у нас, остынет, соскучится, Володя тоже придет в себя…
– Так пусть.
– И вот что, Гар. Ей пока не надо знать, что мы разводимся.
– Почему?
– Все равно нам с тобой пока придется жить в одной комнате, так зачем показывать девочке плохой пример? Наоборот…
– Я понял, – мрачно перебил Гарафеев, – папа, мама, я – спортивная семья.
– Именно. Если у нее перед глазами будет образец счастливой семейной жизни, она быстрее одумается.
Гарафеев пожал плечами.
– А ты, кстати, кому говорил, что разводишься?
– Витьке только.
– А маме?
Он отрицательно покачал головой.
– Что так? – засмеялась Соня. – Почему не порадовал старушку, что дворняжка наконец отстанет от вашей стаи породистых собак?
– Зачем так говорить? Она хорошо к тебе относится, – сказал Гарафеев без особой, впрочем, убежденности. Его мама действительно происходила из старинного дворянского рода и была слегка сдвинута на чистоте крови, генеалогии, особой миссии аристократии и всякой подобной архаичной чуши. Отец тоже был из дворян, но не из таких, как мать, поэтому она считала свой брак мезальянсом.
Когда Гарафеев представил Соню в качестве невесты, мама приняла ее благосклонно, но так, будто девушка нанималась в кухарки, а не готовилась стать членом семьи.
И Соня этого не забыла, только расстояние и редкие встречи позволили дамам сохранять видимость теплых отношений.
– Скажу по факту, если разведемся.
– Не если, а когда.
– Ладно. Кстати, по дворянскому этикету жена никогда, ни при каких обстоятельствах не должна возвращаться в дом родителей, если поссорится с мужем.
– Серьезно?
– Представь себе. Это позором для всех считалось.
Соня ощетинилась:
– Ты предлагаешь не пускать нашу дочь домой?
– Нет, конечно. Просто говорю, как раньше было.
Они двинулись в сторону дома.
– Давай погуляем? – предложил Гарафеев.
– Поздно уже, – вздохнула Соня, и он не понял, относилось это ко времени суток или к их жизни вообще, а переспрашивать не стал.
* * *
Выпускной костюм сидел как влитой, но Стас все равно чувствовал себя в нем неуютно. Ботинки, которые ему купила мама по чекам, сильно жали, хоть и была такая фирма, что дальше некуда. Мама сказала, что он просто привык к кедам, и надо всего лишь немного дисциплинировать ногу. Что ж, Стас проходил в новых ботинках все воскресенье, но они не стали от этого удобнее.
Утром выяснилось, что у него нет рубашки под костюм. Галстук какой-то валялся, скрутившись так, будто ждал, когда хозяин изволит на нем повеситься, а сорочки не было.
Пришлось надевать под пиджак клетчатую ковбойку, и весь день Стас пытался забыть, что выглядит как идиот.
После суда он собирался домой, но с полдороги передумал и, прихрамывая, поехал к Леле.
Он не стал звонить ей из автомата и тем более подниматься к ней, а снова сел на качели во дворе, гадая, выйдет или нет.
Она вышла в чем-то строгом, с тугой прической.
Стас вскочил, теплея от радости, а Леля опустилась на качели и слегка оттолкнулась от земли.
Стас чуть тронул раму, а потом вдруг вспомнил, как она любила качаться в детстве, летала так, что вся конструкция ходила ходуном.
Он встал на приступочку для ног, оттолкнулся и принялся сильно раскачиваться. Леля закрыла глаза.
Вспомнилось, как она в детстве называла себя девочкой-летчицей и крутила «солнце» к ужасу взрослых, а один раз упала так, что расшиблась бы насмерть, если бы папа не подхватил ее.
– Помнишь, как ты свалилась с качелей? – спросил Стас.
– Да. Я тогда специально отпустила руки.
– Зачем?
– Мне показалось, что полечу. Но я ошиблась, – усмехнулась Леля.
Стас наддал силы, отчего угол опоры качелей чуть оторвался от земли и тут же со стуком опустился обратно.
Детей на площадке уже не было, но вышла бдительная пенсионерка с собачкой и накричала на них, что они, дылды, ломают народное добро.
Стас стал раскачиваться тише, но пенсионерка все смотрела и смотрела на них, так что пришлось уйти.
– Лель, дойдем до галантереи, купим мне рубашку?
– Уже закрыто все.
– Жаль. Опять завтра в суд как дурак пойду.
Они тихо шагали по улице, застроенной одинаковыми домами из серого кирпича. Угол одного из них оплетал густой плющ, а больше ничего тут не было интересного, кроме булочной, уже закрытой, но все еще пахнущей свежим хлебом.
Пройдя чуть дальше, они оказались возле глухого забора строительного комбината. Там тоже было тихо, кран задирал свою стрелу в жемчужно-серое небо, словно в недоумении, а из щелей в заборе пробивались наглые лопухи.
– Ну мы и забрели, – сказал Стас.
Леля пожала плечами, и он на всякий случай предложил ей свой пиджак.
– А где кепочка и гармошка?
– Ну извини.
– Хочешь, дам тебе папину рубашку?
– Неудобно.
– Нормально, папа только порадовался бы.
Стас кивнул. Лелин отец был действительно классный дядька. В начальной школе все мальчишки страшно завидовали, что ее папа – настоящий адмирал, с орденами и кортиком. В памятные даты его приглашали выступать перед пионерами, и никогда это не оборачивалось нудной обязаловкой.
Классе в шестом или пятом Стас как раз пытался примирить детскую жажду героизма с детским же страхом смерти, мучительным и острым. Эти переживания казались ему такими стыдными, что он никому в них не признавался, держал в себе, и оттого они в десять раз сильнее его терзали.
И тут на очередную встречу с ветеранами пришел папа Лели и сказал, что страх – это нормально, что все боятся, но выживает тот, кто умеет победить в себе страх. Он рассказал о своем товарище, который не был трусом, но волновался, как останутся после него жена и двое детей, и в критическую минуту не смог о них не думать, и поэтому погиб.
«Бойтесь на здоровье, потому что смелость нельзя просто так взять, как горячий пирожок, – улыбнулся адмирал, – но страх надо оставить на берегу», и Стас почувствовал, как ему становится легче.
После того разговора Стас не сделался безрассудным смельчаком и совсем бояться не перестал, но понял, что страх смерти забирает у человека жизнь. И еще одно понял – ничто не бывает так, как видится со стороны. И даже смерть не так страшна, как ему кажется теперь, хотя бы потому, что некому понять «меня больше нет» и этому ужаснуться.
– Я почел бы за честь надеть рубашку твоего папы.
– Да… Я думаю, хорошо, что он не дожил.
– До чего?
– А ты разве не знаешь?
Стас ничего не ответил.
– Знаешь…
– Это ничего не меняет.
– Это не может ничего не менять.
Они повернули назад к ее дому. Леля спросила, не обидится ли он, если подождет на улице, пока она сходит за рубашкой, а то мама после случившегося слишком нервно реагирует на мужчин в доме.
Стас кивнул.
– Зачем тебе это вообще? – вдруг зло спросила Леля.
Он пожал плечами.
– Я же в школе смеялась над тобой.
– Я этого не помню, Лель.
– Смеялась. Но я считала тебя гордым человеком.
– Я и есть такой.
– Да? Зачем же тебе теперь уцененка, бэ-у?
Стас поморщился.
– Помнишь такое слово из старых книг «порченая»? Вот я теперь такая.
– Ты дура, что ли, Леля?
– Даже мама со мной через силу разговаривает. Вроде жалеет, а все же чувствуется, что она будто брезгует мной. Но она мама, а ты-то чего время тратишь?
Стас осторожно взял ее за руку:
– Ты говоришь так, будто ты вещь, а ты человек и не можешь быть ни бэ-у, ни уцененкой.
Леля осторожно высвободила руку:
– Ладно, извини. Не нужно было поднимать эту тему.
– Наоборот. Я хотел притвориться, что ничего не знаю, просто думал, что тебе так будет приятнее.
– Я предпочитаю искренне.
– Ты права. Ты думаешь, что я был в тебя безнадежно влюблен в школе и так хотел обладать тобой, что теперь подбираю из грязи, так, что ли?
– Типа того.
– Это неправда, Лель. Ты ни в какой не грязи, а просто сильно пострадала.
Она усмехнулась.
– Ты один так считаешь.
– Ты знаешь, что я никогда не любил примыкать к большинству.
– Да, это я помню.
– Все наладится, Лель. Любые раны заживают.
– У живых, наверное, да. Только я чувствую себя мертвой.
Они вернулись во двор. Стас снова сел на качели и стал ждать.
Лели не было долго, так что он успел испугаться, что она совсем не выйдет, обидевшись на его молчание.
Но он действительно не знал, что ей сказать. У мужиков проще, пока дышишь, ты жив, а у женщин, наверное, все иначе.
На мужчину напали, избили, так он отряхнулся и пошел, и забыл об этом, как только перестали болеть ребра. И никто не считает его человеком второго сорта, не называет порченым. Ну отлупили, бывает, дело житейское.
Притом парень обычно получает за дело, а женщина – только за то, что она женщина. Да, официально не виновата, но жених бросает, а родная мать разговаривает через губу.
Наконец Леля вышла с газетным свертком в руках.
– Еле нашла среди форменных рубашек, – сказала она, – не «Монтана», но все же получше того, что на тебе.
– А это точно удобно?
– Конечно. Папа был бы рад, он к тебе очень хорошо относился.
Стас прищурился, вспоминая себя тогдашнего. Волосы до пояса, драные джинсы, наглый взгляд, вечная сигарета… К чему из этого мог хорошо относиться настоящий адмирал?
– Ты врешь, Леля.
– А вот и нет. Когда тебя выгнали из дому, он сказал, что ты мужик и чтобы я к тебе присмотрелась.
– А что ж ты не присмотрелась?
Леля развела руками.
Стас посмотрел вверх и в окне ее кухни заметил женский силуэт, но, возможно, ему просто показалось.
– Ты торопишься? – спросила Леля.
– Нет.
Они сели на скамейке возле клумбы, на которой росли анютины глазки и другая цветочная мелочь.
Стас снова взял Лелю за руку.
– Хочешь, я тебе стихотворение прочитаю?
– Твое?
– Нет. Гумилева. Вот послушай:
Только змеи сбрасывают кожи,
Чтоб душа старела и росла.
Мы, увы, со змеями не схожи,
Мы меняем души, не тела.
Память, ты рукою великанши
Жизнь ведешь, как под уздцы коня,
Ты расскажешь мне о тех, что раньше
В этом теле жили до меня.
Самый первый: некрасив и тонок,
Полюбивший только сумрак рощ,
Лист опавший, колдовской ребенок,
Словом останавливавший дождь.
Дерево да рыжая собака –
Вот кого он взял себе в друзья,
Память, память, ты не сыщешь знака,
Не уверишь мир, что то был я.
И второй… Любил он ветер с юга,
В каждом шуме слышал звоны лир,
Говорил, что жизнь – его подруга,
Коврик под его ногами – мир.
Он совсем не нравится мне, это
Он хотел стать богом и царем,
Он повесил вывеску поэта
Над дверьми в мой молчаливый дом.
Я люблю избранника свободы,
Мореплавателя и стрелка,
Ах, ему так звонко пели воды
И завидовали облака.
Высока была его палатка,
Мулы были резвы и сильны,
Как вино, впивал он воздух сладкий
Белому неведомой страны.
Память, ты слабее год от году,
Тот ли это? или кто другой
Променял веселую свободу
На священный долгожданный бой.
Знал он муки голода и жажды,
Сон тревожный, бесконечный путь,
Но святой Георгий тронул дважды
Пулею не тронутую грудь.
Я – угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле,
Я возревновал о славе Отчей,
Как на небесах, и на земле.
Сердце будет пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены Нового Иерусалима
На полях моей родной страны.
И тогда повеет ветер странный –
И прольется с неба страшный свет,
Это Млечный Путь расцвел нежданно
Садом ослепительных планет.
Предо мной предстанет, мне неведом,
Путник, скрыв лицо; но все пойму,
Видя льва, стремящегося следом,
И орла, летящего к нему.
Крикну я… Но разве кто поможет,
Чтоб моя душа не умерла?
Только змеи сбрасывают кожи,
Мы меняем души, не тела.
Леля пожала плечами.
– Видишь? Пройдет время, и ты изменишься.
– Допустим.
– Лель, ты живая, даже если и не чувствуешь себя живой, а значит, заживет потихоньку.
Она улыбнулась:
– В одном ты, наверное, прав. Жизнь все равно идет, даже если идет совсем не так, как хочется.
* * *
Ирина проснулась в три часа ночи от странного чувства в животе. Боль – не боль, но какое-то вздутие и дискомфорт в желудке. «Фу, как бабка старая», – вздохнула она, решив, что вечером зря поела чернослива.
Она повернулась на правый бок, свернулась калачиком, и сразу стало легче, все успокоилось, и Ирина заставила себя уснуть, потому что утром предстоял суд над Тиходольской, и она хотела если не отлично выглядеть, что на таком сроке беременности уже проблематично, но по крайней мере иметь ясную голову.
Встав утром, она не сразу вспомнила о ночной неприятности, пока не сварила кашу и не поняла, что не может проглотить ни ложки. Мысль о еде вызывала настоящий ужас.
Она испугалась, что вся семья чем-то отравилась, но Егор с Кириллом чувствовали себя отлично и уписывали завтрак за обе щеки. Глядя, как едят муж и сын, Ирина сначала умилилась, а потом ее вдруг стошнило, она еле успела добежать до туалета.
Вторая волна токсикоза, что ли, началась? Как некстати…
Но после рвоты стало легче, прошли дурнота и боль в желудке, и Ирина уверилась, что во всем виноват чернослив, который незачем есть, пока тебе не исполнится сто лет.
Кирилл часто выручал ее с Егором, но сегодня сын вдруг попросил, чтобы она сама отвела его в садик.
Ирина удивилась, потому что Егору вообще больше нравилось ходить с Кириллом, из которого детство еще до конца не выветрилось, и с ним можно было по дороге совершить много интересных подвигов, не поощряемых строгой мамой.
Она не любила опаздывать на работу, но внезапная нежность сына была приятна, и Ирина отвела его в сад, и все было хорошо, но по дороге к метро она почувствовала сильное желание послать все к черту, вернуться домой и лечь в постель, предоставив судить Тиходольскую своему начальнику.
Давка и духота в вагоне сегодня показались особенно мучительными, был момент, когда Ирина всерьез боялась упасть в обморок, но в автобусе ей удалось сесть возле открытого окна, она отдышалась, и стало полегче.
Подходя к суду, Ирина уже точно знала, что больна. С ней что-то не в порядке, а возможно, не только с ней самой, но и с ребенком.
Она растерялась, но быстро взяла себя в руки и приняла, как ей казалось, самое умное решение: не обращать внимания на свое состояние, работать как ни в чем не бывало, и тогда болезнь пройдет сама собой.
«Все что угодно, но этого ребенка я не могу потерять, – твердо сказала себе Ирина, – будем думать, что это все же чернослив».
Главное, голова больше не кружится и не тошнит, так что состояние вполне трудоспособное. Немножко познабливает, и живот ноет где-то внизу, ну так врач в консультации говорила, что это возможно. Матка растет, смещает органы. Надо терпеть.
А озноб вообще фигня. Она, как все мамашки, много сидела на больничном с ребенком, поэтому для себя никогда не брала, выходила на работу в любом состоянии. И с тридцатью девятью, бывало, а сейчас у нее максимум тридцать семь и пять.
Она зашла в туалет. Зеркало отразило какую-то зеленоватую бабу, которой не помог бы самый искусный макияж, поэтому Ирина не стала ничего поправлять. Чувствуя страшную сухость во рту, попила воды прямо из-под крана и отправилась в зал.
Ульяна Алексеевна оказалась на редкость привлекательной женщиной, причем ясно было видно, что красота щедро дана ей природой, а не является результатом усердной работы над собой.
Роскошные русые волосы уже слегка тронула седина, но Тиходольская их не красила, и даже не укладывала, а довольствовалась простым каре с обручем. Косметики на ней не было совсем, но краски в лице были такие живые, что Ирина почувствовала себя размалеванной куклой.
Темно-синее крепдешиновое платье отлично сидело на ее великолепной фигуре, чуть, может быть, слишком крепкой, чтобы считаться теперь эталоном красоты, когда все сходят с ума по дистрофии, но все равно подтянутой и привлекательной.
Да, «есть женщины в русских селеньях, с спокойною важностью лиц, с красивою силой в движеньях…» Будто про Ульяну Алексеевну, великий поэт Некрасов писал, ни прибавить, ни отнять.
Как судья Ирина не имела права на личное отношение, но одно знала точно: если бы попала рожать к Тиходольской, то сразу почувствовала бы к ней доверие и ни о чем больше не волновалась.
Живот так и ныл, но не особенно сильно, а иногда, приняв удобное положение, Ирина могла о нем и вовсе забыть.
Она провела предварительную часть, убедилась, что вызванные свидетели и эксперты прибыли, и обрадовалась. Если обвинитель не будет вредничать, то часам к четырем судебное следствие и прения закончатся.
Заседатели, кажется, нормальные мужики, проголосуют за оправдание без писка, в крайнем случае она им ткнет в нос своим положением, и они сделают все, как она велит.
Хоть в чем-то должно сегодня повезти!
Ульяна Алексеевна отказалась от адвоката, а обвинителем сегодня выступал Слава Марков, человек не злой и в хорошем смысле лояльный. Он запросил для Тиходольской два года исправительных работ.
Тиходольская сказала, что вину свою полностью признает и готова понести наказание, потому что она все-таки лишила человека жизни, хоть и защищая свою. Наверное, был способ спастись, не убивая Смышляева, и она должна была его найти.
– Хорошо, а сейчас вы видите такой способ? – спросил заседатель Гарафеев.
– Простите?
– Вы наверняка много раз прокручивали в голове случившееся. Так можете ли теперь сказать: а вот если бы я сделала так-то и так-то, то Смышляев остался бы жив?
Ульяна Алексеевна пожала плечами:
– Вы правы, я часто думала, можно ли было поступить иначе, но так и не смогла найти вариант, при котором мы оба оставались бы живы и здоровы, и моя дочь не попадала под удар.
Ирина улыбнулась ей. Она бы оправдала женщину прямо сейчас, но порядок есть порядок.
– Я виновата хотя бы в том, что открыла дверь, – сказала Тиходольская, – спросила бы, кто там, и ничего бы не случилось, а я, ворона, решила, что это дочь пришла из института. У нас принято звонить…
«Какая хорошая привычка, – подумала Ирина с симпатией, – встречают тебя, целуют, спрашивают, как прошел день… Надо бы и нам так».
Тут выдержка изменила Ульяне Алексеевне, голос ее задрожал, она достала носовой платок и принялась комкать его в руках.
Ирине стало жаль женщину, вынужденную снова переживать самый острый момент в своей жизни, да еще делать это публично.
Обвинитель дернулся, видно, хотел задать наводящий вопрос, но Ирина жестом остановила его. Тем временем Ульяна Алексеевна успокоилась и продолжила рассказ.
Как только она поняла, что впустила в дом грабителя, сразу предложила ему все наличные деньги и украшения, лишь бы только он убрался. Сначала Смышляева этот план будто бы устроил, он спокойно ждал, пока Тиходольская достанет свою заначку из банки с перловкой, а из трюмо – немудрящие колечки.
Когда злоумышленник положил добычу в карман, Ульяна Алексеевна обрадовалась, решив, что сейчас он уйдет и все закончится. Она не собиралась заявлять в милицию и вообще рассказывать, какой оказалась дурой, открыв дверь, не спросив, кто там.
Но какой-то бес толкнул Смышляева под руку, и он решил, что еще не все свои потребности удовлетворил в этом доме. Заявил, что не верит, будто хозяйка выдала ему все ценное, а потом попытался взять ее силой.
Тиходольская надеялась одолеть его – она женщина крепкая, а Смышляев доходяга, но сразу вышвырнуть его за дверь не удалось, а через несколько минут женщина с ужасом поняла, что начинает выдыхаться.
Тогда она схватила нож и нанесла удар. Убивать она не хотела, только ранить, но вышло иначе.
Ирина вздохнула. Увы, именно такие дурные удары отличаются поразительной точностью.
Хладнокровный убийца промахнется, а мертвецки пьяный ткнет в пустоту – покуражиться, попугать, а попадет прямо в сердце.
Доведенная до отчаяния жена махнет ножом в сторону мужа, и через секунду он труп, а жена потом плачет на скамье подсудимых: «Я не хотела…»
Когда мы теряем контроль над собой, власть забирает случай, а он далеко не всегда к нам дружелюбен.
Впрочем, у Ульяны Алексеевны немного другая ситуация. Она просто пыталась спастись и правильно решила, что отвлечь Смышляева от удовлетворения одного инстинкта можно только включив другой, более важный.
К сожалению, под руку ей попался самый большой из набора кухонных ножей, и нанесенный наобум удар попал прямо в сердце.
– Накануне еще сын приезжал, – вздохнула Ульяна Алексеевна, – и наточил все ножи в доме. Все как-то сошлось одно к одному.
У обвинителя не нашлось к ней вопросов, и Тиходольской разрешили сесть.
Тут Ирина почувствовала, что боль в животе становится сильнее. Пришлось скособочиться в судейском кресле, чтобы ее не чувствовать.
Во рту снова пересохло, Ирина налила себе полстакана тепловатой воды из графина, стараясь не смотреть на ржавый осадок по его стенкам, и выпила, будто лягушку проглотила.
Пригласили следующего свидетеля. Это оказался бодрый старик с румянцем и задорным взглядом домового активиста.
Он рассказал, что около двух часов дня услышал шум и крики, но поначалу решил, будто происходит банальная семейная перебранка. Звуки не утихали, и дед наконец сообразил, что в квартире снизу живет спокойная семья, в которой скандалить не принято. Еще несколько минут было потрачено на размышления типа «а мало ли что, сын напился, или дочь хахаля привела, между людьми чего только не бывает», и только после этого дед спустился вниз. Но пока вооружался молоточком для мяса, пока шел, в квартире все стихло, и дед решил, что все ему почудилось, но на всякий случай позвонил в дверь.
Как только Ульяна Алексеевна открыла, дед сразу понял, что произошло что-то ужасное. Женщина была белая как мел, руки тряслись, а халатик порван и в каких-то пятнах.
Дед устремился в квартиру, но она сказала, что только что убила человека, поэтому до прибытия милиции ему лучше не входить.
Вспомнив фронтовую молодость, дед быстро сбегал к себе за рюмкой водки и папиросами, а заодно прихватил невесткину шаль.
Ульяна Алексеевна выпить отказалась (и очень мудро поступила, отметила Ирина, потому что с алкоголем в крови доверия необходимой самообороне гораздо меньше), но закурила, жадно и неумело втягивая дым.
Так они вдвоем и просидели на лестнице до прибытия милиции.
Сколько именно продолжалась борьба, дед сказать затруднялся, потому что он вообще с возрастом стал глуховат и мог услышать звуки далеко не сразу.
Напоследок он разразился хвалебной речью в адрес Ульяны Алексеевны, о том, какая она замечательная женщина, превосходная мать, воспитавшая троих прекрасных детей, и отличный врач, никогда не отказывает по-соседски, если давление или сердце прихватит.
– Наша скорая помощь, – гордо заявил он, по-ленински указав рукой на подсудимую, – весь дом спит спокойно, потому что знает, случись что, Ульяна Алексеевна тут как тут!
Ирина почувствовала, как вздрогнул и скривился при этих словах заседатель Гарафеев, врач по специальности. И какой недружелюбный взгляд метнул в деда, тоже от нее не ускользнуло.
А ведь и правда. Пока ее приятельница Наташа жила одна, ее акции котировались не слишком высоко: девушка, аспирантка, то есть почти студентка, что она может понимать. Но стоило ей выйти замуж за Альберта, известного хирурга и без пяти минут доктора наук, как в квартиру началось великое паломничество. Люди приходили как к себе домой, и по их поведению непонятно было, кто кому делает одолжение. «Сынок, а посмотри…», «глянь-ка быстренько…», «ой, мне до поликлиники-то уж не дойти, да и очереди такие, что мне не высидеть, так и умру…»
Некоторые считали, что доставили Альберту радость уже тем, что до него снизошли, а обладатели скромного самомнения несли варенье с плесенью, коробки конфет, в которых шоколад совсем поседел от старости, мешки гнилых опадышей со своей дачи (все натуральное зато, не химия из магазина), словом, разный мусор, который брезгливая Наташа тут же выкидывала на помойку.
Альберт никому не отказывал, ведь люди должны помогать друг другу. Только очень скоро выяснилось, что этот прекрасный тезис работает в одну калитку.
Альберт всю ночь не спит, борется с гипертоническим кризом у мамы водопроводчика, потому что «в неотложке этой одни коновалы, или угробят, или в больницу отвезут, а там уж точно помрешь, лучше уж ты, Альбертик, помоги, ты же такой хороший, такой внимательный, такой чуткий».
И водопроводчик пускает слезу по небритой щеке и рвет на себе рубаху: да я! Да для тебя! Да все отдам, ничего не пожалею, ты ж мою маму спас, ты мне теперь ближе родного брата!
Только когда у Альберта ломается в кухне кран, брат-водопроводчик не спешит его чинить. То у него нет прокладок, то срочная авария, то он слишком пьян, то еще что-то, в итоге приходится искать другого специалиста.
А продавщица из книжного, которой Альберт прооперировал вены так, что она может летом спокойно ходить без чулок и в босоножках на шпильке, все время многословно извиняется и рассказывает, почему именно она не смогла отложить для Наташи экземпляр дефицитного романа. Так хотела, и вот уже почти, но буквально в последнюю секундочку…
Ирина тряхнула головой. Это нездоровое состояние мешает ей сосредоточиться на процессе и навевает какие-то абстрактные глупые мысли.
Надо пожалеть Ульяну Алексеевну, заложницу врачебного диплома, и вызывать следующего свидетеля.
Во рту снова пересохло, и не как от жажды, а в точности как характеризовал ее первый муж свое состояние после гулянки – «во рту будто кошки нассали».
Что-то часто она стала вспоминать первого мужа, не к добру это.
Дальше выступал судмедэксперт, проводивший освидетельствование Тиходольской. Все понимали, что человеку, особенно женщине, неловко, когда ее физическое состояние выносится на всеобщее обозрение, поэтому постарались провести этот момент по возможности деликатно.
Главное, что на теле Ульяны Алексеевны обнаружились красноречивые следы борьбы – ссадины и кровоподтеки, параорбитальная гематома и перелом одного ребра, а также типичные синяки вокруг запястий, свидетельствующие о том, что ее сильно хватали за руки.
Эксперт, проводивший вскрытие Смышляева, показал, что на его теле обнаружены аналогичные следы, и все эти экхимозы и ссадины носят прижизненный характер, хоть и получены незадолго до смерти.
От этих медицинских подробностей Ирине стало совсем неважно, она выпила еще воды, но вместо облегчения ее только хуже замутило.
К счастью, наступило время перерыва.
Объявив его, Ирина отправилась к себе в кабинет. Ощущение было такое, будто она несет в животе бомбу.
«Ладно, – подумала она, облокачиваясь на стол, потому что сесть была уже не в силах, – сейчас немножко переведу дух, потом заслушаем участкового с репортажем о славных подвигах товарища Смышляева, следом начмед роддома, обвинитель… Обвинитель, сука, мог бы и снять обвинения, есть у него такое право. Но Марков трусоват, слаб в коленках, он добрый, только пока это ничем не угрожает лично ему. А ведь любому идиоту уже ясно, что здесь необходимая самооборона совершенно адекватна ситуации. Снял бы, и все. Я бы домой отпросилась, полежала…»
– Ирина Андреевна, как вы себя чувствуете? – спросил Гарафеев, подходя и осторожно трогая ее за локоть.
– Спасибо, все в порядке.
– Позвольте вам не поверить.
Тут вошел второй заседатель и устремился к кипятильнику, но Игорь Иванович так на него цыкнул, что Стас немедленно исчез в коридоре.
– Простите за бесцеремонность, но в вашем положении надо быть особенно внимательной к своему здоровью.
– Да все в порядке, – повторила Ирина, – живот только чуть-чуть болит, но это ведь нормально при беременности, не правда ли?
– Давайте я вас посмотрю.
– Что вы, это неудобно.
– Неудобно умереть на рабочем месте, – пробурчал Гарафеев и, не слушая ее дальше, быстро сдвинул все стулья, создав подобие кушетки.
Ирина пыталась отмахнуться, но он уложил ее мягко, но решительно.
– Открывайте живот.
Она замялась.
– Хорошо, – улыбнулся он, – я пока через платье посмотрю, может, и так ясно будет.
Ирина приготовилась терпеть, но Игорь Иванович почти невесомо провел ладонью по ее животу, так что ей было совсем не больно, только справа что-то отозвалось изнутри.
– Похоже на аппендицит, – сказал Гарафеев.
Ирина вскинулась, но Игорь Иванович придержал ее за плечо и ласково сказал, что это абсолютно ничего страшного, при беременности аппендицит – совершенно обычное дело, и как раз на таком сроке, как у нее. Конечно, лучше быть здоровой, никто не спорит, но раз уж случилось, то надо не предаваться отчаянию, а спокойно вызвать «Скорую» и ехать в больницу.
– Дело житейское, – заключил Гарафеев и потянулся к телефону.
– Подождите…
– Что такое? Хотите сообщить мужу?
– И это… Но, может, сначала закончим процесс? Надо оправдать несчастную женщину.
– Без сомнения. А мы со Стасом вдвоем не можем это сделать?
Ирина засмеялась и тут же осеклась от боли в животе.
– Нет, к сожалению, хоть у вас и равные права с судьей, но приговор должен быть вынесен судом в полном составе.
– Сколько еще потребуется времени?
Ирина прикинула:
– Часа полтора-два.
Игорь Иванович покачал головой:
– Нет, это много.
– Слушайте, но иначе Ульяне Алексеевне придется ждать, пока я поправлюсь. Это сколько, кстати?
– При самом благоприятном течении недели три.
– Видите? Еще три недели в подвешенном состоянии, а она и так настрадалась.
Гарафеев пожал плечами:
– Но вы и так болеете уже около десяти часов, и, судя по клинике, у вас деструктивная форма. В любую минуту может наступить перфорация.
– Что, простите?
– Лопнет, говорю, ваш отросток, и тогда это совсем другая песня. Обычный аппендицит это маленький разрез без общего наркоза и антибиотиков, вмешательство, которого ваш ребенок даже не заметит, а перфоративный – это уже перитонит во всей своей прелести. Подробности рассказать?
– Спасибо, не надо.
– Ирина Андреевна, профессиональный долг надо исполнять, но не такой ценой. Я поговорю с Ульяной Алексеевной, объясню ей ситуацию… Она же врач и прекрасно понимает, что в первую очередь здоровые должны помогать больным, а потом уже все остальное.
Ирина прислушалась к себе. Действительно, ощущение такое, что стоит ей посильнее кашлянуть, как в животе что-то лопнет, и что тогда? Многочасовая операция с наркозом, потом долгое лежание в реанимации, гора антибиотиков… После такого не останется шансов родить здорового малыша.
Ладно, поедет в больницу прямо сейчас, но как только минует опасность для ребенка, сразу соберет заседание и вынесет Ульяне Алексеевне оправдательный приговор.
Надо только председателя поставить в известность. И Кириллу позвонить.
* * *
Стас попал в родительский дом как раз к позднему обеду.
Папа в последние годы обзавелся барскими привычками и изволил кушать в большой комнате, которую именовал то столовой, то гостиной.
Круглый стол на мясистой дубовой ноге был накрыт белой накрахмаленной скатертью, на которой тонкие тарелки костяного фарфора казались совсем прозрачными. В центре стояло блюдо с жареной курицей, вокруг соусники и прочая сервировочная мелочь, а в пузатом графинчике переливалась на солнце мамина фирменная клюковка.
В этом великолепии родители выглядели настоящими помещиками.
– А, позор семьи, – улыбнулся папа, с глухим стуком откладывая тяжелую серебряную вилку с узорчатой ручкой и необычайно длинными зубцами, – опорочил уже сегодня строй? День прожит не зря, надеюсь?
– А твои успехи как? Овсы цветут?
– Вот когда тебе твои вирши будут столько денег приносить, сколько мне мои колхозники, тогда и будешь над стариком-отцом издеваться. Пообедаешь? Мама сварила изумительную лапшу.
Стас кивнул. Мама хотела встать, но он удержал ее и сам принес себе тарелку.
– Спасибо, очень вкусно.
– Скучно тебе в городе, сынок?
Стас пожал плечами.
– А пишется?
– В общем, да. Нормально.
– А у меня творческий кризис что-то накатил, – вздохнул папа и налил по рюмочке себе и сыну, – через месяц надо роман в печать сдавать, а у меня еще черновик не готов. Хемингуэй в моей ситуации давно бы уже не просыхал. А я сижу трезвый и ни с места.
– А у тебя замысла нет или просто не идет?
– И то и другое, – папа театрально развел руками.
Мама встала, забрала у них суповые тарелки и положила по кусочку курицы с овощами. Она не любила рассиживаться за столом, обожала кормить, но сама предпочитала есть в компании книжки.
Родители жили душа в душу, любили друг друга по-настоящему, и вот парадокс – мама была настоящая жена творца, преданная и самоотверженная, и создавала папе все условия для работы, но результаты его трудов считала полной ерундой. Не любила она про колхозников и коммунизм.
– Так давай помогу, – предложил Стас, – вместе набросаем рыбу да и напишем. Что-то я, что-то ты.
Отец нахмурился:
– Ой, не знаю, Стас…
– Давай попробуем. Что не понравится тебе, то поправишь или выкинешь.
– Да нет, в том, что ты справишься, я ни секунды не сомневаюсь. Просто у тебя свои дела, наверное, есть…
Стас засмеялся:
– Какие у меня дела? Только если действительность нашу порочить, так поднадоело уже это занятие.
– Тогда давай попробуем. Только сразу договоримся – на обложке я твое имя указать не смогу, а половину гонорара отдам.
– При чем тут деньги?
– Как появятся, так и будут при чем. Знаешь, сын, считать, что деньги ничего не значат, почти так же плохо, как и ставить их во главу угла.
– Мне просто интересно попробовать себя в прозе, вот и все.
– Стас, денежные недоразумения разрушали отношения и получше, чем у нас с тобой.
– У меня, может, еще и не получится ничего.
– Я в тебя верю. Давай сейчас кофе попьем и пойдем в кабинет помозгуем.
За кофе Стас рассказал о своих приключениях в суде, как они собрались оправдать женщину, убившую насильника, но в самый ответственный момент судью увезли на «Скорой помощи».
– Вы Тиходольскую, что ли, судили? – спросила мама.
Стас не слишком удивился ее осведомленности. Мама была не сплетница, но странным образом знала все про всех сколько-нибудь значимых людей Ленинграда.
– Вот и не верь после этого в судьбу, – вздохнула мама.
– После чего?
– Мы все, конечно, атеисты, но, глядя на семью Тиходольского, поневоле поверишь как минимум в злой рок или проклятие.
– А ты их знаешь?
Мама покачала головой:
– Нет, но Брусницыны когда-то жили с ними в одном дачном поселке.
– Мам, с твоей памятью надо в разведке было работать.
– Так не взяли. В общем, жуткая судьба, врагу не пожелаешь, и похоже, что второй жене в наследство досталось это невезение. Из тысячи вариантов судьба выбирает своей мишенью именно ее. Насильники все-таки не ко всем подряд в дверь стучатся, а судьи вообще раз в сто лет выбывают посреди процесса.
– А ну-ка, расскажи, – папа отставил свою чашку и с интересом взглянул маме в лицо, – это может нам дать толчок для сюжета.
– Побойся бога, Миша, ты же соцреалист! Какой злой рок, когда у нас руководящая и направляющая сила.
– Расскажи.
Брусницын был папин редактор, соответственно, его жена – мамина лучшая подруга. Стас фрагментами помнил, как маленьким приезжал к ним на дачу в Сосново. Словно открытки, запечатлелись в его памяти высокое, казавшееся тогда огромным, крыльцо с облупившейся краской, почти горячее от солнца, сочные, присыпанные пылью лопухи под забором, толстая лягушка в луже и стрекоза с огромными малахитовыми глазами, летящая низко над черной водой. Помнил он и водомерок, часами мог наблюдать, как скользят по поверхности озера эти странные жуки, оставляя за собой легкий, как вуаль, след. Желтые кувшинки тоже помнил, как девчонки делали из них бусы, отламывая мясистый стебель то в одну, то в другую сторону. Тетя Инна Брусницына говорила, что их нельзя называть кувшинками, настоящие кувшинки тут не растут, а это кубышки. Но Стас все равно называл.
Сколько ему было тогда? Года четыре? Да, пожалуй, читать он еще не умел.
Потом папа стал очень хорошо зарабатывать, и семья завязала с дачной романтикой, проводила лето в домах творчества или санаториях, а Стас обожал ездить в пионерский лагерь.
Инна Семеновна, наверное, никогда и не узнала бы о существовании Тиходольского, но тут случилось событие, сделавшее его врагом номер один и главным злодеем всего дачного поселка. У одной дамы вдруг зарожала дочка, неизвестно с какой целью покинувшая цивилизацию на исходе девятого месяца беременности.
Дама заметалась и не придумала ничего лучше, как броситься к Тиходольскому с просьбой отвезти дочку в роддом.
Тот отказал, буркнув, что у него не санитарная машина, но отвел даму к сторожу, где имелся единственный на весь поселок телефон, и вызвал «Скорую помощь», и даже отправился встречать ее у поворота, показать дорогу, чтобы дама могла быть рядом с дочерью в такую ответственную минуту.
Врачи приехали быстро, но роды пришлось принимать на месте. Женщина благополучно разрешилась здоровым мальчиком, и счастливые мать и дитя отбыли в роддом, но новоиспеченная бабушка, вместо того чтобы радоваться прибавлению семейства, люто возненавидела Тиходольского, решив, что он отказал не из здравого смысла, а из вредности и потому, что боялся испачкать салон своей новенькой «Победы».
Теперь все малейшие отклонения от эталона в развитии новорожденного списывались на Тиходольского. Пупок зажил не на десятый день, а на одиннадцатый, у матери плохо отходит молоко, малыш ночью плачет, – все это происходит только и исключительно потому, что жлоб Димочка пожалел машину.
Простой хронометраж событий доказывал, что если бы поступили так, как хотела дама, то роды состоялись бы на лесной дороге под кустом, без присутствия человека с хотя бы начальным медицинским образованием, и тогда исход мог быть совсем другим, но даме эти соображения были нипочем. Успели бы доехать до роддома, и точка. Малыш появился бы на свет в медицинском учреждении, как все люди, и был бы абсолютно здоров.
К сожалению, образ жлоба, трясущегося над своей машиной, был поддержан дачной общественностью, и дама мало-помалу обнаглела и позволила себе поиздеваться над женой Тиходольского, пришедшей в местный магазин за молоком. Та ответила в том духе, что, когда вам в следующий раз понадобится помощь, в наш дом, пожалуйста, не стучите.
Дама решила, что ее оскорбили, и теперь она точно в своем праве, поэтому радостно прокляла Дмитрия и все его семейство.
Дачная жизнь бедна событиями, так что даже простая женская стычка в очереди за молоком становится горячей новостью. Ее долго обсуждали, решали, достоин Тиходольский проклятия или нет, потом вспомнили, что у дамы в роду были то ли цыгане, то ли кто-то еще, во всяком случае, глаз у нее точно черный, так что может и сработать.
Инна Семеновна посмеялась над дремучим населением поселка, верящим в то, что проклятие пожилой хамки может иметь силу, и благополучно забыла об этом инциденте на целый год, пока соседка не рассказала ей, что десятилетний сын Тиходольских скоропостижно умер от сальмонеллеза, эпидемия которого развернулась в соседнем пионерском лагере. Теоретически ребятам запрещено было общаться, но дырок в заборе никто еще не отменял. Пионеры гоняли в поселковый магазинчик за сигаретками, а больше за сладким вкусом приключения, а дачные дети просачивались на территорию лагеря, где тоже было много чего интересного.
Эпидемия шла вторую неделю, и все ребята болели примерно одинаково – высокая температура, пару дней рвоты и поноса и выздоровление. Поэтому когда у сына Тиходольских появились такие симптомы, мать не встревожилась, дала ребенку активированный уголь и решила продержать его денек на сладком чае с сухариками. Но к вечеру состояние ребенка ухудшилось, и через двое суток он скончался в местной больнице.
К сожалению, одна болезнь у разных людей протекает по-разному.
То ли мальчик был ослаблен, то ли генетически у него не сформировался правильный иммунный ответ, то ли достался особенно патогенный штамм – медики высказывали разные предположения, но родителям было от этого не легче.
Дачная общественность тоже выдвинула свою версию. По мнению местных дам, виновата была не администрация лагеря, нарушившая все санитарно-гигиенические нормы, не родители, позволявшие ребенку гулять где хочется и не объяснившие, что во время эпидемии кишечной инфекции есть можно только то, что дает тебе дома мама, и ничего больше, а перед едой обязательно вымыть руки с мылом. По-настоящему обязательно, а не как обычно.
Но все это, конечно, было ничто по сравнению с прошлогодним проклятием. Вот истинная причина несчастья.
Даму стали опасаться.
Брусницына не была знакома с Тиходольскими, но глубоко сочувствовала их горю. Была в этом сочувствии и доля эгоизма: когда дела шли не так хорошо, как хотелось бы, дети огорчали, муж не получал повышения или уплывала очередь на импортную мебель, Инна Семеновна вспоминала Тиходольских и думала, что, пока в семье все живы, жаловаться в общем-то грех.
Она благодарила бога, что старшая дочь уже выросла, а младшая, наоборот, была слишком мала, чтобы играть с детьми из лагеря и заразиться.
Приехав на следующий год, она увидела жену Дмитрия беременной и порадовалась за женщину. Новый ребенок не заменит умершего, не исцелит сердце от печали, но поможет победить отчаяние.
В том году младшая дочь Инны Семеновны шла первый раз в первый класс, поэтому семья рано снялась с дачного гнездовья. Нужно было купить форму, красивый ранец, прописи, учебники, цветные карандаши, чешки, спортивный костюм и еще горы всякого разного, познакомиться с педагогами и добиться, чтобы дочку записали в класс к самой лучшей учительнице, определить, в какие кружки пойдет ребенок…
В общем, хлопот было столько, что думать о чужих делах совершенно некогда.
Тиходольские совершенно вылетели у Брусницыной из головы, как вдруг весной ей позвонила соседка по даче и среди разговоров про клубнику и рассаду огурцов сказала, что в ноябре жена Дмитрия родила сына, а в феврале умерла от аппендицита.
– Вот и не верь после этого в проклятия, – назидательно заключила соседка.
Почему-то смерть женщины, с которой она даже не здоровалась, подействовала на Инну Семеновну удручающе. Она долго сокрушалась о ней и, хоть в проклятие так и не поверила, но все думала и думала, чем же могла бедная прогневать бога, что ей выпала такая ужасная судьба. За что?
Очень не хотелось верить, что плохие вещи случаются и с хорошими людьми.
Она решила летом познакомиться с Дмитрием, предложить ему помощь с малышом, но он не приехал. Весь сезон дом простоял пустым, а на следующее лето он прибыл уже с молодой женой и двумя детьми.
Инна Семеновна удивилась, как быстро, но вездесущие соседки объяснили, что бедняга просто взял женщину с ребенком.
Общественность не осуждала Дмитрия за скоропалительный второй брак, а Инна Семеновна, хоть и считала, что рановато, но понимала несчастного мужика. Невозможно одному воспитывать ребенка и быть при этом крупной величиной в оборонной промышленности. Пока что с этим справляются только разведенные женщины, а от мужчин нельзя ждать таких подвигов.
И вообще женская рука необходима.
Новая супруга не скрывала своей профессии, и в считаные дни завоевала всеобщую любовь. Никогда не отказывала в помощи, просила только об одном – если подозрение на инфекцию, проходить не в дом, где маленькие дети, а в летнюю кухню.
На даче жила еще ее мама, и дачная интеллигенция недоумевала, как у такой темной и серой деревенской женщины получилась такая умная дочь.
Деревенскую маму слегка презирали, но она никому не набивалась в друзья, зато вырастила на участке такой урожай, что все ахнули от зависти и побежали узнавать секреты мастерства.
Старухи были счастливы, что у них появилась такая компетентная и любезная соседка, что можно мерить давление хоть пять раз на дню и, прополов десять грядок, жаловаться ей на спину. Молодые матери тоже воспрянули духом, но счастье продлилось недолго. Перед следующим сезоном Тиходольские продали дом и больше их в поселке не видели.
– И в чем тут мораль? – спросил папа.
– А в том, Мишенька, что если тебя о чем-то просят, то или делай вид, что тебя нет, или выполняй в точности то, о чем просят, иначе будешь во всем виноват, да еще и сам же пострадаешь.
* * *
Гарафеев поехал в больницу вместе с судьей, но перед этим успел перемолвиться парой слов с Ульяной Алексеевной.
Женщина улыбнулась:
– Главное, чтобы все закончилось благополучно для матери и ребенка. А я подожду, какая проблема? Я ж не в тюрьме сижу, в конце концов.
– Спасибо за понимание, – искренне поблагодарил Гарафеев.
Тут подошли дети Тиходольской, красивые, статные, как и она, и в сердце Гарафеева шевельнулся червячок зависти.
Сыновья повернулись к нему, видно, хотели высказать претензии, но Ульяна Алексеевна остановила их:
– Тихо, дети. Здоровье человека прежде всего. А вы, пожалуйста, передайте мои пожелания скорейшего выздоровления.
– Передам, – кивнул Гарафеев и помчался на крыльцо, где Стас вместе с мрачным фельдшером уже закатывали носилки в медицинский рафик.
Гарафеев прыгнул в салон и попросил врача отвезти пациентку в его больницу.
Та согласилась.
Игорь Иванович дал Стасу телефон ординаторской, чтобы предупредил докторов, что Гарафеев лично везет им беременный аппендицит, пусть выкатывают красную дорожку.
Судья лежала на носилках молча, улыбаясь из последних сил.
Пока ждали «Скорую», она так и не успела дозвониться до мужа, но Стас и тут обещал подстраховать. Вообще он оказался весьма расторопным для погруженного в себя безалаберного юноши, Гарафеев его даже зауважал.
Он свернул одеяло и подсунул его под спину Ирине Андреевне.
– Амортизация.
Машина тронулась, и их хорошенько тряхнуло.
– А не лопнет от этого? Может, лучше было на такси ехать?
– Не-не, Ирина Андреевна! В студенческие годы я много тут катался. Действительно кажется, что позвоночник в трусы высыплется, а потом ничего.
– Надеюсь.
– Не волнуйтесь ни о чем и, главное, не стройте никаких предположений. Невежество – оно сами знаете что рождает. Вы сейчас напридумываете себе… – Гарафеев добавил голосу бодрости: – Когда я учился в институте, нам рассказывали хрестоматийную историю про селезенку. В норме она не пальпируется, а для краткости говорят: селезенки нет.
Водитель так лихо завернул, что Гарафеев вынужден был схватиться за соседнее кресло, и подумал, что если так дальше пойдет, то в трусы высыплется не только позвоночник, но и зубы.
А ведь когда он подрабатывал на «Скорой» студентом, то этой тряски совсем не замечал. Был моложе, крепче и думал о том, что его ждет на вызове.
А когда Лизка была маленькая, то просто спал. Садился в машину и сразу выключался, бился головой и не просыпался. Может, поэтому и не стал доктором наук.
Гарафеев улыбнулся.
– Так что про селезенку? – спросила судья.
Он видел, что ей неинтересно, но рассказал, возможно, правдивую историю, а возможно, и байку, как профессор смотрел больного и диктовал ординатору результаты осмотра, в том числе «селезенки нет». Пациент сделал вывод, что у него отсутствует селезенка, и сильно опечалился, вообразил, что он уже одной ногой в могиле, и так себя распалил, что чуть действительно не отправился туда.
Судья вежливо кивнула.
Гарафеев пожал плечами. Студентом он воспринял ту историю всерьез, а сейчас, с высоты опыта, в такую победу духа над телом верилось слабо.
– За что купил… В общем, вы, главное, не осмысливайте, что вам скажет врач.
– Хорошо, не буду.
Эта женщина была ему по-настоящему симпатична, поэтому Гарафеев не просто передал ее с рук на руки дежурной смене, а сам провел анестезию, наиболее щадящую для плода.
Пока хирурги делали разрез, был страх, что он ошибся в диагнозе, а остальные доктора просто пошли на поводу его авторитета, но, к счастью, оказалась классика жанра – отросток флегмонозный и, слава богу, без перфорации.
Гарафеев немного понаблюдал свою пациентку в реанимации, но через два часа перевел в отделение, выцыганив для нее двухместную палату. Не потому что блатная, а потому что беременная.
За этими хлопотами он не заметил, как пролетело время и наступила точка невозврата, когда домой уже нет смысла торопиться.
Игорь Иванович совсем забыл, что Лиза снова с ними, и они с Соней разыгрывают перед ней любящих супругов, а это значит, что в рамках семейного счастья его ждет мощная головомойка. Не за то, что опоздал, а что не предупредил.
Как жаль, что все уже закрыто, не купишь ни цветов, ни конфетки. Говорят, частный бизнес зло, но, с другой стороны, была бы тут маленькая лавочка, куда можно постучаться в критическую минуту. И он с цветами, и хозяин с выручкой, кому от этого плохо-то?
Гарафеев машинально сунул руку в карман пиджака за бумажником, но не обнаружил ни его, ни пиджака в целом.
Игорь Иванович выругался в том смысле, что вот незадача!
Он вспомнил, что оставил пиджак в кабинете судьи на спинке стула, там никто не возьмет, но до суда надо еще как-то доехать. Гарафеев пошарил в карманах – нет ни копейки.
А просить у Сони пятачок – это давать повод к такому пространному и язвительному анализу своей персоны, что лучше уж встать пораньше и отправиться на Фонтанку пешком. Тут километров семь всего, а то и меньше. Герои Достоевского, например, вечно исхаживали Петербург из конца в конец, и ничего, только здоровее были.
Перед дверью квартиры он вдохнул и резко выдохнул, готовясь принять удар, но Соня встретила его неожиданно ласково.
– Устал? Что, сложный случай?
– Можно и так сказать.
– Ужинать?
– Да, я бы поел.
– Сейчас разогрею.
Жена убежала в кухню, а он зашел к дочери. Лиза лежала, свернувшись комочком.
Гарафеев погладил ее по голове. Дочь не ответила, и он осторожно присел на краешек кровати. Тяжело, когда страдает твой ребенок, но Лиза не говорила, а Гарафеев не мог представить себе, что за повод послужил к такому отчаянию.
Ему нравился зять Володька, парень умный и веселый, и, во всяком случае, слишком молодой, чтобы обмануть чутье двух взрослых людей, один из которых известный психиатр. Ладно, пусть Гарафеев олух царя небесного, но все же у него, как у всех врачей, выработалось чутье на людей. Если бы Вова был психопат, они с Соней бы это поняли, как бы он ни старался изображать хорошего парня.
Нет, никак не мог Гарафеев представить себе причины таких страданий, когда все живы и здоровы, а зять только и ждет, когда жена к нему вернется.
Он снова погладил дочь по голове:
– Ты, Лизочка, причешись… Вообще поделай что-нибудь.
Она дернула плечом.
– Серьезно тебе говорю, полегчает.
– Ты не понимаешь, – буркнула Лиза.
– Да уж куда мне, – вздохнул он и пошел ужинать.
Жена подала ему рагу из баклажанов, которое готовила божественно.
Гарафеев закатил глаза от восторга и подумал, что в субботу сделает плов, свое коронное и единственное блюдо. Хотя… Он уже не делал его лет десять, наверное, все забыл. Но раз они изображают счастливую семью перед Лизой, то по справедливости он тоже должен играть в этом спектакле главную роль.
– Не знаешь, скоро они помирятся? – шепнул он.
– Гар, я стараюсь! – фыркнула Соня. – И так зайду, и эдак, но результат ты видишь сам.
– Что ж, взрослые люди, сами разберутся, – сказал он без особой уверенности.
Соня только горько улыбнулась.
– Женская гордость не позволяет ей сделать первый шаг, а этот дурак, видимо, думает, что кругом прав.
Гарафеев доел, выпил чаю, который Соня подала ему, и хотел идти спать, но вспомнил, что они больше не муж и жена, и вызвался помыть посуду.
Жена мстительно подсунула ему не только две тарелки, как он думал, но еще кучу сковородок. Гарафеев провозился с ними почти час, и, когда пришел спать, Соня уже лежала в постели с книжкой.
– Тебе свет не мешает? – спросила она нарочито вежливо.
Гарафеев покачал головой и натянул одеяло на голову, но соседство жены не давало покоя.
– Слушай, Сонь, а мы не можем…
– Нет, Гар, не можем.
– А если по-быстренькому?
– По-быстренькому тем более.
– А по-медленному?
– Гарафеев, если ты что-то там себе вообразил, то повторяю – мы разводимся, а притворяемся только ради Лизы.
– Так давай как следует притворимся. Без халтуры. Ты же меня кормишь снова, как настоящего мужа.
Она отложила книгу:
– А знаешь, в чем-то ты прав.
– Ну а то.
– Я соглашусь, только если ты твердо усвоишь, что это ничего не изменит.
– Твердо, да.
– Это будет секс между двумя посторонними людьми без всяких обязательств, и он абсолютно ничего не изменит. Мы все равно разводимся.
– Как скажешь, – Гарафеев притянул ее к себе.
…Соня хотела отвернуться, но Гарафеев обнял ее.
– Посторонние люди могут, наверное, после этого дела вместе полежать.
– Как Исмаил с Квикегом.
– Что?
– Как послушать твою маму, так ты у нас вроде аристократ до мозга костей, а такой серый.
– Что есть, то есть.
Соня провела кончиками пальцев по его груди.
– Оказывается, секс с посторонним человеком – отличная штука.
– Ты только не увлекайся, – буркнул Гарафеев, чувствуя, как по лицу расползается самодовольная улыбка.
– А у тебя раньше такое было?
– Что?
– С посторонним человеком.
– Не-а. Только с тобой.
– Честно? – она приподнялась на локте и заглянула ему в глаза.
– Ну да.
– Прости, Гар, я многое забыла.
Гарафеев обнял ее покрепче.
– Ты же отказался от карьеры ради семьи, а я попрекаю…
– В смысле?
– Мне звонил Витька и сказал, что когда ваш заведующий уходил, то хотел преемником сделать тебя, но ты отказался, потому что я писала диссертацию, а Лиза маленькая много болела.
– Да?
– Да.
– Ну, может, и было такое, я уже не помню.
– Все ты помнишь. И со мной, главное, не посоветовался.
– А смысл? Ты бы, конечно же, осела с Лизой, и что? Сейчас в местном психоневрологическом диспансере учитывала поголовье сумасшедших, и сама бы давно свихнулась. А так мы оба занимаемся любимым делом.
– Все равно.
– Да я, откровенно говоря, и сам не хотел.
– Почему?
– Ну видишь… Вот ты стараешься, ищешь подход к людям, создаешь для них психологический комфорт, индивидуальные особенности каждого учитываешь, а потом выясняется, что нужен универсальный волшебный пендель. Это как ключ у машины, без него мотор работать не будет. Наверное, я мог бы руководить только такими же сознательными, как сам.
– Но где таких набрать целое отделение?
– Вот именно.
– Я совсем забыла, что ты очень хороший, – вздохнула жена, – просто я никогда не была влюблена в тебя, поэтому так и заканчивается у нас.
– В смысле? Ты специально это говоришь сейчас?
– Нет.
– А зачем выходила за меня?
– Не знаю. Боялась остаться одна.
– Сонь, тебе ж девятнадцать лет было.
– Ну ладно… – Соня посмотрела в глаза мужу. – Раз уж пошел у нас такой откровенный разговор, то я любила другого человека. Просто до потери пульса, умирала прямо. А он поиграл и бросил, вот я и решила выйти замуж, чтобы доказать ему.
– Что доказать?
– Всё.
– Логично. Лиза хоть от меня?
– Да. У нас с ним, слава богу, не дошло до этого. Точнее, он хотел, а я испугалась до свадьбы, вот он меня и бросил.
Гарафеев сел на кровати. Захотелось курить, но он вспомнил, что уже сделал «нет» этой привычке, значит, нельзя. А с другой стороны, это был Сонин жест, а раз вся жизнь с ней была враньем, то и это тоже.
Он натянул треники и вышел в кухню. Открыл окно, впуская густую белесую ночь, достал со шкафа припрятанную там пачку «Космоса» и закурил, стряхивая пепел на растущие под окном кусты.
Вошла жена, кутаясь в халатик, и осторожно закрыла дверь.
– Гар, у меня правда кроме тебя никого не было.
– Да мне плевать. Лучше бы было, потому что женщины, похоже, не видят нормальное к себе отношение, пока их какой-нибудь скот не вывернет наизнанку. Лучше бы он бросил тебя беременной, чтоб ты поняла разницу между мужчиной и козлом.
– Зачем ты так говоришь?
– Ни-за-чем. В общем, извини, что слишком мало страдала из-за меня.
Гарафеев хотел хлопнуть дверью, но вспомнил, что Лиза спит.
Он оделся и вышел на улицу. На работу? Но его появление среди ночи всех только перепугает.
Он взглянул на часы. Ого, уже пять. Все-таки секс без обязательств с посторонним человеком это не совсем то же самое, что быстрый супружеский перепихон.
Ну что он в самом деле взъелся на Соню? Жили весело и дружно, а что она по нему не сходила с ума, так и хорошо это. А то от лишних восторгов у него мог бы испортиться характер.
Но все равно как-то тошно, тягостно на душе, тем более Гарафееву казалось, что он догадывается, в кого была влюблена Соня. Не иначе как в красавца Белоглазова, которого теперь ставит ему в пример.
Нет, надо подумать о чем-нибудь другом.
Сунув руки в карманы, Гарафеев двинулся в сторону проспекта. Пойдет потихонечку в суд, с привалами как раз к девяти доберется.
Прохладное утро и бледный рассвет немножко остудили его. Важно не кто о чем мечтал, а что было на самом деле, а еще важнее, что есть и что будет.
Как только придет в суд, сразу позвонит домой, жена – большой ученый, и по утрам на работу не торопится, так что он успеет извиниться за свою детскую вспышку.
Успокоившись, он по привычке стал думать о пациентах, которых у него сейчас осталась одна только судья. Кажется, он нигде не ошибся, расписал лечение с учетом интересов плода, и хирурги тоже сделали все аккуратно, извлекли отросток со всеми предосторожностями, не размазав гной по брюшной полости.
Будем надеяться, что пройдет без осложнений, не как у той давешней пациентки, тьфу-тьфу-тьфу.
Тут Гарафеев сообразил, что весь вчерашний день тот старый случай не идет у него из головы. Постоянно прокручивается в фоновом режиме, интересно почему?
Да, судья тоже молодая женщина с аппендицитом, но за двадцать лет сколько таких у него прошло… И, кажется, он стал вспоминать о той пациентке раньше, чем Ирина Андреевна поехала на «Скорой».
Да, именно! Как раз таки мысли о той больной заставили его обратить внимание на явно ненормальное состояние судьи и заподозрить у нее аппендицит.
А начал он думать о ней потому, что фамилия ее была такая же, как у подсудимой, Тиходольская. Получается, что ли, он лечил первую жену мужа Ульяны Алексеевны, а теперь судит ее саму? Надо же, какие бывают забавные совпадения!
Гарафеев улыбнулся. Ему ли, реаниматологу с огромным стажем, сомневаться в силе провидения? Например, закон парных случаев срабатывает всегда, или, если скажешь родственникам, что все будет хорошо, то непременно все будет плохо, а когда напишешь вдруг раньше времени посмертный эпикриз (случается и такое), то больной точно не умрет, ни при каких обстоятельствах.
Или полные тезки окажутся на соседних койках, или хирургу приходится оперировать своего заклятого врага, в общем, редкий день обходится без случайностей и совпадений.
Случай может составить счастье человека, а совпадения чаще ведут к катастрофе, потому что для беды редко бывает достаточно одного фактора. Причем для технической аварии хватает двух, а природа гуманнее, не прощает обычно только третьей ошибки.
Гарафеев улыбнулся. Надо же как получилось, если бы они судили вчера какого-нибудь хулигана Васю Иванова, то он и не вспомнил бы о своей юношеской ошибке, и не заметил, что судья позеленела и кренится на правый бок, и не предложил помощи.
А Ирина Андреевна, похоже, стойкая дама, терпела бы до последнего и дождалась разлитого перитонита прежде, чем обратилась к врачам.
Выжил бы ребенок в таком случае? Очень сомнительно.
Но давно покойная женщина протянула руку помощи ныне живущей… Так бывает.小
* * *
Ирина проснулась оттого, что медсестра сунула ей под мышку холодный мокрый градусник.
Прислушалась к себе. Живот не болел, не тошнило, и даже хотелось есть, хотя хирург предупредил, что сегодня можно только воду. Ребенок шевелился спокойно, будто потягивался после сна.
Ирина выдохнула. Неужели все действительно позади, как обещал чудесный Игорь Иванович, и теперь она станет быстро поправляться? Тьфу-тьфу!
Хотелось встать, но уличную одежду отобрали в приемнике и куда-то унесли, и сейчас на ней была только рубашка в мелкую надпись «минздрав».
Лишь бы только узнать, что дома все в порядке!
Пользуясь тем, что одна в палате, Ирина встала и умылась. Ни зубной щетки, ни расчески, прямо хоть не пускай мужа на свидание.
Тут она поняла, что немного переоценила свое состояние, и скорее легла в кровать.
Слегка кружилась голова, слабость, но это не шло ни в какое сравнение со вчерашним днем.
Ну и дура, господи! Мало того, что рисковала ребенком, это, в конце концов, ее личное дело, но еще и весь суд на уши поставила, хорошую тетку заставила еще неизвестно сколько прозябать в неизвестности.
А всего-то надо было утром позвонить председателю и сообщить, что заболела, чтобы избежать этих проблем.
Вот оно, ложно понятое чувство долга во всей своей красе!
Ирина расстроилась, что нет ничего, чем можно отвлечься от угрызений совести, но вскоре начался рабочий день, и скучать ей не дали. Обход врачей, потом перевязка, завтрак в виде воды, консультация гинеколога, в общем, жизнь кипела.
Ей быстро удалось понять, что невзрачный дядечка Игорь Иванович здесь почитается кем-то вроде бога, потому что, как только произносились волшебные слова «это от Гара», отношение к Ирине мгновенно менялось. Хмурая перевязочная сестра вдруг расцвела и достала из закромов какую-то невиданную доселе импортную повязку, постовая сестра принесла ей халат, старый, застиранный, но не очень страшный, гинеколог заглянул еще раз в обед с огромной бутылью микстуры Кватера, и даже буфетчица, хоть не могла предложить ничего, кроме воды, все же налила ее в кружку с самыми красивыми цветами.
К сожалению, таксофон находился в другом конце отделения, а такую дистанцию она еще была не в силах одолеть.
Занавески в палате были легкие, но давали хорошую тень, солнце не припекало, и Ирина, отхлебнув микстурки, после обеда легла спать.
Кирилл с Егором появились, как только начались приемные часы.
Получив сумку с туалетными принадлежностями, Ирина сразу выгнала их в коридор, умылась по-человечески, почистила зубы и причесалась. Кирилл молодец, принес ее лучший, самый нарядный халатик, только не учел, что он теперь с большим трудом сходится на талии.
Ладно, при нем можно потерпеть, а потом она наденет страшный, но уютный больничный.
Ирина вышла в коридор. Сын крепко обнял ее, и ей вдруг в этом почудилась не только любовь, но отчаяние и страх. Она взъерошила Егору волосы:
– Ты испугался за меня?
Он помотал головой.
– Не бойся, ничего со мной не случилось и не случится. Через неделю я уже буду дома.
Егор снова прижался к ней. Бедный, он не знает, что такое аппендицит…
– Это такая неопасная болезнь, типа насморка или разбитой коленки.
– Я ему говорил, – улыбнулся Кирилл.
– Ну вот, сам видишь теперь. Только, Кирилл, зря ты его привел, – сказала Ирина, понизив голос, – мало ли какая тут зараза.
– Ничего, руки с мылом помоет, – отмахнулся он, – но вообще да, нас вместе пускать не хотели, пока не узнали, что мы к тебе.
– О, да, я тут пациентка номер один, скажи спасибо моему заседателю.
– Да мне Дохлый уж рассказал, как он тебя спасал. Спасибо мало, коньяк нужно будет ставить.
– Только после процесса.
Тут освободился диванчик в углу под гигантской монстерой, и семья устроилась там.
– Вы книжку мне принесли?
– Дохлый принесет. Я ему сказал, что ты от творчества его папаши без ума, так он обещал на выбор… Хоть даже из неопубликованного, пожалуйста, лишь бы ты поправлялась.
– Как это он принесет, если проклят?
Кирилл развел руками, мол, не знаю, но как-то принесет. Ирина поморщилась. Похоже, осталась она без печатного слова.
– Санлистки пока можешь почитать, – улыбнулся Кирилл и показал глазами на Егора.
Тот, не тревожась больше за мать, как завороженный изучал стенгазету, посвященную язве желудка. Текст Ирина отсюда не разбирала, но картинки были интригующие.
– Слушай, – тихо сказал Кирилл, придвигаясь к ней, – мне тут бабка не хотела Егора отдавать.
– Как это?
– Да что-то уперлась, ах, Кирилл, пусть мальчик пока у меня поживет, ты не справишься, а мы на дачу поедем.
– А ты?
– А я сказал, что это она у тебя должна спрашивать, а у меня нет таких полномочий. Правильно же?
– Ну в принципе да… – вздохнула Ирина. Ей совершенно не хотелось, чтобы Егор жил у Ольги Степановны, но, с другой стороны, нельзя отстранять родную бабушку, когда она предлагает помощь. – а ты сам бы не хотел, чтобы она занималась ребенком, пока я в больнице?
– Нет, не хотел бы, – отрезал Кирилл, – или ты мне не доверяешь? Думаешь, что я за ним недосмотрю?
– В мыслях не было. Просто она хочет общаться…
– Мало ли кто что хочет.
– Пожилой человек, у нее в общем-то никого и не осталось, кроме Егора.
– Интересное дело, а сын?
Ирина засмеялась:
– О, там ночная кукушка дневную давно перекуковала. Мне не удалось, а вторая невестка оказалась покрепче.
Кирилл хотел что-то сказать, но тут появился Стас с фирменным полиэтиленовым пакетом в руке. Пакет был уже сильно потерт, но изображение ковбоя, в непринужденной позе затягивающегося сигареткой, просматривалось отчетливо. Ирина засмотрелась на восхитительную синеву ковбойских джинсов. Боже, как ей хотелось такие до беременности! Ей бы пошло, подчеркнуло тонкую талию и стройные бедра… А еще бы кроссовки, такие белые, с голубыми полосками и надписью «Адидас»… И сумку-банан в руки! Ох, как бы она выглядела, сразу помолодела бы на десять лет! Но пока не выпендривайтесь, Ирина Андреевна, носите фланельку, ибо вы простая советская баба в ожидании второго ребенка. Не положено вам выглядеть молодо и стильно.
Вы должны быть максимально страшны, чтобы вашему мужику хотелось не вас, а строить коммунизм.
Мужчины сердечно пожали друг другу руки. Кирилл окликнул Егора и церемонно представил ему Стаса, сказав, очень возможно, что через тридцать лет Егор будет рассказывать своим детям, как воочию видел великого поэта Стаса Суханова.
– Кончай прикалываться, – ответил великий поэт и подал Ирине стопку новеньких, еще пахнущих типографией книг, таких аппетитных, что она едва не облизнулась, – вот, пожалуйста. Возвращать не нужно, или домой заберите, или здесь оставьте, чтобы другие пациенты читали. Все, побежал. Игорь Иванович передает горячий привет, он навестит вас завтра.
Она хотела спросить, что делали сегодня ее осиротевшие заседатели, кому их передали, но не успела, Стас уже умчался, зато в конце коридора будто туча сгустилась – это надвигалась Ольга Степановна.
– Давай отсядем, а то сейчас цветы местные завянут, – сказал Кирилл, и Ирина не удержалась, фыркнула.
– Я вижу, с тобой уже все в порядке, – Ольга Степановна подошла, но садиться рядом не спешила, – но все-таки пожелаю тебе скорейшего выздоровления.
– Спасибо!
Бабушка липко и шумно по своей привычке расцеловала внука, но сразу попросила его «поиграть возле во-о-он того плакатика, мне надо кое-что обсудить с твоей мамочкой».
Если так пойдет, то Егор к концу времени посещений станет подкован не хуже профессионального хирурга, усмехнулась Ирина.
– Послушай, Ира, я понимаю твое положение и предлагаю от всей души, так зачем ты вынуждаешь меня ехать к тебе и умолять, чтобы ты соизволила принять мою помощь? Зачем ты усложняешь?
– Ольга Степановна…
– Ты болеешь, а ребенок тем временем сидит в душном городе, когда мог бы дышать воздухом на даче! Ты мать и в первую очередь должна думать о здоровье сына, а не о том, как потешить свое самолюбие.
Ирине стало стыдно.
– Здравствуйте, Ольга Степановна, – сказал Кирилл.
– Добрый вечер, – процедила она, – Ира, я делаю скидку на твое состояние и согласна забыть это оскорбление, когда мне дают понять, что я никто и без твоего высочайшего соизволения не имею права общаться с родным внуком. В будущем ты сама поймешь, как недопустимо вела себя.
– Да я вообще лежала на операционном столе!
– Это не важно! Если твой так называемый муж…
– Что значит «так называемый»? Совершенно законный! – вскинулся Кирилл.
– Не суть. Если твой муж позволяет себе дерзить родной бабушке твоего сына, то мне становится понятной расстановка сил в твоей семье. На каком месте у тебя интересы Егора.
– Ольга Степановна, вы ошибаетесь.
– Нет, где это видано, чтобы какой-то посторонний мужик запрещал бабушке общаться с родным внуком!
– Не хамите, пожалуйста.
– Это вы хамите! Еще не хватало, чтобы какой-то пролетарий мне указывал, как себя вести. Все, Ира, зови Егора. Будет лучше для всех, если я заберу его с собой.
Ирина покачала головой.
– Нет, он останется.
– Да как ты смеешь мне запрещать? – аж подпрыгнула бывшая свекровь. – Что ты вообще о себе возомнила?
– Я мать, и я решаю, – постаралась как можно спокойнее проговорить Ирина. – Все, Ольга Степановна, прекратите. Здесь больные люди, им нужен покой, а не зрелище чужих скандалов.
– Ирочка, ну как же так? – со страданием в голосе вскрикнула Ольга Степановна. – Я ведь только ради вас с Егоркой, чтобы вам было хорошо…
Ирина постаралась сгладить ситуацию, обняла ее, обещала, что, как только выпишется, со всем разберется, а на больничном приедет вместе с сыном к ней на дачу, в общем, все в порядке, просто Егор чуткий и нервный мальчик, и сразу два стресса, болезнь матери и ночевка на новом месте, для него многовато.
Расстались мирно, но утреннее чувство безмятежности развеялось без следа, так что, вернувшись в палату, Ирина сразу припала к источнику спокойствия – микстуре Кватера.
Наверное, надо было отпустить Егора с бабушкой. Только тогда Кирилл бы обиделся. Черт, неужели она действительно ставит постороннего мужика выше родного сына? Да, увы, жизнь такова, что законный муж превращается в постороннего мужика за одну секунду, и сын Ольги Степановны яркий тому пример. Но если бы Егор хотел с бабушкой, он бы сразу сказал матери об этом.
И тут тонкий вопрос… Ирина не могла четко себе это сформулировать, но чувствовала, что поступает правильно и в конце концов заботится об интересах сына.
Ребенку нужен отец или тот, кто способен заменить его, если родной папа выпал в осадок.
У нее было много возможностей убедиться, что Кирилл хорошо относится к Егору, может, не обожает безумно, но испытывает сильную симпатию, да, в общем, не суть, что он чувствует, главное, что заботится о нем так, как должен отец.
Скоро у Кирилла появится свой ребенок, родная кровиночка и наследник. Будет ли он любить этого малыша больше, чем Егора? Возможно. Да, это возможно, и такое право у него есть. А станет ли выделять своего ребенка, отдавать ему лучший кусок в ущерб пасынку?
Вряд ли. Он взрослый ответственный человек, умный и понимает, что в итоге навредит всей семье, в том числе и своей кровиночке. Что бы он там ни чувствовал, у него достанет силы духа и выдержки проявлять одинаковую любовь к обоим детям.
Но если начать противопоставлять… Все время тыкать носом, что это не твое, ты тут никто, ничего не решаешь, то Кирилл просто самоустранится. Никто так никто. Очень хорошо. Пусть о Егоре голова болит у Ольги Степановны, а у меня свой ребенок есть, им и займусь.
* * *
Леля остановилась посреди комнаты, оглядываясь.
– Уютно у тебя…
– Что, не ожидала?
– Честно говоря, да. Я думала, у тебя тут рюкзаки, ледорубы всякие валяются.
– Ага. А в центре костер с котелком, чтобы лишний раз на кухню не бегать.
Она улыбнулась, на секунду став прежней Лелей.
– Знаешь, когда полгода ночуешь где попало, то дома хочется комфорта. Садись, я сейчас чай принесу.
Стас выскочил на кухню, быстро включил газ под своим белым чайником с пятнышком сколотой эмали на боку и достал из шкафчика пачку чайных пакетиков (страшный дефицит, который еле удалось выпросить у мамы) и вазу с конфетами.
Подумав немного, взял еще бутылку ркацители и засунул в приемистый карман штанов.
В комнате достал из бабушкиной горки бабушкины же хрустальные бокалы с тусклым золотым ободком по краю. Вспомнил, что бабушка называла их свадебными, но решил, что это в любом случае не страшно.
– Вина?
– Я бы выпила, да, – кивнула Леля, – я вообще пью, Стас.
– Я тоже.
– Женский алкоголизм это совсем другое дело.
Он пожал плечами и налил. Вино красиво мерцало в старинном хрустале.
– Иногда я пытаюсь забыться с помощью вина.
– И как, помогает?
Леля покачала головой:
– Нет. Поэтому я, наверное, до сих пор еще и не спилась. Но все впереди.
– Это да. Конфетку? – Стас протянул ей вазу, и Леля выбрала «Невский факел». Стас улыбнулся. Он помнил, как Леля их любила, и накануне специально съездил за ними в фирменный магазин.
Она долго разглаживала фантик, а потом тщательно сложила из него маленькую лягушку. Стас вспомнил, как была у них классе в шестом мода на таких лягушек, складывали из чего попало, и подкидывали друг другу. Иногда с запиской, иногда без.
Стас поднял свой бокал:
– Ну, давай за нас, а то что мы без тостов, как алкоголики.
Леля чокнулась с ним, держа бокал за ножку:
– Знаешь, ты оказался первым, кто ко мне отнесся по-человечески.
– За девять лет?
Она кивнула.
– Я же говорю, вроде бы ни в чем не виновата, но стала не такой, как все. Будто призрак или сумасшедшая. А ты со мной как с нормальной женщиной. Хотя правы все, а не ты.
Не зная, что сказать, Стас подлил вина в бокалы, и тут в дверь постучала соседка с известием, что чайник, о котором Стас совершенно забыл, давно кипит.
Он сходил за чайником.
Леля так и сидела, болтала перед глазами бокалом и смотрела, как переливается вино.
– Если не хочешь, то не будем, – сказал он, – чайку попьем, да и все.
Они все-таки выпили, церемонно чокнувшись.
– Слушай, Лель, – вдруг вырвалось у него, – а если бы ты могла убить того гада, ты бы это сделала?
Она пожала плечами.
– Не знаю, Стас. Но не думаю, что мне стало бы легче, чем сейчас. Так я хоть сама про себя знаю, что ни в чем не виновата.
– А если бы могла ценой его жизни все остановить?
– «Если бы» не имеет значения.
– А ты никогда не думала об этом? Прости, что спрашиваю, но у меня в суде сейчас как раз дело о самообороне…
– Так смешно говоришь – у меня в суде. Как прокурор.
Стас фыркнул.
– Нет, я как раз считаю, что женщину надо оправдать.
– Это само собой. Но я бы, наверное, все равно не смогла угробить человека.
– А если бы у тебя был нож или пистолет?
– Все равно я испугалась бы. Я малодушная, Стас.
– Да ну что ты, – он погладил девушку по плечу.
Чай они так и не стали пить, переместились на диван и легли рядом поверх шерстяного покрывала, заложив руки за голову, как на пляже, и глядя в потолок. Стас сосредоточенно изучал лепнину и пытался найти какую-нибудь закономерность в отвалившихся кусочках.
– Не знаю, – вздохнула Леля, – что было бы хуже, как сейчас, или знать, что ты убийца.
– Но ты ведь только защищалась.
– Я и говорю, что малодушная. А вред… Вред он все равно нанес, пусть бы даже ничего и не успел мне повредить. Я даже не знаю, как это объяснить тебе. Вот человек – как пружина, а я будто разогнутая проволока.
– Леля, человек это человек.
– Ну, в общем, я сказала тебе, кто я. Чтобы ты понимал, что наши отношения ни к чему хорошему не приведут.
– Ты так говоришь, будто отношения это какая-то неподвластная нам отдельная сущность, но ведь ее нет. Есть только мы с тобой, и ничего больше. Никакого третьего.
Она засмеялась.
– Больше скажу, – расхрабрился Стас, – нет ни меня, ни тебя, а только решение, которое надо принять в эту минуту.
Леля засмеялась.
– Все так зыбко, – улыбнулся он, – иногда я думаю, что не могу войти в одну и ту же реку, потому что река – это я.
– Ты прав, – Леля повернулась, положила руку ему на грудь, – ты чертовски, кажется, прав.
Они лежали, и Стас старался дышать в такт дыханию Лели, но ему быстро стало не хватать воздуха. В светлых сумерках ее лицо смягчалось, и ему почему-то стало неловко смотреть. Он закрыл глаза и вдруг почувствовал прикосновение ее губ к своей щеке.
– Мешает борода? – спросил он тихо. – Если что, я сниму, ты только скажи.
– Нет, извини. Я просто…
– И я просто спросил.
– Как ты сказал: только змеи сбрасывают кожу?
– Не я. Гумилев сказал.
– Мне пора.
Он встал, подал ей легкий плащик, и Леля не отстранилась.
– Чай так и не попили, – улыбнулась она.
Стас молча положил ей в карман горсть конфет и потянулся за ветровкой.
Конечно, не так все просто, как он пытался ее убедить, и нельзя стать другим за одну секунду, и очень трудно вырваться из крепких объятий прошлых горестей.
Они вышли на улицу. Несмотря на позднее время, было светло, как днем, пахло рекой и бензином, а перед ними деловито пробежал кот, держа хвост трубой.
Леля замедлила шаг.
– Я думаю, что это хорошая примета, – улыбнулся Стас, – поверь, пожалуйста.
* * *
Похоже, председатель суда не знал, что делать с беспризорными заседателями.
Они, как честные, пришли вовремя и два часа маялись от безделья, Гарафеев изучал потрепанную брошюрку каких-то законов и не столько вникал в суть, сколько удивлялся, зачем так путано выражаться, а энергичный Стас где-то бегал, пока не выпросил у председателя поручение – развезти бумаги.
Гарафееву не очень хотелось работать курьером, но бросать товарища тоже нехорошо, и они отправились вдвоем, чтобы не было скучно.
Когда вернулись, председатель в церемонных выражениях поблагодарил их за исполнение гражданского долга и отправил по рабочим местам, предупредив, что придется им явиться для вынесения приговора Тиходольской, когда Ирина Андреевна будет здорова.
Гарафеев поехал на работу, но там его ждал неприятный сюрприз: Витька, злорадно ухмыляясь, сказал, что он ничего не знает и знать не хочет, график сверстан, так что пусть Гар наслаждается внезапным подарком судьбы в виде дополнительного отпуска. Как раз ему будет полезно отдохнуть и наладить отношения с женой.
Только Гарафееву не хотелось вспоминать о своих семейных делах, и он задумался о проклятии, так эффективно насланном на Тиходольских. Об этом Стас рассказал ему во время поездки, когда они занимались не самым достойным для мужчин делом – сплетничали.
Черный глаз это, конечно, чушь собачья, но наследственная патология – вполне, вполне.
Ведь это надо очень сильно постараться, чтобы в двадцатом веке здоровый десятилетний паренек умер от сальмонеллеза. Это либо перфорация у него должна нераспознанная случиться, или такое обезвоживание, которое невозможно в условиях стационара, даже самого убогого. А вот если мать и сын страдали каким-нибудь редким синдромом…
Врожденный иммунодефицит, например.
Или демиелинизирующее заболевание… Тут Гарафеев вздохнул, потому что эти редкие болезни знал не очень хорошо. К нему, реаниматологу, такие пациенты попадали уже в терминальной стадии, когда требуется ИВЛ, вот он и не слишком вникал в этиологию и патогенез.
Кажется, острое начало под маской кишечной инфекции или аппендицита более характерно для заболеваний типа полиомиелита, то есть тех, которые вызываются вирусом и никак не связаны с наследственными факторами.
Сложно в этом разбираться, но все лучше, чем сидеть дома и дуться на Соню, что она его никогда, видите ли, не любила.
И Гарафеев поехал в публичную библиотеку, где бывал редко и когда-то оформил читательский билет больше для престижа, мол, смотрите, какой я умный, в какие места меня пускают.
Поднявшись по широкой и светлой мраморной лестнице с пузатыми кеглями перил, Гарафеев слегка растерялся.
Откуда начинать штурм цитадели знаний? Какие книги заказать?
Он подошел к картотечным шкафам, где располагался тематический каталог, потом покосился на алфавитный. Взял пару бланков требований на книги и с завистью посмотрел на пожилого мужичка в костюме, который бодро перебирал библиографические карточки.
Наверное, профессор, знает, где искать, уважительно подумал Гарафеев.
В итоге он взял двухтомник общей неврологии и монографию, посвященную наследственным заболеваниям, выпущенную после разгрома лысенковщины.
Книги эти, видно, были из числа востребованных, потому что библиотекарша принесла их быстро, и Гарафеев с некоторым трепетом вошел в огромный читальный зал, похожий на вокзал.
Высокий потолок, окна в два человеческих роста и ровные ряды столов с одинаковыми зелеными лампами настраивали на научный лад. Ступая по мягкой ковровой дорожке, Гарафеев слегка пожалел, что в свое время выбрал чистую практику. Просто не родилось идеи, достойной того, чтобы поделиться ею с людьми, а писать диссертацию ради диссертации он смысла не видел.
Сейчас, усаживаясь за свободный стол, он подумал, что вот ходил бы сюда почаще, так и идея не заставила бы себя ждать.
Увы, пролистав книги, он довольно быстро скис. С наскоку не получилось, придется изучать материал кропотливо, буковка за буковкой.
В руководстве по неврологии много внимания уделялось анатомическому субстрату, то есть поражение каких конкретно отделов мозга вызывает ту или иную симптоматику, а Гарафеев уже изрядно подзабыл все эти подробности. Все, что выше продолговатого мозга, отвечающего за выживание, обычно его не касалось.
Он вышел в курилку, темное тесное помещение, оснащенное по всем правилам пожарной безопасности. Воздух висел такой, что зажигать свою сигарету было совершенно необязательно. Вдохнув одним разом суточную норму никотина, Гарафеев повернул в буфет, и подумал, что эта сфера жизни осталась для него почти неизведанной. Всегда на домашней пище.
В рестораны и кафе они с Соней не ходили сначала по бедности, а потом… Потом, в принципе, тоже по бедности. Жене, наверное, хотелось, но он не спрашивал, а она сама не говорила. Или неинтересно ходить по кабакам с мужиком, в которого ты не влюблена, а вышла замуж назло другому мужчине?
Гарафеев поморщился и купил стакан чаю и бутерброд со слегка заветрившимся сыром.
Лучше думать о работе.
Насколько он помнил, наследственные заболевания дают о себе знать в детстве, хоть порой развиваются постепенно, становясь болезнью в полном смысле этого слова к зрелым годам или даже к старости. Часто семьи о них знают, если это не редкость, наследуемая по аутосомно-рецессивному типу, когда носители дефектного гена живут, ни о чем не подозревая, пока по странной прихоти судьбы не влюбляются в носителя такого же гена. И то у них вероятность появления больного ребенка составляет двадцать пять процентов.
Получается, старший мальчик был болен, а младший, видимо, здоров. Гарафеев улыбнулся. Вчера, стало быть, он видел того самого Андрюшу маленького, из-за которого женщина так боялась умирать.
Здоровый статный парень получился, вторая жена отца не дала пропасть, вырастила как своего. Ребята и выглядят как родные братья. Повезло Андрюше, не вытянул черную метку в генетической лотерее. Хотя стоп, погодите-ка! Если первая жена Тиходольского была больна, значит, у нее оба гена были дефектные, и тут вероятность уже пятьдесят на пятьдесят. Или больной, или носитель, а здоровый никак не получится.
Что ж, теперь ему надо выяснить, какая болезнь унесла мать и ребенка, не только ради профессионального любопытства. Если Андрюша является носителем плохого гена, он должен об этом узнать, хотя бы ради того, чтобы не растеряться, когда его дети заболеют.
Гарафеев с трудом прожевал кусок черствой булки и запил прохладным чаем.
Если бы врачи разобрались со смертью первого ребенка…
Вероятно, состояние парнишки оказалось таким тяжелым, что спасти его было действительно нельзя. Возможности медицины не безграничны, и если пошла полиорганная недостаточность, то тут хоть десять правильных диагнозов поставь, толку не будет. Как говорится, «медицинское светило утопает в похвалах, а больного ждет могила, ибо так судил аллах».
Стас не вникал в подробности, но Гарафеев думал, что ребенка госпитализировали в местную больничку, а перевести в специализированное учреждение просто не успели. Сначала считали, что это обычный сальмонеллез, а потом состояние стало слишком резко ухудшаться.
В сельских больницах обычно работают хорошие врачи, умные, внимательные и решительные, но врач – это всего лишь человек, как бы ни хотелось любимому народу, чтобы было иначе.
Если поступает десять детей с поносом и рвотой и у них высевается сальмонелла, то и у одиннадцатого с теми же симптомами причина болезни будет той же самой. Это же логично, не правда ли? Зачем искать ответ, когда нет вопроса?
А потом КИЛИ – комиссия изучения летальных исходов, но она нужна не для того, чтобы разобраться, изучить интересный случай, проанализировать свою тактику и извлечь уроки на будущее. Нет, не для этого нужна КИЛИ, чай, не в немецком морге, лозунг «тут мертвые учат живых» у нас не работает.
КИЛИ нужна только для того, чтобы решить, надо наказывать врачей или в этот раз не обязательно. Передавать случай на лечебно-контрольную комиссию, где участников лечения размажут тонким слоем, или пусть пока живут.
Увы, анализ смертей – это не вдумчивое исследование, не кропотливый разбор тактики, а в основном крики «не виноватая я, он сам пришел!».
На КИЛИ не выясняется истинная причина смерти, а берется первый предлог, снимающий с доктора ответственность. Нет, существуют больницы, и их немало, где администрация страдает обвинительным уклоном, но тут тоже в основном идет риторика «недосмотрели, проворонили», а за чем именно недосмотрели и что конкретно проворонили – вопрос десятый.
Так что списали, наверное, на позднее обращение и перекрестились, а что сальмонеллу не обнаружили, так, вернее всего, анализ вообще не подклеили в историю, ибо ребенок умер до того, как он был готов.
Историю забрали, так что, когда пришла бумажка из лаборатории, медсестре некуда было ее вклеить. Отложила, а потом анализ потерялся.
А вот если бы врачам не грозили оргвыводы, так сели бы они спокойно разбираться, почему это десять ребятишек выжило, а один умер, что в нем было такого особенного, и разобрались бы, ибо врачи вообще люди умные, только мощь этого ума приходится расходовать не на дело, а на борьбу с идиотами.
Выяснили бы правду и сказали матери, что ребенок страдал таким-то синдромом, и теперь ей самой надо провериться, и второго ребенка заводить с осторожностью, а лучше бы воздержаться.
Гарафеев вернулся в читальный зал и еще немного полистал монографии.
Если бы он тогда знал про смерть первого ребенка… Но женщина о нем никогда не говорила, только про Андрюшу. Объяснимо. Она недавно родила, а эволюция так распорядилась, что в мозге молодой матери включается режим защиты. Она начинает воспринимать мир только в контексте малыша, все остальное отходит на второй план.
Потеря сына была сильнейшим стрессом, вот подсознание и вытеснило все мысли об этом, чтобы не отвлекать мать от ребенка.
Отец приходил… Гарафеев напрягся и вызвал в памяти образ Тиходольского. Интересный мужчина, солидный, статный. Очень вежливый и выдержанный. Не орал, не хватал докторов за грудки, требуя результатов, как поступало большинство мужей в таких тяжелых обстоятельствах.
Да, тогдашний заведующий хвалил его и на его примере доказывал, что чем выше человек стоит на общественной лестнице, тем спокойнее и вежливее он ведет себя с врачами.
Говорили, что Тиходольский большая шишка в оборонке, и по поводу его жены звонили из очень высоких кабинетов. Да, точно, главврач приходил, говорил, что из обкома беспокоились, спрашивали, не надо ли чем помочь, так что пусть доктора пишут список необходимых лекарств. Гарафеев помнил, что написали и включили много разных дефицитных препаратов, и их привезли-таки, но уже когда Тиходольская умерла.
И заведующий сказал, хорошо, что умерла, все равно не жилец была, а мы дадим препараты тем, кому они реально помогут. Гарафеев вспомнил, как его тогда шокировали эти циничные слова, а теперь он и сам, может, не произнес бы вслух, а подумал точно так же. Вообще удивительно, сколько подробностей всплывает, когда напряжешь память.
Тиходольский, видно, крепкий был мужик. Сначала сына потерял, потом жену, но не озлобился и не стал писать жалобы во все инстанции, хотя, если говорить начистоту, такое право у него было.
Как говорила народный депутат профессор Подвысоцкая, «для советского врача нет неизлечимых болезней». Это она маленько погорячилась, но все же в нынешние времена ни от кишечной инфекции, ни от аппендицита люди расставаться с жизнью не должны.
Гарафеев стал листать дальше. Все общие слова, но и он помнил случай общо. Все-таки прошло больше двадцати лет, и какие-то подробности забылись. Надо взять историю из архива. Хорошо бы еще получить историю мальчика, чтобы сравнить клиническую картину, но он даже не знает точно, в какой больнице тот лежал.
Ладно, будем пока работать с тем, что есть.
Он сдал книжки и вышел на Невский.
Больничный архив уже закрыт, надо ехать домой, изображать перед дочерью семейную идиллию. Что ж, Соня двадцать лет этим занималась, ей не привыкать, а ему без тренировки трудновато.
Лиза так и лежала в своей комнате, а Соня возилась на кухне с ужином. Гарафеев втянул носом аромат жареного лука и загрустил. Раньше этот запах ассоциировался у него с уютом и Сониной любовью, а теперь непонятно, что и думать.
Переобуваясь, он взглянул в зеркало и растянул губы в улыбке. Сейчас Лиза поднимется со своего одра страданий и придет в кухню есть, а Соня не заслужила ужин в компании двух мрачных вывесок разбитых жизней.
В рамках семейной идиллии Гарафеев рассказал, как посетил сегодня Публичную библиотеку, Соня восхитилась, а дочь смотрела куда-то в пустоту.
Кажется, ей было глубоко плевать, как там у родителей.
– Ты бы поделала что-нибудь, Лиза, – сказал Гарафеев.
– Игорь, не привязывайся к девочке. Она сейчас в плохом состоянии.
– Так откуда хорошему взяться, когда ты лежишь целыми днями? Встань, соберись, займись чем-то, оно и полегчает.
– Нет сил.
– Знаешь, Лизочка, если ты думаешь, что чем глубже выкопаешь в себе яму отчаяния, чем больше тебе туда насыплется подарочков судьбы, то нет. Так оно не бывает. Это малюткой ты могла зарыдать, и сразу мы с мамой мчались тебя утешить, но теперь ты взрослая. Никто не прибежит…
– К чему эти нравоучения? – огрызнулась Соня.
– Да ни к чему, просто сколько можно изображать? Пусть или скажет нормально, что случилось, или сделает лицо попроще. Не надо, Лиза, на нас отыгрываться за свою рухнувшую жизнь.
Соня поднялась, обняла дочь и покрутила в адрес Гарафеева пальцем у виска.
– Да ничего не случилось! – буркнула Лиза. – Просто он меня заставлял все делать. И убираться, и готовить, и стирать, и все.
– Но ты же жена его, – оторопел Гарафеев.
– А почему я должна делать, а он отдыхать? Мы учимся одинаково, даже я иду на красный диплом, а он – нет. Может, я тоже хочу почитать, и с подружками посидеть, и на пробежку, а вместо этого должна щи варить. Да еще он будет харчами перебирать, вкусно-невкусно. Это несправедливо!
– Такова уж доля женская, – промямлил Гарафеев без особой убежденности.
– Вот ты, мама, могла так жить, а я не хочу.
– Лизочка, но у нас было иначе, – улыбнулась Соня, – ну да, папа у нас на кухне, конечно, не перетрудился, но он всегда работал на полторы ставки, чтобы обеспечить нас с тобой. Когда ты маленькая была, он трудился фельдшером на «Скорой», и после института тоже – то там, то здесь. Папа за любую работу хватался, лишь бы мы с тобой не нуждались.
Гарафеев расплылся в улыбке. Он не думал, что Соня помнит об этом.
– А еще я никогда не критиковал мамину стряпню, – похвастался он.
– Да, ни разу в жизни.
– Ну а Вовка, козел…
– Что Вовка козел – это его дело, – перебил Гарафеев, – а ты за себя отвечай. Поверь старику-отцу, бессмысленно и непродуктивно думать о том, какие люди свиньи и как было бы хорошо, если бы они изменились. Все равно ты не найдешь такого мужика, который будет за тебя шуршать по дому, поэтому или приучайся сама, или живи до старости с папой и мамой.
– Не хочу я ему прислуживать.
– Ну да, понимаю, гораздо лучше, когда тебе мама прислуживает.
– Сейчас начинается у вас такое время, – мягко сказала Соня, – когда спадают первые восторги, то в голову приходит разумная и логичная мысль: раз меня любят, то должны делать то, что я хочу. Немножко больше я могу себе позволить, когда любим, ведь у меня есть волшебная палочка. В тяжелых случаях это приводит к тяжелым изматывающим отношениям по принципу раба и господина, но и у нормальных уравновешенных людей этот период неизбежен. Что я могу себе позволить? Где моя граница? Ведь не хочется прогадать и занять территорию меньше, чем мне готовы уступить. И так хочется, чтобы муж капитулировал, верно, Лиз?
– Ну в принципе…
– Конечно, хочется тебе. Только территория, за которую вы бьетесь, – общая. У вас один дом, одно королевство.
– Но я не собираюсь унижаться!
– И не надо. Только помни, что это не Вовка такой козел и не ты такая королева, а просто у вас наступила такая стадия в отношениях, через которую проходят все. Преодолеете – молодцы, а сдадитесь – можете так никогда и не узнать, что такое любовь.
– Так что мне делать?
– Помой посуду для начала, – буркнул Гарафеев и ушел в комнату.
Вскоре к нему присоединилась жена.
– Зачем ты так?
– А лучше давай будем с ней сюсюкаться, чтобы она только в пятьдесят лет очнулась одинокой бабой?
– Гар, можно и помягче с дочерью.
– Да уж некуда мягче. Мы ее растили, как принцессу, и вот результат.
– Нормальный результат. Вырос человек свободный, который не позволяет вытирать об себя ноги. Ну ведь она права, Гар! Нагрузка у обоих одинаковая, материальные вложения в семью – тоже, у Лизы даже на десять рублей больше, потому что она получает повышенную стипендию, и при этом она должна полностью обслуживать здорового мужика только потому, что она его жена. Не маразм ли это?
– А давай спросим у Вовкиной мамы. Наверняка у нее другое мнение по этому вопросу.
– Угу, диаметрально противоположное.
– Во всяком случае, спасибо, что ты не стала меня унижать.
Соня засмеялась:
– А что я должна была сказать? Ах, Лиза, посмотри, я двадцать лет терплю, значит, и ты мучайся?
– А я поверил, что ты действительно так думаешь.
Она погладила его по плечу:
– Ну, конечно, Гар. Знаешь, чем ближе мы к разводу, тем больше вспоминается хорошего.
Гарафеев вернулся на кухню и приобнял Лизу, которая мыла посуду тщательно и неумело.
– Все наладится, – сказал он и сел в уголок возле горшка с геранью.
– Ой, не знаю, пап.
– Тут в чем суть… Понимаешь, вы с Вовой должны вместе преодолевать трудности, но он не должен решать свои проблемы за твой счет. Например, вам надо есть, и ты готовишь борщ. Это правильно, это нормально. Но когда Вове хочется чего-нибудь вкусненького и он вместо борща требует у тебя тортика, то тут ты смело можешь надеть кастрюлю ему на голову.
– Ты такой мудрый, – сказала Лиза, кажется, без иронии.
– Я ж в суде сидел, поумнел.
* * *
Ирину выписали только через неделю. Она рвалась домой раньше, апеллируя к тому, что она знакомая Гарафеева, но хирург только засмеялся, мол, раз так, то, конечно, выпишут немедленно и в справке дадут разрешение переходить улицу на красный свет и заплывать за буйки.
Пришлось терпеть, но за книгами Суханова-старшего время пролетело быстро. Ирине немножко даже понравилась такая растительная безответственная жизнь.
Почему-то она думала, что после недели отсутствия обнаружит в квартире жуткий хлев, но дома царила почти хирургическая чистота, Кирилл не забыл даже постелить чистое белье.
По случаю выписки мамы Егору разрешили не ходить в сад.
Доставив ее домой, Кирилл умчался на работу, и Ирина осталась вдвоем с сыном.
Она полежала на хрустящих от свежести простынях, попила чаю на кухне, но безделье так наскучило ей в больнице, что дома предаваться ему было совсем тошно.
Прислушавшись к себе, она решила, что способна выйти с Егором погулять, и позвала его на улицу.
Сын сказал, что лучше почитает.
Ирина сама не любила отрываться от книги, но внезапно ей показалась подозрительной такая страсть к чтению. Егор умный мальчик, с богатым воображением, это верно, но он нормальный здоровый ребенок, живой и веселый. Любит бегать и играть с ребятками, и дома всегда вел себя активно, но в последнее время они с Кириллом совсем его не видят и не слышат. В комнате тишина, как будто ребенка нет дома. Не стрекочет автомат, не слышно голоса Егора, когда он, увлекаясь игрой, начинает разговаривать за своих героев.
Он не выбегает с топотом, не виснет на них, когда они приходят с работы, не тащит после ужина настольные игры или альбом, чтобы сыграть с Кириллом в каляки-маляки.
Сидит молча и читает, а они с Кириллом, два идиота, только умиляются вдруг проснувшейся в ребенке тяге к печатному слову.
Ирина осторожно вошла в комнату сына.
– Егор, что-то случилось?
Он покачал головой, но по лицу, по опущенному взгляду и стиснутым губам она поняла, что права.
– Скажи мне, пожалуйста.
– Все в порядке.
– Но ты все время с книжкой. Ни гулять не хочешь, ничего… Почему? Что стряслось? Скажи мне.
Егор резко помотал головой.
– Пожалуйста, сынок. Поделись со мной, и мы все исправим.
– Я не могу тебе сказать.
Сердце екнуло, и пришлось схватиться за край стола, чтобы не упасть. Неужели его кто-то обидел?
Она села на диванчик. Пульс зашкаливал, и губы затряслись, так страшно стало услышать то, о чем невозможно даже думать. И все-таки нужно, потому что дело не в ней, а в сыне.
– Пожалуйста, Егор, я очень тебя прошу. Иди ко мне. Вот так, – она крепко обняла его, – все сделаем, все поправим, ты только доверься мне. Клянусь, что ни за что ругать тебя не буду.
– Мне нельзя сказать тебе, потому что ты расстроишься, – сказал Егор глухо, борясь со слезами.
Ирина поцеловала его в макушку:
– Я уже расстроилась.
– Ты еще сильнее расстроишься.
– Нет. Когда люди узнают правду, им всегда становится легче.
– Правда?
– Ну, конечно.
Егор всхлипнул и разрыдался.
Ирина обнимала его, баюкала, как маленького, а у самой сердце выскакивало из груди. Она была близка к панике. Что делать, когда он скажет? Как утешить? Куда бежать?
– Мне бабушка сказала, чтобы я тебе не жаловался, потому что мамочку расстраивать нельзя, – всхлипнул Егор и длинно, прерывисто вздохнул.
– Ольга Степановна знает? – вырвалось у Ирины.
– Так она мне и сказала, что у тебя скоро родится ребенок и я должен быть готов к тому, что больше не буду тебе нужен.
– Что?
– Она говорит, что у тебя новый муж и новая семья, и я лишний.
– Ах стерва! Что еще она сказала?
– Что я могу жить у нее.
– И это все? Вот старая су… – Ирина осеклась. – Егор, ну как ты мог ей поверить! Ты же умный парень!
– Я и не поверил.
Ирина засмеялась от облегчения.
– То есть она капала тебе на мозги и запрещала спрашивать меня, люблю ли я тебя, потому что это якобы меня расстроит?
Егор кивнул.
– А ты боялся нам с Кириллом надоесть, поэтому прятался от нас с книжкой?
– Угу.
– Ты хоть читал или притворялся?
– Читал.
– Слушай, ты никогда не бойся спрашивать у близкого человека о том, что тебя тревожит. Слова ведь для того и придуманы. Конечно, когда появится малыш, мы с Кириллом будем заняты им, но не потому, что любим его больше, а потому, что он маленький, вот и все. Ну а если тебе вдруг что-то покажется, то ты, пожалуйста, поговори об этом со мной. Хорошо?
– Хорошо.
– Ты мой самый любимый человек на всем свете, и это никогда не изменится. А сейчас пойдем на улицу?
Егор энергично кивнул.
– Собирайся, и я тоже оденусь.
Ирина быстро натянула сарафан и вышла в коридор. Взяла телефонный аппарат – шнура как раз хватало до ванной комнаты.
– Сейчас, сынок, одну секунду, – крикнула она, скрываясь в ванной.
– Ты что, старая дура, охренела? – спросила она, когда Ольга Степановна взяла трубку.
– Ира, я не собираюсь разговаривать в подобном тоне.
– Ты какого хрена мне сына расстраиваешь? Что ты вообще лезешь, куда не просят?
– Ирина, я, в отличие от тебя, думаю только о ребенке.
– И поэтому решила развить у него тяжелый невроз?
– Я пыталась как можно мягче подготовить его к переменам, чтобы они не стали для него неожиданностью.
– Вы не имели права вести с ним такие разговоры, – сказала Ирина, успокаиваясь.
– Знаешь что, я его родная бабушка, и, в конце концов, я в два раза старше тебя, так что не обязана спрашивать твоего разрешения, как и что мне говорить собственному внуку.
– Короче, все! Жили мы как-то без вас пять лет и дальше прекрасно проживем. Все.
– Интересно, как это ты меня прогонишь?
– А вот попробуй сунься и увидишь.
Ольга Степановна делано засмеялась:
– Ох, Ирочка, я сунусь. Так сунусь… И на работу к тебе сунусь, и все расскажу. Как ты распутничала в первом браке, так что мой сын просто вынужден был уйти, как порядочный человек, и как теперь живешь с каким-то алкоголиком и диссидентом.
– Попробуйте.
– Ты, кажется, в партию собираешься вступать? Ну так людям интересно будет послушать, как твой муж льет помои на наш советский строй и пишет клеветнические стишки, которые мечтает издать на Западе.
– Ольга Степановна, с такими идеями вам надо не ко мне на работу, а в поликлинику идти.
В трубке язвительно рассмеялись:
– Думаешь, мне не поверят?
– Не знаю. Но психика сына мне дороже, чем партбилет.
* * *
Гарафеев взял в архиве историю Тиходольской и хотел устроиться с нею в ординаторской, но Витька увидел и прогнал его домой.
Что ж, он зацепил в гастрономе две бутылочки пива, дома сунул их в морозилку, чтобы побыстрее дошли до кондиции, и хотел расположиться на кухне с историей, но вдруг вспомнил вчерашний разговор, и с ним случился переворот сознания. Не то чтобы он резко стал оголтелым защитником прав женщин, но в эту секунду Гарафеев на самом деле понял, почему Соня захотела с ним развестись и что значили ее упреки, что он делает только то, что хочет.
Женщина не может позволить себе такой роскоши. Есть у нее настроение или нет, устала ли она, никого не волнует, в том числе и ее самое. Должен на столе быть обед, и точка. Ну а муж… Годами ходит мимо искрящей розетки, пока не нападет стих, и это всем кажется нормальным. Хотя от электротока умирают вернее, чем от голода.
Советская женщина приучена ломать себя и в мелочах – и в крупном, для нее есть только долг, а делать что хочется это все равно как полететь на луну.
Постоянное насилие над собой развивается в насилие над детьми, и так продолжается эстафета рабства и покорности, когда поколение за поколением бредет в никуда по серому болоту уныния и безнадежности, считая, что в этом и есть подвиг жизни.
Соне удалось прервать эту цепочку, она воспитала Лизу жизнерадостной и свободной девушкой, которая не лентяйка и неряха, а просто здравомыслящий человек с нормальным чувством справедливости.
Эх, Вовка бы еще сподобился понять это, и, желательно, не через двадцать лет грызни, а прямо сейчас.
Но сделать это будет ему непросто, потому что наряду с парадигмой «ты же девочка» существует тезис «я мужик». Что еще вы от меня хотите, когда я уже осчастливил мир, родился с яйцами!
Девочка – мамина помощница, а мальчик – мамина радость.
Парень с пеленок привыкает гордиться тем, в чем нет никакой его заслуги, вот и создаются такие скособоченные семьи, где женщина только дает, а мужчина только получает.
И нечего, кстати, удивляться расцвету антисемитизма. Корни тут одни – выжать максимум из того, чем одарила мать-природа, особенно когда больше гордиться нечем. И его собственная дворянская спесь, пусть совсем легонькая, тихая, но тоже из той же оперы. Смотрите, мужики, из какой я семьи вышел, стало быть, я априори круче вас.
И недовольство, диссидентство, все эти кухонные посиделки в конце концов тоже растут из немытой посуды. Мальчики привыкают, что для удовлетворения своих прихотей надо просто открыть пошире рот, но вот они взрослеют, рот открывается все шире и шире, а падает туда все меньше и меньше. Как же так? Я же такой хороший, я мужик, в конце концов, а на меня за это не проливается манна небесная, непонятно почему. Ну и система! Ну и строй на дворе!
Гарафеев вспомнил, как пару лет назад Соне заказали научно-популярную статью о том, что жизнь в капиталистическом обществе – это стресс. Жена согласилась, стресс так стресс, и написала бодренькое эссе, что неуверенность в завтрашнем дне и постоянная борьба за кусок хлеба изматывают человека и делают его больным. Гарафеев тогда пролистал литературу, которой пользовалась жена, и пришел немного к другому выводу. Если жизнь при капитализме – стресс, то жизнь при социализме – дистресс.
Стресс сам по себе не плох, вопрос весь в том, куда направить свою реакцию. Если на борьбу, то это хорошо, организм только крепнет в испытаниях, но когда ты сидишь, как куль, потому что борьба бессмысленна, то неотработанный адреналин действительно съедает тебя изнутри.
Вся советская система работает на том, что дергаться бесполезно. Работай не работай, а все равно получишь квартиру, как решит Мариванна из жилищной комиссии, и в отпуск поедешь туда, куда она даст тебе путевку. Иногда Гарафеев подозревал, что дефицит создан специально, чтобы полнее и надежнее формировать у граждан чувство безысходности. Хочешь одеваться красиво – а нельзя, надоело стирать руками – терпи, пока подойдет очередь на стиральную машину. Все так. До абсурда доходит. Когда-то давно они с Лизой купили набор «Юный гравер», и в радостном нетерпении раскрыли его, как только вернулись домой, так им хотелось овладеть новым навыком. В большой коробке из скучного серого картона болталось несколько резцов разного диаметра, Гарафеев сейчас уже не помнил, как они правильно назывались, пара плиток линолеума, несколько образцов картинок и инструкция, прочитав которую они с Лизой выяснили, что для работы еще требуется куча всякого всего, которого в магазине днем с огнем не найдешь. Все-таки Гарафеев попытался вырезать картинку на линолеумной плитке из набора, но даже его силы взрослого мужика едва хватало, чтобы процарапать хоть маленькую бороздку, что говорить о десятилетней девочке! Он сообразил, что для работы нужен был другой линолеум, более мягкий, более дорогой и в разы более дефицитный. Видимо, замысел создателей этой игрушки состоял в том, чтобы с младенчества приучить детей, что к достижению их цели всегда будет как минимум одно непреодолимое препятствие. Зато когда ему благодарный пациент подарил немецкий набор по конструированию, как Гарафеев сначала подумал, домика, и лишь много позже выяснил, что это был вокзал для знаменитой немецкой игрушечной железной дороги, которую он вживую никогда не видел, так вот, в этом наборе было заложено абсолютно все необходимое: и детали, и клей, и даже пакетик с зеленой крошкой, имитирующей газон. Только собирай и ни о чем не думай…
Тут он сообразил, что занимается тем же, чем все записные неудачники, – брюзжит и жалуется, но ведь всегда, при любых обстоятельствах есть зона твоей личной ответственности, в которой ты можешь что-то сделать.
Гарафеев вспомнил одного своего пациента, академика, который умирал, и знал, что умирает, и давление у него было уже по нулям, но он диктовал Гарафееву какие-то формулы, потому что эти последние минуты все-таки принадлежали ему, и он умел распорядиться ими так, как нужно. Гарафеев только надеялся, что тогда записал все правильно.
…Гарафеев, как умел, прибрался в квартире, потом сходил в магазин, где по дневному времени не было большой очереди, купил кусок мяса и сварил суп, прочитав инструкцию в книге «О вкусной и здоровой пище».
Потом заварил себе чайку и устроился за письменным столом жены.
Взяв историю болезни в руки и увидев там записи, сделанные собственной рукой, он будто провалился на двадцать лет назад, когда был молодым и неопытным, и любая ерунда заставляла его волноваться. Но дневники он тогда писал лучше, чем сейчас, подробнее и слова подбирал тщательнее.
Гарафеев улыбнулся юному себе и открыл первую страницу. Не для того он взял историю, чтобы предаваться ностальгии.
Первичный осмотр заполнял хирург, значит, нечего ждать подробностей и стилистических красот. Жалобы на боли в животе, однократную рвоту. Заболела шесть часов назад, начало заболевания ни с чем не связывает, были рвота, озноб. Стула не было. Анамнез жизни и того короче: гинекологические заболевания отрицает, аллергии нет, гепатитом не болела, эпиданамнез спокойный. Дальше идет объективный статус, типичный для аппендицита. Про умершего ребенка ни слова. Врач не спросил, а пациентка не сказала, и правильно, с аппендицитом какая связь?
Вообще статус не слишком информативный, и верить ему можно с большой осторожностью. У врачей много контролеров, которые не знаешь, к чему придерутся, поэтому безопаснее всего писать истории по проверенному шаблону, чтобы ничто не цепляло проверяющих за извилины.
Вполне возможно, что при поступлении женщина жаловалась на что-то еще, но хирург, раз уж принял решение об операции, предпочел описать стандартную клинику аппендицита.
Так, осмотр терапевта… Тут еще меньше. Дежурят два человека на огромный стационар, им бы со своими поступлениями разобраться, так что дураков нет переписывать анамнез за хирургами. Противопоказаний к операции нет, и все.
Эпикриз тоже по шаблону, ни одного живого слова.
А вот и его собственный осмотр, который тоже не прибавляет информации. Увы…
Протокол операции с диагнозом: острый катаральный аппендицит, иными словами, отросток не изменен, хирург ошибся.
Дальше в дневниках, этапных эпикризах и консилиумах описывалось все как он помнил. Быстрое ухудшение состояния с бурной, но нетипичной симптоматикой, указывающей то на пневмонию, то на эндокардит и в конце концов отек мозга.
Консультация невролога была выполнена уже когда больная впала в кому, так что ничего определенного тот сказать не смог.
Гарафеев повернул историю и стал листать бланки с анализами, но там тоже ничего особенно интересного. Чуть повышены печеночные ферменты, за сутки до смерти скакнул креатинин, билирубин тоже высоковат, но не критично. Протромбин в норме, что говорит о приличной функции печени. Так, а где протеинограмма? Нету. Наверное, тогда еще аппарата не было.
В клиническом анализе тоже ничего особенного, глазу зацепиться не за что. При поступлении высокий лейкоцитоз, что вкупе с болями в животе подтолкнуло хирурга на операцию, и все. Ну да, если бы дежурный врач, исключив гинекологическую патологию, оставил пациентку с болями в животе и лейкоцитозом пятнадцать под наблюдение, товарищи его просто не поняли бы. По голове бы настучали, мол, работать не хочешь, а нам за тебя когда разгребать? У нас план, столы все заняты, а тут ты нам еще аппендюк подсудобил, сволочь!
Итак, высокий лейкоцитоз, введя хирурга в заблуждение, на следующий день снизился до нормы. Гемоглобин и другие показатели вообще не менялись.
Так, что у нас дальше? Реакция Вассермана? Отрицательная, хотя положительный результат мог бы многое объяснить.
Теперь анализ мочи, как говорится, на стол мечи. И ведь тоже ничего сенсационного. Чуть-чуть выше нормы ближе к концу стали лейкоциты и цилиндры, но так почки реагируют почти при любом заболевании. А вначале просто идеально, не придерешься. Только цвет почему-то не «с/ж», т. е. соломенно-желтый, а «зел». Зеленый, что ли?
Гарафеев просмотрел другие анализы мочи. В первые дни везде был «зел», сменившись привычным «с/ж» только ближе к концу.
Значит ли это что-нибудь? Может, просто шутка лаборантки или особенности цветовосприятия? Насмешка над реаниматологами? Над лаборантами по моче часто шутят, то чай им отправят на анализ, то еще что-нибудь, может, лаборантка тоже решила повеселиться, дай-ка я буду писать в ответе разную чушь и посмотрю, когда врачи заметят?
Вдруг он вспомнил с необычайной ясностью, что сестра в реанимации как-то показала ему банку с зеленой мочой.
Кажется, это был образец Тиходольской.
Он тогда восхитился, какой интересный цвет, но не насторожился и не подумал, что это может что-то значить. Когда по утрам санитарка относит ящик с анализами в лабораторию, каких цветов там только не встретишь! Все оттенки радуги!
Кажется, он тогда подумал, что цвет дали импортные антибиотики, которыми как раз начали лечить женщину. Но если у нее была зеленая моча при поступлении, значит, антибиотики ни при чем.
А вдруг этот незначительный на первый взгляд симптом и есть ключ к разгадке?
* * *
Стас отпросился с работы пораньше. Отец ждал его, разложил в кабинете бумагу и карандаши, а к стене прикрепил лист ватмана, рисовать схему сюжета. Стас улыбнулся, вспомнив, как просил: «Пап, дай я прикноплю», а отец ворчал, мол, нет такого слова.
Он протянул папе стопку тетрадей со своими заметками.
– Костерком пахнет, – хмыкнул отец, – а ну-ка…
Он углубился в чтение, а Стас вышел на кухню и сделал себе чайку. Отрезал кусок от батона, сегодняшнего, мягкого, с хрустящей корочкой, осторожно достал из холодильника белую фарфоровую масленку и отрезал тоненький листочек масла. Откусил и зажмурился, так вкусно.
Увы, полноценной идеи для сюжета у него так и не появилось.
– Так и знал, что тебя надо искать поближе к кухне, – засмеялся папа, входя, – а сделай-ка мне тоже чаечку.
– Подожди, свежака заварю.
– Давай.
Папа опустился на стул и смотрел на него, странно улыбаясь.
– А это хорошо, Стас. Прямо очень хорошо!
– Не понял.
– Твои заметки.
– Рад, что тебе понравилось.
– Ты молодец, сын.
Скромно потупившись, Стас поставил перед отцом кружку с густым янтарным чаем.
– Ты заваришь так заваришь.
– Ну раз заметки подошли, давай в этот раз не про крестьян, может, а про геологов? Про первопроходцев? А? Тема ж хорошая!
– Хорошая.
– И коммунизму твоему любимому место найдется.
– Ну это уж не сомневайся, – засмеялся папа, – только оставь свои заметки для себя. Сам потом напишешь роман, какой захочешь.
Стас махнул рукой.
– Да ну, пап. Ничего я не напишу, да и впечатлений будет еще знаешь сколько…
– Как знать, сыночек. Только это твой опыт, так твоим он и должен оставаться.
– Ну пап…
– Знаешь, Стас, ты думаешь о разных сложных вещах, и это правильно. Может, такой пытливый ум дарован тебе, чтобы писать сложные стихи, а может – чтобы рассказывать людям простые вещи. Ну вот к чему тебе знать, что там, – папа показал пальцем в потолок, – пока ты здесь? Даже в жизни все всегда бывает иначе, чем ты думаешь, ну а после смерти-то…
Стас рассмеялся.
– Вот видишь. А тебе ведь есть чем поделиться с людьми, тем, что ты на самом деле знаешь. Так сделай это.
– Ой, пап…
– Правда. Ведь это были интересные дни, о которых ты пишешь?
– Не то слово.
– Так, может, ты родился для того, чтобы рассказать людям о тех днях? А может быть, и просто для того, чтобы пережить эти дни, бог знает.
– Вот именно. Вдруг я вообще больше ни строчки не напишу, так зачем добру пропадать?
– Это твое добро. Давай-ка, чем спорить попусту, лучше напряжемся и выдадим очередную пастораль.
Следующий час отец с сыном провели, напряженно буравя взглядами чистый лист ватмана.
Потом попили еще чаю с бутербродами. Вернувшись в кабинет, вспомнили великих и опрокинули по рюмке клюковки, после чего Стас стал предлагать то тему любви к женатому мужчине, то сиротку, выбившуюся в председатели колхоза, то мать-героиню… Главная проблема была в том, что отец написал уже очень много книг и так или иначе осветил все архетипические сюжеты. Придумать что-то свежее в таких обстоятельствах было действительно непросто.
– А может… – периодически вскидывался папа, но тут же вздыхал, – да нет, было…
И обреченно откидывался на спинку кресла.
Выпили еще по рюмочке. Стас нахмурился, пытаясь нащупать хоть хвостик хоть самой тощенькой идеи, но ничего.
Через двадцать минут он оглянулся на отца и обнаружил, что тот самым наглым образом спит.
«А ну и ладно!» Стас махнул рукой и пошел звонить Леле. Набирая ее номер по старому аппарату родителей, он вдруг заново пережил то до дрожи острое ощущение, когда подростком стоял тут же, в этом самом углу, прячась за вешалкой, и набирал этот самый номер по этому самому аппарату, слушал Лелино «алло, вас не слышно» и молчал.
Стало так волшебно, что он молчал и сейчас, и спохватился, только когда она почти повесила трубку.
Договорились завтра ехать в Павловск, оказывается, Леля ни разу там не была.
– Я никогда не верил, что так будет, – вдруг сказал он.
– Что?
– Мечтал, но не верил.
– Все равно будет не так, как ты мечтал.
– И не так, как ты думаешь. У противника всегда свои планы.
Леля засмеялась:
– Не поняла?
– Так твой папа говорил, когда объяснял, чем гражданский человек отличается от военного. Гражданский уверен, что все пойдет так, как он задумал, а военный знает, что у противника всегда свои планы, и в реальности будет все иначе. Ни твоя стратегия, ни врага, а что-то совсем другое.
– Ты помнишь?
– Конечно.
– Ладно. Тогда посмотрим, – сказала Леля мягко, и Стас решился.
– Лель, а скажи, пожалуйста: «Алло, вас не слышно».
– Так это ты был, гад?
– Ну скажи, скажи.
– Алло, вас не слышно.
– До завтра, Лелечка.
Когда он вернулся в кабинет, случайно задел кресло отца, и тот проснулся.
– Я не сплю, не сплю.
Стас повел рукой в сторону чистого ватмана и многозначительно кашлянул.
– Сейчас должно сдвинуться с мертвой точки.
– Папа, подумай, миллионы читателей ждут. Судья, милейшая, интеллигентнейшая женщина, только и мечтает взять в руки твою новую книгу, а ты дрыхнешь!
– Ничего подобного.
– И?..
Папа пожал плечами и предложил Стасу заночевать.
– Ладно, останусь. Давай тогда просто записывать все подряд, все, что думаем, любую ересь. Лучше потом вычеркнем, чем пялиться на пустой лист.
– Я знаешь чего думаю, сынок? – вдруг спросил отец. – Почему те люди дачу продали?
Стас, уже протянувший руку к графину, замер:
– Знаешь что, папа! Работать надо, а ты какую-то фигню в голове гоняешь. Самому не стыдно?
– Ну правда, Стас! Чего им не жилось на свежем воздухе? Двое маленьких детей, третий на подходе, в такой ситуации дача – это именно то, что доктор прописал, и вдруг продавать! Идиотизм какой-то!
– Мало ли…
– Нет, я понимаю, нашли бы там рассадник малярийных комаров или они узнали, что по соседству собираются делать свалку или цементный какой-нибудь завод, тут можно проследить логику. Но ведь ничего подобного, место шикарное, и становится только престижнее. Надо быть полным идиотом, чтобы отказаться от такой дачи.
– Ты думай лучше, о чем новую книгу писать.
– Это само собой, но вот заело у меня в голове, и ни туда, ни сюда.
– Наверное, им нужны были деньги на обмен с доплатой.
Папа засмеялся:
– Этот мужик был большая шишка в оборонке, а о таких родина заботится и создает им нормальные условия для работы. Им по десять лет в очереди на расширение стоять не надо.
– Тогда воспоминания, наверное, замучили этого Тиходольского. Представляешь, каково ему было проезжать мимо лагеря, ставшего причиной смерти сына?
Папа пожал плечами и сказал, что это убедительно, но целое лето Дмитрий с новой семьей как-то жил, как-то обуздывал свое горе и только на следующий год вдруг не смог. Логичнее, когда наоборот. Сначала не в силах находиться там, где был счастлив с любимыми людьми, а потом горе утихает, теряет остроту, и ты, наоборот, рад оказаться в знакомой обстановке и вспомнить счастливые минуты.
Стасу нечего было на это ответить. Он попросил отца выкинуть все чужие странности из головы и сосредоточиться на сюжете новой книги, но, естественно, сам больше не мог думать ни о чем другом, как о том, почему Тиходольские снялись с дачи.
К счастью, жизнь Стаса складывалась так, что он из близких потерял только бабушку. Он очень ее любил и тосковал по ней, но ему и в голову не приходило из-за этого обменять ее бывшую комнату в коммуналке. Подобная сентиментальность скорее подходит женщинам, да и вообще, тогда по этой логике Тиходольский должен был не только дачу продать, но и переехать на новую квартиру, потому что там его сын жил все время, кроме лета.
Или он остался бы одиноким горюющим вдовцом, отдал ребенка на воспитание бабушкам и дедушкам, а сам пошел вразнос, дачу продал, а деньги прогулял. Это понятно и разумно.
Но избавляться от дачи, когда у тебя трое детей – это действительно абсурдный поступок.
– Вот зачем ты мне сказал? – в сердцах воскликнул Стас. – Я теперь тоже зациклился, поздравляю тебя. Хрен мы сегодня что придумаем.
* * *
Кирилл взял на работе неделю отпуска без содержания, так называемую «запойную», и повез их с Егором на дачу.
Ирина блаженствовала. Ей ничего не позволялось делать, только гулять по участку или лежать в гамаке. Хозяйство под руководством Кирилла велось безалаберно, никаких супов и котлет в доме не было, а по утрам он ездил на велике на станцию за молоком и творогом, Егор гонял в хлебный ларек, иногда там выбрасывали сосиски, а если нет, то в летней кухне был изрядный запас армейской тушенки, которая в сочетании с молодой картошкой, укропом и малосольным огурчиком превращалась в божественное блюдо. Тем и жили.
После того как они поговорили с сыном, Егор воспрянул духом, забросил чтение и целыми днями носился с ребятами.
Когда Ирина думала, что могло произойти, если бы она и дальше ничего не хотела замечать, становилось дурно почти физически и хотелось придушить Ольгу Степановну.
Такая возможность вскоре представилась: бабка раздобыла где-то адрес Кирилловой дачи (ну как где-то, у Ирининой мамы, естественно) и явилась мириться.
– Ирочка, мы же свои люди, родные, – завела она, заметив, что Ирина не спешит открывать перед ней калитку, – ну давай поговорим спокойно, ты же не хочешь, чтобы Егор увидел эту безобразную сцену, как ты не пускаешь меня на порог.
Пришлось открыть.
Ольга Степановна решительно направилась к дому, по дороге рассмотрев участок во всех подробностях.
– Вот как, – она вошла на веранду и без приглашения уселась в любимое плетеное кресло Кирилла, – настоящие угодья у вас, оказывается.
– Да, дача хорошая. Что вы хотели?
– А где мой внук?
– Играет с детьми.
– Ты зря отпускаешь его одного с участка.
– Но тут везде родители или бабушки, – зачем-то начала оправдываться Ирина.
– Ирочка, ты совершенно напрасно обиделась на меня.
– Я на вас не обижаюсь, а всего лишь хочу оградить психику сына от ваших разрушительных действий.
– Но ты действительно вскоре будешь занята малышом и не сможешь уделять должного внимания старшему ребенку, а Кирилл твой… – Ольга Степановна многозначительно поджала губы, – возможно, сейчас тебе кажется, что он Егору как отец, но подожди, пока появится его собственный ребенок. Все моментально изменится, уж поверь мне. Егор из милого мальчика превратится в обузу и досадную помеху, которая только отвлекает ресурсы от его ребенка. У меня был знакомый, который женился на женщине с ребенком и не дал ей родить от себя, сказал, если что, то последний кусок я своему отдам. Да ты прикинь ситуацию на себя: был бы у Кирилла ребенок, ты хочешь сказать, что относилась бы к нему точно так же, как к Егору? Прямо вот не делала бы разницы?
Ирина поморщилась. В словах бывшей свекрови было больше правды, чем ей хотелось принять.
– Вот я и пыталась Егорушку как-то подготовить к переменам, чтобы он не чувствовал себя одиноким и покинутым.
– И чтобы только рядом с вами, – сказал Кирилл с порога.
– А вы вообще не встревайте в разговор! – огрызнулась Ольга Степановна.
– Вот чудеса, мне затыкают рот в собственном доме, – усмехнулся Кирилл. – Ирочка, не волнуйся, а то у тебя швы разойдутся.
– Я смотрю, мне в этом доме даже чаю не предложат.
– Нет, не предложат, извините, – Кирилл сел на табуретку рядом с Ириной.
– Да уж, манеры.
– Да уж. Ольга Степановна, нам с Ирой понятно ваше беспокойство о внуке, и ваше желание защитить его тоже нам понятно. Но эту проблему мы должны решить сами, в своей семье, без вашего участия, тем более когда оно осуществляется в таком партизанском варианте. Вас беспокоит, что Егор окажется заброшен? Такие чувства делают вам честь, но вы должны были сначала поговорить об этом с его матерью.
– С какой это стати? Я тоже семья Егора, и уж побольше, чем ты! Я бабушка, а ты ему вообще никто, так что нечего мне тут нравоучения читать!
Ирина вскинулась, но Кирилл мягко удержал ее на месте.
– Согласен, я ему никто, а вы бабушка. Мать его отца, верно?
Ольга Степановна фыркнула.
– Прекрасно. По закону у нас за ребенка отвечают его родители, мать и отец. И где же его отец, позвольте спросить?
– Не твое дело.
– Верно. Так давайте спросим у Егора, может, он знает, где его папа?
– При чем тут это?
– При том, что отец не появляется в жизни Егора уже пять лет, и это вас почему-то не беспокоит. Почему-то вы не говорите своему сыну, что его ребенок заброшен, чувствует себя одиноким и нуждается в помощи. Может быть, отец компенсирует свое отсутствие щедрыми финансовыми вложениями? Насколько мне известно, нет. Верно, Ира?
– С тех пор, как он женился, мы от него ни копейки не видели.
Кирилл развел руками.
– Ольга Степановна, сами понимаете…
– Я понимаю, что вы и так не бедствуете, а еще заритесь на копейки моего сына!
– Нет, простите, это копейки моего сына, – фыркнула Ирина, – двадцать пять копеек с каждого полученного рубля.
– Знаете что, не надо мерить на деньги!
– Это не деньги, а обязательства, которые должны исполнять обе стороны, если хотят продолжать отношения.
– Что, пожил с судьей, и крючкотворству от нее научился?
– Надеюсь, что так, – улыбнулся Кирилл, – в общем, для бабушки со стороны отца нужен отец. Пожалуйста, Ольга Степановна, идите к своему сыну и долбите ему мозг, как вам только нравится. Это ваш сын и ваша ответственность. Пусть он приходит, занимается с Егором по выходным, если ребенок, конечно, захочет проводить время с незнакомым дядей. Ну, пусть налаживает отношения, мы препятствовать не будем, верно, Ира?
Она пожала плечами. Меньше всего хотелось, чтобы бывший появлялся на горизонте.
– Ну и, конечно, прежде всего он обязан погасить задолженность по алиментам, – сказала Ирина, – я не подавала, потому что жалела его и его новую семью, но теперь другое дело. Закон позволяет мне взыскать алименты за предыдущие три года, и я воспользуюсь этой возможностью. Ну и на будущее, до восемнадцати лет Егора, на вашем сыне будет висеть исполнительный лист. И вот тогда, Ольга Степановна, мы станем к вам прислушиваться и учитывать ваше мнение, а пока – извините.
– Да вы офонарели, что ли? – гаркнула бабушка-благодетельница. – Будете меня шантажировать алиментами?
– Ни в коем случае. Но пока вы злостно не выполняете своих обязательств, не ждите, что мы будем выполнять наши.
Кирилл встал и каким-то очень уверенным тоном, какого раньше Ирина у него не слышала, сказал, что проводит Ольгу Степановну до станции.
Разговор оставил неприятный осадок. Ирина почувствовала себя холодной и жестокой женщиной без сердца. Достаточно было просто поговорить с Ольгой Степановной, чтобы она… А что она? Ирочка-Ирочка, и тут же завела бы с Егором старую шарманку.
Ирина в растерянности стояла на дорожке и пинала вылезший из песка узловатый корень. Может, побежать, догнать, сказать, что погорячилась? Что не будет требовать никакие алименты? А почему, собственно, нет? Неизвестно, как пойдет, сколько времени она просидит в декрете. Получается, Егора при живом родном отце должен будет содержать Кирилл? Ну что ж, всякое бывает, действительно, доходы разные у всех, и коммунизм, где каждому по потребностям, а от каждого по способностям, практически на горизонте, и, видимо, ее семья первая этого горизонта достигнет.
Кирилл Егора не бросит, вырастит… Кстати, а если она родами умрет? Тут, честно говоря, надежда тоже больше на Кирилла, чем на бывшего с его мамашей.
Ирина засмеялась. В общем, позволять другим платить по твоим счетам можно, но шельмовать этих других будет уже чересчур.
* * *
Гарафеев покрутился на работе в надежде, что упадет дежурство или просто кто-то попросит его провести сложный наркоз вместо себя, но поступали только предложения алкогольного плана.
Гарафеев отвечал решительным «нет» с ладонью, как на плакате, и пояснял недоумевающим коллегам, что водка и работа – это хорошо, а водка и безделье – очень плохо.
Трезвый, он сидел в ординаторской, пил чай, как заведенный, и приставал ко всем с вопросом, не знают ли они, отчего бывает зеленая моча.
Выяснил много разной информации, в частности, что, когда ребенок съедает грифель фломастера, моча у него становится такого же цвета, как фломастер, а когда алкаш выпивает «Льдинку», то у него зеленеет не только моча, но и плазма крови. Вспомнили черную мочу при ночной пароксизмальной миоглобинурии, Витька, наморщив лоб, сказал, что вроде бы триамтерен и какие-то антидепрессанты окрашивают мочу в голубой цвет, а противомалярийные препараты делают ее темно-коричневой. При желтухах моча становится цвета пива, это классика жанра, и иногда уходит больше в зеленый, чем в коричневый спектр.
В общем, Гарафеев укрепился в мысли, что моча могла окраситься по тысяче причин, которые никак не проливают свет на странную болезнь женщины, еще раз поныл Витьке насчет работы, получил отказ и отправился домой.
Лиза уже пришла из института. Гарафеев увидел следы слез на ее глазах, и вдруг так остро стало ее жалко, так грустно, что нельзя вернуться в те времена, когда он был большой и добрый волшебник, способный в секунду прогнать любое несчастье, что он решительно потянул ее за руку.
– Поехали.
– Куда?
– Ты мне скажи. Где твой супруг и повелитель?
– Дома, наверное.
– Ну вот и поехали.
– Пап, не надо.
Он молча потянул ее за собой.
Лиза стиснула губы, но, гордая женщина, шла за ним, не проронив ни слова.
Они молча прокатились в метро, но на выходе Гарафеев купил мороженое дочке, а заодно и себе, и они пошли, не торопясь, откусывая по чуть-чуть от восхитительно холодной массы.
– А я думала, ты не любишь мороженое, – сказала Лиза.
Он фыркнул.
– Серьезно? Любишь?
– Ну, конечно.
– Вот блин…
– Чего только не узнаешь о своих предках, когда взрослеешь, – Гарафеев отмерил кусок побольше, и от холода ему свело рот.
– А я твою порцию всегда съедала. Прости…
– Это норма, Лиз, – сказал он неразборчиво, но она поняла.
Когда подошли к двери, Гарафеев задвинул Лизу себе за спину и решительно надавил на кнопку звонка. Он хотел, чтобы Вовка сразу понял, что тут компромиссов не будет.
– Привет, зятек, – сказал Гарафеев, наступая на бедного Вову, – ты один, надеюсь?
– Да, конечно, Игорь Иванович.
– Ну вот и хорошо. А я тебе привел жену.
– Папа… – Лиза осталась на пороге, но Гарафеев втянул ее внутрь и захлопнул дверь.
Он прошелся по Вовкиным апартаментам, обозрел обстановку. Интересно, это зять устроил за неделю такой свинарник или Лиза в рамках борьбы за женские права?
– Ну и срач, – сказал он.
Ребята переглянулись.
– В общем, Вова, садиться я не буду тут. Может, потом, когда приберетесь. Оставляю тебе жену и ухожу.
– Игорь Иваныч!
– Вова, ты когда у меня просил руки дочери и в загсе потом обещал заботиться о ней? Обещал! Ну так и выполняй свои обещания. Вы теперь семья, и решайте свои семейные проблемы сами, а родителям дайте для себя пожить. Все, Вовочка, ты законный муж, значит, твоя очередь терпеть, если ты мужик, конечно.
– Игорь Иваныч, но она…
– Что она, это ее дело, – отрезал Гарафеев, – а ты о себе думай, о том, ссыкло ты трусливое, или нет. Можно бороться за ваше общее счастье, а можно сразу поджать хвост и в кусты.
– Да почему я должен бороться…
– Да потому, что не существует на свете женщины, которая родилась, чтобы тебя ублажать. Можешь, конечно, потратить лучшие годы на ее поиски, но они будут безуспешными. Серьезно, ребята, ну что вы, как маленькие!
Гарафеев все-таки откинул разобранную постель и сел на краешек дивана:
– Хорошо, разведетесь вы. Не сошлись характерами, бывает. Мама твоя, Вова, обрадуется, скажет, найдешь ты себе еще. И найдешь. И Лиза найдет. Но у вас обоих уже будет опыт капитуляции, понимаете? Опыт предательства друг друга и предательства любви. Вы оба будете знать, что так можно, так нормально: чуть что не по-моему, сразу разбегаться. В общем, не знаю даже, как вам сказать, но что-то очень важное вы в себе сломаете, если разбежитесь.
– Папа, я к нему не вернусь, пока он не извинится.
– Ну хорошо, ночуй на улице, – засмеялся Гарафеев, – повторяю для непонятливых – это ваша семья, и ваши проблемы вы должны решать внутри своей семьи. А не так, что пока весело, мы вместе, а чуть что не так, сразу игре конец. Это не игра, ребята, это жизнь. Ваша жизнь, которая тем полнее, чем самостоятельнее вы ее живете.
– Лиз, действительно, – буркнул Вова, – давай уже помиримся.
Она фыркнула и посмотрела в потолок.
– Семейная жизнь – это вам не какая-то прямо нирвана, – вздохнул Гарафеев, поднимаясь, – а совсем наоборот. Но вы уж держитесь. А я пойду.
Лиза уже расцеловала его на прощание и уже почти закрыла дверь, как он спохватился:
– Да, пока не ушел… ребят, вы не в курсе, отчего бывает зеленый цвет мочи?
– Чего? – изумилась Лиза.
– Зеленая моча. Может, вам в институте говорили?
– А, точно, было, – сказал Вова весело.
– И?
– А Лизочка пускай вам скажет, она же у нас на красный диплом идет.
– Лиза?
– Я не в курсе.
– А на гигиене?
– Слушай, Вов, не тяни кота за яйца, – обозлился Гарафеев, – а то я сейчас дочку домой заберу и не отдам тебе больше, раз ты такой выпендрежник.
– При отравлениях таллием зеленая моча, – выпалил зять.
Гарафеев от изумления чуть не свалился с лестницы и на всякий случай вернулся в квартиру.
– А ну-ка, с этого места поподробнее. Я слышал про отравления таллием, но там, кажется, ведущий симптом – облысение.
– Точно, – кивнула Лиза, – я даже читала на английском детектив Агаты Кристи, и там как раз этот симптом помог разоблачить убийцу.
– А ты можешь хоть секунду не напоминать, что ты умнее всех?
– Вова, – пронзил зятя взглядом Гарафеев, – давай не отвлекайся.
Зять рассказал, что перед сессией они как раз проходили отравления на производствах. Они с Лизой учатся в разных группах, у нее препод был долдон, давал материал строго по учебнику, а у него вел очень классный дед, профессор, который каждое занятие рассказывал что-то интересное и даже посеял среди студентов сомнения, а действительно ли гигиена такая невыносимо скучная наука.
В общем, изучали они разные отравления тяжелыми металлами, и препод рассказал, что препараты таллия не только прекрасные инсектициды и дератизаторы, но еще и, наряду с мышьяком, пользуются большой популярностью у отравителей, и даже имеют название «пудра наследников». У таллия нет ни вкуса, ни запаха, поэтому подмешать его в пищу не составляет труда, и симптомы отравления такие неспецифические, что, видимо, в медицинской практике гораздо больше нераспознанных случаев отравлений, чем распознанных. Выпадение волос, или алопеция, безусловно, красноречивый симптом, но появляется он поздно, через неделю после отравления, так что многие жертвы, получившие сразу большую дозу, просто до него не доживают.
Гарафеев вздохнул. Перед смертью у женщины ведь стали выпадать волосы, целыми прядями оставались на подушке, как после химиотерапии, но все решили, что это у нее от больших доз антибиотиков.
– Что ты еще помнишь, Вов? – спросил он грустно.
Все можно объяснить, любую странность закидать стереотипами, вместо того чтобы дойти до истины.
– А зеленый цвет мочи появляется прямо сразу, – отрапортовал зять.
Все верно.
– А противоядие есть, Вов, не знаешь?
– Да, есть. Берлинская лазурь. Смешное такое название, я поэтому и запомнил.
Гарафеев попросил зятя найти конспект и ближе к вечеру позвонить ему.
Что ж, так бывает. Иногда докторам будто черт застилает глаза пеленой, и они все вместе в упор не видят и более очевидных вещей. А тут редкий случай, экзотика. Как-то отравления ассоциируются либо действительно с интоксикацией на производстве, либо с истеричкой, наглотавшейся таблеток, или алкашом, прихлебнувшим метилового спирта.
Злонамеренные отравления больше ассоциируются с романами Дюма, чем с советской действительностью, а, как говорил учитель Гарафеева, чтобы поставить диагноз, нужно о нем помнить.
Какова была вероятность, что среди… вспомнив записи в истории, Гарафеев посчитал на пальцах, что женщину смотрело около двенадцати врачей. Так вот, какова вероятность, что среди двенадцати специалистов хотя бы один знал о таллии? Никто ведь не приглашал на консультацию гигиенистов и профпатологов.
Гарафеев собирался домой, но на Техноложке выскочил, пересел на Московско-Петроградскую линию и рванул в Публичную библиотеку.
Там у него немножко отлегло от сердца, потому что в тематическом каталоге на таллии сиротливо болтались карточки руководства по профпатологии и всего пара журнальных статей.
Не слишком популярная тема во врачебном сообществе. Простительно не знать.
Он выписал требования на журналы, но, просмотрев их, библиотекарша сказала, что периодику могут доставить только завтра.
Гарафеев несолоно хлебавши отправился домой.
В принципе он все выяснил. Остается неясным, что случилось с ребенком, но случай Тиходольской идеально укладывается в клиническую картину острого отравления таллием. И, кстати, становится понятным великодушие мужа.
Гарафеев горько усмехнулся. Действительно, откуда взялся этот стоицизм? Врачи подвергли жену напрасной операции, которая запустила каскад осложнений, а справиться с ними доктора не смогли. Под конец они уже не скрывали, что ничего не понимают и не управляют ситуацией, а Тиходольский только спрашивал, какие лекарства нужно достать. Что за удивительное смирение? Нет, безусловно, это мечта всех врачей, чтобы родственники не скандалили и не мешали работать, но девять из десяти мужей вели бы себя иначе. Требовали бы других врачей, другую больницу, сами притащили бы за ручку какое-нибудь левое светило. Скорее всего, суета эта не принесла бы результата, но это уже другой вопрос.
И, кстати, Тиходольский был какая-то крупная фигура в оборонке, стало быть, имел право лечить жену в ведомственной больнице. Почему она угодила в обычную городскую? «Скорая» не везла в ведомственную? А кто мешал взять такси и поехать туда самим? Ладно, растерялись, но в приемнике могли поскандалить, в результате их бы отправили сантранспортом и десять раз перекрестились, что сбагрили непростую пациентку.
Ладно, допустим Тиходольский не любил жену, поэтому вел себя скромно и ненавязчиво, пока она была жива. Но Гарафеев по своему богатому опыту прекрасно знал, что от таких равнодушных родственников потом как раз больше всего проблем.
Те, кто ухаживает до конца и выкладывается на всю катушку, потом, как правило, врачей не винят. Они выполнили свой долг полностью, и просто очень сильно устали, чтобы скандалить.
А кто не помогал, у тех подспудное чувство вины и энергии куча, а вина – это такой груз, который хочется поскорее сбросить, но получается только переложить его на другого. И проще всего на доктора.
Почему Тиходольский не стал строчить жалобы, требуя как минимум разобраться, отчего умерла его жена? Не потому ли, что прекрасно знал отчего?
Если он ее отравил, то тогда действительно был прямой смысл сидеть тише воды, ниже травы.
Все складывается логично, только зачем человеку убивать родную жену? И мы даже не будем думать о том, зачем травить родного сына, – строго сказал себе Гарафеев, – потому что это уже за пределами всего.
Правда, в двадцатом веке, когда развод широко распространен и доступен всем слоям населения, на кой черт подставляться? Тиходольский же не функционер, у которого от развода может засбоить карьера, а уникальный ученый, великий ум, генератор идей. Такому родина позволит десять жен иметь, если он захочет.
Только что сын у них опять-таки родился, Андрюша. Как так, сегодня сделал жене ребенка, а через три месяца после того, как он родился, убил, и не под горячую руку, а расчетливо. Ведь неделю бедная умирала, а муж ходил, навещал, и ничего нигде не дрогнуло.
Бред какой-то, даже не верится, что люди на такое способны. Может быть, он был шпион? Передавал секреты американской разведке, а жена его вычислила?
Но тогда она бы сказала врачам, попросила бы какого-нибудь милиционера вызвать. С другой стороны, она же не знала, что ее отравили, и не хотела предавать мужа перед смертью.
Ну ладно, жена угрожала разоблачением, а ребенок? Бррр… Нет, все-таки будем думать, что парнишка умер от сальмонеллеза. Или где-то надо его историю болезни найти. И сделать это быстро, потому что обязательных двадцать пять лет хранения вот-вот истекут, а дальше на усмотрение архивариуса. Если помещение позволяет, могут еще подержать, а нет – отправят на помойку.
Жена сидела за письменным столом, но усталый Гарафеев все равно упал на кровать прямо в уличной одежде.
– Вернул Лизу законному супругу, – вздохнул он.
– О, отлично!
– Обожди пока переселяться, ибо я оставил их в состоянии неустойчивого равновесия. Возможно, что она еще вернется.
Соня пожала плечами и вернулась к работе.
– Тебе все равно?
– Нет, просто я уверена, что у них все будет в порядке. Но ты все равно мудро поступил, Гар, что отвел ее. Иногда нужен какой-то внешний фактор, чтобы ни одному, ни другому не пришлось поступиться гордостью.
– А… А для нас с тобой такой внешний фактор откуда возьмется?
– В нашем возрасте, Гар, это может быть только смерть, – засмеялась жена.
– Но пока мы живы… – он похлопал по покрывалу рядом с собой.
– Ты снова хочешь секс с посторонним человеком?
– Угу.
– Прими душ.
– А если я буду грязный посторонний человек?
– Топай давай.
Когда он вернулся, Соня лежала в постели. Гарафеев лег рядом, и вдруг стало пронзительно тоскливо, что скоро они разведутся, он останется один, а потом придет неумолимый внешний фактор, и для него кончится вообще все.
Он исчезнет, будто и не жил никогда.
Гарафеев изо всех сил прижался к жене, решив хоть на секунду спрятаться от смерти в другом небытии.
* * *
Стас сидел за столом и грыз колпачок пластмассовой ручки из «Союзпечати». Настоящий паркер, подаренный отцом для стимуляции творческого начала, он, естественно, тут же потерял и надеялся, что папа о нем не спросит. Впрочем, за отцом такой мелочности не водилось.
Но паркер, или дешевенькая старушечья ручка, а вдохновение не шло. Папа сказал, что колорит, всякие там косовортки, веялки и озимые он возьмет на себя, а сыну поручил придумать интересную коллизию.
«Как всегда, – вздохнул Стас, – вечно поручает то, что я не люблю. Потому что, видите ли, не любишь того, чего не знаешь, не умеешь или боишься. Сейчас, интересно, что? Почему не могу придумать? Не знаю, не умею или боюсь? Господи, хоть бы дело какое-нибудь нашлось, но нет, мертвый сезон. Сидишь как дурак и даже алиби себе приличного не составить типа: «ах, папа, я почти все придумал, но злобный профессор Шиманский заставил меня весь день ящики с коллекциями таскать».
Он тяжело, с подвыванием вздохнул. Были сильные подозрения, что отец давно уже все сам придумал, но специально молчит, чтобы сын преодолел очередной барьер.
Ну да, полистал его тетрадки, убедился, что с описаниями у сына все в порядке, теперь будет подтягивать слабое место. Якобы сам не может. Всегда так было, сколько Стас себя помнил. Впрочем, если узришь суть воспитательного метода, он не перестает от этого работать.
Тут Стас услышал за окном свист и выглянул, не надеясь ни на что интересное, но неожиданно увидел заседателя Игоря Ивановича. Тот стоял на тротуаре, задрав голову, а когда увидел высунувшегося Стаса, то энергично замахал ему рукой.
– Чего? – спросил Стас.
– Можешь выйти?
– Только мяч скинуть.
– Серьезно. Я бы сам поднялся, но меня вахтер не пустил.
– Что ты хочешь, режимный объект, – гордо заявил Стас, – ладно, сейчас отпрошусь.
Получив разрешение покинуть рабочее место, он быстро сбежал вниз, думая, что этот невзрачный мужичок в парусиновых штанах, ковбойке и старых сандалиях совсем не похож на знаменитого врача-реаниматолога, от которого напрямую зависит, жить человеку или умереть.
– Ну чего?
– Есть разговор, – сказал Игорь Иванович, понизив голос, – надо где-то приземлиться.
Они зашли в полуподвальную пышечную. После уличной духоты на них повеяло приятной прохладой толстых каменных стен, которую не мог перебить даже жар с кухни.
Взяв по стакану чая и по три пышки, они устроились за высоким круглым столиком возле окна. Пластиковый стаканчик, в котором кончились салфетки, был прикручен к центру столешницы шурупом. Бумажные тарелки мгновенно промаслились, и у Стаса почему-то пропал аппетит.
А после того как Гарафеев поделился с ним своими подозрениями насчет отравления таллием, есть расхотелось окончательно.
– Да ты бредишь, – сказал Стас.
– Хотел бы я, чтобы так было.
– Это прямо какое-то средневековье. Королева Марго, Екатерина Медичи, короче, в таком духе.
– Сам в шоке. Только, Стас, данная гипотеза действительно все объясняет.
– Угу. Откиньте все невозможное – и вы получите невероятное.
– Вроде Шерлок Холмс как-то иначе выражался.
– Суть я уловил.
Гарафеев осторожно глотнул чаю и, поняв, что тот не горячий, сразу выпил залпом полстакана.
– Нет, я не говорю, что от кишечной инфекции невозможно умереть, – продолжал он в запальчивости, – но для этого нужны мощные усугубляющие факторы. Или такая дико патогенная сальмонелла, что выкосила бы пол-лагеря…
– А ты кровожадный.
– Работа такая. Короче, или так, или ребенок и без того был не жилец.
Стас нахмурился. Если бы старший сын Тиходольских был серьезно болен, то весь поселок об этом бы знал. О таком всегда всем известно.
– Конечно, надо искать историю несчастного парнишки и анализировать, но случай его матери укладывается в отравление таллием как нельзя лучше. Понимаешь? Вот двадцать лет не давал мне покоя этот случай, я уж и так прикидывал, и эдак, а теперь все объяснилось. Я понимаю, что задача решена, другого варианта просто нет.
– Почему это?
– Потому что я не дурак и за двадцать лет размышлений обязательно нашел бы разгадку этой смерти, если бы она была не криминальной. Все-таки у меня и опыт за это время появился, и читал я много, и случай этот все время подспудно держал в голове.
Стас кивнул и буркнул, что верит. Хоть он был не врач, а простой рабочий, но тоже на заре практики были ошибки, которые он смог осознать только с опытом.
Опыт, да… Все-таки сначала должен появиться «просвещенья дух», потом «опыт, сын ошибок трудных», и только на третьем этапе «гений – парадоксов друг». Ну и «случай, бог изобретатель», куда ж без него, хоть в заставке «Очевидное – невероятное» о нем упомянуть как бы забыли. Типа советские ученые такие, что не нужно им милостей от бога, сидят и сами до всего доходят.
Тут он заметил, что задумался, а Гарафеев тем временем что-то ему объясняет.
– Кому понадобилось травить ребенка и женщину? – горячился Игорь Иванович. – От смерти парнишки никому никакой выгоды, это ясно, ну а жена, когда погибла, сидела в декрете. Кому она могла помешать, кроме мужа? Наследство? Опять-таки все получают муж и ребенок, и пока они живы, у других людей материального интереса нет. Потом подмешать яд в еду, если ты не живешь в доме, тоже не так просто, как кажется.
– А ты пробовал, что ли?
Гарафеев фыркнул.
– Взять хоть нас с тобой, – усмехнулся Стас, – пока ты выйдешь в туалет, я успею тебе в чай подмешать что угодно.
– Но я пока не хочу.
– А если бы в пивняк пошли, так захотел бы. Кстати, пошли?
– Пошли. Стас, нация спивается, конечно, только пока, слава богу, десятилетние дети и молодые матери не являются у нас завсегдатаями пивнух. Они обычно питаются дома, а как ты подберешься к продуктам, если ты не член семьи?
Стас пожал плечами.
– Да, конечно, можно выкрасть ключи или нанять взломщика и, тайно проникнув в квартиру, подмешать отраву в пищу. Задача облегчается тем, что таллий не имеет ни вкуса, ни запаха, поэтому им можно приправить любой продукт, и жертва ничего не заметит.
– Вот видишь.
– Но зачем столько хлопотать ради простой домохозяйки?
– Да пес его знает.
Не тронув пышек, приятели вышли на улицу и зашагали к такому же полуподвалу, только с изображением пивной кружки.
– Я думаю, что ребенок стал случайной жертвой, съев или выпив то, что предназначалось матери, а потом Тиходольский все же довел дело до конца.
Стас отмахнулся, все еще не веря, точнее, не желая верить, что такие вещи возможны в той самой обычной жизни, в которой живет он сам.
– Я тоже сначала решил, что мне мерещится, – напористо продолжал Гарафеев, – а потом сообразил, что есть еще один момент, который мне не дает покоя во всей этой ситуации. Знаешь, как неудобный ботинок – вроде бы уже приноровился, идешь, но все время чувствуешь, будто что-то не то. Меня еще в день суда зацепило, но я отвлекся, а вчера ночью вдруг как молнией ударило.
– О господи, – сказал Стас.
За разговором они дошли до пивной и по узкой лестнице с затертыми ступеньками спустились в полуподвал. Рабочий день еще не окончился, и народу в этой забегаловке, весьма популярной среди ленинградских мужиков, собралось не слишком много, но табачный дым все равно висел густой пеленой под низким сводчатым потолком, не заглушая, впрочем, аромат разделываемой на газетке рыбы. Она пахла пряно, остро, но хорошо – видно, кто-то принес из дому, порадовать собутыльников.
Приятели подошли к липкому прилавку, взглянули на ряд пустых кружек, явно промытых в небрежной манере импрессионистов, да и вернулись на улицу.
Больше податься было некуда, и Стас зашагал к Румянцевскому садику. Игорь Иванович молча последовал за ним.
Там они с трудом нашли свободную лавочку и уселись.
Гарафеев откашлялся, как перед докладом:
– В суде я почувствовал некоторое интеллектуальное неудобство, или, как выражается моя жена, когнитивный диссонанс. Будто на работе мне подогнали пациента на первый взгляд совершенно обычного, но я уже жопой чую, что с ним что-то явно не то.
– Да, мне тоже знакомо это чувство, – согласился Стас и, заметив несущихся навстречу детей, на всякий случай убрал ноги под лавочку, – и надо сказать, что оно редко подводит. Спасает гораздо чаще.
– Так именно! В общем, я уловил, что-то не так, но поехал с Ириной Андреевной в больницу и отвлекся на свои прямые обязанности. Ну а потом вообще о том не думал. А ночью стал разматывать и догадался.
– И?
– А тебя ничто не торкнуло, когда ты смотрел на подсудимую и ее семейство?
Стас отрицательно покачал головой.
– А при виде ее детей? Ничего не удивило, не бросилось в глаза?
– Дети как дети. Красивые ребята, и девочка тоже такая, – он поцеловал кончики своих пальцев, чтобы не вдаваться в подробности.
– А ребята похожи, как родные братья, верно?
– Ну да.
– А почему, если у них нет общей крови? Они сводные, Стас! Понимаешь? Свод-ны-е! – скандировал Гарафеев. – У них нет общего родителя, поэтому они не должны быть похожи между собой.
Стас пожал плечами:
– Мало ли… Вместе росли, в одинаковых условиях, ели одно и то же, занимались одним спортом.
– Ты говоришь как лысенковец.
– Потом, мы же не видели папу Тиходольского. Может, они со второй женой были на одно лицо.
– Послушай, Стас, ты же знаешь, что я врач по специальности?
– Ну да.
– Я работаю с людьми и очень-очень много их перевидал за время своей практики. Очень много.
– Я понял.
– И поверь, при всем многообразии есть определенные типажи, строение фигуры, архитектура лица… Габсбургский нос, например. Или рязанское лицо. Короче, можно понять, состоят люди в кровном родстве или нет.
– Ты меня лысенковцем обозвал, зато у меня такое чувство, будто я с Гитлером сейчас разговариваю.
Гарафеев усмехнулся:
– Не передергивай. Просто опыт. Для нас, врачей, такое бывает важно, потому что за определенным типом внешности скрывается предрасположенность к определенным заболеваниям, поэтому мы замечаем такие вещи, не будучи нацистами, а совсем даже наоборот. Как тебе еще объяснить? Профессора Хиггинса помнишь?
– Допустим.
– Для него разница в произношении у уроженцев разных районов Англии была так же очевидна, как для нас разница между английским и французским языками.
– Ладно, я понял. В общем-то я больше к дочке приглядывался, но и правда, парни похожи.
– Не потому ли, что у них общий отец? Нет, конечно, может быть еще тысяча причин. Например, Ульяна и Дмитрий на самом деле брат и сестра, а брачные отношения оформили просто для удобства. Или еще какая-нибудь загогулина в духе индийского кино, но самое простое – наша подсудимая была его любовницей, и родила от него, и он решил избавиться от жены, чтобы создать семью с нею.
– Маразм.
– Согласен. Поэтому я к тебе и пришел, а не понес свои идеи сразу судье.
Стас сел поудобнее, подставил лицо теплому вечернему солнцу и зажмурился. Не хотелось думать о таких гадких вещах.
– Да нет, бред, – сказал он, – Тиходольский все-таки был человек с чрезвычайно высоким интеллектом, наверное, умел просчитывать риски. Как-нибудь уж додумался бы, что лучше подождать, пока ребенку исполнится год, отдать половину имущества и соединиться с любимой, чем оказаться за решеткой. Хотя бы безопаснее, не говоря уже о гуманности.
– Стас, ты ведь не женатый?
– Нет. Пока нет, – добавил Стас и улыбнулся, подумав о Леле.
– Вот ты и не знаешь, почему при убийстве первым делом начинают подозревать супруга жертвы.
– Ой, подумаешь, загадка. Во-первых, мужу или жене это больше всего выгодно, а потом чисто практически им легче подобраться к жертве.
– Так да не так. Когда долго живешь с человеком, ты как бы срастаешься с ним, начинаешь воспринимать частью себя. Ты понимаешь, о чем он думает, чего хочет, чувствуешь его настроение, и в конце концов можешь заставить его делать за тебя то, что должен сам. Это связь особенная, Стас, и рвется она очень трудно.
– Так это же хорошо.
– Как сказать… Создается иллюзия, что проще убить, чем развестись. Во всяком случае, незрелым личностям начинает казаться, что они имеют право распоряжаться жизнью своего супруга. Сначала решать, как ему жить, а потом – а жить ли вообще. Понимаешь, человек чувствует моральное право на убийство. Ах, он меня унижал, вообще загубил мою жизнь, а я-то что сижу?
– Принцип я уловил, только, повторюсь, Тиходольский не был незрелой личностью. В оборонке такие просто не оказываются, даже по очень большому блату. Да и потом… – Стас нахмурился, – если он по ошибке отравил сначала сына, то это надо быть вообще беспредельным негодяем, чтобы смотреть, как твой ребенок умирает, и ничего не сказать врачам.
– И самому сесть?
– Наврал бы что-нибудь, мол, обнаружил пустой флакон из-под крысиного яда. Сообразил бы.
– Тут ты, пожалуй, прав.
– Может, и не было никакого отравления, а, Игорь Иванович? Ведь жизнь не математика, тут правильный ответ не всегда правда.
Гарафеев вздохнул и откинулся на спинку скамейки, подставил лицо небу.
Подошли два подростка, ломающимися голосами попросили закурить, Игорь Иванович, не открывая глаз, пробормотал, что это очень вредная привычка, от которой они умрут на десять лет раньше положенного срока, но дело хозяйское, только сигарет у него все равно нет.
Дети медленно двинулись по аллее.
– Да, ты прав, – вздохнул Гарафеев, – действительно, так я обрадовался, что нашел ответ к мучившей меня столько лет задаче, что готов возводить напраслину на хороших людей. Спасибо тебе, Стас, что обуздал мои дедуктивные порывы.
– Не за что, обращайся. А мишенью мог быть и сам Тиходольский. Враги его хотели устранить, почему нет? Чтобы не изобретал лишнего.
– Какие-то бестолковые шпионы.
– Ой, у них там на Западе все в упадке.
– В принципе логично.
– Вот видишь. Но на самом деле, думаю, все еще проще. Внешнее сходство детей – случайность, смерть старшего ребенка наступила от сальмонеллеза, жены – от осложнений операции, вот и все. И нечего выдумывать.
Гарафеев поднялся с лавочки. Ему нужно было в метро, а Стас хотел пройтись пешком до Лелиного дома. Далековато, но так приятно идти и представлять будущее, в котором они с Лелей вместе.
Приятели распрощались, крепко пожав друг другу руки, и разошлись, но не успел Стас выйти из садика, как его вдруг осенило.
Он развернулся и побежал за Гарафеевым, нога за ногу бредущим к метро.
– Напугал, – сказал Игорь Иванович, когда Стас схватил его за плечо, – забыл что-то?
– Слушай, а ведь они дачу-то продали!
Гарафеев нахмурился.
– Мы с папой все не могли понять, зачем Дмитрий продал прекрасную дачу. А теперь мне ясно. Они с Ульяной Алексеевной понимали, что дети вырастут похожими, и это не останется без внимания в поселке, полном любознательных пенсионерок.
– А в городе их не водится, что ли?
Стас задумался и двинулся вместе с Гарафеевым в сторону метро. В городе люди живут обособленно, редко когда знают друг друга даже по именам, не так суют нос в чужую жизнь. Кроме того, обменять городскую квартиру труднее, чем продать дачу, и вообще, скорее всего, Тиходольские получили новое жилье, как только обзавелись третьим ребенком, то есть прежде, чем сходство детей стало бросаться в глаза. Кажется, Тиходольский усыновил ребенка Ульяны официально, а может, и она так же поступила с его сыном. Воспитательницы в детском саду и школьные учителя видели благостную картинку семьи с тремя детьми и не вникали в подробности. Да, реальную угрозу представляли только соседи по даче, на чьих глазах умер старший сын Дмитрия, ребенок, который был вхож к ним в дом, играл с их детьми и внуками и называл их дядями и тетями. И первая жена тоже дружила с ними много лет. Как тут не заметишь очевидного?
Когда совесть сравнительно чиста и ничего нет на ней, кроме адюльтера, можно пойти на этот риск. Посплетничают, попрезирают, но все равно ничего не докажут, и по партийной линии вроде как выкатить особо нечего. Что было – то было, а теперь Ульяна – законная жена, и точка. Кроме того, супруги не просто функционеры, не умеющие ничего, кроме как рваться к кормушке и отпихивать конкурентов. Нет, они специалисты высочайшего класса каждый в своей области, а таких не особенно дергают за моральные устои. Так, притопить слегка, чтобы не лезли куда не надо, но продуктивной работе стараются не мешать.
В общем, обнародование старой связи можно вытерпеть, но только не в случае, если ты совершил убийство ради того, чтобы ее узаконить.
* * *
Кирилл уехал, а Ирина осталась с Егором вдвоем на даче. Через его новых приятелей она познакомилась с другими мамашами и бабушками и оглянуться не успела, как стала частью местного бомонда. Поход в магазин превращался в светский раут, каждый день или она пила у кого-то чай, или кто-то у нее. Под влиянием новых подруг она принялась ухаживать за участком, и, хоть для масштабных преобразований было уже поздновато, Ирина облагородила кусты и разметила клумбы на будущий год.
Ей нравилась спокойная жизнь, и хотелось остаться здесь как можно дольше, до самых родов, и вернуться с младенцем сюда, а не в тесную городскую квартиру. И пусть Кирилл приезжает только на выходные, не страшно.
Хорошо бы протянуть больничный до самого декрета… Но долг звал на службу. Нужно поскорее оправдать Тиходольскую, приятную женщину, а главное, акушера-гинеколога, то есть специалиста, чья помощь ей в скором времени понадобится.
Егор, кажется, избавился от страхов, которые в нем усердно насаждала бабушка. Он расцвел, окреп, загорел и даже, кажется, вырос. С мальчиками такое бывает – за лето вымахать на двадцать сантиметров и вообще измениться до неузнаваемости.
И все-таки Ирина не спешила успокаиваться, зная по своему опыту, какие глубокие корни могут пустить в детской душе злые слова, даже брошенные по неосторожности, что уж говорить о тех, которые произнесены специально, с жестокой целью сломать ребенка, чтобы покрепче привязать его к себе.
Сейчас он успокоился, но что будет, когда она вернется из роддома с малышом? Поверит ли, что младенец поглощает все родительское внимание потому, что он слабенький и беспомощный, а не потому, что она любит его больше? Господи, даже отцы, взрослые мужики, не все способны это осознать, разве можно требовать от ребенка такой зрелости?
Тем более если будет тут пастись бабка и петь свои песни?
А прогнать – как ее прогонишь? Негуманно. Уже Иринина мать приезжала с лекцией, что не ожидала от дочери такой жестокости, что надо быть выше этого и проявлять милосердие. Ольга Степановна – немолодая и одинокая женщина, и с новой невесткой у нее не очень-то сложилось…
Ирина кивала, обещала все наладить, а сама думала, что если не складывается ни с кем, так дело, возможно, не в невестке, а в самой Ольге Степановне и что нельзя гадить всем на головы, а потом рассчитывать на милосердие, которое вообще-то штука добровольная.
К вечеру небо потемнело от туч и пошел мелкий дождь. Дети укрылись у них на веранде. Ирина достала ребятам настольную игру про барона Мюнхгаузена и принесла вазочку с фруктами.
Пока раскладывала игровое поле на столе, задела стопку бумаг, и лежащая сверху книжечка с легким шелестом упала.
Ирина нагнулась за ней, радуясь, что пока еще живот позволяет это сделать. Устав партии. Немножко отсырел, а обложка полиняла под солнцем в ожидании, пока Ирина снова возьмет в руки сей бесценный документ.
Только сейчас она вспомнила, что, пока лежала в больнице, пропустила заседание ячейки, на котором должны были ее рекомендовать, и теперь придется очень сильно подсуетиться, чтобы пройти всю бюрократическую процедуру до декрета. Как-то уболтать секретаря парторганизации, чтобы собрал внеочередное заседание, и потом еще упрашивать кучу людей. А оно надо?
Ирина посмотрела на поблекшую унылую обложку, с которой солнце будто убрало всю солидность, перевела взгляд на детей, азартно бросающих кубики и передвигающих фишки, и вздохнула. А бог его знает…
Не будь она так занята изучением этой ереси, так пораньше заметила бы, что Егор расстроен.
А бросит все, не сделается депутатом, так не станет блата, и сын поступит максимум в педагогический.
Палка о двух концах. Ведь в чем-то права Ольга Степановна, последний кусок Кирилл отдаст своему ребенку. Он хорошо зарабатывает, но взятка в престижный вуз составляет примерно пять тысяч. Выделит ли он такие деньги, когда подрастает собственный сын? Или скажет, ничего, пусть идет в армию, не развалится. Я там был и выжил, и с Егором обойдется.
Так хочется все послать подальше, раз и навсегда решить, что семья – прежде всего, и посвятить себя мужу и детям, но только Егор – это ее личная ответственность. Кроме нее, никто не поможет ему пробиться в жизни. Кирилл – хороший и ответственный человек, только он не обязан заботиться о ее ребенке от первого брака, тут она ничего не имеет права от него требовать.
Попросив ребятишек не шалить, она отправилась в летнюю кухню готовить ужин.
Резала помидоры, и вдруг услышала за спиной осторожный кашель.
– Кирилл?
– Хотел подкрасться незаметно, но потом сообразил, что тебя нельзя пугать в твоем положении.
Ирина улыбнулась. Так приятно было, что он приехал в пятницу вечером, а не в субботу утром, как большинство дачных мужей.
– Слушай, я с ужином на тебя не рассчитывала… Отварю сосисок, хорошо?
Кирилл помахал перед ней увесистой сумкой с продуктами. Ирина сразу потянулась разбирать.
Дачный поселок был довольно большой, но в местной продуктовой палатке можно было купить лишь самое необходимое, да два раза в неделю приезжала цистерна с молоком, а фундаментальную еду приходилось возить из города.
По содержимому авоськи было видно, что Кирилл закупился на рынке, в три раза дороже, зато не потерял целый вечер на стояние в очередях. Да и продукты много лучше, только стоит ли позволять себе подобное роскошество, ведь к хорошему быстро привыкаешь, а Кириллу скоро придется стать единственным кормильцем семьи из четырех человек, и хоть он отлично зарабатывает, но дорогу на рынок придется забыть.
Ирина хотела поругать мужа за расточительство, но не стала.
– Мяса пожарить тебе?
Кирилл покачал головой:
– Нет, я в электричке не удержался, сожрал мороженое, так что пока ничего не хочу, – он выглянул в окно и, убедившись, что дети играют на веранде, прикрыл дверь, – давай поговорим серьезно, Ирочка.
Она чуть не выронила пачку масла, которую держала в руках. Именно так все и кончается, судьба бьет внезапно, под дых, и именно когда ты счастлива и не ждешь удара, и больше того, уверена, что именно теперь его никак не может быть.
– Да, давай, – пробормотала она, тяжело садясь на табуретку.
Голова опустилась сама, как будто под карающий меч. Что ж… К плохому приходится привыкать так же быстро, как и к хорошему.
– Ира, что с тобой? Тебе нехорошо?
Кирилл подал ей стакан воды, и она пила медленно и до конца, лишь бы только оттянуть миг, когда он скажет, что она не нужна ему больше. Все кончено, и им осталось только спокойно, как взрослым людям обсудить, как разойтись и как быть с ребенком.
– Говори, – сказала Ирина глухо.
– Что-то вид у тебя не для серьезных разговоров.
– Говори!
– Ну, в общем, я подумал… Конечно, это не слишком хорошо, наверное, и жестоко…
– Да не тяни ты уже!
– Я хочу усыновить Егора.
– Что?
– Усыновить Егора. Это возможно при живом отце?
– Да, – Ирина почувствовала, как на глаза набегают слезы, и отвернулась, – в принципе возможно.
Господи, как же она жила, если фраза «нам надо серьезно поговорить» вызывает у нее условный рефлекс паники и боли?
– Только это непросто будет сделать, если мой бывший упрется и не даст согласия.
– А он может?
Ирина закатила глаза. Чтобы бывший муж отказался от возможности подгадить, когда он в своем праве и ему за это ничего не грозит? Да ни за что в жизни, будет выделываться, как муха на стекле, пока исполнительный лист не упадет на голову.
– А без его согласия никак?
– Ну почему, можно. Надо либо лишить его родительских прав, либо доказать, что он уклоняется от участия в воспитании ребенка в течение шести месяцев.
– Так какая проблема, если он это делает уже в течение шести лет, – фыркнул Кирилл.
– Не спеши с выводами. Тут много скользких моментов. Вот смотри, наша ситуация: папашу мы не видим, денег его тоже. Если Егорке сейчас устроить опознание, то уверяю тебя, он не укажет на своего родителя. Казалось бы, раз отец не хочет заниматься, дайте отчиму занять его место, верно?
– Само собой.
– Но не все так просто. Папашка в суде скажет, что это злыдня бывшая не разрешает ему видеть горячо любимого сыночка, и поди докажи, что это не так. При хорошем адвокате можно даже бывшей штраф за самоуправство навесить. Ладно, судья попадется адекватный и понимающий, что отношения между людьми вещь эфемерная, и обратится к измеряемым параметрам, то есть к деньгам.
– Логично, – улыбнулся Кирилл.
– Возможно, злая мать не позволяет видеться, но отец участвует финансово? Отдает двадцать пять копеек с каждого заработанного рубля? Тут, кажется, вообще элементарно: платишь – отец, нет – пошел вон.
– Ну да.
– А вот и нет! Невозможно доказать, что отец уклоняется от алиментов, пока мать не подала в суд на их взыскание. А я этого не делала, потому что не хотела позориться. Ну а когда подадим, то бегать от них у моего бывшего кишка тонка. Будет, как миленький, отслюнивать по исполнительному листу, значит, неучастие уже не вменишь, а лишить его родительских прав вроде как не за что. Насколько мне известно, он преступлений не совершал и под забором пьяный не валяется.
– Обидно. Но я все равно хочу усыновить Егора.
– Кирилл, это дело долгое и муторное, может растянуться на несколько лет и так ничем и не закончиться. Не лучше ли оставить как есть?
Кирилл отрицательно покачал головой:
– Нет, не лучше. Конечно, надо спросить Егора, согласен ли он, потому что сейчас я для него просто старший товарищ, такой веселый приятель типа его любимого Карлсона, а если получится усыновить, то буду нести за него полную ответственность. Решать смогу за него, что-то запрещать, к чему-то принуждать. Он окажется в моей власти, поэтому вопрос очень важный. Насколько вы с ним доверяете мне, чтобы позволить участвовать в его судьбе.
– Ты знаешь, что мы тебе верим. Конечно, всякое может случиться, и пока неизвестно, как Егор будет взрослеть, но не думаю, что когда-нибудь он тебе крикнет: «Ты мне не отец!»
– Ой, я тебя умоляю! Все дети так кричат, просто при обращении к родному родителю приходится добавлять слово «больше». «Ты мне больше не отец!», вот и вся разница.
Ирина засмеялась, но тут же осеклась. А ведь и правда, кто не выпаливал в сердцах эти слова, не думая, насколько они страшны, и еще страшнее оттого, что они всего лишь эхо «ты мне больше не дочь!», «мне не нужен такой сын!», «другой бы на твоем месте!», «лучше никакого ребенка, чем такой, как ты!», «за что мне такое наказание!».
И муж с женой орут друг на друга: «Чтоб ты сдох!», «Я тебя ненавижу!», а потом все это безобразие выдается за эмоциональность и ранимость… Погорячился, вспылил, но это от сильных чувств, так что вроде как и извиняться ни к чему.
– Ира, – перебил Кирилл ее раздумья, – я понимаю, что суд – это всегда муть и грязь, но я хочу, чтобы Егор знал, что у него есть отец. Не просто мамин муж, который играет с ним в доброго папочку, а настоящий официальный отец, который за него отвечает так же, как и за своего второго ребенка. И очень хорошо было бы, если бы второй ребенок не знал, что Егор у тебя от первого брака. Надеюсь, у тебя было время убедиться, что я нормальный человек, а не какой-нибудь мистер Морстен из «Дэвида Копперфильда».
Ирина засмеялась:
– Тогда ты поговори с Егором, а я попробую шантажировать бывшего мужа алиментами. Если поставить перед ним дилемму – подмахнуть одну бумажку или еще двенадцать лет платить мне четверть всех своих доходов, я думаю, что он все же выберет первое.
* * *
Неожиданные каникулы закончились, и Гарафеев вернулся на работу. Кожатов успокоился, остыл, папашка его, видимо, тоже, потому что никаких репрессий Гарафеев на своей шкуре не ощущал.
Трудился как прежде, и, как и прежде, Кожатов заглядывал ему в глаза, улыбался и просил согласовать назначения, заинтубировать или поставить подключичку.
Гарафеев согласовывал, интубировал и ставил, потому что интересы пациентов прежде всего. Правда, он больше не улыбался Кожатову в ответ, но это не имело никакого значения.
Как писал Николай Васильевич Гоголь: «И он, как говорится, ничего, и они ничего».
Служебные заботы отвлекли его от мыслей про семейные тайны Тиходольских, к тому же Гарафеев вообще не имел привычки думать о том, что нельзя изменить.
Все это произошло много лет назад, если произошло вообще, и виноват Дмитрий или нет, но он уже мертв, а была ли Ульяна Алексеевна соучастницей или ничего не знала, все равно срок давности, наверное, уже вышел.
Какое-то время Гарафеев еще раздумывал, а стоит ли вообще рассказывать судье о своих наработках, то ему казалось, надо все сообщить, то наоборот. Зачем ставить перед беременной женщиной такую сложную во всех смыслах задачу?
Они со Стасом, что называется, прокукарекают, и до свидания, а бедной Ирине Андреевне придется как-то реагировать, что-то решать, а это в ее положении совсем ни к чему. Потом еще акушеры ни в один роддом не примут из профессиональной солидарности. Накатила бочку на нашего лучшего врача – иди рожай на улицу!
Но и эти мысли он вскоре оставил.
Лиза, кажется, нормально зажила со своим Вовкой, когда удалось его отлучить от материнской груди. Оказывается, мамаша давала ему денег на жизнь, почти сто рублей в месяц, от этого он так и наглел. В конце концов Гарафеев донес до него идею, что мужик должен быть самостоятельным, и Вова устроился на полставки фельдшером в психушку. А после того как муж стал добытчиком, у строптивой Лизы не осталось поводов отлынивать от хозяйства.
Жена окончательно переехала в комнату дочери, и почти с ним не разговаривала. Гарафеев подметал по нечетным дням, покупал себе чай, хлеб, ливерную колбасу и сушки и старался как можно реже бывать дома.
Каждое утро он обещал себе, что сегодня начнет искать работу в другом городе, и каждый вечер засыпал, не сделав для этого абсолютно ничего.
Соня так и не сказала ему, в кого была влюблена, хоть он несколько раз и пытался в более или менее грубой форме это выяснить.
– Ты дебил, если не понимаешь, что через двадцать лет это совершенно не важно, – только и сказала жена.
Гарафеев поинтересовался, зачем она тогда вообще подняла эту тему, но Соня не ответила.
Он понимал, что они становятся посторонними людьми, но не чувствовал этого. Хоть она теперь не готовила ему и не встречала на пороге поцелуем, как раньше, она все равно оставалась его Соней, девушкой, которую он когда-то полюбил.
Или что-то другое это было? Может, настоящая любовь переживается совсем иначе?
В конце концов, он никогда не думал, что мир рухнет, если Соня не ответит ему взаимностью, и тяги к суициду тоже не испытывал. И даже не сходил с ума от восторга, когда видел ее. Просто так вышло, что были отдельно все люди мира, и отдельно Соня, к которой его душа чувствовала глубокое сродство. Гарафеев хотел быть с нею, но в то же время знал, что и без нее проживет.
Спокойное это было чувство, без надрыва, и почему-то ему казалось, что у Сони точно так же. А теперь выяснилось, что он чувствовал то, чего не было, и вся эта духовная близость существовала только в его воображении.
Гарафеев сам не думал, что станет так от этого мучиться и на старости лет застрадает детскими обидками, но успокоиться пока не мог.
И со страхом считал дни, оставшиеся до даты развода, и мечтал, чтобы он как-нибудь отменился.
Он писал назначения в реанимационной карте, когда в ординаторскую вошел заведующий с бутылкой коньяка:
– Привет тебе от Завьялова, – он жизнерадостно стукнул донышком об стол.
– О, хороший!
– Ну а то! – Витя деловито скрутил железную крышечку и наплескал в стаканы по чуть-чуть.
Гарафеев покосился на часы, убедился, что его рабочее время кончилось час назад, и замахнул.
– У тебя завтра снова выходной, Гар.
– В честь чего это?
– Из суда звонили. Тебе завтра надо там хвосты подбить.
Настроение сразу испортилось, и Гарафеев жестом показал, чтобы Витька налил по второй. До этой минуты он надеялся, что все рассосалось без его участия, но нет. Впрочем, повидать Стаса будет приятно.
– В общем, иди и завтра уж сюда не возвращайся.
– Чего это ты так меня бережешь?
– Да очень просто. Чтобы хорошо поработать, надо хорошо отдохнуть.
Гарафеев засмеялся и щелкнул по коричневато-желтой этикетке, вот он, наш отдых.
Витя вздохнул и снова плеснул в стаканы:
– Вот именно. Излюбленный отдых советского человека. Нет у нас понятия: хорошо поработал тире хорошо отдохнул. Ни денег нет на нормальный отдых, ни связей, чтобы профсоюзную путевку получить. У нас другое – хорошо поунижался, тогда хорошо отдохнул. Соответственно, и обратный тезис не закрепился в массовом сознании: хорошо отдохнул тире хорошо поработал. Кроме того, у нас нет прямой связи хорошей работы с хорошей зарплатой. Ты больше Кожатова получаешь за стаж, а не потому, что за него пашешь. И что делает в таких условиях руководитель?
– Что?
– Руководитель начинает выжимать из хорошего работника максимум, а плохого держит как балласт, и нервным срывом это кончается в самом лучшем случае.
– У меня не было нервного срыва.
– Ладно, ладно. И еще одна тут есть опасность: мы ж не вечны, Гар. Уйдем когда-нибудь, и что оставим? Один балласт? Поэтому давай, отдыхай как следует, восстанавливайся и вперед, с новыми силами молодежь воспитывать.
Выпили они немного, но Гарафеев отчего-то быстро захмелел и отправился гулять по городу.
Он бродил один, в надежде встретить какого-нибудь старого друга и вспомнить былые светлые деньки, и понять, были ли они такими, как представляются ему сейчас.
В своих бесцельных странствиях он вдруг набрел на школу, где училась Лиза, и постоял возле нее, вспоминая дочкин первый раз в первый класс. Вот странность, сейчас тот день казался ему исполненным благостного умиления и радости, но, с другой стороны, он совершенно точно помнил, как, томясь в толпе других родителей, бесился, что директриса никак не кончит свою тупую речь и детей не разберут по классам, и от этого он опоздает на работу, а сегодня предстоит давать важный наркоз.
Тут он понял, что никак не может вспомнить, была Соня на той линейке или нет. Будто какое-то слепое пятно. Как отрезанный кусок на фотографии. У матери Гарафеева много было дома таких старых снимков, когда приходилось отрезать известных людей. Были и лица с отрезанными лбами, в детстве он их пугался, пока бабушка не объяснила, что это убирали фуражки, на случай если вдруг придут с обыском чекисты.
Так и у него будет. Со временем Соня исчезнет не только из жизни, но и из воспоминаний, и это будет очень страшно. Тогда он и сам истончится и исчезнет. Будто и не было никогда.
Гарафеев вздрогнул и протрезвел.
Вспомнил про завтрашний суд, и настроение совсем испортилось. Он открыл кошелек и, найдя среди мелочи две копеечные монетки, двинул в красно-синюю будку телефона-автомата. Там ощутимо пахло высохшей на солнце мочой, но трубка не была оторвана, и в ней даже шел гудок.
– Ну надо же, – фыркнул Гарафеев и, стараясь не дышать лишнего, набрал номер Стаса.
Ответила соседка, и Гарафеев так долго слушал возню коммунального коридора, что уже начал искать в кошельке еще двушку, но тут наконец в трубке раздался голос Стаса.
– Надо бы пообщаться перед завтрашним судом, Стас. Может, я зайду?
– Слушай, Гарыч, тут такое дело… Я как бы не один.
Стас засмеялся, и Гарафеев понял, что у него женщина и он счастлив.
– Ааа… – только и сказал он.
– Подгребай завтра на полчасика пораньше, все и обсудим.
Гарафеев обещал и повесил трубку, немного грустя по молодой энергии, которую сам давно утратил.
Он брел куда глаза глядят, крутя в голове разные мелкие мысли, например, что уже давно стоит ясная солнечная погода и Соне, наверное, очень хочется на дачу, которой у нее нет и благодаря раздолбайству мужа никогда не будет. Потом думал про Стаса, как неожиданно в замызганной телефонной будке услышать голос сбывшейся мечты. Потом про Лизу, как она там, на своей практике, которую называет каникулами мазохиста.
Всем чем угодно забивал голову, лишь бы не думать о том, как поступить завтра.
Наконец он набрел на серый куб станции метро и поехал домой.
Открыл дверь, стараясь не греметь ключами, но Соня услышала и вышла ему навстречу.
– Хочешь поужинать?
Гарафеев приподнял бровь и изобразил руками что-то вроде «не верю своим ушам!».
– Так будешь или нет?
– Ладно, давай.
– Подумаешь, одолжение!
Жена ушла в кухню и загремела посудой. Гарафеев быстро вымыл руки и последовал за ней, сел за стол, накрытый новой клетчатой клеенкой, от которой еще остро пахло хозяйственным магазином.
Соня разогрела ему гречневой каши и поджарила яйцо, как он любил, с размазанным желтком. Щедро посыпала тарелку зеленым луком и укропом, и Гарафееву припомнилось самое начало их семейной жизни, когда за три дня до стипендии заканчивались все деньги в доме, и они подъедали остатки крупы и макарон, и как-то бабушка на вызове сунула Гарафееву туго завернутый в газетку пучок зелени с дачи. Тогда с этим было строго, подношения благодарных пациентов с негодованием отвергались, но бабка так взглянула на Гарафеева, что он взял, и принес домой, и думал, что больше ничего нет, но нашлась горстка овсянки, и Соня сварила ее на воде, и накрошила туда бабкиной зелени, и это оказалось такое восхитительное кушанье, что они ели его и в тучные годы.
А потом как-то забылось, стерлось…
Соня, прислонившись к подоконнику, молча смотрела, как он ест.
Гарафеев работал вилкой, притворяясь, что молчание совсем не тяготит его.
Когда он доел, Соня забрала у него тарелку и сказала:
– Игорь, я беременна.
– Прости?
– Понимаю, звучит глупо, но это так.
Гарафеев тряхнул головой, не в силах поверить, что действительно это услышал. Много лет назад они пытались зачать второго ребенка, но ничего не вышло, и в консультации Соне сказали, что у нее спаечный процесс и детей больше не будет. Гарафеев немножко порасстраивался, потому что хотел сына, как всякий мужик, а Соня, кажется, даже обрадовалась, что может спокойно делать карьеру.
– Ты так шутишь?
Она отрицательно покачала головой:
– Я так понимаю, ты не рад.
Гарафеев почесал в затылке:
– Как тебе сказать… Это не то, чего я ждал от жизни.
– Да и я в общем-то тоже.
– Интересный у нас с тобой получился внешний фактор.
– В смысле?
– Помнишь, ты сказала, что иногда нужен внешний фактор, чтобы никому не ломать свою гордыню?
Соня засмеялась:
– Да уж. Я думала, для нас это будет смерть, а оказалось ровно наоборот.
Гарафеев развел руками:
– Вот видишь, куда доводит секс с посторонним человеком.
Соня подошла к нему, хотела обнять, но вдруг резко отстранилась:
– Или ты все еще хочешь развестись?
– Ну что ты, теперь какой развод, – сказал Гарафеев.
Соня погладила его по голове:
– Ты меня прости, пожалуйста.
– Ты просто устала, Сонечка.
– А ты совсем разлюбил меня, Гар?
Он взял ее руку и прижал к своим губам:
– Ты знаешь, Соня, мне кажется, что наша любовь только начинается.
Утром Гарафеев самым позорным образом проспал. Он услышал будильник и собрался вставать, но рядом лежала Соня, и так захотелось еще немного к ней прижаться, тем более что ему показалось, будто он совершенно бодр и ни за что не уснет, если на секунду обнимет жену и закроет глаза.
Он ошибся. Спал или нет, а очнулся, только когда Соня, уже полностью одетая и даже накрашенная, тронула его за плечо и спросила, не хочет ли он сходить в свой дурацкий суд.
Гарафеев подскочил. Соня не знала, что он договорился со Стасом на полчаса раньше, поэтому разбудила его так, чтобы он как раз успел к началу заседания. И то впритык.
Хорошо еще, побрился с вечера, чтобы предстать перед женой свежим импозантным мачо, потому что оставалось время только быстро умыться, запихать себя в костюм, глотнуть кофе, взять в зубы бутерброд и мчаться к метро, на ходу повязывая галстук.
Оставалась надежда, что Стас тоже проспит и тоже потому, что был счастлив этой ночью.
В метро особой давки не было, и Гарафеев стоял, глядя на свое отражение в окне вагона. На фоне темной бетонной стены тоннеля он выглядел очень даже ничего, таким же молодым и сильным, как двадцать лет назад, когда они с Соней ждали Лизу.
Гарафеев улыбнулся, и юный Гарафеев с оконного стекла улыбнулся ему в ответ.
Форточка была приоткрыта, и лицо приятно обдувало сладковатым воздухом метрополитена. Гарафеев поправил узел галстука.
Им с Соней по сорок два года, ей даже еще сорок один. Слишком древние они для ребенка, и, наверное, это не тот случай, когда лучше поздно, чем никогда. Риск огромный и для матери, и для ребенка, и аборт – самый разумный выход.
Но Соня решила рожать, и ничего не остается другого, как быть рядом с нею. Девять месяцев умирать от страха при малейшем ее недомогании, потом замирать от ужаса под дверями родзала – кто появится на свет, даун или нормальный…
Ну а потом, если все пройдет благополучно, то бессонные ночи, пеленки и весь этот кошмар.
Прогулки с колясочкой… Первые шаги… Интересно, кто будет, мальчик или девочка? Хочется сына, но тогда пропадет его талант к завязыванию бантиков – розочкой, и четырехлопастных, и восьмилопастных, и еще кучи разных разновидностей.
Сына придется воспитывать, подавать ему пример мужского поведения, а он ведь страшный раздолбай, тютя и мямля. А дочку можно будет просто любить и баловать.
Гарафеев так размечтался, что проехал свою станцию метро и потерял последние минуты форы.
Он влетел в вестибюль суда в одну минуту одиннадцатого. Стас пытался преградить ему путь, но Гарафеев отмахнулся и помчался в зал, перепрыгивая через ступеньки широкой мраморной лестницы. Стас несся за ним, что-то пытаясь ему сказать, но Гарафеев уже не слушал, так переживал, что из-за его опоздания заседание отменят или перенесут.
Суеверный, как все врачи, Гарафеев боялся, что если по его вине будет волноваться беременная судья, то это бумерангом отразится на Соне.
* * *
Закрыв больничный, Ирина договорилась на работе, что закончит процесс Тиходольской и сразу пойдет в отпуск, плавно переходящий в декрет.
Она приехала с дачи одна, оставив сына на попечение Кирилла, который специально для этого накопил несколько отгулов за сверхурочную работу.
Егор очень обрадовался, что Кирилл хочет стать его настоящим папой, а у Ирины кольнуло на сердце, что он даже не вспомнил про своего реального отца.
Странное это было чувство. С одной стороны, она понимала, что первый муж достоин не только забвения, но и презрения, и нельзя требовать от ребенка, чтобы тот любил человека, которого не видел столько лет, но все равно на душе было тоскливо.
Не то чтобы прямо тяжело, но не чувствовала она той внутренней убежденности, что поступает правильно, с которой выносила приговоры.
Да, Егор мал, и нельзя от него требовать, чтобы он любил человека на расстоянии. Трудно любить и уважать отца, когда тот всего лишь абстракция, пара фотографий, небрежно засунутых под обложку семейного альбома, да смутное воспоминание даже не о самом человеке, а о тоске по тому, что он больше не рядом.
Ребенок еще не знает, что это предательство, но рана не заживает быстрее оттого, что ты не помнишь, каким оружием она нанесена.
И совершенно естественно, что он тянется к доброму и сильному человеку, который рядом, и хочет назвать его отцом.
Все правильно, но Егор – всего лишь ребенок, а она взрослая женщина и обязана быть милосердной. Должна предвидеть, что люди меняются, и в будущем родной отец может вспомнить, что у него есть сын. Раскается, захочет общаться…
Все может произойти в этой жизни.
Первый муж – слабый человек, но хочется верить, что не конченый подонок. Не жестоко ли будет лишить его последней надежды?
Оставить все, как есть, гораздо проще. Сказать, ах, зачем эти формальности, когда Кирилл все равно тебе как отец. Главное, мы знаем, что мы одна семья, так давайте побережем нервы и не будем связываться с этой волокитой.
Ирина вздохнула. Похоже, когда не нарушаешь закон, не существует правильных решений. Всегда кого-то обидишь.
Тут она взглянула на часы и обнаружила, что пора начинать, а заседателей все нет. Неужели заседание опять сорвется? Но это будет просто свинством по отношению к бедной Ульяне Алексеевне!
Ирина вышла в коридор, лихорадочно думая, что делать. Откладывать или звонить в милицию, чтобы разыскали и привели разгильдяев, уклоняющихся от исполнения своего гражданского долга? Или брать за горло Славу, пусть снимает обвинения.
«Вроде бы душевные ребята, а оказались такие козлы», – подумала она в сердцах, и тут раздался топот, и перед ее глазами возникли заседатели, причем Игорь Иванович был красный и запыхавшийся, а Стас просто злой.
Времени на светские приветствия не осталось, и, наскоро поздоровавшись, Ирина поспешила в зал.
Сегодня народу собралось совсем немного. Свидетели, уже давшие показания, не пришли, явились лишь главврач, кругленький усатый дед, которому предстояло дать характеристику Тиходольской, несколько женщин примерно одних с ней лет, очевидно, коллеги, вот и все.
Ирина удивилась, что в этот раз Ульяна Алексеевна не взяла с собой детей. С другой стороны, обвинитель просит исправительные работы, а это наказание не связано с лишением свободы. Тиходольская все равно вернется сегодня домой, а один раз они моральную поддержку матери оказали, и этого вполне достаточно. Не знают, наверное, просто, что судья имеет право назначить наказание строже того, что запрашивает обвинитель.
Все равно отсутствие детей неприятно царапнуло, потому что в прошлый раз Тиходольские произвели на Ирину впечатление дружной и любящей семьи. В последнее время, когда тревога о том, что с рождением второго ребенка Егор окажется заброшен, становилась особенно сильной, она вспоминала свою незадачливую подсудимую и думала, что раз эта женщина смогла воспитать чужое дитя как свое, то Кирилл тоже сможет. В конце концов, женщине труднее принять пасынка или падчерицу, чем мужчине, это факт, отраженный в сказках народов мира, где злая мачеха кочует из сюжета в сюжет, а о злых отчимах особенно не слышно.
Ирине подсознательно хотелось снова увидеть эту семью, как пример душевной щедрости, вот она и расстроилась, что Тиходольская пришла одна.
Главный врач произнес настоящий панегирик своей сотруднице. Ульяна Алексеевна не только прекрасный врач, но и замечательный наставник, делится секретами мастерства с молодыми специалистами, поднимает уровень знаний акушерок и младшего персонала. Понятие рабочего времени не является для нее чем-то незыблемым, Тиходольская всегда готова задержаться или даже прийти в выходной день, если случай сложный и дежурный врач чувствует, что не справляется.
При этом, проведя в родзале весь воскресный день, Ульяна не требует оформить ей сверхурочные, а оставляет вопрос на усмотрение администрации. Оплатят – хорошо, а нет – так и не надо. Главное, что роды прошли успешно. Коллеги подтрунивали над Тиходольской за подобный альтруизм, но она говорила, что самое главное – чувствовать, что живешь не зря, а это не купишь ни за какие деньги.
Услышав эту назидательную сентенцию, Гарафеев вдруг встрепенулся и спросил у свидетеля, всегда ли так было. Главврач насупился и после небольшого размышления сказал, что сейчас кажется, будто так было всегда, ибо к хорошему быстро привыкаешь, но, разумеется, когда дети были маленькими, то Ульяне Алексеевне приходилось, как всем работающим мамам, все бросать и сломя голову мчаться в садик, но вообще ее супруг был из той лучшей разновидности трудоголиков, которые признают за своими близкими такое же право на трудоголизм. А дети… Существует такое понятие, как докторские дети. Это не по годам самостоятельные и сообразительные ребята, которые с первого класса умеют жить на этом свете, пока предки вытаскивают людей с того.
– Вот вы хотите исправительные работы, – горячился главврач, – а я вам так скажу, что вся жизнь врача – это исправительные работы!
Тут Гарафеев фыркнул, но ничего не сказал.
– Нам бабушка, моя мама, очень помогала, – сказала Тиходольская, – без нее я с тремя детьми ни за что не справилась бы.
Ирина не видела своих заседателей почти месяц и не могла не признать, что за это время они оба неуловимо, но сильно изменились.
Кажется, все то же, и даже одежда, но оба будто расцвели и воспрянули. От Стаса прямо так и веет энергией блаженства, и Гарафеев мало от него отстает. Черт возьми, а приятно находиться рядом со счастливыми и довольными мужиками!
Ирина улыбнулась и предоставила Тиходольской последнее слово.
Ульяна Алексеевна встала и сказала почти то же, что и в начале процесса.
Она понимает, что убила человека, раскаивается в этом и готова понести наказание.
Сказано это было спокойно. Ирина снова улыбнулась ей и кивнула, призывая продолжать, но Тиходольская не сказала больше ничего. Ни просьб, ни давления на жалость, Ирина даже позавидовала ее выдержке и подумала, а смогла бы она сама держаться с таким же достоинством или смалодушничала.
Оказавшись в совещательной комнате, Ирина первым делом включила кипятильник. Она уехала сегодня с дачи на первой электричке и не зашла домой позавтракать, как обещала Кириллу, поэтому сейчас под ложечкой ощутимо сосало.
По дороге в суд она купила в булочной кулек пряников и перед заседанием закинула его на подоконник в совещательной комнате. К счастью, никто его не заметил и не сожрал, и теперь она высыпала пряники на блюдце, а из тумбочки достала чашки и заварку.
– Давайте чайку попьем, чтобы не выходить слишком быстро, – улыбнулась она, – съедим по прянику, да и оправдаем. Мы же оправдаем, верно?
– Верно, – сказал Стас.
– Ирина Андреевна, тут такое дело… – вдруг начал Гарафеев.
– Господи, да что?
– Гарыч, не начинай! – воскликнули Ирина и Стас одновременно, и повисла немая сцена, быстро прервавшаяся громким рокотом воды в кипятильнике.
Ирина выдернула вилку из розетки и снова уставилась на своих заседателей, как учительница на двоечников.
– Мы в общем кое-что выяснили, – промямлил Гарафеев.
Стас с досадой махнул рукой:
– Хотел тебе перед заседанием сказать, чтобы ты молчал в тряпку, а ты взял и опоздал!
– О чем молчал?
– Ирина Андреевна, да мы, в общем, ничего конкретного не узнали, – Стас достал большой клетчатый носовой платок, через него взял банку за горлышко и залил кипятком заварку, – ничего такого, о чем вам необходимо было бы знать. Верно, Игорь Иванович?
– Нет, неверно! – вскинулся Гарафеев.
– Просто беллетристика и фантазии, – цыкнул на него Суханов, и Игорь Иванович стал смотреть в окно как-то уж слишком пристально.
– Я вас внимательно слушаю, – сказала Ирина.
Заседатели переглянулись, и Гарафеев промямлил, что, в общем, действительно, ничего конкретного они не обнаружили, и если расскажут ей, то только затормозят процесс принятия решения, и все.
Ирине было приятно почувствовать себя слабой женщиной, за которую сильные мужчины все решают, только работа есть работа.
– Говорите все, что знаете, – сказала она, понимая, что быстрого приговора опять не получится, – а дальше вместе будем решать, важно это или нет. Главное, помните, что мы никуда не торопимся, кушайте пряники и рассказывайте все подробно.
…Выслушав историю Гарафеева, Ирина встала и подошла к открытому окну. Вот уж действительно, молчал бы лучше. А теперь что делать?
Гарафеев сидел, постукивая пальцами по столу, а Стас тоже поднялся, потянулся к дежурной пачке сигарет на стеллаже, но Игорь Иванович воскликнул:
– Ты что, дебил? При беременной женщине? – и шлепнул Стаса по руке.
Тот надулся, сел обратно за стол, притянул к себе папку с материалами дела и стал ее с преувеличенным вниманием листать.
– Ребенок не знаю, а жену кремировали, – буркнул он, – я у мамы спрашивал, если что.
– Первый раз сталкиваюсь с подобной ситуацией. Скажите, Игорь Иванович, насколько вы убеждены, что сын и первая жена Тиходольского были отравлены?
– Почти на сто процентов.
– Но не на все сто?
– Нет, конечно, – фыркнул Гарафеев, – такого в медицине вообще не бывает.
– Тогда мы в крайне трудном положении. У нас есть сильные подозрения, что ребенок и молодая женщина погибли насильственной смертью, и мы… скажем так, не можем исключить, что в этих преступлениях замешана наша подсудимая. Так?
– Да, верно.
– Хорошо, товарищи, я приняла к сведению эту, откровенно говоря, шокирующую информацию, только сегодня мы с вами собрались тут совсем по другому поводу, не имеющему отношения к тем давним событиям. Сегодня мы должны решить, виновна ли Тиходольская в превышении пределов необходимой самообороны или нет. Вот в чем наша задача. А потом, когда выйдем из совещательной комнаты, вы имеете полное право обратиться в прокуратуру и сообщить о своих подозрениях тому должностному лицу, которое согласится вас выслушать.
– И что?
– И вас, скорее всего, пошлют подальше. Перспектива у дела нулевая. Точнее, можно раскрутить, но работы море, а результат очень сомнительный. Если Ульяна Алексеевна не даст чистосердечного признания, то доказать вашу теорию будет очень проблематично. Особенно если тело кремировали, как говорит Станислав. Вы откуда это знаете, кстати?
– Моя мама позвонила своей подружке, а та своей соседке по даче, которая дружила с первой женой Тиходольского и ходила на ее похороны, которые состоялись в крематории.
– Ясно. Что ж, пепел вопрошать бесполезно.
– А в нем нельзя определить содержание таллия?
– Может, и можно, но что это именно пепел жены Тиходольского, доказать никак нельзя, – отрезала Ирина.
Гарафеев откашлялся:
– А ребенок? – спросил он с усилием. – Детей все-таки стараются хоронить в земле.
Ирина поежилась. Поскорее бы закончить эту страшную тему!
– Хорошо, проведут эксгумацию и обнаружат таллий. И что дальше?
– Как что?
– На этом таллии не будет написано, кто именно подложил его в еду ребенку. Напротив, хороший адвокат вспомнит об эпидемии сальмонеллеза в пионерском лагере и скажет, что то был вовсе и не сальмонеллез, а вопиющая халатность сотрудников, которые перепутали сахар, например, с крысиным ядом, и в результате дети отравились, а списали на кишечную инфекцию. Просто Тиходольский по случайности принял яда больше других, вот и умер.
– А как же мать? Две подозрительные смерти в одной семье не тянут на простое совпадение.
– Не тянут, да, но без тела матери мы не можем выйти из области предположений, которые в суде не рассматриваются. В самом крайнем и маловероятном случае, если попадется очень настырный следователь и непонятно как докажет все-таки факт отравления, ныне здравствующая мадам Тиходольская никоим образом от этого не пострадает. О боже мой, скажет она, неужели мой дорогой муж совершил эти ужасные преступления? Я в шоке! Он казался таким хорошим человеком! И следователь тут может хоть головой о стенку биться, но ничего не сделает, если она не признается.
– Даже если доказать, что она была любовницей Дмитрия и родила ему сына при живой жене?
Ирина фыркнула:
– Это не преступление. Да, любила, и так сильно, что готова была всю жизнь оставаться тайной любовницей. Даже ребенка родила вне брака, понимая, что он все равно не женится, а хочется иметь рядом кровиночку, частичку обожаемого мужчины. Игорь Иванович, здесь все очень зыбко, и боюсь, что если вы пойдете добиваться правды, то только завоюете себе нехорошую репутацию, и все.
– Ну да, – поморщился Гарафеев, – скажут, паранойя накрыла.
– А если вспомнить, кем был Тиходольский при жизни, так вообще… Кто позволит чернить имя известного ученого?
Помолчали.
Ирина все-таки съела пряник, запила его остывшим чаем и с тоской подумала, что ее ведь предупреждали. Ведь говорили хорошие люди Гарафеев и Суханов, что ни к чему ей это знать, но она, как всегда, захотела быть хозяйкой положения и в результате оказалась перед сложнейшей этической дилеммой. Перед такой миной, которую настолько непонятно, как обезвредить, и так неизвестно, насколько сильно она рванет, что лучше оставить ее там, где она лежит, выставив ограждение.
Что доказать трудно, это еще полбеды. Самое страшное – это если Ульяна Алексеевна ни в чем не виновата, а из-за проницательности Гарафеева окажется на зоне.
Легко заявлять «доказать невозможно» из судейского кабинета, а в работе следователей есть своя специфика, свои секреты, как хорошие, так и не очень.
Честный и добросовестный следователь будет собирать доказательства, много часов допрашивать Тиходольскую в надежде добиться признания, и дай бог, если у него получится выяснить истину.
Только гарантии, что дело попадет к такому специалисту, нет. Возможно, за расследование возьмется карьерист и халтурщик, и ради того, чтобы заявить о себе, просто вынудит Ульяну Алексеевну сознаться в том, чего она не совершала. Пригрозит детьми, и все. Мать подпишет что угодно.
Небо потускнело, вдруг быстро стало затягиваться тучами, и вскоре западали редкие и крупные, как виноградины, капли дождя.
Из-за крыш наползал край тяжелой черной тучи. Резко дунул ветер, хлопнул оконной рамой, Гарафеев встал, молча отодвинул Ирину в глубь комнаты и закрыл окно.
Ирина поставила кипятиться новую порцию воды. Гарафеев, отводя глаза, вернулся на свое место, а Стас, кажется, тоже не хотел ничего решать, потому что изображал, будто внимательно изучает дело.
Несколько минут прошло в тишине, и тут дождь сильно и мерно забарабанил по стеклу.
– Да, быстро не получится, – вздохнула Ирина, садясь на стул и кладя ноги на соседний.
Верх неприличия, конечно, но кто знает, сколько здесь еще сидеть.
Черт, она была так убеждена в оправдательном приговоре, что даже не посмотрела расписание вечерних электричек!
Твердо знала, что уедет на шестнадцатичасовой, а теперь неизвестно…
А вдруг Егор с Кириллом двинут на станцию встречать маму? Что подумают, когда она не приедет? И телефона у них нет, чтобы предупредить.
Заседатели, кажется, облегчили душу и на этом успокоились. Конечно, зачем самим терзаться, искать правильное решение, когда для этого есть специально обученный человек? Который, с одной стороны, беременная женщина, а с другой – сам потребовал все рассказать, так что ура, с них теперь взятки гладки.
Ирина откашлялась:
– Давайте действовать поступательно. Сначала вынесем решение по этому делу, а потом уже в спокойной обстановке подумаем, как быть с новой информацией. У меня есть знакомые следователи и эксперты, я поинтересуюсь у них, насколько вообще возможно что-то доказать в данной истории, и тогда уже будем думать, куда наступать.
– А сейчас что, оправдаем, и все?
– Игорь Иванович, но мы с вами судим не человека в целом, а его конкретное деяние, и для нас сейчас не важно, имеет ли Ульяна Алексеевна отношение к отравлению первой семьи Тиходольского, если оно вообще имело место быть. Понимаете? Плохие вещи случаются не только с хорошими, но и с плохими людьми, так что отравительница она или нет, а с нападением уголовника это никак не связано.
Вдруг Стас громко фыркнул.
– Что смешного, товарищ Суханов?
– Я бы не спешил с выводами, – протянул Стас, – хотел промолчать, но раз уж пошел у нас этот разговор, то отравления и убийство Смышляева вполне могут быть звеньями одной цепи.
– В смысле?
Тут заклокотала в банке вода, и Ирина, не глядя, выдернула шнур кипятильника из розетки. С чаем заводиться никто не стал.
Гарафеев с Ириной с нетерпением смотрели на Суханова.
– Я тут почитал, – сказал Стас, выдержав долгую мхатовскую паузу, – кем работал несчастный убитый…
– Он нигде не работал.
– После последней отсидки – да, а когда первый раз вышел из тюрьмы, то устроился помните куда?
– В НИИ какой-то.
– Не какой-то, а вполне определенный.
– Слушайте, Суханов, давайте без лишней театральности!
– Бедняга работал в НИИ минералогии, а там широко используется такой интересный реактив, как раствор Клеричи. С его помощью определяют плотность минералов.
– И надо понимать, он содержит таллий?
– Совершенно верно.
Что ж, теперь все сходится. И мелкие несообразности, которых Ирина предпочитала не замечать, тоже находят свое объяснение.
Все-таки матерый уголовник обычно берет с собой или оружие, или отмычки. Если первое, то сразу пускает его в ход, когда жертва открывает дверь, а если второе – то залезает в пустую квартиру. Потом Смышляев сидел по благородным статьям и на зоне видел, что делают с насильниками. С чего это его вдруг перемкнуло, и он решил присоединиться к этой позорной касте? Остро захотел женской ласки? Но в нынешние непростые времена и такой опустившийся мужик может найти себе относительно приличную бабу, которая приласкает его добровольно. Еще и накормит, и жить пустит, если он хоть отдаленно будет похож на человека. Как в одном невеселом анекдоте: «Ты за что сидел?» – «Я маньяк, жену убил». – «О, Таньк, гляди-ка, холостой!»
Но сугубо положительный образ Ульяны Тиходольской застилал эти несуразности.
Никому и в лоб не влетело, что между известным врачом и рецидивистом может существовать какая-то связь.
А вот если допустить, что Смышляев пришел не на случайный грабеж, а шантажировать бывшую подельницу, то мозаика складывается четко.
На свободе несчастному приходилось действительно солоно. Не сильно старый, но изношенный организм уже не справляется с тяжелым физическим трудом, а куда полегче не берут из-за биографии. Авторитета, видимо, он в зоне не заслужил, вором в законе не стал, значит, поддержки от криминального мира тоже не видит. Есть мать, но пенсия у нее маленькая, а сама она еле дышит, в любую минуту помрет, и тогда Смышляев остается вообще без средств к существованию. В буквальном смысле без копейки, и остается только воровать или проситься в психоневрологический интернат, по сравнению с которым зона просто санаторий. Можно еще украсть нарочно грубо, чтобы попасться и сесть, но Смышляев, видимо, не хотел возвращаться туда, где провел большую часть жизни.
В такой тяжелый момент он вспоминает, как доставал таллий для Тиходольских. Мужа больше нет на свете, зато вдова преуспевает. Живет в шикарной квартире, ездит за рулем, пользуется всеобщим уважением. Захочет ли она, чтобы мир узнал, какой ценой куплено это благополучие?
Что просил Смышляев у Ульяны Алексеевны, неизвестно, но она рассудила совершенно правильно, что шантажу поддаваться нельзя.
Смышляеву будет хотеться все больше и больше, а главное, нет никакой гарантии, что он не выболтает тайну совершенно бесплатно, по пьяни.
Он же не простой работяга дядя Петя, а подучетный контингент, за такими следят очень пристально, в их окружении обязательно есть стукачи или оперативные сотрудники.
Ульяна заплатит ему за молчание, Смышляев на радостях нажрется, примется сорить деньгами в своей любимой разливухе, а когда собутыльники поинтересуются, откуда, друг, собственно, такое великолепие, возьмет и выложит все, как на духу. А дальше цепная реакция и дело техники.
Нет, необходимо любой ценой заставить его замолчать.
Зачем было действовать так прямолинейно? Хотя бы потому, что Смышляев вряд ли вручил ей визитку с адресом. Он бы взял деньги и ушел до следующего раза, и где его искать? Начала бы Тиходольская наводить справки о нем, искать, выслеживать, и потом…
Нет, никто не стал бы особо надрываться в поисках убийц рецидивиста, но жизнь состоит из случайностей, совпадений и непредвиденных обстоятельств.
То ли спалят, то ли нет, сиди, трясись в неведении, а если признаешься в убийстве из самообороны, то ты управляешь ситуацией, знаешь, что происходит, и на зону тебя, скорее всего, не упекут.
– А зачем она вообще связалась с уголовником? – спросил Стас. – Что, не могла в своей больнице яд достать?
Гарафеев хмыкнул и сказал, что, вопреки общественному мнению, отправить человека на тот свет с помощью лекарств не так-то просто. В таблетках концентрация вещества обычно небольшая, так что для смертельной дозы нужно минимум штук десять, а подмешать такое количество в еду так, чтобы человек ничего не заметил, проблематично. А главное, симптомы лекарственных отравлений хорошо известны докторам и не сойдут за естественную смерть.
Инъекционные препараты предоставляют больше возможностей, но ты попробуй уговори свою жертву поставить капельницу или сделать укол. И даже если она вдруг согласится, то останется след инъекции, который наведет добросовестного патологоанатома на разные мысли.
Нет, использовать лекарственные препараты рискованно и опасно.
А вот таллий почти идеальный яд. Он настолько хорош, что можно рискнуть и попросить бывшего уголовника добыть его для тебя.
– Ну что ж, – сказала Ирина, занимая место во главе стола, – благодаря этой новой информации у нас появляется возможность отправить дело на доследование. Я пока не знаю, какие привести аргументы, чтобы наша резолюция не выглядела бредом сумасшедшего, но, товарищи, раз вы размотали такой клубок, то и тут, надеюсь, мы с вами справимся. Мы должны счесть не доказанным, что убийство Смышляева совершено именно как самооборона, и обязать следствие исключить все другие мотивы и провести более тщательную проверку, что Тиходольская и Смышляев никогда не были знакомы и ничем не связаны. Я устрою так, Игорь Иванович, что вы встретитесь со следователем или с оперативником и расскажете ему все то же самое, что рассказали мне.
– И вы думаете, что это поможет? – кисло спросил Стас.
– Вряд ли Тиходольские были настолько беспечны, что просто подошли к проходной института и выцепили там мужика с самой маргинальной внешностью. Чтобы обратиться с подобной просьбой, нужно давнее знакомство, дающее уверенность, что человек не понесется сдавать тебя в милицию. Такое знакомство всегда можно установить, если не лениться, а с этим уже можно работать. Во всяком случае, самооборона сразу становится не единственной версией.
Стас пожал плечами:
– Она просто скажет, что не узнала друга детства, потому что зона меняет людей.
– Может, и так. А может, следователь попадется грамотный и расколет.
– Не расколет, – подал голос Гарафеев, – человек, который каждый день обманывает смерть, об любого следователя ноги вытрет.
– И все-таки тут появляются перспективы. Зоновские кореша Смышляева тоже могут что-то знать. Вдруг он с кем-то откровенничал, рассказывал, как и по чьему поручению спер с работы этот самый реактив. Кстати, если раствор ядовитый, то он, наверное, хранится не как спирт?
Стас усмехнулся:
– Нет, конечно! Строго подучетное хранение, в кладовке под ключом, журнал поступления и выдачи ведется. У нас так, во всяком случае.
– Вот видите! Стало быть, там должны были заметить пропажу токсичного вещества и как-то на это отреагировать.
Все трое переглянулись и поморщились, зная, как администрация обычно реагирует на подобные неприятности. Списывает по другим статьям, да и все. Кроме того, Смышляев и сам мог быть не дурак, и не просто украсть раствор, а представить так, будто разбил бутылку.
Вот, пожалуйста, осколки и лужа на полу. Можете подсчитать, сколько там миллилитров – вперед, флаг в руки.
Если так, тогда это малозначительное происшествие не отложилось у людей в памяти на двадцать лет.
Нет, доказать причастность Ульяны Алексеевны к отравлениям, пожалуй, не удастся, но изменить мотив убийства Смышляева с необходимой обороны до хотя бы неприязненных отношений попробовать можно.
– Ну что, товарищи, давайте искать аргументы, – сказала Ирина и заправила листы в пишущую машинку, – я вообще очень не люблю возвращать на доследование, но в этот раз сделаю исключение.
Стас вдруг встал и, попросив ее подождать, принялся расхаживать по комнате.
Проходя мимо стеллажа, потянулся за сигаретами, но, видимо, вспомнив, что в комнате беременная женщина, с досадой махнул рукой.
За окном висела стена дождя и слышалось, как он с силой бьет по теплому асфальту, по жестяным козырькам окон. Ирина потрогала банку с водой и, убедившись, что та совсем горячая, заварила еще чайку.
Спешить некуда, пока не кончится ливень. Зонт она, естественно, забыла, а сорок минут дрожать в мокром платье в электричке совсем не хочется.
Тут тепло, уютно, сухо, рядом хорошие люди, которые хотят правды и справедливости не меньше, чем она.
– Надо оправдать, – выпалил Стас.
– Что? – хором воскликнули Ирина с Гарафеевым.
– Оправдать, и все. И точка.
– Ты считаешь, что мы сами себя накрутили?
– Нет. Я думаю, что она виновата, и, может, даже только она одна, а Тиходольский вообще ни при чем. Больно уж нелогично он поступал. Какой смысл избавляться от одного ребенка, чтобы тут же заделать второго? Получается не просто исчадие ада, но еще и полный идиот, который сам не знает, чего хочет. А если предположить, что это Ульяна так расчищала себе дорогу к счастью, то все по уму.
– Что-то я не врубаюсь, ты считаешь ее убийцей и предлагаешь оправдать?
– Вот именно.
– А ты сам-то не идиот?
Стас снова потянулся к пачке сигарет и снова отдернул руку, будто она была горячая. Ирина не выдержала:
– Суханов, да покурите вы уже. Отойдите к тому окну, откройте его, высуньтесь под дождь и покурите, а потом спокойно изложите нам свои соображения.
Стас последовал ее совету, и некоторое время они с Гарафеевым могли видеть только его заднее место, так далеко он высунулся наружу. Над тем окном был балкон, так что дождь не заливал в комнату, и все равно Суханов втянулся в помещение с совершенно мокрой головой.
Нет, если Ирина не хочет простудиться, то с работы торопиться не стоит. Впрочем, при таком категорическом настрое заседателя она скоро и не освободится.
– Тиходольская – преступница, но, как вы сами сказали, доказать ее вину будет очень проблематично, а вернее, невозможно. С отравлениями там полный швах вообще, а жопу рвать ради того, чтобы пришить ей неприязненные отношения и отправить в зону на пару лет… – Стас развел руками, – овчинка выделки не стоит. Все равно это наказание будет несоразмерно тому, что она совершила.
– Так вы народные деньги, что ли, бережете?
– Не в этом дело. Если бы мы точно гарантировали, что общество узнает: Тиходольская – подлая отравительница детей и женщин и идет в тюрьму именно за это, тогда да. Тогда давайте копать, и не важно, сколько для этого потребуется сил и средств. Но практически в общественном сознании укоренится совсем другое: женщина убила своего насильника и загремела на зону. Все. Вот что будет важно людям. Вы скажете, что он был вовсе даже и не насильник, а женщины поймут, что про любого можно так сказать, любого насильника выставить невинной жертвой. Ведь никто, кроме нас троих, о Тиходольской ничего плохого не знает. По сути, она идеал советской женщины.
– По сути, да, – вздохнула Ирина, начиная понимать, куда он клонит.
– Так что нашим приговором мы как бы скажем всем женщинам страны, что у них нет права дать отпор насильнику. Посоветуем расслабиться и получать удовольствие, потому что иначе их ждут зона и позор.
– Вообще-то у нас беспрецедентное право, – промямлила Ирина.
– Ирина Андреевна, о Тиходольской писали в газетах именно как о женщине, посмевшей защитить свою честь и жизнь. И, черт побери, это хороший пример для подражания. Мне кажется, людям вообще важно знать, что защищаться – это нормально. Это правильно. А если мы посадим Ульяну Алексеевну, что об этом напишут в газетах?
– Ничего.
– Вот именно. И народ будет знать только, что отважную женщину посадили. Все. И мамаша скажет дочери: ты лучше потерпи, только не бери грех на душу. Вот ту тетку посадили, а она ведь врач была, с высшим образованием. И не просто посадили, а еще каких-то собак навесили.
– Я вас поняла, – вздохнула Ирина, – и вы правы больше, чем мне хотелось бы признать.
– А я нет, – встрял Гарафеев, – вообще-то первая жена Тиходольского умерла у меня на руках, а я должен все забыть, потому что вы из Ульяны хотите сделать знамя женской борьбы непонятно за что.
Ирина резко обернулась к нему:
– А вы часто сталкиваетесь с жертвами изнасилования, Игорь Иванович? Часто разглядываете изуродованные женские трупы, думая, дать преступнику пятнадцать лет или высшую меру?
– Слава богу, нет.
– Ну вот и заткнись!
– Суханов, держите себя в руках, пожалуйста!
– Хотел же я перед заседанием тебя уговорить, чтобы ты молчал, – воскликнул Стас, – нечего было вскрывать этот чумной могильник!
– Давай без патетики обойдемся.
– Ты первый начал: ах, умерла на моих руках! Так диагноз надо было ставить правильный, а что теперь через двадцать лет кулаками махать?
Гарафеев так нехорошо приосанился, что Ирина изо всех сил хлопнула ладонью по столу:
– Тихо! Сядьте! Пейте чай. Десять минут молчим и думаем. Потом обсуждаем, причем не столько вкручиваем свое мнение, сколько слушаем чужое. Вопрос действительно очень трудный, и мы сможем его правильно решить, только если будем сотрудничать, а не скандалить.
Она демонстративно сняла часики и положила их перед собой.
Стас откинулся на спинку стула и закрыл глаза, Гарафеев насупился, а Ирина притянула к себе тарелку с пряниками. Ей было очень стыдно, но сосущее чувство под ложечкой не позволяло нормально соображать.
– Курите, если это вам необходимо, – улыбнулась она, – окно только пошире распахните.
– Я при беременной не могу.
– И я тогда не буду.
Только съев подряд два пряника, Ирина смогла думать о деле.
Ситуация действительно из серии «то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет». Если вдуматься, то вся их стройная версия основана только на буквах «зел» в бланке анализа мочи и предположения, что в институте минералогии используют раствор Клеричи, содержащий соединения таллия. Больше у них вообще ничего нет.
Пойдем от противного и представим, что дело раскрыли. Провели эксгумацию сына и нашли яд, выяснили, что Ульяна в юности была любовницей Смышляева, сделали медицинскую экспертизу истории болезни первой жены Тиходольского, и специалисты подтвердили, что при такой клинике отравление таллием является наиболее вероятной причиной смерти.
И что, вынесла бы Ирина обвинительный приговор Ульяне? Очень и очень сомнительно. Без чистосердечного признания скорее нет, чем да.
С тем, что отравления останутся нераскрытыми, похоже, придется смириться, но переквалифицировать обвинение с самообороны на банальное убийство вполне реальная задача. В прокуратуре Ирине только спасибо скажут за такой обвинительный уклон.
Справедливость восторжествует, Ульяна отправится топтать зону, а народ в очередной раз поймет, что защищать себя нельзя.
Кто поверит, что следователь ошибся в первый раз, а не во второй? Да никто! Пусть хоть сто статей выйдет в ста газетах, с нашим уровнем доверия к печатному слову и к правоохранительным органам люди будут точно знать, что Ульяна – жертва режима и статью ей изменили только за то, что коллеги имели наглость ее защищать.
«Сидела бы она тихо, так получила бы свои исправительные работы, а она, вишь, хвост подняла, вот и огребла по полной» – только такой вывод сделает общественность, и никакой другой.
Отправить дело на доследование будет все равно что написать огромный транспарант: «Народ, вы – никто! Сидите тихо и не рыпайтесь!» – и вывесить его на Дворцовой площади.
Да, шумиха в газетах и заступничество коллег серьезно осложняют дело. Исправительные работы еще можно в такой ситуации присудить и выступить в печати в том духе, что нельзя убивать людей безнаказанно, даже если они полное говно. Это нормально, это гражданская позиция, предпочтение доктрины «отступай, пока можешь» доктрине крепости.
Народ посочувствует Ульяне, что досталась такая плохая судья, да и успокоится.
Но переквалификация обвинения вызовет совсем другую реакцию. В массовом сознании это отразится как месть власти за то, что Тиходольская позволила коллегам выступить в свою защиту. Диссиденты просто описаются от радости, получив такое весомое подтверждение тому, что советская власть безжалостно вырывает даже самые жалкие ростки свободы и душит любые проявления гражданской активности.
Никто не поверит, что Ульяна Тиходольская реально в чем-то виновата.
Пришлось напомнить себе, что в данный момент она сидит не в кресле народного депутата, а на жестком судейском стуле совещательной комнаты.
Разве ее задача состоит в том, чтобы решать, что лучше для народа? Нет. Сейчас ее зона ответственности – это приговор Тиходольской и ни сантиметром шире.
Несмотря на зыбкость доказательств, у Ирины возникло внутреннее убеждение в том, что Ульяна виновна, а муж, скорее всего, вовсе ни при чем.
Она ведь и сама была любовницей женатого, и помнила, с какой страстью жаждала создать с ним семью. Увела бы из семьи, и жену разорвала на кусочки, и растоптала бы, втерла в землю, если бы только точно знала, что за это ничего не будет.
Только страх перед законом удерживал ее, больше ничего. Никакой морали. «Я люблю, значит, имею право» – вот как она считала. Боже, как теперь стыдно… Ирина все бы отдала, лишь бы только не было в ее прошлом этих постыдных страниц.
А Ульяна оказалась просто более решительной, чем она, вот и все.
Не хуже Ирины тогдашней, а всего лишь смелее и хитрее.
Наивная сельская девочка поверила обещаниям взрослого мужика, потому что очень хотела быть счастливой. Такая банальная история…
А взрослый мужчина со временем к ней, наверное, привязался, Ульяна ведь была не только красивой, но и умненькой девочкой, и любила его, и в постели делала все, как он хотел. Зачем же отказываться от такой лапочки, тем более что ей достаточно обещаний, что скоро они обязательно поженятся. Только сын немножко подрастет. Совсем чуть-чуть. Счастье уже на пороге и вот-вот постучится в нашу дверь.
Многие женщины верят в это до старости, но Ульяне быстро надоело ждать.
Она отравила сына любовника, считая, что только он удерживает того возле постылой жены, и быстренько родила сама. Дело казалось верным: там опротивевшая мерзкая баба, с которой нет ничего общего и на которую давно не стоит (любовник сто раз об этом говорил, и нет никаких причин сомневаться в искренности его слов), а здесь любимая женщина с новорожденным сыном. Тут – жизнь и будущее, там – смерть и прошлое. Выбор очевиден.
Но Тиходольский колебался. Жену не оставлял, но и с Ульяной рвать не спешил. Наверное, сменил пластинку, что нельзя бросать человека, когда он пребывает в таком горе, пусть жена сначала немножко оклемается, вернется к жизни, и вот тогда…
Можно себе представить, в какую ярость пришла Ульяна, когда узнала, что у супругов родился сын!
Да как посмела эта тварь, эта жалкая паразитка удержать у себя то, что ей давно не принадлежит! Вцепилась в мужика и не отдает! Что ж, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому, но я свое возьму. И жена была обречена.
Наверное, Дмитрий вообще не собирался жениться на Ульяне, но после смерти супруги у него особо не осталось выбора. Все-таки есть общий ребенок, да и за сыном от покойной жены тоже тяжело смотреть в одиночку.
Девушка добилась долгожданного счастья, и, похоже, семья действительно жила хорошо, Ульяна берегла то, за что заплатила такую страшную цену.
А потом Дмитрий умер. Интересно, заболел или начал что-то подозревать? Не даст ли его эксгумация каких-нибудь интересных результатов?
Нет, это уже перебор. Тиходольскому было под пятьдесят – самый возраст для инфарктов у ответственных работников.
А Ульяна Алексеевна осталась честной вдовой и матерью и, наверное, совсем забыла, что оплатила свою достойную судьбу двумя жизнями.
Она ведь боролась за свое счастье, а значит, была права.
Неужели такая умная, хитрая и безжалостная преступница избежит наказания?
Ирина покосилась на своих товарищей по несчастью.
Гарафеев сидел, положив голову на скрещенные ладони, и буравил стену пустым взглядом, а Стас как будто спал.
Ирина поднесла часики к глазам. Еще две минуты.
* * *
Шло время, и Ульяна осталась в зале суда почти одна. За своим столом скучал государственный обвинитель, украдкой зевала секретарь, а больше никого не осталось.
Коллеги побыли рядом, и главный врач тоже посидел, поговорил с ней мягким увещевательным тоном, каким умел только он, но время шло, и сотрудникам пришлось бежать, чтобы не опоздать на смену.
Она пожалела, что запретила детям идти на заседание. Взяла хотя бы дочку, все веселее было бы сидеть, но когда в прошлый раз Ульяна поймала острый взгляд Гарафеева, каким он окинул ее сыновей, то решила не рисковать.
Она слышала про этого анестезиолога, какой он умный и проницательный доктор, и понимала, что ему не составит труда уловить кровное родство ее сыновей.
Внешнее сходство их бросалось в глаза, но обычные люди поверят умилительному: «надо же, какое совпадение!», а опытный врач – нет.
Впрочем, до недавнего времени это было совсем не страшно. Коллеги на работе давно догадались, так же как и учителя в школе, и преподаватели в училище, но какая разница, если первая жена Дмитрия давно умерла?
Ульяна была готова к обвинительному приговору. Главное, не придется садиться в тюрьму и не запретят работать по специальности, а четверть зарплаты за эту мразь Смышляева – не такая уж высокая цена.
Она специально не нанимала адвоката, чтобы поскорее осудили и все закончилось.
Только время шло, а судья все не выходила.
Ульяне вдруг стало страшно, закружилась голова, и она почувствовала, как на спине выступают капельки холодного пота.
Нет, невозможно, чтобы судьи узнали правду! Такого просто не может быть!
И тут же она вспомнила, что Гарафеев и второй заседатель старательно смотрели мимо нее. Почему? Ведь Игорь Иванович – коллега и должен был хоть разок подмигнуть ей из профессиональной солидарности, как он это делал на первом заседании, но теперь он старательно притворяется, будто ее не существует и скамья подсудимых пуста.
Ульяна заставила себя выпрямиться и улыбнуться. Хоть в зале почти никого, но даже перед этими двумя людьми нельзя распускаться.
Главное, держать себя в руках, что бы ни случилось.
И вообще нечего бояться, потому что нужно поистине фантастическое стечение обстоятельств, чтобы правда вышла наружу. В реальности такое невозможно.
Ульяна не знала, можно ли ей встать, и попросила у секретаря стакан воды. Девушка подала, улыбнувшись вполне доброжелательно.
Нет повода для паники, просто, наверное, Гарафеев настаивает на оправдании, а судья не хочет. Гарафеев, он такой, въедливый и упертый. Коллеги говорят, что тихоня тихоней, но если уж он уверен в своем решении, то никакими силами не сдвинешь.
Вот они там и собачатся, и не знает Игорь Иванович, что оказывает ей медвежью услугу.
Признают виновной, и отлично, и снова правда, почти вышедшая наружу, будет похоронена, теперь, хочется верить, навсегда.
Прошло еще десять томительных минут.
За окном шумел дождь, будто тяжелой серой пеленой закрыл их от всего остального мира. Ульяна почувствовала, как мертвенное мерцание ламп дневного света забирает у нее остатки сил.
Интересно, если сейчас разбежаться, вскочить на окно и выпрыгнуть? Квелый прокурор и сонная секретарша не успеют ее остановить, и через секунду она будет лежать на тротуаре с расколотой башкой, и кровь ее смешается с ручейками от дождя… А ей станет все равно, что дальше. Для нее все кончится, все пройдет.
Отличный выход, только тут невысоко, и может статься, что пройдет не все и не сразу.
Ульяна зажмурилась и мысленно перенеслась в детство, на высокий берег Оки, когда ничего еще не началось.
Деревенское детство не тяготило ее, крепкую и сильную девчонку. Она с удовольствием помогала по хозяйству в полном соответствии с пословицей: «дочери десять лет – матери дела нет».
Расторопная, переимчивая, она научилась работать быстро и красиво, и хозяйство у них с мамой отлично спорилось. Ульяна не только ухаживала за скотиной и работала по дому и в огороде, но умела еще и прясть, и вышивать, и вязать.
Мама никогда ее не принуждала, не ругала, наоборот, говорила, что такая умная голова должна учиться, но Ульяне как-то все давалось легко, любое дело спорилось в руках.
Во всей немаленькой деревне она считалась образцовой девочкой, вот-кому-то-повезет-с-невестой, и первой ученицей школы.
Мама души в ней не чаяла, баловала как могла, но был еще папа…
Высохший от пьянства, почти потерявший человеческий облик папа, который бил мать, тащил деньги из дому, а если не мог найти, то занимал у соседей, которые потом требовали возврата у матери.
Он ничего не делал, не работал, только пил и валялся, но мама все равно любила его, и целовала, и слушалась.
Впрочем, так жили почти все деревенские женщины. Работящие, сильные, они с гордостью несли на своих шеях пьяных паразитов, которые вытягивали из них последние соки.
И били, и калечили, и убивали, но самое страшное, что считалось почетнее ходить битой, чем жить одной.
Когда отец умер, мать убивалась по нему так, словно он по-настоящему был глава семьи.
Ульяна сердилась на себя, что не чувствует горя, как полагается хорошей дочери, изо всех сил выжимала из глаз слезы, но в душе было только холодное недоумение: почему мама боится жить дальше? Не знает, куда девать деньги, которых папаша теперь не пропьет?
Было очень стыдно, но циничные эти мысли никак не шли из головы.
Вдвоем с мамой они зажили веселее и благополучнее, Ульяна и так хорошо училась, а теперь стала круглой отличницей и окончательно укрепилась в убеждении, что никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя ставить свою жизнь в зависимость от мужчины.
Надо самой вставать на ноги, получать образование, словом, быть капитаном своей судьбы, потому что муж – это только пустая трата ресурсов и унижение. Нет, встречаются настоящие мужчины, но они большая редкость, и тянутся к настоящим самостоятельным женщинам, а не к тряпкам, готовым все терпеть.
Повезет ли встретить такого – большой вопрос, но свобода и самостоятельность все равно важнее.
Примером для нее была тетя Ирма, их летняя квартирантка.
Красоты Юга не впечатляли эту женщину, очарованную мягкой прелестью средней полосы России. В отпуск она приезжала к ним в деревню и гуляла по окрестностям с мольбертом, очень плохо изображая бесконечные русские просторы, а когда ей это надоедало, то помогала маме по хозяйству ради моциона.
Муж после войны ушел от нее к другой женщине, но тетя Ирма не особенно от этого страдала и, что самое удивительное, не стеснялась рассказывать об этом позоре. Она поразила Ульяну своей внутренней раскованностью и свободой, и девочке страстно захотелось стать такой же.
Красиво и нарядно одеваться, плохо рисовать, прекрасно зная, что рисуешь плохо, и бегать на почту, чтобы по талончику на три минуты по прерывающейся телефонной связи с трудом выяснить, как там дела в родном коллективе.
Ирма работала искусствоведом, но во время войны была медсестрой в санитарном поезде, и благодаря ее рассказам Ульяна решила связать жизнь с медициной.
Она без труда поступила в медучилище, с такой же легкостью получила красный диплом и хотела поступать в Ивановский мединститут, но мама с тетей Ирмой уговорили ее ехать в Ленинград. Иваново ближе, но там никого нет, а тут тетя Ирма подстрахует, если что.
И Ленинград есть Ленинград, культурная столица, это почти как Париж. На всю жизнь хватит впечатлений!
Ульяна поехала. Все было, всего пришлось хлебнуть – и нищеты, и насмешек однокурсников, и собственной деревенской растерянности, и острого чувства социальной несправедливости. Ей было наплевать, кто где живет и во что одет, но когда после безупречного ответа преподаватель с кислым видом ставил ей «хорошо», и тут же расцветал улыбкой при виде дочки профессора, и спрашивал ее не по предмету, а как папа с мамой, и выводил «отлично», это возмущало Ульяну до глубины души.
Но в целом жизнь складывалась удачно. Не мечтая о муже, как о символе своей человеческой состоятельности, Ульяна спокойно занималась учебой. Она подружилась с примерной студенткой по кличке Форамен Овале, которая выглядела просто хрестоматийной старой девой, но на третьем курсе внезапно вышла замуж, родила и в институт не вернулась.
Больше Ульяна ни с кем не сближалась.
Обладая хорошим чувством такта, она не навязывалась тете Ирме, но все же регулярно навещала ее, а та принимала девушку тепло и радушно, как родственница.
Когда мама приезжала к дочери, то всегда останавливалась у тети Ирмы, пока из мест не столь отдаленных не вернулся ее сын.
Ульяна ожидала увидеть очередное пропитое ничтожество, но Валера Смышляев оказался симпатичным мужчиной с такими хорошими манерами, будто провел семь лет не на зоне, а в Оксфорде.
Девушка думала, что придется защищать тетю Ирму от сына, поэтому стала приходить чаще, и всякий раз бывала приятно удивлена. Валера устроился на работу, по ночам подрабатывал грузчиком и планировал поступать на заочное в Горный институт. Ульяна как раз увлеклась научной работой, как-то попросила его решить статистическую задачку и была поражена легкостью, с какой он это проделал.
В общем, Валера не собирался возвращаться на криминальную стезю.
Зимой тетя Ирма попала под машину и получила такие тяжелые травмы, что никто не верил, что она выкарабкается.
Мама примчалась на помощь и три месяца выхаживала подругу. Ульяна помогала постольку-поскольку и однажды, занеся Смышляевым лекарство из аптеки, столкнулась у них с Дмитрием, старым приятелем Валеры.
Это была не любовь с первого взгляда, а скорее интерес к экзотическому существу, слишком уж Дима отличался от всех ее знакомых мужского пола.
Спокойный, уверенный в себе, сильный человек, увлеченный своим делом, внутренне свободный – таких она раньше не встречала.
Ульяна подумала, что с этим мужчиной могла бы познать грех.
Он был за рулем, предложил подвезти до метро, но доставил до самой общаги.
На следующий день он лишил ее невинности.
Дмитрий снял ей квартиру, но Ульяна все равно ночевала у себя в общежитии. Если не живешь, можно лишиться места, а впадать в зависимость от любовника она не хотела.
Постель оказалась интересным и приятным занятием, но все же не таким, чтобы делать его целью всей жизни. Смешно сказать, но когда Дмитрий признался, что женат и никогда не разведется, и ничего не может предложить ей, кроме роли тайной любовницы, Ульяна почувствовала облегчение, что ее свобода останется при ней.
После занятий она с удовольствием приезжала на квартиру, занималась, лежала в ванне, иногда готовила – просто чтобы почувствовать себя хозяйкой, но поблажку остаться до утра позволяла себе крайне редко.
Димина любовь ей нравилась и льстила, но чем дальше они встречались, тем меньше она хотела выходить замуж.
То ли в детстве наработалась по хозяйству, то ли просто была одиночкой, но пары часов в неделю, которые им удавалось побыть вместе, Ульяне было вполне достаточно.
Обычно мужчина первый пресыщается, но у них вышло наоборот. Чем дольше они встречались, тем сильнее Диме хотелось быть с нею. Он наврал жене про секретные испытания в Ломоносове и стал оставаться с Ульяной ночевать раз или два в неделю.
Он стал писать ей письма, полные такой любви, что слезы наворачивались на глаза, и Ульяна чувствовала, как ее сердце тоже плавится, и это было так приятно, и будоражило, и придавало жизни приятную остроту, и она ни за что не променяла бы эту романтику на обыденное и скучное существование семейной пары.
Дима совсем потерял осторожность, но жена ничего не замечала, или успешно делала вид, зато их тайна стала известна маме.
Скандал был ужасный, тем более страшный, что Ульяна поссорилась с мамой впервые в жизни.
Мама кричала, что Дима – сволочь и скотина, предатель, о низости которого Ульяна просто не знает, что он ее обманет и не женится, а порченая она никому уже не будет нужна, пойдет по рукам и плохо кончит.
Мама так плакала, что у Ульяны сердце разрывалось, и она решила расстаться с Димой.
Но пока подбирала слова, пока ждала подходящий момент, пока позволяла себе самый последний и самый-самый последний разик, у Тиходольского неожиданно умер сын.
В таком страшном горе бросить его было никак нельзя.
Ульяна думала, что ему самому будет не до нее, но, как часто бывает, общее несчастье не сплотило, а разъединило супругов, и Дмитрий бегал за утешением к любовнице.
Нельзя его было упрекать в том, что он от горя потерял осторожность, да и она была не виновата, что, привыкнув доверять любовнику, не усилила бдительность. Беременность просто наступила, и все.
Ульяна к тому времени уже стала дипломированным акушером-гинекологом, и не понаслышке знала, к чему приводят первые аборты. Рисковать своей фертильностью она была не готова. Поборов первый страх и немного поразмыслив, она решила, что в принципе все складывается очень удачно. Замуж она не хочет, а детей любит, так почему бы не родить от хорошего мужчины с хорошей наследственностью?
Дмитрий будет помогать финансово, так что с голоду они с ребенком не умрут, а осуждение общественности… Да плевала она на этих клуш, которые всю жизнь терпят побои пьяного импотента, лишь бы только гордо носить обручальное кольцо. Их мнение ничего для нее не значит.
Больше всего Ульяну беспокоило, что она претворяет в жизнь самый страшный кошмар мамы, приносит в подоле, но и тут обошлось.
Мама приняла новость на удивление спокойно. Дочь живет в Ленинграде, до Тумботина вести о ее падении не докатятся, а внук – это все равно радость, хоть и незаконный.
Узнав о беременности, Дима предлагал жениться, но Ульяна отказалась. Ей стало противно, что любовник способен бросить жену в таком горе, и как только подошел декрет, она уехала к маме, которая врала всей деревне про удачное дочкино замужество.
Телефон в Тумботине был только на почте, и Дима писал ей долгие письма, в которых называл самым близким и родным человеком. Он признался, что жена тоже ждет ребенка, и Ульяна решила, что это, пожалуй, хорошо.
С беременностью она совершенно остыла к Диме, а вот по работе скучала страшно. Хотелось скорее вернуться в строй, и хоть Ульяна любила своего будущего ребенка, но все же радовалась, что мама готова с ним сидеть.
Она надеялась, что, когда вернется в Ленинград, их общение с Димой ограничится парой встреч в месяц для здоровья. Будет только секс, и больше не придется Дмитрия утешать, поддерживать и вытаскивать из отчаяния.
Ульяна дышала свежим воздухом, пила парное молоко, ела домашнюю картошечку с яичками и спокойно смотрела в будущее.
Она хотела рожать в местном роддоме, но мама вдруг всполошилась и буквально за шкирку вывезла ее обратно в Ленинград. Якобы только тут нормальные врачи, но Ульяна быстро догадалась, что дело совсем не в них.
В роддоме надо предъявить паспорт, и тогда вскроется ее незавидное незамужнее положение, а это такой удар по маминой репутации! Это же классическое «что люди скажут»!
Ульяна тряслась на нижней полке плацкартного вагона, мечтая только о том, чтобы в поезде не родить, и думала, почему так устроено, что люди скажут, что быть свободным самостоятельным человеком позорно, а превратиться в рабыню испитого упыря – очень почетно и хорошо.
Подумаешь, врач! А меня вот местный алкоголик Вася замуж взял, вот где достижение!
Пусть плохонький, да свой, а ты проститутка!
Вспомнилась пациентка, поступившая к ней перед самым декретом. Собирая анамнез, Ульяна спросила, как прошли ее первые роды, и тетка ответила: «Ой, было что-то там такое, что хотели даже операцию делать, но пришла эта ваша главная, старая дева, и сказала, что не нужно».
Ульяну тогда до глубины души поразило презрение, с которым пациентка говорила про заведующую. Она оказалась неспособна запомнить не только особенности своих родов, но и имя человека, спасшего ее и ребенка от, возможно, фатальных осложнений, но считала себя выше и значительнее этого человека, потому что та – старая дева, а она вышла замуж и родила.
А то, что заведующая прошла всю войну в медсанбате, была тяжело ранена и потом в мирной жизни спасла не меньше людей, чем на фронте, не имело никакого значения для той курицы.
Нет, Ульяна не хотела становиться такой же, и подстраиваться под массовое сознание тупых дур ее тем более не прельщало.
После родов мама уехала к себе, но через два месяца вернулась, чтобы Ульяна вышла на работу.
То было счастливое время, когда Ульяна чувствовала себя и мамой, и немножко ребенком, она знала, что сын в надежных ласковых руках и ее саму дома ждут мамина любовь и горячий ужин.
С Димой они почти не виделись, но он звонил ей на работу (в общежитии телефона не было), и, когда выпадали свободные минуты, они вели простые будничные разговоры ни о чем. Ульяна думала, можно ли спокойную теплоту в сердце называть любовью?
Дима предлагал ей жениться, говорил, что, как только сыну исполнится год, он поговорит с женой, разведется и уйдет к Ульяне. Он клялся, что они с женой давно остыли друг к другу, и, если он уйдет с одним чемоданом и будет аккуратно выплачивать алименты, супруга не станет сильно горевать.
Только Ульяна знала, что равнодушие жены, скорее всего, это не то, что есть, а то, что хочется, чтобы было, и категорически отказывалась.
Она сама не знала, чего тут было больше – честности, уважения к ни в чем не виноватой женщине или эгоистичного страха потерять любовь в близости. Она была убеждена, что привыкший к комфорту Дима не выдержит общежитского быта и удобства в конце коридора убьют их чувства гораздо быстрее, чем разлука.
Как говорил ее наставник, лучшее – враг хорошего.
Счастье – вот оно, происходит с ней сейчас, сию секунду: сыночек, мама, любимый мужчина, обожаемая работа и чистая совесть. Надо проживать его, наслаждаться им, а не горевать оттого, что нет кольца на пальце и штампа в паспорте. В конце концов, слово «счастье» происходит от слова «часть», и полным никогда не бывает.
Каждому достается свой кусочек от общего пирога.
Они с Димой договорились, что не будут обсуждать возможное совместное будущее, пока его сыну не исполнится год, но внезапно его жена заболела и умерла.
Ульяна растерялась и, пожалуй, впервые в жизни не знала, как поступить. Всколыхнулась генетическая память, из каких-то древних глубин сознания выплескивалось: «Я не справлюсь, не смогу угодить своему супругу и повелителю, буду плохой хозяйкой, он разочаруется во мне и бросит, и я потеряю то хорошее, что есть у нас сейчас».
Дмитрий был готов вести ее в загс чуть ли не на следующий день после похорон, но Ульяна сказала, что такая поспешность будет выглядеть отвратительно. Она поставила условие – не видеться и не общаться до того, как Андрюше исполнится год. Она перейдет на дежурства, чтобы днем мама приходила к Дмитрию и ухаживала за малышом, но это будут все их контакты до Андрюшиного дня рождения. Если после этого Дима не передумает, то она пойдет за него замуж.
Дима не передумал. Они скромно расписались в районном загсе. Мама хотела пышную свадьбу, чтобы все как у людей, платье с фатой, машина с кольцами, лентами и куколкой на капоте и обязательный банкет, но молодожены, обычно уступчивые, тут отказались наотрез.
Ульяну немножко царапнуло, как это ее мама, такая хорошая и добрая, не понимает, что меньше чем через год после смерти жены все это будет выглядеть людоедским пиршеством.
Ульяна хотела только позвать на бракосочетание тетю Ирму, но оказалось, что мама что-то с ней не поделила, и бывшие приятельницы рассорились навек. Было немного жаль терять дружбу с хорошей женщиной, но в вихре новых впечатлений Ульяна быстро забыла об этой утрате.
Они переехали из общаги в Димину просторную квартиру, которую Ульяна боялась, что не сумеет должным образом содержать, и где в шкафах еще висели платья покойной жены.
А потом… То, что наступило потом, можно, наверное, сравнить только с ощущениями слепого от рождения человека, который внезапно прозрел.
Ульяна познала, что такое союз двух свободных, самостоятельных и любящих людей, и поняла, что настоящая семейная жизнь – это совсем не то, что представлялось ей раньше. Не надо ни угождать, ни переступать через себя, а просто жить своей жизнью, только зная, что рядом человек, который подставит тебе плечо в тяжелую минуту и которого ты тоже поддержишь, когда придет время.
На работе коллектив в основном женский, и тема замужества всегда в разработке. Молодые девушки мечтают выйти замуж, взрослые тетки – выдать туда же дочерей.
Ульяна слушала все эти разговоры и не понимала, как можно просто хотеть замуж. Не встретить любимого человека, не убедиться в том, что с ним можно разделить жизнь, а схватить первую попавшуюся жертву, лишь бы выйти, лишь бы доказать, что ты не обсевок, а ценный товар, на который нашелся покупатель.
Ну, с девочек спрос какой, а стремление мамаш всунуть дочек в подвенечное платье вызывало изумление. Сначала она пыталась объяснить, что муж – это не приз, не бычок на веревочке и не болванка, на которой можно красками своего воображения нарисовать любой образ, а отдельный самостоятельный человек, и заточить его под себя не получится никак.
Но тут, как говорится, либо знаешь, либо не поймешь.
Когда дети немного подросли, мама поехала в Тумботино проведать дом и там неожиданно нашла запоздалое женское счастье. Ульяна немного расстроилась, что мама останется на родине, но, с другой стороны, она еще не старая женщина, еще есть время пожить, да и избранника она знала как положительного непьющего мужика. Он заглядывался на маму еще в юности, а теперь, овдовев, привел ее в свой дом хозяйкой.
Дмитрий решил, что нужно отблагодарить маму за помощь, продал дачу и на половину поставил ей в Тумботине шикарный сруб, а на остальные деньги они взяли шесть соток в Петергофе. Не прежние угодья, но зато от работы двадцать минут.
Иногда Ульяна просыпалась по ночам с тяжело колотящимся сердцем и, прижавшись к теплому боку мужа, в страхе спрашивала себя, а как же поговорка: «на чужом горе своего счастья не построишь»? Ведь она лежит здесь, законная жена, только из-за двух смертей. Придет время, думала Ульяна, и придется за это расплатиться. И она молилась только о том, чтобы не пострадали дети.
Но время шло, и ее воздушный замок крепко стоял на фундаменте чужого горя. Вскоре она забеременела и родила здоровую и красивую дочку.
Снова приезжала мама помогать с малышкой, но в этот раз Ульяна уже не так стремилась на работу. Иногда приходили странные мысли, не лучше ли посвятить себя мужу и детям, оставив полставочки преподавателя в медучилище или даже в институте, благо Димины связи позволяют пристроить жену на синекуру.
Ульяна вспоминала, как в детстве прекрасно умела рукодельничать, и думала, хорошо бы завести собаку, и прясть ее шерсть, и вязать детям носки, в которых не страшна никакая простуда, и печь пироги, и шить занавески, и в конце концов записаться в библиотеку, и брать там не только журналы по специальности, но и художественную литературу.
Это были прекрасные, но утопические мечты. Ульяна решила, что раз вытащила у судьбы такой невероятно счастливый билет, то обязана расплатиться за него самоотверженным и бескорыстным трудом.
Дима официально как бы тоже мечтал о всяких пирогах и уюте, но Ульяна чувствовала, что нравится ему такой, как есть, страстно влюбленной в свое призвание.
И она так любила мужа, что так и не сумела понять, что он умер и его больше нет.
Много лет прошло, а ей все кажется, будто он рядом, иногда она советуется с ним и, неверующая, чувствует так, будто он смотрит на нее с небес. В ясные дни или звездные ночи она сердцем чувствует его взгляд и подолгу смотрит ввысь, думая, как соединится с ним.
Правду она открыла сыновьям через несколько лет после смерти Димы, когда они были уже достаточно взрослые, чтобы точно знать, что родных братьев с разницей в три месяца не бывает.
Ульяна ждала чего угодно, ярости, ненависти, презрения, но дети простили ее и за прошлое, и за долгое молчание о нем.
Жизнь текла дальше, спокойная и насыщенная. Дети вдруг совершенно выросли, перестали нуждаться в ее заботах, и Ульяна, имевшая в голове кучу идей, решилась поступать в аспирантуру, как вдруг прошлое постучалось в ее дверь.
Валеру Смышляева почти невозможно было узнать в иссохшем неопрятном мужике с быстрым ускользающим взглядом, и Ульяна сначала не хотела пускать его в дом, но из уважения к тете Ирме все-таки пригласила войти.
Она осталась с ним в прихожей, думая, что сейчас он попросит денег, она даст, и он уйдет, но Валера без приглашения уселся на пуфик и начал рассказывать то, чего Ульяна совсем не хотела знать.
Валера и Дима были однокурсники, оба симпатичные парни и оба умные, но Тиходольский считался юным гением, а Смышляев – просто способным курсантом, из которого при должном усердии тоже выйдет превосходный специалист.
Дима был задействован в каком-то секретном проекте, причем, судя по отношению к нему преподавателей, играл там не самую последнюю роль, а Валеру пока научная работа не привлекала. Он, как всякий приличный человек двадцати одного года от роду, был рабом своего тестостерона.
Впрочем, Дима тоже платил дань этому неумолимому гормону и по пятницам вместе с приятелем отправлялся на танцы снимать девочек.
В недобрый час Дима не поделил свою избранницу с другим курсантом, и в итоге острая дискуссия переросла в массовую драку, в ходе которой курсант был убит.
Кто первый начал, кто нанес смертельный удар, осталось невыясненным. Смышляев теперь утверждал, что Дима, но Ульяна не хотела ему верить. Так или иначе, но Валеру взяли в оборот и следователи, и преподаватели в училище, и местный кагэбэшник.
Ему предложили чистосердечно признаться, что драка с курсантом происходила один на один, а Димы там и близко не было. Обещали небольшой условный срок и восстановить в училище, после того как он истечет.
Доказать, что Валера не убивал, просто-напросто нереально, поэтому он все равно понесет наказание, только если потянет за собой Диму, то это будет уже преступная группа, сообщество, и тут об условном сроке можно даже не мечтать.
Кроме того, Валера комсомолец, интересы страны для него должны быть на первом месте, и он обязан понимать, что если Диму посадят, то пострадает важная научная разработка. А вдруг враги прознают, что наши ученые – уголовники? Это же какой позор для страны! Нет, он, как настоящий советский человек, должен принять удар на себя. Сам погибай, а товарища выручай.
Что ж, итог Валериной сознательности и доверчивости оказался очень печальным – семь лет общего режима.
На зоне он не стал опущенным, но и авторитета не завоевал, и, человек от природы прямолинейный, с администрацией тоже не сотрудничал, поэтому отсидел от звонка до звонка.
Тогда он сохранил волю и, выйдя на свободу, твердо решил вернуться к нормальной жизни. Конечно, о продолжении военной карьеры не было и речи, но мозги Смышляев не прочифирил и надеялся получить высшее образование. А друг Дима ему в этом поможет, ведь не просто так Валера отсидел за него семь лет.
Соседи по бараку объяснили ему, что признаваться ни в коем случае было нельзя, молчал бы в тряпочку, а если уж Дима был так нужен родине, то родина могла просто не довести дело до суда.
В том, что Дима служил в Ленинграде, родном городе его матери, Смышляев увидел перст судьбы. Он приехал домой, мама прописала его к себе, а дальше начались сложности.
Тиходольский нашел старому приятелю место разнорабочего в НИИ, и на этом посчитал свой долг исполненным. Казалось, он совершенно забыл, от какой участи спас его Валера, и вел себя так, будто оказывает милость заблудшему старому другу, а не платит по старым счетам.
Что ж, Валеру покоробила такая снисходительность, и он решил добиться успеха сам.
Только ничего не вышло. Документы в институт не принимали, в техникум тоже.
Смышляев проявлял любознательность на рабочем месте, помогал научным сотрудникам с расчетами, читал монографии и через год разбирался в горном деле не хуже иного дипломированного специалиста. И у него почти получилось перейти из разнорабочих в лаборанты, а там можно бы и на заочное подавать, но тут в отделе кадров вспомнили, что он судимый, и оставили его на прежней должности.
Он был сильный, выносливый, но, когда собрался в первую свою экспедицию, молоденькая сотрудница устроила начальнику партии истерику, что она ни за что, ни за что, ни за что не останется ночевать в соседних палатках с бывшим зэком.
Смышляева не взяли, и вскоре он заметил, что те сотрудники, которые благоволили к нему и больше всех обещали, теперь при встрече отводят глаза и говорят с ним сквозь зубы.
Потом у кого-то пропали деньги, и само собой, что все подумали на Валеру. Доказать не доказали, но кто вор, как не бывший зэк?
Смышляев работал хорошо, увольнять его было не за что, а сам он уходить не хотел, несмотря на остракизм коллег, понимая, что другого места может и не найти. Его терпели, но после кражи стали поручать самую черную и унизительную работу.
Когда мама попала под машину, пришлось спрятать гордость и идти на поклон к старому другу Диме. Нужны были дефицитные лекарства, которые из всего окружения Смышляевых реально достать мог только он.
Дима откликнулся в этот раз тепло, по-человечески, доставал все, что требуется, возил матери дефицитные продукты из закрытого распределителя, выбил путевку в санаторий. Смышляев чувствовал, что надо быть благодарным, и пытался давить в себе завистливую ненависть, поднимающуюся со дна души, когда он видел преуспевающего друга.
Большой человек и будущее у него большое, а что ждет Валеру, кроме нудной унизительной работы и алкоголизма?
А ведь он мог бы тоже стать элитой общества, если бы не Димина горячность! Как бы там ни было, кто бы ни нанес роковой удар, но зачинщиком драки точно был Дима. Именно он первый вмазал сопернику по лицу.
Если сначала зависть подхлестывала Валеру, призывая к здоровой конкуренции, то теперь, когда он ткнулся во все двери и убедился, что все они для него заперты из-за судимости, это тягостное чувство превратилось в навязчивую идею.
Плохо было уже не то, что сам он в заднице, а то, что Дима на коне.
Если бы общество оставило Валере хоть один шанс вернуться к той жизни, о которой он мечтал в юности, Смышляев использовал бы его и забыл о Диме, но безнадежность редко идет на пользу человеческой душе.
Чем больше Дима помогал с матерью, тем больше Валера его ненавидел.
За время маминой болезни он подружился с ее деревенской приятельницей. Дочка этой приятельницы, Ульяна, очень нравилась ему, но Валера понимал, что тут без вариантов.
В его положении рассчитывать на взаимность можно было только у дам таких же ущербных, как он сам.
Как-то мамина подруга в порыве откровенности призналась ему, что Дима попортил Ульяну и теперь морочит девке голову, а жениться не собирается.
Тут тлеющая ненависть вспыхнула яростным белым огнем. Дима берет все, что хочется, даже то, на что у него нет никакого права, а Валере не достается ничего!
Смышляев был готов на что угодно, лишь бы только скинуть Диму с вершины блаженства.
Он честно пытался держаться в рамках закона и сначала просто хотел открыть глаза Диминой жене на измену ее образцового супруга.
Но эта сучка не стала с ним разговаривать, даже не открыла дверь, только назвала его «тем самым уголовником, который тянет деньги у Димы», и пригрозила вызвать милицию, если он сию секунду не уберется.
Смышляев убрался.
Татьяна Гавриловна, так звали мать Ульяны, утешала его, как могла, а потом предложила убить Диму.
Она все сделает сама. Димина жена иногда приглашает ее помочь по дому, так что Валере нужно лишь вынести с работы тот самый яд, о котором он не так давно рассказывал. Действительно, был такой разговор, он со смехом посетовал на непоследовательность сотрудников, которые боятся пускать его в помещения, где хранят свои кошельки, зато спокойно дают неограниченный доступ к раствору Клеричи, веществу, которым можно отравить полгорода, прежде чем люди догадаются, что дело нечисто.
Валера изумился, но Татьяна Гавриловна сказала, что не для того девку растила, чтобы ее портили всякие сволочи и не женились. Уже за одно это Дима заслуживает смерти, но главная проблема в том, что Ульяночка никак не может оторваться от любовника. Сейчас нравы попроще, замуж и не девочкой возьмут и, если повезет, не сильно будут попрекать, но для этого дочке надо искать мужа, а не сидеть возле Димы, будто она его благоверная.
Сволочь Тиходольский задурил Ульяне голову, а годы-то идут. Через пару лет уже поздно будет.
А вот если Дима умрет, то Ульяна погорюет да и найдет себе мужика.
Смышляев мечтал, чтобы Дима сдох, а его сытая высокомерная жена осталась одна и поняла, что без мужа она такое же ничтожество, как и бывший зэк. Очень хотелось увидеть ненавистную рожу в гробу и хоть в чем-то одержать победу. Ты сдох, а я пока еще жив! Я дышу, а ты корм для червей, и все твои заслуги никому не интересны больше.
Но все же он попытался обуздать себя, поехал к Диме и заявил, что все знает о его молодой любовнице и расскажет жене, если Тиходольский не найдет ему действительно хорошую работу и не устроит на заочное в институт.
Только Дима рассмеялся в ответ, он обеими руками «за». Валера только подвигнет его на то, что он давно хочет, но боится сделать. Самому признаваться в изменах и просить о разводе у него язык не поворачивается, а если жена все узнает от Валеры, задача его существенно облегчится.
Шантажа он не боится, стало быть, из страха хлопотать не собирается. Мог бы из дружеских чувств, если бы старый приятель попросил по-хорошему, а не занимался вымогательством.
В общем, Тиходольский ухватился за Валерину попытку шантажа, чтобы окончательно закрыть перед ним все моральные обязательства и вышвырнуть жалкого уголовника из своей благополучной интересной жизни.
Кипя от ненависти, щедро политой бензином унижения, Валера вынес с работы бутыль раствора Клеричи и передал ее Татьяне Гавриловне.
Если бы он только знал, что яд примет ребенок!
Но Дима никому не рассказал, что сын заболел, даже своей любовнице.
Валера узнал обо всем только через две недели после похорон парнишки.
От мысли, что стал причиной гибели ни в чем не повинного юного существа, Смышляев впал в отчаяние. Татьяна Гавриловна клялась, что произошла страшная ошибка, но Валера не заметил в своей подельнице ни угрызений совести, ни ужаса, и он стал подозревать, что вовсе не Дима был ее целью.
Он нагрубил ей, выгнал из дому и пригрозил Татьяне Гавриловне, что пойдет в милицию и во всем признается, если только она еще раз сунется в их семью. Мама удивлялась, куда исчезла преданная подруга, но потом решила, что она просто устала о ней заботиться.
Угрызения совести оказались такими невыносимыми, что Валера, до этого переносивший удары судьбы без алкогольной анестезии, начал пить, и так крепко, что однажды устроил на работе дебош, а коллеги ничего спускать на тормозах не стали. «Черного кобеля не отмоешь добела», – говорили они, и вообще им, кажется, было приятно, что зэк оказался именно таким, каким должен быть – тупым и агрессивным алкашом.
Иногда ему невыносимо хотелось признаться следователю, но Валера знал, что на зоне делают с убийцами детей, поэтому молчал, но совесть точила его, он стал замкнутым, агрессивным и однажды убил заключенного, который пытался его под себя подмять.
Тут уж никого не интересовало, была это самооборона или нет, впаяли по полной.
Как ни странно, Валере стало легче, он решил, что заслуженно наказан за убийство ребенка и сможет, когда освободится, праведно дожить остаток жизни.
И снова не срослось. Мама состарилась и плоховато соображала, соседи по коммуналке шарахались и во все глаза следили за ним, чтобы поймать за руку и снова упечь на зону, а на работу не брали вообще никуда.
На зоне Смышляев разучился пить, а теперь хотел бы вернуться к этой привычке, но было не на что.
Он думал то повеситься, то проситься в монастырь, то уехать в какую-нибудь заброшенную деревню и жить там отшельником.
Все изменилось, когда он, сам не зная зачем, позвонил на кафедру Тиходольского и представился его старым другом. Валере повезло, ответила лаборантка, работавшая чуть ли не полвека, и она с большим удовольствием рассказала ему про нелепую смерть первой жены Дмитрия от аппендицита, и про его женитьбу на прекрасной докторше, и про его кончину от инфаркта.
Смышляев помнил симптомы отравления таллием, и ему стало все ясно.
Что ж, в свое время он принес Татьяне Гавриловне щедрую дозу яда…
Валерий понимал, что косвенно виноват в смерти женщины, но измученная совесть отказывалась принять этот груз.
Он с избытком наказан за все плохое, что совершил, искупил свою вину и теперь имеет право на немножечко радости.
Смышляев пришел к Ульяне и потребовал финансовой помощи и приличного трудоустройства, а когда она отказалась, рассказал ей все.
Ульяна отказывалась верить, но понимала, что все это правда. Мама действительно совершила это, проложила дочери дорогу к счастью.
Мир расползался на куски, как фотопленка, если долго держать ее в проекторе.
Добрая и ласковая мама, мечтавшая только о том, чтобы дочка была счастлива… Наверное, она и не воспринимала семью Димы как людей, женщина и ребенок были для нее всего лишь досадной помехой, которую необходимо устранить.
И жена маминого нынешнего мужа тоже умерла как-то слишком удачно…
Наверное, то же чувствует человек, когда узнает, что неизлечимо болен. Сердце трепещет, отказывается верить, но разум неумолим.
Не совсем понимая, что делает, Ульяна, как робот, прошла в спальню, достала из ящика с бельем наличность, а из шкатулки весь свой золотой запас и принесла Валере.
Тот ухмыльнулся, сунул в карман, не глядя и не пересчитывая, и заявил, что это первый взнос.
Ульяне хотелось только одного – чтобы он ушел, но Смышляев никуда не торопился.
Он вдруг обиделся, что она не пустила его дальше прихожей, гнушается посадить за стол, а сама наверняка была в курсе дел своей мамаши, и на ее совести больше грехов, чем на его.
Ульяна действительно брезговала зэком, наверняка подхватившим туберкулез на зоне, но сделала над собой усилие и пригласила его отобедать.
Все что угодно, лишь бы он ушел до возвращения дочери.
Дети ни при каких обстоятельствах не должны ничего узнать.
Валера прав, никто не поверит, что она не участвовала в отравлениях и даже ничего о них не знала.
Мама будет клясться, что одна во всем виновата, только люди решат, что старушка просто выгораживает дочь. И дети тоже не поверят. Они любят бабушку, самую добрую на свете, которая нянчила их и любила, пока мамаша пропадала на работе.
Нет, их нужно уберечь от этой правды во что бы то ни стало.
Смышляева разморило от горячего супа, он будто охмелел, расслабился и вдруг нашел прекрасное решение. Все его невзгоды и мытарства прекратятся, если он женится на Ульяне. А почему нет? Она – вдова, он тоже свободный мужчина, и чтобы заполучить его, никаких жен и детей травить не надо.
А в том, что он отличный любовник, Ульяна может убедиться прямо сейчас.
Это было не насилие, а просто грубое заигрывание. Если бы она указала ему на дверь, он бы ушел. И в милицию тоже была возможность позвонить, сытый и довольный Валера развалился на стуле и не преследовал ее, когда она выскочила из кухни, получив игривый шлепок по бедру.
Она постояла немного в коридоре, переводя дыхание. Правда перевернула всю душу ей, взрослой немолодой женщине, так что она сделает с детьми? Нанесет такие раны, которые не затянутся у них до конца жизни. Димочка и Аня будут считать себя потомками убийцы, а Андрюша вообще непонятно как сможет жить дальше, зная, что любил женщин, убивших его родную мать. И покойного отца они тоже возненавидят.
А хуже всего то, что они останутся один на один со своей бедой, потому что у самых близких людей, мамы и бабушки, больше нельзя будет попросить утешения и совета.
По сравнению с этим не имеет значения ни жизнь ее, ни чистая совесть. Она уже свое прожила, пролюбила, отрадовалась. Пришло время расплатиться.
Отдышавшись, Ульяна вернулась в кухню и ухмыльнулась Смышляеву в лицо.
Спровоцировать его оказалось нетрудно, он стал ее лапать, она то прижималась, то начинала вырываться, следя за тем, чтобы он оставил на ней характерные синяки. Бедный Валера не был насильником, он только отводил ее руки от своего лица, сам ни разу не ударил, и Ульяне вдруг стало до слез жалко человека, который мог бы прожить совсем другую жизнь, если бы не трагическое стечение обстоятельств.
Но дети были важнее. Она взяла нож, которым за час до этого резала овощи в суп и еще не успела помыть, и нанесла точный удар.
Потом изо всех сил ударила себя скалкой по лицу и по ребрам, несколько раз закричала: «Помогите!» – и, не глядя на тело Валеры, набрала ноль два.
В последний момент вспомнила о тарелке и ложке, с которыми он ел суп, тщательно протерла, а тарелку бросила на пол. Та разлетелась на мелкие осколки.
Потом Ульяна выскочила на лестницу, прямо в объятия соседа.
Она была готова отсидеть и не боялась зоны, зная, что со своей специальностью там не пропадет. Ее собственная судьба не имела больше значения, главное – уберечь детей от страшной правды.
Наверное, и мама, когда решалась на преступления, тоже была готова ко всему, лишь бы только дочь получила свой кусок счастья.
Время шло, а судья с заседателями все не выходили. Обвинитель достал из дипломата какой-то томик и углубился в чтение, секретарь вязала, и Ульяна хотела показать, как тот же самый узор можно делать проще и быстрее, но не решалась лезть, куда не просят.
Ей было очень страшно, и почему-то казалось, будто судьям все известно, хотя Ульяна понимала, что это невозможно. Смышляев мертв, а больше никто ничего не знает.
Но почему тогда их так долго нет?
Ульяна снова посмотрела в окно. Ливень прошел, и развиднелось, и, как всегда бывает после дождя, звуки доносились с улицы особенно четко, будто умытые.
Обвинитель оторвал взгляд от книги, будто опомнился, посмотрел на часы и покачал головой. Даже для него это слишком долго.
Может, пора в окно? К омытому дождем асфальту и небытию? Мертвых у нас не судят и приговоры им не выносят. С ее смертью оборвется последняя нить к тайне, и дети ничего не узнают.
А если узнают, то им будет легче это пережить, когда они поймут, что мать раскаялась и наказала себя сама.
Ульяна раскрыла блокнотик, который ей разрешили иметь при себе, чтобы делать заметки.
Что написать детям? Что любит? Наказать дочери никогда не встречаться с женатым мужчиной, а сыновьям – любить жен, потому что измены безжалостно все ломают?
Или лучше уйти молча, как бы в припадке умопомешательства?
Ульяна несколько раз глубоко вздохнула. Она даст себе еще десять минут… А потом еще десять, потому что инстинкт самосохранения прижимает ее к месту.
* * *
Ирина со стуком положила часики на стол:
– Итак, товарищи? Время истекло.
– Отправить на доследование, – буркнул Гарафеев.
– Ты же врач, типа гуманист.
– Вот именно. И мне поэтому претит мысль о том, что жестокая убийца останется безнаказанной. Нет, я понимаю, когда под горячую руку, и человек сам раскаялся и повинился, то можно, наверное, простить, но отравить ребенка, чтобы выйти замуж за его отца, это уж извините.
– Но мы точно не знаем, так ли все было.
– Так мы и не к расстрелу тетку приговариваем.
По хмурой физиономии Стаса Ирина поняла, что он не изменил своей позиции и будет отстаивать ее до последнего. Но и Гарафеев тоже уступать не собирается.
Ах, какими спокойными и уступчивыми они оба показались Ирине при знакомстве! Стас – то, что в кругах Кирилла называется «пофигист», а Гарафеев – типичный совок и подкаблучник, с атрофированным собственным мнением. Вот уж правда, в недобрый час подумала она, что с этими милыми дурачками проблем не будет!
А теперь ясно, что они даже не станут ее слушать, пока не договорятся между собой.
Ирина вздохнула. Дождь прошел, а на четырехчасовую электричку она точно не успеет, и теперь непонятно, когда доберется до дому. Кирилл устроит нахлобучку, что не взяла такси, но Ирине претило это вопиющее барство.
Или взять все-таки, чтобы ребята не волновались? Она же двадцать раз повторила, что дело ерундовое, все решено давным-давно, осталась простая формальность – огласить приговор, так что сегодня она точно на работе не задержится.
Кто за язык-то тянул?
Но самое ужасное в этой ситуации то, что она колеблется. Склоняется к позиции Гарафеева, но все-таки колеблется. Была бы твердая убежденность, так нашла бы аргументы для строптивых заседателей.
Наверное, это беременность сделала ее такой нерешительной.
– Игорь Иванович, а если Тиходольская не виновата?
– Как это не виновата?
– А вы не думаете, что следователь попадет под обаяние вашей стройной версии и не станет рассматривать аргументы против нее?
– Я не могу за него отвечать.
– Верно, – поморщилась Ирина, – ну а вы что скажете, Станислав Михайлович?
Стас вздрогнул, будто не ждал этого вопроса.
– Пожалуйста, слушаю вас.
Суханов встал, прошелся по комнате, зачем-то выглянул в окно.
– Даже не знаю, важно это или нет, – негромко начал он, – но расскажу как есть, а вы уж судите сами. Дело в том, что на мою невесту много лет назад напали. Она выжила, но ее будто выкинуло из жизни. Она существует как за стеклом. Как тень. Я пытаюсь представить себя на ее месте и не могу, и понимаю только одно – это очень страшно, так жить.
Стас сглотнул и крепко сжал ладони. Гарафеев с Ириной молча смотрели на него.
– Насильника не поймали, а Леля оказалась сама виновата. Слишком поздно шла домой, слишком молодая, слишком красивая. Как тут устоять, действительно? Она пошла в милицию, потому что думала, что насильника найдут и он не обидит других девушек, но ее там только унизили и оскорбили. А мама с ней до сих пор обращается так, будто она немножко умерла. Насильник оставил ей только тень жизни, изломал, искалечил судьбу, а сейчас спокойно гуляет где-то, выслеживает других девушек и прекрасно себя чувствует. Ни совесть его не тревожит, ничего. Но когда я спросил у Лели, не жалеет ли она, что не убила его, она сказала – нет. Не стала бы этого делать, даже если бы и могла, и не из страха, а потому что угрызения совести сделали бы ее существование еще тягостнее, чем сейчас. Вы понимаете? Она лучше бы умерла сама, чем лишила жизни негодяя, который полез к ней без спросу, заведомо зная, что она слабее его. Мне кажется, так не должно быть. Человек не должен думать, что защищаться – это плохо, особенно если это женщина. Что там было в прошлом у нашей подсудимой, бог его знает, но если мы сейчас ее не оправдаем, то как бы скажем: да, защищаться плохо. Лучше умрите, но сохраните жизнь своему насильнику, а про вашу женскую честь вообще говорить нечего. Сами напросились, так терпите теперь. Подумаешь, ваша жизнь будет навсегда искалечена, зато вы никого не убили, греха на душу не взяли.
Ирина поморщилась.
– Тиходольская накуролесила будь здоров, только это уже не переделаешь, никого не воскресишь, – продолжал Стас, – но если мы ее оправдаем по самообороне, то не переломим мировоззрение, однако крошечный шажок все-таки сделаем. Женщины увидят, что защищаться можно и нужно, ну и мужики тоже кое-что поймут.
– Что? – буркнул Гарафеев.
– Вы правы, Станислав Михайлович, – кивнула Ирина, – есть совершенно безумные, невменяемые личности, им все равно, а сравнительно адекватные призадумаются, стоит ли лезть к женщине, если она тебя убьет и ей за это ничего не будет, или лучше обуздать свой половой инстинкт. Пожалуй, я с вами соглашусь.
– Не слишком ли вы масштабно мыслите? – фыркнул Гарафеев. – Может, все же снизим планку до этого конкретного случая, а о мировой революции поразмыслим на досуге.
– Игорь Иванович, но ведь действительно, – мягко начала Ирина, – вроде у нас передовое общество, а по изнасилованиям мы застряли в глухом средневековье, когда считалось, что девушка должна лишить себя жизни, а не насильника, чтобы не допустить бесчестья.
– Зато потом родственники девушки разрывали насильника на куски.
– Но ей было от этого не легче. Да и родственников таких давно нет, и постыдный самосуд мы не приветствуем. Стас, то есть Станислав Михайлович прав, ради будущего мы должны оправдать Ульяну, а прошлого все равно не изменишь.
– А ради справедливости ничего не надо сделать?
– Да ты задолбал! – вскипел Стас. – Ах, Ульяну не накажут, ужас-то какой, но насильник Лели тоже гуляет себе спокойненько, потому что его даже не искали. Если у тебя так болит душа за справедливость, топай в наше отделение милиции и требуй там, чтобы они оторвали задницы от стульев и ловили этого гада.
Гарафеев скривился:
– Я врач, а у нас есть заповедь лечить не болезнь, а больного. Каждый конкретный случай рассматривается, а демагогии у нас места нет.
– Ладно, Гиппократ. Спасаешь каждую жизнь?
– Ну да.
– А когда случается эпидемия? Там другие правила, всех в карантин, больных и здоровых, верно?
– Верно. При эпидемии главной целью становится локализовать очаг и не допустить распространения инфекции.
– Ну вот считай, что у нас эпидемия, и успокойся.
* * *
Ульяна открыла блокнот и начала писать: «Дорогие мои дети», но тут секретарша сказала: «Встать, суд идет».
Сердце колотилось как сумасшедшее, все прыгало перед глазами, Ульяна испугалась, что сейчас упадет в обморок, и крепко вцепилась в бортик скамьи подсудимых.
Как сквозь шум прибоя доносились до нее слова «признать невиновной», и долго после того, как судья замолчала, Ульяна не могла понять, что для нее все закончилось, она свободна и может идти домой.
Немного придя в себя, она кинулась благодарить судей, но те смотрели будто сквозь нее, а Гарафеев просто отвернулся. Вероятно, он считал, что она заслуживает наказания.
Ульяна вышла на улицу.
Жизнь вернулась в прежнюю колею, у общества нет к ней претензий, и она осталась один на один со своим грехом.
* * *
Наконец хлопоты по обмену закончились, и Ирина наслаждалась остатками декретного отпуска.
К счастью, обошлось без сложных маклерских схем: ее квартиру с большой доплатой обменяли на две однушки, куда поехали соседки Кирилла, вот и все.
Пока они с Егором жили на даче, Кирилл сделал небольшой ремонтик, и, вернувшись в город, Ирина привыкала к высоким потолкам и просторной ванной, а главное, к чувству беззащитности – теперь ей некуда было отступать.
«Я как барсук, у которого разорили нору», – усмехалась она.
Егор же был полностью счастлив. В июле приезжала Надежда Георгиевна, заседательница на процессе Кирилла[5], с которой Ирина крепко подружилась. И Ирина посоветовалась с ней насчет идеи отдать сына сразу во второй класс. Опытный педагог, Надежда Георгиевна сказала, что систематическое образование лучше начинать с азов, а не с середины, и договорилась, чтобы Егора приняли в отличную английскую школу, где, как она обещала, мальчику не дадут скучать.
В конце августа Ирина с Кириллом повезли его на школьный базар, купили форму и ранец именно такой, как он хотел, и набили его под завязку разной канцелярией. Кирилл через своих богемных друзей достал краски «Ленинград» и набор толстой рельефной бумаги для акварели, а его любимый архитектор привез из Москвы пачку атласных тетрадок в глянцевых обложках и подарил настоящие переводные картинки.
Егор остался к ним равнодушен, а Ирина самозабвенно переводила утят и Микки-Маусов на все ровные поверхности.
Первого сентября они вместе с Кириллом повели Егора в школу, и сын объявлял новым товарищам, что «это мои мама и папа».
Процесс усыновления двигался вполне благополучно, первый муж Ирины тут же подписал согласие, как только услышал слово «алименты».
Оставалось соблюсти юридические формальности, и Кирилл становился законным отцом Егора еще до того, как родится его собственный ребенок.
Ирина видела, как Егор счастлив, что может теперь называть Кирилла папой, и понимала, что они приняли верное решение, но все равно ей было немного страшно.
Усыновить ребенка это все равно что переписать прошлое, а прошлое такого не прощает.
На линейку «Первый раз в первый класс» явилась и бабушка Ольга Степановна. Она была так ласкова и любезна, что Ирина сразу помирилась с нею и разрешила общаться с внуком, но не прошло и двух недель, как Егор явился от бабушки в слезах.
Ольга Степановна продвигала внуку идею, что настоящий его отец – невинная жертва злобной матери, которая выгнала его ни за что, ни про что из дому и запретила видеться с сыном. И в школу такую странную, далеко от дома, она отдала его неспроста. Немножко он в нее походит, а потом злая мать отправит его в интернат. Как только родится новый ребенок, Егор станет в этой семье никому не нужен, а усыновляют его только для того, чтобы не спрашивать родного отца, когда будут сдавать в интернат.
Как ни уважала Ирина старость и одиночество, но душевное равновесие сына все-таки было ей дороже.
Она разрешила бабушке общаться с Егором только в ее присутствии и даже съездила в школу, поговорила с учительницей и вахтершей, чтобы они не отдавали ребенка Ольге Степановне.
Видимо, такой формат даму не устраивал, и она исчезла с их горизонта.
Время шло. Тускнело небо, утро встречало темнотой и сыростью, и, казалось, еще вчера они впервые вели Егора в школу, но вот уже летела к концу первая четверть. Новенькие тетрадки были давно помяты и исписаны, в ранец вытекла ручка, навеки оставив на нем огромное чернильное пятно, к школьному пиджаку подшит оторванный карман, и уже вторая пара кед была потеряна на уроках физкультуры. Надвигалась промозглая ленинградская осень, время голых деревьев и мрачных мигающих фонарей.
Пора пить чай в зеленом свете абажура и облизываться на банки варенья, которые нельзя открывать «до белых мух».
До родов оставалось полтора месяца, и Ирина чувствовала себя неважно. Появились отеки, скакало давление, и врач в консультации предлагала ей лечь в дородовое отделение. Ирина сначала хотела, но потом увидела, что врач направляет ее в роддом, где работает Тиходольская, и отказалась.
А главное, ей хотелось побыть с Егором, потому что ребенок тяжело переживал очередную порцию откровений любящей бабушки.
Она старательно соблюдала режим, особенно питьевой, мерила давление, и все как будто наладилось, но слабость не проходила, поэтому, когда вдруг позвонил секретарь парторганизации и предложил рассмотреть ее кандидатуру на ближайшем заседании, Ирина долго сомневалась, стоит ли рисковать. Но секретарь был настойчив, видимо, она портила ему всю отчетность.
Должна была вступить еще летом, но помешал аппендицит, а потом то больничный, то отпуск, то декрет. А план по вновь обращенным, наверное, надо выполнять.
Секретарь был мужик хороший, свойский, обещал, что рассмотрит ее за две секунды, а после заседания лично отвезет домой, вот она и согласилась.
Дорога далась ей с трудом. В метро какой-то молодой человек уступил место, а в автобусе, хоть час пик еще не настал, было полно народу, и никто ради беременной подрываться не собирался. Плюс ко всему в кругленьком львовском автобусе сильно пахло выхлопными газами, и Ирина боялась, что ее вырвет или она потеряет сознание, но обошлось.
Зато коллеги встретили тепло и радушно, председатель уложил ее на свой диван, и напоил чаем, и наговорил столько хороших слов, что Ирина прослезилась.
Впрочем, последнее время у нее глаза были на мокром месте.
Секретарь парторганизации стремительно собрал кворум и приступил к повестке дня, но тут внезапно отворилась дверь и на пороге возникла не кто иная, как Ольга Степановна.
От неожиданности у Ирины прошла вся расслабленность и вялость.
– Я хочу выступить по существу вопроса, – заявила свекровь.
– Но вы у нас не работаете, – сказал секретарь с ошарашенным видом.
– Зато я член коммунистической партии и имею право голоса, когда в наши ряды пытается проникнуть недостойный человек!
– Послушайте, это дело коллектива… – начал председатель суда, но Ольга Степановна величественным жестом остановила его.
– Мой долг как коммунистки состоит в том, чтобы предостеречь вас от ошибки! Возможно, Полякова кажется вам образцовым сотрудником, но на самом деле это морально неустойчивая женщина, которая изменяла первому мужу, развелась с ним, отобрала у него ребенка, а теперь живет с диссидентом!
– Мой муж вообще-то ударник коммунистического труда! – воскликнула потрясенная Ирина.
– Он пишет клеветнические стишки, порочащие советскую власть!
«Вот вам, пожалуйста, коммунизм в действии, – тоскливо подумала недостойная Полякова, – от каждого по способностям, каждому по потребностям. Способностей у меня никаких нет, а потребность общаться с внуком имеется, и я удовлетворю ее во что бы то ни стало. Хочу – значит, имею право. Это на государственном уровне прописано. Каждому по потребностям. То есть мне все должны, а я вам – фигу. Прекрасный строй, действительно, есть за что побороться».
– Эта мерзавка разрушила крепкую советскую семью и сына воспитывает черт знает как! – надрывалась Ольга Степановна. – Она не только не имеет права вступить в наши ряды, но и судить людей я бы тоже ей не доверила. Народный судья обязан быть безупречным человеком и настоящим коммунистом, а не хабалкой подзаборной.
Ирина засмеялась. Ольга Степановна зашла правильно, такую демагогию опасно игнорировать, поэтому сейчас заседание, скорее всего, закроют, а ее вступление в партию отложат до выяснения обстоятельств. То есть навсегда, потому что с двумя детьми ей станет не до этого. Ну и хорошо. Судьба, значит, ей остаться кристально честным и принципиальным человеком, спасибо Ольге Степановне.
– Спасибо за сигнал, – мягко сказал секретарь парторганизации, – а теперь покиньте, пожалуйста, помещение.
– Я коммунистка с тридцатилетним стажем и имею право присутствовать!
– Хорошо, присаживайтесь, пожалуйста. Что ж, товарищи, я думаю, что выступление предыдущего оратора не пошатнуло доверия нашего коллектива к Ирине Андреевне. Мы все знаем ее как грамотного, честного и добросовестного специалиста, крепкого общественника и человека, всецело преданного идеям нашей партии. По регламенту мы должны провести с нею беседу, но, принимая во внимание ее положение, я думаю, ничего страшного не случится, если мы сразу проголосуем. Итак, кто «за»?
Секретарь первым поднял руку, все остальные потянули за ним, и когда он сказал «единогласно», Ирина расплакалась от умиления.
Ей вдруг очень захотелось в партию, где состоят такие добрые люди.
Она вытирала слезы и то улыбалась, то всхлипывала, принимая поздравления, как вдруг подскочила Ольга Степановна и с криком «ах ты мразь такая» отвесила ей оплеуху.
Было не больно, но от неожиданности Ирина потеряла сознание.
Дальнейшее она помнила очень смутно. Какие-то незнакомые лица в белых шапочках, дребезжание носилок в «Скорой помощи», странное слово «эклампсия», потом темнота и снова эта эклампсия, повторяемая и повторяемая разными голосами.
Что-то теплое потекло вдруг по лицу, Ирина удивилась, почему у нее вдруг такой сильный насморк и из носа течет, как у ребенка, промокнула носовым платком, увидела, что он весь красный, и удовлетворенно подумала, что это кровь, а значит, все в порядке.
Потом она оказалась где-то под безжалостными лампами дневного света и загадала, что если их четное число, то все будет хорошо. Загадала и не смогла сосчитать, сбилась.
Боль приходила слабым эхом, и Ирина хотела прорваться туда, в реальность, и понимать, где она и что с нею, и как дела у ребенка, но будто натыкалась на толстое матовое стекло.
Какие-то отзвуки мира доносились до нее, например, она увидела, что у человека, склонившегося к ней, необычайно большие и оттопыренные уши.
Кажется, она сказала ему об этом, что у него уши, потому что человек засмеялся и невпопад ответил, что все будет в порядке и с ней, и с ребенком, и тут же куда-то исчез.
Боль накатывала волнами, как прибой, и Ирина кому-то рассказывала, как давно не была на море, и как сквозь вату до нее доносилось: «бредит, бред», и она не понимала, почему бред, если она действительно там давно не была.
Проснувшись, она обнаружила себя на широкой реанимационной кровати. В одной руке была капельница, а свободной Ирина быстро провела по животу – и обнаружила, что он почти такой же плоский, как раньше. Значит, она родила.
Ирина похолодела от страха за ребенка и приподнялась на локте. К ней подошла женщина средних лет, мягко уложила обратно на кровать и обещала позвать врача.
– Ребенок? – спросила Ирина хрипло.
– Все в порядке, все в порядке, – пропела женщина, – сейчас вам врач все расскажет.
Это нисколько не успокоило Ирину, и следующие полчаса она провела как на иголках.
Наконец появился доктор, высокий тощий человек в зеленом хирургическом костюме. Ирина сразу узнала его по ушам.
– Доктор, что с ребенком? – крикнула она.
– Мальчик, три двести, сорок девять сантиметров, восемь по шкале Апгар, – отрапортовал врач весело, – мы на всякий случай понаблюдаем вас в реанимации до утра, а потом переведем в палату, и вам принесут его кормить.
– А ничего, что он родился раньше срока?
– Скороспелая хороша только картошка, – засмеялся врач, – но у вас вполне себе жизнеспособный, здоровенький, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, малыш. Щеки такие…
Он показал какие.
– Спасибо вам, доктор.
– А вы ведь та самая судья, которая оправдала нашу Ульяну Алексеевну? – тихо спросил врач, наклоняясь к ней. – Спасибо вам!
Ирина помрачнела. В такую счастливую минуту ей не хотелось вспоминать о том процессе.
– Она – моя наставница, и мне ни за что не удалось бы вас протащить без кесарева, если бы не ее наука. Так что считайте, что она вам тоже помогла.
– Спасибо.
– В общем, поправляйтесь, а мы позаботимся о вас и о малыше.
Утром Ирина чувствовала себя совсем здоровой. Как только перевели в общую палату, она встала, умылась, познакомилась с соседками и стала ждать своего сына на кормление. Так хотелось поскорее его увидеть!
– Смотрите, снег! – воскликнула соседка, и Ирина подошла к окошку.
В тяжелом и сером, как старое серебро, воздухе, кружились большие снежинки, укрывали мир ажурным белым покрывалом, и он становился светлым и нарядным.
Еще виднелась пожухлая трава, и асфальт, и пласт вывороченной черной земли, но было уже ясно, что совсем скоро они исчезнут до самой весны. В углу больничного садика полосатая кошка осторожно трогала лапой побелевшую землю, а потом деловито умывалась, стирая с головы снежинки.
И Ирина вдруг до странности ясно поняла, что возмездие и справедливость важны, но они мало что меняют.
Поток жизни течет своим чередом, бьется о вечность волнами поколений, и самое важное перед тем, как уйдешь, – это открыть дверь входящим и пригласить их войти.
И позволить им свободно плыть в этом потоке, и тогда, может быть, мир станет чуть более дружелюбным местом для тех, кто придет вслед за тобой.
1
Система ИВЛ – аппарат для искусственной вентиляции легких.
2
Клинок – рабочее название ларингоскопа, прибора, необходимого для обследования гортани и введения в трахею интубационной трубки.
3
ДВС – состояние, характеризующееся нарушениями в системе свертывания крови.
4
ГУЗЛ – Главное управление здравоохранения Ленинграда.
5
О подробностях знакомства с Надеждой Георгиевной и процессе по делу Кирилла Мостового можно прочитать в романе М. Вороновой «Женский приговор» (прим. ред.).