Книга: Чеченская марионетка, или Продажные твари
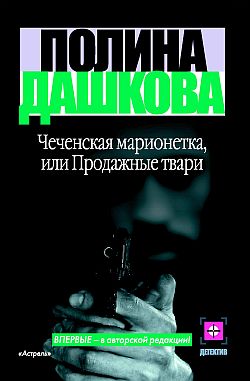
Чеченская марионетка, или Продажные твари
Эта повесть, написанная в 1996 году, называлась «Чеченская марионетка». Первые издатели сочли такое название недостаточно привлекательным, и из восемнадцати предложенных мной вариантов редактор выбрал самый, на мой взгляд, непривлекательный – «Продажные твари».
Когда вышла книга, я узнала из аннотации на обложке, что действие моей повести происходит в «южном курортном городке на границе с Чечней», а позже прочитала в газетах радостные замечания детективоведов о моем дурном знании отечественной географии.
Но этого мало. Текст серьезно пострадал от вмешательства редактора. От первой до последней страницы был аккуратно истреблен глагол «БЫТЬ» и все его производные. Не только отдельные фразы, но и целые главы изменились до неузнаваемости. В результате получилось нечто вроде дрянного перевода с русского на какой-то чужой язык, с авторского на редакторский. Моя повесть казалась мне живым существом, которое родилось здоровым, но было грубо искалечено, непонятно почему и за что. Заверения, будто хромота, кривобокость, шрамы и отсутствие правого глаза не очень заметны, меня не утешали, я знаю совершенно точно, что в художественном произведении, как в живом организме, важно все.
Наконец у меня появилась возможность восстановить изначальный текст повести «Чеченская марионетка», с чем я от души поздравляю и себя, и своих читателей.
Полина Дашкова
День начался отвратительно. Во-первых, убежал кофе, и темно-коричневая гуща с шипением залила девственно чистую хозяйкину плиту. Во-вторых, порвались старые любимые кроссовки, на этот раз окончательно. Теперь их осталось только выбросить. В-третьих, с утра небо затянулось плотными, тяжелыми тучами, лил тоскливый дождь.
Оттирая тряпкой плиту, Маша Кузьмина злилась на себя и на весь мир. За три дня отдыха в курортном городе она устала больше, чем за месяц сессии. В который раз она ругала себя последними словами за то, что поддалась на Санины уговоры, не стала ждать, пока он освободится, поехала одна, чтобы лишние пять дней поплавать в море, позагорать, а не сидеть в раскаленной, загазованной Москве. Тем более билет уже был. Она вспомнила, как Саня на все ее робкие сомнения отвечал со смехом:
– Ты что, считаешь себя Шерон Стоун или Клаудией Шиффер? Ты думаешь, каждый встречный мужик будет на тебя бросаться с ревом? Запомни раз и навсегда: если женщина не хочет, к ней никто не пристанет, пальцем не тронет. Хочет она или нет, всегда написано у нее на лице крупными буквами.
– А если попадутся такие, которые не умеют читать даже крупные буквы? – неуверенно возражала Маша.
– У нас уже семьдесят лет обязательное среднее образование, – отвечал Саня.
Тогда, в Москве, Маше казалось, что он прав. А здесь, в курортном городе, она сразу поняла: нет, не прав был Саня. Теперь нужно только дождаться его и это объяснить. Ждать осталось всего два дня.
Он, конечно, не поверит, поднимет на смех, изведет язвительными замечаниями, и в итоге она будет чувствовать себя идиоткой, вообразившей, будто все мужское население сходит по ней с ума. Ха-ха, какая гадость!
Одной ехать на юг нельзя, во всяком случае, когда тебе девятнадцать, у тебя две ноги, две руки и голова не набок. В Москве Маша этого не понимала. В последний раз она отдыхала на море с родителями в семилетнем возрасте, причем именно здесь, в этом курортном городе. Остались радужные воспоминания о море, солнце и фруктах. Санина идея съездить к морю вместе недельки на две показалась Маше просто замечательной.
Саня Шарко был ее сокурсником. Роман их начался недавно, но очень бурно. Машины родители ни за что не отпустили бы ее на юг с мальчиком. Они все не понимали, что ей уже девятнадцать, относились как к неразумному младенцу. Пришлось соврать, будто подруга-сокурсница из Севастополя пригласила погостить недельки две. Родители посомневались, но отпустили. Не сидеть же девочке два летних месяца после сессии на даче в Березках, в крошечном двухкомнатном «курятнике», на четырех сотках! А отдых на море семья уже давно себе позволить не могла. Папа, доктор искусствоведения, получал копейки. Мама, бывшая балерина, вела детскую хореографическую студию и получала немногим больше папы. Про Машину стипендию и говорить смешно. Денег едва хватало на жизнь. Какое уж тут море!
Когда билеты на поезд были уже куплены, а севастопольская подруга предупреждена на всякий случай, оказалось, что Саню пригласили на телевидение сыграть красавца вампира в какой-то новомодной детской передаче. Мелькнуть на телеэкране не откажется ни один нормальный студент театрального вуза, к тому же деньги посулили приличные, для отдыха на море вовсе не лишние. Маша хотела остаться в Москве и дождаться Саню. Но пришлось бы заново врать родителям. Саня уверял, что за эти пять дней ничего с ней не случится, и сама она не особенно сомневалась. Чего ей бояться? И с какой стати? Она ведь взрослый человек.
Санин билет легко обменяли, договорились, что она встретит его на вокзале через пять дней. Маша села в поезд, чувствуя себя независимой и самостоятельной.
Но в курортном городе с первых же часов все пошло у нее наперекосяк.
Комнату Маша сняла по-дурацки, у первой же тетки, поймавшей ее на вокзале. Тетка ловко подхватила Машин рюкзачок, ласково заворковала, пообещала душ, отдельный вход и назвала вполне терпимую цену.
Вход был вовсе не отдельный, душ оказался безнадежно сломанным, а хозяйка на редкость общительной. Сначала Маша хотела заплатить только за пять дней, но хозяйка заявила, что так не делают, и потребовала отдать деньги вперед, сразу за две недели.
«Ничего. Саня приедет, мы найдем что-нибудь получше. Ему она деньги вернет как миленькая», – решила Маша и успокоилась. Но ненадолго.
На грязном городском пляже к ней тут же подсели два бугая в татуировках:
– Девушка, вам не скучно одной?
Маша их отшила вежливо и быстро. Но через десять минут подошел лысеющий хлыщ с треугольной бородкой, прочитал длинную лекцию о вреде ультрафиолетовых лучей, а потом с легким пыхтением предложил:
– Если позволите, я намажу ваше тело солнцезащитным кремом. Он с ментолом, это очень эротично.
Отшить хлыща оказалось сложнее, чем амбалов. Он прилип со своим «эротичным кремом» и, как бы далеко его Маша ни посылала, отлипать не хотел. В конце концов пришлось уйти с пляжа.
Но самое неприятное началось вечером, когда Маша решила просто погулять по набережной. Амбалы, хлыщи, всякого рода сомнительные молодые люди то и дело предлагали скрасить ее одиночество. Маша очень быстро поняла: с вечерними прогулками до Саниного приезда лучше погодить.
«Значит, на пляж нельзя, гулять по городу нельзя, – зло думала Маша, – что же остается? Валяться в комнате на койке с утра до вечера или сидеть во дворе и общаться с хозяйкой?»
Вглядываясь в потресканное зеркало над умывальником, Маша пыталась понять, что же такое написано на ее лице.
Она, конечно, хорошенькая, даже красивая – иногда, когда захочет. Но дело вовсе не в этом. Она успела заметить, что все эти амбалы и хлыщи даже не особенно разглядывают ее, прежде чем пристать со своими «эротическими кремами» и прочими пакостными любезностями. Просто видят одинокую женскую фигурку – и вперед с песней:
– Девушка, вам не скучно одной?
Для этого не надо быть ни Шерон Стоун, ни Клаудией Шиффер. Просто воздух здесь такой – располагающий к пакостным любезностям. Возможно, кому-то это нравится, даже специально за этим приезжают. Каждый развлекается по-своему.
В первый же вечер, запершись в крошечной комнатке на втором этаже, Маша честно призналась себе, что ей очень хочется сейчас оказаться на даче в Березках, у мамы с папой под крылышком, и не надо никакого моря, солнца, никакой взрослости и самостоятельности. Даже Сани ей не надо. Если бы он относился к ней серьезно, десять раз подумал бы, прежде чем отпустить сюда одну. Нет, конечно, свою голову тоже надо иметь на плечах. Но очень уж хотелось к морю. Все-таки с семилетнего возраста не была.
На следующее утро на пляже началось все сначала. Днем с гнусными предложениями стал подступаться торговец яблоками на рынке. Вечером она, конечно, никуда не пошла, пролежала на скрипучей пружинной кровати, жалея себя до слез.
А назавтра к хозяйке приехал сын, здоровенный, с утра поддатый парень, который походя шлепнул Машу по попе и подмигнул:
– Привет, жиличка. Что вечером делаешь?
– Простите, – вежливо обратилась Маша к хозяйке, – ваш сын со всеми так здоровается?
– Гос-споди! – презрительно сощурилась хозяйка. – Да кому ты нужна? Кожа да кости.
Вечером к хозяйкиному сыну пришли в гости два друга, такие же здоровенные и поддатые. Сама хозяйка куда-то удалилась, сын с друзьями стали звать Машу присоединиться к их компании, несколько раз поднимались на второй этаж, барабанили в дверь:
– Эй, жиличка, выпей с нами! Выйди, поговорить надо!
Маша поняла, что теперь не сможет выйти из своей комнаты даже в туалет. «Ну за что мне все это? – устало думала она, слушая стуки в дверь и пьяные вопли. – Я сдала сессию на все пятерки, я заслужила нормальный, здоровый отдых. Неужели нельзя, чтобы человека просто оставили в покое, не трогали, не замечали? Конечно, все в жизни относительно. Если подумать, что в Березках сейчас комары, и посуду надо мыть холодной водой, и негде даже искупаться в жару, старый барский пруд давно зарос тиной, а водохранилище слишком далеко и вода там грязная... В Березки к папе все время приезжают его аспиранты, надо каждый вечер пить чай во дворе и вести долгие умные разговоры, без конца хлопая злющих комаров. Конечно, умные разговоры – это очень мило и интересно, но если хочется помолчать и побыть одной, то деться в Березках совершенно некуда – в домике две комнаты, кухонька-пристройка, участок крошечный. Не гонять же до поздней ночи на велосипеде! И вообще, какая бы жара ни стояла в Москве, стоит мне приехать на дачу, сразу начинаются дожди. А здесь все-таки море, солнце. Может, зря я так болезненно реагирую на липких придурков, на этих пьяных во дворе? Ну что в самом деле может мне угрожать? Ничего плохого со мной пока не случилось. Так, мелкие гадости».
А на следующее утро дождь пошел здесь, в курортном городе. И кофе убежал. Пока Маша злилась на весь мир, оттирая тряпкой плиту, у нее за спиной возник похмельный и злой хозяйкин сын.
– Не уважаешь ты нас, жиличка, – выдохнул он ей в самое ухо, – смотри, здесь тебе не Москва.
* * *
– Всему же есть предел! – Генерал Фролов встал и заходил по кабинету. – Журналисты преспокойно шастают через границу на секретные военные базы террористов, берут у них восторженные интервью, потом рассказывают на всю страну о готовящихся террористических актах, а наши доблестные смежники узнают об этом последними с телеэкрана и из газет. Бандиты, числящиеся в официальном розыске, гордо вещают о своих подвигах на всю страну, им дружно аплодируют. А теперь у нас еще будет губернатор области – чеченская марионетка. Этак вся Россия скоро станет мусульманской военной базой! Сколько там реальных кандидатов?
– Из девяти – четыре, считая теперешнего губернатора. Я подготовил материалы по трем наиболее реальным фигурам. Но шансы у этих троих пока равны.
Маленький пухлый генерал бегал по кабинету, а высокий широкоплечий полковник Константинов сидел в кресле и смотрел на Фролова снизу вверх. Было три часа дня – самое жаркое время. Москва плавилась в лучах тяжелого солнца, воздух дрожал и слоился от жары и бензиновых испарений. В кабинете Фролова работал кондиционер, но все равно генерал без конца вытирал пухлую мокрую шею и, болезненно морщась, оттягивал тугой ворот летней форменной рубашки. Только что Константинов доложил ему о последних донесениях своих агентов с побережья. Просматривая сводку и слушая рассказ своего подчиненного, генерал недоумевал, почему такие важные сведения доходят до них с такой задержкой, всего за десять дней до выборов. Либо эти сведения не столь серьезны, как кажется, либо они слишком серьезны и кто-то заинтересован, чтобы полковник ГРУ Константинов, а стало быть, и он, генерал ГРУ Фролов, получили информацию как можно позже.
– А почему ты думаешь, – спросил Фролов, тяжело опускаясь в кресло за свой огромный, уставленный телефонами и заваленный бумагами стол, – почему ты думаешь, что на выборах победит именно чеченская марионетка, а не армянская, например?
– Чеченцы денег на ветер не бросают, – пожал плечами полковник.
Сквозь щель в опущенных жалюзи ударил солнечный луч. Ослепительно сверкнула большая медная бляха на одном из телефонных аппаратов. Пожилая уборщица каждый день надраивала до блеска зубным порошком герб бывшего Советского Союза на черном, образца семидесятых, аппарате правительственной связи. Солнечный зайчик ударил генералу в глаза, он поморщился, встал и поправил жалюзи, плотно прикрыв щель.
– Жара, – сказал он, возвращаясь к столу и вновь вытирая шею огромным носовым платком, – в Москве дышать нечем. Ты своих уже отправил куда-нибудь?
– Жена и сын с невесткой на Кипре.
– Вместе? – вскинул кустистые брови генерал. – Как у твоей Любы отношения с молодой невесткой? Сложились?
– Ну, раз отдыхать поехали вместе, значит, сложились, – равнодушно кивнул полковник.
– А моя благоверная с Ольгиным мужем ну никак не может найти общий язык. Все ей плохо. Ольга мне недавно говорит: «Никогда не думала, что наша мама станет такой классической злющей тещей». И правда, дочь замужем уже семь лет, внуков двое, но моей Ксении Николаевне все неймется.
– Ревнует, наверное, – сочувственно вздохнул Константинов, – так бывает. Пришел чужой парень и увел единственную любимую дочку из семьи. Это проблема древняя, как мир. Теща-зять, свекровь-невестка.
– Древняя, – кивнул генерал, – однако никому от этого не легче. Слушай, Глеб Евгеньевич, о том, что Люба на Кипре, я и так знаю. Я о другом спросил.
Красивое, немного тяжелое лицо полковника ничуть не изменилось. Он прекрасно понял, о ком спрашивает генерал, но говорить с ним на эту тему, да еще здесь, в официальном кабинете, Константинову казалось не то что неловко, но как-то странно.
– Тебе, Глеб Евгеньевич, не мешало бы отдохнуть недельку на море. – Короткие генеральские пальцы отбили дробь по столешнице. – Как насчет бывшей всесоюзной здравницы, а, полковник? – Генерал откашлялся в кулак и покосился на Константинова.
– Да, товарищ генерал, я как раз хотел поговорить с вами о срочной командировке на побережье, ситуация критическая, и необходимо...
– Нет, Глеб, – жестко перебил генерал, – не надо никакой командировки, ну ее, командировку, ты отдыхать туда полетишь. У тебя там, во всесоюзной здравнице, сейчас никаких служебных интересов. Только личные. Верно, полковник? Очень личные у тебя там интересы. – Фролов подмигнул и, вытянув губы, просвистел какой-то залихватский мотивчик.
Глеб Евгеньевич уставился в сверкающую бляху на телефоне правительственной связи. Ему становилось все неприятней. Да, в данный момент у него был весьма серьезный личный интерес на Черноморском побережье. Честно говоря, он готов был туда лететь, бежать, нестись сломя голову при малейшей возможности – как прошлым, и позапрошлым летом, и много лет подряд, независимо от агентурных данных и служебной необходимости. Но это не тема для разговора с генералом.
В санатории «Солнечный берег» каждый год отдыхала женщина, которую пятидесятилетний лысеющий полковник любил страстно и нежно, как мальчишка. Женщине исполнилось сорок. Она имела мужа и сына. Ни она, ни полковник не могли уйти из своих семей в силу многих обстоятельств. Их роман длился одиннадцать лет. Кто-то знал о нем, кто-то догадывался. Но никто, даже непосредственный начальник Константинова генерал Фролов, не мог предположить, что десятилетний сын Елизаветы Максимовны Белозерской Арсений – сын полковника.
– В общем, мы с тобой договорились, Глеб. – Генерал в очередной раз вытер мокрую шею и оттянул ворот. – Ты отправляешься на побережье не по служебным, а по личным делам, к своей Лизавете. Ты в отпуске. Нормальные люди в такую жару в Москве не сидят. Если начнется вой в средствах массовой информации, не только моя голова полетит, но и твоя тоже. Мы не можем вмешиваться в ход предвыборной кампании, мать их. Не имеем права. Так что ты, Глеб Евгеньевич, отдыхаешь и наслаждаешься жизнью. – Фролов вскочил, прошелся по кабинету, поднес ладонь к решетке кондиционера, пробормотал себе под нос: «Ни хрена не работает» – и, круто развернувшись к полковнику, заговорил быстро, хрипло, еле слышно: – С марионеткой ты разберешься. А вот коли там в горах сидит Ахмеджанов, живой и выздоравливающий, и тебе удастся аккуратно вычислить его и доставить в Москву так, чтобы никто очухаться не успел, – вот тогда впору стать тебе сразу генералом. Хотя не дадут тебе генеральских погон. Слишком уж путаная у тебя личная жизнь. – Фролов развел руками и упал в кресло, тяжело отдуваясь.
– Ничего, – улыбнулся Константинов, – по мне и полковничьи погоны хороши.
– Обрати внимание на доктора Ревенко Вадима Николаевича, – продолжал Фролов, – он работает в областной больнице, считается самым талантливым хирургом в области. В последнее время частенько наведывается в горы. Там, конечно, и беженцы, и местные жители нуждаются в медицинской помощи. Визиты доктора вполне понятны и законны. Но Ревенко пасут чеченцы и смежники вниманием не обижают. Ты перехвати инициативу, а то мало ли, вдруг смежникам придет в голову взять хирурга. Знаешь, они ведь долго раскачиваются, а потом бац – и выдадут какую-нибудь глупость. Арестовать этого Ревенко – верх глупости. Если он и вправду выковыривает осколки из чеченцев, его можно отлично использовать в наших с тобой интересах. Понятно, что для своих полевых командиров, а тем более для Ахмеджанова, они возьмут не кого попало, а лучшего врача. Ты посмотри о докторе кое-какие материалы и подумай, как к нему лучше подступиться, чтобы, с одной стороны, не засветить его перед чеченцами или смежниками, а с другой – не спугнуть.
После ухода Константинова генерал стал задумчиво листать папку с материалами на трех кандидатов. Дерьма хватало на каждого – на всех поровну. Кто из них?
Читая предвыборную листовку кандидата на губернаторский пост с простой русской фамилией Иванов, генерал хмыкнул:
«Дорогие сограждане! Родные мои земляки! Выбирая нового губернатора, вы выбираете будущее своих детей. Вы устали от лживых заверений, будто те, кто хочет править вами, честны и бескорыстны. Вы знаете сами – никто не чист, никто не безгрешен. За каждым стоит криминальный капитал. А я, Вячеслав Иванов, не желаю вам врать. Я слишком уважаю и люблю вас, своих земляков. Да, за мной стоит и криминальный капитал в том числе. Но я использую его вполне сознательно. Я хочу вывести наконец теневую экономику на свет Божий. Пусть она работает на нас!
Ни для кого не секрет, наш край давно уже находится в руках крупных криминальных структур. Воевать с ними – значит проливать кровь и в итоге проиграть. Пора наконец признать: только в союзе с ними мы сумеем превратить наш прекрасный край в Ниццу и Майами, сделать его крупнейшим и престижнейшим курортом мира.
С нами Бог!»
– Ну ты даешь, комсомолец! – развеселился генерал, глядя на фотографию кандидата. С фотографии радостно улыбалась круглая, курносая физиономия. Ранняя лысина была прикрыта наискосок длинными светлыми прядями.
– Как моя дочка называет такую прическу? Внутренний заем! – вспомнил генерал и развеселился еще больше.
* * *
Дождь лил целый день. Внизу, у хозяйки, кричало радио, и Маша слышала уже в третий раз, что в Москве тридцать градусов жары, безоблачно и сухо.
«В Березках земляника поспела, – грустно думала она, – мама варенье варит. А я сижу здесь, в чужих четырех стенах, и даже читать не могу – так орет радио. Неужели не надоедает слушать с утра до вечера про памперсы-сникерсы и про чеченских террористов? А скоро она включит телевизор, начнутся сериалы. Она опять постучит мне в дверь и позовет смотреть. Она не представляет, как можно не смотреть сериалы. К вечеру проспится ее сынок, к нему опять явятся гости. И ради этих радостей стоило врать родителям? Они с таким трудом наскребли мне денег на дорогу, хотели, чтоб отдохнула девочка».
Маша была поздним, единственным, балованным ребенком. Мама родила ее в сорок, папе тогда уже стукнуло сорок восемь. Родители дрожали над ней, не давали шага ступить самостоятельно. С раннего детства Маша мечтала стать балериной, как мама. Но родители были категорически против.
– Ты можешь танцевать сколько угодно – для себя. Но ты должна иметь в руках серьезную профессию. Балетная среда тебя сожрет, ты же не умеешь за себя постоять.
Маша не понимала, почему мама считает свою балетную среду такой прожорливой, однако привыкла верить маме на слово и решила: если нельзя балериной, тогда – искусствоведом, как папа. Но родители опять не согласились.
– Посмотри, в какой нищете мы живем. По моим учебникам учатся студенты Европы и Америки, а я не могу купить жене и дочери приличные сапоги, – грустно вздыхал папа.
– Искусство может стать для тебя чем-то вроде хобби, но профессией – никогда, – вторила ему мама, – пожалуйста, становись юристом, врачом, бухгалтером, тогда у тебя будет кусок хлеба и нормальная, сытая, спокойная жизнь.
После десятого класса Маша потихоньку от родителей подала документы в Театральное училище имени Щепкина при Малом театре, прошла все туры творческого конкурса, сдала экзамены на «отлично» и была принята.
Родители отнеслись к этому как к трагедии.
– Копейки! – патетически восклицал папа, расхаживая по крошечной кухне. – Жалкие гроши! И абсолютная, рабская зависимость от милости его величества режиссера. Никакой стабильности, сегодня ты можешь стать звездой, но завтра о тебе даже не вспомнят!
– А знаешь, как страшно стареть и переходить в другое амплуа? – спрашивала мама и делала безнадежные глаза. – Хорошо, если позволят перейти, могут вообще засыпать нафталином!
Маша смиренно кивала, понимая, что все эти возгласы – ерунда. В глубине души мама и папа гордятся ею. Щепкинское училище – далеко не худшее учебное заведение, и конкурс огромный – шестьдесят человек на место. Маша поступила сразу, с первой попытки, без всякого блата. Ну как же не гордиться?
«Наверное, зря я наврала им про Севастополь, – грустно подумала она, – но выхода у меня не было. Они видели Саню, он им не понравился. Мама скривила рот в неприятной улыбке и заметила, что я, оказывается, еще совсем маленькая. В куклы не наигралась».
Саня был первым красавцем курса и никакими иными достоинствами не обладал. В основе Машиной влюбленности лежало всего лишь бабское глупое тщеславие. И мама совершенно точно определила это как «игру в куклы».
К радионовостям прибавились судорожные телевизионные всхлипы очередной «Дикой Розы», но все заглушил хриплый голос приблатненного эстрадника, несущийся из кассетника со двора. К хозяйкиному сыну опять пришли друзья. От дикого звукового винегрета у Маши разболелась голова.
«Надо пойти в аптеку и купить затычки для ушей, иначе я здесь умом тронусь, – простонала она про себя и сунула ноги в тапочки, – заодно зайду на переговорный пункт, попробую позвонить домой. Вдруг родители приехали с дачи? Я, конечно, сделаю вид, будто звоню из Севастополя, рассказывать им ничего не стану. Просто хочется услышать их голоса».
Был ранний вечер, дождь кончился. Когда Маша проходила через двор, пьяная компания хозяйкиного сына что-то заорала ей вслед. Она быстро выскочила за калитку.
Аптека оказалась закрытой. К переговорному пункту пришлось идти через набережную. После дождя толпы отдыхающих высыпали подышать чистым, влажным вечерним воздухом. Маша шла очень быстро, чуть не сшибая неспешных гуляющих. Какой-то молодой кавказец со смехом растопырил руки навстречу, пытаясь поймать ее, но Маша, крикнув ему: «Уйди, дурак!», прошмыгнула мимо и тут же подумала: «Какая же я здесь стала грубая!»
Дома никто не отвечал, родители с дачи не приехали. Маша стала размышлять, стоя в будке с горстью жетонов на ладони, кому бы еще позвонить. Но тут же вспомнила, что свою записную книжку оставила дома, в Москве.
Назад спешить не хотелось. После дождя было приятно пройти по набережной, через сквер. «В конце концов, почему я должна бегать как затравленный заяц? Надоело!» – решила Маша и побрела не спеша.
Из коммерческих ларьков, из открытых дверей баров и ресторанов неслась оглушительная музыкальная какофония, женский визг, мат, звон посуды. Приличной семейной публики становилось все меньше. В сквере было темно, уже смеркалось, а фонари еще не зажглись.
– Девушка, можно вас на минутку? – услышала Маша за спиной голос, как только свернула на пустынную улицу, тянувшуюся вдоль сквера.
Не оборачиваясь, она прибавила шагу. Ее тут же догнали два пьяненьких весельчака в цветастых рубашках и приспущенных широких штанах. Поравнявшись, они ловко ухватили ее за руки с обеих сторон.
– Куда это мы так спешим, птичка?
Маша дернулась, пытаясь вырвать руки, но держали ее очень крепко.
– Отпустите меня. Я сейчас закричу, – спокойно сказала она.
– Кричи, – разрешили весельчаки.
– Помогите! – крикнула Маша во все горло.
– Сейчас поможем! – пообещали весельчаки и, приподняв Машу над асфальтом за локти, быстро потащили по улице.
Маша попыталась извернуться, вмазать кому-нибудь из них пяткой в пах. Не получилось.
«Мамочка, что же мне делать? Куда они меня тащат? Почему здесь нет ни одного милиционера? Саня говорил, здесь даже военные патрули ходят по улицам вечером. Где вы, патрули, миленькие? Появитесь, помогите мне, пожалуйста», – пронеслось у нее в голове.
Еще раз набрав побольше воздуха, она завопила изо всех сил:
– Помогите!
– Слышь ты, не ори, в натуре, – мирно посоветовал один из тащивших. – А то мы ведь и заткнуть можем.
Вдруг раздался визг тормозов. Прямо на тротуар перед ними въехала черная «Тойота». Из нее вышел высокий, очень прямой господин с совершенно седыми волосами.
– Отпустите девочку, – тихо сказал он, и руки весельчаков разжались как по волшебству.
Маша, не раздумывая, бросилась наутек. Весельчаков и след простыл. «Тойота» развернулась и медленно двинулась за Машей вдоль кромки тротуара. Чуть отдышавшись, Маша пошла спокойней. Седовласый господин высунулся из окошка и приветливо улыбнулся:
– Садитесь, барышня, я вас подвезу.
– Спасибо, я сама. Мне близко.
– Сделайте милость, барышня, садитесь. Честное слово, не лучшее место и не лучшее время для одиноких прогулок.
И тут же, как бы в подтверждение его слов, из-за угла вывалилась пьяная компания. Маша остановилась в нерешительности. Он вышел из машины и открыл заднюю дверцу. В машине еле слышно играла музыка. Бархатный голос Элвиса Пресли пел: «Люби меня нежней». Пахло в салоне хорошим мужским одеколоном. Маша прошмыгнула на заднее сиденье, и впервые за эти дни вдруг стало спокойно, не противно и не страшно.
– Меня зовут Вадим Николаевич. А вас?
– Маша.
– Куда вас отвезти, Машенька?
– Студенческая, дом восемь, за санаторием «Солнечный берег».
– Вы отдыхаете одна?
– Нет. То есть пока одна. Завтра ко мне приезжает жених. Рано утром.
– Жених? Ну и славно. Барышне нельзя отдыхать здесь одной. Вы из Москвы, Машенька?
– Да. А как вы догадались?
– У вас московская речь.
Через пять минут он остановил машину у калитки на Студенческой улице.
– Вадим Николаевич, – нерешительно попросила Маша, – вы не могли бы постоять здесь, у калитки, еще минут пять? Там пьянка во дворе, а умывальник прямо возле стола, где пьют. Я быстренько умоюсь, пусть они видят, что вы смотрите. Тогда не пристанут.
– Машенька, я, конечно, подожду с удовольствием. Но в таком случае не лучше ли вам быстро собрать вещи и переехать куда-нибудь до приезда вашего жениха? Не опасно ли вам ночевать здесь?
Из глубины двора раздавались пьяные вопли, заглушавшие песенку группы «На-на» «Моя малышка». Пьяные мужские голоса подпевали вразнобой, перемежая слова песни веселым матом.
– Лучше бы переехать, да некуда, – пробормотала Маша с дурацкой усмешкой, – хозяйка деньги взяла вперед. Спасибо. Всего доброго. – Она вошла во двор, чувствуя затылком его взгляд.
Машина отъехала от калитки минут через десять после того, как Маша умылась, почистила зубы и поднялась в свою комнату.
Несмотря на духоту, он разжег камин, уселся в кресло и уставился на огонь, морщась от сухого жара, изредка лениво поправляя кочергой поленья. Мягко, сосредоточенно скользили змейки пламени, перешептывались и приплясывали быстрые яркие язычки. В доме было темно и тихо. В последние несколько месяцев он не включал телевизор. Редкими свободными и одинокими вечерами сидел у камина, смотрел на огонь и думал. Он не включал телевизор потому, что на экране то и дело мелькали кадры чеченской хроники – растерзанные трупы детей и женщин, замученные, жесткие лица русских мальчиков в военной форме, новобранцев, обреченных стать пушечным мясом. Он считал себя если не виноватым, то причастным к этому бесконечному кошмару и уже не пытался оправдаться перед самим собой.
Полтора года назад Вадима Николаевича Ревенко, лучшего хирурга областной больницы, подняли ночью с постели и под дулом автомата повезли через границу в горное селение. Он должен был прооперировать трех раненых. Он мгновенно понял, кто они, эти раненые. Но они умирали, и он стал спасать их. Себя, конечно, тоже.
Он не отходил от операционного стола сутками. В фельдшерском пункте горного села устроили нечто вроде полевого госпиталя. В распоряжении Вадима Николаевича был только местный фельдшер-абхазец.
Для своих раненых бандиты не жалели ничего, доставали дорогие лекарства, американские шовные и перевязочные материалы, немецкие хирургические инструменты и щедро оплачивали услуги лучшего хирурга Вадима Николаевича Ревенко.
Возвращаясь домой, он включал телевизор и видел фотографии тех, кого только что спас. Они были объявлены в розыск, за каждым тянулся кровавый след расстрелянных заложников, растерзанных пленных российских солдат, терактов.
Город, в котором он родился и вырос, был областным центром российского Причерноморья, знаменитым курортом. Благополучие и процветание края держалось на нескольких крупных мафиозных группировках, то враждующих, то мирящихся. Мафии разделялись по национальному признаку. В городе, кроме русских и украинцев, жило несколько кавказских народов, и доктор с детства знал два кавказских языка.
Он привык лечить всех, без разбора. Не имело значения, кто лег к нему на операционный стол – добропорядочный горожанин, секретарь райкома партии, рыночный торговец или крупный уголовный авторитет. Если в благодарность за удачную операцию ему дарили дорогие подарки или давали деньги в конверте, он не отказывался. Он знал, что его труд стоит очень дорого, а на больничную зарплату прожить невозможно. Тот, кто мог и считал нужным платить, – платил. А кто не мог, того Ревенко оперировал бесплатно, и качество операции от этого не менялось. Его руки были для всех одинаковы – и для «крестных отцов» местных мафий, и для полунищих старушек, и для глав городской и областной администрации.
Теперь он оперировал еще и чеченских бандитов, которые прятались здесь, в горах. Когда за ним приезжали во второй, в третий, в десятый раз, он уже без всякого насилия садился в машину и отправлялся спасать раненых. Эти истекающие кровью, полумертвые, гангренозные, завшивленные чеченцы стали для него просто больными, которых надо лечить. Каждый раз, борясь за жизнь очередного полевого командира или рядового боевика, он не мог потом пойти и донести на него, хотя понимал: как только этот больной встанет на ноги, он опять начнет убивать, взрывать и брать заложников.
Да и куда он мог сунуться со своей информацией? Он знал: местная милиция куплена с потрохами, в местном ФСБ каждый второй получает чеченские деньги. Наверняка в Москве их получает каждый пятый. Где гарантия, что со своей информацией он не попадет именно к этому – пятому?
Через три месяца он все-таки попытался улететь в Москву, сославшись на Международную конференцию по экстренной хирургии, на которую получил официальное приглашение. В местном аэропорту к нему подошли двое, спереди и сзади, вплотную. Стоявший сзади держал под курткой пистолет, дуло уперлось Вадиму Николаевичу в спину. Тот, что оказался спереди, глядел ему в глаза и дышал в лицо запахом табака и шашлыка.
– Не надо тебе лететь в Москву, доктор. Ты здесь очень нужен, – произнес он тихо и ласково по-абхазски.
В тот момент в душе его щелкнул и бешено застучал часовой механизм взрывного устройства. Он понял, что рано или поздно это устройство сработает. Остановить, отключить его уже невозможно.
Чеченцы контролировали каждый шаг. А вскоре он почувствовал смутный интерес к своей скромной персоне со стороны российских спецслужб – то ли ФСБ, то ли ГРУ.
Время шло. Как член Международной ассоциации экстренной хирургии, Вадим Николаевич имел право на безвизовый проезд в любые районы военных действий и лагерей беженцев. Он продолжал ездить через границу, расположенную вдоль реки Чандры, то на своей «Тойоте», то на военном «газике», который вместе с шофером-абхазцем был всегда к его услугам.
Месяц назад в село привезли очередного полевого командира с множественными осколочными ранениями брюшной полости. Человека этого знала вся Россия как одного из самых кровавых лидеров террористов. Он находился в розыске, в «Новостях» сообщали, будто он пропал без вести, а он между тем лежал на операционном столе в маленьком горном селении и доктор Ревенко больше суток боролся за его жизнь.
Бандит быстро шел на поправку. Но чем лучше чувствовал себя пациент, тем мрачней и тревожней становился доктор. Он отдавал себе отчет в том, что, спасая жизнь Ахмеджанову, заранее обрекает на смерть множество ни в чем не повинных людей.
Вадим Николаевич не сомневался: сейчас в городе работает несколько серьезных агентов российских спецслужб. Они должны заниматься предстоящими губернаторскими выборами и связями кандидатов с чеченцами, засевшими в горах. Но как выйти на реального, а не опереточного агента? И до какой степени можно ему доверять? Ведь не случайно до сих пор не пойман и не посажен на скамью подсудимых ни один из серьезных чеченских лидеров.
Даже если представить, что ему повезет, удастся каким-то образом прорваться сквозь чеченскую слежку, выйти на нужного человека, дать ему полную информацию о крупной чеченской базе в горах и об Аслане Ахмеджанове, он все равно рискует головой. Такую информацию наверняка захотят проверить. Ведь послать в горы, на территорию дружественного государства, отряд спецназа, вести там настоящие боевые действия – это не шутки. Те, кто заинтересован в аресте Ахмеджанова, обязаны действовать наверняка.
Какие он может представить доказательства? Клок волос из бороды бандита? Или любительскую фотографию на фоне гор? «Давай, Аслан, я тебя сфотографирую на память?»
Как бы мало времени ни ушло на проверку, его в любом случае хватит, чтобы Ахмеджанов исчез, а доктора пристрелили. О том, как поставлена служба информации в городе и в горах, доктор знал очень хорошо.
Оставить все как есть, дать Ахмеджанову окрепнуть, встать на ноги Вадим Николаевич не мог. Прикончить бандита по-тихому, каким-нибудь медицинским способом тоже не мог. Рука не поднималась. Слишком долго и трудно он спасал этого человека, да и вычислили бы тут же, без вскрытия и судебно-медицинской экспертизы.
Иногда ему хотелось хоть с кем-нибудь поделиться всеми этими навалившимися вопросами. Но рядом не было ни души.
Жена ушла от Вадима Николаевича десять лет назад к заезжему москвичу-курортнику. Сыну тогда исполнилось пятнадцать. До окончания школы мальчик жил с отцом, к матери в Москву приезжал на каникулы, а после десятого класса переехал совсем – поступил на биофак Московского университета, на втором курсе женился на канадке украинского происхождения, теперь жил в Квебеке. Письма от него Вадим получал все реже.
Появлялись женщины, но надолго не задерживались. Он искренне верил, что виноват его дурной замкнутый характер, но на самом деле еще не было ни одной, которую хотелось бы удержать.
В гостиной над камином висела большая репродукция известной картины Пабло Пикассо «Девочка на шаре». Он любил смотреть на хрупкую удлиненную фигурку, балансирующую на большом цирковом шаре на фоне накачанного тяжеловеса. Постепенно нарисованная девочка стала полноправной обитательницей его дома, он беседовал с ней, не только мысленно, но и вслух, забывая, что ее не существует. Она просто нарисована великим художником.
Как высококлассный хирург он был нужен многим. Для множества женщин мог бы составить завидную партию как очень состоятельный сорокапятилетний холостяк. Но ни благодарные больные, ни жаждущие выгодного брака дамы и девицы не могли скрасить его одиночества. Нашлось, правда, одно существо, к которому Вадим успел привязаться в последнее время. Это был живой человек, не нарисованный, но немой и слабоумный.
Полы в горном госпитале мыл странный больной старик по имени Иван. Сначала Вадим Николаевич обратил внимание на русское имя. Потом заметил, что Иван выглядит значительно старше своих лет, и понял: слабоумие и немота – не врожденные. Под прозрачным седым пухом на голове виднелись страшные, глубокие шрамы, зажившие без всякой медицинской помощи. Слабоумие было следствием тяжелой черепно-мозговой травмы.
Иван не говорил, только мычал. Но доктору показалось, что он все слышит и понимает. Вадим Николаевич примерно представлял себе, каким образом мог попасть этот молодой старик в горное село. У чеченцев и абхазцев еще лет пятнадцать назад появилась своеобразная мода на русских рабов.
На вокзалах, в курортных городах высматривали и вычисляли «живой товар». Как правило, попадались демобилизованные солдаты, молодые беспечные одинокие провинциалы, ищущие заработка, чтобы красиво пожить на курорте. Их ловко подманивали, поили до бесчувствия, добавляя в водку сильное снотворное или наркотики, потом переправляли в горы. Там эти люди выполняли самую черную работу, их использовали в производстве опиума, они ходили за скотиной и сами постепенно превращались в покорных животных. Какое-то время их держали на одуряющих, разрушающих мозг наркотиках, а потом они уже сами не хотели никуда бежать.
Только встретив Ивана, доктор понял, что и прежде ему приходилось видеть в абхазских горных селениях русских рабов. Но раньше он принимал их за местных слабоумных. В русских и украинских селах тоже встречаются такие вот юродивые, с врожденным идиотизмом разной степени тяжести.
Доктор понимал, что ничем помочь Ивану не сумеет. Возможно, в хороших условиях можно бы добиться некоторого улучшения. Но для этого требовался профессиональный психиатр, стационарное лечение. Надежда на то, что Иван вспомнит, откуда он, произнесет или напишет свою фамилию, была практически равна нулю.
Вадим Николаевич возил ему еду, разговаривал с ним. Постепенно он стал замечать в блеклых, бессмысленных глазах Ивана тень мучительной мысли, что-то мелькало иногда осмысленное, живое, но тут же гасло. Как врач он видел, что жить Ивану осталось совсем немного – организм его истощен побоями, непосильной работой, вероятно, влито в него огромное количество наркотиков, и эти черепные травмы... Невозможно помочь физически, только вкусно накормить и сказать ласковое слово.
Пожалуй, в последнее время состояние доктора Ревенко походило на тихое помешательство: два близких существа – нарисованная девочка и слабоумный, немой, безнадежно больной человек. Однако сегодня, всего несколько часов назад, он вдруг увидел живую «Девочку на шаре» и даже узнал, что ее зовут Маша, что она из Москвы.
Сначала, проезжая мимо, он заметил, как два подвыпивших «качка»-амбала тащат под локотки тоненькую, беспомощную фигурку в длинной юбке. Он знал местные нравы. Молодые мафиозные «шестерки» любили так шутить спьяну. Но и «шестерки» знали, кто такой доктор Ревенко. Ему ничего не стоило вмешаться.
Въезжая перед ними на тротуар и останавливая машину, он даже не разглядел ее толком. Но уже через мгновение сердце у него остановилось. Девочка была удивительно похожа на пикассовскую танцовщицу, будто француз писал свою циркачку именно с нее.
Вместо облегающего циркового трико на ней была длинная юбка, длинный широкий свитер, но сквозь одежду легко угадывалась каждая линия ее тела. Тонкие руки были приподняты, пальцы маленьких невесомых ножек в мягких китайских тапочках едва касались земли. И два «качка»-амбала по бокам...
Пикассовская танцовщица была острижена коротко, под мальчика, а у этой, живой, девочки темно-каштановые волосы доходили до острых ключиц.
Вадим Николаевич честно признался себе, что теперь вместо нарисованной танцовщицы всегда будет видеть живую девочку. Она не выходила из головы, мешала думать, искать выход из тупика. «Хоть снимай любимую картину и прячь в шкаф», – усмехнулся он про себя.
Этот запах въелся в кожу. Сам Иван его не чувствовал, но хозяин, если подходил близко, всякий раз морщился и говорил:
– Ну и воняешь ты, Иван! Все вы, русские скоты, воняете.
В ответ Иван только тихо мычал беззубым ртом и делал выразительные знаки руками, мол, прости, хозяин, не понимаю.
На самом деле Иван понимал, хотя хозяин говорил на своем гортанном языке. Чужой язык выучился сам собой, слова намертво вбились в память, как тонкие гвозди в твердую доску. Он все понимал, но никогда вслух не произнес ни одного чужого слова. Еще в первые годы он повторял про себя родные русские слова, думал по-русски. Пока оставалась надежда убежать, он разрешал себе думать.
После третьего неудачного побега, когда его, связанного, с кляпом во рту, волокли через горное село на веревке, он нарочно старался шарахнуться головой о какой-нибудь камень, чтобы все забыть и ни о чем не думать. Камней попадалось много. Голова была вся в крови.
Работая на маковом поле, ухаживая за хозяйской скотиной, моя, чистя, перетаскивая ведра воды, копая землю, он пытался представить себе, что его память – чистый белый лист или легкое облако. Он учился не помнить. Даже всплыло откуда-то из глубины подсознания странное красивое слово: амнезия. Слово было научное, значило оно потерю памяти. По науке выходило, человек может память потерять.
Он действительно забыл, сколько лет живет в этих горах. Годы слились в один бесконечный день, и день этот был полон грязной отупляющей работой, побоями, боль от которых стала совсем привычной. Он не замечал ее и удивлялся, если тело не болело.
За эти годы били его и кнутом, и плетью, и самодельной резиновой дубиной, и прикладом автомата, но чаще – просто ногами. Каждый раз, когда удары становились сильнее обычного, он надеялся, что убьют наконец совсем. Но не убивали. Он стоил денег.
Все его хозяева, а их было не меньше пяти за эти годы, все эти Махмуды, Хасаны, Абдуллы слились для него в одно темное, расплывчатое пятно. Зато троих, с которых все началось, он помнил хорошо. Он и сейчас узнал бы их.
Веселый дембель Андрей Климушкин возвращался из Заполярья, где прослужил три года в Морфлоте на подводной лодке, домой, в колхоз «Путь Ильича» Псковской области Великолукского района.
В колхоз входило два села – Веретеново и Колядки. Андрей был веретеновский, а друг его, Вовка Лопатин, – колядкинский. Им повезло служить вместе, и домой они возвращались вдвоем. Каждого ждали дома родители, братишки-сестренки, бабушки-дедушки. Вовку ждала еще и невеста, у Андрея пока невесты не было, но хороших девчонок на два села хватало, он собирался приглядеть себе какую-нибудь, жениться, работать в колхозе трактористом.
Впереди виделась долгая, хорошая жизнь, семья, работа. И конечно, после трех лет в подводной лодке невозможно было просто транзитом проехать большой, красивый город Ленинград. Денег у них было мало, но загулять, хоть немного, хотелось. Все-таки дембель есть дембель.
В шумном ресторане Московского вокзала подсели к ним трое приветливых, хорошо одетых кавказцев. Разговор пошел душевный, слово за слово, на столе не убывало закусок и водочки. Поезд до Пскова уходил глубокой ночью, времени оставалось навалом.
Кавказцы чокались, произносили длинные умные тосты. Андрей с Вовкой разомлели и не заметили, что себе в рюмки кавказцы подливали из одной бутылки, а им – совсем из другой.
Первым вырубился Вовка. Голова его вдруг беспомощно повисла, подбородок упал на грудь, рот открылся. «Чего ж мы так надрались», – подумал Андрей, попытался встать и поднять осовевшего друга, но ноги стали какими-то чужими, ватными.
Очнулся он в поезде, под мерный стук колес, и сначала подумал, что едет в Псков, только удивился: у них с Вовкой был плацкарт, а здесь – купе. Вовки рядом не оказалось. Вместо него присел на нижнюю полку приветливый кавказец, ткнул в грудь дуло и ласково произнес:
– Нэ шевелыс, а то убью.
Андрей попытался рыпнуться – щелкнул предохранитель. Он понял – действительно убьет. Во рту сильно пересохло, он попросил:
– Попить дай хотя бы.
Ему подали стакан. Но вместо воды там оказалась водка, да еще с каким-то странным кисловатым привкусом. Он хотел выплюнуть. Его ловко скрутили, сжали пальцами щеки, стакан кисловатой жидкости влили в рот. Он опять куда-то провалился.
Потом был Грозный, какие-то горные села, маковые поля, землянки с мокрыми стенами. Он все думал о Вовке, но спросить было не у кого. Его куда-то перевозили, кто-то щупал мускулы, гнул шею, смотрел зубы. Он видел, как за него платят деньги.
Из трех своих побегов он уже не помнил ни одного. Осталось только слабое ощущение звона и тугого холода на лодыжках – когда его ловили, сковывали ноги длинной цепью. А после третьего, последнего, проволокли волоком через все село. И он пытался посильней стукнуться головой о камень. Как раз после того, последнего, побега он перестал говорить. С кем говорить? И зачем?
Теперь он уже знал, что не убежит. Не осталось сил. Он чувствовал себя глубоким дряхлым стариком. Зубы искрошились, на голове вместо густых темно-русых волос рос реденький белый пух. Он помнил, что когда-то его звали Андрюхой. Но сейчас тот давний веселый дембель стал для него чужим, далеким человеком. Иногда он мысленно спрашивал: «Что ж ты так лопухнулся, Андрюха?» И каждый раз чувствовал, что обращается к покойнику. Нет давно никакого Андрюхи. Есть немой русский Иван, который уже не помнит, сколько ему лет, откуда он родом, не знает, есть ли на свете село Веретеново, Великие Луки, Псков, Россия. Для него существуют только эти чужие равнодушные горы, камни под ногами, пустое ненужное небо над головой, ведра, которые надо таскать с колодца, тряпка, которой надо вымыть заплеванный пол.
Даже в госпитале, где лежали раненые, пол был заплеван. Недавно туда завезли какие-то сложные лампы, металлические блестящие конструкции, смутно напоминающие Ивану что-то связанное с медициной, с врачами.
Поставили койки с длинными тонкими шестами у изголовий. Потом он видел: к этим шестам привинчивали прозрачные банки с трубками.
Дом последнего хозяина находился неподалеку, и к домашней работе прибавилось еще мытье полов и стирка окровавленного белья. Он равнодушно подумал, что где-то идет война и сюда везут раненых.
А потом появился доктор. То, что он русский, Иван понял сразу, хотя говорил доктор на том же гортанном чужом языке.
Когда-то давно у первого хозяина работало, кроме Ивана, еще несколько русских, таких же, как он. Но первый хозяин его очень быстро продал второму. С тех пор Иван не видел ни одного русского. Он знал: где-то рядом, в соседних селах, есть такие же, как он, Иваны. Но ему казалось, все такие же немые, как он. Зачем говорить?
Когда появился доктор, что-то мучительно шевельнулось в душе Ивана. Он интуитивно старался держаться поближе к госпиталю, дольше, чем нужно, мыл полы. Ему вдруг захотелось услышать какие-нибудь русские слова – не те, что мелькали в потоках гортанной речи его хозяев, а настоящие.
Раненых становилось все больше. Иван не смотрел в их лица. Какое ему дело до их лиц? Но однажды он случайно скользнул глазами по выздоравливающему бритоголовому чеченцу. Чеченец этот был каким-то очень важным, самым главным. Иван узнал его сразу. Он поил кислой водкой на Московском вокзале двух дембелей. Узнал, но не понял – зачем? Чтобы понять, надо думать. Зачем думать, если он не хочет больше убегать? Он уже не помнил, куда надо бежать и зачем.
В горах он умрет с голоду. Голода он боится. Только голода и боится, больше ничего. А сейчас стали лучше кормить. Сейчас хорошо кормят. Еда может быть разной. Не только вода с крупой. Еда может быть вкусной. Русский доктор привозит вкусную еду специально для него.
Однажды доктор спросил фельдшера:
– Почему Иван? Он русский?
– Не знаю, – ответил фельдшер.
– Он здесь давно?
– Не знаю.
– Он всегда был глухонемым?
– Не знаю, зачем тебе?
Иван слышал весь разговор, понимал, что говорят о нем, и подумал только: «Нет, я не глухой. Я все слышу, но не говорю».
Доктор никогда не ел с ними, даже с фельдшером никогда не садился за один стол. Если он приезжал надолго, на целый день, то еду привозил с собой. Была маленькая комнатка, в которой он переодевался. Там стоял стол и два стула. Однажды Иван пришел мыть там пол. Он увидел у доктора на столе еду. Он только посмотрел, не попросил. А доктор протянул ему хлеба с колбасой, налил что-то темное и горячее в стакан и сказал по-русски, очень тихо:
– Сядь, Иван. Попей со мной чайку.
Иван не стал садиться, ел и пил стоя.
– Иван, ты русский? – спросил доктор еще тише.
Иван ел молча и сосредоточенно. Жевать хлеб и колбасу одними деснами было трудно. Он привык к крупе с водой.
– Ты ведь слышишь и понимаешь меня, – продолжал доктор, – ты ешь свинину, а мусульманин не стал бы.
Колбаса была очень вкусной. Наверное, и не колбаса вовсе, а что-то другое. Мусульмане такого не едят.
– Хочешь еще ветчины? – спросил доктор, когда Иван все съел.
Он вспомнил, как это вкусное называется: ветчина. Ее делают из свинины. А мусульмане не едят свинину. Доктор протянул ему еще.
– Только не спеши, Ваня. Я тебе отдам весь этот пакет, но ты не съедай все сразу. Ладно? Оставь себе на вечер.
Когда доктор приехал опять, он привез еду специально для Ивана и еще раз сказал:
– Только не спеши. Ты очень давно не ел нормальной пищи. Привыкать надо постепенно, а то заболит живот.
Иван делал, как велел доктор, – не спешил, хотя было очень вкусно. Доктор привозил ему не только ветчину с хлебом, но еще сыр, помидоры, яблоки, большие плитки шоколада. Он все аккуратно резал для Ивана, заворачивал в тонкие белые бумажки.
Иван узнал, что горячее коричневое в стакане называется «чай». Это слово его ошеломило. Оказалось, с ним связано столько всего странного, приятного, далекого. Чай сладкий, с ним легче жевать деснами, где-то когда-то Андрюха пил чай. Но Андрюха «умер».
Доктор поил Ивана горячим чаем и говорил с ним по-русски, очень тихо. Если кто-то из чужих оказывался рядом, доктор сразу замолкал. Иван почти не понимал, о чем говорит доктор. Только отдельные слова. Но они рассыпались у него в голове. Андрюха бы понял, но он «умер». Ивану просто нравилось слушать русские слова и пить горячий сладкий чай.
Красивые пакеты и бумажки от еды, которую привозил доктор, Иван аккуратно складывал и хранил в укромном месте, в хлеву, где спал, под соломой. Особенно нравились ему бумажки от шоколадок – сверху с цветными картинками, а внутри были еще блестящие. Иван разглаживал их ногтем и складывал отдельно.
* * *
Все! Сегодня наконец Саня приезжает. Но видеть его совершенно не хочется. Пусть остается, живет здесь сколько влезет, а ей, Маше, покупает билет прямо на завтра.
Утром на пляже опять подсел, вернее, подлег какой-то хлыщ и так сочувственно стал объяснять:
– То, что вас, девушка, до сих пор не изнасиловали и не убили, просто чудо. Предлагаю свою защиту, бесплатное проживание в хорошем пансионате, в отдельном номере со всеми удобствами.
– Главное из удобств – вы сами? – спросила Маша.
– Естественно! – кивнул он и этак нежно большим пальцем провел по ее ноге.
– Пожалуйста, если вам не сложно, оставьте меня в покое, – устало вздохнула Маша и неожиданно для себя добавила: – С чего вы взяли, будто я одна? Я приехала в гости к Вадиму Николаевичу. Просто он занят.
– Тогда другое дело. Извините. – Хлыщ исчез.
«Вот так! – усмехнулась про себя Маша. – Еще раз спасибо господину с черной „Тойотой“. Возможно, этот хлыщ никакого Вадима Николаевича и не знает, но ведь сработало!»
Следя за поднимающейся в турке кофейной пеной, Маша думала о Вадиме Николаевиче, о первом встречном седом дяденьке, которому лет сорок пять, вспоминала его красноречивый взгляд и предложение переехать куда-нибудь. Надо было задержаться у машины, поговорить с ним еще немного, просто так, потому что с ним приятно и спокойно находиться рядом, и теперь вообще непонятно, кого больше ей хочется увидеть, седого, первого встречного дяденьку или драгоценного Санечку Шарко.
«Первый красавчик курса снизошел до золушки-заморыша. „Ты не Шерон Стоун!“ А ты Кевин Костнер, можно подумать!» – зло усмехнулась про себя Маша.
На самом деле Саня действительно был чем-то похож на Кевина Костнера. Но мало ли кто на кого похож?
Кофе опять убежал.
– Та самая Маша Кузьмина, у которой всегда убегает кофе! – пробормотала она, хватаясь за тряпку.
Черная гуща на белоснежной плите не сулила ничего хорошего. Маша давно заметила, что, если утром убегает кофе, днем непременно случается какая-нибудь пакость. После хозяйкиной тряпки руки воняли, пришлось тереть их щеткой с мылом.
– Вот тебе, детка, поздний завтрак или ранний обед, – сказала себе Маша, усаживаясь наконец за стол. – Между прочим, деньги кончились. Если Саня вдруг задержится, еду купить не на что. Чьи это мудрые слова: «Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда»?
– Сама с собой, что ли, разговариваешь? Роль репетируешь? – услышала Маша голос хозяйки и вздрогнула.
Хорошо, хоть сынок ее уехал. Но теперь ей скучно. А Маша имела глупость в первый же день сообщить, что учится в театральном училище. Сейчас впору нести турку и тарелку с бутербродом к себе в комнату!
Хозяйка с рассеянным видом присела на лавку у стола.
– Соломина Юрия видела? – небрежно спросила она.
Маша молча кивнула.
– Ну и как?
– Замечательно.
– А жена у него какая?
– Жену не видела.
– Любовница есть, не знаешь?
– Понятия не имею.
– А этого, как его? Ну, Штирлица видела?
– Не помню.
– Как – не помнишь?! – возмутилась хозяйка. – Как это можно не помнить?! Он старый уже стал, Штирлиц-то... А какой был мужчина! Слушай, а вот скажи, чтоб в фильме сняться, надо с режиссером переспать?
– Галина Ивановна, – терпеливо стала объяснять Маша, отставляя чашку и закуривая, – я закончила второй курс. Про фильмы пока ничего не знаю. Но думаю, спать с режиссером вовсе не обязательно.
– Ничего ты не знаешь, не помнишь, – разочарованно фыркнула хозяйка, – даже сериалы не смотришь. Вот там актеры, там игра! Ты «Просто Марию» смотрела? Нет. А я ни одной серии не пропустила. Вот объясни мне, почему наши так не могут? Попробовали снять эти, как их? «Петербургские тайны». Ох и скукота! Лучше бы не показывали, постыдились. Поучились бы у бразильцев!
– Кому что нравится... – пожала плечами Маша.
– Слушай, а у вас там, в театральном училище, все такие тощие, как ты?
– Нет, не все. Разные есть.
– Актриса должна быть в теле, – авторитетно заявила хозяйка. – Что это за женщина – ни спереди ничего, ни сзади, ни по бокам?
Маша встала и отправилась к раковине мыть чашку и турку.
– Ты гущу-то кофейную в раковину не лей, засор будет! – спохватилась хозяйка. – Вон в цветы выливай!
Терпеть осталось пять часов. Всего пять часов. Санин поезд прибывает в двадцать сорок, а сейчас три. «И что я на него злюсь? – подумала Маша. – Он не виноват. Разве он мог знать, как мне здесь будет плохо? Он ведь никогда не был одинокой девицей на черноморском курорте и не может представить, какая это гадость. И почему он должен ради меня отказываться от роли красавца вампира? Он ведь только уговаривал меня ехать в одиночестве и ждать здесь, а вовсе не заставлял. Он тоже ездил на юг в последний раз только в детстве, с родителями».
Запершись у себя в комнате, Маша решила скоротать время балетными упражнениями. Спинки кровати были металлические, никелированные. Она приспособилась одну из них использовать как балетный станок. Ничто так не успокаивало, как занятия у станка.
Взявшись за холодную перекладину, Маша стала командовать себе шепотом:
– Плие! Анкор плие! Гран батман!
Прозанимавшись больше часа, она улеглась на кровать с книгой воспоминаний Алисы Коонен.
Наконец стрелки наручных часиков показали половину восьмого. Маша умылась, причесалась и отправилась на вокзал. Поезд прибыл точно по расписанию, в двадцать сорок. Она стояла у девятого вагона. Начали выходить пассажиры. Прошло двадцать минут. Почти все вышли. Сани не было.
«Вот ты и накаркала беду! – зло усмехнулась Маша. – Вот тебе и убежавший кофе!»
Она подошла к проводнице:
– Скажите, пожалуйста, в вагоне кто-нибудь еще остался?
– У меня никого, – пожала плечами проводница.
«Может, я перепутала вагон? Или Саня что-нибудь перепутал?»
Она обошла платформу. «Если он ехал в другом вагоне, то стоит сейчас и ждет...» Но Сани нигде не было видно.
Маша посидела на лавочке, выкурила сигарету, убедила себя пока не волноваться и отправилась на переговорный пункт.
Опять проваливались жетоны и обрывалась связь. Но Маша решила не уходить, пока не дозвонится. Наконец послышались далекие дребезжащие гудки. Трубку взяла Санина мама.
– Машенька, здравствуй! Тебя очень плохо слышно. Саню позавчера забрали в больницу с острым аппендицитом. Он просил выслать тебе деньги телеграфом до востребования. Он очень волновался, что не сумеет приехать. Я тебе сегодня утром отправила четыреста тысяч на обратную дорогу.
– Спасибо, Нина Владимировна, – упавшим голосом произнесла Маша, – только родителям моим ничего не говорите. Передайте Сане, пусть не беспокоится, выздоравливает. Я приеду, деньги верну.
Связь оборвалась. Перезванивать Маша не стала.
Елизавета Максимовна Белозерская не любила своего мужа. Пятнадцать лет назад, выходя замуж, очень надеялась, что полюбит. Но так и не смогла.
Пятнадцать лет назад Елизавете Максимовне исполнилось двадцать пять, а ее мужу – пятьдесят. Он был пианистом с мировым именем. Лиза преклонялась перед его талантом. Он ухаживал за ней трогательно и возвышенно. Бросая все дела, мчался ночной «Красной стрелой» из Москвы в Питер, чтобы увидеть Лизу, побыть с ней несколько часов.
Лиза танцевала в «Мариинке» и замуж не собиралась. Но если уж выходить, то только за такого – одаренного, мягкого, милого, трогательного человека. Любви, конечно, не было, но потом, со временем... Как же можно его не полюбить? Тем более он в Лизе души не чаял.
Оставив в Ленинграде родителей и «Мариинку», Лиза переехала в Москву, к мужу. Она честно старалась стать ему хорошей женой. При ее легком, уживчивом характере это оказалось не слишком сложно.
Муж многого не требовал. Оба занимались любимым делом – он музыкой, она танцем. С работой в Москве у Лизы проблем не возникало. В балетных кругах ее знали.
Лиза очень хотела родить своему пианисту ребенка, хотя знала, чем это обернется для нее как для танцовщицы. Ей казалось, ребенок заставит ее полюбить пианиста по-настоящему, как мужчину, как мужа, а не просто как одаренного музыканта и трогательно-доброго человека. Когда-то пианист уже был женат, но детей в первом браке не получилось. Не получалось и сейчас. Лиза искренне считала, что дело в ней, а не в нем. Просто ее балетный организм для материнства не приспособлен. У женщин ее профессии это обычное дело.
Они казались вполне счастливой и благополучной парой. Но у Лизы на третий год совместной жизни начались необъяснимые приступы тоски и раздражения. Воспитание не позволяло выпускать это наружу, с мужем и окружающими она оставалась все такой же ровной, спокойной и доброжелательной. А жизнь ее между тем постепенно превращалась в тихий, уютный, интеллигентный ад. Изменять мужу и заводить любовника она не собиралась – слишком уважала своего пианиста, жалела его и измену считала предательством.
Майор Константинов появился однажды за кулисами Дома офицеров после концерта в честь Дня Вооруженных Сил, высокий, широкоплечий, с букетом белых орхидей.
Широкоплечие офицеры с букетами не были новостью в Лизиной балетной жизни. Но между ней и Константиновым вдруг что-то произошло, будто молния вспыхнула. Они перестали видеть и слышать кого-либо вокруг, кроме друг друга.
В отношениях со своим пианистом Лиза держалась за бесконечные «потому что...»: «Я вышла замуж за него, потому что он гениальный музыкант, умный, добрый человек, любит меня и ничего не требует...» С Глебом Константиновым никаких «потому что...» не требовалось. После третьей встречи они поняли, что жить друг без друга не могут. У майора были жена и шестнадцатилетний сын. Два месяца они с Лизой встречались тайно. Но оба мучились из-за необходимости врать и выкручиваться.
Однажды Лиза сказала своему пианисту:
– Нам нужно поговорить.
Он остановил ее:
– Я знаю, Лизонька, ты хочешь уйти от меня. Не мучай себя. Поступай, как считаешь нужным.
А через полчаса Лизе пришлось вызывать «скорую». У пианиста случился инфаркт.
У жены Константинова инфаркта не случилось. Она дослушала супруга до конца и спокойно сказала:
– Разводиться и разменивать квартиру мы не станем. Ты волен гулять на стороне сколько влезет. Я ведь тоже не ангел и даже рада, что так получилось. Но для нашего сына и для окружающих мы останемся мужем и женой. А если ты попытаешься настаивать на другом варианте, я тебе гарантирую: сына ты больше никогда не увидишь и на службе поимеешь серьезные неприятности.
Навещая своего пианиста в больнице, Лиза кормила его с ложечки, гладила по голове и говорила, что никуда не уйдет.
– Пусть ты живешь своей жизнью, – слабо улыбался пианист, – пусть. Только не бросай меня.
«Будь что будет», – решили Лиза и Глеб и продолжали встречаться. А еще через месяц Лиза с удивлением узнала, что беременна. Родившийся мальчик даже в младенчестве походил на Константинова.
Папой маленький Арсюша называл пианиста, и пианист любил его, как собственного сына, – других детей у него не было. Лиза и Арсюша оставались его семьей.
– Остальное меня не касается! – говорил он.
Константинова мальчик знал с первых дней жизни и называл его, как мама, Глебушка. Ребенок не задумывался, кто такой этот Глебушка, откуда он взялся. Он обожал Константинова, смотрел ему в рот, пытался во всем подражать. Он радовался, что у него есть папочка, ласковый, уютный, «маленький» – как он сам говорил о нем, хотя пианист был крупный, очень полный мужчина; и есть Глебушка, сильный, большой, строгий. Детское чутье подсказывало Арсюше, что эти два мира в его и маминой жизни нельзя смешивать. Никогда в присутствии пианиста он не говорил о Константинове.
Странная ситуация неожиданно оказалась оптимальной для всех. Лиза воспринимала пианиста как близкого родственника. Больше десяти лет они спали в разных комнатах. Пианист часто болел, страдал ишемической болезнью сердца и гипертонией, Лиза ухаживала за ним, как за малым ребенком. Он был совершенно беспомощен в быту, рассеян, забывчив. Жить один не мог, но никого, кроме Лизы, видеть рядом не хотел. Никто так хорошо не знал его привычек, вкусов, болезней, слабостей, никто не мог с такой легкостью создать вокруг него тот бытовой комфорт, который был необходим для нормальной работы.
Жена Константинова больше всего на свете любила свою выстраданную, ухоженную квартиру и дорожила общественным мнением. Стать брошенной женой казалось ей несопоставимо страшней, чем быть просто нелюбимой женщиной. К тому же у нее была своя, весьма бурная, личная жизнь.
Сын Константинова вырос, его интересовали только собственные проблемы. Он считал, что родители сами разберутся.
Лиза и Глеб были счастливы от того, что они есть друг у друга и никому своей любовью не портят жизнь. У Константинова, правда, возникли некоторые проблемы по службе, но чин полковника ему все-таки дали. Но, как верно заметил его начальник, генеральские погоны уже не светили.
Много лет подряд один летний месяц Лиза и Глеб проводили вместе. Лиза с Арсюшей отдыхали в ведомственном санатории «Солнечный берег», в курортном городе на Черном море. Глеб жил в отдельном номере в том же санатории, на том же этаже. Там их давно знали, сплетничать было уже неинтересно. Администрация санатория в первый же их совместный приезд перемыла странной парочке с мальчиком все косточки, и в последующие приезды Белозерскую с Константиновым никто не обсуждал. К ним привыкли.
В последние два года Глеб не мог себе позволить отдыхать целый месяц. Полковник вырывался на побережье на несколько дней, с утра до вечера занимался служебными делами, с Лизой и с сыном мог провести совсем немного времени.
Приехав в «Солнечный берег» два дня назад, Лиза не надеялась, что Глеб сумеет вырваться скоро и надолго. Но он появился без всякого предупреждения на третий день, поселился, как всегда, в соседнем одноместном полулюксе и весело сообщил:
– Все, Лизонька! На этот раз – никаких дел. Отдыхаем и ни о чем не думаем.
Арсюша, визжа от восторга, повис у него на шее. Лиза счастливо улыбнулась. Она не подала виду, что ни секунды не верит своему любимому полковнику. Какой отдых, когда в области предвыборная кампания, по всему городу развешаны листовки кандидатов в губернаторы и многие из них – откровенно бандитского содержания? К тому же всей стране известно: здесь, в горах, прячутся чеченские террористы, через границу идут составы с оружием.
Всякий раз, когда она заикалась о своих опасениях, Константинов утешал ее:
– Лизонька, я же на родине работаю, на своей территории. Ни погонь, ни перестрелок, только мозгами шевелю, как кабинетный червь. Скажи спасибо, что меня не посылают ни в Чечню, ни в Таджикистан.
– Спасибо, – вздыхала Лиза.
Они провели чудесный день. Загорали на пляже, играли в бадминтон, сходили на рынок, накупили фруктов. На рынке Глеб подошел к мяснику и, поздоровавшись за руку, спросил:
– Как насчет домашнего вина? Прошлогоднего, из «изабеллы»?
– Канистра для вас готова, два литра, как договаривались, – кивнул пожилой усатый мясник в кепке «аэродром», – правда, цены теперь подпрыгнули. Литр – десять тысяч.
– Спасибо. Я не торгуюсь. Вино отличное, – ответил полковник.
«Да уж, отдыхаем!» – усмехнулась про себя Лиза.
Вечером в холле санатория Глеб купил билеты на экскурсию в пограничное государство. Билеты стоили страшно дорого. В пограничном государстве шла война, и тамошние всемирно известные достопримечательности несколько лет подряд были для туристов закрыты. Официально они не открылись до сих пор, но для местной туристической фирмы «Комфорт-тревел» ни война, ни граница значения не имели. Наоборот, чем сложнее было попасть в соседнее государство, тем большие деньги готовы были платить отдыхающие, чтобы в комфортабельном «Икарусе», с гарантией полной безопасности, поглядеть на знаменитые водопады, побывать в только что восстановленном обезьяньем питомнике, вообще полюбопытствовать, что происходит в доступном когда-то, а ныне закрытом маленьком кавказском государстве.
Первые два экскурсионных автобуса предприимчивая фирма умудрилась даже обеспечить «бэтээрами», сопровождавшими туристов от границы. Но потом необходимость в «бэтээрах» отпала, военные действия на территории кавказского государства утихли. К тому же купить безопасность туристов у местных властей оказалось дешевле, чем оплачивать услуги военных.
Обезьянник, находившийся в столице маленького государства, был известен на весь мир. Но в начале войны нежные животные не выдержали грохота обстрелов и в ужасе разбежались из своих клеток. Часть обезьян погибла, часть пропала без вести. Это взволновало мировую общественность, в разных европейских странах прошли демонстрации «зеленых» и борцов за права животных.
Однако нескольких обезьян удалось отловить.
Их привезли уже не в столицу, а в один из уцелевших городов, поближе к российской границе. Обезьянам в новом питомнике жилось не многим лучше, чем людям в разоренном государстве. Но теперь они уже не могли убежать. Клетки намертво запирались и тщательно охранялись. Конечно, новый, наскоро воссозданный обезьянник не шел ни в какое сравнение с прежним. Животных осталось мало, редкие породы исчезли. Но желающие взглянуть все равно находились.
– Ребенок ведь никогда не был в тамошнем обезьяннике, – оправдывался Глеб, покупая билеты, – и водопада не видел.
– Ты, мамочка, можешь не ехать! – заявил Арсюша.
Лиза не стала спрашивать Глеба, насколько безопасна экскурсия. Она не сомневалась: если он едет с ребенком, ничего страшного не случится.
Ночью, когда Арсюша уснул, она в одном халатике быстро прошмыгнула в номер Константинова.
– Так-то ты отдыхаешь! – прошептала она, ныряя к нему под одеяло.
– Да, Лизонька, да, солнышко мое, – прошептал он в ответ, развязывая пояс ее халатика.
Экскурсионный автобус фирмы «Комфорт-тревел» отправлялся в восемь часов утра от ворот санатория «Солнечный берег». Елизавета Максимовна на экскурсию не ехала – ее укачивало.
– Пожалуйста, – говорила она, провожая Глеба и Арсюшу, – по деревьям и горам не лазай, кепку на солнце не снимай, не заставляй Глебушку делать замечания каждые пять минут. Это очень утомительно.
– Хорошо, мам. Шелковый буду, – обещал Арсюша, садясь в автобус.
Утро было свежим и прохладным. Солнце еще не жгло, светило мягко и ласково. «Икарус» мчался по пустому шоссе вдоль моря. Переливалась солнечная рябь на воде, далеко, у горизонта, покачивались крошечные цветные паруса яхт.
Арсюша дремал, положив голову Глебу на плечо. Глеб думал о предстоящей встрече с агентом, стариком буфетчиком, работавшим на небольшой железнодорожной станции, сразу за границей. Старик передал по эстафете, через мясника на городском рынке, что имеет срочную информацию.
«Икарус» должен был сделать первую остановку именно на этой станции, где шоссе шло параллельно железной дороге. Многие годы автобусы с туристами останавливались у небольшого вокзального здания с помпезными белыми колоннами.
Столики выставлялись на улицу, над ними раскрывались полосатые солнечные зонты. Старушки, жительницы поселка, продавали у обочины абрикосы, сливы и груши.
Сейчас белые колонны облупились, были искаляканы ругательствами снизу доверху. Столиков осталось всего два, солнечные зонты исчезли, большая цветочная клумба превратилась в выгребную яму. Однако буфет все еще работал и две старушки у обочины торговали вялыми пучками укропа и каменными на вид зелеными персиками.
Автобус остановился.
– Господа туристы! – сказала в микрофон девушка-экскурсовод. – У вас есть сорок минут. Туалет направо, за зданием вокзала. В буфете вам предложат легкий завтрак.
Небольшая толпа распределилась между деревянной будкой сортира и черной от мух буфетной стойкой. К вывороченному медному крану со слабой струйкой ржавой воды выстроилась очередь.
– Глебушка, давай мы не будем здесь есть. Пойдем лучше погуляем немного, разомнемся. Нам ведь мама дала с собой бутерброды, – предложил Арсюша.
Кроме бутербродов, предусмотрительная Лиза дала им пачку влажных антисептических салфеток, поэтому в очереди к крану стоять не пришлось.
– Хорошо, – кивнул Глеб, – посиди здесь, на лавочке. Я все-таки взгляну, чем там кормят в буфете. Жди меня, никуда не уходи.
За стойкой стояла молодая полная женщина с темными усиками. Старика нигде не было. «Мало ли что могло случиться, – тревожно подумал полковник, – старику за семьдесят».
– Сосиски с зеленым горошком и кофе с молоком из ведра, – сообщил он Арсюше, который ждал на лавочке, как примерный мальчик. – Пойдем немного погуляем. Потом ехать еще часа два.
Обогнув вокзал, они прошли мимо старушек.
– Давай купим у этой бабушки персиков, – попросил Арсюша.
Глеб знал – он просит купить персики не потому, что ему хочется. Просто мальчик всегда очень жалел старушек. Он видел – никто у них ничего не покупает.
– Как у вас здесь все изменилось! – вздохнул Константинов, расплачиваясь за несъедобные персики.
– И не говори, сынок, – прошамкала беззубым ртом старушка абхазка, – война, она и есть война. Сейчас хотя бы спокойно. Не стреляют. Но говорят, – она перешла на выразительный шепот, – у нас в горах чеченцы.
– Не может быть! – удивился полковник. – Как же их сюда пропускают?!
– Да тут кого угодно пропустят. Только деньги плати.
– А вот, помнится, здесь старичок работал, буфетчик. Неужели на пенсию ушел? – рассеянно спросил Константинов.
– Рафик? – вступила в разговор другая старушка. – Рафика завтра хоронить будут.
– Как – хоронить?! Он ведь не такой уж старый человек...
– Совсем не старый, – кивнула старушка, – меня моложе на семь лет, а вот ее – на десять. Вчера вечером полез на шелковичное дерево, ветка сломалась, он и упал. Да не просто, а на каменное крыльцо головой. Сразу умер, не мучился.
– Надо же! – грустно покачал головой Константинов.
– А ты, сынок, знал его, что ли?
– Ну как вам сказать? Отдыхал здесь когда-то давно, заходил в буфет иногда, пивка выпить. Сейчас вот вспомнил старика буфетчика. Хороший был старик.
Поездка оказалась напрасной. «Неужели и правда несчастный случай? – думал полковник, усаживаясь в автобус. – Или дыра на эстафете? Нет, дыры быть не может. Но и в несчастный случай что-то не верится...»
Звенья цепи эстафеты сами по себе значения не имели и никакой информации для постороннего содержать не могли. Эстафета была выстроена и продумана до мелочей самим генералом Фроловым. Предположим, отправлялась какая-нибудь сельская жительница в небольшой пограничный городок, а сосед кричал через забор:
– Анжела! Если тебе не трудно, подойди к мяснику Зурабу на рынке. Он всегда стоит в конце ряда, пожилой такой, с большими усами. Скажи, у Рафика есть две канистры домашнего вина для покупателя.
Ничего не подозревающая Анжела добросовестно выполняла просьбу соседа, находила мясника на рынке. А к Зурабу, в свою очередь, наведывался постоянный покупатель, который покупал у него баранину для шашлыка и просил узнать, не продает ли кто-нибудь в горах домашнее вино из винограда определенного сорта.
Таким образом назначались встречи, один агент вызывал другого или сообщал, что в определенном месте находится контейнер с секретом. В цепочке были задействованы люди, не имевшие понятия, что передают самую что ни на есть шпионскую информацию и работают на военную разведку.
Рафик Саидович не имел сотового телефона, но у него был «соседский телеграф». Кто-то постоянно ездил из села за покупками, особенно во время войны, когда поблизости, в окрестных селах, исчезли соль, спички, мыло и мука. Глубоко в горах у Рафика было множество родственников. Он часто навещал их, то пешком, то на своем старом «Запорожце». Многое он в горах мог заметить сам, кое-что рассказывали родственники.
Старик прошел войну до Берлина в чине рядового пехоты, потом многие годы чувствовал какую-то внутреннюю связь с военными. Люди в форме были для него почти родственниками – но только в военной форме, не в милицейской. Милицию Рафик Саидович не жаловал, небезосновательно считая, что каждому второму стражу порядка платит та или другая мафия.
Неподалеку от поселка, в котором он жил, находился небольшой закрытый санаторий, принадлежавший Министерству обороны. Отдыхающие офицеры часто наведывались в чистый, уютный привокзальный буфет. Принося офицерам самое свежее пиво и самый вкусный шашлык, Рафик останавливался у столиков и говорил:
– Только военные могут навести в горах порядок. Милиция у нас вся продалась бандитам, а среди военных остались еще порядочные люди. Там в горах – и наркотики, и оружие. Никто не чешется, никому дела нет.
Офицеры сочувственно кивали, принимая речи буфетчика за обычное стариковское ворчание и пустую болтовню.
Только перед самым началом войны, когда отдыхающих офицеров почти не осталось, а на Кавказском побережье запахло порохом, капитан из Москвы, случайно заглянувший в буфет выпить пива, прислушался к ворчанию старика.
– Оружие, говорите, в горах? А можете показать на карте, где именно?
Той же ночью он встретился с Рафиком Саидовичем на санаторном пляже, без свидетелей, и старик при свете ручного фонарика отметил крестом на крупномасштабной карте место в горах, где находился большой оружейный склад.
Через два дня склад там действительно обнаружили.
Сначала на него как на информатора не особенно рассчитывали, пользовались от случая к случаю. Было странно, что кавказец, местный житель, так просто согласился работать на русских военных – даже не согласился, а сам напросился. Пытались нащупать какой-нибудь подвох, тайный умысел, проверяли, не двойной ли он агент. Но потом выяснилось, что «умысел» у него только один. «Я хочу, чтобы у нас было спокойно и мирно. Своих солдат у нас нет – только бандиты. А от бандитов не жди покоя, – рассуждал Рафик Саидович. – У меня три дочери и семеро внуков. Я не желаю, чтобы они жили в бандитском государстве, напичканном оружием и наркотиками».
От старика Константинов надеялся получить информацию об Ахмеджанове. Именно у Рафика Саидовича была возможность выяснить, скрывается ли сейчас в горах известный на всю страну чеченец, и если скрывается, то где именно. Задание дали старику за день до вылета полковника из Москвы. И вот от Рафика Саидовича пришел сигнал по эстафете – очень быстро, практически сразу. Старик вызывал на встречу, хотел сообщить нечто важное. А вчера упал с шелковичного дерева и разбил голову о каменное крыльцо...
В такие совпадения Константинов не верил. Дыры в эстафете представить не мог. Значит, старик засветился. Рано или поздно светятся все агенты такого рода. Но неужели старик попался именно на Ахмеджанове? Неужели «несчастный случай» является хоть и косвенным, но подтверждением, что террорист сейчас там, в горах?
Полковник постоянно ловил себя на том, что вынужден работать на родной территории, как на вражеской. Получается полнейший абсурд. В горах прячется террорист международного масштаба, по разрушительной силе сравнимый с бесхозной ядерной боеголовкой, но никому как бы и не надо, чтобы он был обезврежен.
Официальные власти кавказского государства с негодованием отрицали саму возможность размещения на их территории чеченских военных баз. Запустить в горы спецназ можно, только имея стопроцентную гарантию, что Ахмеджанов там. И место его нахождения следовало определить с точностью до нескольких километров. На прочесывание гор никто не даст ни времени, ни полномочий. Пока спецназ будет там рыскать, Ахмеджанов окажется где-нибудь в Турции и след его простынет. Тогда скандала с местными властями не избежать. Заткнуть их можно только самим Ахмеджановым: вот он, знаменитый бандит! А вы уверяли, будто нет на вашей территории никаких чеченских полевых командиров!
С другой стороны, от Ахмеджанова тянутся серьезные связи – до Москвы, до ФСБ, до ближайшего президентского окружения. Поэтому чем меньше внимания привлечет к себе отдыхающий с любовницей полковник ГРУ, тем лучше. Опираться можно только на самых надежных агентов. Одного Константинов уже потерял.
Автобус въехал в пустой, полуразрушенный город. Заколоченные кафе и магазины, разбитые витрины, следы баррикад на улицах, редкие мрачные прохожие, несколько безнадежных очередей к хлебным и молочным лавкам. Когда-то здесь бурлила яркая, праздничная курортная жизнь. На каждом шагу жарились шашлыки, варился изумительный турецкий кофе на раскаленном песке. Над чистыми аллеями покачивались широкие пальмовые листья, по переполненным пляжам расхаживали усатые фотографы в ковбойских шляпах, с огромными надувными дельфинами и маленькими живыми обезьянками в детских костюмчиках; звучали зычные голоса продавцов чурчхелы и мороженого. Вечерами вспыхивали яркими цветными огнями вывески бесчисленных кафе и ресторанов, играла музыка, по набережной прогуливались нарядные парочки, семьи с детьми.
Совсем рядом, на российской территории, все осталось по-прежнему – тот же вечный курортный праздник. О близости войны напоминали только редкие военные патрули и беженцы, ночующие на вокзале, в аэропорту, в городских дворах и парках.
«Кавказские войны могут в конце концов пожрать все побережье, – думал полковник, – и не останется живого места».
Он усмехнулся про себя. Какую прыть проявляли смежники, ФСБ, в недавнем прошлом КГБ, а в давнем – ОГПУ, какие чудеса профессионализма демонстрировали, охотясь за идеологическими врагами. Врагов режима с первых же лет его существования доставали из-под земли, находили на краю света, не жалея денег и сил, уничтожали беспощадно. Вспомнить хотя бы старого, больного Льва Троцкого, забитого насмерть ледорубом в далекой Мексике агентом ОГПУ.
Куда же делась прежняя прыть сейчас, когда надо бороться не с мифическими «врагами народа», а с реальными, которые взрывают поезда, берут заложников, расстреливают женщин и детей?
Больше четверти века назад, учась в Военной академии Генерального штаба, Глеб Константинов познакомился с легендой советской разведки полковником Вильямом Генриховичем Фишером, известным под фамилией Абель. Девять лет он проработал нелегалом в Нью-Йорке, поставляя информацию о новейших разработках в области атомного оружия. За девять лет – ни единого прокола... А провалил его засланный в качестве связника майор КГБ, запойный алкоголик, не желавший и не умевший работать, плохо знавший английский. Попав в сытую благополучную Америку, он стал шляться по кабакам, женился, избивал жену-американку до полусмерти. Соседи вызывали полицию каждый вечер, слыша душераздирающие вопли из дома, в котором жил бывший следователь КГБ.
И немудрено: майор сделал карьеру, допрашивая «врагов народа». Со своими привычками он не мог расстаться. Не расставался он и с долларами, которые получал для передачи другим агентам.
Фишер потребовал майора отозвать. Отозвали. Но тот домой не собирался, доехал до Парижа, явился в посольство США и заложил резидента Марка, то есть Фишера, к которому питал личное отвращение как к «паршивому интеллигенту».
Вильяма Генриховича арестовали, долго пытались перевербовать. Не удалось. Судили, приговорили к смертной казни, потом заменили ее на пожизненное заключение. В американской тюрьме он просидел пять лет, пока не произошел известный по фильму «Мертвый сезон» обмен на американского разведчика, летчика Пауэрса.
Замечательный фильм-сказка. Реальность больше походила на скверный анекдот, чем на сказку, – к бесценному агенту в качестве связника посылается алкоголик, плохо знающий английский.
Думая обо всем этом, Константинов брел вдоль грязных клеток обезьянника. Голодные, одичавшие животные метались, не находя себе места. Макака «черный паук» с выпученными красными глазами и длинными толстыми конечностями вцепилась в прутья клетки и, обнажив массивные бледные десны и сточенные до корней зубы, издала хриплый отчаянный крик. Арсюша вздрогнул, отпрянул от клетки и прижался к Глебу.
– В Московском зоопарке обезьяны совсем другие, – тихо сказал он, – зря мы сюда приехали.
Полковник молча погладил сына по голове. Он в который раз вспоминал, как гулял с Вильямом Генриховичем по осенней роще в подмосковном поселке старых большевиков, где Фишер жил последние годы с женой Еленой и дочерью Эвелиной.
– Советский разведчик проваливается не потому, что его раскрывает противник, – говорил Фишер, – его проваливает глупость центра, аппаратные интриги, безграмотные идиоты-коллеги. Никто не работает против нас с таким рвением, как мы сами...
Группа экскурсантов села в автобус. Предстоял еще знаменитый водопад. Перед Глебом вдруг явственно возникла невысокая худая фигура полковника Фишера, острое точеное лицо, огромный лоб. Он помнил тот пасмурный день в середине сентября 1971 года очень подробно. Каждая мелочь намертво врезалась в память – шорох редкого теплого дождя в осиновых листьях, крепкий чай за круглым столом в гостиной большого деревянного дома. Через два месяца Вильяма Генриховича не стало.
Шум водопада не давал сказать ни слова, но не мешал думать. «Легко было ловить диссидентов-антисоветчиков, людей интеллигентных и безоружных. Куда сложней и опасней ловить бандитов. Вот и гоняются за нашими уголовниками зарубежные спецслужбы. А мы в лучшем случае им не мешаем. Если Ахмеджанову удастся уйти, вполне вероятно, что полиция Турции, Германии или Швеции попытается его арестовать. Какому нормальному государству захочется иметь на своей территории опаснейшего террориста? Но также вероятно, что найдутся силы в ФСБ, которые сделают все возможное, чтобы Ахмеджанов не был пойман. Никем и никогда».
Собственные рассуждения часто казались Константинову наивными и мальчишескими. Но он знал – если бы не осталось в нем за годы работы в ГРУ этого наивного мальчишества, он не был бы разведчиком.
В шестидесятивосьмилетнем Вильяме Фишере, Герое Советского Союза, прошедшем страшную школу цинизма и жестокости, в худом желчном старике, которого уже пожирал рак легких, вопреки всему светился мальчишеский азарт – до последних дней жизни.
Арсюша уже падал с ног от усталости. Измученных экскурсантов наконец пригласили в автобус. К вечеру жара усилилась, стало душно. С гор ползла тяжелая темно-лиловая туча.
Было совсем темно, когда переезжали границу. Горел прожектор, пассажиры высыпали из автобуса подышать. Первые крупные капли дождя застучали по шоссе, по крыше «Икаруса».
– Я быстро по-маленькому сбегаю, – прошептал Арсюша и тут же скользнул в темноту.
Автобус стоял на российской территории. Паспорта у пассажиров уже проверили. Это была последняя остановка перед оставшимся куском пути.
Редкие капли в один миг переросли в сплошную стену ливня, в горах громко и гулко ударил гром. Пассажиры бросились к автобусу. Сквозь шум дождя Глеб услышал слабый вскрик и увидел в свете прожектора худенькую маленькую фигурку сына. Мальчик шел из темноты, всхлипывая и как-то странно оттопыривая правую руку. Глеб бросился к нему.
– Я упал, – захлебываясь слезами, сообщил Арсюша, – я упал прямо на руку. Очень больно.
«Перелом! – мелькнуло в голове полковника. – А до города еще полтора часа пути. Полтора часа Арсюше придется терпеть эту дикую боль!»
Он осторожно взял сына на руки. Вокруг стали собираться люди.
– Я не могу опустить локоть, – плакал мальчик, – я не могу больше терпеть. Очень больно.
Константинов понес ребенка к будке пограничного контроля. Там ярко горел свет. «Нужно хотя бы посмотреть, что с рукой, – решил он, – там наверняка есть аптечка первой помощи. Надо зафиксировать руку и дать обезболивающее. А потом уже ехать в город, в травмпункт».
В маленьком помещении было сильно накурено. При ярком свете стало видно, как страшно бледен Арсюша и как неестественно вывернута его рука. Пограничники тут же сориентировались в ситуации, загнали остальных пассажиров в автобус. Круглолицый старлей с пшеничными бровями и усами кинулся помогать Глебу, присевшему на стул с ребенком на руках.
Мальчик почти потерял сознание. Как и боялся полковник, у него начался болевой шок. Старлей поднес нашатырь, кто-то уже держал наготове стакан воды и сдирал целлофановую обертку с картонной пачки баралгина.
Если бы это был не его сын, а чужой ребенок, полковник мог бы сейчас спокойно осмотреть руку, отвлечь мальчика разговором, определить, перелом это или вывих, наложить фиксирующую повязку, как учили его много лет назад на занятиях по оказанию первой помощи. Но сохранить хладнокровие, когда дело касалось собственного сына, он не мог и растерялся. С его ребенком такое случилось впервые. Ни у старшего сына, ни у Арсюши дальше разбитых коленок и порезанных пальцев пока не заходило.
И тут пограничники расступились. Перед Константиновым стоял высокий седой человек в черных джинсах и мокрой от дождя белой рубашке. Он ловко снял с ребенка майку, осмотрел плечо, притронулся к лучевой артерии, слегка отогнул кисть.
– Вывих, – тихо сообщил он, – перелома нет.
Присев на корточки перед мальчиком и глядя ему в глаза, он произнес:
– Сейчас я сделаю тебе укол. Будет немного больно. Но ты потерпишь. Придется потерпеть всего несколько секунд, зато потом сразу все пройдет. Хорошо?
– Хорошо, – еле слышно отозвался Арсюша, – я потерплю.
Константинов сразу узнал этого человека. Перед ним был Вадим Николаевич Ревенко, лучший хирург области, с которым необходимо вступить в контакт в ближайшее время, не засветив ни его, ни себя. Последняя реальная возможность добраться до Ахмеджанова.
В руках Ревенко появился одноразовый шприц с длинной иглой, надломленная ампула новокаина.
– Пожалуйста, держите ребенка, – тихо сказал он Глебу, – вот так, чтобы не дернулся. Как тебя зовут? – обратился он к мальчику, протирая спиртом кожу вокруг плеча.
– Арсений...
– Хорошо, Арсюша. Ты молодец, ты просто герой. Сколько тебе лет?
Длинная игла вошла глубоко, до самой кости.
– Десять...
– Ну вот и все. – Быстрым движением Ревенко вытащил иглу, приложил к уколотому месту вату со спиртом. – Сейчас ты вообще ничего не почувствуешь. Ты ездил смотреть обезьянник?
Арсюша кивнул.
– Ну и как? Ты там был в первый раз?
– В первый. В Москве обезьяны лучше живут.
Арсюшины щеки чуть порозовели.
– Ты из Москвы?
– Да. Я здесь отдыхаю с мамой и Глебом. Мама на экскурсию не поехала, ее укачивает в автобусе. Ох, если бы она видела, нервничала бы ужасно. Знаете, уже совсем не болит. Так было, когда мне зуб рвали. А вы мне руку вырывать не будете? – Арсюша слабо улыбнулся.
– Обязательно, – засмеялся доктор, – непременно надо вырвать, только у меня нет с собой специальных клещей. Для зубов нужны маленькие, а для рук и ног – здоровенные. Их таскать неудобно, тяжело.
Он взглянул на часы, потом пощупал плечо мальчика:
– Что-нибудь чувствуешь?
– Нет. Совсем перестало болеть. Рука будто чужая.
– Крепко держите плечи. Фиксируйте, – быстро шепнул доктор Константинову на ухо.
Моментальным движением он развернул вывихнутую руку, потом как-то мягко потянул, повернул локоть вперед, легко дернул. Глеб услышал слабый щелчок.
– Ну, попробуй пошевели рукой.
Арсюша осторожно подвигал сначала кистью, потом локтем.
– Отлично. Молодец. Сейчас тебя забинтуем, как раненого бойца, а завтра утром надо непременно сходить в травмпункт.
– Скажите, – обратился полковник к доктору, – когда анестезия пройдет, ему будет больно?
– Немного, – кивнул Ревенко, – на ночь дадите таблетку анальгина. Этого достаточно. Вы отдыхаете дикарями или в каком-нибудь пансионате?
– В «Солнечном береге».
– Тогда вам не надо в травмпункт. Зайдите к тамошнему терапевту, к Зинаиде Сергеевне. Она опытный врач. Думаю, повязку можно будет снять дня через два.
– Спасибо вам, доктор, – тихо сказал Константинов.
– На здоровье, – улыбнулся Ревенко, закрепляя бинт, – майку накиньте сверху и еще что-нибудь, чтобы повязка не промокла. Там дождь как из ведра. Ты, Арсюша, руку береги. Она тебе еще пригодится.
Он быстро вышел в темноту, под дождь.
Садясь в дожидавшийся их автобус, полковник увидел, как исчезают за поворотом огоньки фар. Машина доктора ехала уже по чужой территории, в горы. «Икарус» с Арсюшей и Константиновым двинулся в другую сторону, к городу.
* * *
Вечером пошел сильный дождь. Гремел гром. В темноте над горами вспыхивала молния. Иван подумал, что доктор сегодня не приедет. В такой ливень нельзя ездить по горам. Но доктор приехал, Иван заметил, как он пробежал под дождем от своей машины к госпиталю.
Ночью дождь кончился и земля высохла. Иван увидел, как доктор сидит на лавочке у крыльца госпиталя и курит. Вокруг никого не было.
– Иди, Ваня, посиди со мной, – позвал доктор.
Иван сел на край лавки. Доктор дал ему сигарету. Таких сигарет Иван никогда не курил. Фильтр был белый, вкус у сигарет мягкий. В горле не першило.
– Я не знаю, как и когда ты попал сюда, – сказал доктор, – но догадываюсь. Ты здесь давно. Значит, ты не пленный. Тогда война еще не началась. Возможно, ты приехал отдохнуть на юг, к морю, лет семь-восемь назад, совсем молодым. А денег мало. Тебе предложили заработать, пообещали хорошо заплатить.
Перед Иваном встало лицо того бритоголового раненого, которого вылечил доктор. «Нет. Все было не так, – подумал он, – зачем мне это?»
– Возможно, тебя зовут не Иваном. Мне иногда кажется, что ты можешь вспомнить свое настоящее имя. И фамилия у тебя есть, и адрес.
«Зачем?» – думал Иван, глядя, как вспыхивает и гаснет огонек сигареты доктора.
Иван слушал русскую речь, и перед ним из черноты ночи вставало лицо бритоголового чеченца по имени Аслан. Это он поил двух дембелей, Вовку и Андрюху. Но Ивану от этого было ни горячо ни холодно. Он не чувствовал ненависти к бритоголовому, не хотел мести. Зачем?
Доктор уехал. Иван пошел в хлев спать. Было очень поздно.
Среди ночи он открыл глаза, уставился на ровные бледные полосы лунного света, пробивавшиеся сквозь бревенчатые стены хлева, и неожиданно произнес: «Андрюха жив».
Звук собственного голоса показался ему странным, но совсем не чужим. Он попытался вспомнить, сколько раз тепло сменялось холодом в этих горах, – и не мог. Пять? Десять? Он стал загибать пальцы и сбился со счета. Он не понял пока, зачем загибает пальцы и пробует считать. Только чувствовал, это нужно – считать, думать.
Сколько раз вливали ему в рот кисловатую водку, от которой мозги делались липкими и кислыми, как перебродившее тесто? Первый хозяин заставлял пить водку каждый вечер. Одних – с помощью побоев, другие пили сами. От нее становилось даже легче. А может, это вовсе и не водка была?
Второй хозяин поил его какой-то черной, горькой, вязкой гадостью. От нее все внутри обугливалось. Казалось, горькая гадость действует на мозги, как крепкая кислота. И третий хозяин поил тем же. Иван привык. Он даже сам стал просить – у четвертого хозяина. Он уже не говорил тогда, просто показывал знаками, мычал, складывал ковшиком ладонь, подносил ко рту, шумно втягивал воздух, потом хлопал себя по голове и закрывал глаза. Хозяин понимал, смеялся, но черной отравы не давал. Давали тем, кто мог убежать. Иван уже не мог. Для побега надо не только держаться на ногах, но и думать – хоть немного.
Зачем же он сейчас так старается думать? Убежать он больше не может. Но Андрюха жив. Он должен что-то сделать для Андрюхи. Это очень важно. Не воды принести, не полы помыть. Что-то совсем другое. Но что именно, он пока не понимал. И главное, не знал – зачем. Только чувствовал – это очень важно.
Так и пролежал он остаток ночи с открытыми глазами. Он глядел на четкие, холодные полосы лунного света, напрягал обугленный мозг, изо всех сил стараясь думать.
«Переводы идут примерно сутки, – спокойно рассудила Маша, – значит, завтра к вечеру я деньги получу. В крайнем случае послезавтра утром. Четыреста – это как раз на самолет. Остаток возьму у хозяйки, пусть только попробует не отдать! Я же улетаю, а там заплачено еще за девять дней. Пусть вернет хотя бы за неделю. Да, я улетаю! И прощай, курортный город, с твоими липкими придурками! Жалко Саню. Аппендицит – это очень больно».
Телеграф находился рядом с переговорным пунктом, и Маша решила зайти посмотреть расписание выдачи денежных переводов. Окошко выдачи оказалось, конечно, закрыто. Понятно, ведь уже начало одиннадцатого. Маша прочитала, что оно работает с восьми до шести, перерыв на обед с часу до двух. Она огляделась, и ей показалось странным, что в такое позднее время на телеграфе полно народу. На скамейках сидели женщины со спящими детьми на руках, старики, старушки. На беженцев эти люди были не похожи.
«Интересно, чего они ждут? – подумала Маша. – Это ведь не вокзал и не аэропорт».
– Простите, пожалуйста, – обратилась она шепотом к молодой русоволосой женщине, державшей на коленях спящего мальчика лет трех, – вы не знаете, долго идут телеграфные переводы из Москвы?
Женщина посмотрела на нее с удивлением и жалостью:
– Миленькая моя, переводы идут месяцами.
– Нет, не почтовые, телеграфные, – уточнила Маша, решив, что женщина неправильно ее поняла, – телеграфные ведь приходят очень быстро.
– Они никогда не приходят, – покачала головой женщина, – вы думаете, чего мы все здесь ждем? Именно телеграфных переводов! Выплачивают только тогда, когда кто-то отправляет деньги отсюда. Других денег на почте нет. А кто станет отсюда отправлять? В основном сюда высылают.
«Нет! – твердо сказала себе Маша. – Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда!»
– Вот мы, например, – продолжала шепотом женщина, – восьмые сутки не можем улететь домой. Муж выслал деньги на обратный билет десять дней назад.
– Но ведь можно потребовать! Здесь же есть какое-нибудь начальство!
– Бесполезно. Вы думаете, мы не требовали? Я даже сидячую забастовку в кабинете начальницы устраивала. У меня все деньги кончились, ребенка кормить нечем. Хозяева держат из жалости, подкармливают, чем могут. На сколько еще их жалости хватит, не знаю.
– А ваш муж не может просто приехать и забрать вас? – спросила Маша, укоряя себя: «Вот, не одной тебе так плохо! Ты хотя бы без ребенка! А еще ноешь!»
– Мой муж сейчас в Баренцевом море, на траулере плавает. И плавать будет до начала ноября. Он штурман. Мы из Мурманска. Он перевод отправил и уплыл со спокойной душой.
– Неужели не предупреждают отправителей, что здесь невозможно получить деньги?
– А кому это нужно? Конечно, нет!
Маша с ужасом подумала, что теперь ей придется жить на телеграфе.
– А назад эти деньги возвращаются? – спросила она.
– Отправителю выплачивают через два месяца, по квитанции.
Вскочив в закрывающиеся двери автобуса и стоя на задней площадке, Маша приняла решение: завтра она заберет у хозяйки оставшиеся деньги, объяснит ситуацию. Там как раз получится около двухсот тысяч. Хватит на билет в плацкартный вагон.
На следующий день рано утром она поймала хозяйку у калитки – та собралась на рынок. Возмущаясь, причитая и дуясь как индюк, хозяйка все-таки выдала Маше двести тысяч, пробормотав:
– Артистка-авантюристка! Ездят тут всякие!
Конечно, до вокзала Маша все-таки зашла на телеграф, тут же получила квиток, сообщающий, что на ее имя пришел перевод на сумму четыреста тысяч. И еще раз убедилась, что денег этих она здесь никогда не увидит.
На вокзале очередь к билетной кассе была небольшая, но двигалась медленно. Маша успела просмотреть табло расписания, узнала, что есть билеты до Москвы и на сегодняшний вечер, и на завтрашнее утро. От нечего делать она стала читать плакат-листовку, приклеенную у кассы. «Выведем теневую экономику на свет Божий!» – взывал некто Вячеслав Иванов, кандидат на пост губернатора. С листовки взирала на Машу круглая, курносая, совершенно бандитская физиономия.
«Ну ты даешь, бандюга! – весело подумала Маша. – Не листовка, а прямо-таки исповедь мафиози. Мол, люди добрые, голосуйте за меня. Я честно признаюсь вам – я бандит. Остальные – тоже бандиты, но вам, бедным, врут...»
Пару раз Машу толкнули, но она так увлеклась листовкой, что не обратила внимания.
Наконец подошла ее очередь.
– Слушаю вас, – сказала кассирша, когда Машина голова появилась в окошке.
– Пожалуйста, один билет до Москвы на сегодня. В плацкартном вагоне.
– Сто шестьдесят семь восемьсот, – сообщила кассирша.
Маша открыла маленькую сумочку, висевшую на плече, чтобы достать деньги. Но деньги исчезли. Дрожащими руками она обшарила сумку, вывалила ее содержимое на узкий прилавок перед кассой.
Она никогда не носила деньги в кошельке или в бумажнике. В сумке было специальное отделение, очень удобное, и Маша считала, что кошелек вытащить незаметно проще, чем отдельные бумажки. Обычно вытаскивают именно кошельки...
– Девушка, в чем дело?
– У меня, кажется, украли деньги, – прошептала Маша.
– Бывает, – сочувственно вздохнула кассирша, – что же ты по сторонам не глядишь? Это все-таки вокзал!
– Что мне делать? – Маша чувствовала, как в глазах набухают крупные, тяжелые слезы.
– Попробуйте обратиться в милицию, – неуверенно посоветовал кто-то из очереди.
В вокзальном отделении милиции висели сизые плотные слои табачного дыма.
– У меня только что украли все деньги, – обратилась Маша к сонному круглолицему дежурному.
– Пишите заявление, укажите свои паспортные данные, обстоятельства, при которых произошла кража, сумму прописью.
Маша присела у краешка стола и все написала. Дежурный молча взял заявление, убрал куда-то и, не глядя на Машу, углубился в чтение каких-то бумаг на столе.
– А есть хотя бы надежда, что вы найдете? – тихо спросила Маша.
Дежурный взглянул на нее с жалостью и даже не счел нужным ответить.
* * *
С утра все было как обычно. Только повар пришел к хозяину и говорил с ним про Ивана. Повар сказал, что соберется много людей и Иван должен убрать в большом доме.
В большом доме всегда было много уборки. Там висели на стенах и лежали на полу красивые ковры. Иван должен был скатать ковры, вынести на улицу, выбить пыль. А пол под коврами помыть.
Иван еще не закончил мыть пол, а в дом уже стали входить люди. Один нес какую-то штуку, похожую на огромный пистолет. Иван знал, что это не пистолет. Такой штукой снимают кино. Откуда-то издалека даже возникло слово: «Камера».
Иван мыл пол. Тот, кто нес камеру, стягивал с нее на ходу черный чехол и о чем-то разговаривал с другими. Он шел и не смотрел перед собой. Иван полоскал тряпку в ведре. Человек с камерой толкнул его, Иван упал лицом прямо в ведро, в воду, в которой полоскал тряпку. Ведро опрокинулось. Иван поднялся и принялся ловить ведро, которое покатилось по полу, расплескивая воду. Все смотрели на Ивана и смеялись. У него вода текла по бороде, попала в глаза. От грязи глаза защипало. Иван заморгал и вытер глаза рукавом.
Тот, с камерой, успел уже ее расчехлить и повернул на Ивана. Иван моргал в камеру, тер глаза и думал, что его снимают для кино. Потом смеяться перестали, камеру унесли. Иван домыл пол и ушел. Надо было скорее стелить и вешать назад ковры.
Иван стелил и вешал тяжелые ковры, потом повар велел принести чистой воды. Иван все старался понять, почему это так важно, что его сняли для кино.
Стемнело. В большом доме собрались люди. Иван заметил там двух русских. Они говорили по-русски. Повар велел ему сидеть у дома, со стороны кухни. Он сказал, будет еще работа, и к хозяину не отпускал. Иван сидел и думал об Андрюхе. Если Андрюха жив, его должны забрать отсюда. Должны приехать другие люди издалека и забрать Андрюху.
Рядом с кухней была маленькая комната. Повар позвал Ивана и велел там убрать. Иван вошел. Камера лежала на столе. Человека, который снимал кино, вырвало прямо на пол. Поэтому Ивана позвали убрать. Иван убирал и все поглядывал на плоскую коробочку, которая лежала рядом с камерой. Он думал, что кино спрятано в этой коробочке. Другие люди увидят кино про Ивана, приедут и заберут его отсюда. Доктор станет его лечить. Андрюха все вспомнит. Надо взять коробочку и отдать ее доктору. Только чтобы никто не видел.
Он домыл пол, подождал, пока повар разрешит уйти. Коробочка была небольшая. Удобно спрятать за пояс штанов, под фуфайку. Иван шел осторожно, боялся, что коробочка выпадет и разобьется.
Доктора в госпитале уже не было. Только фельдшер. Иван догнал доктора, когда тот шел к своей машине. Остановился, посмотрел по сторонам. Никого не было.
– Здравствуй, Ваня. Что же ты не зашел сегодня? Я оставил тебе еду в комнате, на столе. – Голос у доктора был хриплый, усталый, лицо бледное.
Иван еще раз огляделся по сторонам. Кругом все спокойно. Он достал коробочку из-за пояса и сунул доктору в руки.
– Андрюха жив! – сказал Иван шепотом.
* * *
Маша брела по людной улице и тупо повторяла про себя: «Что теперь делать?» Ей очень хотелось плакать, но в толпе, на глазах у всех было неудобно, стыдно.
«Истерика тебе не поможет. Надо спокойно все обдумать. Не бывает безвыходных ситуаций. Ты должна держать себя в руках. Ты ведь хочешь стать актрисой. Если не научишься владеть собой в обычной жизни, на сцене тебе делать нечего. Это дурацкий расхожий миф, будто актер, а особенно актриса – существо взбалмошное, истеричное и непредсказуемое. Ерунда. Если ты не можешь контролировать себя в разных житейских ситуациях, рано или поздно сорвешься на сцене».
Маша решила, что, пожалуй, впервые в ее жизни возникла по-настоящему сложная ситуация, из которой выпутываться надо самостоятельно. Никто за ручку не возьмет и домой не отвезет.
Усилием воли справившись с внутренней паникой, она сказала себе: «В конце концов, я не в Африке, не в Австралии. Я в России. Руки-ноги у меня целы, голова на месте. Проблема только в деньгах. Перевод я не получу. Милиция вора не найдет и мои двести тысяч не вернет.
Конечно, можно позвонить в Москву. Если пошарить по карманам, какая-то мелочь найдется, всего на один звонок, на разговор в три минуты. Кому в трехминутном разговоре можно объяснить, что произошло? Кого можно попросить приехать сюда за мной? На это понадобится не меньше миллиона. У кого есть такие деньги? Родители на даче. Большинства друзей сейчас в Москве нет, все где-нибудь отдыхают. Обратиться с такой просьбой к Саниной маме невозможно, она совершенно чужой человек и так сделала, что могла, деньги выслала. Если попросить ее связаться с родителями, сказать адрес дачи... Но тогда у них случится по инфаркту на брата».
В комнате, которую она сняла, можно прожить еще сутки. Потом хозяйка ее выставит. Из жалости, конечно, кормить и держать у себя не станет. «А если попытаться заработать здесь? Каким образом? Разве что на панель, – усмехнулась про себя Маша, – или фуэте крутить посреди улицы и деньги в кепку собирать!»
Она принялась ругать себя последними словами за то, что забыла в Москве записную книжку. Сейчас, полистав ее, наверняка нашла бы кому позвонить. Подруга из Севастополя что-нибудь придумала бы. Но наизусть Маша знала очень мало телефонных номеров. У нее была плохая память на цифры.
Перебирая в голове имена друзей и знакомых, она вдруг вспомнила преподавателя актерского мастерства, актера Малого театра Сергея Усольцева. Официальным руководителем их мастерской был народный артист России, кинозвезда семидесятых, при звуке его имени глаза зрелых дам заволакивались томной влагой. Но руководитель появлялся на занятиях редко, был занят политикой, и Сергей Усольцев вместо него учил их актерскому мастерству.
Ему было тридцать пять лет. На занятиях и после занятий он любил вспоминать разные истории из своей бурной юности. С особым удовольствием рассказывал, как путешествовал на товарняках по всему Черноморскому побережью. Один раз даже принес видеокассету, на которую перегнал снятый пятнадцать лет назад любительской кинокамерой фильм об этих путешествиях.
Студенты узнавали в мальчиках и девочках, друзьях Усольцева, известного телеведущего, молодого преуспевающего политика, популярную писательницу. Тогда им было по девятнадцать, двадцать лет, как сейчас Маше.
– Приходишь на товарную станцию, – рассказывал Усольцев, – спрашиваешь у башмачников или машинистов, куда и когда отправляется поезд. Если придется ехать ночью, то лучше залезать в теплушку. А днем по югу приятно передвигаться на открытой платформе. Два главных закона: не спрыгивать и не запрыгивать на ходу и никогда не пролезать под поездом. Он может двинуться в любой момент. Если с поезда снимает «вохра», показываешь студенческий, говоришь, мол, фольклорная экспедиция, отстали от основной группы, денег нет, вот и догоняем. Обычно сами же «вохровцы» и сажали в какую-нибудь хорошую теплушку, иногда даже кормили, чаем поили. Тогда не только в деньгах заключалась проблема. Главное – билеты. Летом поезда южного направления забиты до отказа, люди сутками стояли в очередях за билетами. Только вы не вздумайте сейчас так ездить! Время совсем другое, и страна другая.
Вспомнив любительский фильм о товарняцких путешествиях, Маша слегка приободрилась. «Конечно, время другое, все-таки пятнадцать лет прошло. И потом – я одна, а их пятеро. У меня нет никакого опыта, но и у них сначала тоже не было».
По рассказу Усольцева, до Орла можно доехать за сутки, если повезет. А от Орла до Тулы – рукой подать. Тула – это почти Москва, там можно и на электричке «зайцем».
«Жалко, у меня нет карты», – подумала Маша уже спокойно.
* * *
Доктор Ревенко опустил жалюзи на окнах, плотно задвинул шторы, проверил, заперта ли дверь. Торшер в гостиной давал очень сильный свет, и он поменял лампочку на самую слабую. Теперь в комнате был полумрак. Но света вполне хватало, чтобы подсоединить видеокамеру к телевизору.
На экране появилось изображение, пошел звук.
За накрытым столом сидел Ахмеджанов, за его спиной стоял телохранитель и старательно обгладывал куриную кость. Камера скользила по лицам. Человека, сидевшего напротив Ахмеджанова, доктор узнал сразу. Узнать его было не сложно, портреты красовались сейчас по всей области, на предвыборных плакатах и листовках.
– Чего тебе, мало, что ли, в тот раз дали? – спрашивал Ахмеджанов.
– Ну, Аслан, ты пойми, эта предвыборная кампания столько сжирает каждый день, – заискивающе заглядывая в глаза Ахмеджанову, отвечал Вячеслав Иванов, кандидат на губернаторский пост. – Тем плати, этим плати. Все хотят.
– Ладно, не ной, – махнул рукой Ахмеджанов и кивнул телохранителю. Тот отбросил куриную кость, на секунду исчез из кадра и появился, держа в руках небольшой плоский чемоданчик.
Отодвинув тарелку, Иванов положил перед собой на стол чемоданчик, открыл его.
– Пол-«лимона», можешь пересчитать, – усмехнулся Ахмеджанов.
– Да ладно тебе, Аслан, – смущенно потупился Иванов.
Оператор не поленился, упер на секунду камеру в содержимое чемоданчика. Там лежали аккуратные толстые пачки стодолларовых купюр. Иванов тут же закрыл и убрал чемоданчик.
Потом камера скользнула еще по одному русскому лицу. Но этого человека Вадим не знал.
«А вот теперь не придется ничего проверять! – подумал он, вытаскивая кассету и отсоединяя видеокамеру от телевизора. – Но времени совсем мало. До выборов всего неделя. И выберут, скорее всего, этого Иванова. Кассету надо передать очень быстро. Но ошибиться нельзя. Как же Иван додумался до этого? Нет, не Иван. Андрюха. Его зовут Андрей. Он убирал в доме, где происходила встреча. Как же он догадался взять кассету и отдать мне? Возможно, просто увидел интересную коробочку на столе и решил подарить в благодарность за еду? Даже если никто не видел, как он отдавал мне кассету, они наверняка начнут меня подозревать и проверять. Они могут и не знать, что кассету взял именно Андрей. В любом случае сейчас надо ее очень хорошо спрятать».
Подумав еще секунду, Вадим отправился в ванную комнату с кассетой в руке.
* * *
Они пришли поздно ночью. Иван спал крепко. В хлеву было темно. Они стали светить ему в лицо резким светом, подняли его на ноги и вытолкали из хлева на улицу. Выталкивал один, а двое остались в хлеву. Иван оглянулся и увидел, как они роются в соломе.
Потом они вышли, держа в руках его красивые мешки. Они стали трясти мешками перед лицом Ивана. Бумажки посыпались. В лунном свете Иван видел, как блестят самые красивые, от шоколадок. Он принялся их собирать. Он хотел поскорее собрать и спрятать за пазуху хотя бы эти, блестящие, самые красивые.
Ему скрутили назад руки, ударили несильно и спросили:
– Откуда это у тебя?
Зачем они спросили, если он все равно не мог ответить?
– Кто давал тебе еду? – Они опять его ударили, на этот раз сильней.
Тут подошел фельдшер и сказал:
– Хватит. Он все равно не ответит. Еду ему давал доктор.
Иван стал мычать и мотать головой. Он испугался: вдруг они убьют доктора за то, что тот кормил его.
Трое перестали бить и повели Ивана в большой дом. Там в одной из комнат сидел бритоголовый Аслан.
– Он слышит и понимает, – сказал про Ивана фельдшер, – но говорить не может. Как собака. Еду ему давал доктор.
Бритоголовый сделал знак, двое вышли. Остались только фельдшер и еще один, огромный, высокий и толстый, все время молчавший.
– Иван, ты брал что-нибудь сегодня из маленькой комнаты, когда убирал там? – спросил бритоголовый.
Он говорил по-русски, но Ивану было все равно. Когда-то, очень давно, он тоже говорил по-русски с двумя дембелями, Андрюхой и Вовкой.
– Если ты слышишь и понимаешь, то можешь ответить – да или нет. Кивни или помотай головой, – спокойно продолжал бритоголовый. – Ты брал что-нибудь сегодня из комнаты, со стола?
Иван помотал головой и еще рукой сделал знак, чтобы стало совсем уж ясно: нет, не брал.
Его отвели в ту маленькую комнату, показали стол, где сегодня лежала камера. Он вспомнил, что брал какую-то коробочку. Но не мог вспомнить зачем.
– Ты взял отсюда коробку с кассетой и отдал кому-то.
Бритоголовый говорил все еще спокойно, но уже кивнул тому, огромному. Огромный начал бить Ивана. Иван мычал и отрицательно мотал головой.
– Зачем ты это сделал? – продолжал между тем бритоголовый.
Сам он не бил, только спрашивал:
– Тебя попросили это сделать? Доктор давал тебе еду, а потом велел взять со стола коробку?
Иван мычал и мотал головой. Тот, который бил, начал входить в раж. Иван всегда чувствовал такие вещи. Одни бьют, чтобы чего-то добиться, другим просто нравится бить.
– Я знаю, ты привык к боли, – говорил бритоголовый Аслан, – но поверь, я могу сделать так больно, как никто еще тебе не делал.
«Я знаю, ты можешь, – подумал Иван, – но ты не успеешь. На этот раз ты не обманешь Андрюху. Сейчас придут люди и Андрюху у тебя заберут».
– Перестань, Аслан, – сказал фельдшер, – доктор здесь ни при чем. Он подкармливал идиота из жалости. Он не стал бы его просить о кассете. Он ведь не знал ни о встрече, ни о съемке, не видел, кто сюда приезжал. И потом, он ведь врач. Он понимает, что такого идиота ни о чем просить нельзя.
Но бритоголовый не слушал фельдшера. Он сделал знак огромному, чтобы тот перестал бить.
– Я спрашиваю тебя в последний раз. Доктор просил принести ему кассету?
Иван закрыл глаза. Он отдыхал, пока его не били. Он перестал слушать вопросы бритоголового.
«Сейчас придут люди и заберут Андрюху, – думал он. – Ехать придется долго, поэтому надо отдохнуть. Нужны силы. Придется долго спускаться с гор. Дембель Андрюха жив, и ему нужны силы».
И вдруг он почувствовал боль. Так больно ему еще никогда не делали. Боль была совсем новая, шла она не снаружи, а изнутри, из груди, заполняла все тело и не давала дышать. Он не успел понять, что именно с ним делали и как получается, что делают снаружи, а болит внутри. Он не успел понять, потому что боль прекратилась очень быстро.
Стало легко и хорошо. Он увидел, что бежит по большому ровному полю. Босые ноги чуть покалывает свежескошенная трава, пахнет сеном, ветер весело свистит в ушах. Над головой бледно-голубое ласковое небо с мягкими пушистыми облаками.
Демобилизованный солдат Андрей Климушкин бежит по чистому полю домой, в деревню Веретеново Псковской области Великолукского района.
– Ну? И чего ты добился, Аслан? – спросил фельдшер, склоняясь над Иваном и приподнимая ему веко.
– Сдох, что ли? – Ахмеджанов щелкнул зажигалкой и закурил.
– Умер, – кивнул фельдшер, – полетел в свой христианский рай. Хасан тебе спасибо не скажет. Этот раб мог еще месяца два работать. И я тоже не скажу спасибо. Кто теперь будет мыть полы в госпитале?
Бар «Каравелла» находился на окраине и внешне выглядел как самая затрапезная пивнушка – облезлая дверь, грязноватая лестница, скромная облупленная вывеска. Однако стоило спуститься вниз по лестнице – и уходить уже не хотелось. Внутри было чисто и красиво, народу всегда мало. Пахло шашлыком, который тут же жарился на раскаленных углях. К шашлыку подавалось пиво пяти сортов, не баночное, а настоящее, бочковое, свежее, с пышной пеной. Кроме того, в специальной жаровне пеклась розовая речная форель, которую в бар привозили еще живой и трепещущей.
Отдыхающие заглядывали сюда редко. Мало кого привлекала грязноватая дверь заведения. Но местные любители темного и светлого пива наведывались часто. Два амбала-охранника, один снаружи, другой внутри, следили за посетителями. Случайных, плохо одетых и шумных выпивох сюда не пускали.
Хозяин бара, лощеный молодой абхазец, некоторых гостей встречал широкой улыбкой и теплыми приветствиями, а некоторых – подчеркнуто корректно и холодно. И дело было вовсе не в том, что одни – постоянные посетители, знакомые хозяина, а другие – случайные.
Сейчас за двумя соседними столиками сидели два постоянных клиента, но с первым, маленьким, лысым человеком лет тридцати пяти, хозяин был холодно-вежлив, а со вторым, худым, длинным, сутуловатым, лет сорока – по-домашнему улыбчив.
Первый, маленький, лысый, был известным всей области журналистом-телевизионщиком. Звали его Матвей Перцелай. В бар «Каравелла» он захаживал часто, то с какой-нибудь дамой, а то в одиночестве. Сидел всегда долго, ел много, пива выпивал не меньше трех литров, причем самого дорогого. Однако хозяин никогда не был рад ему и не особенно это скрывал.
Второй, худой, длинный, посещал бар реже, ел мало, пиво пил самое дешевое, не больше литра. Звали его Анатолий Головня. Он служил в милиции в звании капитана. В «Каравелле» появлялся только в штатском, при входе и выходе тревожно озирался по сторонам и еще больше сутулил узкие острые плечи.
Заведение было небольшим, хозяин обслуживал посетителей сам. Форель и шашлык жарил его старик отец, а жена и две дочери занимались кухней, посудой, уборкой и прочей женской работой.
Сейчас хозяин стоял над столом журналиста и с явным нетерпением ожидал, пока тот наконец сделает свой заказ.
– И форели хочется, и шашлычку хочется, – рассуждал вслух Матвей, – и худеть надо. Как быть, Русланчик? – Он растерянно развел руками и поднял глаза на хозяина. Но тот даже не счел нужным улыбнуться в ответ. Стоял и мрачно ждал.
– Знаешь что, Русланчик, побалую я себя, любимого, в последний раз. Форель будем считать закуской, а шашлык – основным блюдом. С завтрашнего дня начну худеть и в твое вкусное заведение – ни ногой. В общем, так. Салатику твоего фирменного, только огурчики-помидорчики пусть покрупнее порежут. Потом форель одну... нет, две. Ну и шашлычку палочку. Да, и пива, конечно, темного, как всегда. Для начала литр.
Казалось, Матвей вовсе не замечает холодности хозяина. В ожидании своего заказа он откинулся на спинку стула и с удовольствием закурил. А Руслан между тем подошел ко второму посетителю, к капитану Головне. Но не для того, чтобы принять заказ.
– Ко мне пройди, – сказал он быстро и тихо, – разговор будет.
Длинная фигура Головни нырнула в незаметную дверь за стойкой бара, между полками, уставленными красивыми бутылками. За дверью находилась маленькая комната без окон, похожая на кладовку. Посередине был пустой круглый стол, покрытый потертой клеенкой. У стола стояла старшая дочь хозяина, пятнадцатилетняя Кристина, полная, застенчивая девочка с длинной черной косой. Она молча протянула Головне радиотелефон, через минуту зазвонивший в его руках. Кристина выскользнула из комнаты, и капитан услышал в трубке хорошо знакомый голос:
– Пойдешь к доктору. Напугаешь легонько, не сильно. Предложишь меня продать. Скажи, мол, признавайся по-хорошему.
– А если он расколет меня?
– Значит, ты дурак. Мне нужно знать, что он ответит на твое предложение. Я хочу проверить его.
– Почему сразу не убить, если не доверяешь? – спросил капитан, зная вспыльчивый и решительный характер своего собеседника.
– Быстрый ты. И злой. Он хороший доктор, он меня с того света вытащил, ночами не спал. Твое дело – выполнить. Решать буду я, обойдусь без твоих советов. Потом все скажешь Руслану. Я сам звонить не буду.
– Когда идти?
– Сейчас.
– Но ведь поздно уже.
– Ничего, он не спит.
Всего лишь тонкая стенка отделяла комнату без окон от чистенького туалета. Если человек просто справлял нужду и мыл руки, он не слышал, что происходит в комнате. Но стоило прижать ухо к стене, сразу можно было расслышать голоса. А если вместо уха приставить специальный микрофон маленького, не больше сигаретной пачки, диктофона, то потом, прослушав микропленку, удастся разобрать каждое слово.
Именно такой специальный микрофон и держал сейчас у стены сортира журналист Матвей Перцелай. Конечно, речь неизвестного телефонного собеседника на пленку не записалась. Но то, что говорил сам Головня, записалось отлично.
Скрипнула дверь за стойкой, Головня вернулся к своему столу, на котором уже стояли овальная тарелка с шашлыком и кружка светлого пива.
Минуты через три из туалета вышел журналист. На его столе стояли стеклянная миска с салатом, корзинка с горячим лавашем и блюдо форели, украшенное крупными ломтями лимона и тонкими кольцами лука.
– Руслан! – позвал Перцелай хозяина. – Можно шашлык сразу?
Несмотря на разное количество еды, оба посетителя вышли из бара одновременно. Было уже очень поздно, но автобус-экспресс, нужный Головне, ходил круглосуточно. Ждать пришлось минут двадцать. Когда наконец автобус подъехал, капитан, прежде чем сесть в него, тревожно огляделся по сторонам. Матвея он не заметил, тот стоял в глубокой тени деревьев, к тому же на улице совсем стемнело.
Убедившись, что Головня его не видит, Матвей вскочил в закрывающуюся заднюю дверь в последний момент. Несмотря на поздний час, народу в экспрессе было много – маршрут шел от аэропорта через вокзал, пересекая весь город и подбирая припозднившихся пассажиров.
Идея проследить за длинным, худым незнакомцем возникла у Матвея после того, как Головня удалился в потаенную комнату за стойкой бара. Матвей не сомневался, что хозяин связан с тайными базами в горах, но ничего интересного и конкретного до сегодняшнего вечера не замечал, хотя в последнее время заходил в «Каравеллу» не реже двух раз в неделю.
В автобусе Матвей встал на заднюю площадку, вытащил из большой спортивной сумки джинсовую кепку, очки с затемненными стеклами, светлую куртку из тонкой плащовки и тут же надел все это. «Камуфляж, конечно, ерундовый, – решил он, – но в темноте авось сойдет. Тем более длинный не заметил, как я садился в автобус».
Ехали долго, город кончился. Экспресс остановился у пансионата, рядом с маленьким дачным поселком. Головня наконец вышел и двинулся в глубь поселка по едва освещенной редкими фонарями аллее. Матвей неслышно следовал за ним, стараясь не выходить из темноты под фонарный свет.
Капитан позвонил у высоких ворот. Матвей не сумел разглядеть, кто открыл ему ворота, которые, впустив ночного гостя, тут же захлопнулись. Через несколько минут Перцелай заснял со вспышкой улицу, ворота и номер дома. Пока этого было вполне достаточно.
* * *
– Позвольте войти? – спросил длинный, тощий человек лет сорока с короткими светлыми волосами и большими, навыкате, зелеными глазами.
– Простите, с кем имею честь? – вежливо улыбнулся доктор.
Человек достал из кармана пиджака удостоверение капитана милиции.
– Пожалуйста, Анатолий Леонидович, – пригласил его доктор, прочитав в зыбком свете фонаря имя на удостоверении.
Они прошли в гостиную.
– Чай? Кофе?
– От чаю не откажусь, – кивнул Головня, усаживаясь в глубокое кожаное кресло.
«Началось! – подумал доктор, ставя чайник на кухне. – Может, оно и к лучшему?»
Вернувшись в гостиную, он уселся напротив гостя.
– Вадим Николаевич, – начал капитан, – я пришел к вам не как представитель власти, а как частное лицо. Я хочу предупредить: вам грозит опасность. Собственно, мой визит к вам – должностное преступление. Я не имею права предупреждать о таких вещах.
В гостиной горел только торшер под большим зеленым абажуром, лицо доктора оставалось в тени.
– Продолжайте, Анатолий Леонидович. Я вас внимательно слушаю, – улыбнулся он как можно приветливей.
– Вообще-то я хотел бы послушать вас, Вадим Николаевич. Вы ничего не желаете мне сообщить?
– По какому вопросу? У вас проблемы со здоровьем? Или у кого-то из ваших близких?
– Нет. Я здоров. – Головня немного растерялся и отвел взгляд. – Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Ваши поездки в горы обратили на себя внимание. Сейчас в горах скрываются террористы из Чечни, среди них есть раненые. Вы – хирург. Это наводит на мысль...
– Простите, что наводит на мысль и кого? Я не совсем вас понимаю.
– Не перебивайте меня. За вами ведется серьезное наблюдение со стороны наших органов. Вас подозревают в пособничестве бандитам, государственным преступникам, находящимся в розыске. Я предлагаю вам сотрудничество. О каждом вновь поступившем раненом вы будете сообщать мне лично. Но сейчас меня интересует, – Головня набрал полную грудь воздуха и выдохнул, – Аслан Ахмеджанов! Он скрывается в горах, и вы оперировали его месяц назад.
– Простите, Анатолий Леонидович. Кажется, чайник закипел. – Доктор встал и вышел на кухню.
«Кстати явился этот капитан, – думал Вадим Николаевич, разливая чай по двум чашкам, – как-то слишком уж кстати. Я ломал голову, а тут – пожалуйста, прямо на блюдечке мне подают капитана милиции. Местной милиции. Местной. А я ждал кого-нибудь из Москвы. Их здесь так много сейчас, и логично было бы... А может, отдать ему кассету – и дело с концом?»
Но что-то внутри сопротивлялось. Не нравился доктору этот болезненный капитан. Все в нем не нравилось – паническое выражение выпуклых глаз, перстень с черным камнем, длинный острый ноготь на мизинце, галстук в цветочек.
«Ерунда. Галстук здесь ни при чем, – сказал себе Вадим Николаевич, – слишком уж вовремя явился этот Головня, вот в чем дело. И откуда у него ко мне „личная симпатия“? Чего ради он решился на должностное преступление и с первых же слов мне, подозреваемому, в этом признается?»
Доктор вернулся в гостиную, поставил на журнальный стол поднос с двумя чашками, сахарницей и вазочкой печенья, откинулся в кресле и молча уставился на собеседника. Тот отхлебнул чаю, и стало заметно, что у него мелко подрагивает рука.
– Я вас слушаю, Анатолий Леонидович. Продолжайте, пожалуйста.
– Если вы добровольно согласитесь со мной сотрудничать, я гарантирую, что в ближайшее время вас не арестуют за пособничество террористам.
«Стоп, – подумал доктор, – вот это уже интересно. Ты хочешь использовать меня как информатора и предлагаешь мне работать на тебя как на капитана милиции. В чем же должностное преступление? Или ты меня предупреждаешь об аресте? Какая тогда тебе нужна информация? Пугаешь арестом, чтобы завербовать? Но получается грубо и глупо. Если так, значит, ты меня считаешь полным идиотом. А зачем тебе информатор идиот?»
– В чем именно сотрудничать? – мягко спросил он вслух.
– Я уже сказал: сообщать о каждом новом раненом. Но сейчас – прежде всего об Ахмеджанове.
– Как вы сказали? Ах-мед-жанов? Я никогда не слышал такой фамилии. Кто это?
– Вы прекрасно знаете, кто это. – Капитан занервничал. – Не валяйте дурака, Ревенко. Вам, а не мне грозит арест. Вы, а не я помогаете террористам.
– Что же заставило вас прийти ко мне? Допустим, вы правы и мне действительно грозит арест, что в таком случае заставило вас, представителя закона, пойти на должностное преступление?
– Исключительное уважение к вам как к талантливому хирургу, – отрывисто, с предыханием, проговорил Головня.
«Торопишься, милый, нервничаешь, плохо работаешь, очень уж хочется, чтобы я скорее раскололся. Нет уж, дружок! Сейчас ты у меня сам расколешься».
– Вот как? – Вадим Николаевич удивленно поднял брови. – У вас был конкретный повод зауважать меня как хирурга? Или вы знаете обо мне понаслышке?
– Вы помните всех ваших больных? – спросил капитан, немного справившись с раздражением.
«Сейчас ты скажешь, что я спас кого-нибудь из твоих близких родственников. Ну, валяй. Я помогу тебе за это зацепиться».
– Честно говоря, нет. Всех я, конечно, помнить не могу. Только самые серьезные случаи.
– Пять лет назад вы спасли мою мать. У нее больное сердце, требовалась срочная операция. Все отказались, а вы согласились. Она до сих пор жива. – Опять надрывная хрипотца в голосе, отрывистая, рубленая речь.
«Что ж ты, капитан, продаешься чеченцам, а врать не научился? Рискуешь, дружок», – сочувственно заметил про себя Вадим Николаевич и спросил с серьезным лицом:
– Как же зовут вашу матушку?
– Головня Варвара Сергеевна. Вряд ли вы могли запомнить. Но это не важно. Я до сих пор чувствую себя обязанным вам.
«Как раз сердечников я помню всех. Их было у меня очень мало. Я не кардиолог, оперировать пришлось трижды, в экстремальных ситуациях. В нашей больнице есть два отличных специалиста, хирурга-кардиолога. Возможно, кто-то из них и спас Головню Варвару Сергеевну пять лет назад. Но я к этому не имею отношения. Ты, капитан, мог бы добросовестней подготовиться к нашей встрече. Неужели у Ахмеджанова не нашлось кого-нибудь умней и здоровей?»
Немного помолчав, доктор тихо произнес:
– Простите, Анатолий Леонидович, вы никогда не обращались к эндокринологу?
– К кому?! – опешил капитан.
– К врачу, который специализируется на гормональных заболеваниях. Дело в том, что у вас явные признаки нарушения функции щитовидной железы. У вас диффузно-токсический зоб, или иначе это называется – базедова болезнь. Пожалуйста, закройте глаза и вытяните руки перед собой.
– Я... вы... Вы не поняли, Ревенко! Я пришел к вам для серьезного разговора!
– Не нервничайте, господин капитан. Что может быть серьезней здоровья? При диффузно-токсическом зобе активизируется функция щитовидной железы. Она выбрасывает в организм слишком много тироидных гормонов. Помимо внешних признаков – экзофтальм, то есть пучеглазие, треммер, то есть дрожание конечностей, наблюдается еще повышенная нервная возбудимость, потливость, бессонница, состояние беспричинной тревожности и мнительности, ночные страхи. Когда вы в последний раз проходили диспансеризацию, вас смотрел эндокринолог? Впрочем, клиническая картина настолько очевидна, что определить у вас базедову болезнь сможет любой более или менее грамотный врач. Я, конечно, не специалист в этой области, но...
– Хватит морочить мне голову! – не выдержал капитан и заорал: – Вы видели Ахмеджанова? Вы его оперировали? Завтра утром вы будете арестованы. Я даю вам последний шанс!
– Любопытно, что недавно это заболевание считалось по преимуществу женским, – продолжал доктор, отхлебнув чаю, – но в последние годы им все чаще страдают мужчины. Тут дело в экологии. Щитовидная железа – весьма чувствительный орган. Если болезнь запустить, может случиться неприятное и опасное осложнение – тиротоксический криз. Могу порекомендовать вам хорошего специалиста.
Через пятнадцать минут после ухода взбешенного, трясущегося капитана далеко в горах у изголовья кровати Аслана Ахмеджанова затренькал сотовый телефон.
– Аслан, мне, конечно, все равно, но, думаю, тебе стоит знать, – услышал чеченец голос доктора Ревенко, – ко мне только что приходил капитан местной милиции по фамилии Головня и спрашивал о тебе.
– Что ты ему сказал?
– Я порекомендовал ему обратиться к эндокринологу.
– К кому?
– К врачу, который специализируется на гормональных заболеваниях, – устало вздохнул Вадим Николаевич.
* * *
Головня шагал по ночной аллее. Сердце колотилось, не только рубашка, но и пиджак под мышками промокли от пота. Разговор с доктором вывел капитана из себя. Но не потому, что доктор не стал сдавать Ахмеджанова первому попавшемуся милиционеру и не купился на провокацию. Капитану до этого Ревенко не было никакого дела. Ему поручили проверить на вшивость, он проверил.
Взбесило Головню упоминание об этой проклятой базедовой болезни, которую у него действительно нашли на последней медкомиссии. Это грозило пенсией, а в качестве пенсионера он никому не нужен. И ладно бы какой-нибудь гастрит или гипертония – этим болеют многие. Но гормональная дрянь, которую обнаружили у Головни, влияла на состояние нервной системы. А нервнобольной – все равно что псих. Он чувствовал, как заводится от малейшего пустяка, как набухает и колотится сердце ни с того ни с сего, и в пот бросает, и руки трясутся, и с глазами что-то не то. Его бесило любое упоминание о щитовидной железе, и совсем уж унизительным казалось, что болезнь эту считают по преимуществу женской – Ревенко только подтвердил слова врача на медкомиссии.
Капитан был так раздражен, что ничего не замечал вокруг. Не увидел и тень, метнувшуюся из кустов, не услышал щелчка фотоаппарата. «Ну за что мне, мужику, бабская болячка? И почему все меня в этот, как его – диффузный зоб – тычут носом? Неужели так заметно?» – думал он, шагая к освещенной остановке экспресса.
Матвею удалось сфотографировать капитана, когда он вошел в конус фонарного света и был освещен с головы до ног. Конечно, фотография могла получиться нечеткой, но те, кому он отдаст пленку и микрокассету, разберутся.
На следующий день рано утром по дороге на телестудию Матвей остановил свой зеленый «жигуленок» у газетного киоска, который находился неподалеку от санатория «Солнечный берег».
– Здравствуйте, Семен Израилевич, – обратился он к старенькому киоскеру, – как дела? Как здоровье?
– Спасибо, Мотенька, – улыбнулся старик, – живем потихоньку, коптим небеса. Тебе, как всегда, «Независимую»?
– Нет, Семен Израилевич, мне «Литературку», но только не последнюю, а за прошлую среду.
– И за прошлую, и за позапрошлую есть, – вздохнул киоскер, – это в начале перестройки за газетами с ночи стояли, а сейчас никому прогрессивная пресса не нужна. Как и всякая другая, впрочем, тоже. Для кого, интересно, старается сегодня ваш брат журналист?
Киоскер достал из-под прилавка газету за прошлую неделю, потом вместе с деньгами быстро спрятал в карман своего поношенного пиджачка маленький, заклеенный скотчем пакет из плотной черной бумаги.
Попрощавшись с Семеном Израилевичем, Матвей сел в машину и отправился на телестудию.
Через час из ворот санатория вышел полковник Константинов и не спеша прошел мимо киоска.
– Доброе утро, Глеб Евгеньевич! – услышал он, поравнявшись с окошком. – Я получил свежий номер «Аргументов и фактов».
– Доброе утро, Семен Израилевич. Большое спасибо.
Расплатившись, полковник слегка наклонил сложенную газету, и на ладони у него оказался маленький пакет из плотной черной бумаги.
Полковник не знал, что от момента передачи пакета прошел целый час. За этот час у Семена Израилевича успел побывать молодой человек самой неприметной наружности. Он взял пакет, унес его, через некоторое время вернулся и отдал назад киоскеру – в точно таком же запечатанном виде.
Рюкзачок у Маши был небольшой, но вместительный, вещей мало – только самое необходимое. Кроме одежды, она уложила в рюкзак большой плоский хлеб лаваш, остатки сыра, несколько огурцов и яблок. Для такой малоежки этих запасов должно хватить почти до Москвы. В пустую бутылку из-под пепси она налила кипяченой воды. Потом можно будет набрать еще на какой-нибудь станции.
Теперь ситуация уже не казалась ей ужасной и безвыходной. Она верила, что все будет хорошо. Она умылась на дорогу, почистила зубы, в последний раз сварила себе крепкий кофе. В джинсах и длинной широкой футболке навыпуск, с волосами, убранными под кепку, Машу можно было принять за мальчика лет пятнадцати. Свою маленькую дамскую сумочку с паспортом и студенческим она спрятала в рюкзак. Еще раз пожалела о старых верных кроссовках – неизвестно, выдержат ли предстоящее путешествие китайские тряпочные тапочки.
Солнце светило ярко и весело, дул легкий ветерок. Настроение у Маши было отличное. На товарной станции, находившейся недалеко от вокзала, она прошла вдоль путей, присмотрелась к вагонам, к пульманам, теплушкам и открытым платформам, прикинула, куда лучше залезать, поспрашивала у дядек-башмачников в оранжевых жилетах, когда и куда отправляются составы. Ей указали на длиннющий поезд, стоявший на пятом пути, и объяснили, что он отправится в Орел через пятнадцать минут.
Машу удивило, что никто из дядек-башмачников даже не поинтересовался, зачем она спрашивает, будто путешествия на товарняках – обычное дело, как пятнадцать лет назад, так и сейчас. Радовало то, что все дядьки обращались к ней «сынок» и «пацан». Попалась пара вооруженных охранников, молодых солдатиков, пьяных в стельку. На Машу они не обратили никакого внимания.
Отыскав пятый путь, она медленно пошла вдоль бесконечных теплушек и пульманов. Некоторые вагоны были полностью загружены, но и пустых оказалось много. Вдруг дверь одной из теплушек с грохотом двинулась, и появился дедок лет шестидесяти, кавказец в трикотажном спортивном костюме со всклокоченной седой бородой.
– Ты зыдэс зачэм ходышь, малчик? – спросил он с сильным акцентом.
– Я... Мне бы домой уехать, а денег нет. Украли, – честно призналась Маша.
– Куды ехат?
– Вообще-то в Москву. Ну хотя бы до Орла.
– Залаз! – кивнул кавказец.
– А куда этот поезд? – спросила она на всякий случай.
– В Арол. Чэрыз дэсат минут.
Маша решила: раз дедок сам едет в этом поезде, значит, точно знает, куда направляется состав. «Вряд ли такой старик станет приставать, – подумала она, – тем более к „малчику“. Можно считать, мне повезло».
Подтянувшись, она запрыгнула в теплушку.
Там было душно, пахло потом и табаком. От пола до потолка теплушку заполняли ящики, из которых торчали клочья стружки. Свободный кусок пола, тоже усыпанный стружкой, занимало что-то вроде стола – пустого ящика, накрытого газетой, на которой стояла располовиненная бутылка портвейна «Кавказ» и валялось несколько помидоров.
Маша осторожно присела на ящик, служивший, как ей показалось, табуреткой. Дедок сел напротив, молча разлил портвейн в две пустые жестянки из-под «спрайта», одну протянул Маше:
– Пэй!
– Спасибо, я не пью, – вежливо отказалась Маша.
– Пэй! – повторил старик громче, тут же залпом опорожнил свою банку, слил себе остатки, выпил, пустую бутылку бросил на пол, в стружку.
Неожиданно поезд зашипел, выпуская пары, дернулся всей своей многотонной массой и медленно, неохотно тронулся. Прошло всего три минуты, а не десять.
– Можно приоткрыть дверь? – осторожно спросила Маша. – Очень душно.
Ни слова не говоря, старик подвинул громыхнувшую дверь. Сквозь широкую щель повеяло свежим воздухом. Поезд быстро набирал скорость. Товарная станция осталась позади. Запахло морем.
Откупорив новую бутылку, старик уставился на Машу красными заплывшими глазами и произнес:
– Пэй!
– Ой, посмотрите, что это там? – Маша указала рукой на каменистый дикий пляж, мелькнувший в щели. Старик повернул голову. Быстрым движением Маша вылила содержимое своей банки в стружку, а когда дедок опять уставился на нее, скорчила гримасу, вытерла губы и взяла помидор. – Я все выпил, – сообщила она, откусывая от целого помидора, – за ваше здоровье. Очень вкусно.
Дедок одобрительно кивнул, налил еще себе и ей:
– Пэй!
Повторилось все сначала. Маша подумала, что до Орла под ее ящиком образуется портвейное озеро. Впрочем, она не собиралась ехать в теплушке с дедком до самого Орла. Она надеялась, что при таких дозах дрянного портвейна ее попутчик скоро отключится, на ближайшей остановке ей удастся выпрыгнуть и быстро найти пустой вагон в этом же составе.
Остановка не заставила себя ждать. Поезд, проехав не больше получаса, тяжело охнул, зашипел и замер. Маша выглянула в щель. Прямо за рельсами начинался обрыв, под обрывом – море. «Ничего, – подумала она, – пробегу по кромочке».
Старик, казалось, задремал, сидя на своем ящике. Маша надела рюкзак на плечи и осторожно скользнула в щель. Ноги тут же заскользили по мелкой острой гальке обрыва. Забыв об одном из главных законов товарняцких путешествий, Маша пролезла под вагоном и едва успела распрямиться на другой стороне пути, как поезд тронулся и начал быстро набирать скорость.
Сердце у Маши заколотилось: еще чуть-чуть, и ее бы в лепешку раздавило колесом. «Надо быть внимательней и осторожней!» – строго сказала она себе. А поезд двигался все быстрей. Глядя на проезжающие мимо вагоны, Маша решила попытаться впрыгнуть на какую-нибудь тормозную площадку. Она знала, что сразу нарушит еще один закон товарняцких путешествий: не запрыгивать на ходу. Но очень уж жаль было отстать от поезда, который едет до самого Орла.
Подходящей тормозной площадки все не попадалось. Маша бежала за вагонами, а скорость все росла. И вдруг с ней поравнялась невысокая открытая платформа, на которой ехало нечто огромное, прикрытое брезентом защитного цвета.
– Давай! Давай! – на краю платформы стоял на корточках дедок-попутчик и протягивал ей руки.
Не успев удивиться, каким образом он оказался возле брезентового чудовища, как умудрился попасть туда из своей портвейновой теплушки, Маша подпрыгнула на бегу, с поднятыми вверх руками. Старик ловко подхватил ее за руки и быстро втянул на платформу.
Кепка слетела, заколка раскололась, темно-каштановые волосы упали на плечи. Несколько секунд Маша и дедок молча смотрели друг на друга и тяжело дышали. Но Маша быстро отдышалась, а дедок продолжал сопеть. Поезд немного снизил скорость, стал двигаться ровно и медленно. Старик, ни слова не говоря, с растопыренными руками пошел на Машу. Он сопел все сильней. Маша с ужасом заметила, что не такой уж он и старый. Она медленно отступила к краю платформы. Старик продолжал надвигаться. И тут Маша спокойно произнесла:
– Подождите, пожалуйста. Послушайте, давайте сначала поговорим. Давайте поговорим по-хорошему.
Слова ее заглушило шипение выпускаемых паров. Поезд утробно фыркнул и замедлил ход. Не дожидаясь, пока он остановится совсем, Маша метнулась в сторону и точным балетным прыжком соскочила на соседний пустой путь.
Приземлилась она неплохо, только слегка занесло из-за рюкзака. Она упала на четвереньки, ободрала острым гравием кожу на ладонях и почувствовала, что одна коленка под джинсами разбита в кровь.
А поезд между тем раздумал останавливаться. Он лишь слегка притормозил, будто давая Маше возможность спрыгнуть, и поехал дальше, вновь набирая скорость. Но не в сторону Орла, как думала Маша, а совсем в противоположную – к реке Чандры, по которой проходила граница между Россией и маленьким кавказским государством.
Раздался оглушительный гудок. Маша едва успела опомниться, встать с четверенек и отпрыгнуть. Мимо промчался поезд, обдавая ее горячим ветром и гарью. Он состоял из одних наглухо заколоченных пульманов. Как только путь освободился, на Машу наскочила огромная кавказская овчарка и с остервенелым рычанием стала валить ее на землю. Уже ничего не соображая, Маша только старалась закрыть разодранными ладонями лицо и горло.
Однако собака не собиралась ее грызть – лишь повалила и принялась обнюхивать, потом даже лизнула. Тут раздался грубый мужской голос:
– Сильва! Ко мне! – Чья-то рука оттащила овчарку за ошейник.
Маша осторожно отняла ладони от лица и попыталась встать. Тот же голос скомандовал:
– Лежать! Руки за голову!
Маша не возражала. Ее грубо ощупали, обыскали, потом заорали:
– Встать! Руки за голову! Повернись! Медленно!
Маша выполнила все команды, а когда повернулась, увидела перед собой двух молодых кавказцев в какой-то странной полувоенной форме. Один держал овчарку за ошейник, другой – автомат наперевес, дулом в Машу.
«Странно, почему они не заглянули в рюкзак, ничего не спрашивают и не требуют предъявить документы», – успела подумать Маша перед следующей командой.
– Вперед! Пошла! Шаг в сторону – стреляю!
* * *
Днем из больницы доктор направился на своей «Тойоте» к Студенческой улице, оставил машину на углу и пешком дошел до калитки дома номер восемь. Сквозь яблоневые ветки он увидел в глубине двора очень полную женщину в цветастом сарафане, она развешивала белье на веревках.
– Здравствуйте! – позвал ее доктор. – Скажите, пожалуйста, у вас живет Маша из Москвы?
Женщина закрепила прищепкой угол мокрой простыни и подошла к калитке. Войти во двор она не предложила.
– Жила у меня Маша из Москвы, – надменно сообщила она, – уехала сегодня. Деньги назад затребовала и отчалила со своим рюкзачишкой. Артистка-авантюристка! А вам она зачем?
Маленькие быстрые глазки окинули доктора с ног до головы жадным подозрительным взглядом.
– То есть она вам заплатила вперед, стало быть, уезжать не собиралась, а потом неожиданно уехала? – проигнорировав вопрос хозяйки, уточнил доктор.
– А вы кто ей будете? – Хозяйка в свою очередь не желала отвечать доктору.
Секунду подумав, Вадим Николаевич тихо и внятно произнес:
– А я ей буду любовник! – Развернулся и быстро пошел по улице к машине.
Садясь за руль, он подумал, что хозяйка, наверное, еще полчаса проторчит у калитки, хлопая своими быстрыми глазками и забыв про мокрое белье.
«Не судьба, – грустно сказал он себе. – Машенька уехала. Ее нет и не будет никогда. Не надо больше думать о ней. Все к лучшему. Я не могу ручаться за свой завтрашний день».
Затренькал сотовый телефон. Выруливая на проспект, доктор услышал в трубке голос фельдшера из горного госпиталя:
– Сейчас можешь приехать?
– Я же был вчера вечером? Что случилось за ночь?
«Кассета, – сказал он себе, – опять кассета. Капитан Головня – это только начало».
– У него кровь в моче, – сообщил фельдшер.
«Это что-то новенькое», – усмехнулся Вадим Николаевич про себя, а вслух произнес:
– Хорошо. Сейчас приеду, – и захлопнул крышку телефона.
«Вот так. Знай свое место, бандитский эскулап!» Он развернул машину и направился к синевшим вдали горам.
«В доме, где все происходило, меня не было, – рассуждал доктор, переезжая границу у реки Чандры, – я близко не подходил к дому. Госпиталь на другом конце села. Я даже не знал, кто к ним приехал и зачем. Между тем кассету мог взять кто угодно. Мало ли кому это нужно? Из того, что я возил Ивану, то есть Андрею, еду, ничего не следует. Ровным счетом ничего. Может, у Ахмеджанова и правда что-то не то с мочеточником? Ладно, посмотрим. Еще день-другой я выиграю, а потом, если повезет, бандитской мочой будут заниматься тюремные врачи Лубянки или Бутырки».
Чеченец сидел на камне перед дверью госпиталя и пил гранатовый сок из литровой банки. После операции он пил его в огромных количествах – восстанавливал кровь. Вышедший навстречу фельдшер нес в руках точно такую же литровую банку. В ней находилась жидкость, по цвету похожая на гранатовый сок. Не глядя на Вадима, фельдшер быстро произнес:
– Он мне не верит. Говорит, это кровь. Говорит, неправильно ты его лечишь.
– Ну, неправильно, так и не буду, – весело ответил доктор, – я свое дело давно сделал. Пусть теперь собирает консилиум, выписывает себе врачей из Кремлевки. – Он обращался только к фельдшеру, будто Ахмеджанова вовсе не было рядом.
– Ты не обижайся, доктор, – подал голос чеченец, – я таким цветом никогда раньше не мочился. Вот и решил тебе показать.
– Конечно, чтобы мочиться гранатовым соком, надо его не меньше трех литров выхлебывать в день. Все, Аслан. Сок отменяется. А то придется тебе сюда психотерапевта вызывать, от мнительности лечить.
Вместе с фельдшером Вадим зашел в госпиталь, осмотрел двух недавно прооперированных боевиков, дал фельдшеру несколько новых указаний. Пол в госпитале был грязным. Сегодня его не мыли. Вадим заметил это сразу и, выходя, небрежно бросил фельдшеру:
– Что ж грязь здесь такую развели? Ты бы позвал кого-нибудь, чтобы пол помыли. Все-таки госпиталь, а не казарма.
– Позову, помоют, – кивнул фельдшер и быстро взглянул Вадиму в глаза.
«Он ждал, что я спрошу про Ивана, а я не спросил. Они что-то сделали с ним ночью. Вероятно, пытались допросить. Господи, как можно допросить немого, слабоумного человека? Но он ведь сказал мне два слова, отдавая кассету: „Андрюха жив!“ Он мог говорить, но не хотел. Он вспомнил свое имя, но больше ни слова не произнес, сразу ушел, скрылся в темноте. Они могли пристрелить его просто сгоряча, чтобы сорвать злобу на единственном русском, который оказался под рукой».
Вадим не знал, что и как произошло на самом деле, но чувствовал: Андрюхи уже нет. Больше всего хотелось сейчас запереться в своем одиноком доме, встать под горячий душ, а потом поспать хоть немного. Он вдруг обнаружил, как страшно устал за эти дни.
Когда доктор ушел, Ахмеджанов подозвал фельдшера и тихо спросил:
– Ну что?
– Нет, – покачал головой фельдшер, – он не спрашивал про Ивана. Он только заметил, что пол грязный, и сказал: надо помыть.
* * *
Под дулом автомата Машу провели в какой-то каменный сарай с выбитыми окнами. Сарай находился между железной дорогой и шоссе. Рядом стоял крытый военный грузовик. Несколько вооруженных кавказцев курили, сидя на корточках или развалившись на траве.
Внутри стоял голый канцелярский стол, несколько табуреток. За столом сидел бородатый кавказец в черной джинсовой рубашке. Не сказав ни слова, он кивнул тем двум, которые ввели Машу. Один из них сдернул рюкзак с ее плеч, основательно порылся в нем, вытряхнул все из сумочки, лежавшей сверху, паспорт и студенческий билет протянул бородатому. Тот молча пролистал документы, потом поднял на Машу тяжелые красноватые глаза:
– Ты что здесь делаешь?
– У меня украли деньги. Я хотела добраться до дома на товарняках, – объяснила Маша как можно спокойней.
– В Москве живешь?
Она кивнула.
– Почему не могла позвонить, чтобы тебе прислали деньги?
– Мне прислали. Но здесь, на почте, переводы не выплачивают.
– Почему ехала в другую сторону?
– Как – в другую сторону? – опешила Маша. – Мне сказали, поезд до Орла...
– Кто сказал?
– Люди на товарной станции, башмачники, которые рельсы проверяют. Потом мужчина в вагоне. Он вино вез, целый вагон портвейна.
– Сядь! – рявкнул бородатый. – И сиди тихо!
Маша опустилась на одну из табуреток. В руках бородатого появился радиотелефон, он принялся куда-то названивать и что-то быстро говорить на своем языке. Говорил довольно долго, набрал еще несколько номеров, спрашивал о чем-то, кивал, хмурился, слушая ответы невидимых собеседников.
У Маши возникло странное ощущение, будто все это происходит не с ней, будто она просто наблюдает со стороны, как какая-то бедная-несчастная девочка попала в ужасную историю.
Входили и выходили кавказцы, одетые в странную полувоенную форму, у некоторых были платки на головах, завязанные узлом назад и надвинутые низко на лоб, как у опереточных разбойников. Бородатые, грязные, темнолицые, с автоматами за плечами, они что-то бурно обсуждали, спорили, курили, смеялись, сплевывали сквозь зубы прямо на пол. То и дело хлопала дверь.
На Машу напало тупое оцепенение. Она уже устала сидеть, ноги затекли, саднили исцарапанные ладони и разбитая коленка. А разбойники жили своей разбойничьей жизнью и на бедную-несчастную девочку, казалось, не обращали никакого внимания. Она попыталась тихонько встать, даже сделала шаг к двери, но тут же раздался окрик: «Сидеть!» – и она послушно села на место.
Почему-то больше всего ей хотелось сейчас умыться. Она чувствовала, какое у нее грязное, чумазое лицо, и от этого было неловко, даже перед разбойниками.
* * *
Проходя по селу к машине, Вадим Николаевич краем уха услышал разговор двух боевиков-чеченцев:
– Ахмед звонил с поста только что. Сказал, девчонку задержали, русскую. На товарняке ехала. Молодая, девятнадцать лет.
– И чего?
– Не знают, выясняют пока.
– А сама что говорит?
– Говорит, деньги у нее украли, она хотела до Москвы на товарняках доехать. Только ехала почему-то в другую сторону.
Чеченцы загоготали. Вадим Николаевич не стал дожидаться конца разговора. Сердце почему-то забилось очень быстро. «Тахикардия», – машинально отметил он про себя, уже подбегая к машине.
Кто такой Ахмед, звонивший с поста, доктор знал очень хорошо. Преуспевающий бизнесмен из Австрии Ахмед Саидов, услыхав о войне на своей далекой родине, бросил семью, бизнес и отправился воевать. За полтора года доктор встречал уже второго такого героя-патриота.
Чеченцы разбросаны по всему миру. Деньги в войну вкладывали многие, но находились и такие, которые сами бросались спасать землю своих предков. Они воевали особенно самозабвенно и жестоко, будто старались кровью врагов смыть с себя вину перед покинутой когда-то родиной.
Ахмеда Саидова доктору пришлось недавно оперировать, удалять мелкие снарядные осколки из бедра. Теплилась слабая надежда договориться с ним мирно.
* * *
Какой-то маленький кривоногий кавказец в войлочной мусульманской шапке надолго остановился у стола и, темпераментно жестикулируя, что-то объяснял бородатому. Маша не понимала ни слова, но вдруг заметила, как кривоногий несколько раз кивнул в ее сторону.
– У Хасана есть русский раб, у Саида есть, – рассуждал между тем кривоногий, загибая пальцы, – они себе купили, а я купить не могу. Новых давно не привозят, старые передохли. Пусть хоть эта поработает.
– Много она не наработает, – возражал бородатый, – смотри, она тощая, слабая.
– Почему – слабая? Тощие сильными бывают, – не унимался кривоногий. – Тощая! Я же ее не в жены беру!
Все, кто находился в сарае, загоготали. Даже бородатый скривил губы в усмешке.
– Хорошо, бери, только на пару дней моим джигитам оставишь, пока она свежая, – сказал он, махнув рукой.
– Да, вам оставишь! А потом она и работать не сможет, подохнет сразу.
– А ты думаешь, мы тебе ее прямо сейчас и отдадим? – Бородатый хитро прищурился. – Тебе надо, и джигитам тоже надо.
– Мне надо работника, а вам...
– Ладно, не переживай. Все равно она бы у тебя больше месяца не протянула. Ты ж ее хорошо кормить не станешь, я тебя знаю. Хочешь – забирай через два дня. Не хочешь – мы ее потом сразу пристрелим.
Кривоногий подошел к Маше и гаркнул по-русски:
– Встань!
Маша продолжала сидеть, низко опустив голову.
– Встань, я сказал! – Он выбил из-под нее табуретку, но она не упала, успела вскочить на ноги.
Кривоногий деловито оглядел ее, пощупал мышцы предплечья:
– Открой рот!
Маша окаменела. Она не могла шевельнуться. Не долго думая, кривоногий ткнул ее кулаком в солнечное сплетение. Наверное, удар получился несильным, но для Маши он был первым в жизни. Она поперхнулась, непроизвольно приоткрыла рот. Кривоногий тут же грязным пальцем оттянул ей щеку, посмотрел коренные зубы.
– Молодая, здоровая, – заключил он, – если вы над ней сильно стараться не станете, сможет месяца два проработать. А то отдал бы ты мне ее сразу, Ахмед?
– Что торгуешься? – повысил голос бородатый. – Берешь бесплатно, скажи спасибо. А не хочешь – пристрелим.
– Все бы тебе стрелять, – проворчал кривоногий, – зачем пропадать добру?
«Они меня продают, а этот кривоногий покупает, – думала Маша, – он покупает меня как рабочую силу: мускулы щупает, в зубы заглядывает. Наверное, ему даже бесплатно меня предлагают, а он думает: брать или нет? Родители начнут меня искать только через десять дней. Куда именно я уехала, знают всего два человека, Саня и его мама. Даже если родители приедут сюда, каким-то чудом найдут хозяйку, у которой я снимала комнату, на этом след оборвется. Милиция объявит официальный розыск. „Помогите найти человека!“ – такой листочек с моей фотографией и описанием примет повесят у районных отделений в Москве и здесь, в городе. Ну и что? Сколько сейчас людей пропадает? Конечно, есть и частные детективы, но у родителей вряд ли хватит на это денег, даже если они влезут в долги. Надо как-то выкарабкиваться самой. Ничего, я справлюсь. Я найду возможность убежать от этого кривоногого».
Происходящее все еще казалось нереальным, напоминало что-то из детской литературы, из «Хижины дяди Тома». В подсознании срабатывала защитная реакция: если сильно задуматься, можно запросто свихнуться. Но чтобы выжить и выбраться отсюда, надо оставаться в здравом рассудке. Ощущение, что все это не с ней, не наяву, пока не проходило.
– Учтите, меня будут искать! – Она немного удивилась: собственный голос показался ей чужим.
Впервые за все это время бородатый, которого звали Ахмед, взглянул на нее в упор долгим тяжелым взглядом. От этого взгляда Машу передернуло, будто ей плеснули в лицо ледяной воды. Она опомнилась и поняла, что сейчас произойдет. Никакой здравый рассудок не поможет. Ничего не поможет.
«Надо сделать так, чтобы они сразу, сейчас же застрелили меня», – успела подумать она.
Бородатый, продолжая глядеть на нее в упор, встал, обошел стол и сказал, приблизившись к ней вплотную:
– Искать будут, говоришь? Никто никогда тебя не найдет! – Он резко дернул ворот майки, разорвал ее сверху донизу.
Маша не успела даже закричать, ей сразу зажали рот, поймали руки и быстро связали их за головой. Бородатый уже опрокидывал ее на пол, раздирал молнию на джинсах, одновременно кто-то приклеивал кусок скотча ко рту, а кто-то крепко держал за ноги.
«Лучше бы я попала под поезд. Господи, сделай так, чтобы я умерла прямо сейчас, сию минуту. Господи!..»
Маша не слышала, как завизжали тормоза у сарая, не видела, как распахнулась дверь.
Вадим Николаевич успел моментальным движением сорвать с плеча одного из боевиков автомат. Боевик стоял у двери, он зазевался, наблюдая забавную сцену и с нетерпением ожидая своей очереди.
Щелкнув затвором, доктор наставил дуло на пыхтящего, расстегивающего собственную ширинку Ахмеда и закричал:
– Отпусти ее! Быстро!
Ахмед удивленно оглянулся, узнал его и сказал вполне мирно:
– Уйди, доктор, не лезь. Не твое это дело.
Нависла напряженная, гулкая тишина. И вдруг в этой тишине за спиной Вадима Николаевича негромко щелкнул затвор автомата. Ахмед заметил, как кривоногий Рафик вздернул свой ствол.
Рафик был недавно в отряде. Дом его находился здесь, в горах, в крошечном селе у самых вершин. Именно туда он и собирался везти эту случайную русскую девку, доставшуюся ему задаром. Он уже решил, что поселит ее в погребе, ноги закует длинной нетяжелой цепью. Соседи, Хасан и Саид, заковывали своих русских рабов. У Саида было даже два раба, старый и молодой. Молодого пришлось убить, он бросился на хозяина с камнем. Если эту девку тоже придется убить, то по крайней мере не так жалко. Она ему даром досталась. А Саид за своего молодого раба дорого отдал, даже не говорит сколько, но все знают – дорого.
Рафик готов был выстрелить в этого седого незнакомого русского, который посмел остановить самого Ахмеда, посмел навести на него автомат. Но без приказа не решался. А Ахмед почему-то медлил, возился со своей ширинкой. Хоть бы глазом моргнул, что ли?
Молния у Ахмеда заела, ни туда ни сюда. Возбуждение еще не прошло, он тяжело дышал. Он видел, как кривоногий Рафик замер в ожидании приказа. Рафик единственный из семи боевиков, находившихся в сарае, не знал, кто такой этот доктор. На секунду мелькнула мысль: а не воспользоваться ли этим незнанием? Ведь и приказа никакого не надо, только глазом моргни – и прошьет доктора насквозь очередь из Рафикова ствола. По-хорошему полагалось бы так и сделать и продолжить с девкой все как задумали. Но ведь Аслан не станет слушать, кто именно стрелял и почему. Он скажет, что Ахмед убил доктора из-за девки. Это может стоить головы. Доктор еще долечивает Аслана после ранения. Два полевых командира лежат сейчас в госпитале. Один фельдшер не справится. Пока найдешь нового хирурга, пока его привезешь, проверишь... Столько хлопот из-за какой-то девки! Да и сможет ли новый хирург делать свое дело так, как этот? Ведь и самому Ахмеду он недавно так ловко вытащил осколки из бедра. Ахмед уже не хромает даже. А кто-то сделал бы кое-как, хромал бы Ахмед потом всю оставшуюся жизнь. Нет, тут нечего думать. Пока этот доктор лечит Ахмеджанова, стрелять в него нельзя.
– Ну куда ты лезешь, доктор? – медленно произнес Ахмед, справившись наконец с ширинкой. Возбуждение прошло, он стал дышать спокойно. – Зачем весь этот базар? Влетел, заорал, стволом в меня тычешь. Остынь. И ты, Рафик, опусти свой ствол, – повернулся он к кривоногому. – Хочет доктор девочку, пусть берет. Зачем ссориться из-за такой ерунды?
Вадим Николаевич уже поднимал Машу с пола, осторожно отклеивал скотч с ее рта. Автомат мешал, но он не выпускал его, просто зажал под мышкой. Узел веревки на Машиных запястьях никак не поддавался. Наконец доктор развязал его зубами.
– Чего ж она на товарняке ехала? – спросил Ахмед, усаживаясь назад, за стол.
Вадим Николаевич молчал. Оглядевшись, он заметил рядом вывороченный рюкзачок, вытянул из него какой-то свитер, надел на Машу поверх разодранной майки.
– Послушай, Ахмед, – подал голос кривоногий, – ты же обещал. Нехорошо, нечестно так.
– Да, доктор, – как бы спохватился Ахмед, – тебе еще надо с Рафиком договориться. Действительно, нехорошо получилось. Ему руки рабочие нужны. Я же не знал, что это твоя девочка, обещал Рафику. Ты уж не обижай джигита.
Вадим Николаевич вытащил из заднего кармана брюк бумажник.
– Сколько? – спросил он, ни на кого не глядя.
Кривоногий Рафик задумался на секунду, потом произнес по-русски:
– Пятьсот.
Вадим Николаевич молча отсчитал пять стодолларовых купюр и сунул их кривоногому в лицо. Тот проворно выхватил деньги и заулыбался:
– Вот это дело, это разговор.
На столе перед Ахмедом так и валялись Машины документы. Вадим взял их, сунул в нагрудный карман рубашки, подошел к Маше, обнял ее за плечи и спросил шепотом:
– Ты можешь сама идти?
Маша слабо кивнула в ответ.
Когда они подходили к машине, их догнал один из боевиков:
– Эй, доктор, автомат-то мой верни!
Вадим отдал ему автомат, усадил Машу в машину, потом вернулся в сарай, сгреб валявшиеся на полу вещи, кое-как запихнул в рюкзак.
Наконец «Тойота» двинулась в сторону города. Маша только сейчас почувствовала, что ее бьет крупная дрожь и зубы стучат как в лихорадке.
Константинов бросил бадминтонную ракетку на гальку пляжа, взглянул на часы, потом снял их и отдал Арсюше.
– Глебушка, ну давай доиграем! – Арсюша нетерпеливо хлопал своей ракеткой по худой загорелой коленке.
– Теперь с мамой. Я устал прыгать на жаре. Пойду купаться.
– Ну мы же так долго ждали, когда не будет ветра на пляже! Мам! Ты хоть со мной поиграешь?
Елизавета Максимовна нехотя поднялась с лежака, лениво потянулась, и Константинов залюбовался ею. Светло-пепельные волосы были стянуты тугим узлом на затылке, легкие высвободившиеся прядки светились на солнце. Лизе никак нельзя было дать ее сорока лет: тонкая, прямая летящая фигурка, узкие бедра, длинная шея, острый, всегда чуть вскинутый подбородок... «На самом деле, от природы я толстая, – как-то призналась Лиза, – но я с пятилетнего возраста в балете. А балет – это муштра, дисциплина почище армии. В детстве я дрожала при виде сдобных булочек, мороженого и шоколада. Но два раза в неделю нас перед занятиями ставили на весы. Лишние двести граммов были трагедией и позором. Я жутко завидовала детям, которые могли есть что угодно и не набирали ни грамма, у них все сгорало после двух часов у станка. А я должна была расплачиваться за половинку эклера неделями. До сих пор не могу спокойно смотреть на пирожные и жареную картошку».
«Но теперь-то можно, – удивился Глеб, – теперь ты не танцуешь, только преподаешь. Ну позволяй себе кулинарные радости хоть иногда!»
«Нет, – вздохнула Лиза, – я до сих пор встаю на весы каждые три дня. Стоит мне хоть чуть-чуть поправиться, начинаю себя ненавидеть, презирать и пилить. И потом, если я стану толстой, ты меня разлюбишь. Не из эстетических соображений, а потому, что у меня от этого сразу испортится характер. Я перестану себе нравиться и буду злиться на весь мир».
Представить себе Лизу, которая злится на весь мир, Константинов не мог. Он знал ее одиннадцать лет и ни разу не слышал, чтобы она повысила голос или сказала о ком-нибудь дурное слово. Она могла быть взвинченной, нервной, но никогда не кричала и не злословила, всегда оставалась доброжелательной и приветливой – даже с теми, кто этого не заслуживал.
Вот уже одиннадцать лет все, что делала и говорила Лиза, вызывало у полковника совершенно детский, телячий восторг.
Она сняла темные очки. Большие светло-серые глаза казались еще больше и светлей на загорелом тонком лице.
– Так и быть, – вздохнула Лиза, – я попрыгаю на солнцепеке вместо Глебушки. Только если опять обгорю, виноваты будете вы оба, изверги.
Она подняла с гальки ракетку и тут же приняла сильную подачу сына. Следующую она пропустила – непроизвольно повернула голову в сторону моря, где подплывал к буйкам широким брассом ее любимый полковник.
Елизавета Максимовна вовсе не хотела сейчас играть в бадминтон. Но если бы она отказалась, Арсюша полез бы в воду вслед за полковником. Ребенок отлично плавает, он доплыл бы с Глебом до буйков – туда, где уже качается на надувном матрасе невысокий, полноватый и совершенно лысый человек тридцати пяти лет. Между полковником и этим человеком должен состояться короткий непонятный разговор, который Арсюше слушать ни к чему.
– Мам, ну ты играешь или как?
– Играю! – Она ударила по воланчику и больше в сторону моря не взглянула.
Казалось, человек на надувном матрасе дремал, подставив круглое лицо беспощадному полуденному солнцу. Он даже не открыл глаза, когда полковник подплыл совсем близко и зацепился за качающийся красный буек.
– Привет, Мотя, – тихо произнес полковник, – обгореть не боишься?
– Нет, Глеб Евгеньевич, – ответил Матвей Перцелай, чуть приоткрыв один глаз, – мне не привыкать к солнышку. Я ведь местный. Во-первых, здравствуйте, во-вторых, поздравляю вас. Поздравляю с комсомольцем Ивановым!
– Как вычислил?
– Методом исключения. У Коваля и Зайченко – армянские капиталы, у Волковца – московские. А Иванов как бы чист. Все это время к нему налик шел чемоданами. Прямо-таки извержение зеленой лавы с горных вершин.
– Ты поэт, Мотенька, – улыбнулся полковник.
– Нет, Глеб Евгеньевич, «лета к суровой прозе клонят», как сказал классик. Что вам «гэбуха» в затылок дышит, знаете?
– В принципе – да.
– Сейчас без всякого принципа. Вполне конкретно. Сопит, можно сказать. Они, кажется, вам нежный привет через меня передали.
– То есть?
– Лариска, официантка из «Парадиза», болтала-болтала и вдруг про вашу Елизавету Максимовну спросила.
– Тебя?!
– Меня. Эдак на голубом глазу: а не знаете ли, мол, Матвей, как поживает Белозерская? Почему, мол, к нам не заходит? А я ей: какая такая Белопольская? Она хихикнула, подмигнула и убежала к соседнему столику.
– И все?
– Все. Потом еще поболтала на всякие нейтральные темы. Вы бы поужинали в «Парадизе». Лариска, может, что-нибудь интересное расскажет.
– В подарок или с корыстью?
– Смеетесь, Глеб Евгеньевич? Какие уж тут подарки! Она вам наживку кинет, потом доложит, сглотнули вы или выплюнули.
– Наживка будет натуральная или синтетическая, не знаешь?
– Не знаю. Но думаю, натуральная. Ваши смежники любят вашими руками жар загребать. Вы по следу пойдете, а они за вами – на цыпочках.
– Посапывая в затылок?
– Именно. Вы все сделаете, а им достанутся лавры.
– Ох, Мотя, какие уж тут лавры? Ты мне лучше скажи: твой московский коллега вернулся с гор?
– А как же! Посетил пару лагерей беженцев, поснимал разруху, разорение, рыдающих женщин и голодных детишек. Было бы что сказать, я с этого и начал бы.
– Понятно. Спасибо, Мотенька.
– Служу Советскому Союзу! – усмехнулся Матвей и приложил к виску пухлую короткопалую кисть, будто взял «под козырек».
Полковник поплыл к берегу, а Перцелай остался покачиваться у буйка на своем матрасе с закрытыми глазами.
* * *
Матвей Перцелай родился тридцать пять лет назад в этом курортном городе, окончил школу с золотой медалью, после выпускных экзаменов отправился в Москву и с первой же попытки поступил в Московский университет, на журфак.
Учился он легко, без усилий, все сессии сдавал на «отлично», при этом считался душой общежитских посиделок и попоек, умудрялся крутить пару-тройку романов одновременно и с первого же курса начал публиковать свои очерки в известнейших московских газетах.
Маленький, кругленький, он рано полысел, но совершенно не переживал из-за такой ерунды. Его обаяние с лихвой компенсировало непривлекательную внешность.
В отличие от иногородних сокурсников, он вовсе не стремился закрепиться в Москве.
– Это же такое счастье – родиться в курортном городе! – говорил он. – Никуда не надо ездить отдыхать, вышел из родного дома – и ты уже на пляже. К тому же в Москве я в лучшем случае стану «одним из». А дома имею реальный шанс сделаться первым журналистом области. – При этом он с удовольствием цитировал известные стихи Иосифа Бродского: – «Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря».
Именно Бродского и предъявил Матвею человек, встретившийся с ним в кабинете начальника отдела кадров факультета, куда Перцелая вызвали однажды через учебную часть.
– По моим сведениям, Матвей Владимирович, вы распространяете среди студентов рукописные экземпляры произведений запрещенного у нас в стране поэта-антисоветчика Иосифа Бродского, – сказал, не поздоровавшись, человек без возраста и особых примет в темно-сером костюме.
– Что значит – распространяю? – спросил Матвей спокойно. – Иосиф Бродский – великий поэт, и любой студент обязан знать его творчество.
– Еще скажите: «великий русский поэт», – криво усмехнулся темно-серый.
– И скажу! – взвился Матвей. – Я считаю Бродского гением! Он великий русский поэт!
– А вы, Матвей Владимирович Перцелай, сын Владимира Давидовича Перцелая, русский по паспорту, собираетесь стать великим русским журналистом? – тихо поинтересовался темно-серый.
– Собираюсь, – признался Матвей, чувствуя, как леденеют пальцы.
У других от волнения руки потеют, а у него становились сухими и ледяными. Потом начиналась отвратительная сухая экзема. Кожа с ладоней слезала лоскутьями, никакие мази не помогали.
– То-то я вижу, вы во все наши серьезные газеты пихаете свои статейки, – произнес темно-серый почти шепотом.
– А что, у нас теперь все газеты – ваши? – еле слышно спросил Матвей. Мысленно он уже попрощался с университетом, надел кирзовые сапоги и отправился в армию, куда-нибудь в Североморск, к черту на рога. «Ну и пусть! Зато потом гнидой себя не буду чувствовать всю жизнь!» – отрешенно подумал он.
Но тут раздался захлебывающийся, квакающий смех. Матвей вздрогнул от удивления: темно-серый смеялся!
– Ладно, Перцелай, – сказал он, отсмеявшись, – хватит валять дурака. У тебя это неплохо получается. Я уже оценил.
Темно-серый перешел на «ты» и положил руку Матвею на плечо. Матвей опустил голову. Пересохшие ледяные ладони зачесались. Он машинально отметил про себя, что раньше экзема не начиналась так быстро. «Говорят, правая ладонь чешется к деньгам, – подумал он, – неправда. Она чешется из-за нервной экземы!»
– Ты ведь не хочешь вылететь из университета? – спросил темно-серый мягко и сочувственно.
«Идиотский вопрос! – подумал Матвей. – С какой стати я, круглый отличник, должен вылетать? Я, конечно, мысленно уже попрощался, но, Господи, третий курс, так все хорошо шло...»
– Послушайте, – медленно произнес он, – сейчас ведь не те времена. Сейчас все-таки восьмидесятый, а не тридцать седьмой, и я не понимаю...
– В общем, так, Перцелай, – перебил его темно-серый, – либо ты подписываешь вот эту бумажку, – он вытащил из портфеля тонкую папку, раскрыл ее, и Матвей с ужасом увидел отпечатанное на машинке заявление, начинавшееся словами: «Я, Перцелай Матвей Владимирович...», либо вылетаешь из университета. А времена, Перцелай, всегда те самые, понятно?
– Я могу подумать? – неожиданно для себя спросил Матвей.
– Можешь, – разрешил темно-серый, – только недолго. Через неделю встретимся в этом же кабинете. Ты хороший парень, надеюсь, ты примешь правильное решение.
Решение, которое принял Матвей, показалось ему самому почти абсурдным. Отец одной из его сокурсниц был подполковником, военным. В каких войсках он служил и чем командовал, Матвей не знал. Но то, что он – не «гэбун», знал наверняка.
– Оленька, – сказал он, – у меня тут завязка появилась в «Красной звезде», мне надо сделать интервью с каким-нибудь военным.
– Нет проблем! – ответила Оленька. – Завтра папа дома весь вечер. Только не знаю, сумеешь ли ты его разговорить. Он молчун.
Отец Оленьки действительно оказался молчуном. Сначала Матвей вертел вокруг да около, изображал, будто берет интервью, задавал какие-то дурацкие вопросы. Но подполковник нетерпеливо взглянул на часы:
– Слушай, парень, не морочь мне голову. Ты же пришел не для интервью, а для какого-то другого разговора, только не знаешь, как начать.
– Меня вербует известная организация! – зажмурившись, выпалил Матвей. – Если я откажусь стучать на своих товарищей, вылечу из университета. Я не хочу ни того ни другого. Я понимаю, вы считаете меня либо провокатором, либо идиотом...
Ладони чесались нестерпимо. Кожа на них стала совсем сухой и свекольно-красной. Подполковник молчал.
– Кроме подлости и гадости, то есть стукачества, я мог бы... – продолжал Матвей, путаясь и запинаясь. – В общем, я готов работать на военных, есть же у нас в стране военная разведка! Я собираюсь после университета, если, конечно, меня не вышибут, заниматься журналистикой. Жить и работать я буду в своем родном городе. Я легко вхожу в контакт с людьми, а мой родной город...
– Ты, парень, заучился совсем, – не дал ему договорить подполковник.
Он встал, высунулся в коридор и крикнул:
– Оленька, как там чай? Мы уже закончили.
Так и не услышав ничего в ответ, Матвей выпил чашку чаю, отправился в общежитие и остаток недели безуспешно боролся с экземой. Кожа слезала с ладоней клочьями, к тому же руки тряслись, как у запойного алкоголика. Матвей даже похудел на три килограмма от переживаний.
Неделя прошла. В отдел кадров его больше не вызывали. Темно-серый не появлялся. А еще через неделю, по дороге в университет, с Матвеем поравнялся вишневый «Москвич». Человек лет сорока с аккуратными темными усиками высунулся из окна, позвал Матвея по имени-отчеству и пригласил сесть в машину.
– Вы собираетесь на каникулы ехать домой? – спросил усатый, не представившись...
С тех пор прошло много лет. Молчун-подполковник по фамилии Фролов, отец сокурсницы Оленьки, успел стать генералом. Он был непосредственным начальником Глеба Евгеньевича Константинова.
Матвей с блеском окончил университет, вернулся в родной город и стал работать на областном телевидении. Из него действительно получился лучший тележурналист области, к нему обращались кандидаты в мэры и в губернаторы, именно он организовывал и проводил рекламные кампании, за большие деньги сочинял тексты предвыборных листовок и воззваний, писал официальные речи.
Он обладал бесценной и весьма опасной информацией о тех, кто делал легальную и нелегальную политику в области. Никто не сомневался: Перцелай умеет держать язык за зубами. Как же иначе, ведь болтливость при его работе – самоубийство.
Матвей имел сотню приятелей и тысячу знакомых, общался с огромным количеством самых разных людей. Но никто никогда не видел его в обществе полковника Константинова, хотя встречались они довольно часто – то в курортном городе, то в Москве, то в иных самых неожиданных местах. Беседы их всегда были коротки и постороннему человеку непонятны.
Впрочем, посторонние их никогда и не слышали. Полковник и журналист всегда общались исключительно наедине.
Ехали молча. Маша сидела на переднем сиденье, сжавшись в комок, глядя перед собой в одну точку. Сарай с бандитами остался позади. Старая горная дорога сужалась, шла сквозь низкорослую сосновую рощу. Пушистая, пронизанная солнцем хвоя иногда мягко задевала боковые стекла.
– Сейчас начнется серпантин, – сказал Вадим, – пристегнись, пожалуйста.
Продолжая глядеть перед собой, Маша нащупала ремень безопасности, вытянула его, защелкнула пряжку.
– Хочешь, я включу музыку?
Она слабо кивнула и опять не сказала ни слова.
Он открыл «бардачок», выбрал из нескольких кассет старую, с песнями Джо Дассена, заодно достал сигареты.
Теплый хрипловатый голос французского шансонье запел о маленьком кафе в Люксембургском саду. Вадим вдавил зажигалку в приборный щиток.
– Можно мне тоже? – еле слышно произнесла Маша.
Он обрадовался, что она наконец подала голос. Значит, не так все страшно. Одна из самых неприятных реакций на шок – речевой ступор. Ведь с того момента, как он отклеил скотч с ее губ, она не сказала ни слова, ни звука не издала. Он развязывал веревку на ее запястьях, натягивал на нее свитер, выводил из сарая, усаживал в машину. Она молчала и смотрела в одну точку. Но тогда ему было не до ее психического состояния.
«Ничего, оклемается», – подумал он, давая ей прикурить.
Она курила короткими, жадными затяжками. Он заметил, как дрожит у нее рука. Увидел грязную ладонь в кровавых царапинах.
– Где это ты так? – спросил он.
Она нервно сглотнула и прошептала:
– Простите, я не могу сейчас говорить... Потом...
Маше было невыносимо трудно не только говорить, но и думать. Она все еще чувствовала на себе потную тушу бородатого чеченца, в ноздрях стоял кислый запах из его рта, тело ныло от ощущения тошного, звериного ужаса, унизительной беспомощности. Ей казалось, какая-то часть ее души так и осталась валяться там, в сарае, на заплеванном полу и никогда она уже не сумеет собрать себя воедино, стать прежней.
Она понимала, что все кончилось хорошо, самого страшного с ней не произошло, надо вздохнуть с облегчением и сказать спасибо этому седому голубоглазому человеку. Если бы не он... Лучше не думать, что произошло бы, если бы не он.
Конечно, девятнадцать лет своей жизни Маша провела не в теплице, не под стеклянным колпаком. Но для нее с детства существовали как бы два мира. Они были параллельными и никогда не пересекались.
Она родилась и выросла в самом центре Москвы, ее мир состоял из старых уютных дворов и переулков, которые создавали иллюзию отдельности и защищенности. В этом отдельном и защищенном мире были мама, папа, дедушка, школьные и институтские друзья, театр, танец, классическая литература. Маша могла нервничать и переживать из-за ссор с родителями, из-за того, что плохо готова к завтрашнему экзамену или руководитель творческой мастерской в пух и прах разнес выдуманную ею психологическую трактовку какого-нибудь этюда. Самым важным, сверхценным в этом ее маленьком мире был человек с его тонкой и сложной душой, мыслями, чувствами, оттенками чувств.
Рядом существовал совсем другой мир. Там гориллоподобные ублюдки матерились у коммерческих ларьков, проститутки с пустыми глазами зябли ночами у «Палас-отеля», мчались джипы и «Мерседесы» с затемненными стеклами, сшибали все на своем пути, обдавая прохожих грязью. Там, в параллельном мире, стреляли, резали, насиловали, там лилась кровь, торговали наркотиками, всякие солнцевские и болдинские группировки наезжали друг на друга, там шла чеченская война. Человеческая жизнь не стоила там ничего и шкала ценностей была совсем другая.
Маша искренне верила, что ее собственный уютный мир и этот, страшный, параллельный, не пересекаются нигде и никогда, существуют каждый сам по себе.
И вот сейчас параллельный мир навалился на нее сопящей тушей бородатого чеченца. Оказалось, что человек со всеми его философскими, космическими сложностями, с его глубокой, неповторимой душой может быть запросто растоптан, уничтожен, распят на заплеванном полу, превращен в беспомощное животное. Машу как будто навсегда изваляли в вонючей грязи.
Грязь въелась в кожу, и никогда теперь не отмыться.
Далеко внизу открылось спокойное яркое море. Справа шел отвесный слоистый склон горы. В окно пахнуло йодом и эвкалиптом. Машина плавно вписывалась в зигзаги и повороты серпантина. Мягкие солнечные блики щекотно скользили по грязным Машиным щекам.
Она пока не задумывалась, куда они едут и что будет дальше, кто такой этот Вадим Николаевич, почему он дважды оказался в нужном месте и в нужное время. Правда, о первом случае сейчас и вспоминать смешно. Те, в цветастых рубашках, наверняка отпустили бы ее. Покуражились и отпустили бы. Это просто такой способ заигрывания. Еще вчера эти приставания на улицах и на пляже казались ей настоящим кошмаром. А сейчас и вспоминать смешно.
Рядом с Вадимом Николаевичем она чувствовала себя в безопасности. Пока важно только это. Прежде всего надо как-то унять изматывающую сильную дрожь.
Закрыв глаза, Маша откинулась на мягкую спинку сиденья. Она вспомнила, как преподаватель актерского мастерства Сергей Усольцев учил их расслабляться и отключаться. «Это помогает не только перед спектаклем, но и в обычной жизни, когда очень худо, – говорил он. – Вместо того чтобы трястись в истерике, надо закрыть глаза, дышать глубоко и спокойно. Надо найти свой личный звуковой код расслабления. Для этого годится любой текст, лучше стихотворный, и обязательно очень красивый и глубокий по смыслу. У меня, например, это Тютчев, строчки из стихотворения на смерть Денисьевой: „Ангел милый, слышишь ли меня?“ У кого-то, я знаю, это начало первой главы „Евгения Онегина“. Вот к следующему занятию найдите каждый для себя такие строчки».
Маша выбрала стихотворение Баратынского «Пироскаф».
Много мятежных решил я вопросов,
Прежде чем руки марсельских матросов
Подняли якорь, надежды символ!
Не открывая глаз, она попыталась повторить про себя эти строчки, потом стала вспоминать стихотворение целиком. Отключиться и расслабиться не удалось, но дрожь прошла, стало намного легче. Ритм стихотворения стал для нее сейчас чем-то вроде лекарства.
Папа говорил: «Русская поэзия ко всему прочему еще и отличное психотропное средство. Меня, например, из любого житейского дерьма всегда за уши вытягивает Пушкин».
«Когда читаешь про себя стихи, уже не чувствуешь себя бессмысленным, растоптанным животным, – думала Маша, – но по-настоящему я убедилась в этом только сейчас. Теперь я знаю, что параллельные миры запросто могут пересечься – в любой точке, в любую минуту. Не только в геометрии Лобачевского, но и в обычной жизни».
Маша открыла глаза, когда «Тойота» остановилась у железных ворот. Вадим вышел из машины, отпер ворота, опять сел за руль и, въехав в небольшой двор, запер их изнутри.
– Ты, наверное, прежде всего хочешь принять душ? – спросил он, когда они вошли в гостиную одноэтажного кирпичного дома.
– Да, – кивнула Маша, – если можно.
Он провел ее в ванную, зажег свет. Все сверкало белым кафелем и стерильной чистотой.
– Вот здесь чистый халат, полотенца, в общем, сама разберешься.
Оставшись одна, заперев дверь на задвижку, Маша решилась повернуть лицо к большому зеркалу над раковиной. Из зеркала глянуло на нее нечто невообразимое: спутанные, лохматые волосы, щеки в разводах копоти, чужие, сумасшедшие глаза.
Стягивая через голову свитер, брезгливо сбрасывая разодранную майку, она вдруг подумала о том, что надо будет обязательно перестирать все вещи, они валялись на заплеванном полу в сарае, ни одну из них она надеть на себя не сможет.
«И в рюкзаке все грязное, и джинсы грязные, и свитер. Все придется стирать. Интересно – где? Здесь, в чужом доме, неудобно».
Ткань джинсов плотно присохла к разбитой коленке. Маша попыталась размочить теплой водой, разозлилась, отодрала так. Было очень больно, но она даже не поморщилась.
«Лучше бы вообще все это выкинуть, – рассуждала она, стоя под горячим душем, – но рука не поднимется. Почти все вещи шила и вязала мама. Как же я выкину? Придется стирать. И потом, надо ведь в чем-то до Москвы доехать».
Намыливая голову шампунем, она все-таки не сдержалась и заплакала. Слезы текли сами собой, смешивались с теплой водой, с пеной шампуня. Они были злые, отчаянные, но не соленые, совсем пресные от воды, с противным мыльным привкусом.
Вытираясь и кутаясь в мягкий махровый халат, она все еще продолжала плакать. Потом провела ладонью по запотевшему зеркалу, вгляделась в свое бледное, осунувшееся, но уже совершенно чистое лицо и тихонько сказала вслух своему отражению:
– «Много мятежных решил я вопросов...»
В маленькой уютной гостиной на журнальном столе стояла ваза с фруктами, тарелка с красиво разложенными разноцветными бутербродами, высокая бутылка коньяка, две рюмки. Рядом слышался тихий звон посуды и какой-то утробный механический гул. Там была кухня и работала стиральная машина. Через минуту на пороге появился Вадим.
– С легким паром, Машенька, – весело сказал он, – знаешь, я подумал: лучше постирать все твои вещи из рюкзака. Они все-таки на грязном полу валялись. Ты не волнуйся, ничего не полиняет. У меня есть специальный режим в стиральной машине.
– Спасибо, – растерянно улыбнулась Маша, – только ведь пока все постирается, высохнет... Я так и буду ходить в вашем халате?
– А тебе что, надо срочно куда-то идти?
– Нет...
– Я забыл тебя спросить, ты очень есть хочешь? Если очень, я могу приготовить что-нибудь существенное. Ну что ты стоишь? Садись.
– Спасибо. Не надо ничего готовить. – Маша села в глубокое кресло у журнального стола.
– Я живу один, себе ничего не готовлю, – сказал Вадим, усаживаясь напротив. – Иногда ем в ресторане. А дома только бутерброды, чай. Но ты у меня гость, а гостя надо хорошо покормить.
– Я малоежка, – пробормотала Маша, – мне хватит бутербродов.
Вадим открыл коньяк, разлил по рюмкам:
– Давай, Машенька, выпьем с тобой за все, что хорошо кончается.
Они чокнулись, каждый сделал по большому глотку.
– У нас с тобой есть два повода выпить: за знакомство и на брудершафт. Не возражаешь? – Вадим долил коньяку в рюмки.
– Нет, я не возражаю, – слабо улыбнулась Маша, – но мне кажется, если я еще немного выпью, сразу усну.
– И хорошо, Машенька. Тебе надо поспать обязательно. Только поешь сначала.
Маша взяла бутерброд с сыром, откусила, но почувствовала, что есть не может. А вот коньяк шел хорошо, хотя обычно она не пила спиртного.
– Давай теперь за знакомство, – сказал Вадим.
Маша сделала еще глоток и почувствовала, что глаза закрываются.
– Я вижу, ты уже засыпаешь, – заметил Вадим, – я тоже должен сегодня лечь пораньше. Завтра у меня суточное дежурство в больнице, с восьми утра.
– Вы врач? – спросила Маша.
– Хирург, – кивнул он. – Как, проживешь здесь сутки без меня? Не бойся, никто не придет.
– Проживу.
– Давай уж сразу пить на брудершафт. Только учти, целоваться придется. Не возражаешь?
– Нет, – улыбнулась Маша, – не возражаю.
Чуть приподнявшись в креслах, они переплели руки с рюмками, выпили на брудершафт, Вадим осторожно коснулся губами Машиной щеки.
– Теперь только «ты», и никакого отчества. Хорошо?
Маша кивнула.
Он отвел ее в спальню, уложил в постель, а сам убрал со стола, помыл посуду, вытащил из стиральной машины ее вещи и развесил их во дворе на веревке. Потом постелил себе на диване в гостиной, но очень долго не мог заснуть.
* * *
На углу Студенческой улицы, напротив высокой чугунной ограды санатория «Солнечный берег» сидела на раскладном стульчике маленькая сухонькая старушка. Перед ней стояла большая плетеная корзина, наполненная колотым фундуком. Крупные, крепкие орехи шли нарасхват. Стакан фундука у бабушки стоил в полтора раза дешевле, чем на рынке.
Таких старушек было много в курортном городе. На каждой автобусной остановке, у больших магазинов, у ворот санаториев и пансионатов они раскладывали свой нехитрый товар, плоды собственных садов-огородов. Торговали семечками, зеленью, орехами, ягодами, сами варили и сушили ярко-красную и коричневую чурчхелу. Место на рынке стоило дорого, у бабушек, живущих на одну пенсию, каждая копейка на счету.
Городские власти и мафия старушек терпели, не трогали. Правда, у самых ворот «Солнечного берега» торговать не позволяла охрана по приказу директора санатория. А напротив, на углу Студенческой улицы – пожалуйста, сиди и торгуй на здоровье.
Арсюша любил орехи, особенно фундук. Каждый раз, проходя мимо старушки, Глеб Евгеньевич покупал для него кулек и приветливо перебрасывался с «ореховой бабушкой» парой слов. Старушка сворачивала свои кулечки-пирамидки из старых газет, но Арсюше всегда насыпала орешки в тетрадные странички в линеечку, исписанные крупным детским почерком. Ни мальчик, ни Елизавета Максимовна не обращали на это никакого внимания. Они не замечали, что Константинов никогда не выбрасывает кульки из-под съеденных орехов, а быстро прячет в карман.
Однажды, купив у бабушки очередной кулек фундука, Лиза неожиданно сказала, когда они отошли на некоторое расстояние:
– Лет через двадцать я тоже стану такой вот старушкой, сухонькой, интеллигентной, с белой «фигушкой» на затылке.
– А что такое «фигушка»? – хором спросили Арсюша и Глеб.
– Пока волос на голове много, это называется пучок или узел. А когда мало – «фигушка», – объяснила Лиза, – только я буду торговать хризантемами, – добавила она со вздохом.
– Ты, мамочка, не будешь ничем торговать, – возразил Арсюша, – во-первых, ты не коммерческий человек, а во-вторых, тебе придется внуков нянчить. Я собираюсь жениться рано и детей иметь много.
– Сколько именно? – поинтересовался Глеб.
– Трех как минимум. Так что готовьтесь!
«Ореховая бабушка» тоже не была коммерческим человеком и на своих орешках зарабатывала совсем мало. Сидя на складном стульчике, она наблюдала за прохожими, запоминала лица, вслушивалась в обрывки разговоров. На тетрадных листочках в линейку, из которых она так ловко скручивала кульки для Арсюши, Тамара Ефимовна Денисова, давний агент военной разведки, писала свои донесения полковнику Константинову.
Когда-то Тамара Ефимовна работала гримером в областном драмтеатре. Сейчас ей было семьдесят семь, она давно ушла на пенсию. С военной разведкой Денисова сотрудничала еще со времен Отечественной войны, была связником в партизанском отряде, имела богатое ветеранское прошлое, несколько боевых наград, в том числе и орден Отечественной войны первой степени.
Став заслуженной пенсионеркой, Тамара Ефимовна продала свою однокомнатную квартиру и купила небольшой домик с садом и огородом. Конечно, такой добротный домик с участком в четыре сотки в тихом районе города-курорта, неподалеку от моря, стоил куда дороже однокомнатной квартиры в панельной «хрущобе». Но в покупке помогла ее давняя секретная служба, и с этой службы Тамара Ефимовна уходить на пенсию не собиралась.
Муж ее умер давно, единственная дочь вышла замуж за ленинградца и переехала к мужу много лет назад. А в этом году в Петербурге у Тамары Ефимовны родился правнук, которому уже исполнилось три месяца. Иногда к ней приезжала отдыхать вся большая семья дочери, иногда – только взрослые внуки, а в этом сентябре обещали привезти дней на десять правнука Егорушку, и Тамара Ефимовна радовалась, что не выкинула при переезде старенькую детскую кроватку своей дочери. Эту кроватку смастерил ее покойный муж Егор Иванович. Такую не купишь в самом лучшем магазине. Тамара Ефимовна заранее достала ее с чердака и привела в порядок.
Несмотря на свои семьдесят семь лет, Денисова была полна сил, дом сверкал чистотой, а более ухоженного садика с цветником и орешником не было ни у кого на Студенческой улице. Но главное, она была блестящим наружником, имела острое зрение, чуткий молодой слух и превосходную память на лица. Как бывший театральный гример с тридцатилетним стажем работы, она запоминала такие детали, умела дать такой точный словесный портрет, добавив ряд тонких психологических замечаний, что полковник Константинов, работавший с ней уже десять лет, не мог нарадоваться на свою «ореховую бабушку».
Правда, весь блеск ее наблюдательности проявлялся исключительно в устной речи, при личном общении. Тамару Ефимовну следовало хорошенько разговорить, раззадорить вопросами. Письменные ее донесения были добросовестны, но скупы, сухи и редко содержали что-нибудь интересное.
Арсюша очень удивился, не обнаружив Тамару Ефимовну на ее обычном месте:
– Куда-то пропала «ореховая бабушка»!
– Ну мало ли, может, к ней внуки приехали или чувствует себя плохо – все-таки пожилой человек, – пожала плечами Елизавета Максимовна.
Глеб Евгеньевич промолчал. Он знал, что «ореховая бабушка», слава Богу, здорова и внуки с маленьким правнуком приедут к ней только в сентябре. По его срочному приказу Тамара Ефимовна перебралась со своей корзинкой в другое место. Теперь она разложила стульчик напротив ворот Управления торговли, офиса, в котором находился рабочий кабинет кандидата в губернаторы Вячеслава Иванова.
Ставить серьезную «наружку» к квартире и даче Иванова было рискованно – «смежники» моментально бы напряглись, да и чеченцы тоже не слепые. Кроме того, Константинов понимал – никаких прямых контактов в оставшиеся до выборов дни у Иванова не будет. «Ореховой бабушке» было поручено отследить и вычислить чужих наружников, главным образом чеченских. Уж они-то должны стеречь офис своей марионетки.
В том, что Матвей Перцелай прав и именно Иванов является искомой марионеткой, полковник почти не сомневался. Помимо Мотиной информации и его «метода исключения», на эту версию работало еще и собственное чутье Константинова, подкрепленное подробностями личной жизни и финансовых дел Вячеслава Иванова.
Взять кандидата можно было в любой момент, и доказать его продажность не составило бы труда. Но арест Иванова мог спугнуть куда более серьезную птицу – Ахмеджанова. Поэтому полковник не спешил. Он не надеялся проследить бандита через марионетку – Ахмеджанов не дурак, через Иванова он не станет светиться. Но вот наблюдать за своей «покупкой» должен весьма пристально – не только через служащих офиса, но и через наружников. И при таком раскладе «ореховая бабушка» незаменима. Она могла угадывать людей, вычислять на расстоянии и замечала такие детали, какие не мог заметить никто, кроме нее.
Никому не приходило в голову заподозрить в сухонькой интеллигентной старушке, торгующей орехами, секретного агента военной разведки. Таких старушек не стесняются, их чаще всего не замечают – если только не хотят купить орехов.
Несколько агентов-наружников по очереди вели капитана местной милиции Анатолия Головню. Из их докладов пока удалось понять только то, что Головня используется в качестве «шестерки» и контакты его замыкаются лишь на пивном баре «Каравелла».
Маша проснулась и в первые минуты не могла понять, где находится. Она села и огляделась. В комнате был полумрак, шторы задернуты.
«Интересно, сколько же я проспала?» – подумала она, сладко зевая и потягиваясь. На тумбочке у большой деревянной кровати светился циферблат электронных часов. Они показывали половину двенадцатого.
Маша встала, прошлепала босиком по мягкому паласу, подошла к окну и раздвинула тяжелые шторы. В глаза ударил солнечный свет.
В гостиной на журнальном столе лежала записка.
«Машенька! Доброе утро. Кофе и чай – в буфете, еда в холодильнике. На пляж ты можешь пройти через калитку за домом, только обязательно запри дверь. Ключ на полочке в прихожей. Видеомагнитофон и телевизор включаются от пультов. На всякий случай – номер телефона ординаторской. Не скучай. Вадим».
Не успела Маша дочитать записку, затренькал звонок. Маша вздрогнула. Телефон лежал тут же, на журнальном столе.
– Алло! Машенька! – услышала она знакомый голос. – Как тебе спалось? Как ты себя чувствуешь?
– Доброе утро, Вадим Николаевич. Спасибо, все хорошо.
– Ты давно проснулась?
– Только что.
– Обязательно позавтракай как следует. Ты вчера целый день ничего не ела. Я забыл тебе написать: в буфете только растворимый кофе. Есть еще молотый, в мельнице у плиты.
– Спасибо вам большое, Вадим Николаевич...
– Машенька, мы же с тобой уже выпили на брудершафт вчера вечером. Давай на «ты» и без отчества. Все, мне надо идти, у меня сейчас операция. Я позвоню тебе, когда освобожусь.
Положив телефон на стол, Маша отправилась в ванную.
На полочке над раковиной она заметила нераспечатанный футляр с новой зубной щеткой и вспомнила, что пакет с ее туалетными принадлежностями так и остался валяться на полу в сарае. Когда трясли рюкзак, пакет выпал, порвался, мыло, паста, зубная щетка – все рассыпалось по полу.
Маша вдруг с удивлением обнаружила, что вчерашний кошмар теперь кажется каким-то далеким страшным сном. Она все отлично помнила, каждая минута, проведенная в чеченском сарае, накрепко, надолго врезалась в память. Но исчезло чувство страха и унижения. Появилось нечто новое, совсем другое: здоровая злость.
«Что, съели меня? Растоптали? Сволочи безмозглые, твари бездушные! Я вам еще покажу!» – думала Маша, пока варила себе кофе в маленькой джезве.
Что и как она им «покажет», Маша, конечно, не знала. В самом деле, что и кому она может «показать»? Она не супермен, не агент ФСБ, не умеет стрелять даже из рогатки и уж тем более – прыгать с парашютом во вражеский тыл, не владеет ни каратэ, ни дзюдо. «Тоже мне, бравый десантник Маша Кузьмина!» – усмехнулась она, доставая из холодильника сыр и масло и усаживаясь за кухонный стол.
«И вообще, – строго сказала она себе, – надо занять у Вадима сто семьдесят тысяч, купить билет в плацкартный вагон и ехать в Москву. Хватит, отдохнула! Интересно, с каким лицом ты будешь просить у него эти сто семьдесят тысяч? – ехидно спросила она себя. – Человек тебя дважды спас, причем вчера – рискуя собственной жизнью. Деньги, между прочим, заплатил немаленькие, пятьсот долларов. Сто семьдесят тысяч ты ему вернешь, оставишь свой адрес, телефон. В Москве он наверняка бывает. А пятьсот долларов? Сразу это невозможно, только постепенно...»
Маша почувствовала, что в ней сейчас спорят два совершенно разных человека. «Раздвоение личности, – констатировала она, – а дальше – шизофрения!»
«Ты же ничего о нем не знаешь, – говорила личность номер один, ханжа и зануда, – ты думаешь, он просто так тебя спас, из благородных побуждений? Просто так ничего не бывает. Может, он вообще с этими бандитами связан, может, он тебя купил у них за пятьсот долларов?»
«Ага, в качестве рабочей силы, чтобы ты ему здесь полы мыла. Он ведь один живет, – посмеивалась личность номер два, значительно симпатичней. – Человек отбил тебя у бандитов, привез к себе домой, накормил, напоил и спать уложил в свою постель. И заметь, сам рядом не прилег, пожалел тебя, дал оправиться от шока. Ему надо спасибо сказать, а не выдумывать всякие гадости».
«Не прилег, так приляжет, – не унималась личность номер один, – приедет завтра утром со своего дежурства, поспит чуток – и вперед с песней. Ты должна сразу сказать, что уезжаешь. Ты, конечно, ему благодарна, но не до такой же степени!»
Спор с самой собой стал надоедать. Она поняла, что все равно не сумеет принять решение, пока не увидит еще раз гостеприимного хозяина дома. Уезжать следовало прямо завтра, это она знала совершенно точно, но также точно чувствовала, что уезжать не хочется, и пока не желала себе признаваться почему, только повторяла про себя, то грустно, то весело: «Он старый, он ровесник моего папы, я его совершенно не знаю, и вообще...» Зазвонил телефон.
– Кыто это? – услышала она в трубке чужой тяжелый бас.
– А с кем, простите, я говорю? – вежливо поинтересовалась Маша.
Последовала долгая пауза, она хотела уже нажать кнопку отбоя, но услышала:
– Гыдэ докытар? – У говорившего был сильный кавказский акцент, прямо-таки пародийный.
– Может, вы сначала все-таки представитесь? – предложила Маша.
– Мынэ нада докытар! – ответили ей.
– Вадима Николаевича нет дома. Если хотите что-то передать, скажите. Я передам.
– Ты кыто и чего зыдэс делаишь? – спросили в ответ.
– Знаете, – вздохнула Маша, – я не привыкла беседовать в подобном тоне.
Она нажала кнопку отбоя.
Следующий звонок прозвучал через пятнадцать минут, когда Маша снимала с веревки во дворе свои высохшие вещи. На этот раз ее назвали по имени. Разговаривал с ней совсем другой человек, тоже кавказец, но почти без акцента.
– Ты Маша? – спросили ее.
– Да, я Маша. Здравствуйте.
– Я друг доктора. Где он?
Удовлетворившись хотя бы таким безымянным представлением, она ответила:
– Вадим Николаевич в больнице, на дежурстве.
– А ты ему кто?
– Я у него в гостях.
– Я спрашиваю, кто ты ему?
Мало того что звонившие не произносили ни «здравствуйте», ни «пожалуйста-спасибо», будто этих слов в русском языке не существовало вовсе, они еще откровенно хамили.
– Если вы хотите что-то передать Вадиму Николаевичу, я передам. А нет – всего доброго.
В ответ раздались частые гудки. Маше стало не по себе. Она набрала номер ординаторской, оставленный Вадимом в записке. Приятный женский голос ответил, что Вадим Николаевич в операционной и появится часа через два, не раньше.
– Передайте ему, пожалуйста, что звонила Маша.
– Хорошо, обязательно, – пообещали ей, и в голосе невидимой собеседницы послышалось легкое удивление.
Маша решила не подходить к телефону в течение следующих двух часов, вернулась во двор снять с веревки вещи. Случайно взгляд ее упал на щель между металлическими секциями забора. Кто-то смотрел в эту щель, откровенно, нагло глазел, пуская сигаретный дым.
Маша автоматически отметила, что ворота заперты. Ключ висел там же, на крючке. Двор был отделен от улицы высоким металлическим забором с узкими просветами между квадратными секциями.
«Высота забора около двух метров, – быстро соображала Маша, – перелезть сложно, но при желании можно. Соседние участки справа и слева отгорожены таким же забором, домов не видно, только крыши торчат. Есть там кто-нибудь или нет – неизвестно. Калитка за домом!» – спохватилась она.
За дом Маша еще не заглядывала, но помнила из записки Вадима, что там есть калитка, ведущая к пляжу. Что лучше сделать сначала? Сбегать проверить, заперта ли калитка, или?..
Тот, кто глядел в просвет, загасил сигарету и продолжал наблюдать за Машей, даже не пытаясь спрятаться.
Шагнув к забору, она произнесла громко и решительно:
– Добрый день. Я могу вам чем-нибудь помочь?
Не ответив ни слова, человек исчез, скрылся за металлической секцией. Но не ушел совсем, Маша чувствовала, он здесь.
– Да вы не прячьтесь, не стесняйтесь, – продолжала она, – может, у вас проблемы какие-нибудь?
Из дома послышался телефонный звонок, но Маша подходить не собиралась, два часа еще не прошли.
– Не хотите разговаривать, не надо, – в последний раз обратилась она к человеку за забором, – уходите отсюда! Подглядывать стыдно!
Разумеется, ей ничего не ответили. А телефон в доме продолжал нудно тренькать.
Забор за домом был точно таким же высоким, металлическим. За ним, совсем близко, слышался шум моря и веселые гулкие голоса с пляжа. Калитка оказалась запертой. И ключ торчал изнутри.
Маша вернулась в дом, заперла дверь, проверила, все ли окна закрыты на задвижки. День был очень жаркий, вскоре в закупоренном доме стало нечем дышать, но Маша решила не открывать ни одной форточки и никуда не выходить. Во всяком случае, до тех пор, пока не поговорит с Вадимом.
Она нашла утюг и гладильную доску, не спеша перегладила все вещи, вымыла со стиральным порошком тряпочные китайские тапочки. Она только сейчас вспомнила, что в сарае, кроме мыла и зубной щетки, осталась валяться ее маленькая сумочка. Ладно, не жалко. Сумочка старая, совсем дешевенькая, из кожзаменителя. Что там было? Документы взял Вадим, это она помнила точно. Что еще? Щетка для волос, зеркальце, тюбик гигиенической губной помады, в общем, мелочи...
«Там мог быть мой читательский билет, из Театральной библиотеки! На билете обо мне написано практически все: фамилия, телефон, домашний адрес, серия и номер паспорта, название института, курс. Однако зачем так много знать о человеке, которого они и человеком-то не сочли, хотели изнасиловать и использовать в качестве бесплатной рабочей силы? Один из звонивших назвал меня по имени. Вряд ли Вадим успел предупредить кого-то, что здесь гостит некая Маша. И тем более вряд ли он стал бы предупреждать этого „друга“ с кавказским акцентом...»
Телефон зазвонил опять. Прошел всего час. Маша трубку не взяла, но все время, пока звучало назойливое однообразное треньканье, сидела, стараясь не дышать, будто маленький кнопочный телефон – живое, чрезвычайно злобное и опасное существо.
Когда звонки наконец затихли, ей удалось успокоиться и собраться с мыслями. «Допустим, Вадим все-таки предупредил этого „друга“, но в таком случае он должен был сказать „другу“ и о суточном дежурстве. Если „другу“ известно, что доктора сутки не будет дома, зачем он звонит сюда, а не в больницу?»
И тут послышался настойчивый автомобильный сигнал. Судя по звуку, машина стояла у самых ворот.
– Как мне это надоело! – громко вслух сказала Маша. – Чего они от меня хотят? Выманить из дома? Когда я выходила во двор, на меня просто смотрели, не трогали. Еще раз хотят посмотреть? Нервы треплют?
Она решительно отперла входную дверь. Гудки тут же прекратились. Стало очень тихо. Маша подошла к просвету в заборе, заметила сквозь узкую щель заляпанные грязью задние колеса, брезентовый верх. У ворот стоял военный «газик». Приблизив лицо к просвету, она пыталась разглядеть номер – на всякий случай. И тут же отпрянула. Прямо напротив, со стороны улицы, практически нос к носу возникла улыбающаяся физиономия с пошлыми черными усиками.
– Слюшай, пачыму такой сырдытый? – спросила физиономия.
– Что вам нужно?
– Мынэ докытар нужино!
– Его нет. Он в больнице, на дежурстве. – Ей казалось, что эту фразу она повторяет в десятый раз за сегодняшний день.
– А ты кыто? Кыто ты докытару?
– Послушайте, – тяжело вздохнула Маша, – ну почему вам это так интересно? Вы сами ему кто? Сват? Брат? Родная мать или законная жена?
– У докытара нэт жины. – Машин напор немного смутил усатого. – Слушай, нэ сэрдысь, сыкажи толко, давыно зынаишь докытар?
– Всю жизнь. С раннего детства. Устраивает?
– Так бы и сыказала сыразу! – почему-то обрадовался усатый. – Слушай, тыбэ будыт он званит?
– Обязательно.
– Мынэ дашь с ным пагаварыт?
– Ладно, – согласилась Маша, – я дам вам с ним поговорить.
«Может, я зря паникую? – размышляла она, возвращаясь в дом. – Может, эти никакого отношения к тем не имеют? Действительно, пусть Вадим сам поговорит с усатым. Может, они отстанут?»
Вадим позвонил через двадцать минут.
– Все в порядке, Машенька, – сказал он, выслушав ее рассказ об осаждающих дом кавказцах, – это связано с моей работой. Они просто не могут дозвониться в больницу, а им срочно нужна консультация по поводу одного больного.
– Откуда они знают мое имя?
– Машенька, я приеду завтра утром и все тебе объясню. Ты их не бойся и не нервничай. Хорошо?
– Хорошо, – неуверенно согласилась Маша, – усатый ждет у забора. Он просил, чтобы я дала ему с вами... с тобой поговорить.
– Отнеси ему телефон.
– Что, ворота открыть? Впустить его?
– Нет, можешь передать через забор. Дотянешься?
– Попробую.
Усатый стоял, почти втиснув лицо между секциями забора. Привстав на цыпочки, Маша передала ему трубку. Он быстро заговорил на своем языке, только иногда мелькало русское слово «температура».
Наконец усатый вернул ей телефон.
– Машенька, тебя больше никто беспокоить не будет, – услышала она голос Вадима, – можешь открыть окна, сходить на пляж. Обязательно пообедай. Я тебе позвоню вечером.
Примерно через полчаса Аслан Ахмеджанов уже знал, что девушка Маша, которую сняли с товарняка люди Ахмеда, – старая знакомая доктора, а не просто случайная бродяжка. Следовательно, доктор имел полное моральное право поступить так, как поступил. И говорить тут не о чем. Ахмед был не прав. Непонятно, конечно, как она оказалась в товарняке, но при желании можно выяснить и это, и все остальное про Кузьмину Марию Львовну, студентку актерского отделения Высшего театрального училища имени Щепкина.
А еще через десять минут позвонил сам Ревенко. Он звонил фельдшеру, и тот задал ему несколько вопросов по поводу одного из раненых.
Слушая короткие реплики фельдшера, Ахмеджанов закурил, стал по давней привычке пускать ровные колечки дыма в потолок и подумал о том, что, в конце концов, доктор тоже мужчина, в доме его очень давно не появлялось ни одной женщины. Что ж тут странного, если наконец появилась?
На тумбочке у кровати рядом с пепельницей и помятой пачкой сигарет «Кэмел» валялась маленькая синяя книжечка – читательский билет Театральной библиотеки.
* * *
Они не знали расписания его дежурств в больнице. График был скользящий, врачи иногда подменяли друг друга. По давней договоренности, в больницу с гор никогда не звонили, связывались с ним только по его сотовому телефону. Они еще полтора года назад согласились, что в ординаторскую им лучше не звонить.
С температурой у раненого он разобрался. Ехать в горы сейчас не было необходимости. И слава Богу. Он устал за эти сутки, провел не две, а три операции, одна – очень тяжелая. Но главное, ему хотелось домой. Там Машенька. Даже не верилось, что он приедет, а она там.
«Вот возьмет и скажет: я хочу в Москву, к маме с папой, – грустно подумал он, – потребует, чтобы я отправил ее домой сегодня, сейчас».
К воротам он подъехал в девять утра. В доме стояла тишина, он вошел, стараясь не шуметь, заглянул в спальню. Машенька спала, но тут же открыла глаза, села на кровати, улыбнулась и произнесла:
– Доброе утро. Я сейчас встану. Вам... тебе, наверное, надо поспать после дежурства. А на диване в гостиной неудобно.
– В любом случае я должен сначала принять душ, – улыбнулся он в ответ.
Она заметила, что он выглядит очень усталым, щеки за ночь заросли колючей щетиной. Голубые глаза смотрели ласково и растерянно.
«Нет, не стану я сейчас задавать все эти вопросы про бандитов, – решила она, – пусть отдохнет, выспится после бессонной ночи».
– Трудное было дежурство? Тяжело не спать всю ночь? – спросила она.
– Я привык. – Неожиданно он сделал шаг к ней, осторожное, но в то же время стремительное движение.
Маша внутренне сжалась: «Вот сейчас... Он подойдет, сначала сядет на кровать. Конечно, ведь я на его кровати, в его доме!»
– Может, я пока завтрак приготовлю? – предложила она тихо. – Ты примешь душ, а я приготовлю. Что ты любишь есть утром?
Несколько секунд он смотрел на нее молча. «В самом деле, зачем я так спешу? Она должна хоть капельку ко мне привыкнуть, хоть немного».
– Да, Машенька, приготовь. Что тебе самой хочется, то и приготовь.
Он сделал еще шаг, осторожно провел ладонью по ее щеке, легко прикоснулся губами к краешку ее губ и почувствовал, как она напряженно застыла. Сделав над собой усилие, он отошел от кровати и отправился в ванную.
«Нет, надо все-таки уезжать, – думала Маша, взбивая вилкой три яйца с холодным молоком, – вот позавтракаем сейчас, и я ему скажу. Я просто скажу, что мне надо домой, меня ждут родители.
Так ведь нельзя, в самом деле! Я его совершенно не знаю, вторые сутки живу у него в доме. Даже не в нем дело, а во мне. Он всего лишь по щеке меня погладил, чуть-чуть губами притронулся, а у меня уже сердце закудахтало, как чокнутая курица, и голова поплыла. Вот с Саней ничего подобного не происходило и с тем первым мальчиком тоже. – Она вылила взбитые в пену яйца на раскаленную сковородку. – Я вообще никогда ничего подобного не чувствовала. Самое интересное, что уезжать мне вовсе не хочется. Именно поэтому придется уехать как можно скорее. Пока не поздно».
Когда Вадим вышел из ванной, стол на кухне был красиво накрыт. Маша нарезала огурцы и помидоры, поджарила в тостере белый хлеб, даже масло переложила из упаковки в масленку, чего сам Вадим никогда не делал. На сковородке ворчал нежно-желтый омлет, в джезве дымился крепкий кофе.
На Маше была длинная шелковая юбка, та самая, в которой он увидел ее в первый раз, и тонкая вязаная маечка без рукавов.
– Сегодня очень жарко, – сказала она, ловко скидывая омлет со сковороды на тарелку Вадиму.
– Ты ведь вчера так и не ходила на пляж? Вот сейчас позавтракаем и пойдем. Омлет потрясающий!
– Тебе кофе или чай? Я на всякий случай приготовила и то и другое. Чай заварила свежий.
– Налей мне, пожалуй, чайку. А почему ты сама не ешь ничего?
– Я не привыкла так рано. Я обычно завтракаю в институте, между первой и второй парой, в двенадцать часов. А дома никогда не успеваю. Всегда хочется поспать подольше.
– Машенька, а куда делся твой замечательный жених, который должен был приехать? – Вадим встал, налил в чашку кофе и поставил перед Машей, потом намазал маслом кусок поджаренного хлеба, положил сверху сыр и протянул ей на тарелке. – Ты все-таки поешь хоть немного, за компанию. И кофе горячего выпей.
– У жениха случился приступ аппендицита, – сообщила Маша, откусывая бутерброд, – сначала мы собирались поехать вместе. Но в последний момент ему дали роль на телевидении, в детской передаче. Есть такая передача «Вперед, за сказкой!», ему дали там роль вампира. Он не мог отказаться. – Маша отхлебнула кофе. – Мы решили, что я поеду одна, а он потом приедет. Но он не смог – из-за аппендицита.
– Ну что ж, две вполне уважительные причины – вампир и аппендицит. А он тебе действительно жених?
– То есть?
– Ну, ты за него замуж собираешься?
Маша засмеялась:
– За Саню?! Я вообще пока замуж не собираюсь. У нас так, вроде бы роман... Ну, как это обычно бывает в институте.
Она доела бутерброд, допила кофе и закурила. Вадим заметил, что тонкие пальчики ее левой руки выплясывают на столе какой-то причудливый танец. Он вдруг почувствовал, как она сильно нервничает, и удивился: лицо и голос при этом оставались совершенно спокойными.
– Вадим, – медленно и все так же спокойно произнесла она, – мне, наверное, лучше уехать.
Мне здесь очень хорошо, у тебя. Я страшно благодарна тебе за все, но пора и честь знать. Мне надо в Москву.
Повисла долгая напряженная пауза. Он отставил чашку с чаем, внимательно посмотрел на Машу, пытаясь встретиться с ней глазами. Но она отводила взгляд.
– Почему, Машенька? Я тебя чем-нибудь обидел? – Он накрыл ладонью ее руку. Пальчики успокоились и напряженно застыли под его ладонью. Но руки она не убрала.
– Что ты! Просто... Родители ждут и вообще...
– Когда именно тебя ждут родители? Сегодня? Завтра?
– Двадцатого.
– А сегодня только тринадцатое. Машенька, может, ты нежно любишь того мальчика Саню и никто другой для тебя не существует?
– Нет, не то. Совсем не то. – Маша вдруг почувствовала, что сейчас заплачет. Это получилось бы глупо и некстати.
– Я могу тебя прямо сегодня отвезти в аэропорт и посадить на московский самолет. Ты ничем мне не обязана. Хочешь домой – это твое право, ты взрослый, свободный человек. Но просто объясни мне – почему?
– Потому... – Маша еле сдерживала слезы.
«Ты дура и зануда», – с ненавистью сказала она себе, резким движением загасила сигарету, выдернула руку из-под ладони Вадима и встала из-за стола. Он сидел и молча смотрел на нее. Она старалась не встретиться с ним взглядом.
– Мне очень неудобно, – произнесла она каким-то деревянным голосом, – но ты не мог бы одолжить мне сто семьдесят тысяч? У меня ни копейки. Билет в плацкартный вагон стоит сто семьдесят тысяч. Я оставлю тебе адрес и телефон. Ты ведь бываешь в Москве? Я верну при первой возможности. И еще... где мой паспорт и студенческий?
– Твои документы лежат на каминной полке, в гостиной, – тихо сказал он, вставая, – поездом ты, конечно, не поедешь. Тем более плацкартным вагоном. С поездами у тебя плохие отношения.
– Но самолет стоит очень дорого, – возразила Маша все тем же деревянным голосом, – ты и так потратил на меня деньги. А плацкартный вагон – это не товарняк. Там есть милиция.
– Милиция – это серьезно, – кивнул он, – милиция тебя всегда защитит. Ты полетишь самолетом. Адрес и телефон можешь не оставлять. – Он вышел в гостиную, вернулся через минуту, держа в руке Машины документы и стодолларовую купюру.
– Это очень много, – сказала Маша, – билет на самолет стоит дешевле.
– Извини, других денег у меня нет. – Он положил паспорт, студенческий и купюру на кухонный стол.
«Рюкзак уже собран, – с тоской подумала Маша, – он лежит на кресле в гостиной».
Она взяла со стола документы и деньги, положила в карман юбки, вышла в гостиную, подхватила рюкзак, вспомнила, что там в наружном кармане должны лежать маленький отрывной блокнот и ручка, но ни того ни другого не было. «Теперь все равно, – равнодушно подумала она, – ему не нужен мой адрес».
– Может, ты позволишь отвезти тебя в аэропорт? – услышала она откуда-то издалека голос Вадима и застыла на пороге с рюкзаком в руках.
Слезы, которые все это время набухали в глазах, вдруг предательски покатились по щекам.
«Ты не только дура и зануда, но еще и истеричка!» – сказала она себе, а вслух спокойно произнесла:
– Прости меня, пожалуйста. Спасибо тебе. Я не смогу...
Она не договорила. Вадим подошел, легко подхватил ее на руки и, прикасаясь губами к ее губам, прошептал:
– Никуда я тебя не отпущу, Машенька...
Рюкзачок упал на пол.
Анатолия Головню всегда смущал момент передачи гонорара. Слишком уж просто и открыто хозяин «Каравеллы» Руслан отдавал ему в руки конверт с положенной суммой «зеленых». Головня каждый раз вздрагивал и озирался по сторонам. Страх заглушал радость от получения плотной пачки новеньких, вкусно пахнущих купюр.
Однажды он поделился своими опасениями с теми, кто ему платил:
– Так нельзя! Поймают меня, возьмут с поличным. Надо придумать другой способ, оставлять где-нибудь в секретном месте.
В ответ ему рассмеялись в лицо:
– Да у нас таких, как ты, – половина города! Что ж мы, для всех секреты будем придумывать? Мы тебе не американские шпионы. Не нравится – не бери!
Можно было бы и не брать. Но работать все равно придется, иначе пристрелят. Он не идиот, чтобы бесплатно рисковать.
Наверняка про половину города они загнули. Но четверть – точно работает на них. Та четверть, которая кормилась за счет абхазской мафии, теперь принадлежит чеченцам – с потрохами.
Но одно дело своя, домашняя мафия и другое, совсем другое дело – чеченцы. К тому же область теперь наводнилась агентами из столицы, чужаками-москвичами, и тебе МВД, и ФСБ, и ГРУ – они только и ждут, когда кто-нибудь из местных проколется. Как тут не нервничать? Как не трястись рукам, не колотиться сердцу – сто двадцать в минуту вместо положенных шестидесяти ударов? Да еще одышка, пот градом! Не скажешь же врачам на медкомиссии, мол, «что вы, товарищи медики, не болен я никакой щитовидкой. Нет у меня, как вы это называете, токсического зоба. Зоб у пеликана в зоопарке, а я просто на чеченцев работаю, выполняю всякие мелкие щекотливые поручения и боюсь, рано или поздно...».
Думая обо всем этом, Головня уже входил в «Каравеллу» – за очередным гонораром. Спускаясь вниз по лестнице, он с омерзением чувствовал, как прыгает сердце, потеют ладони и не хватает воздуху.
Охранники мрачно буркнули: «Привет». Капитан сел за столик, пытаясь унять сердцебиение. Ему сразу не понравилось, что в баре много народу. Нет, для обычного бара вовсе не много, заняты всего два столика. Но для «Каравеллы» это слишком.
Впрочем, посетители показались ему вполне приличными. За одним столиком два курортника средних лет хихикали и шептались о чем-то с молодой красивой девкой в короткой юбке – тоже, вероятно, курортницей. Девка сидела, закинув ногу на ногу, и ноги у нее были длинные, стройные, золотисто-смуглые.
Вид длинных загорелых ног, оголенных до последнего предела, всегда вызывал у капитана острое, неодолимое желание, почти эрекцию. Однако стоило вспомнить рыхлые белые ляжки собственной супруги – и сладкая судорога в паху проходила. Сейчас, глядя на ноги этой незнакомой девки, он сглотнул слюну, попытался, не напрягаясь и не отвлекаясь, вспомнить жену, но тут же почувствовал мощную эрекцию.
«Надо опять завести любовницу! – пожалев себя от души, решил Головня. – Пусть Надька, стерва, хоть лопнет от злости!»
Без любовницы Головня обходиться не мог, но жена Надежда следила за ним неусыпным оком истинной офицерши. Она моментально вычисляла и выслеживала очередную пассию капитана, заявлялась к красотке домой или на работу, устраивала оглушительные грязные скандалы, могла даже вцепиться в волосы. Красотки не желали терпеть оскорблений и жертвовать волосами ради скучных нежностей капитана. Не помогали ни дорогие подарки, ни шикарные рестораны. Очередная зазноба уходила на своих длинных загорелых ногах к кому-нибудь, у кого законная супруга менее бдительна и агрессивна.
О разводе с Надеждой нечего было и думать. Она бы его выгнала из квартиры, сжила бы со свету, добилась бы увольнения из милиции. К тому же – двое детей. Это ж какие алименты!
Головня отвел голодные глаза от ног хихикающей девицы, и тут же его взгляд уперся в другие ноги. За соседним столиком сидели две такие красотки, что захватило дух. Одна блондинка, другая брюнетка. Не понять, которая лучше. Сразу две пары голых стройных, смуглых ног. Красотки эти сидели в компании двух молодых «качков» с бритыми затылками. Головня так и не понял, местные они или тоже отдыхающие.
Столы обеих компаний ломились от шашлыков, форели, салатов и пива. «Поесть, что ли?» – с тоской подумал капитан, еще раз сглотнув слюну. Он кивнул Руслану, который бегал между столиками, занятый необычным наплывом гостей.
Руслан улыбнулся в ответ, исчез на несколько минут в комнате за стойкой, потом вышел и небрежно бросил на стол перед капитаном тонкую книжечку меню в картонной глянцевой обложке. Головня раскрыл меню. Внутри лежал обычный незапечатанный конверт.
«Хорошо хоть так, а не впрямую! При посторонних!» – успел подумать капитан и попытался незаметно спрятать конверт в карман светлого легкого пиджака. Но тут началось нечто невообразимое.
Моментально повскакивали девицы и их спутники, замелькали вспышки фотокамеры, капитану заломили руки назад и бросили на пол обычным приемом. Остальное происходило как в кошмарном сне.
Головню трясло и лихорадило. Лежа на полу лицом вниз, он чувствовал, как температура у него подскочила градусов до сорока. Пот лился ручьями, даже пол под ним стал влажным. А сердце колотилось так, что казалось – сейчас лопнут ребра. Воздуху не хватало, капитан начал задыхаться.
– Головня Анатолий Леонидович, – услышал он над собой сквозь звон в ушах странно высокий голос, – Федеральная служба безопасности. Вы арестованы.
Он удивился, что ему в лицо тычет удостоверение майора ФСБ не мужик, а одна из длинноногих девок, блондинка. «Поэтому такой высокий голос, – машинально отметил про себя Головня, – баба меня арестовывает! Баба! Но я же не при исполнении, мне же долг вернули, я давал в долг, вот мне и вернули!» – пронеслось у него в голове. Слова пульсировали и мелькали, будто вертелась перед ним карусель, сумасшедшая карусель из пульсирующих слов. Потом осталось только одно: «долг», оно стучало в мозгу, во всем теле – «долг-долг-долг!» – и ритм все убыстрялся, сто двадцать ударов в минуту, сто тридцать, сто сорок.
Его запихнули на заднее сиденье черной «Волги», между двумя «курортниками» средних лет. Следом тронулась такая же «Волга», в которой увозили Руслана.
Никто не видел, как сидевший на лавочке во дворе, расположенном напротив входа в бар, молодой человек быстро встал и бросился вон со двора. Только старушка, сидевшая на той же лавочке и вязавшая носок, удивленно подняла брови над очками: сидел себе парнишка, покуривал, газетку почитывал, а тут вдруг вскочил как ошпаренный, помчался, даже газету свою оставил.
– Эй, молодой человек! – успела крикнуть она вслед, но он даже не оглянулся.
Молодому человеку было на вид лет тридцать, одет он был в потертые джинсы и темно-синюю футболку и внешность имел совершенно непримечательную: средний рост, среднее телосложение, русые волосы, серые глаза. Именно так должен выглядеть наружник, то есть никак не выглядеть.
За входом в «Каравеллу» агенту полковника Константинова было очень удобно наблюдать из этого тихого дворика, сквозь просвет между домами, затененный липами. Он видел, как входили в бар две веселые компании – сначала «качки» с девицами, потом двое отдыхающих средних лет с одной девицей. Потом вошел Головня, непосредственный объект наблюдения. Когда подъехали две черные «Волги», наружник удивился: неужели смежники? А всего через пять минут вывели Головню и хозяина бара. Наружник даже заметил, что объект как-то странно выглядит: весь мокрый, лицо буро-красное, а глаза – огромные, выпученные, почти выкатываются из орбит...
Бабушка, вязавшая носок, пожала плечами, отложила свое вязание и стала с любопытством просматривать газету, оставленную молодым человеком. А тот был уже далеко от тихого дворика. Он шел очень быстро, он спешил сообщить о случившемся полковнику Константинову по экстренной связи. Полковник должен узнать об этом именно от него, иначе – грош ему цена как наружнику.
Молодой человек иногда матерился про себя и сплевывал на ходу. Ругательства и плевки адресовались слишком уж расторопным «смежникам».
Когда в баре стало тихо, полная, застенчивая Кристина, пятнадцатилетняя дочь Руслана, погладила по головам рыдающих мать и старшую сестру, дала таблетку валидола старому испуганному дедушке и удалилась с радиотелефоном в комнатку за стойкой.
– Папу взяли, – тихо сказала она по-абхазски, набрав номер, – он дал деньги милиционеру, тощему, пучеглазому, сунул в меню, в конверте. Он просил передать: надо убить журналиста.
Это журналист навел. – И девочка захлопнула крышку телефона.
* * *
– Старший следователь Федеральной службы безопасности майор Краснов, – представился Головне приятный человек средних лет, – садитесь, Анатолий Леонидович. – Он указал на стул.
Головня послушно сел. Из-за усиливающейся лихорадки он видел все как в тумане, однако успел заметить, что его привезли в здание областного ФСБ.
– За что меня арестовали? – спросил он сквозь одышку.
– Вас пока только задержали, – уточнил Краснов, – вы подозреваетесь в пособничестве опасным преступникам, террористам, находящимся в розыске. Я вижу, вы себя плохо чувствуете. Сейчас вы ответите на несколько вопросов, затем вас отведут в камеру, там вас осмотрит врач.
– Я не могу отвечать на вопросы, – простонал Головня, – мне плохо. Вызовите врача прямо сейчас!
Болели одновременно голова и сердце. Такое с ним было впервые. Боль раздирала все тело, он задыхался. Посмотрев на него внимательно, следователь кивнул и спокойно произнес:
– Хорошо, Анатолий Леонидович, я вызову врача прямо сейчас. – Он поднял телефонную трубку.
Через несколько минут в кабинет вошел пожилой человек в белом халате. Приложив фонендоскоп к мокрой от пота груди Головни, он сказал несколько слов следователю, разобрать которые Головня уже не мог.
– Я умираю! – прохрипел он еле слышно. – Сделайте что-нибудь, я умираю!
Его била крупная дрожь. Ему и правда казалось, что он умирает. Бешеный панический стук сердца отдавался в ушах грохотом, голова раскалывалась от этого грохота.
– Что это? Сердечный приступ? Почему он так дрожит? – тревожно спросил следователь.
– Страшная тахикардия, сто пятьдесят в минуту, – сообщил врач, – честно говоря, я не совсем понимаю, но нужны срочные меры.
– Щитовидка! – произнес Головня из последних сил.
Он уже ничего не слышал. Грохот сердца сливался в монотонный оглушительный гул, будто у него в голове работал двигатель взлетающего самолета. А перед глазами стоял длинный сужающийся черный туннель – совершенно черный, без всякого света в конце.
Жена Надежда имела целую библиотеку мистической литературы, она увлекалась йогой, черной магией и прочей ерундой. Она изучала все это, чтобы портить карму любовницам мужа и насылать на них порчу. Сам Головня иногда от нечего делать почитывал кое-что. Про туннель он читал. Но в конце должен быть свет. Почему же так темно?
– Тиротоксический криз! – догадался доктор, услышав слово «щитовидка». – Боюсь, дело плохо. Срочно нужен кислород, капельница с глюкозой.
– Его нельзя класть в лазарет, – возразил следователь, – его надо постоянно держать под контролем, обеспечить надежную охрану.
– Вы смеетесь? Куда он убежит в таком состоянии?
– Не убежит. Убьют, – мрачно сообщил следователь.
Следователь Краснов приехал из Москвы. А врач – местный, из тюремного лазарета. Знакомы они не были.
– Ну а так он сам умрет. Прямо сейчас, – жестко сказал врач, – из криза его можно вывести только в условиях стационара. То, что я могу сделать здесь, даст временный и ненадежный эффект. Потом он должен находиться под постоянным наблюдением, в реанимации. Вы же можете обеспечить дополнительную охрану в лазарете.
В крошечной, без окон, палате лазарета Головню вывели из комы. Охрана была надежной, персонал – проверенный-перепроверенный. Никто посторонний сюда проникнуть не мог.
Часов в пять утра у палаты появилась молоденькая медсестра.
– Ребята, укольчик нужно сделать, – сообщила она, сладко зевнув, – ой, не могу, спать хочу, умираю.
И шприцы, и необходимые препараты лежали в специальном шкафчике, внутри охраняемой палаты. У сестры не было ничего – ни в руках, ни в карманах. На глазах у двух охранников она распечатала одноразовый шприц, надломила ампулу, которую достала из только что раскрытой упаковки, сделала внутривенное вливание.
– Все, – зевнула она еще слаще, вытаскивая иглу из вены спящего Головни, – теперь можно завалиться спать часика на полтора с чистой совестью.
Через два часа Головня умер, не приходя в сознание. Врач, вызванный охранниками, констатировал, что смерть наступила в результате второй волны тиротоксического криза.
На закрытом пляже за домом доктора было мало народу. Человек пять отдыхающих из соседнего пансионата играли в карты на сдвинутых лежаках, двое маленьких детей возились с галькой у самой кромки моря, их родители дремали тут же, лежа на полотенцах. Солнце уже не жгло, медленно сползало к горизонту, к розовато-серебристому длинному облаку у западной кромки моря. Начинался ленивый, безветренный вечер.
– Ты отлично плаваешь, – сказал Вадим, когда они вышли из моря.
– Ты тоже, – улыбнулась Маша, откидывая мокрые волосы со лба.
Толстая дама в купальнике-бикини отделилась от группы картежников и направилась к ним, сжимая в губах длинную коричневую сигарету и окидывая высокую широкоплечую фигуру доктора откровенным многозначительным взглядом. Вадим в это время растирал Машу большим полотенцем.
– Простите, у вас огонька не найдется? – Дама кокетливо тряхнула черно-белыми пергидрольными кудряшками.
– Пожалуйста. – Доктор достал зажигалку из кармана валявшихся на лежаке джинсов и дал даме прикурить.
– Спасибо, – обворожительно улыбнулась дама и выпустила дым из ноздрей, – у нас у всех газ кончился.
Возвращаться к своей карточной компании она явно не спешила.
– Вы так молоды, а уже такая взрослая дочь. – Она надменно и равнодушно взглянула на завернутую в полотенце Машу.
– Я не так уж молод, – Вадим любезно улыбнулся даме, – а это не дочь. Это моя жена.
Тонкие, выщипанные в ниточку брови дамы медленно поползли вверх.
– Ах, извините! – Она обиженно повела полными плечами и тут же удалилась.
Маша, уткнувшись доктору в грудь, тихо засмеялась:
– Очень выразительное личико у этой милой леди! Представляешь, если бы я и правда была твоей женой, нам бы постоянно пришлось сталкиваться с такой двусмысленной реакцией!
– Кстати, неплохая идея, – он обнял Машу за плечи, – очень неплохая идея. Мы с тобой это обдумаем, ладно?
– Почему ты неженат? Только, пожалуйста, ответь серьезно.
– Жена ушла от меня десять лет назад.
– А почему потом не женился?
– Как я мог жениться на женщине, которую встретил только сейчас? Мне пришлось дождаться, когда станешь совершеннолетней, приедешь одна в этот город, потом попытаешься уехать отсюда на товарняке.
– Вадим, перестань, пожалуйста.
– Малыш, я не шучу.
Маша открыла рот, чтобы возразить, но, взглянув ему в глаза, поняла: правда, не шутит, и, кашлянув, спросила:
– А дети есть у тебя?
– Сын. Двадцать пять лет. Зовут Сережа, живет в Квебеке. Женился на канадке украинского происхождения.
– Значит, ты совершенно один?
– Теперь уже нет. Теперь я с тобой. И нам пора ужинать.
* * *
Метрдотель небольшого приморского ресторана «Парадиз» поздоровался с доктором за руку и, проводив Машу долгим оценивающим взглядом, подумал: «В советское время такие тощие цыплята стоили два двадцать в кулинарии».
Доктор часто бывал в этом ресторане, но ни разу еще не приходил сюда с женщиной. Официанты поглядывали с любопытством. Роскошная блондинка Ларочка в синем форменном платье без рукавов склонилась над столиком, обдавая запахом духов «Криатюр» и щедро демонстрируя мощную грудь в глубоком декольте, пропела:
– Добрый вечер, Вадим Николаевич! Сегодня очень свежая форель.
– Машенька, ты будешь форель? – спросил доктор.
– Да.
– Выпьешь что-нибудь?
– Мартини бьянко, совсем немножко.
Когда официантка отошла, надменно покачивая бедрами, Маша спросила:
– Ты здесь часто бываешь?
– Да. Здесь спокойно. Народу мало, нет жуткой грохочущей музыки, кормят неплохо.
Через несколько минут подошел метрдотель и, наклонившись к уху доктора, прошептал:
– Вадим Николаевич, вас к телефону.
Доктор специально оставил дома свой мобильный, будто чувствовал – не дадут ему спокойно провести вечер. Слишком уж все складывалось хорошо. Но достали и здесь.
– У него кровит шов, – услышал он тяжелый бас фельдшера из горного госпиталя, – ты можешь приехать прямо сейчас?
– Температура?
– Нормальная.
– Ты сам осматривал его? Не может у него кровить шов. Опять небось паникует, как с гранатовым соком?
– Ты должен приехать, – мрачно ответил фельдшер, – мне он посмотреть не дает, требует тебя.
– Хорошо, – вздохнул доктор и повесил трубку.
Официантка Ларочка, курившая у стола, на котором стоял телефон, загасила сигарету и томно произнесла:
– Вадим Николаевич, горячее подавать? Ваша форель уже готова.
– Подавай, Ларочка. Очень есть хочется, – улыбнулся доктор.
– Что-нибудь случилось? – спросила Маша, когда он вернулся за столик.
– Все нормально, малыш. Мне надо будет съездить посмотреть одного больного.
– Далеко?
– Не очень. За городом. Мы сейчас спокойно поужинаем, потом я отвезу тебя домой.
Ларочка расставила на столе тарелки с форелью, поменяла пепельницы и сочувственно покачала головой:
– Нет вам покоя, Вадим Николаевич, ни днем ни ночью.
– Такая моя докторская судьба, – развел он руками.
У ресторана рядом с «Тойотой» стоял грязный военный «газик». За рулем сидел молодой кавказец с пошлыми усиками, тот самый, что подглядывал через просвет в заборе. Маша вежливо поздоровалась с ним, усатый важно кивнул в ответ.
Вадим и Маша сели в «Тойоту», «газик» поехал следом.
– Это они из-за города так быстро за тобой приехали? – спросила Маша.
– Больной уж очень важный. Меня почти всегда возит к нему этот «газик». Когда я в городе, он тоже. К важному больному могут вызвать в любой момент.
Вадим проводил Машу в дом, «газик» ждал у ворот.
– Ты поздно вернешься? – спросила Маша.
– Не знаю, как получится. – Он прижал ее к себе, поцеловал в пробор. – Ты ложись спать, малыш. Не жди меня.
Оставшись одна, Маша включила телевизор. По каналу ОРТ шли вечерние «Новости».
– Возобновились поиски чеченского террориста Аслана Ахмеджанова, – говорила хорошенькая комментаторша, – наш корреспондент беседует с членом Чрезвычайной государственной комиссии по борьбе с терроризмом, депутатом Государственной Думы Алексеем Климовым.
На экране появился рыхлый, нездорового вида человек в строгом костюме.
– Алексей Сергеевич, – обратился к нему корреспондент, которого не показали в кадре, – насколько реальной видится вам перспектива открытого судебного процесса над Ахмеджановым как над организатором и участником нескольких самых крупных террористических актов, случившихся за последние два года?
– Я очень сомневаюсь, что такой процесс вообще когда-либо состоится. Уголовные дела на каждого из сепаратистских лидеров заведены давно, и Военной прокуратурой, и Генеральной. Однако на скамью подсудимых пока не сел ни один. Если вдруг такое случится, то суд будет закрытым, для прессы – в первую очередь.
– В одном из своих интервью Ахмеджанов заявил, что взрывы будут греметь по всей России до тех пор, пока хоть один русский солдат, я цитирую, «останется на великой земле Ичкерии. Но когда последний русский солдат покинет нашу землю, взрывы все равно не перестанут греметь. Русские должны платить по счетам». Насколько реальны эти угрозы?
– На все сто процентов. – Депутат усмехнулся. – В государстве, в котором люди, причастные к событиям в Буденновске, к взрыву школьного автобуса под Новореченском, остаются на свободе, с оружием в руках, в таком государстве возможно все. Если о том, как он лично расстреливал в час по одному заложнику, Ахмеджанов рассказывает не суду со скамьи подсудимых, а московскому корреспонденту, сидя в комнате, застланной коврами, спокойно глядя в телекамеру, – о чем можно говорить?
– Однако то, что сегодня розыски Ахмеджанова ведутся российскими спецслужбами весьма активно, внушает некоторый оптимизм, – заметил невидимый корреспондент. – Из неофициальных источников нам стало известно, что после серьезного ранения он скрывается сейчас где-то в горных районах Абхазии. Что вы можете сказать по этому поводу?
– Я воздерживаюсь комментировать сведения, полученные из неофициальных источников, – сухо сообщил депутат и тут же исчез из кадра. Началась реклама. Маша выключила телевизор. «В горах Абхазии – это совсем близко», – подумала она и удивилась: лицо с тяжелым носом и глубоко посаженными глазами, лицо с цветной фотографии, мелькнувшей на несколько секунд на телеэкране после того, как комментаторша назвала имя Аслана Ахмеджанова, почему-то накрепко засело в памяти.
* * *
Чеченец лежал на койке поверх одеяла в тяжелых грязных ботинках. Он задумчиво курил и пускал в потолок аккуратные колечки дыма. Доктор молча поднял рубашку у него на животе. Разумеется, шов не кровил.
– Все шутишь? – спросил Вадим и взглянул чеченцу в лицо. – Со швом у тебя все в порядке.
– А с тобой все в порядке? – усмехнулся чеченец и стряхнул пепел на пол.
– Слушай, Аслан, хватит дурака валять. – Доктор обернулся к фельдшеру и спросил: – У тех двоих, которых неделю назад привезли, тоже что-нибудь кровит?
– У тех не кровит, – ответил фельдшер, не глядя на Вадима, и тут же вышел.
– Девочку себе завел, – задумчиво произнес Ахмеджанов, – говорят, хорошая девочка, только тощая. Вот мне совсем не нравятся тощие, я люблю белых и круглых. Но это дело вкуса. Зачем ты девочку завел, я понимаю, а вот зачем тебе кассета понадобилась – ну никак не пойму.
Черные, глубоко посаженные глаза смотрели на Вадима спокойно и внимательно.
– Кассета? – удивленно спросил доктор. – Какая кассета?
– Маленькая, от видеокамеры.
– Послушай, Аслан, мне некогда заниматься ерундой. Раз уж я приехал, я сейчас осмотрю раненых и поеду домой. Я устал, хочу спать. К тому же меня ждут.
– Кто тебя ждет? Девочка твоя, Маша? Она подождет.
Чеченец, продолжая смотреть Вадиму в глаза, загасил сигарету, сел на койке.
– Ты возил еду Ивану?
– Да.
– Зачем?
– Как ты думаешь, зачем кормят голодного человека?
– Ты кормил его, чтобы он вытащил для тебя кассету.
– Аслан, голодного человека кормят потому, что он голодный. Кстати, куда он делся?
– Он взял для тебя кассету. Он мог сделать это только для тебя. Только ты возил ему еду. Он сдох за это.
– Аслан, зачем весь этот спектакль? Ты можешь объяснить по-человечески, в чем дело?
– По-человечески? – Ахмеджанов нехорошо прищурился. – Ладно, я объясню. Пропала кассета, на которой снят я и мои люди. Там много еще чего снято. Русский Иван убирал в комнате, камера и кассета лежали на столе.
– А снимал кто? Ты того, кто снимал, спрашивал?
– Его уже не спросишь. Он отвечал за кассеты, одна из них пропала. Он напился и ничего не помнил. Оператор не должен пить.
– Хорошо, с оператором ты разобрался по-своему. А при чем здесь Иван? Несчастный, слабоумный, глухонемой человек.
– Он был только немой, но не глухой. Он все понимал, и ты это знаешь.
– Да, – кивнул доктор. – Иван мог слышать слова. Но слышать и понимать – это разные вещи. Ты что, пытался его допрашивать?
– Он был один в комнате, когда убирал. После этого пропала кассета.
– Послушай, – задумчиво произнес доктор, – если ты так сильно переживаешь из-за этой кассеты, что потерял рассудок и стал допрашивать немого слабоумного человека, то почему тебе не пришло в голову допросить тех, кто заснят на пленке? Почему ты не подумал, что ее мог взять, например, тот, кто не хотел, чтобы его видели рядом с тобой? Тот, для кого это опасно?
В черных глазах Ахмеджанова вспыхнул тусклый огонь:
– Ну что же ты замолчал, доктор? Продолжай.
– Вот смотри, ты мне толком еще ничего не рассказал, но, если я тебя правильно понял, пропавшая кассета заключает в себе некую опасную информацию. Прежде всего надо подумать, для кого опасна эта информация, то есть у кого были реальные мотивы. Понимаешь?
– А ты молодец, доктор. – Ахмеджанов выбил щелчком из пачки сигарету, протянул Вадиму. Оба закурили. – Ты верно рассуждаешь. – Голос чеченца стал чуть мягче, глаза перестали сверлить Вадима. – Но тот, на кого я могу думать, в ту комнату не заходил.
– Откуда ты знаешь?
– Он постоянно был со мной. Я его все время видел.
– Прямо так ты все помнишь! Ты ведь почти полтора месяца на анальгетиках сидел, от них голова мутная.
– А зачем ты мне эти анальгетики назначаешь? Чтобы я ничего не помнил? – повысил голос чеченец и опять подозрительно прищурился.
– Ох, Аслан, если б я тебе их и не назначал, фельдшер бы сам тебя колол, без моих назначений. Иначе ты бы от боли на все село зубами скрипел, в городе услышали бы. И спать бы не мог. Ты и так плохо спишь, поэтому нервный такой, я тебе еще реланиум назначу. Пойми, наконец, ты перенес тяжелейшую операцию, времени прошло не так много. Тебе нельзя сейчас нервничать и перенапрягаться. Вместо того чтобы допрашивать слабоумных и стрелять перепивших, отдохнул бы ты, Аслан. Обидно, честное слово, я тебя по кускам собирал, а ты себя гробишь.
– Ладно, доктор. Поговорили. Езжай к своей худой девочке Маше. Скажи ей, чтобы больше не залезала в товарняки.
– Шов чешется? – спросил Вадим, обернувшись у порога.
– Чешется, зараза, – признался чеченец.
– Терпи. Когда заживает, всегда чешется. Ногти стриги чаще. Грязь у тебя под ногтями. Ночью во сне начнешь чесать, занесешь инфекцию. Не будешь ногти стричь, скажу фельдшеру, чтоб бинтовал тебя на ночь.
– Ладно, понял. Подожди, я тебя об одном деле попросить хотел. Ты главного врача санатория «Солнечный берег» знаешь?
– Знаю.
– Ты бы поговорил с ним. Там у них полковник поселился, Константинов его фамилия. Вроде он из ФСБ или еще откуда. Ты бы узнал, что у него там по документам, с кем живет, в общем, всякие подробности.
– Нет, Аслан. Это не моя работа и не мое дело. Каждый должен заниматься своим делом. У тебя достаточно людей, чтобы наводить справки о всяких полковниках.
– Я же не говорю, чтобы ты специально расспрашивал. Так, если к слову придется.
* * *
От морской воды волосы становились тусклыми и жесткими. Маша решила вымыть голову. Шампуней на полочке в ванной стояло сортов пять. Маша любила пробовать все новое и остановила свой выбор на зеленой квадратной бутылке с шампунем неизвестной английской фирмы. «Протеин сделает ваши волосы пушистыми и блестящими, как шелк», – было написано на этикетке по-английски. Маша отвинтила колпачок и наклонила горлышко бутылки над ладонью. Оттуда ничего не вылилось. Ни капли. Между тем бутылка была тяжелая. Заглянув внутрь, Маша увидела сквозь горлышко какой-то черный пластмассовый край. Она повертела бутылку, попыталась нащупать, что там внутри. Палец уперся во что-то твердое, покрытое слоем целлофана.
«Ничего себе!» – подумала Маша и поднесла бутылку вплотную к яркой люминесцентной лампе у зеркала. То, что находилось внутри, по форме больше всего напоминало кассету для видеокамеры. Под плотно приклеенной глянцевой этикеткой нащупывалась тонкая выпуклость – шов, опоясывающий всю бутылку.
«Значит, ее просто разрезали, вставили кассету, потом как-то спаяли края и сверху наклеили этикетку. Тайник – хитрее некуда. Вроде бы так просто, но можно в поисках кассеты перевернуть весь дом и никогда не догадаться, что она впаяна в одну из бутылок из-под шампуня. Найти ее можно только случайно – если захочешь в этом доме вымыть голову и из пяти сортов шампуня наткнешься именно на этот – с протеином. Однако сложно представить, что люди, пришедшие обыскивать дом, отправятся в ванную мыть голову – только если сильно вспотеют от усилий».
Маша аккуратно завинтила колпачок, поставила бутылку на место, взяла другую. Там действительно оказался шампунь.
«О Господи, а ведь я вляпалась в жуткую историю! – думала Маша, расчесывая мокрые волосы перед зеркалом. – Я действительно ничего не знаю о нем, потеряла голову, впервые в жизни влюбилась по уши. И в кого? „Тойота“, дом, сотовый телефон, есть и городская квартира. Ведь достаточно моим родителям услышать такой перечень „достоинств“, и перед ними сразу возникнет образ „нового русского“, мафиози, в лучшем случае взяточника. Что я о нем знаю? Он сказал два слова весельчакам-амбалам на улице, и они исчезли. Их было двое, он один. При желании могли бы его по асфальту размазать. Но они его испугались. Кого могут испугаться такие амбалы? Только мафиози! А что произошло в сарае? Там их вообще было семеро, и те бандиты не чета уличным. Да, он держал в руках автомат. Но смешно думать, что они испугались автомата. В сарае все выглядело так, будто он давно знаком с бандитами, прежде всего – с тем, бородатым. В противном случае его бы там просто растерзали. Тот, кривоногий, тоже держал автомат наготове и стоял сзади, у Вадима за спиной. Да, случайного человека они бы растерзали, никакой выкуп не помог бы. Выходит, он меня у них купил? Купил себе девочку, чтобы развлечься? Интересно, как он узнал, что я в том сарае. От бандитов. Как же иначе? Он не просто связан с ними, он для них – авторитет. Я влюбилась по уши в бандитского авторитета».
Выйдя из ванной, она включила чайник на кухне, села и закурила.
– А я ведь так и не задала ему ни одного вопроса из тех, что должна бы задать, – задумчиво произнесла она. – Но я просто забыла все эти вопросы, я потеряла голову. Почему же опомнилась только, когда обнаружила тайник с кассетой? И чего я так испугалась? Надо было раньше соображать и пугаться. А теперь поздно...
«Поздно потому, что, кем бы он ни был, я не могу уже просто так уехать. Он мне давал такую возможность, не держал силой, я осталась потому, что сама этого хотела. Ну какой он мафиози? Смешно. Мафиози ни за что бы меня не отпустил. Не отдал бы документы, и вообще все происходило бы по-другому, и лексика другая, и глаза...»
– Откуда ты столько знаешь про мафиози? – Маша не заметила, что опять говорит вслух. – Ты же видела их только в кино. Тебе кажется, бандитский авторитет не может выглядеть таким милым, интеллигентным, нежным, ты думаешь, он обязательно матерится через слово, сверкает золотыми зубами и носит красный пиджак? Тебе кажется, мафиози в доме не может держать столько хороших книг, а видеотека должна состоять из одной порнухи? Кстати, судя по нескольким книжным полкам, занятым специальной медицинской литературой, он действительно врач. Интересно, бандитский авторитет стал бы работать хирургом и дежурить сутками в больнице?
Маша вдруг почувствовала отвращение к самой себе. Но не потому, что связалась с мафиози, с бандитским авторитетом, вообще неизвестно с кем, а потому, что так плохо думает о человеке, сидя у него на кухне, в его халате, собираясь ложиться спать в его постель.
«Надо просто спросить у него обо всем – и о бандитах, и о кассете. Сначала послушай, а потом уж делай выводы», – решила Маша. Но в глубине душа она не сомневалась – что бы Вадим ей ни сказал обо всем этом, она поверит. Очень уж хочется поверить.
Она не заметила, как уснула. Ей приснился ее дедушка, умерший год назад в возрасте восьмидесяти семи лет. Единственный человек, с которым она могла бы поделиться тем, что с ней происходит сейчас. Но дедушки Мити не было.
Маша очень любила своих родителей, но никогда не могла поговорить с ними о чем-то серьезном и важном. Мама с папой не умели спокойно слушать. Они сразу пытались решить все за нее, как бы без нее. Однажды она пожаловалась дедушке:
– Родители относятся ко мне так, будто я дебилка какая-то, тварь бессловесная!
– Они просто очень любят тебя и глупеют от любви, – улыбнулся в ответ дедушка.
– Неужели от любви глупеют? – грустно спросила Маша.
– Иногда даже сходят с ума.
Сейчас ей снилось, будто она стоит рядом с дедушкой Митей на балконе какого-то высокого чужого дома, на самом последнем этаже. Они стоят и смотрят вниз, в маленький заснеженный двор, освещенный одним фонарем. Шаркает лопатой, сгребает снег одинокий дворник. Черная фигурка кажется совсем крошечной с такой большой высоты. Даже во сне Маша удивилась, почему им с дедушкой не холодно стоять зимней ночью на балконе.
– Дедушка, я не схожу с ума? – спросила она.
– Нет, Машенька. У тебя все хорошо. Ты не бойся. Так бывает только очень редко, один раз в жизни, и не со всеми. Ты просто очень счастлива, и тебе это кажется странным.
Дворник шаркал своей лопатой все громче, дедушку было совсем плохо слышно. Маше почудилось, что в комнате за балконной дверью мелькнул зыбкий огонек, и дедушка исчез, растворился в темноте неизвестной комнаты. Маша хотела спросить его о чем-то еще, но тут же стала сниться какая-то ерунда – заросший серебряной тиной пруд на даче, дикая малина вдоль синего облезлого забора, яркие влажные незабудки, примятые велосипедным колесом, оранжевый бок большого мяча, утонувшего в зарослях крапивы.
Год назад, когда дедушка Митя умер, Маша почувствовала какую-то глухую, ватную пустоту внутри. Все у нее шло отлично: она училась в замечательном театральном училище, было много друзей, каждый день заполнялся событиями до краев, и родители, слава Богу, были живы и здоровы, но липкая пустота наваливалась ночами и не давала дышать.
Старость щадила дедушку Митю. Он был красивым, опрятным стариком, только очень рассеянным. Впрочем, таким он оставался всю жизнь. Об этом ходили семейные анекдоты, которые Маша не любила слушать.
Однажды она заболела тяжелым гриппом, с высокой температурой и надрывным кашлем. Дедушка отправился на рынок. Он уже редко выходил из дома, но рынок был совсем близко, в двух кварталах. Вернулся он через час, довольный и сияющий.
– Машенька! Я достал тебе грейпфруты! – радостно сообщил он.
Грейпфруты в Москве продавались на каждом углу, но дедушка давно не ходил по магазинам, и в памяти у него осталось то время, когда достать фрукты было сложно, особенно такие экзотические.
– Очень любезный продавец, – счастливо улыбался дедушка, – я спросил у него, где можно купить грейпфруты, объяснил, что у меня больна внучка, и вот он продал мне самые крупные. Они должны быть красными внутри. Это очень вкусный сорт.
Он бережно вытащил из бумажного пакета две большие темно-зеленые редьки...
Через три месяца дедушки не стало. Он часто снился Маше, и каждый раз она просыпалась в слезах. А сейчас впервые не проснулась и не заплакала.
Вадим ехал в «газике» по темной горной дороге. Он думал о том, что, подкинув чеченцу идею, будто кассету мог вытащить сам Иванов, он выигрывал для себя дня два. Этого времени должно хватить, чтобы связаться с неизвестным полковником Константиновым, которым так интересуется Ахмеджанов, что даже его, доктора, просил навести справки.
Ахмеджанов интересуется полковником, значит, полковник, скорее всего, приехал сюда по его бандитскую душу. Стало быть, именно этому Константинову и надо отдать кассету.
Иванова они начнут проверять осторожно и тщательно – все-таки в него вложено много денег. Что ж, пусть хорошенько потрясут комсомольскую сволочь, пусть перестанут ему верить. Этого времени должно хватить. Он свяжется с полковником именно через главного врача санатория. Можно последовать доброму совету чеченца и выстроить разговор так, чтобы «к слову пришлось». И пусть катятся они ко всем чертям со своими пулевыми ранениями. Хватит. Надоело.
Тряска и бесконечные крутые повороты дороги мешали сосредоточиться. Надо было обдумать детали. Пока в голове выстроилась лишь грубая схема. Хорошо, если ход событий совпадет с ней. А если нет?
Доктор вспомнил, как лет семь назад оперировал сорокалетнего мужчину по поводу острого аппендицита и, вскрыв брюшную полость, обнаружил, что там все пронизано метастазами – у больного был неоперабельный рак желудка. Вот и сейчас – стоит сделать шаг, и окажешься в тупике. Невозможно все просчитать заранее. Но и стоять на месте тоже нельзя. Время будет работать на него, но не более двух суток. А потом пойдет другой отсчет.
Однажды в детстве приятель-абхаз пригласил Вадима на несколько дней в горное село, к своей бабушке. Лазая по горам с сельскими мальчишками, они наткнулись на ущелье, через которое была перекинута короткая кривая сосна, сбитая грозой. Ущелье было узким и очень глубоким. Далеко внизу между острыми камнями поблескивал хилый ручеек.
Лежа животами на краю, мальчики долго спорили, можно ли по этой сосне перейти на другую сторону.
– Если за тобой гонятся и хотят убить, тогда можно, – сказал кто-то.
– Можно и просто так, – легкомысленно заявил Вадим.
Он тут же пожалел о своих словах, но назад пути не было.
Горные деревья, особенно те, что растут ближе к вершине, бывают однобокими – их много лет подряд клонит ветер и ветви вырастают густо только с одной стороны, а с другой ствол остается почти гладким. Сосна над ущельем лежала гладкой стороной вверх.
Вадиму тогда было десять лет. Балансируя руками, как канатоходец в цирке, он ступил на гладкий скользкий ствол. Голова закружилась. Он уже представил себе, как летит кубарем на острые камни, как горное эхо относит вдаль его последний крик и кровь из его разбитой головы сливается с ледяной водой ручейка на дне ущелья. Он взглянул на секунду вниз, и ему показалось, что вода в ручье уже стала красной.
Но назад пути не было. Над ним бы потом смеялись до старости. Он сделал еще шаг и сказал себе: «Никакой пропасти и никаких камней там, внизу, нет. Дерево лежит на мягкой траве, и мне совсем не страшно!»
Он прошел по стволу – сначала туда, потом обратно, улыбаясь, соскочил с вывороченных корней на землю. Только глубокой ночью, зарывшись лицом в подушку, тихо и сдавленно плакал, видя перед собой не восхищенные глаза абхазских мальчишек, а красную от крови воду ручья на дне ущелья.
...Машенька спала спокойно и крепко. Стараясь не разбудить ее, он осторожно провел ладонью по влажным волосам, коснулся губами худенького острого локотка. Не открывая глаз, она обняла его за шею и притянула к себе. Он тут же забыл и про кассету, и про чеченцев, и про полковника Константинова.
В ресторане «Парадиз», за тем же столиком, за которым сидели вчера доктор и Маша, сегодня обедали Елизавета Максимовна, Глеб Евгеньевич и Арсюша. Обслуживала их официантка Ларочка.
– Елизавета Максимовна, – ворковала она, раскладывая приборы, – вы потрясающе выглядите. Как вам это удается? Поделитесь секретом!
– Ларочка, я ем мало, а сплю много, – улыбнулась Белозерская, – вот и весь секрет.
– Все-таки у балерин какая-то особенная осанка и посадка головы... За версту видно, что балерина. Ни с кем не перепутаешь, – продолжала Лариса, – в этом, наверное, тоже какой-нибудь секрет?
– Конечно, – кивнула Лиза, – все дело в кнопке.
– В какой кнопке? – удивилась официантка.
– В обыкновенной. Канцелярской. Понимаете, Ларочка, когда ребенок начинает заниматься танцем, ему иногда приходится выправлять осанку. Лепят полоску лейкопластыря вдоль позвоночника, а под пластырь, между лопатками, вставляют канцелярскую кнопку. Чуть сгорбишься – кнопка впивается в спину. Очень больно.
– Да, – вздохнула Лариса, – хочешь стать красивой – страдай. Осанка у женщины – это главное. Вот вчера заглянул к нам один наш постоянный посетитель, старый холостяк, впервые пришел с дамой. Даже дамой назвать нельзя, так, пацанка, пигалица, лет восемнадцать. А осанка – королевская. Сама тощенькая, маленькая, смотреть не на что, а голову держит, как балерина, сразу видно. Я даже спросить хотела, не занимается ли она балетом, но не решилась. Знаете, они такая странная пара. Его-то я хорошо знаю.
Арсюша не выдержал и презрительно фыркнул. Но промолчал. Лариса удивленно взглянула на него и продолжала:
– Так вот, он человек солидный, в городе известный. Ему сорок пять, жена от него сбежала лет десять назад. С тех пор он один как сыч, и вдруг такую себе завел пацанку! Я, конечно, человек без предрассудков, но она ему в дочери годится. Причем девчонка, судя по речи, москвичка. Скромненькая такая, наверняка из приличной семьи... Ой, простите, я заболталась. Ваше горячее уже готово! – И Ларочка убежала на кухню.
Тут Арсюшу прорвало:
– Мама! Глеб! Почему вы все это слушали?! Как ей не стыдно обсуждать людей! Она же сплетница! К ней приходят, садятся за столик, а она потом всем свистит: кто, да с кем, и зачем, и почему!
– Она обсуждает их, а ты теперь с нами – ее, – улыбнулась Белозерская, – получается замкнутый круг.
– Для нее самое интересное – наблюдать и делиться впечатлениями, – заступился полковник за Ларису, – она ведь не сказала ничего дурного. Тем более мы никогда того человека и ту девушку не увидим, и они не увидят нас. А вот ты судишь взрослых при первой возможности и, как я заметил, не без удовольствия. Да, сплетничать плохо. Но и судить других за это – не лучше. В принципе это одно и то же. Мама правильно сказала: замкнутый круг.
Арсюша надулся, больше не произнес ни слова, однако котлету по-киевски съел за милую душу.
Официантка Лариса Величко вовсе не была сплетницей. На самом деле она была человеком молчаливым и скрытным. Но никто этого не знал. Все считали Ларису болтушкой-хохотушкой, даже ее собственный муж любил повторять: «Ты, Лариска, десять раз ляпнешь что-нибудь и ни одного раза не подумаешь!» И Лариса виновато разводила руками: «Откуда я знаю, что думаю, пока не скажу это вслух? Ну, такая я – язык без костей. Что же теперь делать?»
Однако никогда она ничего не «ляпала», не подумав. Подобное легкомыслие могло стоить ей слишком дорого.
Двенадцать лет назад Лариса закончила профессионально-техническое училище пищевой промышленности. Она хотела стать поваром, а потом поступить в пищевой институт. После училища ее распределили в грязную общепитовскую столовку, где воняло несвежими хлебными котлетами и склизкими тряпками, посетители матерились, хлопали молоденькую раздатчицу по ягодицам и хватали за грудь. Большинство из них работали шоферами-дальнобойщиками, в выражениях и жестах стесняться эта публика не привыкла.
В пищевой институт Лариса не поступила – два года подряд недобирала баллы, поняла, нужен хороший, крепкий блат – слишком уж доходные места ждут выпускников института, плюнула, осталась работать в столовке. На иждивении у Ларисы были больная мать с пенсией по инвалидности и братишка четырнадцати лет. А общепит подкармливал, и неплохо – то маслом, то мясом. Вот на мясе Ларису и поймали. На говяжьей вырезке. Воровали в столовой все – от уборщиц до директора. Никто с пустыми сумками с работы не уходил. Но поймали именно Ларису.
Жирный армянин-директор долго мытарил ее в своем кабинете, крутил перед носом коротким волосатым пальцем, без конца вытирал бумажными салфетками потеющую лысину в кудрявом черном пуху, повторял: «хищения, прокуратура». В общем, она сразу поняла, в чем дело. Он давно к ней подкатывал, и так и сяк. Вот и подкатил – бесповоротно. Делать было нечего. Разговор закончился у него в квартире, в койке. Жена и двое детей в это время, естественно, отсутствовали.
Сначала Ларисе было очень противно. Армянин сильно потел, у него вечно от ног пахло. В любви он был груб и ненасытен, в самые горячие мгновения начинал повизгивать тоненько и жалобно, как юный кабанчик. Однако ко всему привыкаешь. И Лариса привыкла. Тем более он и подарки дарил, и деньгами помогал, и пристроил ее в приличный, чистый и дорогой, ресторан, где никто за грудь не хватал.
Все бы ничего, если бы через год армянину не прострелили череп, прямо на улице, средь бела дня. Началось следствие, к Ларисе в дом пришли с обыском, подняли линолеум на кухне и обнаружили в полу тайник с тремя пакетами героина.
Лара вспомнила, как три месяца назад армянин, сидя вечером у нее на кухне, поддел носком ботинка разодранный линолеум и сказал:
– Плохо живешь, Лариса, надо ремонт на кухне сделать. Я пришлю ребят.
Буквально на следующий день явились два парня, балагуря и насвистывая, перестелили на кухне линолеум, поклеили моющиеся обои, побелили потолок и ушли, не взяв ни копеечки, сообщив, что за все заплачено – и за материалы, и за работу. Лариса и ее мама нарадоваться не могли на зеленый, как молодая травка, кухонный пол, на обои в светлых ландышах. Только братишка ходил мрачный и говорил: «Влипнешь ты, Лариска, со своим армянином, ох влипнешь!»
Братишка оказался прав. Влипла Лариса – всего через три месяца после бесплатного ремонта. Без конца ее вызывали в городскую прокуратуру, подписку о невыезде взяли. Она рассказывала молодому следователю все честно, как на духу. Уже на третьем допросе появился в уголке кабинета человек в штатском, который даже не представился, сидел, слушал, покуривал. А потом уж подступил к Ларисе с разговором: «Вы, Лариса Вячеславовна, человек наблюдательный...» – и так далее.
Собственно, она ничего против предложений человека в штатском не имела. Все подписала, что он просил. В самом деле, кому ж охота за чужие грехи в зону? А ей дали понять: или-или. Или вся будущая жизнь псу под хвост, или работа в том же чистеньком ресторане, где никто про историю с героином знать не будет.
В «Парадизе» собирались не самые крупные авторитеты местных мафий, но и не «шестерки».
Среднее звено, так сказать, то есть действующие единицы. Из их разговоров можно узнать много нового и интересного. И Лариса с чистой душой выкладывала все это новое и интересное людям в штатском, в письменной или устной форме.
Между тем она успела выйти замуж за доброго красивого парня, машиниста электровоза, родить сына, проводить братишку в армию. Жизнь шла своим чередом. Лариса работала все там же, в «Парадизе», ничем не отличалась от коллег-официантов – разве что везло ей чуть больше: братишка после армии легко поступил в Московский автодорожный институт, о котором мечтал, маму удавалось раз в году возить в Москву, показывать лучшим профессорам и лечить в лучших клиниках, квартира появилась кооперативная, трехкомнатная, «жигуленок-шестерочка». Ларисин муж искренне верил, что официантки хоть и зарабатывают мало, но имеют очень хорошие чаевые.
Люди в штатском давно уже считали Ларису своей, история с армянином и героином забылась. Ей платили хорошие деньги за информацию, она стала настоящим профессиональным агентом, почитала кое-какие книжки по психологии, в общем, это стало для нее чем-то вроде сверхурочной работы, привычной и будничной.
Сейчас, поболтав с полковником Константиновым из ГРУ о докторе Ревенко и его девочке, Лариса подкинула только первую половину информации, посплетничала на правах старой знакомой, у которой язык без костей.
Убирая тарелки из-под горячего и подавая кофе с мороженым, она продолжала болтать:
– Глеб Евгеньевич, вот вы – военный человек. Скажите, вас когда-нибудь из ресторана вытаскивали по служебным делам?
– Ну и болтушка ты, Ларочка! – улыбнулся Константинов.
– Нет, я хочу сказать, можно ведь людям поужинать и отдохнуть за собственные деньги? Вчера того старого холостяка, который пришел с пацанкой, прямо из-за стола выдернули. Представляете? Он, конечно, доктор, понятное дело, но ведь не «скорая помощь»! Я даже форель нашу фирменную не успела им подать, а ему уже звонят. По нашему телефону. Как будто нарочно за ним следили. Голос такой противный, с кавказским акцентом. – Она скорчила смешную рожицу и произнесла басом: – Докытара Рывенку пазавы! И ни спасибо, ни пожалуйста. Удивительное хамство. У какого-то важного больного шов закровил! Человек покушать пришел, да еще с дамой, а у двери уже «газик» стоит.
– И что, форель так и не ели? – сочувственно спросила Елизавета Максимовна.
– Нет. Форель я все-таки подала. Они покушали, а потом уж поехали.
– А девушку с балетной осанкой он с собой взял к больному? – со смехом спросил полковник.
– Нет. Он ее домой отвез. К себе домой. Она у него живет.
– И все-то вы, Ларочка, знаете, – покачала головой Елизавета Максимовна, – интересная у вас работа.
Константинов весело смеялся.
– Не понимаю, что тут смешного? – презрительно пожал плечами Арсюша.
Расплачиваясь с Ларисой, полковник немного задержался.
– Подождите меня на улице, – попросил он Лизу и Арсюшу.
Когда они ушли, полковник подмигнул официантке.
– Рыбалка – не женское дело, верно, Ларочка? – тихо спросил он. – Но ты отличный рыболов. Высокий класс! И наживку используешь исключительно натуральную, качественную.
– Не понимаю, о чем вы, Глеб Евгеньевич? – растерянно улыбнулась Лариса. В ее голубых глазах застыло искреннее удивление.
На самом деле она его прекрасно поняла. Ее только удивило, что он пошел на такой прямой разговор. Она получила указание подкинуть ему реальную информацию и проследить за реакцией. Если бы вчера доктор Ревенко не посетил «Парадиз» со своей «пацанкой», ей, Ларисе, пришлось бы придумывать для Константинова нечто в таком роде. Ей надо было сообщить, что у доктора появилась девушка, которая живет в его доме, и он постоянно находится под чьим-то пристальным вниманием. Под чьим именно, Ларисе не сказали. Для ее части информации это значения не имело. Впрочем, она догадывалась, кто выдернул вчера Ревенко из-за стола. Она радовалась, что сочинять ничего не пришлось, все получилось как на заказ: доктор пришел со своей пацанкой, вызвали его по телефону. Так что наживка и правда была самая что ни на есть натуральная. И полковник на нее клюнул – но так ловко, что вместе с наживкой и удочку, и рыболова проглотил.
– Ты, Ларочка, передай тому, кто у тебя рыбку эту живую-свежую покупает, большой привет от меня лично, – продолжал полковник совсем тихо, приблизившись к самому уху Ларисы, – доложу тебе по секрету, что твой покупатель, любитель рыбки, мой старый друг, однокашник. И мне надо срочно с ним встретиться. Соскучился я по нему, так и скажи.
Лариса едва заметно кивнула и весело рассмеялась.
– Обожаю неприличные анекдоты! – громко сказала она.
* * *
Поздним вечером полковник стоял на балконе своего номера, курил и смотрел в темноту санаторного сада. Лиза сидела тут же, на балконе, и вязала Арсюше свитер.
Из темной аллеи послышался слабый мелодичный свист. Кто-то вышел подышать ночным воздухом и насвистывал мелодию старинного русского романса «Калитка». Полковник улыбнулся. Только его однокашник по Военной академии Генерального штаба, старый приятель, соперник-смежник Юра Лазарев мог так элегантно шутить: «И войди в тихий сад ты, как тень...» – очень актуально!
Константинов просвистел в ответ несколько тактов другого романса: «Он говорил мне, будь ты моею...»
Таким образом они обменялись условными сигналами. Полковник представил, как невысокий худощавый Юрка стоит сейчас на аллее, расставив ноги и заложив руки в карманы, стоит и усмехается. Он действительно соскучился по старому приятелю, с которым связано столько общих воспоминаний.
– Ты немного врешь, а он – нет, – заметила Лиза, не поднимая головы от вязания, и точненько просвистела несколько тактов.
Глеб издалека заметил белевшую в темноте рубашку Юры Лазарева. Они поздоровались за руку.
Юрий Николаевич Лазарев, Юраш, как называли его однокашники по академии, с юных лет был любимцем публики и дамским угодником. «Врун, болтун и хохотун», он жить не мог без шумных компаний, долгих застолий и разговоров ни о чем. Любую, самую банальную историю он мог изложить так, что у слушателей челюсти сводило от смеха. А об его «practical jokes» – практических шутках по академии ходили легенды.
Однажды ему удалось убедить трех первокурсников, что при диспансеризации необходимо сдавать не только анализ мочи, но и анализ спермы, причем не в лабораторию приносить баночки, а отдавать непосредственно в руки врачу-урологу, шестидесятилетней старой деве.
Через два дня на столе перед урологом стояли три баночки из-под майонеза, на каждой аккуратно наклеена бумажка с фамилией и именем.
– Что это? – спросила пожилая строгая дама, разглядывая на свет содержимое одной из баночек, но тут же догадалась и после длинной мучительной паузы задала следующий вопрос: – Каким способом вы это получили?
Трое первокурсников густо покраснели, долго молчали, наконец один, худенький очкарик из Тулы, ответил еле слышно:
– Подростковым, товарищ доктор.
Чем старше становился Юраш, чем выше поднимался по служебной лестнице, тем тоньше и разнообразней становились его «practical jokes». Умение убедить кого угодно в чем угодно, завоевать полное доверие, рассмешить до слез весьма помогало полковнику ФСБ Юрию Николаевичу Лазареву в его деликатной работе.
Два полковника сели на лавочку перед пляжем.
– Как Лиза? Как Арсений? – спросил Лазарев.
– Спасибо, нормально. А твои?
Образ дамского угодника и гуляки-бабника был чем-то вроде камуфляжа. На самом деле Юраш давно стал верным, любящим мужем и нежным отцом. У него было трое детей – девочка и два мальчика.
– Наталья девятый класс закончила, Антон – прапорщик уже, а Андрюха перешел на четвертый курс и жениться собирается. Ох, Глебушка, надает мне господин генерал по шее за это наше тайное свидание, – добавил он, не меняя интонации, будто продолжал рассказывать о своих семейных делах.
– Зачем Головню взяли? Я шел за ним тихонько, без шума, а вы угробили, – тихо произнес Константинов.
– Да кто ж его гробил? Кто знал, что у него сложное эндокринное заболевание? Криз случился на нервной почве, откачали, а ночью – вторая волна пошла. Он и помер.
– Что же это за болезнь такая? – покачал головой Константинов. – Просвети меня по старой дружбе.
– Да черт его знает, что-то со щитовидной железой связано. Ты можешь зайти в областное управление, там вся медицинская документация, результаты вскрытия.
– Вскрытие, конечно, полностью подтвердило, что умереть Головне никто не помог.
– Глебушка, да ты что? Мы ж его охраняли как зеницу ока, лелеяли и берегли! Ты уж совсем о нас стал плохо думать.
– Эй, Юраша, ты, никак, оправдываешься? – улыбнулся Константинов.
– Черствый ты человек, Глеб Евгеньевич. Нет чтобы слово доброе сказать старому другу, ты все со своими подколками. Везде тебе мерещатся враги-заговорщики.
– Ладно, Юраша, извини. Но на твоем месте я бы вызвал все-таки специалиста из Москвы. Для повторного вскрытия.
– За что же так обижать местных товарищей? Доверять надо людям, Глебушка. Недоверие напрягает и разобщает. И потом... – Юраша горестно вздохнул, – кремировали уже твоего Головню.
– Как? Когда?!
– Сегодня утречком. С гражданской панихидой, со всеми почестями, положенными по рангу. Вдова плакала-убивалась, детки-сиротки, мать-старушка в черном платочке, залпы оружейного салюта, скорбные лица сослуживцев. Про арест, конечно, ни слова – о мертвых или хорошо, или ничего. Скоропостижно скончался доблестный капитан, сгорел на службе, не щадя себя, защищая покой сограждан.
– А с барменом что? Тоже скоропостижно скончался?
– Глеб, ну нельзя же так! – поморщился Лазарев. – Бармена мы отпустили, вежливо извинились. Он ведь Головне долг отдавал. У старшей дочери был день рождения, вот он и одолжил у капитана на подарок и застолье три тысячи долларов. На полторы тысячи дочке комплект купил, сережки и колечко с бриллиантами, даже чек предъявил из ювелирного магазина. А остальные полторы тысячи кинул на застолье.
– Сколько лет дочке исполнилось?
– Пятнадцать.
Быстрым движением Лазарев выбил сигарету из пачки, спохватившись, протянул пачку Константинову. Тот отказался:
– Спасибо, Юраш, твой «Парламент» для меня слабоват. Я привык к «Честерфилду». – Он достал свою пачку.
– Смотри, Глеб, в нашем с тобой возрасте крепкие сигареты курить вредно. А лучше вообще бросать.
– Лучше, конечно, бросать, – согласился Константинов, – знаешь, Юраша, если мы с тобой перешли к разговору о вреде курения, то пора нам расходиться. Спать пора. Ты мне больше ничего сказать не хочешь?
– Я? Тебе? Ничего... Ну разве что рад был тебя повидать. Надо нам, Глебушка, иногда и просто так встречаться, без всякого дела. Нам бы с тобой в Москве как-нибудь в баньку сходить, пивка выпить, а то совсем мы очерствели, разучились общаться просто так.
– Да, Юраш. Я тоже рад встрече. И в баньку сходим обязательно, и пивка попьем. Только прошу тебя по старой дружбе, не трогайте вы Ревенко. Вот представь – возьмете вы его, а у него вдруг тоже, как у Головни, начнется приступ какой-нибудь сложной болезни. Ведь от неожиданностей никто не застрахован, а вы – особенно. Второй такой прокол будет значить только одно: кто-то из вашей конторы очень не хочет, чтобы был арестован знаменитый чеченец, кто-то крепко с чеченцем повязан.
– А если мы его возьмем, но приступа не случится? – тихо спросил Лазарев. – Это что будет значить?
– То же самое, Юраша. То же самое. Если вы тронете Ревенко, то засветитесь, ярко и неугасимо. Это не только мое мнение. Это факт, известный в моем департаменте и за его пределами. Так что держитесь от греха подальше, не трогайте доктора Ревенко. Ведь Ахмеджанова мы возьмем в любом случае. Если вы перестанете нам мешать, то все, что он скажет, останется между нами, смежниками.
– А ты, Глебушка, не преувеличиваешь?
Константинов преувеличивал. Пока никто, кроме него, не догадывался, что возможный арест доктора Ревенко службой ФСБ засветит чье-то активное нежелание взять Ахмеджанова живым. Но он чувствовал: ход сделан правильный.
– Нет, Юра, я даже преуменьшаю. Ну зачем нам межведомственные разборки в такой острый момент? Кому от этого лучше? Ты уж как-нибудь объясни своим коллегам, что можем с чистой душой отдать им потом все лавры. Помнишь, как сказал Шелленберг в «Семнадцати мгновениях»? «Какая разница, кого погладят по головке и кому дадут конфетку?»
– А ты помнишь, что ему ответил Мюллер? «Я не люблю сладкого». Так вот, я тебе, Глебушка, тоже скажу, я не люблю сладкого.
– Любишь, Юраш, любишь, – улыбнулся Константинов, – ты еще в академии мог плитку шоколада за минуту умять.
Маша стояла босиком на траве, в шортах и короткой футболке. Держась рукой за спинку плетеного кресла, она сосредоточенно делала какие-то балетные упражнения и шепотом повторяла:
– Гран батман, пти батман, плие!
Она была так занята, что не заметила Вадима, который остановился на крыльце и любовался ею.
Оторвавшись от спинки кресла, она вдруг быстро завертелась на одной ноге, потом легко подпрыгнула, на секунду повисла в воздухе, но тут же шлепнулась на траву и, заметив наконец Вадима, улыбнулась:
– Доброе утро!
Вадим шагнул к ней, хотел помочь подняться, но она уже вскочила на ноги.
– Доброе утро, малыш. Ты завтракала? – Он взял в ладони ее горячее, раскрасневшееся от полуденного солнца лицо и поцеловал приоткрытые сухие губы.
– Нет еще. Я не люблю завтракать одна, а ты спал.
Завтракать решили на кухне, в саду слишком жарко.
– Помнишь старый телесериал «Адъютант его превосходительства»? – неожиданно спросила Маша, отхлебнув кофе из маленькой чашечки.
– Конечно, я его несколько раз смотрел.
– Помнишь, Кольцов возвращается ночью домой, а мальчик Юра, сын погибшего офицера, спрашивает: «Павел Андреевич, вы шпион?» Так вот, я тоже хочу спросить тебя: Вадим Николаевич, вы шпион? Или мафиози? Кто вы такой, Вадим Николаевич? Почему вас боятся бандиты? – Маша улыбалась, но глаза ее были серьезны. – Понимаешь, я вчера решила вымыть голову. Наверное, лучше бы мне в руки не попала случайно именно та бутылка, в которой вместо английского шампуня с протеином оказалась кассета. Конечно, мне ужасно стало интересно – что же такое на этой кассете? Почему понадобилось так хитро ее прятать? Но, поборов свое здоровое любопытство, я поставила бутылку на место и колпачок завинтила. А потом я вспомнила, как испугались бандиты на улице, как те, в сарае, уважительно разговаривали с тобой на своем языке. А теперь успокой меня, пожалуйста, и соври что-нибудь так, чтобы я поверила и перестала бояться. Ведь правды ты мне все равно не скажешь...
Прежде чем ответить, Вадим залпом допил свой остывший кофе и закурил:
– Я не стану врать тебе, малыш. Полтора года я оперирую раненых чеченских террористов, которых переправляют тайно сюда, в горы. Если я откажусь это делать – меня убьют. Если буду продолжать – рано или поздно арестуют. Мне приходилось и раньше оперировать бандитов, но совсем других, местных. Там пулевые и осколочные ранения случались редко. Ко мне обращались солидные люди, «крестные отцы» местных мафий, с обычными хирургическими проблемами. Я был чем-то вроде придворного хирурга для них. А теперь я оперирую бандитов, удаляю пули и осколки. По закону врач обязан тут же сообщать в милицию, если к нему попадает раненый с огнестрельным или ножевым ранением. Но дело даже не в этом. Совершенно случайно и неожиданно у меня в руках оказалась кассета, на которой заснято, как крупный чиновник, кандидат на пост губернатора, получает полмиллиона наличными из рук чеченского полевого командира, бандита, находящегося в розыске. Из разговора становится ясно, что чиновник получает деньги от бандита постоянно и его предвыборная кампания полностью оплачивается чеченцами. Бандита я оперировал полтора месяца назад. Он практически не имел шансов выжить.
– Ахмеджанов? – испуганно прошептала Маша.
– Он самый, – кивнул Вадим, – как ты догадалась?
– «Новости» вчера смотрела. Значит, ты оперировал Ахмеджанова и прочих террористов, а теперь хочешь отдать кассету кому-то, кто поможет тебе покончить со всем этим? – Машино лицо стало сосредоточенным и серьезным.
– Да, именно так, – кивнул Вадим, – из ресторана меня выдернули для того, чтобы потрясти насчет кассеты. Ахмеджанов пошел на прямой разговор. Они, разумеется, сразу обнаружили пропажу. Оператора, который снимал и отвечал за сохранность кассет, уже убили. Человека, передавшего мне кассету, – тоже. Я до сих пор не могу понять, как он додумался до этого – тяжелобольной, слабоумный, немой. Он мыл полы в госпитале. Но о нем я тебе расскажу потом как-нибудь, это очень грустная история. Вряд ли он понимал, что делает, когда брал кассету и передавал ее мне. Он мог и вовсе забыть об этом через час. В общем, его логику проследить невозможно, и не в этом сейчас дело. Дело в том, что кассета у меня и я должен что-то предпринять.
– Получается, они не знают, кто взял кассету и кому передал? Но пока не узнают, не успокоятся? – Маша говорила медленно и задумчиво.
– Сейчас они только подозревают и проверяют. Проверять начали сразу, буквально в ту же ночь прислали ко мне капитана милиции, который напрямую провоцировал меня сдать Ахмеджанова.
– Настоящего капитана милиции?
– Возможно, и настоящего. Но купленного с потрохами. Загвоздка в том, что я понятия не имею, куда мне сунуться с этой кассетой. Половина здешней милиции работает на чеченцев. В местной ФСБ – то же самое. Но Ахмеджанов сам невольно подсказал выход. В конце разговора он обратился ко мне со странной просьбой. Он сказал, что в санатории «Солнечный берег» появился некий полковник Константинов из Москвы. Я хорошо знаком с главным врачом санатория, и чеченец просил меня через него осторожно навести справки об этом полковнике.
– А ты решил, что именно ему, этому полковнику Константинову, и надо отдать кассету? – перебила Маша. – Ты хочешь через своего знакомого главного врача выйти на него или хотя бы навести справки?
– Именно так, – кивнул Вадим.
– Ни в коем случае! Это ловушка!
– Почему? Главный врач санатория никак не связан с чеченцами. Он армянин и не станет меня закладывать. Он очень порядочный человек.
– Он, возможно, и не станет. Но достаточно одного лишь факта твоей встречи с ним. Ахмеджанов подкинул тебе этот выход вполне сознательно, он ждет, ухватишься ты за такой вариант или нет. Грубо говоря, если ты просто хирург, который их лечит за деньги, ты ни за что не полезешь выяснять подробности о каком-то полковнике. Это не твое дело. А вот если попытаешься сейчас как-то связаться с армянином, сделаешь хоть шаг в его сторону, значит, ведешь совсем другую игру. Ведь ты не сумеешь обойтись телефонным разговором. Тебе придется встретиться со своим приятелем, посидеть. А факт такой встречи они засекут запросто.
– Значит, ты считаешь, что это – всего лишь третий этап проверки?
– Безусловно, – кивнула Маша, – и я не сомневаюсь, будет четвертый и пятый.
– Ну, на ближайшие два дня мне удалось подстраховаться. Я подкинул Ахмеджанову идею, что кассету мог взять тот, кто был на ней заснят, то есть чиновник, которому передавались деньги. Теперь я рассчитываю, что на проверку чиновника у них уйдет два дня.
– Подожди! – Маша даже вскочила со стула и возбужденно заходила по кухне. – Ты сказал, этот чиновник – кандидат на губернаторский пост?
– Да, очень известная и влиятельная личность, бывший второй секретарь крайкома комсомола.
– А фамилия его случайно не Иванов?
– Точно, Иванов Вячеслав Борисович. Неужели об этом тоже говорили в теленовостях?
– Нет, просто фамилий других кандидатов я не знаю. А предвыборная листовка этого Иванова мне неожиданно попалась на глаза у вокзальной кассы. Я так увлеклась чтением, что, наверное, тогда у меня и вытащили деньги... Значит, ты подбросил чеченцу идею, будто кассету мог взять сам Иванов? А видеокамера у тебя есть?
– Есть, – растерянно кивнул Вадим.
– Ты можешь сделать дубликат, перегнать эту кассету на обычную, для видеомагнитофона?
– Могу, это несложно... Слушай, Машенька, не сходи с ума!
– Вадим, я не схожу с ума. Давай не будем терять время.
* * *
В один из окраинных неприметных, но очень дорогих коммерческих магазинов зашла худенькая девочка лет восемнадцати в потертых голубых шортах, сделанных из обрезанных джинсов, в короткой широкой футболке и тряпочных китайских тапочках. Каштановые волосы сколоты в небрежный хвостик на затылке, на тонком, почти детском личике – ни грамма косметики.
– Добрый день, – обратилась к ней скучающая продавщица секции модной одежды, – я могу вам чем-нибудь помочь?
– Пожалуй, да, – нерешительно произнесла девочка, – мне нужно что-нибудь шикарное. То есть я должна сегодня вечером шикарно выглядеть. Мой друг дал мне денег и сказал, чтобы я купила себе все необходимое. А я не совсем понимаю, что именно мне нужно. Я привыкла к джинсам, шортам, майкам. Сегодня мы едем на дачу к каким-то важным знакомым моего друга. Но проблема в том, что я пока не чувствую своего стиля...
Перемерив в кабинке перед зеркалом целый ворох юбок, блузок, платьев и брючных костюмов, Маша остановила свой выбор на обтягивающем темно-лиловом платье из мягкого жатого трикотажа, очень коротком, с открытыми плечами. К нему продавщица подобрала темно-лиловые босоножки на тонкой высоченной шпильке. Кроме того, Маша примерила парик из рыжих прямых волос – ровное короткое каре с челкой до носа.
– Совсем другой образ, – одобрительно заметила продавщица, – ваш друг вас не узнает.
В косметическом отделе продавалось все – даже цветные контактные линзы, правда низкого качества и дорогущие. Маша выбрала линзы сине-лилового цвета, приобрела полный набор декоративной косметики, накладные ресницы и ногти и в придачу – маленький флакон духов «Фиджи», запах которых ей показался достаточно взрослым и зазывным.
Напоследок она занялась украшениями. В магазине была целая витрина чешской бижутерии. Маша полностью согласилась с мнением продавщицы, что более всего к новому образу подойдут огромные треугольные серьги под золото. К ним продавщица подобрала такое же геометрическое колье.
Сложив покупки в элегантную большую сумку из тонкой соломки, заплатив за все огромную, по ее представлениям, сумму и поблагодарив любезную продавщицу, Маша удалилась.
В нескольких кварталах от магазина ее ждала черная «Тойота». Через полчаса они входили в городскую квартиру Вадима. Прихватив сумку, Маша тут же закрылась в ванной.
Она вышла минут через сорок, и доктор, взглянув на нее, замер. Перед ним стояла совершенно незнакомая красотка лет двадцати пяти, огненно-рыжая, с темно-синими глазами и пухлыми, ярко накрашенными губами. Она казалась почти на голову выше его Машеньки и как-то полнее – жатый трикотаж зрительно округлял бедра, увеличивал грудь. Получилось нечто среднее между деловой женщиной и дорогой валютной проституткой. На такую не мог не клюнуть бывший комсомолец.
– Малыш, может, отменим весь этот маскарад?
– Что вы, господин Иванов! – сказала Маша совершенно чужим, низким и тягучим голосом. – Я корреспондентка московской молодежной газеты «Кайф» Юлия Воронина. На меня огромное впечатление произвели тексты ваших предвыборных листовок. Я хотела бы взять у вас небольшое интервью.
– А если он попросит показать удостоверение? – спросил Вадим.
– О, господин Иванов, я на отдыхе в вашем прекрасном городе. Сейчас я ходила по магазинам и, к сожалению, у меня нет с собой ни удостоверения, ни диктофона. Но, думаю, мы обойдемся блокнотом и ручкой. – Она улыбнулась ослепительно и зазывно.
Вадим поверил, что господин Иванов удовлетворится блокнотом и ручкой.
– Куда ты собираешься сунуть кассету?
– Там видно будет. Если сумею пройти к нему в офис, запихну куда-нибудь в бумаги. Если пригласит сесть в машину, спрячу в щель между сиденьями. Наверняка у него в машине сиденья мягкие, глубокие. В общем, как-нибудь сориентируюсь, не беспокойся.
– Легко сказать – не беспокойся! Все это полное безумие.
– Ну почему? Почему безумие? Мы же с тобой уже просчитали все возможные варианты. Ни один из них не опасен.
– А если охрана попросит тебя открыть сумку?
– Почему бы корреспондентке молодежного журнала не носить в сумке кассету от видеокамеры? Я недавно снимала на пляже своих друзей, а кассету забыла вытащить. Они ведь станут искать у меня оружие или взрывное устройство.
– Машенька, – Вадим взял ее за руку и заметил длинные накладные ногти, покрытые розовато-лиловым лаком, – девочка моя, зачем тебе все это нужно?
– Я уже говорила, я не хочу, чтобы тебя убили, – тихо ответила Маша, взглянув на него чужими темно-синими глазами и взмахнув длиннющими приклеенными ресницами.
* * *
Около офиса Вячеслава Иванова Маша была в половине седьмого. Именно в это время кандидат в губернаторы покидал свое рабочее место по пятницам. А сегодня была пятница. Белый джип «Чероки» стоял за оградой.
Походкой манекенщицы, не спеша, «нога от бедра вперед», Маша прошла мимо чугунной ограды и окинула охранника томным медленным взглядом. Остановившись как бы в нерешительности, она взглянула на часы, потом приблизила лицо к ограде и прочитала вывеску на фасаде двухэтажного свежеотремонтированного здания. «Областное управление торговли» – было высечено золотыми буквами на черном мраморе. А внизу, более мелко, – «филиал».
«Прямо мемориальная доска, как на памятнике архитектуры», – усмехнулась про себя Маша.
Все так же медленно и плавно, «нога от бедра», она двинулась к охраннику.
– Здравствуйте, молодой человек, – пропела она, обдавая его запахом духов «Фиджи», – если не ошибаюсь, Вячеслав Борисович Иванов работает именно здесь? Сейчас он еще у себя?
– А вы по какому вопросу? – спросил охранник, восхищенно оглядывая рыжеволосую синеглазую красотку.
– Значит, я не ошиблась. – Она ослепительно улыбнулась, высоко вскинула подбородок. – Вы позволите мне войти? Дело в том, что мне необходимо взять у Вячеслава Борисовича небольшое интервью.
– Вы договаривались с ним по телефону? – спросил охранник.
Он готов был уже впустить красотку, но работа есть работа.
– Нет, все получилось случайно. Я корреспондентка молодежной газеты «Кайф», из Москвы. Меня зовут Юлия Воронина. – Царственным жестом она протянула охраннику тонкую холеную руку. Он пожал эту руку растерянно и осторожно.
– Вообще-то, – начал он, – если нет предварительной договоренности... А можно мне взглянуть на ваше удостоверение?
– Дело в том, что...
Тут дверь офиса открылась, и появился Иванов собственной персоной – маленький, пухлый, с редкими светлыми волосами, прикрывающими раннюю лысину. Маша решительно нырнула под цепь между створками ворот.
– Минуточку, девушка! – Охранник попытался преградить ей путь, но Иванов уже заметил ее и шагнул навстречу:
– Вы ко мне? Вова, пропусти!
В курортном городе не было недостатка в красотках. Но далеко не все они стремились встретиться с бывшим комсомольцем. А эта обалденная рыжая девица прямо бросилась к нему в объятия, обволакивая запахом духов и томно прикрывая темно-синие глаза. Иванов питал вполне понятную слабость к молодым красивым женщинам и не мог позволить охраннику ее задержать.
– Здравствуйте, Вячеслав Борисович, – произнесла Маша глубоким грудным голосом, – простите, что отнимаю у вас время. Я корреспондент московской молодежной газеты «Кайф», меня зовут Юлия Воронина, я веду колонку светской хроники.
Иванов впервые слышал о такой газете. Но их столько развелось сейчас. «Ну до чего же хороша телка!» – подумал он и важно кивнул:
– Очень приятно.
– Вы так внимательно смотрите на меня, Вячеслав Борисович, – Маша чуть потупилась и улыбнулась, – вам, возможно, знакомо мое лицо. Фотографию часто печатают перед репортажами. Наш тираж растет с каждым днем. Знаете, в вашем замечательном городе меня иногда узнают на улицах. Честно говоря, на отдыхе это немного утомляет.
«Теперь он вряд ли попросит показать удостоверение, – решила Маша, – неловко просить удостоверение у человека, которого узнают на улицах. А он, кажется, клюнул!»
– Так вот, – продолжала она, вскинув ресницы, – я прочитала вашу предвыборную листовку и страшно заинтересовалась вами как личностью. Думаю, наши читатели тоже заинтересуются. Знаете, настоящий репортер – и на отдыхе репортер. Позвольте мне задать вам несколько вопросов.
Про удостоверение Иванов даже не вспомнил. Пока Маша говорила, он не сводил глаз с ее ног, бедер и груди.
– Я с огромным удовольствием побеседую с вами, Юленька. Мы можем пройти в офис, в мой кабинет.
– Большое спасибо, Вячеслав Борисович. Я не отниму у вас много времени. – Покачивая бедрами, Маша вошла в дверь офиса.
Они поднялись на второй этаж.
– Подожди меня внизу, – бросил Иванов своему громиле-телохранителю, который следовал за ним безмолвной тенью и тоже тихонько облизывался на рыжую московскую корреспондентку.
Секретарша уже покинула приемную. Открыв дверь своим ключом, Иванов широким жестом пригласил Машу в кабинет, обставленный по последнему слову офисной роскоши.
Маша сразу обратила внимание на глубокую напольную вазу с сухими цветами и на неприметную дверь в углу. Она вспомнила, что в кабинете ректора ее родного Щепкинского училища такая вот неприметная дверь вела в отдельный начальственный сортир. «Два варианта для кассеты уже есть», – отметила она про себя.
Усевшись в глубокое кресло у журнального столика, она достала из большой элегантной сумки блокнот-ежедневник и ручку:
– Вячеслав Борисович, для начала я задам вам вопросы нашей обычной экспресс-анкеты для героя номера. А потом, если не возражаете, мы немного побеседуем о вашей потрясающей предвыборной программе.
Перспектива стать героем номера московской газеты, пусть даже молодежной, Иванову понравилась.
– Я готов, Юленька, – сказал он, подъезжая поближе к Маше в своем кресле на колесиках и вальяжно раскидываясь.
– Какую кухню вы предпочитаете – русскую, французскую, грузинскую? – Маша поставила в блокноте цифру «1».
– Я люблю пробовать разную еду. Но наверное, ближе всего мне русская кухня и, пожалуй, украинская. Сытно, просто.
– Каким видом спорта вы занимались в детстве и занимаетесь сейчас?
– В детстве я, как все мальчишки, гонял в футбол, а сейчас, как все чиновники, играю в теннис. Правда, редко, к сожалению. На спорт при моей работе совсем не остается времени.
Маша старательно записывала ответы. Иванов то и дело царапал глазами по открытой странице блокнота, будто хотел проверить, правильно ли она фиксирует на бумаге его бесценные откровения.
– Какую музыку слушаете на досуге?
– Ох, Юленька, где он, этот досуг? – спросил он со вздохом. – Но музыку я люблю. Разную. Мне нравится и эстрада, и народные песни в хорошем исполнении.
«Настоящая корреспондентка сейчас наверняка бы попыталась уточнить, попросила бы назвать хоть одного исполнителя или композитора. Но я не настоящая и уточнять не буду, – усмехнулась про себя Маша, – и так сойдет!»
– Какой тип женщин вам нравится? Блондинки, брюнетки, худые, полные?
– Рыжие! Мне больше всего нравятся рыжеволосые женщины. В них есть изюминка, огонек. – На его круглом лице расплылась весьма откровенная улыбка. – В общем, Юленька, мне больше всего нравятся женщины вашего типа. Так и запишите. Да, кстати, я не предложил вам кофе! Простите, у меня сегодня был тяжелый день, я совсем замотался.
«Молодец! – мысленно похвалила его Маша. – Догадался наконец. Сейчас ты пойдешь в приемную, электрический чайник и все прочее наверняка у секретарши. А ее нет. Делать кофе тебе придется самому, и я останусь в кабинете одна».
Но Иванов в приемную не пошел. Он просто встал и нажал кнопку селекторной связи:
– Николай, поднимись и организуй нам кофейку.
– Сейчас, Вячеслав Борисович, – подал голос телохранитель.
«Вот скотина! – подумала Маша. – Даже кофе сам не можешь даме сварить!»
– Еще один вопрос нашей анкеты, – сказала она вслух, – расскажите, пожалуйста, о каком-нибудь ярком воспоминании из вашего детства.
Запас Машиных вопросов постепенно иссякал. «Пусть поболтает подольше», – решила она.
Иванов задумался:
– Мне сложно так сразу ответить на этот вопрос. Я попробую вспомнить. – Было слышно, как телохранитель возится в приемной, готовя кофе.
– Вы пока подумайте, Вячеслав Борисович, а я... простите, где у вас туалет?
– Вот эта дверь, пожалуйста.
Маша оказалась права, индивидуальный сортир находился за незаметной дверью в углу кабинета.
Достав из сумки большую кожаную косметичку, Маша направилась к этой двери и заперлась изнутри.
Кроме унитаза и раковины, был стоячий душ за шторкой. Но спрятать здесь кассету оказалось невозможно. Все открыто, ни одной подходящей щелочки: раковина-«тюльпан», пустая мусорная корзина, унитаз...
«Ох, придется выходить отсюда с кассетой, – подумала Маша, – в кабинете я не останусь одна ни на секунду. Может, попробовать незаметно положить ее в напольную вазу с сухими цветами так, чтобы он не заметил? Впрочем, и это непросто. Он хоть и клюнул, но следит за мной во все глаза».
Раскрыв косметичку, она, кроме кассеты, обнаружила маникюрные ножницы и рулон лейкопластыря. «Ну вот, недаром мы с Вадимом вспоминали фильм „Крестный отец“. Там пистолет приклеили лейкопластырем к внутренней стороне крышки унитазного бачка. Я про пластырь и ножницы забыла, а Вадим догадался положить!»
Маша подняла крышку бачка, приклеила кассету лейкопластырем крест-накрест, бесшумно поставила крышку на место и с облегчением вздохнула. Кассета была обернута в полиэтиленовый мешок поверх коробки и от водяных брызг пострадать не могла. Найдут ее скоро, так что пластырь не успеет намокнуть и отклеиться.
Нажав рычаг спуска, чтобы было слышно в кабинете, Маша ополоснула руки, вытерла их куском туалетной бумаги, поправила парик перед зеркалом и вышла из туалета.
– Кофе уже готов, – сообщил Иванов.
На журнальном столе стояли две толстобокие керамические чашки, ваза с фруктами и открытая коробка шоколадных конфет.
– Благодарю вас. – Маша уселась в кресло и отхлебнула жидкий растворимый кофе. – Ну, Вячеслав Борисович, вспомнили?
Самым ярким воспоминанием пионерского детства оказался первый поцелуй в губы с девочкой-одноклассницей в двенадцатилетнем возрасте. Автоматически записывая подробный рассказ об этом знаменательном событии, Маша думала, что пора сматываться. Хозяин кабинета, раззадоренный сладкими воспоминаниями, норовил положить потную лапу на голую коленку корреспондентки.
– О’кей, Вячеслав Борисович. – Дождавшись конца рассказа, Маша откровенно взглянула на часы. – Давайте считать первую часть нашей интересной беседы на этом законченной. У меня к вам предложение – перенести вторую, более серьезную часть на завтрашний вечер или на любое удобное для вас время. Нам придется касаться политики, и лучше это делать с диктофоном. К тому же в половине восьмого я должна встретиться с подругой. Мне неловко заставлять ее ждать. – Маша сокрушенно вздохнула, – Если бы я знала, что мне сегодня так повезет и удастся встретиться с вами, я освободила бы весь вечер, не назначая никаких встреч, и обязательно взяла бы диктофон.
– Не огорчайтесь, Юленька. – Он все-таки положил свою потную лапу ей на коленку. – Я с огромным удовольствием встречусь с вами завтра вечером, часов в восемь. Лучше это сделать в менее формальной обстановке. Где вы живете? Мой шофер подъедет за вами к восьми часам, куда прикажете.
– Спасибо, – нежно улыбнулась она и чуть подвинулась, высвобождая коленку из-под влажной пухлой ладони, – не стоит беспокоить вашего шофера. Я сама подойду к восьми часам сюда, к офису.
– Ну что вы! Какое беспокойство?! – Иванов понял, что для первого раза переборщил, и руку на коленку больше не клал. – Вы все-таки скажите, где именно вы отдыхаете.
– Санаторий «Солнечный берег», – нехотя ответила Маша.
– Вот и хорошо. Вы просто выходите к восьми к проходной, вас будет ждать моя машина. Я с удовольствием приглашу вас поужинать, а потом отвечу на все ваши оставшиеся вопросы.
Маша встала, оправила короткий подол платья, бросила в сумку блокнот и ручку:
– Большое спасибо, Вячеслав Борисович, с нетерпением буду ждать завтрашнего вечера. Всего доброго.
– Подождите, Юленька, давайте я вас подвезу. Где вы встречаетесь с подругой?
– В кафе «Прометей», на набережной.
Кафе «Прометей» считалось одним из самых приличных и тихих мест в городе. Вечерами там никаких дискотек не проводили и почти всегда было пусто из-за высоких цен. Столики под тентами стояли у самой кромки пляжа.
Иванов сел рядом с Машей на заднее сиденье джипа. Маша вжалась в дверь, чтобы он не вздумал опять положить куда-нибудь руку. До кафе было минут двадцать езды. Молчание становилось неловким, напряженным. Иванов не сводил с нее масляных зеленоватых глазок, смотрел так, будто уже мысленно раздевал.
– Вячеслав Борисович, можно курить у вас в машине? – громко спросила Маша, пытаясь нарушить молчание.
– Я сам не курю, но вам, Юленька, можно все! – многозначительно ответил он.
Маша закурила, выпуская дым в открытое окошко.
– Вячеслав Борисович, вы женаты?
– Да, вторым браком. Но сердце мое пока свободно, как говорится.
«Тьфу, придурок!» – выругалась про себя Маша.
– А дети есть у вас?
– Дочь шестнадцати лет, от первого брака. А вы, Юленька, замужем?
– Да! – выпалила Маша и прикусила язык. Следовало доиграть до конца, не огорчать его, зайчика, потерпеть еще минут десять. – У меня сложные отношения с мужем, – добавила она, чуть понизив голос и горестно вздохнув, – знаете, в наше время так тяжело построить семью, особенно если женщина с раннего утра до позднего вечера занята на работе, к тому же постоянные командировки и время отпуска не совпадает. Вот и сейчас я отдыхаю с подругой, а муж в Москве.
– Можно, я задам вам нескромный вопрос? Впрочем, вы еще не в том возрасте, когда этот вопрос неприятен женщине. Сколько вам лет, Юленька?
– Двадцать пять. Два года назад я окончила факультет журналистики Московского университета, год проработала в «Московском комсомольце». А потом появилась наша газета «Кайф». Я люблю все новое, мне нравится начинать сначала.
– А кто спонсирует вашу газету?
– О, у нас много сильных спонсоров, например: банк «Огни Москвы», компания «Проктер энд Гембл», потом... японская компьютерная фирма, я, к сожалению, все время забываю, как она называется. В общем, с этим у нас проблем нет.
Маша уже плела невесть что. Она понятия не имела, кто и как может спонсировать молодежную газету.
Наконец показалась светящаяся вывеска кафе «Прометей». Любезно попрощавшись с Ивановым, Маша выскочила из джипа и облегченно вздохнула. В кафе она уже вошла спокойно, не спеша села за пустой столик, заказала стакан «спрайта» и порцию мороженого. Воду выпила залпом, мороженое лишь ковырнула ложкой, выкурила сигарету, расплатилась и спустилась на пляж.
Было восемь часов вечера, народу на пляже оказалось совсем мало. Маша с наслаждением стянула проституточное лиловое платье и осталась в купальнике-бикини. У лифчика не было бретелек, пластмассовые чашечки торчали далеко вперед, и объем груди явно не соответствовал тоненькой фигурке. Раскрыв пудреницу, она осторожно вытащила сине-лиловые контактные линзы. Снимать парик на глазах запоздалых купальщиков Маша не решилась, натянула сверху большую резиновую шапку и, разбежавшись, с удовольствием прыгнула в воду, отплыла на глубину, нырнула, потом быстро отклеила размокшие накладные ресницы, мерзкие розово-лиловые ногти, и все это медленно отнесло волной, как легкий мусор.
Теплое вечернее море расслабляло, смывало страх и напряжение вместе с чужим, назойливым запахом духов «Фиджи». Накупавшись, Маша с удовольствием прошлась босиком по прохладным камням пляжа, сняла рыжий парик вместе с резиновой шапкой, встряхнула свалявшимися под париком темно-каштановыми волосами, достала из сумки пакет, в котором лежали шорты, майка и китайские тапочки.
Через пятнадцать минут она садилась в черную «Тойоту», которая поджидала ее в тихом переулке неподалеку от кафе.
Глубокой ночью старый темно-зеленый «микрик» с заляпанным грязью номером и погашенными фарами почти бесшумно подъехал к двухэтажному зданию офиса Областного управления торговли. Из «микрика» выскочили четыре темные фигуры, аккуратным ударом пистолетной рукояти оглушили охранника, дремавшего в будке.
Они знали, как отключается сигнализация в здании, поэтому оглушительная сирена не завыла, когда они открыли дверь. У них была связка ключей от всех дверей в этом здании.
В кабинете коммерческого директора управления жалюзи на окнах были опущены, шторы плотно задернуты. Ночные гости включили свет и, распределившись по четырем частям кабинета, стали обыскивать его, тщательно и быстро. Никаких следов своей молчаливой работы они не оставляли, каждую вещь клали на прежнее место. Заглянули и в индивидуальный сортир, но там искать было негде, каждый уголок на виду.
Через полчаса они закончили свою работу, но один из них все-таки еще раз зашел в сортир справить малую нужду. Застегнув ширинку, он на всякий случай, для очистки совести, поднял крышку бачка.
Через десять минут «микрик» с погашенными фарами тихо отчалил от ворот офиса. Теперь в нем сидел еще и охранник. Он не успел очухаться, рот его был заклеен куском скотча, руки связаны за спиной.
А еще через полчаса появились новые пассажиры – сонный, перепуганный Вячеслав Иванов в вишневой трикотажной пижаме и его телохранитель Николай в тугих белых трусиках, оглушенный, как и охранник офиса, ударом пистолетной рукояти. Рты обоих тоже заклеили, руки связали.
«Микрик» выехал из города и направился к горам. Отодранная от крышки туалетного бачка маленькая кассета от видеокамеры лежала в кармане джинсовой куртки одного из ночных гостей.
Всю долгую тряскую дорогу Вячеслав Борисович жалобно, но достаточно громко и выразительно поскуливал сквозь скотч, чем серьезно раздражал своих попутчиков. Когда «микрик» въехал в маленькое горное село, охранник и телохранитель уже окончательно очухались. А Иванова пришлось вносить в дом чуть ли не на руках – ноги отказали ему, от страха он почти лишился чувств.
Куски скотча со ртов сняли, но рук не развязали.
– Ты плохо спрятал кассету, – с мрачной усмешкой произнес Ахмеджанов, выслушав доклад одного из своих боевиков.
– Аслан! Какую кассету?! Что ты говоришь?
Чеченец сунул в лицо Иванову маленькую кассету от видеокамеры, замотанную в тонкий полиэтиленовый пакет, с куском широкого лейкопластыря, прилипшего к полиэтилену.
– Что это? Я не понимаю!
– Сейчас поймешь. – Носком тяжелого ботинка он легко врезал бывшему комсомольцу в пах. Тот скорчился и опять громко заскулил. – Видеокамеру принесите! – крикнул чеченец кому-то.
Появилась видеокамера. Он развернул кассету, вставил ее в камеру, просмотрел несколько первых кадров и тут же выключил.
Иванова осенило. Он понял, что это за кассета.
– Аслан! Мне же ее подкинули! Девчонка вечером приходила, корреспондентка, она и подкинула!
Заикаясь, путаясь, он стал рассказывать о визите очаровательной Юли Ворониной.
– Как, говоришь, газета называется? «Кайф»? А удостоверение ты ее видел?
– Нет! – в ужасе спохватился Иванов.
– Кто-нибудь из вас видел ее документы? – обратился чеченец к охраннику и телохранителю.
– Я попросил ее предъявить, – стал объяснять охранник, – но тут Иванов вышел и велел ее не задерживать. А мне что? Он велел, я пропустил.
– Значит, никаких документов этой корреспондентки никто из вас не видел. Как она выглядела?
– Шикарная баба, – начал охранник, – лет двадцать пять, волосы рыжие, прямые, короткие, челка до глаз. Глаза синие. Ноги, бедра, грудь – все высшего класса.
– Да! – горячо вмешался Иванов. – Именно такая! Я еще спросил, сколько ей лет, она сказала: двадцать пять.
– Завянь, гнида, – брезгливо бросил чеченец, – тебя не спрашивают.
– Подожди, Аслан, – не унимался Иванов, – она еще сказала, что живет в «Солнечном береге», с подругой.
– В «Солнечном береге»? – Глаза Ахмеджанова тускло сверкнули. – Может, она тебе еще и номер назвала?
– Нет, – сокрушенно покачал головой Иванов, – не назвала.
Чеченец закурил, выпустил дым колечками и, переводя задумчивый взгляд с охранника на телохранителя, спросил:
– Она худая или полная?
– Скорее худая, – подал голос телохранитель, который так и стоял в одних трусах, поеживаясь от ночной прохлады.
– Худая, говоришь? – Еще одно идеально круглое колечко дыма медленно поднялось к потолку и растаяло. – Ладно, проверим.
* * *
– Приставал? – спросил Вадим, когда Маша рассказала подробности визита корреспондентки Юлии Ворониной.
Они стояли, обнявшись, в саду у дома доктора. Перед ними в темноте горел небольшой костерок, в котором корчились, исчезая, лиловое трикотажное платье, рыжий парик и босоножки на тонких высоченных шпильках.
– Салом истек, – кивнула Маша, – руку на коленку положил. Ладошки у него потные и холодные.
– Неврастеник, – определил доктор, – инвалид комсомольско-криминального фронта. У них у всех к сорока годам либо цирроз печени, либо неврастения. Иванов не пьет, не курит. Вероятно, печень у него в порядке. Но неврастению он себе заработал честно.
– Знаешь, – задумчиво сказала Маша, прижавшись лбом к плечу доктора, – у меня сейчас такое чувство, будто мы преступники и сжигаем труп убиенной нами красотки-корреспондентки Юли Ворониной. Такой образ получился, такая героиня! Я успела полюбить ее всей душой. Жаль, не видел меня мой преподаватель сценического мастерства.
Костер догорел. Обнявшись, они ушли в дом.
* * *
С утра Ахмеджанов был мрачен и молчалив. У него даже заныл живот под швом, что в последнее время случалось с ним крайне редко. Угнетала не только мысль о больших деньгах, вложенных в предвыборную кампанию этого слизняка Иванова. Самым оскорбительным было то, что он, Аслан Ахмеджанов, ошибся. Деньги что? Пыль, прах, бумажки. Хотя, конечно, жалко. Главное, он, который не имеет права на ошибку, ошибся. И об этом все узнают.
Дед говорил ему в детстве: «Аслан, никогда не верь трусу. Ты можешь купить труса, но рано или поздно страх побеждает жадность. И ты проиграешь». Бывший комсомолец – трус, настоящий шакал, чуть что – поджимает свой паршивый хвост. Ахмеджанов считал себя умным и хитрым. Он держал труса Иванова именно страхом, а деньгами только подкармливал. Дед говорил: «Не верь шакалу. Не верь даже себе самому, если имеешь дело с шакалом».
Деда давно нет на свете, но, даже мертвый, он опять оказался прав. Но с кем еще иметь дело, кроме шакалов? Кого еще удержишь страхом? Иногда у него появлялось странное чувство, будто весь его прошлый опыт, все его знание жизни – ерунда. Позади нет ничего, кроме крови и смерти. Со смертью он знаком, он ее видел столько раз, он ее делал сам: оружием, голыми руками, мозгом, душой, всем своим существом.
Он и сам умирал, видел смерть совсем близко, в образе молоденькой черноволосой, очень красивой медсестры. Он с развороченным животом истекал кровью, а она стояла рядом, держала его за руку и говорила ласковые слова. Он удивился тогда, что смерть – вовсе не старуха с косой на плечах, а нежная юная красавица с теплыми, мягкими пальцами. Это был предсмертный бред. Девушка была всего лишь медсестрой грозненского госпиталя, но в памяти отпечаталось все именно так.
Никто не верил, что он выживет. Его не хотели вывозить из Грозного, потому что хоронить человека лучше на родине. Но все-таки вывезли. И он выжил. Этот русский доктор с насмешливыми голубыми глазами спас его, вытащил с того света. Такое не забывается.
Но благодарность – сложное чувство. От нее смертельно устаешь. Этот долг не отдашь деньгами, а Ахмеджанов не любил быть должником. К доктору Ревенко он чувствовал одновременно уважение и ненависть. Не мог смотреть в насмешливые голубые глаза, не мог слышать спокойный, низкий голос. Доктор видел его насквозь, до кишок, в прямом смысле этого слова. Однако сейчас Ахмеджанову было не до чувств. Сейчас он хотел проверить факты, расставить все по местам, выяснить, что за рыжая девка приходила к Иванову. Особенно не понравилось ему то, что она якобы живет в санатории «Солнечный берег».
Впрочем, уже сегодня к трем часам дня он выяснил, что никакой Юлии Ворониной из Москвы в «Солнечном береге» нет и не было. И газеты под названием «Кайф» тоже нет. Иванов и его люди не могут так дружно врать, да и фантазии у них не хватило бы. Кто-то сделал серьезный ход, кто-то вступил с ним, Ахмеджановым, в игру.
Еще ночью, допросив Иванова и его людей, он решил усилить наблюдение за домом доктора. Он хотел знать каждый шаг, каждый вздох Ревенко и его девочки. Тот, кто сделал первый ход, тут же делает второй. Иначе какой смысл вступать в игру?
Наружники дежурили посменно. День кончался, а никаких сигналов не поступало.
Наконец он не выдержал и сам позвонил наружнику, который только что сменился:
– Почему молчишь?
– Так нечего сообщать! – весело ответил наружник, который в это время уплетал шашлык в ресторане на набережной. Ахмеджанов слышал в телефоне, как тот жует.
– Что они делали все это время? Давай подробно!
– Подробно? – усмехнулся в трубку наружник. – Пока я за ними наблюдал, два раза кончил. В окошко смотрел, будто эротику по видаку! Только живьем.
– Хватит, – брезгливо поморщился Ахмеджанов, – встречались они с кем-нибудь? Говорили? Звонки были?
– Не-а. – Наружник прижал сотовый телефон к уху плечом и вытер салфеткой шашлычный жир. – Я ж говорю, только трахаются, жрут, один раз на пляж вышли, загорали, купались.
– Между собой о чем говорят?
– Да ни о чем. Он ей про детство рассказывает, про маму с папой, она ему – тоже.
– Ели дома или ходили куда-нибудь?
– Костер в саду развели, картошку пекли.
– Значит, целый день никаких звонков?
– Нет. Все тихо. Ни с кем в контакт не вступали. Ни с единой живой душой. Им никто не нужен, кроме друг друга.
– А не могли они тебя засечь?
– Да они никого вокруг в упор не видят, я ж сказал!
– Ладно, отдыхай. – Ахмеджанов захлопнул крышку телефона.
«И все-таки надо проверить, – подумал он, – проверить надо!»
* * *
Они сидели на маленьком пляже за домом. Вокруг не было ни души. Огромное густо-оранжевое солнце уже коснулось краем спокойного светлого моря. В сумерках, перед темнотой, краски стали четкими и насыщенными. Дневная ослепительная жара плавила очертания предметов, а сейчас глаза отдыхали от яркого света. Можно было даже на солнце смотреть спокойно, не щурясь. Оно все глубже уходило в море, по воде тянулась яркая ровная дорожка. Ближе к берегу она медленно распадалась на длинные оранжевые лоскутья.
– Неужели они и в окно спальни подсматривали? – шепотом спросила Маша.
– Не думаю, – улыбнулся Вадим, – хотя... Знаешь, я уже привык, что постоянно следят, но сегодня как-то уж особенно явно.
– Странное это ощущение, когда за тобой следят. Затылку щекотно, кажется, будто взгляд к тебе прикасается, словно прозрачные щупальца. Фу, пакость какая! – Она поморщилась и тряхнула головой: – Как ты думаешь, это я такая чувствительная или они не особенно прятались?
– Ты просто знала, что должны следить. Поэтому чувствовала. Они работают вполне профессионально.
– А сейчас?
– Тоже. В кустах, за оградой или из окошка соседнего дома. Сейчас нас видят, но не слышат.
– Уже приятно, – вздохнула Маша, – хотя бы не слышат. Как ты думаешь, завтра будет то же самое?
– Вряд ли. У них не хватит людей, чтобы вот так следить несколько дней подряд.
Неподалеку раздались сигналы машины. Длинный гудок, потом два коротких.
– «Газик» мой прибыл, – заметил доктор.
– Почему не позвонили, не предупредили? – тревожно спросила Маша.
– Так я же телефон в доме оставил. Вот, предупреждают. Ну что он разгуделся? – поморщился доктор. – Ладно, пошли.
Они нехотя встали и направились к дому.
– Там не может быть никакой ловушки? – спросила Маша шепотом.
– Вряд ли. Он бы так не гудел, не предупреждал.
К «газику», ожидавшему у ворот, они подошли вместе. Маша вежливо поздоровалась с молодым черноусым шофером. Он приветливо улыбнулся в ответ и сказал доктору по-абхазски:
– Двух раненых привезли.
Доктор повторил эту фразу по-русски для Маши и добавил:
– Не волнуйся, ложись спать.
Прощаясь, Маша поцеловала Вадима и незаметно перекрестила его, когда он садился в «газик».
Оставшись одна, она плотно задернула все шторы и взяла в руки кассету, которая отличалась от десятка других кассет лишь тем, что на торце не было никакой бумажки с надписью. Вытащив из кассетной коробки квадрат бумаги с пустыми разлинованными наклейками, она написала: Э. Рязанов. «Жестокий романс» – первое, что пришло в голову, аккуратно отделила клейкую полоску с надписью, прижала ее к торцу кассеты и поставила коробочку назад, на полку.
Потом она приняла душ, приготовила себе чай, улеглась на диван в гостиной и включила видеомагнитофон – она давно хотела пересмотреть нашумевший боевик Марка Гордона «Скорость».
Когда лихой полицейский Джек Тревен в исполнении Кину Ривса вскочил в заминированный автобус на полном ходу, в двери бесшумно повернулась отмычка и два кавказца вошли в дом.
Маша не успела опомниться, а глаза ей уже завязали черным платком и чья-то грубая рука зажала рот. Отчаянно брыкавшуюся Машу понесли в машину, которая стояла у ворот. Один из кавказцев на секунду вернулся в дом, выключил телевизор и видик, погасил свет, захлопнул дверь.
Маша довольно скоро поняла, что брыкаться и сопротивляться бесполезно.
– Будешь орать, – сообщил ей незнакомый голос с акцентом, – придется заклеивать тебе рот. Будешь хорошей девочкой, не обидим.
– А можно узнать, куда вы меня везете? – решилась спросить Маша.
– В гости, – ответили ей, усмехнувшись.
Машина долго ехала по горной дороге. Маша чувствовала кривые зигзаги и ухабы, но ничего не видела. В босые ноги впивались мелкие острые камушки, которыми был усыпан пол под сиденьем. Машу раздражало, что на ней ничего нет, кроме трусиков и длинной, до колен, белой футболки.
«Хорошо, что они не вытащили меня прямо из душа, – подумала она. – Господи, кончится все это когда-нибудь?!»
– Дайте мне, пожалуйста, сигарету, – попросила она тихо.
Тут же ей в рот сунули бумажную трубочку фильтра. Щелкнула зажигалка. Было странно прикуривать в полной темноте.
Наконец машина остановилась. Машу ввели в какое-то помещение, она почувствовала под ногами гладкий деревянный пол. Повязку сняли с глаз. В лицо ударил ярчайший электрический свет, и на миг Маше показалось, будто она ослепла. Она почувствовала, что на нее в упор глядит несколько пар глаз, и, немного привыкнув к яркому свету, разглядела четыре темных мужских силуэта в глубине комнаты.
– Ну? – спросил один из мужчин, повернув голову к сидевшему рядом.
– Не она, – твердо ответили ему, – та была выше почти на голову, старше лет на пять-шесть, рыжая, стриженая, а у этой волосы длинные, темные, глаза карие. Она совсем соплячка, не больше восемнадцати, к тому же тощая, ни груди, ни бедер. Та была красотка экстра-класса, а эта – заморыш какой-то. С этой шеф и разговаривать не стал бы.
– Пусть пройдется, – сказал тот, в котором Маша узнала телохранителя Иванова.
Она узнала троих из четырех. Главный здесь был Ахмеджанов: тяжелый горбатый нос, маленькие, глубоко посаженные глаза под нависшими бровями, бритая голова в круглой войлочной шапочке. Именно это лицо показывали в «Новостях» по телевизору. Рядом с чеченцем сидели охранник офиса и телохранитель Иванова. Четвертого, очень худого, бровастого, бородатого кавказца, Маша видела впервые.
– Пройдись, девочка, – сказал Ахмеджанов.
Вжав голову в плечи, сутулясь и волоча ноги Маша сделала несколько шагов.
– Нет, вообще ничего похожего! – усмехнулся телохранитель.
Незаметная дверь за спинами сидевших открылась, из нее вывалился смертельно-бледный, в вишневой пижаме, с взлохмаченным белым пухом на лысине Вячеслав Иванов. Взглянув на Машу мутными, совершенно безумными глазами, он заорал:
– Это она! Она! Я узнал тебя, сука! Ты мне подкинула кассету! Кто тебя прислал? Говори!
– Заткнись, падаль, – спокойно произнес Ахмеджанов.
Но Иванов продолжал орать высоким петушиным фальцетом, а через минуту вырвался из рук худого бородатого кавказца, кинулся на Машу и вцепился холодными мокрыми пальцами ей в горло.
– Мразь! – услышала она голос Ахмеджанова и почувствовала, что задыхается. Раздался негромкий хлопок. Руки Иванова вдруг ослабели, что-то темное, теплое брызнуло ей в лицо. Иванов стал падать, увлекая за собой Машу всей тяжестью своего короткого рыхлого тела.
* * *
На этот раз раненые были не тяжелыми: у одного сквозное ранение голени, у другого пуля прошла по касательной у предплечья. С этим вообще можно было обойтись местным наркозом. Правда, у раненного в голень доктор обнаружил признаки начинавшейся гангрены, но процесс не успел зайти далеко.
Перед тем как положить на операционный стол, пришлось сбрить обоим волосы на головах и бороды – раненые кишели вшами. Фельдшер обнаружил у них обоих еще и чесотку, выругался сквозь зубы по-русски и ушел.
Закончив работу, доктор тщательно мыл руки под железным рукомойником. Фельдшер вернулся. За его спиной маячили два боевика.
– К тебе гости, – громко сказал фельдшер по-абхазски, – иди в штаб.
Доктор не спеша вытер руки и направился к двери. Когда он поравнялся с фельдшером, тот шепнул ему быстро, одними губами, по-русски два слова:
– Жива. Обморок.
Сердце сжалось и заныло. Боль не отпускала, пока он шел к штабу в сопровождении двух боевиков. Как только он переступил порог, на него уставились немигающие, сверлящие душу глаза Ахмеджанова.
На полу посреди комнаты вся в крови лежала Машенька. На белой футболке алые пятна выглядели особенно жутко. И тут он понял, что значили слова фельдшера. Цены не было этим двум словам. Если б не успел старик шепнуть их, Вадим сейчас бросился бы на чеченца и придушил его собственными руками. Вероятно, из всех в лагере только фельдшер мог предвидеть такую реакцию, а потому предупредил.
Уже никого не видя вокруг, доктор подхватил Машу на руки, прижал пальцы к тонкому запястью. Пульс прослушивался нитевидный, слабого наполнения. Для обморока это нормально. Разглядев ее бледное, испачканное кровью лицо, он тут же понял – она не ранена, не избита. На ней чужая кровь.
– Это кровь шакала, – услышал Вадим тяжелый голос Ахмеджанова, – шакал хотел задушить твою девочку, я его убил. Но она у тебя такая нервная, сразу упала в обморок. Ты не обижайся, дорогой, я просто хотел познакомиться с ней, посмотреть, кого ты так сильно любишь.
Не ответив ни слова, доктор вышел на улицу с Машей на руках. Навстречу шел фельдшер, держа наготове ампулу нашатыря и кусок ваты.
Она открыла глаза, увидела доктора, и слезы покатились по щекам.
– Мне надо умыться и переодеться, – тихо сказала она.
Фельдшер принес ведро воды, старый белый халат и тонкое байковое одеяло. Маша закрылась вместе с доктором в одной из комнат госпиталя, Вадим лил воду, и вода стекала с Машиных рук розовая, кровавая.
– Я опять чувствую себя убийцей. Я, как леди Макбет, не могу смыть кровь, – плакала Маша, – он почти придушил меня, мне очень страшно, теперь всю жизнь будет сниться эта кровь.
Вадим затянул на ней пояс белого халата, накинул на плечи одеяло.
В дверь постучали.
– Вас машина ждет, – сообщил фельдшер по-русски.
Когда они вышли на улицу, Вадим опять взял Машу на руки.
– Ты босиком, а здесь камни острые, – сказал он.
– Я могу идти сама, тебе же тяжело!
– Нет, – улыбнулся он, – мне легко.
Домой их вез тот же «газик». Всю дорогу молчали, только когда проехали пограничный пост, не остановившись, Маша спросила шепотом:
– Почему нас не остановили? Здесь же граница?
– Это старая дорога, по ней почти никто не ездит. Пост здесь – только видимость одна, к тому же купленный с потрохами, – так же шепотом объяснил доктор.
Клавдия Васильевна Зинченко вставала с петухами. Петухи в маленьком приграничном селе начинали заливаться в половине пятого утра. Сегодня Клавдия Васильевна собиралась отправиться на небольшой рынок возле дома отдыха, где раз или два в неделю она торговала молоком, творогом и яйцами. Чем раньше приедешь, тем удобнее займешь место.
Она быстро справилась с утренними домашними делами, подоила корову, собрала в большую корзину марлевые узелки, банки с парным молоком, завернула аккуратно в газету несколько десятков крупных коричневатых яиц и направилась к автобусной остановке.
Самый близкий путь лежал через небольшую рощицу, примыкавшую к шоссе. В рощице было прохладно, мягко поблескивала утренняя роса, радостно заливались птицы. Клавдия Васильевна сняла старые растоптанные туфли, она с детства любила пройтись босиком по росистой траве, да и туфли жалко – промокнут.
Дойдя до середины рощицы, она остановилась. Ей показалось – где-то совсем близко слышны мужские голоса. И птицы притихли. «Пережду от греха подальше», – решила старушка. Сейчас в безлюдной утренней роще мог оказаться кто угодно, все-таки время неспокойное, граница близко, а за границей – война.
За деревьями Клавдия Васильевна разглядела две мужские фигуры в пятнистых жилетах. Они молча положили что-то большое и тяжелое у пня. Старушка замерла и перестала дышать. Она даже зажмурилась на минуту, будто боялась, что двое в пятнистых жилетах почувствуют взгляд и обнаружат ее.
Быстро затопали по траве две пары тяжелых ботинок, потом вдали, на шоссе, послышался звук отъезжающей машины. И все затихло. Подождав еще немного, она медленно направилась к пню, до него было всего-то метров тридцать. Преодолев на цыпочках это бесконечное расстояние, старушка замерла как вкопанная, охнула, перекрестилась и тут же ринулась назад, в поселок, не замечая, как в трясущейся корзине лопаются яйца, ударяясь о банки с молоком.
Вбежав в дом, она принялась будить мужа Степана Ивановича, крепко спавшего после вчерашней «халтурки» – старик иногда чинил соседям все, от водопровода до телевизора, расплачивались с ним зачастую «натурой». Вчера он как раз получил за работу пол-литровую бутылку водки и выпил ее за вечер в одиночестве.
– Степа! Степушка! Ну вставай же, горе мое! – трясла мужа Клавдия Васильевна.
Степан Иванович с трудом продрал глаза и удивленно уставился на жену. Лицо ее пылало, подкрахмаленный белоснежный платочек съехал куда-то вбок, из-под него свисали седые взлохмаченные пряди.
– Клава, а ты чего, на базар-то не поехала разве? – спросил он, потягиваясь с хрустом и сладко зевая.
– Там труп в роще! – страшным шепотом сообщила Клавдия Васильевна.
– Какой еще труп?
– Да проснись наконец! Покойник там, я видела, как его бросили, я за деревом спряталась и все видела. Его в другом месте убили, а в рощицу привезли.
– Так в милицию надо... – неуверенно предложил старик.
– Да-а, в милицию! А потом эти, которые привезли и положили, найдут меня.
– Ну дела! – покачал головой Степан Иванович. – Клавдюша, ты бы мне это, рассольчику налила, что ли. А то во рту горит, соображаю туго.
– Изверг ты, Степа. Весь насквозь больной, а бутылку вчера выглушил. Тебе прямо не терпится, если бутылка есть. Нет чтоб по рюмочке за обедом! – Собственное ворчание немного успокоило старушку. Достав из холодильника банку квашеной капусты, она нацедила мужу полстакана густого розоватого рассола.
– Ох, хорошо, холодненький! – зажмурился Степан Иванович, прихлебывая рассол мелкими глотками. – Аж зубы сводит! Слышь, Клавушка, а чего ты так перепугалась? Сейчас ведь время какое? Стреляют, убивают, на каждом шагу бандиты друг с другом разбираются.
– Чего испугалась? Подожди-ка...
Клавдия Васильевна стала вытаскивать из корзинки творожные узелки, молочные банки, потом развернула газету, залитую побитыми яйцами. С мятой газетной страницы сквозь налипшую яичную скорлупу глянуло на нее улыбающееся лицо Вячеслава Иванова.
– Вот чего я испугалась! – показала она мужу мятый кусок газеты. – Его я и видела в рощице.
– Он, что ли, труп бросил? – не понял Степан Иванович.
– Его бросили, Степа, его. Он сам и есть труп. Ох, Матерь Божья, Пресвятая Богородица! Убьют меня, не пожалеют! Это ж политика, Степушка, он ведь кандидат в губернаторы, его вся область знает. Что делать-то?
– А они, которые бросили, не заметили тебя?
– Что ты! Заметили бы, не отпустили, убили бы прямо там.
– Слушай, так ведь необязательно же говорить как было. Ты ничего не видела. Шла себе спокойненько к автобусу и просто наткнулась на него. Он там уже лежал. Все равно кто-то наткнулся бы рано или поздно. Вот ты и наткнулась. А привезли, положили... ничего не знаешь, не ведаешь.
– Ох, Степан, грех-то какой. Это ж получается, врать надо. Это лжесвидетельство.
– Наивная ты у меня, Клавушка, – вздохнул Степан Иванович, – до семидесяти двух лет дожила, а все как дитя малое. Ладно, сейчас умоюсь, пойдем к участковому.
Выехавшая на место происшествия оперативная группа не обнаружила при трупе ни документов, ни денег. Однако опознать убитого не составило труда, его лицо красовалось по всей области, на каждом углу, то и дело мелькало на страницах областной прессы.
Не возникло и вопроса, почему труп кандидата в губернаторы Иванова Вячеслава Борисовича обнаружили именно здесь – в трех километрах от рощи, на морском берегу, находилась небольшая дача покойного.
Судмедэксперт определил, что выстрел был произведен в затылочную область, с расстояния около трех метров, из пистолета типа «Макаров». Смерть наступила между двумя и тремя часами утра, то есть часов за пять до момента осмотра трупа. После убийства тело было перенесено с места преступления.
Жена Иванова в это время находилась у родственников в Саратове. Ее вызвали телеграммой, а пока для официального опознания пригласили секретаря, охранника офиса и личного телохранителя Иванова. Все трое были допрошены следователем.
Секретарша сообщила, что ушла из офиса в половине шестого вечера, Иванов в это время оставался у себя в кабинете. Охранник и телохранитель рассказали, что около половины седьмого к Иванову явилась женщина лет двадцати пяти, представившаяся корреспонденткой московской молодежной газеты «Кайф» Юлией Ворониной. Она попросила кандидата в губернаторы дать ей небольшое интервью. Иванов пригласил ее к себе в кабинет, где они проговорили около сорока минут, выпили кофе, после чего вышли из кабинета вместе.
Иванов отпустил телохранителя, попросив отогнать джип к дому, а сам вместе с корреспонденткой отправился пешком по набережной. Он сказал, что собирается немного прогуляться, поужинать в ресторане и телохранитель ему на сегодняшний вечер не нужен. Еще он сказал, что, вероятно, заночует у себя на даче, проведет там весь завтрашний день, в крайнем случае позвонит.
– А как он собирался добираться до дачи? – спросил следователь.
– Ну, на такси, конечно, – ответил телохранитель.
– А вам не показалась странной идея отправиться пешком с незнакомой женщиной, потом ехать на дачу на такси, а не на собственной машине? Все-таки ваш шеф считался довольно крупным чиновником, – спросил следователь.
– Да с такой красоткой он бы и на край света пошел пешком! – хихикнул телохранитель. – Шеф всегда был слаб насчет девок и любил перед ними выпендриться. К тому же она сама просила прогуляться, то да се, сказала, мол, зачем нам кто-то третий. Ну, он и поплыл!
– Ее просьба вас не насторожила? Вы ведь, как я понял, даже не видели ее документов.
– Мое дело маленькое. Мне сказали, я отчалил.
– А сами вы где провели вчерашний вечер и ночь?
– Ну, я отогнал джип, а потом пошел к своей знакомой. А от нее – домой. Утречком.
Знакомая телохранителя Косолапова Валентина Игоревна, 1975 года рождения, подтвердила, что всю ночь телохранитель Иванова провел у нее на квартире.
Что касается охранника офиса, то он проспал почти всю ночь на своем рабочем месте, на раскладушке. Только дважды, первый раз около часа ночи, второй раз под утро – точного времени не помнит, – выходил к круглосуточному коммерческому ларьку, в двух кварталах от офиса, перекусить.
Все трое, секретарша, охранник и телохранитель, сообщили, что в тот вечер при Иванове были золотые часы на золотом браслете швейцарского производства, золотой мужской перстень с пятью бриллиантами, а также кожаная мужская сумочка-визитка с документами и деньгами. Ни одной из перечисленных вещей на трупе не обнаружили. Впрочем, труп был одет в пижаму, поэтому ничего удивительного, что не было при нем ни часов, ни перстня, ни сумочки-визитки. А вскоре все это было найдено у него на квартире, так что версия ограбления рассыпалась, так и не выстроившись.
Разумеется, выяснилось, что никакой газеты «Кайф» в Москве не существует. Женщины по имени Юлия Воронина никто, кроме охранника и телохранителя, не видел нигде и никогда. Вячеслав Иванов в тот вечер не был ни в одном из ресторанов города и пригорода.
Была объявлена в розыск неизвестная женщина, на вид около двадцати пяти лет, рост около ста семидесяти сантиметров, телосложение нормальное, волосы рыжие, прямые, стриженые, глаза темно-синие, большие, лицо овальное, губы полные, нос прямой. Одета в узкое короткое платье лилового цвета. Особых примет нет.
Следствие, начавшееся весьма активно, зашло в тупик и потихоньку превратилось в обычный для милиции всех российских городов «глухарь», то есть в дело, которое вести надо, но раскрыть никогда не удастся.
Неприятно было то, что на убийство кандидата в губернаторы накануне выборов слетелись, как мухи на сахар, журналисты. Особенно упорствовал известный репортер-телевизионщик Матвей Перцелай. Вместе с оператором, державшим камеру на взводе, Перцелай вихрем налетел на усталого следователя:
– У вас есть какие-нибудь предварительные версии?
«Ну и времена! – усмехнулся про себя следователь. – Прямо как в Америке!»
– Без комментариев! – рявкнул он.
– Вы собираетесь скрыть от общественности подробности этого громкого преступления? – не унимался Перцелай. – Вы отдаете себе отчет, что в данной ситуации мифы могут оказаться опасней правды?
– Любая утечка информации может затормозить расследование. – Следователь отстранил микрофон и устало еле слышно произнес в лицо журналисту: – Слушай, не лезь, будь человеком!
В областном управлении ФСБ с Матвеем вообще разговаривать отказались.
В маленькое пограничное село Перцелай отправился один, без оператора, не на телевизионном «микрике» и даже не на своем «жигуленке». Он просто сел в автобус.
Клавдия Васильевна Зинченко пропалывала морковную грядку, Степан Иванович чинил старый будильник, сидя за столом в саду.
– Я с областного телевидения, – представился Матвей и показал свое удостоверение.
– Да уж узнали тебя, – вздохнула Клавдия Васильевна, вытирая руки о фартук, – смотрим твои передачи. Раз приехал, проходи. Только если ты насчет того убийства, так я уже следователю все рассказала. Как было, так и рассказала.
Пройдя в сад, Матвей молча выложил на стол длинный батон финского сервелата, коробку шоколадных конфет, литровую бутылку водки «Абсолют».
К местной милиции старики, как и большинство жителей области, особого доверия не питали. Матвея Перцелая они видели два раза в неделю на экране и считали своим человеком, почти родственником. К тому же им льстило, что областная знаменитость сидит у них в саду, да еще приехал по-простому, на автобусе, с гостинцами, и сам с ними выпьет, и поговорит не спеша.
– Как вы понимаете, – начал Матвей, чокнувшись со стариками «Абсолютом», – убийцу или убийц не найдут никогда.
Клавдия Васильевна поставила на стол чугунок с горячей картошкой, многозначительно вздохнула и поджала губы:
– Да уж, разумеется, не найдут!
– Пока у нас не находят убийц, жить страшно и как-то противно. Я веду свое, журналистское расследование, чтобы хоть что-то выяснить. Вы, Клавдия Васильевна, первая обнаружили труп, вы сообщили в милицию. Расскажите мне подробно, как это произошло, как он выглядел, как был одет. И главное, не заметили вы кого-нибудь еще поблизости? Не слышали звука отъезжающей машины, шагов?
Старушка испуганно замотала головой, открыла рот, но не сказала ни слова.
– Страшно? – шепотом спросил Матвей и заглянул ей в глаза. – Разумеется, очень страшно. Если вы кого-нибудь видели или слышали, если кто-то даже теоретически допустит такую возможность, то, сами понимаете, милиция вас не защитит.
– А ты? – усмехнулся Степан Иванович. – Ты, что ли, защитишь?
– Значит, все-таки был кто-то в роще?
– Узнают, что я видела и рассказала, убьют, – тяжело выдохнула Клавдия Васильевна.
– Могут убить, – кивнул Матвей, – могут, если узнают, что вы видели, но еще не успели рассказать. А когда вы уже поделились информацией – какой смысл вас трогать? Тогда надо затыкать того, кому вы рассказали. Понимаете?
– Значит, я неправильно сделала, что следователю не сказала про тех двоих? – растерянно спросила Клавдия Васильевна.
– Конечно, – кивнул Матвей.
– А теперь уже поздно. Стыдно теперь приходить к ним в милицию и каяться: мол, испугалась, со страху приврала, скрыла самое важное.
– Я не из милиции, – улыбнулся Матвей, – вам, Клавдия Васильевна, не надо менять показания, не надо каяться. Но и бояться тоже не надо.
– Ой, не знаю, не знаю...
– Клавушка, да расскажи ты ему, – вздохнул уже захмелевший Степан Иванович, – может, он докопается потихонечку, и нам с тобой спокойней будет, когда убийц найдут.
– Ладно, – махнула рукой Клавдия Васильевна, – облегчу душу. А то прямо преступницей себя чувствую.
Матвей просидел у стариков до ночи и вернулся домой последним автобусом. Он очень устал, соображал плохо. Учитывая, что Клавдия Васильевна совсем не пила, весь вечер тянула одну крошечную стопочку, они со стариком усидели литр водки на двоих. Возможно, для кого-то это и мало, но для Матвея было много.
О визите в офис Иванова неизвестной рыжеволосой красотки Константинов узнал из письменного отчета Тамары Ефимовны в тот же вечер, через два часа после визита. Красотка была названа среди нескольких посетителей, побывавших в офисе в пятницу вечером.
А в воскресенье, когда журналистку Юлию Воронину уже объявили в розыск, полковник сидел за чашкой чая на веранде в домике Тамары Ефимовны. По условному сигналу он снял «ореховую бабушку» с поста, из-за срочности пришел прямо к ней домой:
– Тамара Ефимовна, попробуйте еще раз вспомнить и описать ту рыжеволосую девушку в лиловом платье.
«Ореховая бабушка» сидела, чуть прикрыв глаза и прихлебывая очень горячий чай из стакана в старинном мельхиоровом подстаканнике. Казалось, она даже не слышит просьбы, но полковник знал – сейчас она старательно воссоздает в памяти одно из лиц, виденных в пятницу.
– Ну, во-первых, она не рыжая, – произнесла наконец Тамара Ефимовна, – у рыжих совсем другой оттенок кожи, у них не бывает такого загара. Во всем ее облике была некоторая театральность, но профессиональная театральность. Вы понимаете, о чем я?
Константинов молча кивнул.
– Профессиональный театральный грим. Не макияж, а именно грим. И парик. Да, это был парик. У меня сразу возникло впечатление придуманного, талантливо сыгранного образа. Образ получился гармоничный и точный, до мелочей. Я заметила только два момента, выдавших игру: как она поднырнула под цепь между створками ворот – в этом было что-то детское, девчоночье, я тогда подумала, что она хочет казаться старше, чем на самом деле. И еще, когда они вышли из офиса, она этак передернула плечами и отстранилась от Иванова, мол, «не трогайте меня!». Этот жест выдал в ней то, что в прежние времена называли «порядочной барышней». А играла она светскую львицу, роковую женщину, такую современную сексуальную стервочку, которую может любой потрогать. То есть не любой, конечно, но тот, кто сажает ее в белый джип, имеет полное право.
– Они сели в машину? – быстро спросил полковник.
– Конечно. На заднее сиденье.
– А кто находился за рулем?
– Телохранитель.
– Очень интересно, – кивнул Константинов, – продолжайте, пожалуйста, Тамара Ефимовна. Простите, что я вас перебил.
– Это хорошо, что вы меня перебили, – улыбнулась она, – а то я, кажется, в мистику впадаю.
– То есть?
– Нет, даже не стоит об этом говорить. Этого не может быть.
– Может, Тамара Ефимовна, все может быть. Вы договаривайте до конца, а потом разберемся.
– Ох, Глеб Евгеньевич, запутаю я вас. Всегда боюсь впасть в мистику и превратиться в какую-нибудь гадалку-прорицательницу, из тех мошенниц, что объявления в газетах печатают. Представляете, «Провидица Тамара. Угадываю прошлое и будущее на расстоянии...» – Она усмехнулась, отхлебнула еще чаю. – В общем, я вам скажу, но вы мне не верьте на слово. Мне показалось, я видела эту девушку раньше, в ее натуральном, так сказать, образе. Несколько дней назад я обратила внимание на девушку лет восемнадцати, отдыхающую. Она жила здесь, на Студенческой улице. Маленькая, хрупкая, темненькая. Я сначала обратила внимание на ее походку, знаете, типично балетная походка, не с пятки, а с носка, и носки слегка врозь. Как у вашей Елизаветы Максимовны. Еще я удивилась, что она приехала сюда отдыхать одна. Это не вязалось со всем ее обликом. Вы понимаете, о чем я говорю? Приличные девушки сюда в одиночестве не приезжают. Так уж повелось. Вероятно, поэтому у нее были всегда испуганные глаза. Знаете, такие большущие, карие, испуганные глаза...
– Простите, Тамара Ефимовна, вы сказали – карие? А у той, в рыжем парике?
– У той – синие. Темно-синие. Странный цвет, даже чуть лиловатый, как бы под платье. Или платье так оттеняло?
– Может, цветные контактные линзы? – предположил Константинов. – Они ведь сейчас продаются.
– Глеб Евгеньевич, – покачала головой старушка, – мы с вами подтасовкой фактов занимаемся. Я плету невесть что, а вы, вместо того чтобы остановить меня, поддакиваете.
– Хорошо, давайте пока глаза оставим в покое. Вы мне все-таки про девушку дорасскажите.
– А больше нечего рассказывать. Интеллигентная, милая девочка, мне ее очень жалко было, потому что она снимала комнату у самой вредной хозяйки на нашей улице, у Гальки Вихровой. Я даже подумала, не взять ли ее к себе. Но у нас так не принято. Да и вообще, пустой это разговор. Она ведь уехала дня три-четыре назад. Я вспомнила. Галька ругалась, жаловалась, мол, жиличка такая попалась, деньги назад взяла – и поминай как звали.
– Кстати, как ее звали, не говорила эта Галька?
– Нет.
– Не могли бы вы навестить соседку и расспросить?
– Зайти-то я могу, Галина – женщина болтливая, все расскажет с удовольствием. Но зачем? Я уже почти не сомневаюсь – это два совершенно разных человека.
– Почти... – задумчиво повторил Константинов, – все-таки почти не сомневаетесь.
– Ладно, Глеб Евгеньевич, чувствую, вы не успокоитесь, пока это «почти» не прояснится. Я вас много лет знаю. Галина давно у меня просила несколько саженцев персидской розы. Вот возьмите там у сарая лопатку и помогите мне выкопать пару штук.
* * *
Галина поливала огород из огромной жестяной лейки, охала и свободной левой рукой потирала поясницу.
– Тома! Да неужто саженцы принесла! – обрадовалась она. – Вот спасибо! Чайку попьешь со мной? Или винца домашнего?
– У тебя прошлогоднее или новое?
– Прошлогоднее. Сладкое получилось.
Женщины сели за стол в саду. Галина разлила густое красное вино по граненым стаканчикам. Чокнулись, выпили. Хозяйка – залпом, как водку, а гостья только пригубила, отпила маленький глоточек.
– Ну что, Галина, отдыхающих не нашла себе еще?
– Нет пока. Все некогда на вокзал поехать. Да и опасаюсь я теперь, вдруг нарвусь на такую же авантюристку.
– Ну почему же – авантюристку? Я видела ее, жиличку твою. Хорошая девочка, тихая. Мало ли что могло случиться.
– Да уж, хорошая девочка! С виду только скромница. Ты бы видела ее любовника. Тоже мне, артистка.
– Так у нее любовник здесь был? – удивленно подняла брови Тамара Ефимовна.
– А как же! Один раз ее прямо к калитке иномарка подвезла, потом стояла здесь еще полчаса. Я сама-то не видела, Васька рассказывал.
– Так почему же она у тебя жила, если у нее любовник на иномарке?
– Ой, да ее не разберешь, Машу эту, – махнула рукой хозяйка, налила еще вина гостье и себе, опять выпила залпом.
– Слушай, я тебя спросить хотела. Твоя жиличка в кино случайно не снималась? Лицо знакомое вроде. Как фамилия ее, не знаешь?
– Кузьмина ее фамилия. В кино она не снималась. Она только учится на артистку.
– А где учится?
– Она говорила, да я забыла. Сколько их в Москве-то, институтов этих, где учат на артистов! Ох, дела, Тома, ну и жизнь пошла! Ей-то всего девятнадцать, а любовнику – сорок, не меньше.
– Да ты что! А ты его разве видела?
– Приходил, – кивнула Галина, – только опоздал. Она уже уехала. Он красивый такой, представительный мужчина, сам седой весь, но лицо молодое. Черную свою иномарку на углу оставил, подходит к калитке, спрашивает, мол, не живет ли у вас Маша из Москвы. А я ему – уехала, говорю, ваша Маша, а вы кто ей будете? А он... Нет, ты представляешь, он мне заявляет: я ей любовник. Ну прям хоть стой, хоть падай.
– Так и сказал?!
– Прямо так и ляпнул! – Хозяйка выразительно поджала губы. – А потом развернулся и пошел к своей иномарке.
– Так они и не встретились? – сокрушенно покачала головой Тамара Ефимовна. – Так и разминулись?
– Чего не знаю, того не знаю. Она, когда деньги потребовала, сказала, мол, в Москву хочет ехать, домой. Наверное, уехала. А он ее искал.
– А он-то сам местный или тоже отдыхающий?
– Вот этого я не поняла. Я номеров-то не разглядела, машина на углу стояла. Только видела, что машина черная. Случается ведь, люди из Москвы и на машинах сюда приезжают.
– Да, интересная у тебя жизнь, – вздохнула Тамара Ефимовна, – прямо страсти кипят.
– И не говори, Тома, и не говори!
Вернувшись к себе через полчаса, Тамара Ефимовна рассказала Константинову о Маше Кузьминой все, что узнала от соседки. Но никакой ясности эта информация не прибавила.
* * *
В большой пляжной сумке Матвея лежали запасные плавки, полотенце, свернутый надувной матрас и велосипедный насос. Полковник увидел с балкона своего номера короткую круглую фигуру в белых шортах, шагавшую по аллее к пляжу, и тут же засобирался.
– Я с тобой! – сказал Арсюша, заметив, что Глеб кладет полотенце в сумку.
– Хорошо, – кивнул полковник и предусмотрительно бросил в пакет вместе с полотенцами том Конан Дойла – стоило подсунуть его Арсюше, он забудет обо всем и не поплывет с Глебом до буйков.
Один раз они искупались вместе, потом Константинов растер мальчика полотенцем, надел кепку на его светло-русую голову и положил перед ним книгу, которую Арсюша тут же раскрыл на заложенной странице.
Посидев несколько минут рядом с сыном, подождав, пока Матвей надует свой матрас велосипедным насосом и спустит его на воду, Глеб лениво поднялся.
– Пожалуй, я окунусь еще разок.
– Ага, – ответил Арсюша, не отрываясь от книги.
Доплыв до буйка, возле которого уже покачивался на матрасе Матвей, полковник тихо спросил:
– Ты не слишком разошелся со своим журналистским расследованием?
– Азарт – великое дело, – улыбнулся Матвей, – я наведался вчера к той старушке, которая труп обнаружила. Автобусом поехал, вместо камеры с оператором привез водки с колбасой. Как я и предполагал, старушка видела не только труп, но и тех, кто его принес и положил. Их было двое, в камуфляжных жилетах. Следователю бабушка ничего не сказала, испугалась, и говорить уже не собирается. Так вот, эти двое бросили труп в вишневой пижаме у пня и быстро ушли к шоссе, где их, вероятно, ждала машина. Машину бабушка, конечно, не видела, но слышала шум мотора.
– Те двое могли ее видеть?
– Если б видели, я бы с ней вряд ли сумел вчера побеседовать. В роще нашли бы два трупа. У меня все, Глеб Евгеньевич.
– Спасибо, Мотя. Ты сам что думаешь?
– Думаю, чеченцы его и прикончили. Что-то там случилось, чем-то он им не угодил, они люди горячие, шлеп – готово. Был кандидат на губернаторский пост, стал труп в вишневой пижаме.
– Возможно, вполне возможно... – задумчиво произнес Константинов. – Ты теперь затихни на недельку, займись чем-нибудь другим. А лучше всего отправляйся в командировку.
– Я бы с удовольствием отправился, Глеб Евгеньевич, а вы как же?
– Ничего, Матвей, я теперь уже сам, – он улыбнулся, – все, счастливо! Спасибо тебе. Будь осторожен, очень тебя прошу, – и он поплыл к берегу, а Матвей на своем матрасе так и остался покачиваться у буйков с закрытыми глазами.
Арсюша читал Конан Дойла не отрываясь.
– Эй, ты здесь не сгорел? – спросил Глеб, притрагиваясь к его горячей спине. – Может, пойдем, мама нас уже ждет?
– Да, сейчас, – ответил Арсюша, не поднимая глаз.
– Давай поднимайся, сейчас солнце самое тяжелое. Окунись разок, а я пока все соберу.
– Ладно, – Арсюша неохотно оторвался от книги, пробежал, поджимая ноги, по раскаленным камням пляжа к воде, нырнул пару раз. Долго плавать ему не хотелось, он остановился на самом интересном месте рассказа о пляшущих человечках, поэтому сразу прибежал назад, наспех вытерся, сунул ноги в шлепанцы.
– Не хочешь переодеться? – спросил Глеб.
– Так дойду. До корпуса два шага.
Они уже почти подошли к дверям корпуса, когда Арсюша посмотрел на руку и охнул:
– Глебушка, ты часы мои клал в пакет?
– Нет. Я их вообще не видел.
– Ну все! Я их забыл там, на пляже.
Арсюша очень дорожил своими первыми в жизни часами. Мама подарила их ему на десятилетие. Они были с будильником и с крошечным калькулятором. Он побежал на пляж сломя голову, а Глеб остался ждать на аллее. Арсюши не было довольно долго, и он решил пойти за сыном, помочь искать часы.
Арсюша стоял и смотрел на море. Часы красовались у него на руке.
– Глебушка, – сказал он тихо, – смотри, там пустой матрас плавает.
Полковник увидел за буйками пустой матрас Матвея. Оглядевшись, он заметил на лежаке знакомую пляжную сумку. Самого Моти нигде не было.
Пока искали спасателей, пока спускали на воду и заводили катер, полковник успел нырнуть раз пять, проплыть под водой у буйков туда и обратно. Вместе с ним в море бросились двое мужчин, загоравших на пляже. Остальные отдыхающие бестолково толпились, отпуская реплики: «Какой ужас!», «Кошмар!», «Надо же!».
Вынырнув в очередной раз, полковник заметил на берегу Лизу рядом с Арсюшей. Они стояли, обнявшись, и ждали, когда он выйдет из воды.
Тело Матвея нашли через четыре часа. Его отнесло течением далеко в сторону, к одному из окраинных пляжей. В поисках принимали активное участие водолазы из Научно-исследовательского института морских млекопитающих, с раннего утра работавшие неподалеку от пляжа санатория.
– Знаете, сколько у нас за лето бывает утопленников? – спросил врач «скорой».
– Знаю, – кивнул полковник, – но погибший отлично плавал.
– Товарищ полковник, вы с ним были знакомы? – услышал Константинов за спиной чей-то голос.
Для того чтобы пройти за ограждение, которым зачем-то оцепили пляж, Глебу пришлось показать свое удостоверение.
– Да, – кивнул он задавшему вопрос младшему лейтенанту милиции, – я был с ним знаком. Его ведь вся область знала, и не только.
– Тонут чаще всего те, кто хорошо плавает, – заметил врач «скорой», – то ногу сведет, то сердечный приступ в воде. Обычное дело, мы уже привыкли. А то заснет человек на матрасе, упадет в воду и тут же захлебывается. Недаром плавать на матрасах за буйки категорически запрещается.
Уходя, Глеб почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Он оглянулся. На него смотрел парень лет двадцати двух, в резиновом водолазном костюме – один из наемных водолазов НИИ морских млекопитающих.
* * *
Далеко за полночь Константинов и Белозерская сидели вдвоем на освещенном балконе. Арсюша давно спал в соседнем номере, Глеб курил, глядя в темноту санаторного сада, Лиза сосредоточенно вязала.
– Пошли спать, – тихо сказал Константинов, – поздно уже. Ты испортишь глаза, свет очень слабый.
– Глебушка, – прошептала Лиза, быстро двигая спицами, – неужели нельзя просто послать подразделение спецназа в эти проклятые горы и разгромить их вонючие базы к чертовой матери?
– Надеюсь, скоро можно будет. Только Матвея уже не вернешь.
И тут послышался тихий свист. На этот раз Юраша Лазарев воспроизводил «Траурный марш» Шопена. Константинов не стал отвечать свистом, как-то не хотелось. Он просто спустился вниз.
– Ну, что скажешь, полковник? – усмехнулся Юраша, присаживаясь на скамейку.
– Я бы тебя хотел послушать, полковник, – ответил Глеб безо всякой усмешки.
– А что меня слушать? Из моих людей никто к офису близко не подходил в тот вечер. Я, конечно, и думать не смею, что это ваша работа. Но ты мне все-таки скажи прямым текстом, мол, нет, Юраша, это не наша работа. А то мой герр генерал требует подробного отчета.
– Нет, Юраша, Иванова убрали не мы. Но и ты мне, будь добр, скажи тоже прямым текстом – что это не ваша работа. Ведь мой генерал тоже ждет подробностей.
– Не наша, – покачал головой Лазарев, – а жаль. Тонкая работа, просто отличная! Особенно мне понравилась вся эта путаница с рыжей красоткой и с молодежной газетой «Кайф». Хотел бы я знать, кто с нами и с вами так успешно конкурирует. Ведь и мы, и вы тоже должны были комсомольца тихо арестовать. У вас как, доказательств хватало?
– А у вас?
– А у нас в квартире газ! – засмеялся Юраша. – Слушай, Глебушка, теперь уже все равно, удовлетвори мое здоровое любопытство. Вы ведь знали, кто конкретно из чеченцев оплатил предвыборную кампанию комсомольца?
– Не думаю, что любопытство – здоровое чувство. И вообще, Юраша, о мертвых или хорошо, или ничего. Стоит ли поминать несчастному Иванову его чеченские грехи? Пусть земля ему будет пухом.
– Ладно, Глебушка, Бог с ним, с комсомольцем. А как насчет твоего Матвея? Про его безвременную кончину что скажешь?
– Скажу одно: я уверен, ваши люди не работали сегодня с раннего утра в бригаде наемных водолазов НИИ морских млекопитающих.
– Ты думаешь, он не сам утонул? – удивленно поднял брови Юраша.
– Ты тоже так думаешь.
– Что теперь гадать? Ведь не докажешь уже ничего. Как говорится, концы в воду. Ужас, что творится, – сокрушенно покачал головой Лазарев, – кандидата в губернаторы находят в роще в одной пижаме с пулей в затылке, лучший журналист области тонет в море среди бела дня, на глазах у нескольких десятков отдыхающих, а мы с тобой, два полковника, ну ничего не знаем.
– И не говори, – согласился Константинов, – действительно, ужас.
К полудню городской рынок превращался в гудящее, орущее, бурлящее, как кипяток, человеческое море. Совсем близко светилось на солнце море, настоящее, спокойное и прохладное. А здесь, на рынке, жара казалась нестерпимой, хотелось вырваться из толкучки и убежать на пляж.
Крепко держа Арсюшу за руку, полковник Константинов шел вдоль бесконечного мясного ряда, где были разложены дымящиеся ломти еще теплой красной говядины, розовой свинины и темно-вишневой баранины. На крюках висели бледные молочные поросята и синеватые кролики с неободранными пушистыми лапками.
– Глебушка, пойдем отсюда, пойдем на пляж! – канючил Арсюша.
– Ты же хотел домашней колбасы, давай уж купим. Обидно полчаса здесь протолкаться и уйти с пустыми руками.
Продавцы громко зазывали всех проходивших мимо и потряхивали тяжелыми кусками мяса над прилавками.
– Я уже не хочу никакой колбасы, – ворчал мальчик, – я лучше вегетарианцем стану.
Полковник нес два тяжелых пакета с фруктами, пот лился градом, тонкая рубашка промокла насквозь.
– Давай хотя бы сала купим, хорошего деревенского сала, розового, с прожилочками, – уговаривал он.
– Мама говорит, сало есть вредно.
– Для мамы вообще все вредно. Ты же у нас не балерина.
– Ну, пожалуйста, Глебушка, пойдем. Я устал.
– Ладно, – сдался Константинов, – обойдемся без сала и колбасы.
Елизавета Максимовна должна была ждать их в небольшом открытом кафе в центре рынка. Пока Глеб с сыном покупали продукты, она отправилась к рядам с колониальными товарами. Надо было купить Арсюше новые плавки, пару маек, а себе – пляжные шлепанцы и шпильки для волос.
Быстро справившись с покупками, Лиза отправилась в кафе. С чашкой кофе и стаканом сока она уселась за пустой столик в углу.
Толпа обтекала кафе с двух сторон. Под широким полосатым тентом было прохладно и спокойно. Лиза успела устать от толчеи вещевых рядов. С удовольствием откинувшись на неудобную спинку пластмассового стула, она отхлебнула ледяной яблочный сок и вдруг услышала, как кто-то зовет ее по имени-отчеству. Она огляделась. К ней, лавируя между столиками, шла ее ученица Маша Кузьмина.
За тот месяц, который Белозерская ее не видела, девочка похудела еще больше и не то чтобы повзрослела, но как-то неуловимо изменилась. Черты стали мягче, женственней, взгляд глубже и серьезней. «Как быстро чужие дети растут», – успела подумать Лиза и тут заметила рядом с Машей высокого седого господина лет сорока – широкие плечи, умные, насмешливые голубые глаза, твердая линия рта. «О Господи! – испугалась Лиза. – Вот оно что. Роман у Машеньки. Роман с человеком, который старше ее раза в два. Такие редко бывают холостяками, и дети есть наверняка. Неужели она с ним здесь познакомилась?»
– Елизавета Максимовна, – Маша отступила на шаг, – это Вадим. Мой... – она запнулась, – мой друг. Вадим, это моя учительница балета Елизавета Максимовна, подруга моей мамы.
«Интересно, что скажут Машины родители? Здесь не просто роман, они оба чуть не светятся, фосфоресцируют изнутри».
– Очень приятно, – сказала она вслух и пожала сухую, сильную руку.
– Машенька, зачем тебе толкаться со мной у прилавков? – спросил Вадим. – Я куплю все сам, а ты посиди здесь с Елизаветой Максимовной, кофейку попей. Я вернусь за тобой минут через двадцать.
Он ушел. Маша взяла себе чашку двойного кофе по-турецки, тут же закурила и возбужденно зашептала:
– Елизавета Максимовна, вы только родителям ничего не говорите.
– Машенька, а они вообще знают, что ты здесь?
– Нет. Я сказала, что еду в Севастополь, к Лене Семеновой. А сюда мы собирались приехать с Саней Шарко, они бы меня с ним не отпустили, пришлось соврать.
– Та-ак, – протянула Елизавета Максимовна, – это замечательно. Никогда не думала, что ты способна соврать маме с папой. Они совершенно правы, что не отпустили бы тебя сюда с Шарко. Тот еще вертихвост. Где он, кстати?
– В Москве.
– То есть?
– Ну, понимаете, ему дали роль на телевидении, а билеты мы уже купили и решили, что я поеду первая, а потом встречу его. Но он не приехал. У него случился приступ аппендицита, его увезли на «скорой». Его мама сказала, когда я дозвонилась в Москву. Она мне даже деньги выслала на обратную дорогу, но тут получить нельзя, переводы не выплачивают.
– Да, я знаю, – кивнула Белозерская, – и ты осталась одна, без денег?
– Я взяла у хозяйки то, что заплатила вперед за комнату, там как раз хватало на билет в плацкартном вагоне, но у меня вытащили из сумки, прямо на вокзале. Тогда я решила доехать до Москвы на товарняках.
– На чем, прости?
– На товарных поездах. Нет, вы не волнуйтесь, у меня все равно ничего не получилось. Я влипла в кошмарную историю, и если бы не Вадим... В общем, долго рассказывать. Как-нибудь потом, в Москве, я вам расскажу.
– Сколько ему лет? – тихо спросила Белозерская.
– Сорок пять.
– Он женат?
– Нет. Он уже десять лет один. Есть взрослый сын, но живет в Канаде.
В этот момент в кафе вошли Глеб и Арсюша.
– Ой, Машка Кузьмина! Машка, привет! – обрадовался Арсюша.
Елизавета Максимовна часто брала его на занятия в училище, он знал всех ее студентов и в гостях у Кузьминых бывал с мамой.
– Глебушка, познакомься, Машка Кузьмина – мамина ученица, жутко талантливая, в футбол классно играет! – сообщил он Константинову.
«Маша Кузьмина, та самая, в которой Тамара Ефимовна увидела нечто общее с рыжей корреспонденткой, – подумал полковник, – значит, она не уехала из города. А глаза у нее действительно карие. Она – Лизина ученица, студентка Щепкинского театрального училища. Из этого вовсе не следует, что она могла загримироваться, напялить рыжий парик, вставить синие контактные линзы и сыграть загадочную корреспондентку. Нет, теоретически, конечно, могла. Однако зачем?»
Константинов машинально пожал тонкие прохладные пальчики, произнес: «Очень приятно!» – и тут же замер: в кафе входил доктор Ревенко. Он шел прямо к ним, к их столику, с двумя тяжелыми пакетами – такими же, как у Константинова. Но из всех, кто сидел и стоял у столика, он видел только одного человека – Машу Кузьмину. Он шел к ней, никого, кроме нее, не замечая.
– Ой, мама, это же тот самый доктор, который мне руку вправлял! – закричал Арсюша.
– Здравствуй, Арсюша, – как бы опомнившись, оторвав глаза от Маши, улыбнулся доктор, – ты уже без повязки? С рукой все нормально?
– Все отлично! Наша санаторная врач сказала, мне повезло, плечо могло распухнуть, я бы даже купаться не сумел, если бы вы сразу не вправили.
– Спасибо вам большое, Вадим... – Лиза растерялась, она успела забыть отчество Машиного «друга».
– Николаевич, – тут же подсказала Маша.
– Спасибо, Вадим Николаевич, вы Арсению не только руку вправили, но и мозги тоже. Он теперь врачей не боится, раньше даже горло еле уговаривали показать, а уж от уколов просто под стол готов был залезть.
– Ничего я не боялся и никуда не залезал, – насупился Арсюша, – тебе, мамочка, лишь бы только меня воспитывать при всяком удобном и неудобном поводе.
– Арсюша у вас молодец, – сказал Ревенко, продолжая улыбаться, – не всякий взрослый держался бы так мужественно.
– Мы не познакомились тогда, на границе, – полковник протянул Ревенко руку, – Константинов Глеб Евгеньевич.
– Ревенко Вадим Николаевич. – Они пожали друг другу руки.
И в этот момент полковник спиной почувствовал чей-то взгляд. Такие взгляды он всегда чувствовал спиной – внимательные, фиксирующие, словно фотообъектив, каждый шаг, каждое движение.
«Хвост»! – мелькнуло у него в голове. – Так я и знал. Надо быстро расходиться».
Оглянувшись, Глеб не заметил никого, похожего на наружника. «Скорее всего, следят за Ревенко. Своего „хвоста“ я бы почувствовал значительно раньше. Интересно, кто идет за доктором на этот раз? Чеченцы или смежники?»
– Константинов? Полковник Константинов? – шепотом произнесла Маша, глядя на Глеба как зачарованная.
– Конечно, полковник! – гордо кивнул Арсюша. – А ты откуда знаешь?
– Да, Машенька, откуда вы знаете, что я полковник? – спросил Глеб с улыбкой.
– Не важно. Потом расскажу, – быстро, возбужденно заговорила Маша, – нам необходимо...
– Нам необходимо с вами поговорить, – тихо перебил ее доктор, – нам срочно надо встретиться с вами, Глеб Евгеньевич.
– Да, Вадим Николаевич, мы непременно поговорим. Но не здесь и не сейчас.
– А давайте вместе пойдем на пляж! – предложил Арсюша. – Машка, ты вообще где живешь? Ты надолго здесь?
Арсюша трудно знакомился со сверстниками, а девятнадцатилетнюю Машу воспринимал почти как ровесницу. Иногда после занятий она самозабвенно гоняла с ним в футбол во дворе училища.
Доктор вытащил из кармана свою визитную карточку и протянул мальчику:
– Вот телефон, ты можешь позвонить Маше в любое время.
Взгляд невидимого «хвоста» сверлил полковнику затылок, как рентгеновский луч. Даже голова заболела.
– Ночью, – произнес он одними губами, чуть наклонившись к Ревенко, – в два часа ночи за первым волнорезом в сторону города, на пляже у вашего дома. За вами следят. Нас не должны видеть вместе.
Он сказал все это очень быстро и очень тихо, но Ревенко прекрасно расслышал и понял каждое слово.
– А мы в «Солнечном береге», – сообщил между тем Арсюша, – номер четыреста тридцать семь, третий корпус, четвертый этаж. Телефона, правда, нет.
– Пожалуй, нам пора, – сказал доктор, беспокойно оглядевшись, – очень приятно было познакомиться.
Как только они скрылись в толпе, Лиза вздохнула:
– Ужас какой! Мало того что у девочки роман с человеком, который...
– Который – что? – тут же встрял Арсюша, переводя любопытные глаза с мамы на Глеба.
Полковник вытащил из кармана несколько купюр и протянул ему:
– Купи, пожалуйста, себе мороженое и сок, а нам с мамой по чашке кофе.
– Я все не донесу, – обиделся Арсюша, – не хотите при мне Машку обсуждать, так и скажите, сплетники несчастные!
– Мы не собираемся обсуждать Машу, – успокоила его Лиза, – просто Глеб устал, нес тяжелые сумки. А я – дама. Поэтому мороженое и кофе лучше купить тебе. Там дают поднос, так что не волнуйся, ты донесешь.
Арсений, надувшись, отошел к прилавку.
– Лиза, почему «ужас»? Ну роман у девочки. Она же совершеннолетняя, рано или поздно с девушками ее возраста такое случается. И хорошо, если случается. Неужели ты не заметила, что у них с этим Ревенко достаточно серьезные отношения? Он глаз с нее не спускает...
– Перестань, Глеб! – поморщилась Лиза. – Они только познакомились, а она уже живет у него. Родители понятия не имеют, где она и с кем. Машина мама – моя близкая приятельница. Маша – единственный поздний ребенок, они дрожат над ней. А она наврала с три короба, сказала, будто отправляется с подругой в Севастополь, а сама собралась сюда с мальчишкой, с первым красавцем курса. Редкостный прохвост.
– Кто?
– Мальчишка. Герой-любовник, – Лиза неприятно усмехнулась, – мне с самого начала не нравилась их дружба.
– Ну, теперь это в любом случае дело прошлое, – пожал плечами Глеб, – где он, первый красавец курса?
– В Москве! Задержался по каким-то своим делам. Маша приехала первая. А у него случился аппендицит. Она осталась здесь одна, у нее вытащили последние деньги, в общем, после всяких приключений она и познакомилась с этим доктором. Глупо, конечно, морализировать, но понимаешь, я Машеньку знаю с пеленок. Все-таки одно дело – мальчик-сокурсник и совсем другое...
Лиза нервничала и сбивалась. Глеб, слушая ее, думал о том, какая странная получается цепочка: Ревенко – чеченец – Иванов – корреспондентка – Маша Кузьмина. Все замыкалось на Маше и докторе. Но есть ли в этом какая-нибудь логика? Глупо думать, будто эта влюбленная парочка, которой дела нет ни до кого, причастна к убийству Иванова!
– Глеб, ты меня слышишь? – обиженно спросила Лиза. – Почему ты молчишь?
– Да, Лизонька, я тебя внимательно слушаю, – виновато встрепенулся он, – я не понимаю, почему ты так нервничаешь. Ревенко – хороший человек...
Тут подошел Арсюша с подносом, и они замолчали.
– Все обсуждаете Машку и ее хахаля? – мрачно поинтересовался он.
– Как ты сказал? – подняла светлые брови Лиза. – Хахаль?
– Ну, любовник, жених – какая разница? – Арсюша деловито принялся за шоколадное мороженое. – Мам, ну будто я не заметил! Что ты на меня так смотришь? У Машки Кузьминой любовь до гроба, а ты мучаешься, не знаешь, сказать тете Наташе и дяде Леве или нет. Я думаю, не стоит тебе лезть в чужие дела. Они начнут за сердце хвататься, тетя Наташа будет рыдать, дядя Лева – грызть валидол и запивать валерьянкой.
– Валидол не грызут, а сосут, – поправил полковник.
Елизавета Максимовна смотрела на сына, подперев ладонью щеку:
– Хорошо. Раз ты такой умный, скажи, тебя не смущает, что этот доктор старше Маши лет на двадцать пять?
– Подумаешь! – пожал плечами Арсюша. – В жизни всякое бывает. А он – классный мужик, Машка с ним не пропадет. И если хочешь знать, с Санькой-красавчиком его не сравнить!
– О Господи! Ты и это знаешь! Ты что, в курсе всех наших институтских романов? Или выборочно?
– Выборочно, – кивнул Арсюша и тщательно облизал ложку, – про Кузьмину я знаю. Про нее интересно. А про других – нет.
– Почему? – удивился Глеб.
– Ну как тебе объяснить? – Арсюша задумался. – Понимаешь, большинство девиц считает, что они – самые красивые. Они только об этом и думают. Вот разговаривает с тобой какая-нибудь фифа, спрашивает тебя о чем-то, а ты чувствуешь, что ей до тебя дела нет. Она в это время как бы собой любуется: «Ах, какая я красивая, ах, какая я обаятельная!» И сразу становится скучно, будто с куклой говоришь. А Машка слушать умеет, и в футбол играет, как парень, и вообще...
– Футбол – это главное, – кивнул полковник, – куда ж нам без футбола? Карточку дашь посмотреть визитную?
– Между прочим, это мне вручили. Мне лично! Доктор – мой знакомый, а не ваш. Это ведь не тебе, Глебушка, он вывих вправлял.
– Вот и покажи. Любопытно взглянуть на первую визитную карточку, которую вручили тебе, как взрослому.
– На, смотри! – великодушно разрешил Арсюша и вытащил карточку из кармана.
* * *
– Видишь, как все просто? – спросила Маша, садясь в машину.
– Этот полковник – муж твоей преподавательницы?
– Муж у нее пианист. Известный.
– Интересно... Ты догадалась, что он полковник, только по фамилии?
– Вадим, ну ведь у него на лбу написано: «Я – военный!» Ты разве не заметил? И потом, ходил мутный слушок по институту, будто у Белозерской давний роман с каким-то полковником, чуть ли не разведчиком. А главное, когда в голове все время вертится сочетание «полковник Константинов» и тебе называют эту фамилию, сомнения отпадают сами собой.
– Значит, он отдыхает здесь с твоей преподавательницей и ее сыном, а отец семейства, пианист...
– В Голландии. Учит тамошних музыкантов. А Арсюша – сын Константинова.
– Почему ты так думаешь? – удивился Вадим.
– Я видела пианиста несколько раз, ходила на его концерты и все гадала: на кого похож этот ребенок? А сейчас поняла на кого. Значит, у них роман не меньше десяти лет. Арсюше ведь десять.
– Не меньше одиннадцати. Ребенка еще вынашивают девять месяцев.
– Бедный пианист, – вздохнула Маша, – Арсюша называет его папочкой, а родного отца – Глебушкой. Но, в общем, я уверена в Константинове. Если у Елизаветы Максимовны с ним роман одиннадцать лет, он не может быть плохим человеком.
– Машенька, я не сомневаюсь, что он замечательный человек. Но арестует меня за милую душу. И будет прав.
– За что? Ты врач, ты обязан спасать жизнь раненым.
– Раненым бандитам, за большие деньги.
– А почему ты должен лечить бандитов бесплатно? Я, между прочим, читала Уголовный кодекс. Там есть статья – о неоказании медицинской помощи. А об оказании помощи статьи нет. В чем тебя обвинят? Что раньше не донес? А кому ты должен был доносить? Этому провокатору капитану Головне, про которого ты рассказывал? Да здесь же вся милиция состоит из таких Головней!
– Машенька, – тихо попросил Вадим, – не надо обвинять весь мир, оправдывая меня.
– Правильно. Тебя не надо оправдывать. Ты ни в чем не виноват. И арестовывать тебя не за что.
– Передачи будешь мне носить? – улыбнулся Вадим.
– Ага, прямо сейчас, приедем и начнем сухари сушить. Только хлеба надо купить подходящего, чтобы не крошился под ножом.
* * *
У Ларисы Величко был закупочный день. На рынок она всегда отправлялась одна, без мужа. Ее Вова дурел от обилия людей и товаров, походив пятнадцать минут вдоль рыночных рядов, жаловался, что голова кружится и в глазах рябит, хныкал как малый ребенок: «Пошли отсюда!»
Лариса любила бродить по рынку, долго, с удовольствием торговалась, закупала на несколько дней овощи, парную свинину, розовое соленое сало, творог, травы и специи. Давно не было нужды таскать продукты с ресторанной кухни. Денег хватало, чтобы все закупить на рынке, самое свежее и качественное.
Обычно она легко носила тяжести, но на этот раз набрала слишком много всякой снеди. В каждой руке несла по три пластиковых мешка, общим весом килограммов тридцать, плечи ломило, к тому же жарища стояла нестерпимая.
Купив упаковку тонкого, как бумага, армянского хлеба, который хорошо разогреть в микроволновой печи, а потом завернуть в него кусок белоснежного домашнего сыра с парой листиков лилового тархуна, Лариса остановилась в раздумье у открытого кафе напротив хлебной лавки. Она размышляла, не посидеть ли минут десять в тени под полосатым тентом, не выпить ли чашку кофе или лучше сразу идти к машине и скорее ехать домой с этими неподъемными сумками, тем более домашних дел впереди очень много.
«Дома я и десяти минут не передохну, – решила Лариса, – начну сумки разбирать, котлеты крутить. Выпью я здесь, пожалуй, кофейку».
За угловым столиком она заметила одинокую белокурую женщину и тут же узнала ее. Ошибиться невозможно: высокая гибкая шея, гладко зачесанные назад и стянутые в пучок на затылке пепельные волосы, большой выпуклый лоб, тонкий, с аристократической горбинкой нос, светлые изогнутые брови над бледно-серыми, почти прозрачными глазами. За угловым столиком пила в одиночестве кофе Елизавета Максимовна Белозерская, бывшая балерина, любовница полковника ГРУ Глеба Евгеньевича Константинова.
Лариса уже шагнула под полосатый тент, на ее раскрасневшемся лице расплылась радостная, простодушная улыбка, но тут она услышала, как кто-то крикнул с противоположной стороны ограждения, где тоже был вход: «Елизавета Максимовна!»
Все еще улыбаясь, Лариса сделала шаг назад. Она видела, как прямо к Белозерской направляется тощая темноволосая девчонка. Возможно, Лариса и не узнала бы ее, но за ней маячила седая голова доктора Ревенко.
Простодушная улыбка бесследно растворилась, лицо Ларисы замерло. Она сделала стойку, как хорошая охотничья собака, и впилась глазами в компанию за столиком. Слов она разобрать не могла из-за шума, но по жестам догадалась, что московская пацанка давно знакома с Белозерской, однако на рынке они встретились случайно, обе рады встрече, но слегка смущены. Она догадалась, что пацанка знакомит Белозерскую с Ревенко.
Ларису толкали, пихали, какая-то толстуха громко выругалась, стукнувшись коленом о Ларисины тяжелые сумки. Застревать здесь не следовало, ее могли заметить из кафе. Но уходить, не доглядев до конца, она не собиралась. Эта случайная встреча, проходившая у нее перед глазами, словно кадры немого кино, стоила того, чтобы отказаться от чашки кофе в тени.
Оглядевшись, Лариса заметила стеклянную витрину хозяйственной лавки и нырнула внутрь. Отсюда отлично просматривалась та часть кафе, где сидели за столиком двое: Белозерская и пацанка. Доктор ушел, вероятно, отовариваться. С улицы Ларису невозможно было заметить, взгляд упирался в блестящее стекло, и глядевший видел только собственное отражение, как в большом зеркале.
Пацанка что-то возбужденно рассказывала Белозерской, та качала пепельной головой. Минут через пятнадцать в кафе вошли Константинов и десятилетний сын Белозерской Арсений. Мальчишка был явно знаком с докторской пассией и обрадовался ей, как родной. А вот Константинов видел пацанку впервые. Белозерская представила их друг другу.
– Женщина, вы долго здесь стоять собираетесь? У нас обед! – услышала Лариса суровый голос продавщицы.
– Да, простите, я сейчас уйду, – пробормотала она, не оборачиваясь, не отрываясь от стекла.
В кафе входил доктор Ревенко, нагруженный пакетами.
– Торчит тут полчаса, ничего не покупает, нашла, где отдыхать, – возмущалась у нее за спиной продавщица.
«Нет, они не знакомы, – отметила про себя Лариса, глядя, как доктор и полковник пожимают друг другу руки, – или знакомы? Впрочем, теперь это уже не важно. Контакт произошел».
– Женщина, ты глухая, что ли? – не унималась продавщица. – Мне тебя как, выпихивать за шиворот или милиционера звать?
В другой ситуации Лариса с удовольствием ответила бы хамке, обложила бы ее крепким мужицким матом. Но сейчас было не до того. Глаза полковника тревожно скользнули по стеклу витрины, потом еще раз, уже внимательней. Надо было уходить, тихо и быстро.
«Теперь я еще и наружник, – усмехнулась про себя Лариса, аккуратно укладывая пакеты в багажник своей „шестерки“. – Константинов заметить меня никак не мог, но взгляд почувствовал, напрягся. Потому и разошлись они так быстро».
Выруливая с платной стоянки, Лариса думала о том, что с намеченными на первую половину дня домашними делами придется погодить. Шеф вряд ли удовлетворится телефонным сообщением, потребует выложить подробности и детали.
«Ну вот, а я губы раскатала, думала, успею борщ сварить, котлеты накрутить. Угораздило же их столкнуться именно сегодня у меня на глазах. Уж я-то знаю, как их обоих обложили со всех сторон, чтобы они не встретились, доктор и полковник, им просто невозможно было встретиться без свидетелей. Наверняка не я одна зафиксировала этот случайный контакт. А потому надо доложить скорее, меня ведь тоже могли засечь, мигом настучат, что я с такой информацией не спешу. Однако я ведь спешу, – она притормозила у светофора, – так спешу, что самой противно».
– Мы разве не домой? – спросила Маша, заметив, что они едут в противоположную сторону.
– Нет, мы за кроссовками и вообще за всякими одежками для тебя.
– Но кроссовки можно было купить на рынке, в вещевых рядах.
– Покупать китайские подделки на рынке – только деньги выбрасывать. В такой дряни ты больше ходить не будешь. Порядочная барышня должна иметь пару приличных платьев, и шорты твои никуда не годятся.
– Между прочим, приодеть Машу Кузьмину значительно сложней, чем покойную Юлю Воронину. Почему-то на мой тощий размер шьют либо попугаечно-молодежный хлам, либо проститу-точные тряпки типа того лилового платья, которое мы сожгли. Мне и так хорошо, не надо никаких одежек!
– Я очень рад, что тебе и так хорошо, – улыбнулся доктор, – но пара приличных платьев тебе не помешает.
– Вадим, я не ломаюсь, я серьезно – давай не будем ничего покупать. Я ведь не содержанка твоя!
– Фу, Машенька, откуда слова такие – содержанка? Ну, хочется мне тебя приодеть. Я десять лет, кроме цветов и духов, никому ничего не покупал.
– А кому ты покупал цветы и духи? – прищурилась Маша.
– Всяким разным дамочкам. Уже не помню.
– И не помни! Всяких разных дамочек забудь!
– Давно забыл.
– А что я скажу маме, когда она увидит у меня новую одежду?
– Ты лучше подумай, что ты скажешь маме, когда она увидит меня. Как ты меня представила своей преподавательнице? «Мой друг»? Сказала бы еще – «товарищ».
– Как прикажешь тебя представлять? – смутилась Маша. – Как прикажешь, так и буду.
– Кто я тебе?
– Ты мне – все! – тихо сказала Маша. – Ты мне – любимый, единственный, но я ж не могу так тебя представлять. «Познакомьтесь, это – мой любимый, единственный Вадим!»
– Можно проще: это мой жених.
– Но ты же мне еще не предлагал руку и сердце.
– Дорогая Мария Львовна! – Вадим кашлянул и произнес торжественно: – Я предлагаю вам руку и сердце. Я вас очень люблю и хочу, чтобы вы стали моей женой. Вы согласны?
– Дорогой Вадим Николаевич! Я вас тоже очень люблю и согласна стать вашей женой. Между прочим, после этого положено поцеловаться.
– Врежемся, – покачал головой Вадим.
– Еще положено шампанским чокаться, – вспомнила Маша, – но я терпеть не могу шампанское. Газированный одеколон. И вообще ты за рулем. Ой, Вадим, а как же продукты в багажнике! Все испортится на такой жаре. Ты ведь кучу денег на рынке потратил.
– Ну ты зануда, девочка моя!
– Просто я не могу привыкнуть к таким финансовым ритмам. Ты на рынке потратил столько, сколько моя мама за месяц работы получает.
– Ты же в кафе сидела. Откуда ты знаешь, сколько я потратил?
– Я знаю цены и видела сумки.
– Ты у меня экономная?
– Я? – Маша задумалась. – Честно говоря, пока не знаю, нечего было экономить. Вот, например, нужны мне новые джинсы или сапоги, можно бы и сэкономить, но не на чем. На еду, конечно, хватает, но еле-еле. Вещей мы почти не покупаем, мама сама все шьет и вяжет. Она умудряется соорудить нечто из ничего. На новогодний вечер она за одну ночь сшила мне такое платье – никто не верил, что оно сшито моей мамой на зингеровской машинке. Она нашла на антресолях кусок вишневого бархата, еще моей покойной бабушки, и получилось словно от Кардена. Туфли тоже были бабушкины. А мама потом всем говорила, что той ночью, перед Новым годом, слетала в Париж и купила туфли и платье за две тысячи долларов.
«Тойота» подъехала к международному гостиничному комплексу. Маша и Вадим вошли в небольшой, совершенно безлюдный бутик. Кукольно-хорошенькая продавщица одарила их ослепительной улыбкой. От обилия вещей Маша растерялась, у нее даже в глазах зарябило. Одно дело – маскарад, выбор образа соблазнительной корреспондентки, другое, совсем другое дело – одежда для себя.
– Ну что, Машенька, начинай, – Вадим снял с вешалки несколько платьев.
– Может, все-таки ограничимся кроссовками? – неуверенно возразила Маша, заметив цену на ярлыке одного из платьев.
– Спортивная одежда в другом магазине. Давай уж облегчим немного жизнь твоей маме, чтобы она спала ночами, а не сидела за зингеровской машинкой.
– Ладно, но выбирай ты сам. Я кое-что понимаю в театральном костюме, но довольно смутно представляю, что мне идет и не идет в реальной жизни.
Вадим заставил Машу перемерить семь платьев, выбрал два – повседневное из тонкого льняного трикотажа и нарядное, строгое, из светло-бежевого шелка. Именно эти два платья идеально на ней сидели, будто специально для Маши были сшиты. В обувном отделе он подобрал к повседневному платью легкие замшевые босоножки, к нарядному – строгие туфли-лодочки. Он стоял перед ней на коленях, сам надевал ей туфли и босоножки, прикасался к ее ногам так нежно, как если бы это были не просто ноги, а бесценные произведения искусства.
«Господи, – думала Маша, глядя на его седую макушку, – я таю от него, как мороженое на ярком солнце, растекаюсь сладкой лужицей и ничего не соображаю. Даже страшно. Хотя чего теперь бояться? Мы передадим кассету Константинову, все расскажем ему и полетим в Москву. Столько уже произошло, хватит с нас, надо отдохнуть».
– Машенька, встань, пожалуйста, пройдись, – попросил Вадим, – удобно тебе? Не жмет? Не трет?
– Да, мне очень удобно. Давай на этом остановимся, ладно?
– А кроссовки?
В примерочной спортивного магазина Маша переоделась в новые светло-серые шорты-бермуды, новую бледно-розовую футболку и сменила драные китайские тапочки на новые замшевые босоножки.
– Упаковать? – спросила продавщица, глядя на жалкую кучку стареньких тряпочек, которую Вадим вынес из примерочной.
– Выкинуть! – распорядился он. – И тапки тоже!
Продавщица понимающе кивнула.
Напоследок он выбрал для Маши самые дорогие кроссовки. Продавщица упаковала их в глянцевую пеструю коробку, завернув в шелковистую папиросную бумагу, словно экзотические фрукты.
В маленьком открытом баре они чокнулись свежевыжатым апельсиновым соком.
– Я нас с тобой поздравляю, Машенька, – сказал Вадим, – но по-настоящему мы поздравим друг друга в Москве, когда все останется позади.
– А все и так позади, – пожала плечами Маша, – все плохое кончилось. Знаешь, я поняла – когда мы вместе, нам везет. Порознь значительно хуже.
Как только они сели в машину, затренькал сотовый телефон. Доктор щелкнул крышкой:
– Алло!
В трубке стояло мрачное молчание.
– Молчат? – тревожно спросила Маша.
– Сейчас перезвонят, – успокоил Вадим ее и себя.
Но никто не перезванивал.
– Господи, какая я дура, – выдохнула Маша, – ничего еще не кончилось, они вполне могли засечь нашу встречу на рынке.
– Машенька, пожалуйста, не называй себя дурой. Мне не нравится это слово. Они, конечно, могли засечь нашу встречу на рынке, но только теоретически. Во-первых, они не следят постоянно. На это им просто не хватит людей. Во-вторых, когда они не спускали с нас глаз, мы это чувствовали, помнишь?
– Еще бы не помнить!
– Ну вот. А сейчас, на рынке, такого ощущения не было. – Доктор принужденно кашлянул и подумал, что врет сейчас себе и ей.
– Что ты скажешь, если они позвонят и вызовут тебя?
– Заболел. Температура высокая. В общем, придумаю чего-нибудь. Машенька, перестань паниковать. Пока нет никаких причин для паники. Ну, помолчали в телефоне, мало ли, может, не туда попали. Было бы куда хуже, если бы меня сейчас действительно вызвали.
По дороге к дачному поселку Вадим то и дело приглядывался к следовавшим за ними машинам. Они постоянно менялись. Никакого «хвоста» не было.
«Мы нервничаем перед финалом», – подумал он, сворачивая на узкую улочку дачного поселка. Оставалось проехать еще несколько десятков метров. Улочка шла небольшой дугой. Показались ворота дома. И тут Вадим дал задний ход: из кустарника напротив ворот виднелся зеленый бок хорошо знакомого военного «газика».
Дело было не в телефонном молчании – оно, в конце концов, могло оказаться случайностью. Дело было в том, что «газик», который обычно ждал у ворот, на этот раз почему-то спрятался в кустах, съехав с дороги прямо на траву. Его вполне можно было и не заметить, если бы ветер не клонил кусты. Но главное, тот же ветер чуть качнул створки ворот, и Вадим понял, что запертые утром перед отъездом на рынок ворота его дома теперь открыты.
Развернуть машину на узкой улице было довольно сложно, пришлось проехать до шоссе медленным задним ходом. Двигатель при этом работал совсем тихо, под ветром шумели деревья, рядом шумело море. Оставалась надежда, что из «газика» и из дома их не услышали.
– Паспорт у тебя с собой? – спросил Вадим, выруливая на шоссе.
– Да, в сумке, – кивнула Маша, – и те сто долларов, которые ты мне тогда дал, лежат в паспорте.
– Очень хорошо. Тогда нам хватит на билеты. У меня мало наличных, только кредитка, а банкомета в аэропорту нет.
Они ехали по пустому шоссе. «Тойота» обогнала лишь пару рейсовых автобусов. Доктор рассчитал, что до поста ГАИ можно проехать на предельной скорости, таким образом они выиграют около получаса.
– Пристегнись, – сказал он Маше и нажал на газ.
Будка ГАИ оказалась пустой, Вадим заметил это издалека и скорости не убавил. «Возможно, даже лучше, если нас остановит гаишник. Это тоже шанс. Они какая-никакая, но милиция. Можно попросить их связаться со штабом округа. Впрочем, ни с кем они не свяжутся. Главное – выиграть время», – думал он, пока «Тойота» неслась к городу со скоростью сто двадцать километров.
При въезде в город скорость пришлось сбавить – вокруг было много машин, пешеходы перебегали дорогу где попало.
Притормозив у ворот санатория «Солнечный берег», Вадим выскочил из машины. В проходной за стойкой регистрации сидел старик вахтер в фуражке и читал газету. Как только доктор вбежал в проходную, у него за спиной возник опомнившийся охранник.
– Я на секунду. Мне только передать. Я не буду входить, – успокоил его доктор и тут же обратился к вахтеру: – У меня к вам огромная просьба.
– Я вас слушаю, – важно произнес старик, поднимая глаза от газеты.
Тут же на стойку перед ним легла пятидесятитысячная купюра.
– Пожалуйста, передайте Константинову Глебу Евгеньевичу, третий корпус, номер четыреста тридцать семь, что его очень ждут в поселке Гагуа. Скажите, чтобы он обязательно захватил кассету «Жестокий романс», которая находится дома у доктора. Вы запомнили? Пожалуйста, это очень срочно!
– Да вы сами пройдите, если такая срочность, – быстрым движением старик спрятал купюру и кивнул на металлическую вертушку.
– Нет, спасибо. Я очень спешу. Вы не забудете?
– Да вы лучше напишите на бумажке, так надежней. – Старик положил перед ним тетрадный листок и обгрызенную шариковую ручку.
– Хорошо. – Вадим взял ручку, но она противно скребла по бумаге – паста кончилась.
И тут он услышал, как сигналит его «Тойота». Звук был таким пронзительным, что даже вахтер вздрогнул.
– Я прямо сейчас позвоню дежурной по этажу, – прокричал он вслед убегающему солидному седому гражданину, который так спешил и волновался, что пятидесяти тысяч не пожалел.
Подбегая к машине, Вадим увидел, что, кроме Маши, там сидят еще двое – один на водительском сиденье, другой сзади. Два бугая, русский и кавказец. Все как положено: бритые затылки, боксерские майки, накачанные пудовые плечи в татуировках. Тот, что сидел сзади, прижимал дуло маленького автомата с навинченным глушителем к Машиному затылку.
Вокруг было много народу, лениво покуривали вооруженные охранники у ворот санатория, торговали орехами и семечками бабушки, прогуливались отдыхающие. Но всех этих людей сейчас будто и не было вовсе. Они испарялись на глазах, исчезали в мутной розоватой пелене, словно бесплотные призраки. Вадим видел только дуло с глушителем у каштанового затылка, жирный, как сарделька, палец на курке. Зрение так странно сфокусировалось, что он мог разглядеть даже грязный ноготь на этом жирном пальце, хотя был еще достаточно далеко.
– Давай в машину, быстро и тихо! – услышал он шепот у самого уха и почувствовал твердый металлический холодок дула у спины между лопатками.
«Одного дула у Машиного затылка вполне довольно, чтобы я никуда от них не делся, – подумал он и шагнул к своей „Тойоте“.
– Не в эту, в другую! – шепнули ему и слегка подтолкнули к зеленой «Ниве», в которой сидели два точно таких же бугая, один на водительском месте, другой сзади. Третий, с пистолетом, сел вслед за доктором. Обе машины тронулись. Доктору надели милицейские наручники.
«Они могли бы сразу нас прикончить, – думал Вадим, зажатый на заднем сиденье „Нивы“ между двумя амбалами, – они могли бы прилепить взрывчатку к моей машине или просто пристрелить нас. Но они везут нас в горы, значит, хотят еще проверить, допросить напоследок. Конечно, в случайность моей встречи с Константиновым чеченец не поверит. Но ведь мы действительно встретились совершенно случайно, мне даже врать не придется: Маша увидела в кафе на рынке свою преподавательницу балета. Никакого полковника рядом с ней не было. Он подошел позже. Но откуда мне знать, кто именно подошел? Какой Константинов? Просто мужчина с мальчиком, мы только поздоровались, даже не познакомились. И тут же разошлись. Тот, кто засек нашу встречу, наверняка видел, что мы разошлись мгновенно. А разговора он слышать не мог, на рынке шумно. Те несколько слов, которыми мы с полковником перекинулись, не расслышать даже в двух шагах. Так, теперь – санаторий. Я заехал в „Солнечный берег“, чтобы забрать журнал „Хирургия“, который обещала оставить для меня на вахте тамошний терапевт Зинаида Сергеевна. Допустим, что они будут проверять и это. Пусть! У Зинаиды Сергеевны действительно валяется мой журнал, я давал ей его несколько месяцев назад. А кассету они не найдут ни за что. Для этого им пришлось бы пересмотреть всю мою видеотеку. Нас с Машенькой будут допрашивать по отдельности. Она догадается сказать „не знаю“ и про полковника, и про санаторий. Главное, тянуть время. Если вахтер все передаст Константинову, есть шанс, что спецназ поспеет вовремя. Впрочем, пристрелить нас – дело одной минуты».
А Маша, сидя в «Тойоте» в наручниках, вспоминала почему-то сказку Андерсена «Снежная королева». Мальчик Кай прицепил свои санки к красивым белым саням, а когда понял, что красивые сани несут его в никуда, попытался прочитать про себя «Отче наш...», но в голове стучала лишь таблица умножения.
Таблица умножения стучала в голове, как часы, тикала, как механизм взрывного устройства. «Господи, помоги нам! Отче наш...» – стала повторять Маша шепотом, пытаясь заглушить тупое тиканье в голове.
– Что ты там шепчешь, сучка? – легонько пнул ее в бок локтем один из амбалов.
– Молится она, мать ее... – хмыкнул другой. Машины выехали из города и свернули на старое заброшенное шоссе.
* * *
«И что ему так приспичило? – думал старик вахтер, держа телефонную трубку и слушая долгие редкие гудки. – Полтинника не пожалел, видно, много их у него, полтинников-то. И где это Раиска гуляет?»
Дежурной четвертого этажа на месте не оказалось. Подождав еще немного, вахтер положил трубку.
«Надо бы записать, забуду ведь. Нехорошо получится. Услуга невелика, и гражданин такой солидный, лицо вроде знакомое. Как он сказал? Константинова ждут в поселке Гагуа... Ё-мое! Это ж в горах, на той территории! У меня ж там шурин жил. Ну дела!»
Вахтер покачал лысой головой в фуражке с зеленым околышем, поцокал языком и вспомнил, что в его ручке паста кончилась.
– Я извиняюсь, – обратился он к двум пухлым дамочкам в ярких платьях, проходившим мимо стойки с курортными пропусками, – у вас ручки не найдется?
Дамочки стали шарить в сумках. Наконец одна нашла. «Номер 437, Константинову. Вас ждут в поселке Гагуа. Захватить кассету „Жестокий романс“, которая лежит дома у доктора», – написал вахтер на клочке бумаги круглым крупным почерком. Подумав немного, он поставил внизу число, месяц и время.
– Спасибо, а вы, извиняюсь, в каком корпусе живете?
Одна из дамочек жила в третьем корпусе на пятом этаже.
– Записочку не передадите?
– Любовную? – игриво поинтересовалась дамочка.
– Деловую! – обиженно пояснил вахтер. – Просто под дверь номера подсуньте на четвертом этаже, номер 437, – он крупно написал номер на сложенном вчетверо листке и еще приписал «Константинову».
«Забудет! – подумал он, отдавая записку дамочке и глядя, как она легкомысленно кидает листок в сумку. – Обязательно забудет!»
Дамочки проследовали на санаторную территорию, бурно обсуждая внешние данные и личную жизнь эстрадной звезды, которая приехала на гастроли в курортный город. Сегодня утром дамы приобрели по билету на концерт этой звезды, он начинался через час на открытой эстраде в парке отдыха, неподалеку от санатория. Конечно, лучше было бы пойти на ночной концерт, начинавшийся в половине двенадцатого, а не на семичасовой. Он проходил засветло, без красивой и впечатляющей иллюминации. Однако билеты на ночной концерт стоили в два раза дороже, он называется уже не концерт, а шоу. К тому же дамы опасались возвращаться в санаторий глубокой ночью, а кавалеров они себе завести еще не успели. Они приехали всего два дня назад и друг с другом познакомились только вчера в столовой.
Разойдясь по своим корпусам, они договорились встретиться через полчаса у проходной. Та, у которой в сумке лежала записка, сосредоточенно размышляла, какое платье лучше надеть на концерт – бледно-зеленое «сафари» с золотыми пуговками стройнило и скрадывало полноту, но для концерта казалось слишком строгим. А синее в горошек с оборками было достаточно нарядным, не скрадывало полноты.
Размышляя над этой сложной дилеммой, дама поднялась к себе на пятый этаж, сначала отправилась в душ, потом долго приводила себя в порядок. Надев красный в белую полоску крепдешиновый костюм, а не «сафари» и не «горошек», пройдя в последний раз пуховкой с пудрой по лицу, она взглянула на часы и охнула: прошло тридцать пять минут.
«Ждет Людмила-то, неудобно!» – подумала она о своей приятельнице и, выскочив из номера, побежала к лифту.
Вахтер не обратил внимания на двух дамочек, чинно проплывших мимо и окативших его сладким запахом духов. Они были одеты и причесаны совсем иначе, к тому же в этот час отдыхающие валили толпой, кто с ужина, кто на ужин, кто на вечерние развлечения в город. Так что про записку он не спросил.
Дамочки вышли из проходной и перешли на другую сторону.
– Людмила, я орешков куплю, – сказала та, у которой так и лежала в сумке записка.
– А семечек нет у вас? – поинтересовалась Людмила у сухонькой старушки, насыпавшей для ее подруги колотый фундук в газетный кулечек.
– Семечек нет. А орешки у меня хорошие, – ответила старушка.
Из сумки дамы в полосатом красном костюме выпала какая-то бумажка. Дама этого даже не заметила, отдала старушке деньги, взяла кулек с фундуком и удалилась вместе с подругой Людмилой на концерт заезжей звезды.
А старушка между тем подобрала сложенный вчетверо листок бумаги и собралась уже окликнуть удалявшихся дамочек, но, прочитав своими молодыми зоркими глазами надпись на листке, окликать никого не стала.
«Ореховая бабушка» Тамара Ефимовна сидела сегодня целый день напротив ворот санатория. Ничего интересного за целый день не произошло. Подъезжали и отъезжали разные машины, входили и выходили люди. Она автоматически зафиксировала в памяти молодого, но совершенно седого человека. Он выскочил из черной «Тойоты», забежал в проходную часа полтора назад. Он очень спешил. Именно этой своей спешкой, непривычной для курортного города, да еще, пожалуй, ранней сединой и привлек он на секунду внимание «ореховой бабушки». Но только на секунду. Она не видела, как седой человек вышел из проходной, не видела, как в его отсутствие сели в черную «Тойоту» два амбала. Ее отвлекли покупатели, большое шумное семейство с тремя детьми. Мальчишка лет двух ревел басом на всю улицу и колотил ногами по ступеньке прогулочной коляски. Тамара Ефимовна умела легко успокоить любого плачущего малыша. У нее был какой-то свой секрет: достаточно произнести несколько смешных и ласковых слов, удивить, переключить внимание – и ребенок успокаивался. Некоторые семьи, отдыхавшие с детьми, даже специально подходили к «ореховой бабушке», если ребенок начинал заливаться.
Именно те несколько минут, в течение которых в «Тойоту» сели два амбала, доктор выскочил из проходной и под дулом пистолета был втиснут в «Ниву», Тамара Ефимовна успокаивала басовитого малыша. А когда он успокоился, заулыбался и семейство с кулечками орехов удалилось, «Тойота» и «Нива» успели исчезнуть. Тамара Ефимовна не придала значения отчаянному сигналу, который слышала сквозь рев малыша. На то и машины, чтобы сигналить. Номера «Тойоты» она не знала, доктора Ревенко никогда в глаза не видела, никаких указаний на этот счет не получала. А Маша Кузьмина из машины не выходила, только смутный тонкошеий силуэт с хвостиком на затылке виднелся за передним стеклом.
Немного поколебавшись, «ореховая бабушка» решилась все-таки прочитать записку, адресованную полковнику и странным образом выпавшую из сумки рассеянной покупательницы. Записка не была запечатана, просто сложена вчетверо. Следовало хотя бы определить степень срочности этого странного послания.
Прочитав слова о поселке Гагуа и «Жестоком романсе», написанные явно стариковским почерком, Тамара Ефимовна почуяла своим партизанским нутром, что произошло нечто, требующее немедленной связи с полковником. Под текстом стояли число, месяц и время. Записку писали сегодня, полтора часа назад. Тут же в ее памяти зарябили события полуторачасовой давности. Вдруг вспомнилась черная «Тойота», седой красавец, влетевший в проходную, силуэт девочки за стеклом машины, отчаянный сигнал... Да, это произошло примерно полтора часа назад, когда она успокаивала ревущего малыша. А потом «Тойоты» уже не было, вместе с ней пропала и зеленая «Нива», которая стояла у ворот санатория с утра.
Ни о чем больше не размышляя, Тамара Ефимовна подхватила свою корзинку, сложила стульчик, перешла дорогу и, поздоровавшись с охранниками, заглянула в проходную.
– Бабуль, туда нельзя, – лениво заметил один из охранников.
– Ты прости, сынок, я на два слова, к Андреичу. Сегодня ведь Андреич дежурит?
– Ладно, – махнул рукой охранник, – только корзину свою здесь оставь.
– Спасибо, сыночек, ты орешков возьми себе, вы оба угощайтесь. – Она опустила корзину у высоких ботинок охранников и нырнула в проходную.
– Ты чего, Ефимовна? – удивленно взглянул на нее вахтер.
Смена кончалась через пятнадцать минут, он засыпал, сидя в своем ободранном кресле. Фуражка с зеленым околышем съехала на затылок, очки – на кончик носа.
– Здорово, Андреич. Тут вот записочка для отдыхающего. Кто-то выронил, я подумала, надо занести. Вдруг важное что-нибудь.
Андреич уставился на сложенный вчетверо листок, не сразу узнал собственную записку, отданную дамочке из третьего корпуса, а когда узнал, даже покраснел от неловкости. Все-таки полтинник взял, а пустяковую просьбу не выполнил.
– Вот люди, – вздохнул он и покачал головой, – гражданин один забегал, очень спешил, просил передать. А я дамочке отдыхающей перепоручил, из того же корпуса, но она, пустая голова, позабыла. Прямо не знаю, что теперь делать. Мне-то с поста уйти нельзя.
Он еще раз набрал номер дежурной четвертого этажа, но там опять никто не отвечал.
– Слушай, Андреич, раз ты не можешь уйти, давай я сбегаю, передам. На отдыхающих нет надежды, а получилось нехорошо. Раз уж попала мне в руки эта записка, так я и передам.
Андреича немного удивила такая несовременная отзывчивость. Ефимовне полтинника никто за это не давал, а она примчалась. «Это нынешним на все плевать, а в нашем поколении еще остались люди», – подумал он и даже покраснел немного. Записка так и жгла руки, очень нехорошо вышло.
– Спасибо тебе, Ефимовна, проходи быстренько. Третий корпус сразу направо. Как на четвертый этаж поднимешься, подсунь под дверь.
Тамара Ефимовна не стала ждать лифта, поднялась пешком на четвертый этаж, быстро, без всякой одышки, и постучала в дверь, но не 437-го номера, в котором жили Белозерская с Арсюшей, а в соседнюю, под номером 435.
– Войдите, открыто! – услышала она знакомый голос.
«Тойота» въехала в поселок первой. Машу вытолкнули из машины и, ни слова не говоря, провели к одноэтажному кирпичному дому. В большой полупустой комнате сидел, развалившись в кресле, Ахмеджанов собственной персоной. На Машу он даже не взглянул, рявкнул что-то на своем языке, и ее тут же втолкнули в неприметную дверь в глубине комнаты.
За дверью находилась маленькая каморка без окон, совершенно пустая – голый бревенчатый пол, голые, выкрашенные голубой масляной краской стены, голая ярчайшая лампочка под потолком.
Дверь захлопнулась, свет погасили. Маша осталась в полной темноте, лишь тонкая ниточка света пробивалась из-под двери. «Именно здесь дожидался своей участи несчастный Иванов, – подумала Маша, – вероятно, здесь же сидел и тот перепивший оператор. Теперь моя очередь».
Сквозь дверь было слышно, что происходит в большой комнате. Вадима ввели сразу после того, как ее заперли. Его голос звучал ровно и спокойно. В тяжелом басе Ахмеджанова сквозили высокие истерические нотки, он даже иногда пускал петуха. Разговор шел по-абхазски. Маша не понимала ни слова.
«Ахмеджанов потребовал, чтобы Вадим говорил по-абхазски, чтобы я ничего не разобрала. Он знает, отсюда все слышно. Он надеется, что мы не успели договориться и станем врать вразнобой. Тогда он нас разоблачит и с удовольствием пристрелит. Впрочем, он нас и так пристрелит. Интересно, почему я так спокойна? Мне ведь очень страшно. Но я чувствую, страх только усилит их подозрения. Я где-то читала – у убийцы сразу срабатывает инстинкт, если жертва боится. Но жертва не может не бояться... О Господи, я самой себе заговариваю зубы. А что мне остается делать? Рыдать? Биться головой о стенку?»
* * *
– Мои люди хотят, чтобы я сразу убил тебя вместе с твоей девочкой, – говорил между тем Ахмеджанов, – но ты спас меня и многих других. Нам будет не просто найти нового врача. Поэтому сразу я тебя не убью. Мы сначала все-таки поговорим. В последний раз.
Чеченец врал. Его люди не хотели, чтобы доктор и девочка были убиты. Этого требовал один человек, которого Ахмеджанов не считал «своим». Человек чужой, купленный недавно и задорого. Чеченец не верил ему, видел его корысть и трусость. Он даже не исключал хитрого варианта, что человек этот хочет убрать доктора с девочкой его, Ахмеджанова, руками в каких-то своих интересах. Продавшись, человек этот сильно рисковал, очень сильно, и свои интересы у него, безусловно, были. Но про встречу доктора с полковником ГРУ на рынке он не соврал.
Если бы доктор стал оправдываться, нервничать, юлить, Ахмеджанов, возможно, и пристрелил бы его сгоряча. В глубине души он даже желал этого. Он устал быть благодарным, да и слишком уж много хлопот доставляли доктор и его девочка в последнее время. Он провоцировал Ревенко, чтобы тот начал юлить, он хотел увидеть страх и панику в этих холодных, насмешливых голубых глазах. Но доктор повел себя совсем иначе. На все обвинения он лишь равнодушно пожал плечами и сказал:
– Все-таки скверно у тебя с нервами, Аслан. Надо бы тебе попить реланиум. И спишь ты плохо, глаза красные. Съездил бы лучше на какой-нибудь европейский курорт, в Грецию или в Испанию, привел бы свое здоровье в порядок. Дела никуда не убегут, тебе сейчас о здоровье думать надо.
– Я в последний раз тебя спрашиваю: о чем ты говорил с Константиновым? – сверкал глазами Ахмеджанов. – Если я сейчас выведу твою девочку, ты все мне скажешь!
– О Господи, Аслан, ну что ты, как попка, заладил: Константинов, Константинов. Ну встретила Маша на рынке свою преподавательницу, потом подошли ее муж и сын. Мы поздоровались и разошлись. Откуда мне знать, что это – Константинов какой-то, при одном упоминании которого у тебя руки дрожат и глаза пылают.
Он нарочно называл полковника мужем Белозерской, как бы подчеркивая свою неосведомленность. Он видел, это срабатывает, Ахмеджанов знал, что полковник бывшей балерине вовсе не муж, именно на таких деталях легко попасться.
– А зачем ты потом приехал к санаторию? Что говорил вахтеру?
Вадим не сомневался, старика вахтера они допросить не могли. Не сунутся они с этим в санаторий.
– Журнал свой хотел забрать, «Хирургия» называется, там статья о новых лазерных методиках, я давал почитать Зинаиде Сергеевне, терапевту из «Солнечного берега». Тебе, может, и содержание статьи пересказать?
Как ни всматривался Ахмеджанов в эти холодные голубые глаза, не замечал в них ни капли страха. Были усталость и спокойная насмешка. Ревенко говорил так, как не может, не имеет права говорить человек в наручниках, которого в любой момент могут убить. «Ничего, сейчас ты у меня по-другому заговоришь!» – подумал Ахмеджанов и произнес спокойно:
– В общем так. Слов мы сказали достаточно. Если ты мне врешь, смотри, что будет. Максуд! – тихо позвал он.
Вошел бритоголовый гигант в камуфляже. Доктор много раз видел этого «слонопотама», как прозвал он про себя одного из личных телохранителей Ахмеджанова, но ни разу не слышал его голоса. Он даже как-то спросил у фельдшера, не отрезан ли у этого двухметрового, стокилограммового детины язык. Но фельдшер уверил, что язык у него на месте.
Слонопотам открыл неприметную дверь в глубине комнаты и выволок из кромешной темноты Машеньку в наручниках. На очень бледном лице глаза казались бархатно-черными, огромными. Она растерянно огляделась, щурясь от яркого света. И тут Вадим заметил в огромной волосатой лапе Максуда тонкую финку. Моментальным движением слонопотам схватил Машу за волосы, развернул к доктору лицом и приставил к ее горлу блестящее лезвие. Глаза Маши расширились, она напряглась как струна, чуть закинув голову назад. Лезвие почти впивалось в тонкую смуглую кожу, в быстро пульсирующую голубую жилку.
Вадим рванулся вперед, но его крепко схватили сзади за плечи чьи-то железные руки.
– Не дергайся, – посоветовал Ахмеджанов, – ты рыпнешься, у Максуда рука дрогнет. Он нервный, в русской тюрьме сидел.
– Послушай, Аслан, – глухо произнес доктор, – мы говорили с тобой как мужчины. А теперь ты ведешь себя как шакал. Зачем ты мучаешь девочку? Чтобы сделать мне больно? Я скажу тебе что угодно, лишь бы ты ее отпустил. Но это уже будет ложью, так как правду я тебе сказал. Всю правду. Зачем тебе ложь?
– Оставь ее, Максуд, – почти прошипел Ахмеджанов, – если ты, доктор, еще раз назовешь меня шакалом, я убью тебя. Но сначала я убью ее – у тебя на глазах. Я хочу тебе показать, чего ты сейчас стоишь. Думаешь, ты такой смелый и сильный? Нет, ты слабый, доктор, подумай, какой ты сейчас слабый.
От прикосновения к коже холодной стали, от ощущения грубой потной лапы, вцепившейся в волосы, Машу затошнило. Закружилась голова. «Грохнуться бы сейчас в обморок, как тогда, с Ивановым, – подумала она с равнодушной тоской, – несколько минут я ничего не буду чувствовать, я отдохну, а потом опять покажется, что все это происходит не со мной, а с какой-то далекой бедной несчастной девочкой. Я просто буду наблюдать со стороны. Да, хорошо бы сейчас потерять сознание, однако вряд ли получится. Что-то во мне изменилось. Но это уже совершенно не важно. Вот, значит, кто меня убьет. – Она осторожно скосила глаза на бритоголового громилу. – Господи, от моей смерти воняет чем-то кисло-соленым, грязными носками, козлиным потом. Бедный Вадим, у него в лице ни кровинки, у него глаза застыли. Я никогда не видела у него таких глаз. Бедные мои родители, хорошо, что они никогда не узнают, как именно я умерла. Это вонючее чудовище перережет мне горло, кровь хлынет, я не смогу дышать...»
Через миг после того, как слонопотам отпустил Машу, ослабла и железная хватка, сдерживавшая Вадима. Его держал второй телохранитель Ахмеджанова, длинный, тощий как скелет, с вечно спутанной бородой, в которой белели хлебные крошки. Вадим редко видел этого человека, даже не знал, как его зовут. Передернув плечами, стряхнув все еще лежавшие на них руки тощего телохранителя, Вадим бросился к Маше.
– Меня сейчас вырвет, – произнесла она, судорожно сглотнув.
– Выведи их, Максуд. Потом посадишь в сарай, свяжешь ноги обоим и поставишь кого-нибудь у двери, – распорядился Ахмеджанов. – Если над горами появится хотя бы тень вертолета, если хоть один спецназовец войдет в это село или в любое другое поблизости, я вас расстреляю, – бросил он доктору и Маше по-русски, не глядя на них.
На воздухе Маше стало немного лучше, но тошнота не прошла. Чтобы не упасть, она встала на колени, наклонилась лицом к траве, и ее вырвало. Огромных сил стоило сорвать руками в наручниках чистый лист лопуха и вытереть рот. После этого возникло ощущение звенящей пустоты и легкости. Ноги не слушались, были как чужие.
– Вставай, русская сука! – прорычал Максуд. Голос у него оказался странно высоким для такого громилы – тоненький фальцет, даже с привизгом.
Превозмогая дрожь в коленках и слабость, Маша встала на ноги, но тут же покачнулась. Вадим попытался ее поддержать, но слонопотам молча отстранил его, поднял Машу и легко, как тряпичную куклу, перекинул через плечо.
Пол в сарае был усыпан стружкой, приятно пахло свежеструганым деревом. Сквозь высокое окно под потолком пробивался густой розоватый свет заходящего солнца. В широком четырехугольном луче весело крутились и поблескивали пылинки.
* * *
– Ой, «ореховая бабушка»! – воскликнул Арсюша, когда Тамара Ефимовна приоткрыла дверь. – Здравствуйте!
Они с Глебом сидели на застеленной кровати, между ними лежала маленькая походная шахматная доска. Когда они одновременно поднялись навстречу Тамаре Ефимовне, фигуры попадали на пол.
– Арсюша, иди, пожалуйста, к маме, – сказал полковник.
– Значит, эту партию мы не доиграем? – обрадовался мальчик. – Начнем потом снова? А можно, я останусь? Я буду тихо сидеть.
– Нет. Нам надо поговорить наедине. А ты пока подумай, почему получился этот шах с трех ходов.
Арсюше было ужасно интересно, зачем это «ореховая бабушка» пришла прямо в номер. Но он привык слушаться и только робко предложил напоследок:
– Я хотя бы фигуры соберу?
– Я сам. Иди.
Когда дверь за мальчиком закрылась, Тамара Ефимовна протянула полковнику записку.
– Не знаю, насколько все это связано, но сегодня между четырьмя и пятью часами у ворот санатория остановилась черная «Тойота». Номер я не разглядела, не обратила внимания. Не разглядела и пассажирку на переднем сиденье, но сейчас, из-за записки, вспомнила: это была молоденькая девушка с темными волосами. Худенькая. Не скажу, что та самая, но не исключено. Человек, выскочивший из «Тойоты», седой, высокий, красивый, лет сорока—сорока пяти. Он очень спешил, вбежал в проходную санатория. Потом меня отвлекли покупатели, а когда они отошли, «Тойота» уже уехала. Не стало и еще одной машины – зеленой «Нивы». А перед этим она стояла у ворот около двух часов, в ней сидели, не выходя, пятеро мужчин. Еще был долгий громкий сигнал, но какая именно машина сигналила, я не поняла. Записка выпала из сумки у дамы, которая покупала у меня орехи, написал ее вахтер, а информацию просил передать для вас тот самый седой человек. Уф-ф, – Тамара Ефимовна перевела дух, – надеюсь, я ничего не забыла.
– Цены вам нет, Тамара Ефимовна! – Полковник поцеловал «ореховой бабушке» руку.
Из номера они вышли вместе. «Ореховая бабушка» направилась вниз по лестнице, а полковник подошел к столику дежурной по этажу, поднял телефонную трубку и, набрав несколько цифр, произнес:
– Эпсилон-семь. Узнайте в аэропорту: улетели сегодня в Москву Ревенко Вадим Николаевич и Кузьмина Мария Львовна? Нет. Ждать я не могу. Свяжусь с вами через десять минут.
Через десять минут он уже входил в штаб округа и узнал, что Ревенко и Кузьмина билетов не покупали и никуда не улетели. А еще через пятнадцать минут джип с опергруппой мчался к дачному поселку.
Замки на воротах и на входной двери были взломаны, все в доме доктора перевернуто вверх дном. Одного взгляда хватило, чтобы понять: здесь устроили не просто обыск, а зверский шмон.
Эксперт и трассолог занялись отпечатками, а Константинов принялся просматривать коробки видеокассет, сваленных в кучу на полу в гостиной. Кассету с надписью Э. Рязанов. «Жестокий романс» он нашел сразу и, прежде чем вставить ее в видеомагнитофон, попросил опергруппу выйти куда-нибудь, в спальню или на кухню.
Было странно, что в таком разгромленном доме исправно работают телевизор и видеомагнитофон. Перед Константиновым замелькали кадры веселого кавказского застолья. Оператор был явно подшофе, камера плясала в его руках, выхватывая то толстоносое лицо Ахмеджанова, то круглую физиономию Вячеслава Иванова. Через пять минут просмотра Константинов вскочил, поднял с пола валявшийся среди кассет пульт дистанционного управления, нажал «стоп» и перемотал запись немного назад. А потом нажал «паузу». За щедро накрытым столом прямо над блюдом с крупными ломтями мяса застыло с вилкой у рта улыбающееся лицо Юраши Лазарева.
Полковник нажал «плей», и Юраша отправил в рот большой кусок мяса с прилепившейся к поджаренному боку веточкой укропа. Камера тут же перепрыгнула на угрюмого бритоголового громилу, он сосредоточенно обсасывал куриную кость, потом объектив беспорядочно заплясал по угрюмым и улыбающимся лицам, грязным тарелкам, пятнам на скатерти.
Константинов выключил видеомагнитофон и телевизор, вытащил кассету, направился в спальню и молча взял из рук старшего опера сотовый телефон:
– Эпсилон-семь, со штабом округа соедините меня. Нет, сразу с Мельниковым. Да! Иван! Это я. Срочно высылай спецназ. Поселок Гагуа. Ну кто? Конь в пальто! Ахмеджанов, разумеется. Только живым! Без вариантов. Подожди, там два заложника. Да, Ревенко. Но, кроме него, еще девушка, Мария Кузьмина, девятнадцать лет. Предупреди ребят. Что значит – мало шансов? На то и спецназ, чтобы шансы были! Все, Ваня. Я выезжаю с опергруппой. Свяжись с пограничниками.
Захлопнув крышку телефона, Константинов наклонился и аккуратно вытащил из-под низкой тумбочки у кровати изящную овальную коробочку с нарисованным на крышке томным полузакрытым глазом с длинными ресницами. Открыв ее, он прочитал на обратной стороне крышки английскую надпись на бумажной наклейке: «Цветные контактные линзы. Цвет: сине-лиловый. Инструкция прилагается. Сделано в Китае». Линз не было. Только бумажка с инструкцией. Коробочку полковник положил в карман джинсов.
Доктор поднялся на связанных ногах и тут же упал.
– В детстве я был в пионерском лагере, всего один раз, – тихо говорил он Маше, вновь поднимаясь, – мне не понравилось, хотя я попал в знаменитый «Орленок», неподалеку отсюда. Меня послали как отличника, на целый месяц.
– Ты был отличником? – слабо улыбнулась Маша.
– Да. С первого по десятый класс. И в институте тоже.
– Я почему-то в этом не сомневалась. Рассказывай дальше.
– Месяц в лагере был ужасен. Подъем по горну, зарядка, линейка, все вместе, всегда, и днем и ночью. Строевая подготовка под полуденным солнцем, – Вадиму удалось наконец твердо встать на ноги, – и даже одежда казенная, у всех одинаковая. В предбаннике в банный день лежала одна куча с синими шортами, другая – с белыми пионерскими рубашками. Размеры, правда, разные, но все – в одной куче. Если повезет, успеешь вымыться первым, есть шанс подобрать штаны и рубашку по размеру. А опоздал – бери что осталось. Был у нас один очень толстый медлительный мальчик. Ему всегда доставались маленькие шорты. Он краснел и втягивал живот, чтобы влезть в них, но они лопались по заднему шву. Все смеялись.
– А ты?
– Я тоже. – Вадим попытался сделать крошечный шаг связанными ногами. – Знаешь, дети иногда бывают злыми, даже жестокими, особенно в табунке. Ты думаешь, почему я вдруг вспомнил пионерский лагерь?
– Почему?
– Потому что там были праздники с викторинами и аттракционами. Например, подвешивали яблоко на веревочке, и надо было откусить кусок, держа руки за спиной. И еще бег наперегонки в мешках. Со связанными ногами. Вот я и пытаюсь вспомнить, как это делается.
Вадим оттолкнулся от пола и прыгнул к Маше. Она тихо засмеялась.
– А мы на первом курсе придумывали этюды с животными. Один мальчик прыгал, как ты сейчас. Угадай, кого он изображал, зайца или кенгуру?
– Зайца! – сказал Вадим и сделал следующий прыжок. – Мальчик, скорее всего, изображал зайца. А вот девочка изобразила бы кенгуру.
– Почему?
– Кенгуру ассоциируется с детенышем в сумке, с материнством. Это женственное животное.
– Правильно. Наш преподаватель тоже так сказал, когда мы потом разбирали этюды.
– А ты кого изображала? – Последний длинный прыжок, и Вадим сел рядом с Машей.
– Слона! – Маша уткнулась лбом ему в плечо. – Слон живет в Африке, где всегда тепло. А я мерзну. У меня давление девяносто на шестьдесят, руки всегда ледяные.
– А что по этому поводу сказал твой преподаватель?
– Он сказал, что у меня гигантомания.
Тут раздался мощный взрыв, где-то совсем рядом. Вслед за взрывом послышалась автоматная очередь, тяжелый топот, русский мат вперемежку с абхазскими и чеченскими ругательствами.
«Вот и все, – устало подумал Вадим, – сейчас откроется дверь, и нас расстреляют. Вахтер все передал Константинову, и в село вошел спецназ. Только не молчать сейчас, чтобы Машенька не успела по-настоящему испугаться».
Он вдохнул теплый детский запах ее волос и прошептал:
– Я очень люблю тебя, малыш. Если захочешь, мы будем жить в Москве. Я продам дом и квартиру, это большие деньги. Купим теплую дачу неподалеку от города, с ванной и с камином. А хочешь, вообще уедем в Америку. В Нью-Йорке есть одна частная клиника, меня приглашали туда работать. Если твои родители согласятся, возьмем их с собой. Как ты думаешь, они согласятся?
– Не знаю... – еле слышно прошептала Маша.
– Мы попробуем их уговорить. Или останемся в Москве. С работой у меня не будет проблем. Ты закончишь институт, потом мы с тобой родим себе ребеночка. Как ты думаешь, кто у нас получится, девочка или мальчик?
Громыхнуло еще раз, прямо за стеной сарая. Стены сильно задрожали. Маша что-то прошептала в ответ, но Вадим не расслышал. За спиной раздалось легкое потрескивание, запахло дымом. Вадим понял – стена сарая загорелась. Еще немного, и вспыхнет сухая стружка на полу.
«Что сработает первым? Огонь или дым? – подумал он. – Хорошо, если мы задохнемся угарным газом. Это не больно. Тогда мы не почувствуем огня. Неужели они забыли о нас? Чем сгореть заживо, лучше уж пусть пристрелят!»
– Ляг на пол! – крикнул он Маше в ухо, они уже не слышали друг друга из-за грохота взрывов и близких автоматных очередей.
Тяжестью своего тела он попытался откатить ее подальше от той стены, которая загорелась снаружи. Когда наконец обоим удалось перебраться к другой стене сарая, которую пламя еще не тронуло, дым повалил клубами, сквозь щели между бревнами стали прорываться сначала шипучие искры, потом вспыхнул огонь. Затлела стружка на полу.
«Может, попытаться взломать дверь? – в отчаянии подумал Вадим. – Если им не до нас в этой бойне и снаружи нас никто не стережет, мы могли бы выползти...»
И тут дверь открылась. От сквозняка стружка на полу вспыхнула. На пороге показалась мощная фигура Максуда с автоматом наперевес. Слонопотам закашлялся от дыма и стал озираться по сторонам. Он их пока не видел, и Вадим, закрыв Машу своим телом, шепнул ей на ухо:
– Не дыши. Сдержи кашель.
«Пусть он подумает, что мы уже мертвы, что мы задохнулись дымом. В горящий сарай он не решится войти...» Надежда была, конечно, слабой и неверной, но все-таки была!
Максуд действительно ничего не видел. Его глаза слезились от дыма. Он стал методично, наугад прошивать все пространство сарая автоматными очередями. Вадим чувствовал, как Маша дрожит и давится кашлем. Он сам еле сдерживал этот особый удушливый кашель, который бывает от едкого дыма. Стрельба на минуту прекратилась. Максуду надо было перезарядить автомат. Но тут же раздалась еще одна очередь и вслед за ней тяжелое, мягкое падение тела на стружку. Приподняв голову, Вадим различил в отсветах огня огромную фигуру на горящем полу. Огонь медленно полз по стружке, задержался, обтекая тело, двинулся дальше. К запаху дыма примешался сладковатый, тошный запах тлеющих тряпок и тлеющей человеческой кожи.
– Эй, есть кто живой? – услышали они молодой русский голос, без всякого кавказского акцента.
На пороге сарая стоял спецназовец в камуфляже.
– Да! – крикнул Вадим. – Помогите нам, мы связаны!
– Где вы? – Парень шагнул в сарай. – Ни хрена не видно!
– Здесь мы, здесь! – жалобно простонала Маша.
Одним прыжком спецназовец подскочил к ним, ножом перерезал веревки на ногах.
– Идти можете? – спросил он, помогая им подняться.
– Да, – ответил Вадим, – только мы в наручниках. У убитого могут быть ключи.
– Некогда! Некогда искать! Сейчас все вспыхнет к едрене фене! – прокричал парень, давясь кашлем.
Они выбежали из сарая, спецназовец на бегу вздернул автомат и дал дугу очереди по шевелившимся впереди кустам. Оттуда в ответ бешено застрекотало.
– Да пригнись ты, Мария Кузьмина, – крикнул спецназовец, – голову прямо под пули подставляешь.
Всему отряду были переданы по спецсвязи имена и приметы заложников. Их стали искать сразу, как только вошли в село. Найти уже не надеялись, но младший лейтенант Василий Блинов, пробегая мимо загоревшегося сарая на краю села, увидел, как огромный чечен поливает очередью наполненный дымом сарай, и тут же догадался, кого он может там достреливать. Василий не ожидал увидеть их живыми. Но повезло. И им, и ему. Полкан из Москвы сказал по связи, что за живых заложников повысит в звании, как и за живого Ахмеджанова.
Сарай у них за спиной полыхал уже со всех сторон открытым пламенем. Вокруг трещали очереди, тарахтели отдельные пистолетные выстрелы. Что-то тонко и длинно просвистело рядом.
– Ложись! – вдруг завопил спецназовец, падая на землю и увлекая за собой Машу и Вадима.
Просвистело прямо над головой, а через секунду раздался короткий взрыв, вздыбивший фонтан земли и мелких камней. Отряхиваясь, парень приподнялся на локте.
– Руки дайте мне. Попробуем снять браслеты, пока потише стало. Ты первый, Вадим Ревенко. У тебя браслеты туго сидят, руки затекли.
Руки у Вадима действительно затекли и покраснели. Ключ от наручников из Васиного боекомплекта не подошел. Матерясь, то и дело припадая лицом к земле, он извлек из комплекта мощные кусачки для проволоки и ловко перекусил кольца между браслетами – сначала у доктора, потом у Маши.
– Пока так хотя бы, возиться некогда сейчас.
– Спасибо, – сказал доктор, – как тебя зовут?
– Василий. Можно просто Вася.
– Очень приятно, Вася. Спасибо тебе, – улыбнулась Маша.
Послышался треск и грохот – обрушилась крыша сарая. Во все стороны полетели искры и куски горящего дерева. Как бы в ответ после небольшой передышки ударила автоматная очередь. От заброшенного колодца отделились две фигуры. Сгорбившись, бежали чеченские боевики. Они поливали автоматными очередями все вокруг себя.
– Прижмись к земле! – скомандовал Вася. – Не торчать!
Опять тонкий свист. Бабахнуло там, где пробегали двое. Сгорбленные фигуры исчезли в яркой вспышке.
– Теперь быстро уходим! Бегите вперед, к лесу. Я вас прикрою!
Маша и Вадим побежали, пригнувшись, к заросшему короткими соснами горному склону. Вася бежал за ними, двигаясь задом наперед, то и дело давая короткие очереди. Казалось, в ответ стреляют со всех сторон. Маша слышала тонкий, пронзительный свист пуль. Несколько раз прямо возле щек проносился мгновенный горячий ветерок.
«Еще чуть-чуть – и в нас попадут!» – успела подумать она. И тут послышался у них за спиной хриплый короткий вскрик.
– А-а! – крик был совсем тихим в грохоте очередей, но прозвучал почему-то оглушительно громко.
Оглянувшись, они увидели, как Вася, словно в замедленной съемке, странно вскидывает руки к небу и медленно падает навзничь.
Стало тихо. Маше казалось, что падение длится бесконечно долго. Доктор успел подхватить Васю и тут же пригнулся над ним. Двое, живой и мертвый, вжались в землю.
Опять пронзительный вибрирующий свист, за ним короткий грохот взрыва. Сплевывая землю, Вадим тер глаза распухшей рукой. Пальцы уже ничего не чувствовали.
– Пощупай у него пульс, – сказал он Маше, – только не на запястье. Найди шейную артерию.
– Я знаю, – кивнула Маша и прижала пальцы к теплой Васиной шее.
– Нет. Там ничего нет. Может, я неправильно слушаю? – Она рванула пятнистую рубашку, припала ухом к груди в полосатой майке-тельняшке и, подняв голову через минуту, испуганно взглянула на Вадима: – Там тихо...
– Я знаю, – ответил он.
Он уже все понял, когда подхватил падающего Васю. Он попросил Машу пощупать пульс только потому, что так положено. Врач не имеет права констатировать смерть «на глаз».
– Вадим, надо сделать что-нибудь! Может, искусственное дыхание? Ну ты же врач!
Маша осторожно отряхнула землю с Васиного лица. Прямо на нее смотрели светло-карие, с золотистыми крапинками глаза. На чистых голубоватых белках темнели мелкие песчинки. Маша уже все поняла, но удивилась, почему он не моргает. От этих песчинок должна быть сильная резь. Несколько секунд она глядела в неподвижные, ясные, отражающие розовато-лиловое вечернее небо глаза. Вася был старше ее года на три, на четыре, не больше. Он только что вытащил их из огня, спас, выводил с поля боя, прикрывая собой.
Красная, распухшая рука Вадима закрыла Васе глаза. Вадим разглядел на тельняшке с левой стороны небольшое круглое отверстие. Крови почти не было, ткань тельняшки чуть обгорела по краям. Пуля прошла насквозь, точно сквозь сердце, поэтому и крови было так мало, и умер он мгновенно.
Совсем рядом затрещала очередь. Вадим быстро снял автомат с плеча убитого, прихватил тяжелые кусачки для проволоки и потянул Машу за руку к лесу, туда, куда они должны были бежать вместе с Васей. Оставалось не больше пятидесяти метров открытого пространства. Они мчались, пригнувшись, и слышали, как отдаляется стрельба. Бой перемещался опять куда-то к центру села.
Упав на траву под соснами, Вадим протянул Маше кусачки:
– Попробуй перекусить эти проклятые браслеты. А то еще немного – и руки пропадут. На что тогда жить станем?
Маша возилась долго. Сил не хватало. Кусачки оставляли светлые блестящие следы на металле, скользили, были слишком тяжелыми и неудобными. Она боялась поранить Вадиму кожу, несколько раз роняла кусачки в траву. Наконец ей удалось каким-то чудом справиться с браслетом на правой руке. Вадим задвигал пальцами, разогнал кровь, браслет с левой руки снял сам, потом освободил Машины запястья.
Стало совсем темно. Южная ночь обрушилась в один миг. Еще минуту назад были светлые, ясные сумерки, и вдруг упала кромешная тьма, будто просто выключили свет.
– Куда нам теперь идти? – растерянно спросила Маша. – Совсем ничего не видно.
– Сейчас выглянет луна, и глаза к темноте привыкнут, – успокоил ее Вадим, – не бойся, малыш, выберемся.
Послышалась стрельба – совсем близко. Потом раздался тяжелый топот и сопение. Рядом бабахнуло.
«Граната!» – подумал Вадим, прикрывая ладонью Машину голову.
На них посыпался град мелких камешков. Стихший было топот стремительно приближался. Сопение прервалось чеченской бранью. Из-за низких сосен медленно вывалилась полная яркая луна, и Вадим увидел чеченца-боевика с пистолетом в руке, который несся прямо на них. Он их тоже заметил, замер на миг, целясь, как бы размышляя, кого пристрелить первым, но именно этого мига хватило доктору, чтобы дать по боевику короткую очередь из автомата. Он сделал это машинально, не думая, просто сработала реакция. Только когда боевик упал как подкошенный, Вадим понял, что в руках держит знакомый еще с армии старый добрый «Калашников».
– Кто стрелял? – раздался голос поблизости.
– Заложник стрелял, – сообщил Вадим, поднимаясь из травы.
– А, вот вы где! – К ним шли два спецназовца. – Хорошо стреляешь, заложник.
– Там парнишка убитый, неподалеку от сарая, – сказала Маша, – Васей звали. Это он нас нашел, спас и вывел. А сам погиб.
– Да, мы его видели, – кивнул один из спецназовцев.
– Ахмеджанова взяли? – спросил Вадим.
– Нет пока. Идите лесом к дороге. Только особенно не высовывайтесь. – Они вскинули автоматы, затопали назад, к поселку, и растворились в темноте.
Идти пришлось в гору, подъем становился все круче, выстрелы звучали все тише. Пылающий поселок остался позади. Редкий лесок на горном склоне жил своей спокойной и таинственной ночной жизнью. Пели цикады, кружились голубоватые огоньки светлячков.
– Устала? – спросил Вадим и провел рукой по Машиным волосам. Волосы были влажными от ночной росы.
– Ничего, – ответила она, – устала, конечно, но это не важно.
– Там, впереди, поляна, если хочешь, можем немного посидеть, отдохнуть.
– Нет. Лучше уж идти. Если я присяду, сразу засну. А ты знаешь, куда мы идем?
– Приблизительно знаю.
– Ну, раз хоть приблизительно знаешь, тогда дойдем куда-нибудь, – улыбнулась Маша.
– Нам в любом случае надо выбраться к шоссе. А там посмотрим.
– Далеко оно?
– Думаю, через час-полтора доберемся. Не бойся, мы не заблудимся, где-нибудь наткнемся на оцепление. Они ведь обязаны оцепить все окрестности. Или с патрулями встретимся.
– А они нас не пристрелят? Так, ненароком, в темноте?
– Надеюсь, что нет.
Луна осветила небольшую поляну, заросшую высокой травой.
– Подожди, я потерял тропинку, – сказал Вадим, остановившись, – все-таки лучше немного отдохнуть. На траве сидеть мокро, вон там, видишь, поваленное дерево.
– Оно тоже наверняка мокрое, все в росе. Но если хочешь, давай посидим. Терять все равно нечего, и так мы с тобой уже до нитки промокли. Я раньше думала, на юге ночи сухие, без росы.
Они присели на ствол поваленного дерева на краю поляны. Вадим обнял Машу за плечи и поцеловал в висок.
– Замерзла?
– Знобит немножко. Но это ерунда, я всегда мерзну.
– Смотри не простудись.
Маша тихо засмеялась:
– Прямо как в том анекдоте про интеллигента, который попал под асфальтовый каток. Знаешь?
– Нет. Расскажи, я сто лет не слышал ни одного анекдота про интеллигента. Сейчас все про «нового русского».
– Это старый анекдот. Попал интеллигент под асфальтовый каток, стал плоским, как тряпочка. Рабочие думают, что с ним теперь делать? Положили на порог бытовки и вытирали об него ноги, чтоб добро не пропадало. Он стал грязный с одной стороны. Его на другую перевернули, он опять стал грязный. Уборщица постирала его, повесила сушить. А он простудился и умер.
Но Вадим не слушал ее. Он перестал дышать, быстро прикрыл ладонью рот Маши.
– Тихо! – шепнул он ей прямо в ухо. – Шорох какой-то. Здесь гадюки водятся...
Он огляделся, поднял автомат. Но было тихо. Он глубоко вдохнул влажный ночной воздух. Что-то неуловимо изменилось. Он даже не понял сразу, что именно. «Померещилось», – решил он, но тут заметил – совсем близко, метрах в десяти от них, образовалась широкая прогалина между кружевными верхушками травы – будто нечто большое, тяжелое примяло траву. Вновь послышался шорох. Вадим щелкнул затвором автомата и вскочил на ноги. Луна светила достаточно ярко, чтобы разглядеть черневший в траве силуэт.
Вадим решил сначала выстрелить в воздух, но вместо выстрела раздался пустой щелчок. Он успел выругать себя, что не прихватил запасную обойму. Черный силуэт выскочил из травы. Вадим и Маша узнали Ахмеджанова.
Через секунду два тела сплелись в жуткий сопящий клубок. Вадим успел перехватить руку чеченца, зажатый в ней нож выскользнул в траву. Упал и автомат, которым Вадим собирался ударить Ахмеджанова по голове.
Они дрались безмолвно. Силы их были равны – один возраст и примерно одинаковая комплекция. Из-за перенесенной месяц назад операции Ахмеджанов был чуть слабей физически, но это с лихвой компенсировалось дикой ненавистью к противнику. Доктор только защищался, чеченец нападал.
Маша лихорадочно искала в траве нож. Все ее существо сосредоточилось на этом ноже. Сейчас она найдет его и всадит в спину, обтянутую черной джинсовой рубашкой.
Дерущиеся откатились к высокому, поросшему мхом камню. Луна ярко освещала их, но Маша боялась смотреть в ту сторону. Белая рубашка, белая голова Вадима, Ахмеджанов как сплошное черное пятно – все переплелось, перепуталось, они по очереди одолевали друг друга.
«Нож! Нож!» – повторяла про себя Маша, шаря в траве. Наконец рука ее нащупала твердую рукоять. Пластмасса стала мокрой и скользкой от росы, но держать ее было удобно из-за специальных углублений для пальцев. Подбежав к дерущимся, Маша замахнулась, целясь в черную спину, и вдруг услышала короткий глухой стук. Чеченец изловчился и шарахнул Вадима затылком о камень.
Доктор сразу обмяк, белое пятно рубашки стало медленно сползать вниз. Из Машиного горла вырвался странный, хриплый крик.
– Вадим! – Сырой ночной воздух отнес этот, словно чужой, крик далеко, к горящему поселку. «Ди-им...» – равнодушно ответило эхо.
Запястье ее правой руки стиснули стальные пальцы чеченца, она услышала хруст собственных суставов, но никакой боли не почувствовала. Левой рукой Ахмеджанов сдавил ей горло. Нож упал в траву. Машу охватила какая-то дикая, звериная ярость. В ушах стоял глухой звук удара седой головы Вадима о камень, она видела в темноте белые, коротко стриженные волосы над высоким лбом на фоне черного мха. Лица она разглядеть не могла, соленый туман застилал глаза.
Ей удалось вывернуться и резко ударить чеченца головой в челюсть. Он коротко застонал, сплюнул кровь и осколок зуба, и этой минутки Маше хватило, чтобы вмазать ему изо всех сил острой коленкой в пах. Он скорчился, руки его ослабли. Маша вырвалась и побежала.
Она мчалась по высокой траве, задыхаясь, слизывая с губ соленые грязные слезы, от которых песок скрипел на зубах. Новые замшевые босоножки отяжелели от ночной росы. Сердце колотилось у горла. Несколько раз она спотыкалась, чуть не падала, но неслась дальше, подгоняемая топотом, сопением, бранью чеченца.
– Стой, стой, сука! Я все равно убью тебя! Если ты не остановишься сама, я изрежу тебя на куски! Ты умрешь очень больно!
В школе Маша была чемпионкой среди старших классов в беге на короткую дистанцию. Но только на короткую – шестьдесят метров. Она бегала очень быстро, но и уставала быстро. Сейчас она чувствовала, как ноги становятся ватными, а в ушах нарастает тяжелый пульсирующий звон. От пота и соленых слез саднила маленькая царапина на шее, оставленная финкой Максуда. Это придало еще немного сил, но совсем немного. Споткнувшись о торчавшие из земли корни, Маша упала.
Подняться она уже не смогла. Чеченец навалился на нее всей тушей. Она впилась зубами в его потную волосатую руку. Ей даже удалось опять вывернуться, вскочить все-таки на ноги, но он тут же схватил ее за волосы, и она почувствовала у горла знакомый уже холодок лезвия.
– Вот и все, девочка, – прохрипел он, задыхаясь, – я обещал перерезать тебе горло, и я сделаю это. Жаль, что твой доктор не увидит, как ты умрешь. Но вы скоро встретитесь с ним в вашем христианском раю.
...Погоня за девчонкой вовсе не входила в планы Ахмеджанова. Ему надо было быстро уходить, прятаться, растворяться в ночной темноте, как он делал уже не раз. Но он не мог оставить ее жить. Он все понял: кассету взял доктор. А подкинула ее Иванову эта тощая девка, переодевшись и изменив внешность до неузнаваемости. Она учится в театральном училище и устроила весь этот спектакль. Его, Аслана Ахмеджанова, перехитрили, обвели вокруг пальца, а он поверил. Он позволил сделать из себя идиота и теперь не сможет спокойно дышать, если оставит в живых эту хитрую девку, соплячку, которая посмеялась над ним. Да, он очень спешит. Но нескольких минут на то, чтобы перерезать ей горло, не пожалеет.
– Господи, прости меня, – прошептала Маша, закрыв глаза. – Господи, помоги моим родителям!
Слезы высохли. Волной нестерпимой боли окатила вдруг Машу с головы до ног жалость к маме с папой, которые даже не смогут ее похоронить, они останутся одни на свете, они старенькие оба...
Ахмеджанов медлил вопреки всякому здравому смыслу. Из самых глубин его души поднялся древний охотничий инстинкт, даже не человеческий – звериный. Хищник, заполучивший добычу, иногда не сразу пожирает ее, а позволяет себе немного помедлить, поиграть, насладиться полной, бесповоротной властью над жертвой. Эта девка была его врагом не только по крови и вере, она унизила его как мужчину. Для него, мусульманина, было страшным оскорблением то, что женщина оказалась хитрей, сумела обмануть и переиграть.
Сейчас он полоснет по этому тонкому вздрагивающему горлу. Он сделает глубокий надрез, до кости, и горячая кровь хлынет пульсирующей широкой струей. Она умрет не сразу. Она успеет почувствовать липкий, ледяной смертный ужас. Этот ужас придаст ему сил, вольется в его душу сладким и целебным чувством победы. Ему надо много сил сейчас, очень много сил.
И вдруг что-то произошло. Рука с ножом, готовая сделать последнее движение, застыла. Чеченец окаменел. Маша услышала совсем рядом голос:
– Стоять! Руки за голову!
Как будто из-под земли перед ними выросли три силуэта. Три автоматных дула мгновенно уперлись в чеченца. Маша стала живым щитом.
– Я убью ее! – прохрипел Ахмеджанов. – Брось стволы! Я убью ее!
В зыбком лунном свете Маша заметила, что двое одеты в пятнистую камуфляжную форму, а один в штатском – темные джинсы и светлая рубашка. Она узнала в этом штатском полковника Константинова.
Константинов видел перед собой огромные темные провалы глаз на маленьком измазанном, почти детском лице. Голова девочки запрокинулась, у пульсирующего горла застыло широкое, чуть изогнутое лезвие. Оно прижалось к коже так плотно, что из-под него уже стекала маленькая темная капелька крови.
Повисла странная, какая-то пустая тишина. Казалось, даже время замерло. И вдруг в этой мертвой тишине нежно и пронзительно запел соловей. Чистые печальные звуки переливались в крошечном бездонном птичьем горле, долетали до побледневшей луны и гасли, словно тонули где-то в ковше Большой Медведицы...
* * *
Вадим почувствовал тошноту и ноющую тупую боль в затылке. С трудом разлепив тяжелые веки, он увидел, что уже светает. Сквозь звон в ушах прорвался странный ласковый звук, знакомый с детства и мучительно напоминающий что-то из детства. Такой же мокрый свежий рассвет, даже не рассвет, а самый конец ночи, когда познабливает слегка, глаза слипаются, а тело кажется легким, слабым, немного чужим. Высокие кружевные верхушки травы проступают сквозь мягкий, стелющийся к земле туман. «Это откуда-то совсем издалека, из детства, – подумал он, – соловей поет, поляна, редкий лесок».
– Соловей... – произнес он вслух, и от звука собственного голоса окончательно пришел в себя.
Голова гудела. Он не помнил, что произошло, не понимал, почему он здесь у камня один, почему тошнит и ноет затылок. Встав на ноги, он огляделся и тихо позвал:
– Машенька!
И тут ясно всплыло перед глазами застывшее в звериной гримасе лицо Ахмеджанова, оскаленные крупные белые зубы. Нахлынула жаркой волной смертельная ненависть к этому ощеренному лицу. Он вспомнил тяжелое сопение драки, даже запах лука и мяса изо рта чеченца. А вот что случилось потом, чем кончилась драка, он вспомнить не мог никак. Ноющая боль в голове, тошнота. «Сотрясение мозга, – понял он, – значит, мы дрались, Ахмеджанов вырубил меня. Где была Машенька? Что с ней? Может, она успела убежать?»
Соловей замолчал. Вдалеке послышались сухие хлопки выстрелов. На неверных, подкашивающихся ногах Вадим пошел на звуки стрельбы. С каждым шагом силы возвращались. Он глубоко вдыхал влажный чистый воздух, чувствовал, как расправляются легкие, успокаивается дикое сердцебиение, кровь начинает циркулировать равномерно по всему телу. Он прибавил шагу. Стрельба не прекращалась. Застрекотал автомат.
– Стой! Кто идет? – услышал Вадим и с облегчением отметил, что это сказано на чистом русском языке.
Через секунду перед ним возникли две фигуры в камуфляже. Приглядевшись внимательней, спецназовцы опустили автоматы.
Спасти девочку могло только чудо. Полковник знал: стоит кому-нибудь шевельнуться, Ахмеджанов отреагирует мгновенно, и лезвие полоснет по горлу.
– Глеб Евгеньевич, что делать? Уйдет! – отчаянно, одними губами прошептал старлей Коля Клементьев.
Ахмеджанов между тем сделал осторожный шаг к зарослям ежевики, держа перед собой Машу, и опять прохрипел:
– Стоять! Я убью ее! Не двигаться никому!
И тут раздался тихий, спокойный голос Маши.
– Скорость, – произнесла она.
От неожиданности Ахмеджанов замер. Он перестал воспринимать ее как нечто живое, способное произнести слово. Она была для него уже мертва.
– Товарищ полковник, у нее крыша, что ли, поехала? – растерянно спросил младший лейтенант Игорь Захарченко, стоявший справа от Константинова.
– Фильм «Скорость», – умоляюще говорила Маша, – ну вспоминайте, пожалуйста, вспоминайте!
Константинову на секунду показалось, что девочка действительно бредит. В такой ситуации и здоровый мужик может свихнуться.
– Что ты бормочешь, сука? – спросил Ахмеджанов, сделав еще один шаг назад, к кустам.
– Первые кадры. Самое начало. Еще до автобуса. Викторина. – Маша говорила быстро, голос ее становился все уверенней.
«Нет, она не бредит!» – понял полковник.
– Shoot the hostage! – громко сказала Маша.
Ни Константинов, ни старший, ни младший лейтенанты в переводе не нуждались. «Подстрелите заложника!» – подсказала им Маша по-английски. Она рассчитала правильно. Кто-то из троих наверняка смотрел нашумевший боевик. И должны хоть немного понимать по-английски. Просто обязаны. А чеченец – нет. Он не поймет ее, будет вслушиваться в незнакомые слова, на секунду потеряет бдительность, а главное, у них появится шанс – неожиданность...
Первым среагировал Игорь Захарченко. Он вспомнил: террорист держал полицейского одной рукой, а в другой у него был пульт взрывного устройства. И заложник-полицейский сказал своему напарнику именно эту фразу. Тот стрельнул в ногу, в мягкие ткани бедра. Но у девчонки ноги такие худые, широкие шорты кончаются чуть выше колена. Куда же стрелять?
За долю секунды до того, как Ахмеджанов, державший перед собой Машу, намеревался скрыться в зарослях ежевики, младший лейтенант Игорь Захарченко успел пальнуть из пистолета в широкий раструб шортов-бермудов.
Дернувшись, Маша сильно заехала Ахмеджанову головой по носу. От неожиданности хватка чеченца ослабла. Маша успела скользнуть вниз. Лезвие содрало кожу на шее и под подбородком, но ей показалось, будто оно вошло глубоко в горло. Падая на мокрую траву, чувствуя, как горячая липкая кровь течет за ворот майки, она подумала, что умирает.
– Игорь! Свяжись с капитаном! Вызывай ребят! Посмотри, что с ней, – прокричал Константинов, бросаясь в кусты за Ахмеджановым. – Коля! Ты за мной! Игорь, останешься с ней! – командовал он, стреляя по кустам на бегу.
Где-то вдалеке, как сквозь вату, Маша услышала треск автоматной очереди. Потом стало тихо.
Игорь Захарченко, стоя на корточках, одной рукой держал переговорное устройство, другой перевернул на спину неподвижно лежавшую девчонку. Разговаривая со своим командиром, он думал о том, как хорошо, что не ему придется сообщать родителям этой Кузьминой Марии о смерти их девятнадцатилетней дочери. Самое страшное – сообщать родителям, что их ребенок погиб. Еще он размышлял об операции, начавшейся так удачно, теперь почти проваленной. Ахмеджанов смылся, бегает где-то в горах. Оба заложника погибли. Конечно, базу они обнаружили и разгромили, кучу духов перестреляли, некоторых удалось взять живыми. А оружия обнаружили столько, что на всю Чечню хватило бы и еще на многое другое.
– Все, конец связи! – услышал он голос капитана из переговорного устройства.
Жалко девчонку. Сначала он ее подстрелил, потом дух зарезал. Зарезал все-таки, сволочь! И второго заложника наверняка уложил. Правда, его пока не нашли, но, судя по всему, он тоже мертвый.
В неверном предрассветном свете он видел кровавое пятно на тонкой шее, мертвенно-бледное перемазанное лицо, прикрытые глаза Маши. Вдруг ему показалось, что длинные угольно-черные ресницы чуть вздрогнули. Он стал быстро искать пульс на тонком запястье, не нашел, припал ухом к левой стороне груди и услышал слабый стук сердца.
– Ой, мама родная! Да она жива! Что же я, дурак, сижу!
Выхватив бинт из походного набора, Игорь содрал плотную обертку из вощеной бумаги зубами.
– Вадим... – тихо, отчетливо произнесла Маша.
– Эй, открой глаза! Ты меня слышишь? – Игорь приподнял ей голову и стал бинтовать шею. Теперь он понял – нож только ободрал кожу.
– Я что, жива? – удивленно спросила Маша, открывая глаза.
– Еще как жива! Он тебя только поцарапал, – весело сообщил Игорь.
– Где Вадим? Вы нашли его?
– Нет. – Игорь понял, что она спрашивает о втором заложнике.
– А Ахмеджанов? – Маша поднялась на ноги. – Ахмеджанова поймали?
– Смылся. Но далеко не уйдет. Слушай, как твоя нога? Это ведь я тебя подстрелил, по твоей просьбе.
Он собирался задрать штанину шортов, на которой зияла дыра от пули, и посмотреть, не задета ли нога. Но ему стало неловко, все-таки она – девчонка. Даже сквозь слой грязи на лице видно, что очень симпатичная.
– С ногой все нормально. Ты только штанину прострелил, даже кожу не задел. Пожалуйста, пойдем скорее. Вадим там, у камня. Это совсем недалеко.
«Может, он жив», – хотела сказать она, но не решилась, запнулась, будто боялась сглазить, спугнуть внезапную шальную надежду.
Дорогу Маша, конечно, не помнила, шла наугад. К поляне вышли только через полчаса. Маша сразу узнала это место и застыла как вкопанная: у камня никого не было.
– Он исчез, – прошептала она, – он лежал здесь.
– Наверное, встал и ушел, – осторожно предположил Игорь. – Его как дух вырубил? Ножом?
– Нет, головой о камень ударил.
– Ну, это пустяки. Видишь, какой здесь мох толстый. Удар смягчило, вырубился твой Вадим, а потом встал и отправился тебя искать. Оклемался он, точно оклемался. У меня был такой случай...
И тут Маша расплакалась, горько, навзрыд, по-детски шмыгая носом.
– Ну ты что? – смутился Игорь. – Эй, кончай реветь. У тебя ссадина здоровая на горле, закровит!
Плечи ее крупно и быстро вздрагивали, она опустилась в траву, уткнулась лбом в мягкий мох, которым порос камень. Слезы катились ручьем, она рыдала в голос и не могла остановиться.
Защелкало переговорное устройство.
– «Пятый», «Пятый»! Что там у тебя? Где ты?
– У меня все нормально, – ответил Игорь. – Жива заложница, только рыдает. А второй заложник куда-то делся. Судя по всему, тоже жив. Какие указания, товарищ капитан?
– Ну какие указания? Приводи ее в чувство и дуйте к дороге. Там у штабной палатки фельдшер дежурит. Как, дойдет она сама?
– Не знаю, – пожал плечами Игорь, – попробую довести.
– Ладно, Игорек. Если чеченца увидишь, стреляй на поражение, не геройствуй. Он где-то близко бродит. И еще трое, по нашим сведениям, ушли. Так что гляди, осторожней. Все. Конец связи.
Вдали послышалось несколько коротких очередей.
– Кончай истерику! – рявкнул Игорь и поднял Машу за локти. – Вот выйдем из района боевых действий – и рыдай себе на здоровье.
Маша встала и вытерла слезы кулаками.
– Ты думаешь, если человека ударили затылком о камень, он может выжить?
– О Господи, – вздохнул Игорь. – Ну ты совсем глупая или придуриваешься? Если он встал и ушел, значит, выжил. Вот у меня был такой случай, еще на гражданке, в десятом классе...
* * *
– Ты, Мария Кузьмина, в рубашке родилась, – заметил военный фельдшер, разматывая бинт у Маши на шее и осматривая рану, – еще бы чуть-чуть, и задело артерию. Первый раз такое вижу, чтоб лезвие по касательной прошло. – Он стал осторожно промывать рану. – Да не дергайся ты, это ж фурацилин, он не щиплет. Голову выше подними. Ты откуда?
– Из Москвы.
– И как тебя угораздило к самому Ахмеджанову в заложницы попасть?
– Сама удивляюсь, – попыталась улыбнуться Маша, – я вообще-то отдыхать приехала.
– Хорошо небось отдохнула? – покачал головой фельдшер. – Ты при разговорах рот-то не шибко разевай. Я ж тебя бинтую, а ты мешаешь. Ну вот, порядок. – Он закрепил повязку. – Пару дней так походишь, а потом пусть на воздухе заживает. Зеленкой смазывай. Даже красиво будет. Рана не глубокая, только кожа содрана.
– Как вы думаете, шрам останется? – спросила Маша.
– Шрам! Ничего не останется, до свадьбы заживет. Шрам! – Фельдшер усмехнулся. – Едва жива осталась, а из-за такой ерунды беспокоится!
– Я не беспокоюсь... Просто...
Из зеленой штабной палатки послышался треск переговорного устройства.
– «Ока»! «Ока»! Я «Пятый»! – весело заговорило устройство. – Как слышите? Прием! Где вы там? Василич, прием!
Фельдшер взял микрофон:
– Я «Ока», слышу тебя хорошо. Ты, что ли, Игорек?
– Я, Василич, я. Нашелся второй заложник! Жив-здоров, участвует в поисках. Скажи там барышне, чтоб не рыдала больше.
– А самого-то нашли?
– Нет пока. Все, Василич. Конец связи.
– Слышала? – обернувшись к Маше, крикнул фельдшер. – Теперь уж все. Ушел он, бандитская морда. Ищи-свищи его, хоть все горы носом изрой.
– Неужели не найдут?
– Считай – все. С концами. Там, говорят, еще трое бегают в зеленке.
– В чем? – нервно усмехнулась Маша. – В зеленке? Кто же их намазал?
– Ой, Господи! – Василич презрительно скривил губы. – Не в чем, а где. В лесу, значит. Этих троих, может, еще и поймают. Но Ахмеджанов, он всегда уходит, будто заговоренный.
Вдали застрекотали вертолеты. Они вышли из палатки.
– Это подкрепление? – спросила Маша.
– Какое подкрепление! Сейчас покружат над горами – и назад, на базу. Там уже небось местное правительство рвет и мечет, протесты в Москву шлет. Официальные.
– Почему протесты? – удивилась Маша. – Здесь же и так наши войска стоят. Ведь не для того, чтобы в море купаться?
– Одно дело – войска, другое – боевые операции, – стал объяснять Василич, но шум вертолетов заглушил его слова.
Два военных вертолета летели совсем низко, прямо над головой. Трава стелилась к земле, трепетали и хлопали брезентовые стенки палатки. Сильная струя ветра ударила в лицо. Маша зажмурилась. А когда открыла глаза, перед ней стоял Вадим.
Фельдшер, взглянув на них, хмыкнул и отошел в сторонку, к закопченному походному керогазу. Он успел приготовить чай, выкурить папиросу и, наконец не выдержав, позвал:
– Эй, заложники, кончай целоваться-обниматься, давайте в палатку, чай пить будем.
– Отличная штука ваш керогаз, – заметил Вадим, осторожно взяв в руки обжигающую жестяную кружку с чаем, – только воняет и коптит.
– Я без него, родимого, как без рук, – сообщил фельдшер, – но воняет он сильно, это правда. И копоти много. Зато чаек хорош.
– Да, чай какой-то особенный, – кивнула Маша, – очень вкусный.
Послышались голоса и шаги. В палатку заглянул Константинов.
– Ну что, товарищ полковник, не поймали? – спросил фельдшер.
– Нет, Василич, – покачал головой Константинов, – не поймали.
– А тех, троих? Вы заходите, чайку попейте с нами.
– Спасибо, Василич. От чая не откажусь. Из тех троих одного уложили, другого взяли живым, а третий ушел.
– На базу скоро полетим? – спросил Василич, подавая полковнику кружку с чаем.
– Через час-полтора. Как вертолеты вернутся. Слушай, Василич, вот ты тут сидишь, чаи распиваешь. А там старлей руку ободрал до мяса. И керогаз твой коптит, – заметил полковник, – ты бы вышел, помазал старлея йодом и примус успокоил бы свой.
– Ладно, понял. – Василич, кряхтя, поднялся и вышел из палатки.
– Ну что, Мария Львовна, – Константинов пристально взглянул на Машу, – и не жаль вам синеглазой корреспондентки газеты «Кайф» Юлии Ворониной? Она объявлена в розыск, подозревается в убийстве кандидата в губернаторы. Во всяком случае, в соучастии.
– Юля Воронина никого не убивала, – тихо сказала Маша, – она только подкинула чеченской марионетке кассету, на которой он сам был заснят. Помните, как в финальной сцене «Гамлета»: «Ступай, отравленная сталь, по назначению!» Юля Воронина только прилепила лейкопластырем кассету к крышке унитазного бачка в индивидуальном сортире в офисе Иванова. А чеченцы нашли и убили Иванова.
– Я не сомневаюсь, что вы, Машенька, станете знаменитой актрисой, – медленно произнес полковник, – но мой вам совет на будущее: никогда не занимайтесь самодеятельностью. Самодеятельность и профессионализм – вещи несовместимые.
– Это была самооборона, – возразила Маша, – Ахмеджанов не успокоился бы, пока не нашел кассету.
– Глеб Евгеньевич, – вступил в разговор доктор, – теперь, вероятно, кассета уже потеряла для вас всякий смысл? Там уже нет для вас ничего нового?
– Почему? Есть кое-что.
– Глеб Евгеньевич, я еще должен вам сказать, в местной милиции есть такой капитан, Анатолий Головня. Он тоже чеченская марионетка. Он приходил ко мне сразу после того, как они обнаружили пропажу кассеты, провоцировал меня сдать Ахмеджанова, довольно грубо и неумело. Думаю, Ахмеджанов проверял меня таким образом. Правда, может, он липовый капитан и удостоверение у него липовое?
– Нет, Вадим Николаевич. Головня был настоящим капитаном милиции, и удостоверение у него настоящее.
– Вы сказали – был? Его уже арестовали?
– Арестовали, – кивнул полковник, – только допросить не успели. Он умер в тюремном госпитале.
– Как? Сам?
– Хороший вопрос, – улыбнулся полковник. – По официальному заключению – сам.
– Глеб Евгеньевич, – тихо спросила Маша, – как вы узнали, что Юлию Воронину сыграла именно я?
Константинов молча вытащил из кармана коробочку из-под контактных линз.
В палатку заглянул фельдшер:
– Товарищ полковник, я извиняюсь, там ребята бомжа какого-то подобрали, говорят, бродил по лесу.
Вадим выскочил из палатки первым. «Андрюха жив!» – прозвучало у него в мозгу.
На траве сидел страшно худой, сгорбленный старик в лохмотьях. Реденькая седая борода чуть шевелилась на легком ветру.
– Неужели это он? – прошептала Маша. – Ты ведь не видел его мертвым! Он мог выжить, почему нет?
– Нет, Машенька, – грустно покачал головой Вадим. – Андрюха погиб. Это совсем другой человек. Такие, как он, есть в каждом селе здесь, в горах. Этому повезло, а Андрюха погиб. Как тебя зовут? – обратился доктор к старику.
– Иван, – тихо ответил тот.
Перед самым Новым годом пошел дождь. Москва утопала в ледяной слякоти, только по ночам глубокие лужи затягивались тонкой корочкой льда. Иногда дождь сменялся колючей серой крупой, которая таяла, не долетая до земли.
– Если сейчас ударит мороз, – говорил Машин папа, усаживаясь на заднее сиденье «Тойоты», – будет такой гололед, что вам, Вадим, прибавится работы. Всех ведь и с переломами, и после дорожных происшествий к вам везут, в Институт Склифосовского.
На чудом уцелевшей «Тойоте» теперь был московский номер. Она не ехала, а почти плыла по глубоким лужам старых переулков. Выехали на Тверскую, под колесами захлюпала ледяная каша.
– Лева, закрой окно, – сказала Машина мама, – ты нас простудишь.
– Натальюшка, тепло. Так приятно ехать с приоткрытым окном!
– Но не в декабре!
– Тоже мне, декабрь, – пожал плечами Лев Владимирович. – Вадим, у вас там, за городом, есть хоть немного снега?
– Там все бело. Никакой слякоти.
– Хорошо. А то Новый год без снега – это грустно.
В тихом дачном поселке в сорока километрах от Москвы Вадим купил небольшую двухэтажную дачу. Денег, полученных за квартиру и дом в курортном городе, едва хватило на покупку и ремонт подмосковного дома. Ремонт пришлось делать капитальный, проводить горячую воду, встраивать ванную. Закончился он всего неделю назад. Новый год собирались встретить вчетвером, с Машиными родителями, в новом свежеотремонтированном доме. А сегодня, тридцатого декабря, должна состояться премьера на учебной сцене Малого театра. Известный молодой режиссер поставил со студентами спектакль по пьесе Островского «Бешеные деньги». Маша была в главной роли, играла Лидию Юрьевну Чебоксарову, взбалмошную и расчетливую красотку.
– За городом, конечно, хорошо, – вздохнула Наталья Дмитриевна, – но страшновато зимой, особенно когда вы, Вадим, сутки в своем Склифе дежурите, а Машенька ночью одна.
– Наталья, перестань, пожалуйста, – поморщился Лев Владимирович, – мы уже давно все это обсудили, все слова сказали. За городом не опасней, чем в Москве. А воздух там чище, тишина, петухи по утрам кричат. Как, Вадим, кричат у вас петухи по утрам зимой?
– Кричат. Но не у нас в поселке, а в соседней деревне.
* * *
Официальная премьера спектакля должна была состояться в первые дни после Нового года, а эта игралась «для мам и пап», по старой театральной традиции. Зрительный зал учебной сцены вмещал всего триста человек, и из этих трехсот не было практически ни одного случайного зрителя. Войдя в фойе, Вадим почувствовал себя неловко в театральной толпе, где все со всеми знакомы.
К Машиным родителям кто-то без конца подбегал, здоровался, обязательно целуясь, спрашивал, как дела, тут же убегал, не выслушав ответа, впрочем, они отвечать и не собирались, так было принято. С Вадимом тоже здоровались, как со старым знакомым.
Красивый молодой человек, похожий на какого-то известного американского актера, проходя мимо, сказал Машиным родителям «добрый вечер», а по лицу Вадима скользнул невидящим взглядом.
– Саня, а ты разве не занят в спектакле? – спросила Наталья Дмитриевна.
Но молодой человек уже растаял в толпе.
«Тот самый Саня, у которого случился острый аппендицит, – догадался Вадим, – на какого же американского актера он похож?»
Так и не вспомнив на какого, Вадим заметил в толпе высокую, тонкую фигуру Белозерской. Через минуту к нему подскочил Арсюша. Мальчик вытянулся, похудел, на нем был темно-синий парадный костюм, галстук-бабочка. Рядом стоял очень полный пожилой человек с растерянным мягким лицом.
– Познакомьтесь, Вадим Николаевич, это мой муж.
Доктор пожал теплую влажную руку всемирно известного пианиста и вспомнил, что видел его лицо по телевизору и на афишах у Консерватории.
– Папочка! Это тот самый доктор, который мне вправил вывих.
«Господи, какая сложная у них жизнь, – подумал Вадим, – интересно, как этот ребенок рассказывал своему „папочке“ про вывих? Ведь в обезьянник он ездил с Константиновым...»
Наконец раздался третий звонок. Зал отшуршал целлофаном букетов, отхлопал стульями, откашлялся и затих. Свет погас. Маленький живой оркестр вскинул смычки, зазвучала музыка, вариации на тему какого-то старинного, очень знакомого романса. Медленно поплыл занавес.
Вадим впервые видел Машу на сцене и не узнавал ее. Зато неожиданно для себя он узнал в надменной, циничной, но удивительно обаятельной Лидии Чебоксаровой, в бедной дворяночке, жаждущей выгодного брака, почти забытую корреспондентку Юлю Воронину.
Возможно, ему только показалось, что в этих двух образах есть нечто общее. Просто Маша опять, как тогда, стала другой, чужой, совершенно незнакомой женщиной.
Когда спектакль кончился и зажегся свет, зрители долго аплодировали, режиссер и актеры уже в пятый раз выходили кланяться. Маша, глядя в зал из-за охапки букетов, видела сквозь цветочные головки знакомые лица, хлопающие ладони, слышала крики «Браво!». Конечно, это еще не настоящая премьера, а как бы семейная, и аплодировал зал не столько таланту режиссера и актеров, сколько своим детям, внукам, племянникам, друзьям, ученикам. И все-таки было очень приятно. Если такие же аплодисменты будут на официальной премьере, после Нового года...
Вдруг Маша перестала дышать, застыла и чуть не выронила букеты. В зале среди множества знакомых лиц она увидела одно, которое надеялась больше никогда в жизни не увидеть. Она сначала обратила внимание на человека, стоявшего в самой глубине маленького бельэтажа. Она заметила его потому, что он не бил в ладоши, как все, а стоял неподвижно. На долю секунды их глаза встретились. И сразу упал занавес.
Когда он поднялся еще раз, в углу бельэтажа никого уже не было.
Москва, август – ноябрь, 1996 г.