Книга: Блуд на крови. Книга вторая

Блуд на крови. Книга вторая

ЕЛЕНЕ И ЕКАТЕРИНЕ ЛАВРОВЫМ
Над Петербургом тяжело занималось хмурое утро. К Троицкой площади — против Сената тянулись любопытные до кровавых зрелищ.
На плахе лежал, отсвечивая широкой гранью большой топор. Здесь же торчал вытесанный из толстого бревна с остро отточенной верхушкой кол. Поскрипывая новыми сапогами, по эшафоту прохаживался низкорослый и короткорукий человек с повязкой на нижней части лица — палач.
Ударили барабаны. В сопровождении конвоя показался рослый белокурый человек. Вопреки страданиям, облик его все еще сохранял красоту.
…Календарь показывал 16 ноября 1724 года. Нынешняя кровавая трагедия свое начало брала без малого три десятка лет назад.
В доме виноторговца Иоганна Монса, с незапамятных времен перебравшегося из Германии в хлебосольную Москву, царит веселье. Гуляет любимец царя Петра, умница, дебошан и бабник Франц Лефорт. На коленях у него сидит младшая дочь Монса — Анна. Синеглазая, с крепкой грудью и высокой прической густых русых волос. Веселая и не стесняющая себя условностями поведения, она способна вскружить голову любому мужчине.
Лефорт подымает бокал:
— За твою неземную красоту, Анхен! Пусть она послужит во благо всем нам, немцам, проживающим в Московии. Я уже говорил о тебе герру Питеру, он жаждет с тобой иметь рандеву.
Анна лукаво смотрит на своего друга:
— Ой, Франц, не пожалеешь ли? Сумеешь ли отсушить Анхен от своего сердца?
Лефорт с наслаждением выпивает вино и вновь льет в лафитник из пузатой бутылки. Потом хохочет, обнажив крепкие, желтые от курения зубы:
— Русские хорошо говорят: «Баба — не лужа, всем хватит напиться». — И он вдруг надолго присосался к сочным губам девицы.
В углу сидит за шахматным столом малолетний братец Анны — Виллим. Он разыгрывает партию сам с собой и внимательно слушает разговоры. На пороге вырастает с новой бутылкой вина старый Монс. Отец с добродушной улыбкой смотрит на дочку, ставит ренское на стол и замечает Виллима:
— Уходи отсюда! Лучше дай корм курам и поменяй им воду.
Неделю спустя, теплым розовым закатом на Яузе-реке против Кукуй-городка показался тяжелый струг. На носу лодки стоял царь Петр. Сложив по привычке на груди руки, вздернув подбородок и крепко сжав маленький рот, он с острым любопытством разглядывал сие немецкое благополучие: мельницы с флюгерами, чистенькие домики под островерхими черепичными крышами, Стриженые газоны и посыпанные песком и гравием дорожки.
Петр скосил глаза в сторону Лефорта, сидевшего на передней скамейке:
— Невероятная перемена! Только что плыли мимо черных изб-развалюх, поваленных плетней и заборов, убогих огородишков — и вот на тебе! Уют, достаток, порядок. Отчего так?
Лефорт хмыкнул, пососал вишневую трубочку, произнес:
— Тут много чего любопытного, герр Питер. Коровы дают молока раза в два больше, чем у ваших крестьян. Огородные овощи куда крупней и вкусней. Покажу вашему царскому величеству мельницу водяную. Она трясет ткацкий стан, подымает воду в деревянный громадный чан и трет табак. Еще больше вещей изумительных в домах кукуйцев. Тут живет, я вам упоминал о нем, честный виноторговец Монс. Так у него хранится музыкальный ящик с двумя птицами-сиринами, кои поют дивными голосами, машут разноцветными хвостами и хлопают крыльями. А под их музыку танцуют персоны, вполне согласные натуре, но величины самой незначительной. — Лефорт выставил свой мизинец.
— Хочу видеть, — коротко приказал Петр…
Петру ящик очень понравился. Заводили его Анна и норовивший помочь ей Виллим. Наглядевшись на танцующих персон, Петр неожиданно сказал:
— Подыми, Лефорт, крышку, что там внутри?
Старый Монс побледнел: ящик был семейной реликвией, а главное стоил зело дорого. Тогда Анна качнула бедрами, сделала танцевальное движение и ласково заглянула в глаза Петра:
— Ваше величество! Я тоже умею петь и танцевать, но если любопытство заставит вас заглянуть в мои внутренности, то я уже более никогда не сумею делать этого.
Петр было недовольно сморщил нос, дернул ногой, но вдруг добродушно улыбнулся. Все радостно расхохотались, а старый Монс, удержав вздох облегчения, пригласил:
— Садитесь, пожалуйста, ваше величество, за стол. Будем вместе ужинать!
Сметливый Виллим попытался подтолкнуть тяжеленное кресло поближе к Петру, но оно даже не сдвинулось с места. Ребенку помог Лефорт, а царь спросил у мальчика:
— Ты науки изучаешь?
— Грамматику немецкую, а также русскую, математику и рисование. Со мной Анхен и фатер занимаются. Я родился в Московии и хочу зер гут читать и писать по-русски.
— Молодец! — Петр хлопнул мальчишку по плечу. — Когда выучишься и подрастешь, приходи ко мне. Приму тебя, Виллим, на государеву службу.
…С той поры зачастил Петр в дом Монса. Уже не таясь, запахивала Анна золотые занавесочки спальни, кричала оттуда брату:
— Виллим, принеси герру Питеру свежего пива, да не расплескай!
Лефорт ходил довольный. Монс, с карандашом в руках, подсчитывал доходы. Петр строил для Анны дом. Та, мобилизуя все свои испытанные женские чары, крепче и крепче привязывала к себе царя. Малолетний Виллим часами просиживал над книгами, мечтая о службе государевой.
Бежало время. Круша старые порядки и человеческие судьбы, Петр возводил новую Россию. Многое менялось на глазах, лишь страсть к девице из немецкой слободы не ослабевала в царском сердце.
В марте 1697 года Петр отправился путешествовать по чужим землям. Пропадал года полтора — ни строки письма, ни устного привета Анне. Та решила: «Бросил меня царь, завел себе новую девицу. Упустила счастливый шанс».
…Уже в силу вошел август девяносто восьмого года. В саду наливались тяжестью зрелые плоды. Польский посланник Кенигсек натягивал на себя шелковые рейтузы, Анна убирала измятую ими постель. Вдруг под окнами послышались конское ржанье, громкие голоса. Анна выглянула и обмерла: по песчаной дорожке прямой, словно проглотил аршин, шел… Петр.
— Ах, — воскликнула Анна, — мы пропали. Царь, черт его подери, сюда идет. Откуда он взялся?
Кенигсек лихорадочно пытался напялить туфли, да перепутал правый с левым. Он моментально взмок от страха, мысли его помутились. Он взвыл:
— Оторвет голову мою, ревнивец!
Вдруг Анна вздохнула:
— Виллим, умница, остановил Петра. Задерживает его разговором, знает, что вы у меня в
гостях! Идите скорее сюда, в заднюю дверь. Через огород, бегом. В углу, возле старой яблони доска приподнимается. Прощайте!
Едва посол выскочил из дома, как в него вошел Петр. Он загорел, пропылился, и весь облик его стал каким-то мужественным. Былая юношеская резвость сменилась некоторой степенной важностью.
Петр захлопнул за собой дверь, обнял Анну:
— Как я скучал без тебя, Аннушка! Каждый день думал о тебе. Теперь твердо решил: свою супругу Авдотью Федоровну в монастырь заточу. Пусть лбом пол долбит, грехи мои замаливает, А мне еще, — он коротко хохотнул, — ой сколько грешить предстоит! Вот и сейчас… Желанная, дай к персям твоим прильнуть! Тебя жажду…
Анна схватила руку царя. Вдыхая запах дорожной пыли и пота, целовала и целовала ее, не веря своей радости. «Присох ко мне Петр, взойду на российский трон царицей!»
…Когда утомленный дорогой и любовью, Петр отдыхал в объятиях Анны, он похвалил ее брата:
— Толковый мальчишка! На моих глазах вырос, не оставлю его своими заботами, сделаю государственным мужем.
Анна благодарно поцеловала Петра.
Пылкая любовь порой кончается столь же неожиданно, как и возникла. Пока Петр выламывал хребет России под западный камзол, пока обагрял брусчатку Красной площади кровью стрельцов и в Тайном приказе подвешивал несчастных на крюки за ребра, он не забывал Кукуй-городок. Кукуйцы встречали герра Питера радушно: танцы, выпивки, хорошенькие женские лица, жаркие объятия Анны — все это веселило душу, уставшую от перестройки государства.
— Тебе, Аннушка, единственной я верю без оглядки, всю натуру свою распахиваю, — доверительно говорил царь девице Монс.
Не ведал Петр того, о чем давно шушукались за его спиной: Анна была блудлива, мало кому из ухажеров в ласках отказывала. Меншиков как-то случайно застал ее в беседке, в одиночестве задумчиво глядевшей в голубое небо. Решительный в любви, он тут же, возле резных перил, шанса своего не упустил. С Кенигсеком и вовсе Анхен крепко спуталась.
Царь об этом узнал нечаянно. Вскоре после виктории над шведами под Нотебургом Кенигсек по пьяному делу и неосторожности свалился в глубокий ручей, ушел под лед. При утопленнике нашли тугую пачку писем, а с раздувшейся груди Петр снял большой медальон. Письма положили возле огня просушиться, ибо выяснить следовало: не содержат ли тайн государственных? А царь колупнул ногтем золотую крышку, раскрыл медальон и вельми изумлен был:
— Портрет Аннушки? Как? Почему? А это что — прядь волос с ее очаровательной головки? И эту прядку я, неразумец, может целовал!
Брезгливо — двумя пальцами, взял письмо, начал читать. Потом другое, третье. Содержание их было пустяковым: «Ежечасно, мой прекрасный друг, воздыхаю о вас… Меня пожирает страсть, которую вы разожгли в душе моей… Когда вас нет, жизнь делается постылой… Вечно посылающая вам любовные вздохи Анна».
Петр швырнул письма, плюнул вслед:
— Ах, дура! А как лгала мне замечательно, я ведь и впрямь думал, что без меня ей нет радости. Блудница вавилонская!
Кликнул Меншикова:
— Алексашка, отправь срочную депешу московскому начальству
«Анну Монсову под строгим караулом заточить в доме ее. Из оного запретить любые отлучки под страхом смерти. К ней никого окоромя прислуги не допускать. За все ее худые поступки запретить выходить даже в кирху. Зело извольте выполнять все написанное со всей неукоснительностью. Петр».
Гонец, молотя шпорами по лошадиным бокам, полетел в Москву.
О после короля прусского Георге Иоганне фон-Кейзерлинге шла молва, что он в свое время был сожителем Анны Монс. Так это было или иначе, правду теперь не сыскать. Но из архивных документов достоверно известно следующее.
Летом 1707 года главная квартира русской армии, ожидавшей Карла XII, находилась близь Люблина. Здесь присутствовали Кейзерлинг и… Виллим Монс, юный красавец, лицом поразительно схожий со своей сестрой. Посол опекал Монса, тот даже нашел приют в его жилище. Еще прежде Виллим откровенно признался Кейзерлингу:
— Самое выгодное дело для меня — служба, русскому царю. Когда я был еще мальчуганом, Петр заметил меня. Но моя сестренка, у которой между ног всегда свербит, сотворила мне великую обиду — поссорилась с царем Петром. Ныне я ею полностью тем ограблен, ибо не имею средств к достойному существованию. Если бы вы, мой благодетель, замолвили за меня хоть слово единое! Государь вельми вас уважает…
— Сие есть правда, — Кейзерлинг тряхнул париком, роняя с него на камзол пудру. — Это хорошо, что вы уведомили, Виллим, меня о свбих намерениях. Завтра у царя очередная пьянка. Вы знаете, что русские не умеют жить без пьянства и безобразий. Я попрошу герра Питера, он, я уверен, мою просьбу уважит.
Если бы знал посол, на какой срам он себя обрекает!
На другой день Кейзерлинг, пригласив с собой Виллима, прибыл на званый ужин к Петру. В комнатах было накурено и душно, так что в открытые окна даже не влетали комары, полчища которых развелись тем летом.
Сразу же столкнулись с Меншиковым — румянолицым, всегда веселым, говорившим столь громко, что слышно было за версту.
Кейзерлинг любезно расшаркался:
— Князь, позвольте представить вам сего молодого человека…
Меншиков грохнул смехом:
— Хха! Виллима я знал еще шпингалетом, когда навещал его сестричку. В отсутствие, — он хитро подмигнул, понизив голос, — царя-батюшки. Помнишь, Виллим? Я тебе еще заморских конфет дарил. Ха-ха! Ах, простите, герр посол, я забыл, что вы тоже согревали ложе очаровательной Анхен. Я не прав? Простите, ошибся.
Скрипнул зубами от досады посол, но оскорбление стерпел, с возможной галантностью осклабился:
— Нынче день веселья, самое время прощать виноватых. Князь, молю вас, окажите протеже Виллиму, замолвите словечко перед государем. Нельзя ли принять Монса на военную службу?
— Ой, хитрец! — Меншиков ткнул перстом под посольское ребро. — Ты, сказывают, скоро с Монсами породнишься, на Анхен женишься, вот и хлопочешь. А я-то с какой стати перед государем буду за опальных поклоны метать?
Кейзерлинг поднял жирную пятерню и стал стаскивать с указательного пальца крупный бриллиант. Светлейший брезгливо отстранился, скорбно покачал головой:
— Хочешь пустяком откупиться? Птенцы Петра честью не торгуют, чай не уличные мы девки. — Подумал, почесал волосатую ноздрю, махнул рукой, хитро улыбнувшись: — Ты сам улучи момент благоприятный, а государь коли совета моего спросит, я слово и замолвлю.
На том и расшаркались. Меншиков отправился к Петру, и, похохотывая, сказал:
— Мин херц, посол с Монсихой развратничал, а теперь за наш счет откупиться желает. И еще в жены мечтает взять. Что, в постели, небось, проворная?
Царь налился кровью, засопел тяжко, гневно сжал кулаки.
И тут — хуже момента не придумаешь! — к нему с ужимками и приседаниями, таща за руку Монса, приблизился посол.
— Ваше величество, — сладко улыбнулся Кейзерлинг, подстрекаемый одобрительным подмигиванием Меншикова, — позвольте представить вам…
Петр раздул щеки:
— За кого просишь, посол? Мне мало того срама, что я от сестры его перенес? Эту хищницу я воспитывал для себя, имел намерение на ней жениться. Но ее природная натура оказалась столь блядской, что более не желаю слышать ни о ней, ни о ее родственниках.
Тут встрял Меншиков:
— Мин херц, дело прошлое да я тебе уже признавался. Ведь и я с ней во времена оны развратничал, да и ты, Кейзерлинг, поди, своего с сей порочной особой не упустил. Не так ли? Ныне хочешь ее в жены взять? Молодец, бери. Она бабенция… того… на передок горячая! Хха!
— Как вы смеете, князь, говорить столь дерзкие речи! — топнул ножкой Кейзерлинг. — Сицевыми словами между нами противность чинится.
Меншиков схватил посла за локоть и громко сказал, хотя и на ухо:
— Ну ты, козлобородый, катись отселя к… — далее шли выражения вовсе не дипломатические и равно для печати не годные. Светлейший дал пинка Кейзерлингу, и тот спешно застучал туфельками с бантиками по крутой деревянной лестнице, едва не опрокинув с ног старого воина генерала Нетельгорста.
Петр стоял рядышком, мусолил трубочку и ехидно посмеивался.
На другой день Кейзерлинг поднялся спозаранку. Опасаясь, что чья-либо депеша опередит его, застрочил на бумаге:
«Люблин, 1707 года, 11 июля нового стиля. Вседержавный великий король, августейший государь и повелитель! Всеподданейше и всенижайше повергаю к стопам вашего величества донесения о происходившей вчера попойке. Обыкновенно сопряженная со многими несчастными происшествиями, она вчера имела для меня пагубные последствия. Ваше королевское величество соблаговолит припомнить то, что почти повсюду рассказывали в искаженном виде обо мне и некоей девице Монс из Москвы. Говорят, что она любовница царя. Эта девица и вся ее фамилия содержатся уже четыре года под постоянным арестом, а ее брату преграждена всякая возможность поступить на царскую службу. Я, по несчастью, хотя невинным образом, вовлеченный в их роковую судьбу, считал для себя обязанным заступиться за них…»
Тут, от быстрого движения руки, чернила брызнули на бумагу.
Посол чертыхнулся, присыпал кляксы песком, смахнул его и продолжал писать о тех унижениях, кои он претерпел вчера по причине своего исключительно доброго сердца:
«Царь и Меншиков напали на меня с самыми жестокими словами и вытолкнули не только из комнаты, но даже вниз по лестнице, через всю площадь… Я не прошу о мести, но я слезно и всенижайше умоляю ваше королевское величество как о величайшей милости уволить меня, чем скорее, тем лучше, от должности при таком дворе, где участь почти всех иностранных министров одинаково неприятна и отвратительна…»
Через пять дней, узнав за верное, что «посольские магнаты» пишут Карлу донос о скандале, Кейзерлинг вновь оправдывает свою неуместную выходку — просьбу об опальном. Он приводит «упущенные прежде обстоятельства и подробности»:
«Князь Меншиков начал грубить мне непристойными словами, вследствие чего Его Императорское Величество в негодовании удалился, тогда как я только возразил, что благородный человек не упрекнет меня в бесчестном поступке и тем не менее никогда не докажет того; но когда князь Меншиков не переставал обращаться со мною с насмешкой и презрением и даже подвигался все ближе и ближе ко мне, я, зная его всему миру известное коварство и безрассудство, начал опасаться его намерения, чтобы по московскому обычаю ударом „под ножку“ не сбил меня с ног — искусством сим он упражнялся, когда разносил по улицам лепешки на постном масле и когда впоследствии был конюхом. Я, вытянутой рукой, хотел отстранить его, заявив ему, что скорее лишусь жизни, нежели позволю себя оскорбить, и не считаю доблестным человеком того, кто осмелится меня позорить…
Свидетелем этого происшествия был бригадир фон-Нетельгорст, состоящий на польской коронной службе; он всенижайше прилагает тут свое письменное свидетельство и готов, во всякое время, присягнуть в справедливости слов, полностью меня оправдывающих.
Статс— секретарь тайный советник Шафиров на днях признался в возмутительности всего происшедшего датскому королевскому послу.
Князь Меншиков собственно вытолкнул из комнаты и вдоль лестницы при мне находящихся лакея и пажа (прочая прислуга отправилась домой с экипажем). Потом, вернувшись, спросил меня, зачем я хочу с ним ссориться?
На что я отвечал, что я не начинал ссору и никогда не начну ее, но не позволю никому на свете оскорблять меня. Тогда он сказал, что если я не считаю его благородным человеком, то и он меня таковым не считает, что как я первый позволил себе его толкнуть, то и он может меня толкать, что действительно он тут же и исполнил, ударив меня кулаком в грудь и желая вывернуть мне руку; но я успел дать ему затрещину и выругал его особливым словом…
Я отвечал, что сам ничего не затеваю и драться не могу, потому что у меня отняли шпагу, но что если я не получу желаемого удовлетворения от его царского величества, то готов, во всяком другом месте, драться с князем Меншиковым.
Тогда царь с угрозой, что сам будет драться со мной, обнажил свою шпагу в одно время с князем Меншиковым; в эту минуту те, которые уж меня держали за руки, вытолкнули меня из дверей, и я совершенно один попал в руки мучителей, или лейб-гвардейцев князя Меншикова; они меня низвергли с трех больших ступеней и, мало того, проводили толчкамичерез весь двор, где я нашел своего лакея одного (паж поехал за экипажем).
Ваше королевское величество, обладая столь светлым умом, рассудите сами по нижеизложенным обстоятельствам, что не я, а князь Меншиков затеял ссору, ибо по первому пункту я не имел ни злобы, ни малейшего неудовольствия против него; доказательством тому могут служить все мои всенижайшие донесения, в коих до сих пор я не только не упоминал об его ежедневных глупостях, но скорее писал о нем только все хорошее. По второму пункту, ясно, как Божий день, что он начал оскорблять меня непристойными словами».
Всячески себя обеляя, посол немало сочинил тут, особенно про свой отважный нрав.
История смешная, конечно! Но она нам любопытна, ибо Кейзерлинг в нашей истории еще появится вновь.
Государь проклинал неверную любовницу, но никто не мог или не умел занять место Анны в его сердце. Он послал ей несколько писем, но внезапно получит такой отпор, что крепко в чувствах задет был, а надежда на примирение сделалась призрачной.
Наконец, в 1711 году Анна была освобождена от ареста. Кейзерлинг, мусоля ее лицо поцелуями, нежно говорил:
— Моя любовь, нам следует немедля заключить брак…
И в этой срочности была необходимость суровая. Кейзерлинг опасно заболел. Петр, узнав о свадьбе, страшно гневался и приказал:
— Отобрать у Монсы дом, мною для нее построенный!
В результате всех репрессалий, Анна переехала жить к своей знакомой немке. 11 декабря 1711 Кейзерлинг помер. Анна опечалилась сим траурным событием весьма мало. Больше ее беспокоило наследство покойного, которого ради с его братом началась у Анны тяжба.
Вскоре освободившееся место в ее сердце занял пленный швед Миллер. Они были уже сговорены, но 15 августа 1714 года Анна Монс-Кейзерлинг скончалась. Похоронили ее на Немецком кладбище. Рассказывали, что Петр тайком навестил могилку похотливой подруги.
Но главные события нашей истории еще впереди.
28 декабря 1706 года в старом Зимнем дворце (позже на его месте построили Преображенские казармы) искрилось вино. Изрядно хмельной Петр то и дело кричал:
— Виват Катерина! Виват наследница!
23— летняя пленница Мария Скавронская, успевшая побывать замужем за каким-то незначительным человечком и наградить любовью нескольких петровских «птенцов», родила царю дочь. Мария сменила имя на Екатерину, католичество на православие. Венчание и передача ей наследия на российский престол были впереди. А пока Петр прижимал ее к золотым пуговицам мундира:
— Матка, Катеринушка! Требуй что хочешь — исполню!
Известный историк еще в середине прошлого столетия писал:
«Суровый деспот, человек с железным характером, спокойно смотревший на истязание на дыбе и затем на смерть родного сына, Петр в своих отношениях к Катерине был решительно неузнаваем: письмо за письмом посылалось к ней, одно другого нежнее…»
В народе поговаривали:
— Ейный папаша в какой-то Лифляндии крестьянствует, а у дочки тут — власти да сласти. Сказывают, когда во втором году в полон ее взяли, под телегой солдат утешала за краюху хлеба, а теперь — царица. Разговорчивых регулярно вылавливали и кнутом до костей облиховывали. Но вылезшая из грязи новоявленная царица готовила своему самодержавному супругу казнь такую, до которой и в Тайной палате не додумались.
Немолодой, вечно занятый государственными делами и войнами муж становился все скучнее. Зато красота голубоглазого Виллима Монса с первой встречи пронзила любвеобильное сердце Катерины. Блудливая мысль заметалась в ее голове, как мышь в темном погребе: «Не отпускать его пусть рядом будет…»
— Папочка, — равнодушно-ленивым голосом обратилась однажды Катерина к Петру, — тут без особых дел Монс тебе известный обретается. Позволь, пусть в моем ведомстве корешпонденцией ведает.
Петр поморщился, но покорно вздохнул:
— Пусть!
Виллима он допустил на службу еще в восьмом году. В качестве генеральс-адъютанта тот состоял при государе и беспрестанно мотался с места на место с различными поручениями. И даже успел отличиться в Полтавской битве, за что получил от Петра внеочередной чин.
— Будешь моим камер-юнкером, — томно говорила Катерина, лениво развалившись в шелковом кресле. — Ведай всем, что до моих интересов относится. И прекрати шашни, зело ты, камер-юнкер, до баб охочий. Не спущу! Тебе есть кому дарить амурное внимание, — она многозначительно глянула на Монса.
Тот упал на колени, осыпал ее руки горячими поцелуями. Катерина рук не отнимала. Лишь потом слегка оттолкнула, потрепала по щеке:
— Иди, записывай свои новые обязанности. — И начала диктовать: — Управление моих сел и деревень. Записал? Затем, ведание казной. Принятие на службу в мое ведомство…
Список был длинный.
На другое утро отправились кататься на восьмивесельном шлюпе. День весьма тихим был. Ветер самый слабый, лишь после полудни к зюйду подался. Оркестр, расположившийся на корме, услаждал слух музыкой. Лакеи ставили блюда с изысканной пищей. Выбор вин был большой — из французских. Катерина и Монс сидели в непосредственной близости на особой скамейке, прикрытой шатром и обитой дорогим штофом.
После обеда, склонившись к царице, Монс читал ей свои стихи:
Купидон, вор проклятый
Пробил стрелою сердце, лежу без памяти.
Не могу я очнуться, и очи плакати,
Тоска точит сердце кровавое,
Рудою запеклося, и все пробитое.
У Катерины слеза пробилась из глаза. Она шепнула:
— Никто прежде стихов мне не сочинял. Приходи нынче же после захода солнечного.
Уже через неделю-другую после описанных событий, катаясь в карете по Летнему саду, Катерина как бы между прочим заметила Монсу:
— А ведь ты уже не самое ли главное лицо среди всех моих аристократов — камер-фрау, вельмож, фрейлин?… Цени сие!
— Ценю, Матушка! — склонился к руке Монс. («Матушка» была на пять лет его моложе.)
И впрямь, вскоре ни одно мало-мальски серьезное дело не решалось без участия Монса. Взятки вчерашний изгой брал почти не таясь, а без мзды стопорилось любое благое начинание. Добычу ему тащили самые видные люди, самые именитые и знатные. Давали деревеньками, лошадьми, крепостными девушками, бриллиантами. Хапал Монс так алчно, словно жить собирался два века.
Так продолжалось более восьми лет — до ноября 1724 года.
Многие ведали про амурную связь Монса с Катериной и про его лихоимство, но никто — ни Меншиков, ни Ягужинский, ни Толстой и прочие, им равные — на Виллима не донес. Ибо учинить такой донос на немца означало донести на саму Катерину. Храбрецов столь отважных не находилось.
А донос сделал некий Ширяев — один из неважных дворцовых слуг. Сделал по глупости, зависти и по той причине, что терять ему было особенно нечего. (Любопытно, что подметное письмо было направлено вторично — первое где-то затерялось, возможно, что в самом Тайном приказе у грозного Ушакова.)
В воскресный день 8 ноября в спальню к Монсу пожаловал кровавый инквизитор Ушаков.
Гаркнул:
— Сдай шпагу и ключи! Ты арестован! Поедешь ко мне на квартиру.
Там их уже дожидался Петр. Он окинул Монса презрительным взглядом, грустно качнул головой:
— Значит… с Катериной? До чего ж монсова фамилия гнусная. Много крови мне испортили… за мою ж доброту. Но и ты, однако, Виллим, отвеселился.
Весть об аресте Монса заставила трепетать сотни сановников. Каждый знал за собой вину, а Петр умел искать и жестоко наказывать.
Опасения оказались напрасными. Петр был уже не тот, что прежде. Болезни точили его тело, на своем челе государь уже ощущал смрадное дыхание смерти. Да и не желал оскорбленный муж долгих розысков, жаждал скорой расправы. Доказали три случая взяток — и довольно!
15 ноября судьи (среди них был знаменитый Яков Брюс) объявили приговор:
— За многие вины учинить Виллиму Монсу смертную казнь, а именье его — движимое и недвижимое — конфисковать.
Петр собственноручно начертал: «Учинить по приговору».
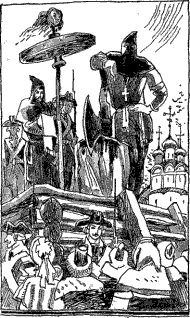
После христианского напутствия в жизнь загробную Монс остался в одиночестве. Вдруг заскрипел ключ в замке, дверь тяжело приотворилась. Вошел Петр.
Радостная мысль вспыхнула в душе: «Катерина заступилась. Власть ее на государя безмерна. Помилован? Пусть буду влачить дни свои в убогой нищей избушке, но только жить, жить!» Вилл им с надеждой глядел на Петра.
После долгого молчания тот медленно произнес:
— Мне очень жаль тебя лишиться, но как быть иначе?
Монс ответил:
— Я виноват перед Вами, государь. Вы всегда были ко мне добры.
У обоих на глазах блеснули слезы. Они понимали то, о чем промолчали.
…Следующим утром белокурого красавца возвели на эшафот, огласили приговор.
Впрочем, не весь, а лишь экстракт из него — дабы не тратить время попусту. Монс стоял печально-величественный и вполне спокойный. Когда читавший закончил, Монс кивнул ему:
— Благодарю вас, сударь, за труд…
Затем он простился с народом — на все четыре стороны.
Вынув что-то из кармана, он протянул пастору:
— Возьмите, падре, на память о безвинном мученике. Может, я и был плох, но, видит Бог, не хуже других.
Пастор с любопытством взглянул на подношение: это были золотые часы с портретом Екатерины.
Монс поглядел на палача и обратился к нему с просьбой — теперь уже последней в жизни:
— Сделай милость, покончи все скорее, — и лег на плаху, хранившую рыжие следы чьей-то крови.
Палач исполнил просьбу. Голову он водрузил на шест, по которому побежали струйки крови. Полузакрытые глаза смотрели в серое небо. Золотистые волосы вились по ветру.
Народ плакал.
В тот же день Петр привез к месту казни царицу, ткнул пальцем в сторону шеста:
— Узнаешь?
Екатерина равнодушно глянула в мертвые глаза фаворита, кисло сморщилась:
— Жаль, что разврат придворных достиг такой степени!
Петр фыркнул, но ничего не сказал.
…Прошел всего месяц. Петр тяжело заболел, забыв и про государственные дела и про казни.
28 января 1725 года в начале шестого утра, царь, испытывая жуткие мучения, словно душу его похищали дьяволы, испустил последнее дыхание.
Весть о смерти Петра людьми неслужилыми, лучше сказать сторонниками старины и врагами реформ монарха, принята была с великой радостью. Ни ужасы пыток, ни кнутобойни и вырывание языков не могли сдержать заявлений восторга…
Итак, на российский престол взошла Екатерина.
Совсем немного не дожил Виллим Монс до своего настоящего триумфа. История ведает немало примеров того, как из грязи попадают в князи. То и мы видели.
ИГОРЮ ЗОРИНУ
Этой страшной истории более двух сотен лет. Она поразила умы ее современников лютой и беспричинной жестокостью. Любимец двора поэт Михаил Херасков говорил Екатерине Великой, что «Злоба сия может поколебать в человеке благородном уважение к людскому племени». Отметим, что для раскрытия истины едва ли не впервые в России была произведена с судебной целью эксгумация трупа
Семеновского полка капитан Жердинский держал нечто вроде игорного дома. Каждый день здесь за зеленым сукном ломберных столов собиралась изрядная компания, состоявшая преимущественно из персон военного звания.
В тихий послеобеденный час, когда многие из петербуржцев вкушали по древнему русскому обычаю сон, исходил азартным томлением майор лет тридцати пяти. Хрупкого, словно саксонский фарфор, сложения, с узким, побледневшим от волнения лицом, с растрепанным коком над высоким лбом, он испытывал Фортуну за вистом.
Взмокшей и слегка дрожавшей ладонью время от времени он подгребал к себе выигранные деньги. Сидевший напротив мрачный кирасир пошарил по пустым карманам мундира и со злобой плюнул на пол:
— Ну, Христер Клот, тебе везет, как подлецу! Выставил меня начисто. За какой-то час просадил тебе месячное жалованье. Что ж я пошлю теперь старухе-матери? Ох, где ты, моя удача?
Клот ехидно ухмыльнулся:
— С твоим счастьем, Парамонов, только по воронам из мортиры палить!
Клот усмирял Пугачева, самолично (осуждаемый за это офицерами) повесил десятка полтора бунтовщиков, отличился под Казанью. Теперь же, согласно его рапорту, отправлялся на родину в Лифляндию «для поправления пошатнувшегося домашнего хозяйства и болезни супруги ради».
— Играешь? — с надеждой получить еще чего-нибудь в качестве трофея спросил Клот.
Парамонов подумал, достал серебряные часы, положил на стол. Игра возобновилась, и через несколько минут часы поменяли хозяина.
— Я — пас! — поднялся кирасир. — Если желаешь, угости водкой.
Игроки подошли к буфету, выпили по нескольку рюмок. Вдруг Парамонов азартно произнес:
— Хочешь сыграть на мою крепостную девку? Ей десять годов, но ловкая, шельма! Шьет изрядно, может готовить. За десять рублей поставлю. Идет?
Они вышли на улицу, приказали остановиться извозчику. Через минут десять подкатили к маленькому домишке, стоявшему поблизости от Шляхетского кадетского корпуса.
— Сам король шведский Густав Третий месяца полтора тому назад посетил нас, у кадетов был, — хвастливо проговорил Парамонов, словно король был его личным гостем. — Ужинать будешь?
На пороге прибывших встретила тонкая веснушчатая девочка, вытрясавшая половичок. Большие голубые глаза вопросительно посмотрели на Парамонова. Тот обрадовался, похлопал ее по спине:
— Видишь, майор, какова красавица? Цены девке нет. Скоро в возраст войдет, совсем тебе пригодится, — и он хихикнул, обнажив темные от жевательного табака зубы.
Клот ощупал девочку, недовольно поморщился:
— Тоща, яко снеток онежский! Ну, да уважу тебя, Парамонов, сыграю. Выпить у тебя не найдется?
Прошли в избу. Даже вечерний сумрак не мог скрыть убожества обстановки: земляной пол, колченогая лавка, некрашеный стол да грязный полог, за которым виднелась неубранная кровать хозяина.
— Фьють, — присвистнул Клот, — живешь ты, капитан Парамонов, вельми скудно.
Тот тяжело вздохнул:
— А как иначе? Деревушка у меня под Вязьмой есть, да дохода почти не дает. А жалованье мое все на игру нынче уходит. Страсть как не везет, а без игры не могу. Тут два месяца терпел, зарок давал, так поверишь, майор, едва не повесился от тоски. Даже веревку намылил, но в последний миг одумался.
Клот улыбнулся широкой розовой пастью:
— Веревку, капитан Парамонов, береги. Может и пригодится еще.
— Типун тебе на язык! Мои беды начались еще со службы в любезных сердцу покойного императора Петра Ш голштинских войсках. После его кончины матушка Екатерина нашим офицерам и мне в их числе хода не дает. Так и уйду за выслугой лет в отставку капитаном, а уж давно пора быть майором. Ну да хватит. — Он повернулся к девочке: — Поставь, Настя, нам водки и чего-нибудь найди на закуску. Огурцов, что ли, да хлеба.
Они выпили. Парамонов предложил:
— Давай Фортуну испытаю — кости бросим!
Бросили кости. Выиграл Парамонов, затем еще и еще он срывал куш. Клот матерился, стучал сапогами, хлопал по столу кулаком.
Парамонов, размягчаясь от удачи, дал денег Насте, приказал:
— Сбегай в лавку к Хорькову, купи бутылку марсалы. Да прикажи, чтоб дал самой лучшей.
Мелькнув босыми пятками, девочка поспешила выполнять желание хозяина. Вернулась она скоро, но счастье уже успело полностью отвернуться от кирасира Парамонова: он проиграл все, что выиграл прежде, проиграл и самое Настю.
Попивая марсалу, счастливый Клот говорил:
— Пусть девчонка несколько дней поживет у тебя, Парамонов. Я августа тридцатого убуду на родину и возьму ее с собой. Завтра составим купчую, чтоб все дело по закону было. Теперь тебя будут звать, — Клот повернулся к девочке, — Триной.
— Почему так? — вяло спросил Парамонов.
— Мою любимую собаку так звали, да на прошлой неделе околела. Прекрасная легавая была, да что-то, видно, съела. Будешь мне напоминать ее, — Клот потрепал за ухо девочку. — Поняла, Трина?
Настя покорно кивнула головой:
— Поняла, дяденька. Вы меня будете теперьзвать Триной.
Клот осклабился:
— Смекалистая! А где Трина, твоя мама? За девочку ответил Парамонов:
— Сиротой растет! И мать и отец в семьдесят первом году от холеры ноги протянули.
Так Настя поменяла и свое имя, и хозяина.) Если есть на небе ангелы, в тот день они плакали над грядущей судьбой ребенка.
Парамонов сказал правду про родителей Насти. Когда она была совсем малышкой, ее отец и мать прислуживали в доме Парамоновых, что на Покровке в Москве. В декабре 1770 года в старой столице разразилась чума. Говорили, что ее занесли срлдаты, воевавшие против Турции.
Коса смерти нашла свои первые жертвы на какой-то суконной фабрике. Неопытность врачей и легкомыслие народа, не понимавшего страшной опасности, позволили болезни быстро распространиться по всему городу.
Главнокомандующим Москвы в то время был неустрашимый (согласно легенде) граф Петр Семенович Салтыков. Знаменитость свою он обрел в семилетнюю войну. Рассказывали, что фельдмаршал расхаживал поверх редутов и отмахивался от летавших вокруг ядер хлыстиком.
Теперь же сей воин не выказал прежней удали. Едва началась чума, как он, забыв свой долг, в смятении бежал из Москвы в свою родовую деревню. Дурному примеру последовали гражданский губернатор, комендант, полицмейстеры.
Город, брошенный на произвол судьбы, являл страшное зрелище. Как писал очевидец, «чернь предалась буйству, насилиям, грабежам. Пошел слух, что болезнь нарочно распространяют лекаря. Тогда заболевших стали прятать, не сообщать об оных. Кабаки были наполнены негодяями, и пьяные, выходя оттуда, заражали один другого. Повсюду валялись незахороненные трупы. Мародеры бросались на них, ища деньги и прочую добычу, но находили для себя лишь неминуемую смерть».
Мать и отец Насти, верно служившие своим господам, охраняя их покой и безопасность, тоже заболели и в страшных муках на глазах дочурки скончались. Их хозяева с покойными поступили просто: приказали выбросить трупы на дорогу. Случай не был единичным. Так что 26 августа 1771 года императрица Екатерина II обнародовала указ:
«Известно Ее Императорскому Величеству стало, что некоторые обыватели в Москве, избегая докторских осмотров, не только утаивают больных, но и умерших выкидывают на публичные места Такое злостное поведение навлекает на все общество наибедственнейшие опасности… Если кто в таком преступлении будет открыт и изобличен, таковой безо свякого милосердия будет отдан вечно в каторжную работу. О чем сим и публикуется».
На Парамоновых кто-то донес. Не миновать бы родителям капитана лишения всех прав состояния и каторжного лиха (указы у нас и прежде на первых порах рьяно исполнялись), да сами они уже в остроге заразились чумой и отдали Богу душу. А дело шло к своему концу, чума на Москве уже прекращалась. Капитан продал московский домик, девочку-сироту вместе со своей старой няней забрал в Питер.
За год до описываемых событий няню похоронили на Смоленском кладбище. Настя стала заменять ее полностью, стирая капитану белье, бегая по лавкам, готовя провизию.
Теперь не без сожаления он прощался со своей малолетней рабыней. В его загрубелом сердце вдруг родилось раскаяние. Оставшись один, Парамонов проклинал — в который раз! — свою несчастную страсть к игре, скрежетал зубами:
— Фу, мерзость! Как я не мог видеть всей гадости моего поступка — проиграть черт знает кому сироту! Ведь этот майор какой-то отщепенец, он не нашей веры, на иконы не молится. Изувер немецкий!
Затем он потряс надо ртом штофом, который оказался пустым, и утешился старыми кислыми щами, испив через край чугунка. «Что делать, — уже спокойно подумал капитан, — видать у Настасьи судьба такая. Каждому свое!»
Он прошел за полог, и через минуту сильный храп нарушил ночную тишину.
Майор Клот покинул Петербург 7 сентября 1777 года, ровно за два дня до печально знаменитого наводнения, когда мутные волны бились о стены Зимнего дворца, а размытые могилы выпустили гробы и утопающие цеплялись за них.
Майор направился через Ригу в сельцо Царнау. Там находилось небольшое имение его жены Елизаветы Стернстраль, дочери палача. Этой даме было под сорок лет. Елизавета относилась к тем натурам, на которые в молодом возрасте природа наносит тонкий слой красоты, от которого после замужества и рождения уже первого ребенка не остается и следа. Высокого роста и по этой причине постоянно сутулящаяся, с жидким пучком белесых волос, мелкими чертами лица, с остреньким носиком, она все же упрямо считала себя весьма неотразимой.
Во всяком случае, Елизавета была энергична и предприимчива. Именно благодаря этим качествам ей удалось упросить, умолить петербургское начальство позволить мужу занять освободившееся место начальника местного военного гарнизона. Она знала читать и писать, хранила у себя несколько книг и слыла среди местного бомонда женщиной весьма просвещенной.
Занятием своего отца Елизавета не только не тяготилась, но даже весьма гордилась. Когда ей было всего лет пять, отец взял ее на экзекуцию, которую совершал над провинившимся крестьянином. Экзекуция заключалась в том, что крестьянина — тщедушного, лет пятидесяти — привязали к деревянной кобыле, и отец Елизаветы не торопясь, с какой-то залихватской ловкостью поддергивал кнутовищем, наносил удары, отчего на костлявой спине появлялись длинные вспухшие следы. После десяти ударов вся спина была в крови, затем на лопатках отслоилась кожа. Не выдержав назначенных ему тридцати ударов, крестьянин испустил дух.
— Мое дело — сторона! — рассуждал в тот вечер за обедом отец. — Мне предписано наказать — я и наказываю. У меня должность такая. Не я, так другой найдется, еще хуже будет. А без наказаний никак нельзя, народ и так нынче совсем распущенный, начальства перестал бояться. На все есть закон!
Елизавете понравилось ходить на экзекуции, которые совершал отец. Уже выйдя замуж, она не оставила этого развлечения.
Однажды должны были вешать мужика, обвиненного в грабеже.
Елизавета взяла с собой дочь Кристину. Они приехали в Ригу, заняли среди зрителей места поближе к эшафоту. Кристина со страхом и любопытством наблюдала, как возвели на высокий эшафот молодого парня, бледного от ужаса, едва стоявшего на подгибающихся ногах. Дед девочки, одетый в обычную кумачовую рубаху, поставил парня на табурет, засунул голову в веревочную петлю (которую Елизавета намылила еще накануне) и табурет с силой толкнул. Раздался короткий сдавленный крик, и парень, задрав под напором петли подбородок к небу, долго трясся в мелких конвульсиях. Из носа, ушей и рта у него побежали струйки крови.
Елизавета вдалбливала дочери — малолетней Кристине:
— Большинство людей — черви, скопище негодяев. Если некоторых из них время от времени не давить, они распускаются вовсе и не дадут жить таким честным людям, как мы. Пусть чужие стоны тебе доставляют радость! Поняла? — И Елизавета нежно поцеловала дочь, согласно кивавшую головой.
Елизавета презирала своего мужа и не скрывала этого. Словно гипнотизер, глядя не мигая на его переносицу, Елизавета неоднократно говорила:
— Христер, неужели ты сам себя считаешь мужчиной? Твои сверстники успели стать полковниками и генералами, живут в богатых домах, ездят в роскошных каретах, а ты… — она презрительно сплевывала, — ты, Христер, пирожок с дерьмом. Я не пущу сегодня тебя на мое ложе.
Майор униженно сопел и не смел возражать: свою супругу он боялся. Про ее сестру Магду шел слух, что она травит своих мужей. Действительно, за одиннадцать лет трое умерли во цвете лет — все отравились грибами. Майор боялся, что его милая Елизавета учинит с ним нечто подобное.
Но на сей раз встреча была радостной.
— Ах, пупсик, ты стал исправляться! — восхищалась супругом Елизавета. — Так это наша крепостная девчонка? А ты купчую крепость пра-вильно оформил? Молодец, сегодня мы спим вместе. А ты, — обратилась она к Насте, — будешь делать все, что я прикажу тебе. Иначе — держись! — и для начала Елизавета пребольно ущипнула девочку, от неожиданности вскрикнувшую.
— Она хорошо шьет! — хвастливо сказал майор.
— Прекрасно! Пусть сошьет сегодня мне ночную рубаху, завтра тебе…
— И мне, и мне, — потребовала Кристина, с любопытством наблюдавшая за этой сценой.
— Всем сошьет, — заверила Елизавета. — Иначе накажу и кормить не буду. Пусть живет в комнатушке Анны, там лавка есть.
Кристина принесла иглу и нитки, Елизавета дала Насте полотно и образец:
— Держи, шей по этому размеру. Да чтоб к ужину было готово!
Усталая, некормленная девочка принялась за шитье. Глаза слипались, руки плохо держали иглу.
К ужину сшить рубаху она не успела.
Елизавета, казалось, обрадовалась этому. Улыбаясь, она сказала:
— Вот и мило! Сегодня ты будешь распята. — И повернула лицо к мужу: — Позови работников, они сейчас в конюшне. Пусть принесут оглоблю, она возле яслей стоит. Пошли вниз, в столовую.
По каменной лестнице спустились в подвал. Здесь Елизавета сорвала с девочки платье, обнажила ее тельце, приказала конюху и истопнику:
— Привязывайте, да покрепче. Пусть москали знают, что мы с ними шуток не шутим.
Мужики растянули руки Насти вдоль оглобли, веревкой накрепко привязали их и подняли ее над полом, зацепив концы за выступы на стенах.

— Ой, больно! — закричала Настя, беспомощно повиснув в воздухе. Веревки впились в тонкие ручонки, вызывая нестерпимые мучения.
Все расхохотались, а Кристина, подбадриваемая мамашей, ухватившись за ноги Насти, повисла на них. Девочка хрипло застонала.
— Будешь тут до утра, — заверила Настю Елизавета. — И запомни: это воспитание малое, а есть еще и большое. Боюсь, что тебе придется испробовать и его. — И обратилась уже к 16-летней прислужнице Анне Бах, не принимавшей участия в общем веселии: — Накрывай на стол. Пора ужинать. А эта ленивая негодяйка пусть смотрит на нас и пускает слюни.
Итак, «шитье рубах» сделалось для Елизаветы Стернстраль предлогом для ежедневных «воспитательных мер»…
Провисев подвязанной к оглобле часа три, Настя потеряла сознание. Очнулась она в комнатушке у Анны Бах, которая смачивала ей виски уксусом и со слезами сочувствия на глазах ухаживала за маленькой мученицей.
На другое утро Елизавета растянула рот в улыбке:
— Как изволила спать, Трина? Сон был крепкий? Неужто плохой? Ай-ай! Это оттого, что ты, красавица, плохо работала. Вот тебе материя, нитки, иголки. Сшей по этому образцу рубаху своему хозяину. И не вздумай лениться, иначе придется мне применить к тебе обещанное большое воспитание.
Вновь оросилось слезами лицо девочки, да ничего не ответила, старательно принялась за работу. К вечеру сумела-таки сделать невозможное — сшила для майора рубаху. Суставы мучительно ныли.
— Значит, я права, — уставилась на девочку бесцветными глазами Елизавета. — Ты шить можешь, а вчера не хотела. Христер, иди сюда, примерь обновку. Вот так, рукав одерни. — Вдруг Елизавета прошипела: — А это что, почему манжет косой? Ты, мерзавка, назло мне испортила материю? Ничего, я знаю, как взыскать с тебя. Дай руку! Кристина, девочка, завяжи ей пальцы нитками. Анна, закрути пальцы паклей и жги лучиной. Анна Бах помертвела от ужаса, прошептала:
— Я не могу, нет, нет, я не буду!
Майор, стоявший сбоку, ударом кулака разбил нос Насте.
Пятна крови брызнули на сшитую рубаху. Он проревел:
— Я буду избивать эту паршивую Трину до той поры, пока ты не выполнишь приказа госпожи! Поняла, Анна? — Майор заискивающе посмотрел на супругу. Та кивнула головой:
— Да, эта гнусная девчонка нарочно измарала кровью рубаху. Христер, держи крепче Трину, Анна жги лучиной паклю. Ну?
В дело вмешалась Кристина:
— Мамочка, давай я буду жечь лучиной, дай сюда, противная Анхен!
Майор держал в объятиях ребенка, дочь его жгла паклю, в которую были замотаны пальцы. Сначала, когда огонь прошел до мяса, Настя дикими криками оглашала дом, потом враз замолчала, потеряла сознание. Пальцы обгорели до костей.
— Хватит, пошли пить чай! — пригласила Елизавета. — Другой раз умней будет…
Теперь, дорогой читатель, мы подошли к сценам, при описании которых в старину говорили: «Рука опускается,перо замолкает…» По причине этой нам придется прибегнуть к воспроизведению документов:
«Как по свидетельским показаниям оказалось, после того, как ей паклей жгли до кости руку и от вышеописанной муки пальцы еще не зажили, она опять худо шила. Тогда майор Клот приказал девку Трину догола раздеть и посадил в мокром погребе на целые восемь дней. И хотя она ужасно кричала и жаловалась, что ей холодно и что она голодна, однако избавления себе не получила… Другой раз, майор Клот, рассердясь, сек Трину розгами до крови, а потом горничной девке Анне велел насыпать большую груду соли и помянутую Трину, раздев донага и связав ей назад к затылку руки к палке, стянув притом и ноги, положил покрытое кровью тело на соль, к чему особливо самые большие куски выбраны были, дабы они в раны войти могли и разъедать тело. При этом сам майор и майорша били Трину плетью, продержав в этом мучении до рассвета.
Они же неоднократно затягивали Трине пояс столь крепко, что весь живот у нее кверху выжат был и создавались большие затруднения дыханию. Потом девка Анна, по приказанию майорши, стоявшей всегда с плетью, пришивала к телу Трины пояс большими иглами. И как иглы, преломившись, оставались в теле, то доводили Трину до боли жутчайшей, как и сам пояс, оставленный пришитым на четыре часа. Затем пояс ножиком спарывали, а нитки оставались в теле, образуя большие гнойники. Майорша самолично засыпала в сии гнойники соли.
Когда однажды Трина без позволения поела, то майор, раздев ее донага, в десять часов вечера вывел во двор, привязал к сосне и держал на лютой стуже до шестого часа утра. Будучи отвязанной, девица оказалась без сознания. Тогда майорша приказала обварить Трину кипятком, что делала ее дочь…»
Описания пыток заняли много страниц. Приходится удивляться, как слабое создание — голодная и плохо одетая девочка так долго выносила эти нечеловеческие страдания. Когда после очередной казни Настя не сумела по приказу майора подняться с пола, он насмерть забил ее ногами.
Лекаря Трейблер и Тругард в угоду мучителям сделали медицинское заключение, в котором утверждали, что девочка скончалась от желудочной болезни. Настю похоронили. Казалось, концы этой страшной истории навсегда спрятаны в воду, но случилось иначе.
Весною 1778 года через сельцо Царнау по делам службы проезжал президент Государственной медицинской коллегии Алексей Ржевский.
Ему— то и рассказала о мученической смерти Трины (Насти) Анна Бах.
Было возбуждено следствие. Тейблер и Траугард чистосердечно признались, что они тело не осматривали, заключение написали по просьбе майора Клота.
Новая комиссия произвела эксгумацию. Гробик с останками бедной Насти подняли на свет Божий. Медики пришли к мысли, что «смерть наступила вследствие многочисленных побоев и мучений». Нашлись свидетели, которые рассказали о зверствах супругов Клотов. Решением Сената они были лишены всех прав состояния и отправлены на поселение в Сибирь (Екатерина избегала применять смертную казнь).
Что касается бывшего владельца Насти, то капитан Парамонов кончил плохо. Проиграв казенные деньги, он повесился. Так оправдалось мрачное предсказание Клота, предлагавшего «не выбрасывать веревку».
АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ ЛИСИНУ
Едва до Екатерины Великой дошла история, о которой мы расскажем, императрица якобы с изумлением произнесла: «Каких чудес на свете токмо не бывает!» И повелела: «О сей истории много не распространяться и народ зря не смущать, дабы в умах порча не произошла».
Первостатейный петербуржский купец Данила Матвеевич Семенов уже года два ходил вдовцом. Было ему 49 лет от роду, силу в организме имел он несокрушимую и в женской ласке ощущал необходимость несомненную.
Тут ему сваха подвернулась. Стала невесту ладить:
— Тебе ли, Матвеич, с такими капиталами перемогаться? У купца Наумова девка Анастасья в возраст вошла, осьмнадцать годков стукнуло. Из себя краля — стройная, чернобровая. Сам Наумов разорился, да тебе ли за чужим богатством гнаться?
Устроили смотрины. Даниле Матвеевичу девка показалась, лишь худоба ее смущает. Сваха увещевает:
— Чай, сквозь ребра кишки не просвечиваются! Были бы кости, — от доброй жизни всегда мясо нарастет.
Анастасья девица не нравная, но отцу печалится:
— Скучно мне, уж стар он дюже. Молодого бы, пригожего!
— У молодого в кармане — вошь на аркане, — отец вразумляет. — Тебе, бесприданнице, знаменитый купец честь оказывает. Да на твоем месте любая другая нос бы вздернула, хвост растопырила. Я, дочка, не мерзавец твоей жизни, добра тебе желаю.
Свадьбу пышную сыграли. Анастасья в дом мужа переехала и весьма довольна осталась. У отца с хлеба на квас перебивалась, в обносках ходила, а тут стала нежиться в полном довольстве. Отцу кланяется:
— Спасибо, батюшка, за вразумление. Муж у меня расчудесный, заботливый да щедрый. Опять деньги дал большие. Говорит: «Наряжайся, ни в чем себе не отказывай!» Пиры в доме чуть не каждый день — знакомцев угощаем, купцов российских и чужеземных. Делу торговому — застолье первый помощник, сам знаешь-ведаешь. Даже специального повара взяли. В землях немецких искусству своему обучался.
Хозяин спозаранку по делам торговым убегал, все заботы на молодую жену оставлял. Та еще в постели лежит, да уже о деле заботится. Данила Матвеевич приказал богатый обед приготовить, сегодня купцов, приехавших из разных городов сделки рядить, следует угостить:
— По царски!
Позвонит Анастасья в колоколец, сенной девке Глашке приказывает:
— Позови повара!
Ванька— повар, рослый, в плечах широкий, лицо круглое, руки фартуком вытирает, на пороге уже стоит:
— Гутен таг, фрейлен! Звать приказывали?
— Чего к обеду готовишь?
— Стараемся как приказано. Стало быть, — Ванька заводит глаза, — на первое холодец, затем ветчина с хреном — от Самотесова доставили сейчас. На второе — галантир…
— Ты, Ванька, оттяни его поболее!
— Натюрлих! Сельдь соловецкая. Грибки соленые, огурцы и пурмидоры из парников Шереметева — как положено. Ну и шеврель из дикой козы, которую свою зарезали. Напитки разнообразные, — повар впился взглядом в заманчивые полукруглости грудей, выглянувших из-под одеяла. — Токмо докупить следует бонбарисовой, да померанцевой не более полдюжины осталось.
— Из горячего — все?
— Как можно-с?! Фазаны в перьях по-курфюрстски. На десерт — зефиры и пирожные разнообразные.
Анастасия, томно потянувшись, протянула:
— Что-то чаю хочется…
— Да и то, чаю аль кофе с утра — хорошо, — угодливо осклабился Ванька. — Прикажете в спальню подать? А может, в дальнюю беседку с гротом?
— Давай, в сад неси, — улыбнулась приветливо Анастасья. Ванька — единственный молодой мужик в доме, и Анастасья с удовольствием чувствовала, что ее женские прелести волнуют парня, и немного кокетничала с ним. — Отвернись, бесстыдник! Не видишь, с постели встаю.
Ванька от рождения был крепостным великих князей. После первого брака будущего русского царя Павла Петровича, Ванька достался его очаровательной супруге Наталье Алексеевне. Подростком, вместе с двумя другими рабами, был отправлен в Дрезден — учиться поварскому делу.
По природной бестолковости, Ванька тонкостей своей профессии не освоил. Зато, как это часто случается с россиянами, заграничная жизнь произвела на парня самое пагубное воздействие. Ему понравилось щеголять в смешных одеждах, играть в азартные игры и дуть пиво.
Великая княгиня Наталья Алексеевна, словно предчувствуя свой ранний конец и от природы обладая нравом добрым и человеколюбивым, составила завещание. 16 апреля 1776 года Наталия Алексеевна разрешилась от бремени мертвым младенцем, а сама, испытав страшные муки, скончалась. Ее овдовевший супруг исполнил волю покойной жены, в точности сделал все то, что она записала в духовной. Среди прочих облагодетельствованных и оказался повар Ванька, получивший освобождение из своего крепостного состояния.
Тут он и подвернулся под руку Даниле Матвеевичу, который желая доставить приятное удовольствие супруге, натерпевшейся всякой нужды с молодых лет, взял на службу Ваньку, определя ему комнату для житья в собственном доме и приличное жалование.
Вскоре выяснилось, что Ванька ленив и глуп. Данила Матвеевич вздыхал порой:
— Голова без ума, что фонарь без свечи.
Готовил он не лучше кухарки Луши, но по доброте хозяйской был на месте оставлен.
И как скоро жизнь показала, сделал это купец понапрасну.
Данила Матвеевич норовил всячески потрафить жене. Гардероб ломился от новомодных платьев. Одних роброновых с фижмами было штук пять или более — из атласа, люстрина, бархата, штофа, гроденапля. Кушала Анастасия с серебра, а ее уши, пальцы и грудь украшались бриллиантами, изумрудами и золотом.
Явно гордясь женой, которая от доброй жизни несколько располнела и вообще стала выглядеть еще привлекательней, купец возил ее на разного рода ассамблеи и представления. Так, в июле Данила Матвеевич привез жену в Аничков дворец, где петербургское купечество устроило маскарад. Воображение Анастасьи было поражено многоцветным фейерверком и освещенным щитом, на котором ярко горел вензель императрицы. Здесь же Данила Матвеевич познакомил ее со своим старинным приятелем — знаменитым поэтом Сумароковым. Последний составил им протекцию, по которой они попали в Смольный, где институтки разыграли пьесу Екатерины «Высокомерный».
Сама императрица сидела в ложе и аплодировала. После ужина дали бал. Анастасия от природы была ловкой и танцевала лучше всех и от кавалеров не было отбоя. И вдруг к месту, где она находилась с мужем, приблизилась императрица с фельдмаршалом A.M. Голицыным. Екатерина Алексеевна улыбнулась и милостиво произнесла:
— А ты прелестно танцуешь! — И повернувшись к Голицыну, добавила: — Князь, если супруг этой красавицы не возражает, отчего бы вам не сделать с ней круг?
Данила Матвеевич затараторил, что «будет весьма польщен», Анастасия заалела от смущения. Грянула музыка, и увешанный орденами князь, еще в движениях не потерявший ловкости, прошел с купеческой женой два круга.
Екатерина, стоя возле Данилы Матвеевича, с удовольствием наблюдала танец. Потом спросила купца:
— Как зовут твою супругу?
— Анастасия Семенова, в девичестве Наумова, — бойко ответил Данила Матвеевич.
Случившийся поблизости Сумароков, поспешил вставить слово:
— Ваше величество, купец Семенов не только молодой женой знатен, он и легко владеет немецким, говорит без затруднений.
Екатерина за что-то сердилась на знаменитого поэта и его замечание оставила без ответа, хотя фамилию купца, как покажет время, запомнила.
Анастасия от своей жизни была в восторге. Она искренне повторяла мужу:
— Какой ты у меня чудесный! Как я тебя люблю…
Кокетство Анастасии, на первый взгляд вполне безобидное, вдруг приобрело мрачное значение. Дело в том, что Ванька, имевший любовный опыт исключительно с продажными женщинами и не помышлявший об их порядочности, вообразил, будто юная хозяйка без него жить не может. Оставаясь наедине, повар сладострастно шептал:
— Ты будешь моей, чего бы мне сие ни стоило! Я помню о тебе всяк час, я уже изнемогаю! Твой старый муж достоин смеху. Он еще не ведает, что и его супружница, и все капиталы скоро мне достанутся.
Повар замыслил страшное. У немца-провизора он купил белый кристаллический порошок — сулему. И ждал лишь удобного случая, чтобы осуществить свое злодейство.
И случай такой представился в двадцатых числах августа 1777 года. К купцу приехали друзья из Ганновера. Стол был завален различными яствами: осетриной, белугой, икрой на подносе, копченой стерлядью, красовался целый неразрезанный вареный поросенок, стояла батарея дорогих вин. За столом шумело веселье.
Обычно воздержанный, Данила Матвеевич пил чарку за чаркой.
В столовую несколько раз забегал Ванька. Наконец, он решился: «Хозяин, кажись, зело пьяный! Насыплю ему отраву в кашу с фруктами. Все будут есть — им ничего, а на старика воздействует. Решат, что худо ему сделалось от избытка водки».
Прибежав на кухню, Ванька решил отослать на минуту-другую Лушку, ему помогавшую. Он приказал:
— Не вертись, яко капля на…! Неси-ка лучше гостям мусс. Да не забудь грязные тарелки собрать со стола.
Едва девка ушла, как повар метнулся к угловой полке, где стояли большие кастрюли, редко употреблявшиеся. Лихорадочно пошарив вмиг вспотевшей ладонью, извлек из тайного угла маленький пакетик. Это была сулема. Он высмотрел покрупнее сливу, украшавшую кашу, пальцами сделал надрыв и посыпал туда яда. Потом сливу положил сверху на кашу, приметив место.
В этот момент, погромыхивая деревянными подметками по дощатому полу, на кухню вернулась Лушка.
— Мой посуду, — распорядился повар, — а я кашу гостям поставлю.
И подхватив чуть трясущимися руками блюдо отправился осуществлять гнусный замысел.
— Стол у тебя, Данила Матвеич, замечательный! — хвалили гости из Ганновера. В то утро они совершили удачную сделку с Семеновым. Теперь все — хозяин и гости, — пребывали в благодушном состоянии. — Тминной водки мы изрядно попробовали, не пора ли к сладким винам перейти?
— Обязательно, вот гишпанское, по оказии получил! — Данила Матвеевич взял в руки бутылку старинной формы. — В Гишпании, сказывают, сам король тамошний употребляет.
Откушали гости вина, почмокали губами:
— Истинно, напиток королевский! И смородиновый мусс — объедение!

Хозяин, довольный похвалой, широко улыбнулся:
— Мой повар в вашем германском государстве выученный. Служил великой княгине Наталье Алексеевне, Царство ей Небесное.
Поговорили о том, что ее вдовый супруг что-то уж слишком быстро утешился новой невестой — и полгода не прошло со дня смерти Натальи.
— В Берлин Павел Петрович приезжал на свидание с невестой своей — принцессой Виртем-берг-Штутгартской Софьей Доротеей, — заметили немцы, довольные тем обстоятельством, что их соотечественница стала великой княгиней в России и, весьма вероятно, станет царицей.
В этот момент вошел Ванька. На большом подносе он держал кашу, начиненную персиками, сливами, яблоками и различными ягодами. Серебряной лопаткой он разложил кашу гостям. Большой кусок отделил хозяину, сверху украсив крупной сочной сливой.
— Ты Ванька, меня обкормишь! — добродушно пророкотал хозяин.
— Кушайте себе во здравие, — зубы повара как-то ляцкнули. Он заспешил удалиться на кухню.
Минут через десять с нему влетела Глашка:
— Иван Гаврилыч, вас хозяин требуют!
На непослушных ногах, побледнев от страха, Ванька вошел в столовую. Данила Матвеевич сидел с перекошенным лицом.
— Ты, подлец, чем меня накормил? Я словно гвоздей наелся, во рту железом отдает.
Заюлил повар, забегали глазки:
— Это все Лушка, это она нынче на базаре черт— те знает у кого хрухты покупала. Можа чего и попавши.
— Анастасьюшка, зови скорей лекаря да священника, — купец изрыгнул на праздничный, разукрашенный серебряным шитьем кафтан что-то слизисто-кровянистое. — Ох, томление во всех членах, смерть горчайшая подходит!…
Когда, запыхавшись, прибыли священник и доктор Позье, они нашли в спальне остывающий труп купца. Лицо его было перекошено мучительной смертной гримасой.
В доме Данилы Матвеевича начались хлопоты, которые сопутствуют смерти. Молодая вдова то и дело заходилась в неутешных рыданиях. Хмурый и неопрятно одетый гробовщик с аршином в руках обмерял усопшего. Лушка, быстро мелькая иглой, шила погребальный саван. С мягким пушком на верхней губе монашек читал молитвы.
…В день похорон улица была черна народом. Сладко пел синодальный хор. Держа разукрашенный гроб на холстинных полотенцах, народ двинулся к кладбищу. Вдову, то и дело терявшую сознание, вели под руки.
Среди народа держался слух, что-де не своей смертью почил усопший, что его отравили.
…На следующее после похорон утро без стука в спальню к вдове, забывшейся тяжелым сном, вошел Ванька. Он уселся на край постели, подмигнул хитрым глазом и заговорщицки произнес:
— Сию пакость я сотворил исключительно ради чувств наших. Грех взял на свою душу. Теперь, барыня, ничто Эроту препятствиев не чинит.
— Ты что, дурак безмозглый, несешь? — изумленно воскликнула Анастасья. — Какой еще Эрот?
— Молвлю не ложно, — ощерился Ванька. — Теперя мы навсегда вместе. Для нас обоих я старался. Покойнику подсыпал…
Захлебнулась от гнева вдова, ладонью полоснула убийцу по морде:
— Пусть тебя, негодяй, лютая смерть постигнет!
Глаза убийцы нехорошо блеснули. Он криво усмехнулся:,
— Коли донесешь, так я на дыбе скажу, что сама меня научила старика мужа извести. Казнят тогда обоих.
Застонала Анастасья:
— Я не донесу, но будь ты проклят и пусть тебя постигнет кара Божья!
Ванька направился к дверям, на ходу пробормотал:
— Так-то лучше! Но я к тебе еще приду, ты меня сделай своим полюбовником. Иначе сам погибну, но и тебя погублю. Ауфвидерзейн!
И вновь, уткнувшись в подушку, рыдала молодая вдова. У нее не достало сил разорвать ту паутину, в которую вовлек отравитель.
После похорон прошло две недели. 9 сентября 1777 года Екатерина Великая прибыла в Петербург из Царского Села. В тот день задул ураган-ный западный ветер. С моря гнало воду в Неву, и она поднялась на 10 футов, т.е. более чем на три метра. Свидетель этого печального события писал: «От сего наводнения водою был залит весь город, освобождены были токмо Литейная и Выборгская части города… По всем почти улицам, даже и по Невской перспективе ездили на маленьких шлюпках. Небольшой купеческий корабль проплыл мимо Зимнего дворца, прямо через каменную набережную. Польский корабль, груженный яблоками, был занесен в лес, находящийся на Васильевском острове».
…Именно этот корабль увидала поутру в свое окно Анастасья. Вода плескалась возле стен ее дома. Затопление было всеобщим. Вдруг вдова, не веря глазам своим, с ужасом закричала:
— Что это? Не может быть! Страсть какая…
Возле крыльца плавал… гроб. Тот самый, что заключал останки Данилы Матвеевича. Анастасья позвала Глашку и Лушку. С их помощью гроб подняли на крыльцо.
И тут же вода пошла на убыль. Часа через три, т.е. в самый полдень, наводнение почти полностью схлынуло.
Вдову навестил Александр Петрович Сумароков. Болезнь помешала ему присутствовать на похоронах. Он собирался уезжать в Москву, но, прослышав о необыкновенном случае с гробом, зашел навестить Анастасью, утешить ее и отдать краткую эпитафию — для высечения на надгробном памятнике:
Под камнем сим лежит мой муж. Ко мне он не вернется уж.
Эпитафия содержала некий намек.
Вдова, питая полное доверие к замечательному человеку, рассказала ему всю историю, ничего не утаив. И при этом добавила:
— В случившемся усматриваю волю мужа, дабы виновник его злой кончины получил должное возмездие. Дайте знать, Александр Петрович, о лиходее тому, кому положено сие по службе.
На другой день поэт отъехал в Москву, но перед тем поведал о происшествии фельдмаршалу Голицыну. Тот, не разобравшись в сути дела, приказал арестовать и Ваньку-повара, и безвинную вдову. Так они оба оказались в каземате.
Но истина все ж восторжествовала. Когда Голицын довел до сведения императрицы о столь необычном случае, как приплытие гроба к крыльцу дома, где было совершено злодейство, и назвал фамилию Анастасии Семеновой, та упрекнула князя:
— Почто ты забыл юную прелестницу, с которой танцевал в Смольном дворце? Такая не могла совершить столь бесчеловечный поступок.
Анастасия была в тот же день освобождена и вознаграждена за претерпение безвинных страданий: Екатерина подарила вдове свой миниатюрный портрет.
Ванька был порот и навечно отправлен в Сибирь.
Поэт Сумароков уже 1 октября того же, 1777 года скончался в Москве. Его эпитафия была выбита на граните надгробия Данилы Матвеевича, своевременно вновь похороненного и к вдове, действительно, больше никогда не возвращавшегося.
Голицын, желая доставить приятность императрице, предлагал ей сделать такие водяные фонтаны, кои в случае нового наводнения выбрасывали бы влагу до самого неба и рассеивались в тучах. Из этих фантазий ничего не осуществилось. Зато той же осенью великий Гваренги закончил сооружать чудные решетки у Летнего сада. Они были позолочены и вызывали всеобщий восторг.
Это преступление в свое время взбудоражило не только всю курскую губернию, но и дошло до самых высших государственных кругов. Даже Александр Николаевич изволил обратить свое монаршье внимание на случившееся. Он устроил нахлобучку чинам полиции, а министру Императорского Двора графу Владимиру Федоровичу Адлербергу сказал, глубоко вздохнув: «Русский человек, думаю, правильно говорит: „Бывает рок, что вилами в бок!“
И то сказать: от своей судьбы далеко не убежишь.
Матвейка Фролов с раннего возраста ощущал сильное влечение к лошадям. Конюхи поначалу гоняли его, ругались: «Чего, мол, тут, малец, крутишься? Вдарит лошадь копытом, тогда узнаешь!» Но Матвей — мальчишка настырный. Его в одни двери гонят, а он, шельмец, уже в другие лезет. Так и махнули рукой, тем более что мальчишка усердно норовил помогать: то навоз из денников уберет, то воды принесет, то лошадь скребницей вычистит.
Будучи переимчивым, к семнадцати годам он научился копыта расчищать, кровь лошадям и скотине бросать, насосы спускать. Мази собственного изобретения приготовлял, которые хвори лошадиные как рукой снимали.
Слава про Матвея пошла. Стали его наперебой крестьяне приглашать, заработки начались хорошие. Оно и кстати, ибо после смерти отца в 1851 году у него на руках оказалось четверо меньших братишек и сестренка: всех одеть-обуть надо, а матери одной не справиться.
Но настоящее счастье привалило после следующего случая. В деревне Рядново, где жил Матвей, приказчиком был пятидесятилетний мужик по имени Федул Парамонович, а по кличке Генерал. Деревенские так прозвали его за высоченный рост, осанистую фигуру и зычный, прямо-таки трубный голос. Завидя как-то Матвея, он поманил пальцем:
— Иди-ка сюда, раб Божий! Уж очень много о тебе разговору идет, будто ты коновал умелый. Посмотри моего коняку. Что-то стал он на левую ногу припадать.
— Вы б показали болезнь дяде Леонтию… Леонтием был барский кучер, который брался лечить любые болезни — что у людей, что у скотины. После его лечения пациенты порой выздоравливали, а порой заболевали еще больше или вовсе помирали. Но сельский люд все равно шел к Леонтию, который лечил по наитию, то есть скверно, но любил эту свою деятельность и корысть имел немалую.
Приказчик не любил Леонтия и пользовался каждым случаем, чтобы выставить того в невыгодном свете. Вот и теперь Генерал презрительно усмехнулся:
— Твой Леонтий лошадь позади телеги запрягает, а ты хочешь, чтоб я к нему пошел. Ни в жисть! Тебе я доверяю, значит ты оправдывать себя должен. Пошли ко мне…
Матвей осмотрел коня, нашел у него на копыте какой-то нарост, что-то вырезал, что-то прижег, помазал рану чем-то зеленым и приказал:
— Вы, Федул Парамоныч, его три дня не запрягайте. Пусть на воле погуляет. Коняка отменный, резвее прежнего побежит…
Все по словам Матвея исполнилось: всю хворь с коня как рукой сняло. Приказчик был счастлив:
— Ну, брат, уважил ты меня! Сколько тебе должен?
Матвей денежки любил. (Впрочем, кто их не любит?) Но он благоразумно ответил:
— Чего уж там! Я коняку пользовал из одного уважения к вам…
— Спасибо! — обрадовался Генерал. — За мной долг не заржавеет.
И точно, вскоре он сумел отблагодарить Матвея по-княжески.
Владелицей Рядново и ста семидесяти трех крепостных душ, деревню населявших, была 38-летняя вдова Наталья Дмитриевна. Единственная дочь богатых помещиков, она получила обычное, то есть домашнее, воспитание: умела вышивать гладью, рисовать в альбоме, играть на фортепьяно и читать французские книжки.
Когда девице исполнилось шестнадцать лет, она вдруг испытала сильнейшую тягу к путешествиям. Родители во всем потакали своему детищу и вместе с ним года два колесили по Дании, Германии, Италии, Франции. Осенью 1836 года все семейство находилось в Париже. Тут они как-то зашли в контору дилижансов Лафитта, чтобы взять себе места на Вену.
И здесь отец Натальи Дмитриевны встретил сына знакомого помещика, для чего-то забравшегося в полном одиночестве на берега Сены и киснувшего от скуки. У молодого человека была приятная наружность, высокий кок и обольстительные манеры. Звали его Николай Николаевич Ка-лужный, и он был приглашен путешествовать совместно. Результатом этой поездки стала помолвка и последовавшее за ней венчание.
Супруги зажили счастливо. Зиму они проводили в Курске, где у Натальи Дмитриевны был большой барский дом со службами, с конюшней и регулярным парком, украшенным гротом, водопадом и беседкой «нежные вздохи». На лето перебирались в Рядново.
Молодая вдруг испытала новое сильное влечение. На этот раз к делам хозяйственным. Строгий и величественный Генерал служил ей не за страх — за совесть, Он следил за отработкой барщины, своевременно взимал недоимки, вовремя поставлял рекрутов. Николай Николаевич тоже не сидел без дел. Он часто наезжал в деревушку Викторовку, что в Болыпе-Неплюевской волости, и доставшуюся ему от тетки Шеншиной. Основал там две школы, где учились крестьянские детишки. Выписал из большого села Николаевки фельдшера, который бесплатно принимал местных жителей.
— Какие мы с тобой счастливые, Николя! — часто повторяла Наталья Дмитриевна. — И мне все время кажется, что должно произойти несчастье…
— Пустяки! — утешал ее муж. — Я поеду на покосы, проверю. Так что к обеду не жди.
Сердце Наталью Дмитриевну не обмануло. Беда нагрянула после семи лет счастливого супружества.
Летом 1843 года в Рядново на ночевку остановились уланы. Гостеприимные супруги Калужные пригласили офицеров на ужин. Один из гостей напился, безобразничал, и посмеивающиеся товарищи его не унимали. Когда нахал сказал какую-то сальность в присутствии Натальи Дмитриевны, Николай Николаевич, не сдерживая себя, стукнул того тростью.
Стрелялись на рассвете в ближайшем лесочке. С расстояния десяти шагов Николай Николаевич попал обидчику в левое плечо. Улана это не отрезвило. Он хладнокровно навел орудие убийства в грудь того, чей хлеб он вкушал еще несколько часов назад, и спустил курок…
Наталья Дмитриевна узнала о дуэли слишком поздно. Когда она прибежала на место ристалища, то увидала мужа, лежащего на примятой траве. Он успел слабо улыбнуться и прошептать:
— Прощай, милая! Я очень любил тебя… Орошая его лицо горячими слезами, она припала к холодеющим устам.
Пришла беда — отворяй ворота. Вскоре после Покрова от апоплексического удара скончался отец Натальи Дмитриевны. Матушка не надолго пережила своего мужа — ее не стало в январе 1844 года.
25— летняя вдова-красавица осталась одна-одинешенька на всем белом свете. Местом ее добровольного заточения стало Рядново. Подвигом -неустанные труды. Она продала дом в Курске и наезжала в этот шумный губернский город лишь изредка и по неотложным делам.
Вокруг богатой вдовушки увивалось немало женихов, но она всем отвечала решительным отказом. После умного и благородного Николя она не могла никого представить в роли своего супруга.
Так незаметно, за сельскими трудами и заботами пробежало более десяти лет. От постоянного пребывания на открытом воздухе потемнела бывшая некогда нежной кожа, загрубели руки, потучнела фигура. Уже никто не сватался более, да и сама Наталья Дмитриевна приняла решение навсегда остаться одинокой.
Но если в дневное время удавалось заглушить неустанными трудами голос плоти, то по ночам страстная натура брала свое, тревожа беспокойными снами.
Однажды Наталье Дмитриевне потребовалось ехать в Фатеж. Она приказала:
— Пусть Леонтий запрягает!
Кучера, однако, нигде сыскать не удалось. Ясность внес появившийся в барской гостиной приказчик. Генерал пробасил:
— Извольте знать, Наталья Дмитриевна, что ваш Леонтий живет весело. Опять себе праздник устроил. Нализался в стельку. Свинья, право. Валяется в конюшне, прямо на сене. Я давно говорю: его надо отправить в помощь мельнику. Пусть там мешки таскает, корячится. — И приказчик тяжело вздохнул, добавив с самым покорно-притворным выражением: — Впрочем, воля ваша,…
— Не учи меня, — стараясь быть строгой, произнесла барыня. — У Леонтия пятеро детей, куда я оторву его от семьи? Да и людей он пользует вместо фельдшера. Лучше скажи: кто меня повезет нынче?
— Матвей Фролов, не иначе. Молодой, но сурьезный. Приказать ему закладывать лошадей?
Наталья Дмитриевна уже успела сама обратить внимание на рослого широкоплечего парня цыганистого типа, с львиной гривой смолянистых волос, со спокойным и смекалистым лицом, мало похожим на крестьянское. Предложение приказчика ей весьма пришлось по душе, но она равнодушным тоном произнесла:
— Ты советуешь? А он справится? Ну пусть, Федул, станется по-твоему. Сегодня вторник, значит в пятницу вернусь. Проследи, чтобы луговину за оврагами хорошо выкосили, не как в прошлом году.
…Вместо трех дней барыня провела в Фатеже больше недели. И вернувшись, первым делом приказала:
— Матвея — в кучера, Леонтия… пусть коновалом действует.
Приказчик, мявший в руках клеенчатый картуз, с досадой сказал:
— Эх, барыня, из Леонтия такой же коновал, как из моего бурака безмен! Лошадей только перепортит.
— Я сказала!
Через полчаса перед барыней появился мелкорослый кривоватый человечек с большой и несимметрично развитой головой. Это был Леонтий. Он прогундосил:
— Почто, васество, мене из кучеров выгнали? Уж я служил-служил…
Наталье Дмитриевне неприятно было обижать Леонтия. Поэтому она произнесла как можно мягче:
— Ты, Леонтий, был неисправным кучером. То новую упряжь пропил, то карету прошлой зимой перевернул…
— Напраслина, васество! Я виновный, что на дороге — колдобина? Да я…
— Дело решено и об этом говорить не будем. Я тебя поставила на хорошее место, вот и старайся.
Леонтию было весьма досадно терять почетную и прибыльную должность. Вся деревня знала, что Леонтий тащит из барской конюшни сено и овес, торгует ими и на эти деньги пьянствует. Бывший кучер еще раз поклонился госпоже и, пятясь спиной, вышел за дверь.
…Прошло три года. Наталья Дмитриевна души не чаяла в красавце-кучере. Да и то сказать: лошади у Матвея всегда были здоровы, сыты, отлично подкованы, экипажи содержались в образцовом состоянии.
Стала она и о его будущем задумываться. Раз в году к ней приезжала погостить племянница Серафима Лавровна Лигина, проживавшая обычно в Курске. Ее сопровождала совсем юная девица-сирота, 15-летняя Параша. Между нею и Матвеем вспыхнула горячая симпатия.
Наталья Дмитриевна и Лигина решили:
— Пусть Параша войдет в невестин возраст и тогда сыграем их свадьбу!
Вся деревня завистливо ахнула, когда барыня сделала царский жест — подарила Матвею тройку отличных лошадей и позволила взять в Фатеже подряды.
Фекла, мать Матвея, раззвонила по всей округе, каждому встречному-поперечному говорила:
— Барыня мне секретно сказала: мол, не печалься за сыночка. Дам ему и вашей семье вольную! Дескать, облагодетельствую к Рождеству. И невесту, сказывала, уже подобрала — заглядишься! С приданым хорошим. А красавица — хоть воду с лица пей! И мошну, говорит, с золотом к свадьбе пожертвую! Вот истинный крест, чтоб с этого места не сойти.
…Тем временем Наталья Дмитреевна решила расстаться с деревней Викторовкой, доставшейся ей после смерти мужа. Мартовским утром 1858 года, помолившись на дорогу, она отправилась вместе с Матвеем в путь — для совершения купчей и получения денег. Провожавший их Генерал в какой раз повторил:
— Барыня, ведь цельный капитал повезете! Взяли бы кого для обороны. Дорога лесная, неровен час — лиходеи какие найдутся. Народ нынче распоясался…
— У нас вот что есть для обороны, — и, наклонившись, Матвей достал из-под сиденья старинный дуэльный пистолет времен Александра Благословенного. — Нам разбойнички заместо развлечения пригодятся.
Болтавшийся рядом Леонтий презрительно фыркнул:
— Налетят в темноте с кистенями да ножичками, так твоя орудия и не к делу окажется.
— Ну хватит болтать! — оборвала барыня неуместный разговор. — Трогай, Матвей.
Путь лежал в уездный город Фатеж. Наталья зябко закуталась в меховую ротонду — подарок Лигиной.
Над миром царила тихая весенняя ночь. Сквозь разошедшиеся облака ярко светила луна. Природа источала тот аромат, который бывает только в это время года, — влажноватый, пропитанный запахом земли и деревьев, зовущий к любви и грезам.
Сторож волостного правления вкушал крепкий сон, примостившись на кожаном диване и накрывшись овчинным полушубком. Вдруг кто-то тревожно застучал в окно. Сторож заспешил в прихожую, отодвинул тяжелый засов. На пороге, косо освещенном лунным светом, стоял высокий парень в ямщицкой шубе. Он нервно выдохнул:
— Где начальство? Зови скорей!
— Чего такое?
— Вез барыню, а она…исчезла.
— Ну канцелярия! Постой тут, на крылечке. Сей же миг сбегаю за Винклером, это наш становой пристав.
Минут через пять явился Винклер — высокий, прямой, с офицерскими погонами, говоривший быстро и отрывисто:
— Кто такой? Что произошло?
— Я крестьянин деревни Рядново Матвей Фролов. Мы нынче домой возвращались. При барыне большие деньги были. Выехали позже, чем следовало.
— Почему так?
— Барыня приказала. Хорошо луна дорогу освещала, прямо в лоб смотрела. Когда после лощины лес начался, барыня говорит: «Матвей, поезжай шагом! Красота вокруг, дескать, изумительная. В воздухе благорастворение…» Я придержал лошадей. И сам вскоре задремал на козлах. Потом меня словно в бок толкнуло. Говорю: «Барыня, что-то на душе муторно. Может, ходу дать? Лошадки наши свежие!» В ответ — ни звука. Остановился, спрыгнул с козел — дух замер: дверца открыта! Заглянул — никого, на полу пошарил — тоже. Хлестанул лошадей — прямиком к вам.
Пристав хитро щурил глаза и вдруг рявкнул.
— Руки подыми, собака! Выше… Почему у тебя на правой руке и рукаве кровь? Куда, негодяй, труп спрятал?
— Ка-кой труп? — лицо Матвея выразило крайнее удивление. — Ведь сам к вам приехал…
— Это хорошо, что с повинной пришел. Но суд учтет это, если все честно, без утайки расскажешь: чем убивал? Сколько украл? Были ведь сообщники. Где они? Говори, если не хочешь, чтобы ребра тебе пересчитал! Молчишь? Тем хуже для тебя!
Утром начали поиски. Легко обнаружили место, где выволакивали Наталью Дмитриевну из кибитки. Здесь снег в лощинке был густо залит кровью. По следам крови нашли и труп: раздетая почти догола женщина валялась на дне ближайшего оврага. Горло ее было зверски перерезано и едва ли не напрочь была отхвачена голова. Исчезли пять тысяч рублей и многочисленные драгоценности, украшавшие Наталью.
Винклер самолично поехал делать обыск в доме Матвея. И здесь блеснул истинно собачьим чутьем. Едва войдя в хату, обратил внимание на старую поддевку, висевшую на гвозде. Запустил руку в карман и ахнул от восторга:
— Вот оно, доказательство преступления!
В руке у Винклера сияла множеством бриллиантов золотая брошь. Федул Парамонович признал ее:
— Покойной барыни вещица! Когда уезжала, на ей надета была.
Матвей появление броши в своем доме объяснить не умел:
— Неверуятно, ума не приложу, откуда в поддевку попала…
— Ах, бедненький! — Винклер едва не прыснул от смеха. — «Ничего не знаю, ничего не видел!» Да я такую песенку от каждого бандюги уже лет двадцать слушаю. — И вдруг он опять изобразил зверское лицо: — На дыбу вздерну! Запорю! — и ударом кулака пристав расквасил Матвею нос. — Обыскать! И в кутузку.
Началось следствие. Оно напоминало те разбирательства, которые стали нормой после октября 1917 года: истина совершенно не интересовала слуг Фемиды, требовалось во чтобы-то ни стало послать на каторгу того, кто попался в руки палачей в кителях.
Суд был скорым. Председательствующий Берг, у которого накануне обострилась старая язвенная болезнь, ждавший со дня на день указа о выходе на пенсион по выслуге лет и гордившийся своей строгой справедливостью, отправивший за четверть века на каторгу не менее сотни несчастных людей, со скукой и ради протокольной необходимости, задавал вопросы:
— Ты, Фролов, продолжаешь утверждать, что барыня приказала ехать шагом?
— Так точно, — Матвей с надеждой смотрел на старого лысого человека в форменном мундире, надеясь, что уж он-то разберется в этой жуткой истории и отпустит его домой.
— Но ведь это глупо. Женщина за день устала, хочет скорее попасть под крышу родного крова, везет громадные деньги. Она, припомни, сказала другое: «Давай, мол, поезжай быстрее! Кругом леса, опасность великая». Так ведь? — судья испытующе глядел на Матвея.
— Никак нет, барыня сказала: «Поезжай шагом, ночь уж хороша!»
— Ага, значит хочет любоваться звездами, а сама вдруг засыпает! — судья скривил рот в саркастической улыбке, пытаясь скрыть вдруг поразившую желудок резь. Он поманил пальцем сторожа, любопытства ради сидевшего на первом ряду, и шепнул ему: «Принеси мне из моего шкафчика соды, в белом пакетике. И воду в графин налей!»
— Ну-с, — судья вновь повернул голову к подсудимому, — барыня, говоришь, заснула. Пусть спит, ее дело хозяйское. А как же ты, Фролов, мог дрыхнуть на козлах? Статочное ли дело? А если лошади понесут?
— Не понесут.
— Конечно, что им нести, когда ты лошадок остановил, барыню зарезал и в овраг сбросил!
— Говорю вам, я не убивал! — нервически выкрикнул, едва не расплакавшись, Матвей.
— Не ты, так твои сообщники. Иначе, как могла брошь барыни попасть к тебе в дом? — резь в желудке опять резко обострилась. Судья не удержался, застонал, но тут же выправился и даже пошутил: — У броши, кажется, ножки не выросли, она сама не могла прибежать, и руки в крови…
Матвей, мявший руками шапку, с отчаянием проговорил:
— Зачем вы меня путаете? Как же я мог убить Наталью Дмитриевну, когда она моя благодетельница? Ведь она не только мне тройку лошадей отказала, которыми Винклер все меня срамил, дескать, какой я бессовестный, за добро черной неблагодарностью отплатил. Барыня составила духовную запись, по которой завещала мне в случае ее смерти большой земельный надел — как раз у нашего лужка. Да еще десять тысяч рублей, да освобождение от крепости. Она об том сама мне сказала.
Судья, изощрившийся в умении ставить подсудимым ловушки, от этого неожиданного откровения прямо-таки остолбенел, а затем, забыв про боль в двенадцатиперстной кишке, радостно потер ладони:
— Ну, вот, наконец-то! Что же ты, Фролов, раньше молчал?
Матвей расплылся в счастливой улыбке. Он решил: «Слава тебе, Господи! Как ни будь резва ложь, а от правды все-равно не уйдет. Дошло до судилыцика, что я невиновный…»
— А я думал, что вы знаете, — благодушно, продолжая улыбаться, сказал Матвей. Он хотел было выйти из-за деревянной загородки, посчитав, что уже может быть свободным, коли правда прояснилась. Но солдат штыком преградил ему дорогу: «Стоять!»
— Ты это куда собрался? — ласково спросил судья. — Домой ты придешь попозже, когда старичком станешь. Слыхал поговорку: «Рада бы курица на свадьбу не ходить, да за крыло сволокли»? — Опытный и неглупый человек — судья, и сам не верил, что этот симпатичный простодушный парень мог убить помещицу Калужную. Но кого-то следовало за преступление судить, чтобы высшее начальство плохо не подумало о служебном рвении тех, кто вел предварительное следствие, да и о самом себе хотелось оставить память, как о принципиальном и проницательном юристе. Все указывало против Фролова, хотя кое-что из дела было не очень ясно. Но рассказ подсудимого о завещании позволял свести концы с концами. Судья сказал:
— Ты соблазнился всеми выгодами, которые на тебя, Фролов, свалились бы в случае смерти Ка-лужной. По-человечески тебя понять можно. Сегодня крепостной — завтра вольный и богатый. Замечательно! Но убивать — грех величайший…
Огласили приговор. За умышленное убийство с корыстной целью, с отягчающими обстоятельствами, крестьянин Матвей Фролов, 1836 года рождения, прежде не судившийся, холостой, отправлялся на каторжные работы сроком на двенадцать лет.
Так Матвей оказался в Нерчинских рудниках.
Уже пять лет Матвей Фролов находился в заточении. И каждый день лишения свободы был для него истинным мучением, равным едва ли не мукам пытаемого каленым железом. Сознание собственной невиновности удесятиряло душевные страдания.
Лицо его стало землисто-серым, грудь впалой, надрывный кашель перехватывал дыхание. Порой Матвею являлась во сне Параша, существо неземной красоты. В своих грезах влюбленные всегда были вместе. Но страшны были пробуждения — среди несчастных людей, метавшихся на нарах, дышавших гнилым воздухом. «Нет, — говорил себе Матвей, — никогда тебя, милая, более не увижу, не увижу твоего доброго милого лица, никогда не каснусь твоей руки!»
Но никому не дано ведать высшего Промысла. Каждому посылается испытание по силам, и порой самое страшное положение сменяется легким и радостным.
…Вдали от нерчинской юдоли печали и воздыханий жизнь совершала свой бег. Серафима Лавровна Лигина вместе с Парашей на неделю приехали в Петербург. Здесь они пошли в Мариинский театр. Ставили премьеру оперы «Юдифь» Александра Серова. Наши дамы восторгались голосом несравненной Бианки, исполнявшей заглавную партию и приходившейся дальней родственницей Лигиной.
По окончании спектакля, возле гардероба, Параша вдруг беспокойно подергала Лигину за рукав платья и торопливым шепотом произнесла;
— Взгляните на даму у зеркала! На ней ротонда, которую вы подарили покойной Калужной, в ней ее и убили. Я мех еще подшивала… И наша бархатная покрышка. Что делать?
— Позови городового!
— Какие претензии? — вопросил явившийся страж порядка. — Снято с убитой? Всех прошу в участок.
Супруг заподозренной дамы заверещал:
— Не смеете! Я князь Голицын! Я родственник обер-полицмейстера Галахова…
Но упиравшегося «родственника» и всю компанию доставили в участок. Там случайно оказался все более входивший в славу сыщик Иван Дмитриевич Путилин. Увидав «родственника», он воскликнул:
— Какая счастливая встреча! Знаменитый Фунтов к нам пожаловал! Я ведь за тобой, дорогая душа, пять лет гоняюсь. Господа, это тот самый отравитель жен, о котором в газетах писали. Менял свою фамилию, женился на богатой, оформлял страховку и сыпал яд. Вас, мадам, он уже застраховал? Стало быть, скоро лежали бы в обрамлении венков на Смоленском кладбище. А пока снимите ротондочку. Спасибо! Какие особые приметы? Да, действительно, здесь снизу кусочек оторванного меха.
— Я эту ротонду приобрела у купца Финогенова, что живет на Васильевском острове. Он продал после смерти жены, — объяснила дама.

На другой день купец Финогенов объяснил:
— Купил у буфетчика Патрышева, что торгует в Курске. И еще вот эти золотые часы дамские, браслет и бриллиантовые серьги.
Выяснили, что все это находилось на Калужной в день убийства.
Нагрянули к буфетчику и нашли множество ворованных вещей. Оказалось, что он — родственник бывшего барского кучера Леонтия из деревни Рядное. Буфетчик сразу же признался, что скупает краденое. А предъявленные ценности приобрел у приятеля Леонтия — кабатчика Мартына Колчина.
Всех названных арестовали. Следствие установило: Леонтий, после снятия его с кучерской должности, затаил на барыню и Матвея лютую злобу. Случайно узнав, что Наталья Дмитриевна едет получать крупные деньги, подговорил на злодейство Мартына Колчина. Тот два дня выслеживал барыню на пустынной дороге. И вот ему повезло: Наталья Дмитриевна и Матвей спали, а лошади шли шагом.
Прирезав барыню, Колчин раздел и обобрал ее, а труп сбросил в ближайший овраг. Леонтию он передал брошь, а тот уже, для отвода глаз, подсунул ее в карман поддевки, когда заглянул в дом Матвея. Все остальное Колчин сбыл Патрышеву.
Признаться, что для тех простодушных времен преступники заметали следы весьма хитро. Если бы не случай, так и сгнил бы на каторге безвинный человек.
Решением правительствующего Сената Матвей Фролов был признан невиновным и восстановлен во всех правах. Он получил завещанный Натальей Дмитриевной земельный надел и десять тысяч наличными. Лигина выделила богатое приданое Параше. На Рождество 1865 года молодых поставили под венец. Вскоре Матвей продал землю в Рядном, купил небольшой, но уютный дом в Москве на Старой Басманной. Супруги вместе прожили долгую и счастливую жизнь. У них выросло пятеро детей. Старший из мальчиков стал профессором Московского университета.
ВАЛЕНТИНЕ ТОЛКУНОВОЙ
2 ноября 1876 года Окружной суд Петербурга с раннего утра осаждали толпы любопытных. Среди собравшихся преобладали изящно одетые дамы. Они напирали на судебного пристава, который с помощью полицейских с трудом сдерживал могучий напор. Дамы требовали: «Пропустите, ведь это такое необычное преступление!»
Пристав, боясь, что толпа раздавит и его, и полицейских, принял решение: «Пропустить пятьдесят человек на балкон!»
Едва освободили проход, как… Впрочем, предоставим слово очевидцу — известному адвокату Н. П. Карабчвескому: «С писком, с визгом, не щадя своих модных туалетов, устремляются шумной ватагой все эти искательницы сильных ощущений и спешат занять лучшие места. За ними приливает другая волна разношерстной публики, которая довольствуется всяким местом, готова занять самое неудобное положение, лишь бы послушать пикантные подробности.
Наконец все занято: на хорах, внизу, в местах, отведенных для адвокатов и для лиц судебного ведомства — всюду полно. Зала суда превра—
щалась в залу театра — ждут начала спектакля…
Опять на сцене «роман действительной жизни», роман, полный сенсационных подробностей и интимных разоблачений с кровавой, трагической развязкою в конце».
Это грустная история о беззащитной девушке, которую судьба безжалостно перемалывала в своих жерновах.
В Озерской волости, среди речушек с живописными берегами, среди густых лесов и поросших камышом и осокой болот, стояло богатое село Никольское. Славилось оно своими замечательными сапожниками.
Никольцы похвалялись: «Мы всякие сапоги сшить можем! Хромовые — до самой смерти не истоптать, аль липовые — разок к теще на блины сходить». И это было истинной правдой! Про хромовую обувку всякий знает, а про липовые напомнить не грех. Шились они с бумажной подошвой и с прокладкой луба от липы и с таким же задником. Стоили они гроши, а выглядели как натуральные кожаные — блеск и красота!
Конечно, далеко в них не уйдешь, вот и пошла отсюда поговорка про «липовую работу» как про бессовестную: «Лишь бы мерку снять да задаток взять!»
Захар Кириллов липовых сапог не шил, а выходили из его рук новомодные мужские штиблеты. Слава о его золотых руках далеко летела, даже в Кимрах у него были заказчики — большие люди: учителя гимназии, полицмейстер Городилов, священник отец Аркадий.
Но кроме этой профессии, была у Захара душевная услада. Держал он пасеку. Когда досужие люди спрашивали: «А сколько у тебя, добрый человек, ульев?», Захар отвечал: «Не знаю! Пчела не уважает счета. А вот медком угостить могу!»
Сам он любил в тишине летнего вечера придти в пчельник, сесть со своей семьей в тени лип за стол, вдохнуть полной грудью ни с чем не сравнимый запах меда, пить из самовара чаек и вести неторопливую беседу, спросить у супруги-разумницы полезного совета. Да и то сказать, детишек у Захара трое: старшей Анюте тринадцатый годок пошел. Лицо у нее красивое, задумчивое, темная коса толста — в полено. Говорит редко, зато работает споро: любая работа складно получается.
Жена Анфиса лицом и повадками — точь-в-точь как Анюта. Даже моложавостью, стройностью ее сбиться можно: не за мать, за старшую сестру незнающие люди принимают.
Болтают ногами, сидя на лавке, два мальчишки темноголовых: одному три года, другому пять лет. Это сыновья Захара. Вот всех их обдумать надо, кому чего купить. Заботы эти, впрочем, малые: достаток в доме сапожника хороший. Не только себе хватает, даже своей сестре Марии, что в Кимрах живет, Захар помогает: при каждой встрече пятерку, а то и десятку подбросит. В городе — это не то что в деревне, там все дорого, за все платить надо. А мужу сестры — Андрею Абрамовичу, задаром, дружбы ради сшил весною новые сапоги. Со скрипом наладил! Шагает, так за версту слышно. А это тоже уметь надо.
…Пчелы, натрудившись за день забираются в ульи. Солнце завалилось за горизонт и фиолетовой краской расцветило легкие перьевые облачка на горизонте. Соловей так отчетливо громко защелкал в орешнике, что в ушах ломит.
— Ну, засиделись мы, — потягивается Захар. — А мне ведь завтра к обеду следует штиблеты уряднику Степанову закончить. Надо встать пораньше. Малышня, шасть по палатям!
Анюта — та дело свое знает: всем уже постелила, перины пуховые взбила, свежее полотенце к умывальнику повесила.
Отец любит дочь. Он ласково улыбается и говорит Анфисе:
— Мать, а невеста у нас складная растет. Весело погуляем на свадьбе!
Увы, мечты отцовские оказались напрасными. Погулять не пришлось. Судьба распорядилась иначе.
Перед самым новым годом, проснувшись как всегда с первыми петухами, Захар долго от страха не мог придти в себя.
— Что с тобой, муженек? — участливо спросила Анфиса.
Покачивая задумчиво головой, Захар молвил:
— Плохой сон мне привиделся. Будто открывается дверь нашей избы и входит в дом ангел, но только не светлый, а весь какой-то темный. «Что тебе?» — спрашиваю. «Да вот, за вами пришел. Собирайтесь в дальнюю дорогу», — «Может, только за мною?» — «Я ведь сказал, Захар: за всеми вами. Вы теперь в другом месте нужны. Не возьму лишь вашу Анюту. У нее путь иной».
Задрожал подбородбк у Анфисы, перекрестила она детей и тихо сказала:
— На все воля Божья! Может твой сон, Захарушка, так, пустое видение одно.
— Но насчет Анюты, так это совпадает! — жарко возразил Захар, который никак не мог придти в себя. — Ведь я отправляю ее в Кимры к сестре, пусть отвезет им кое-что из наших запасов. Лавочник Савватей едет, обещал взять с собой девчонку. «Дня за три-четыре, говорит, расторгуюсь и на возвратном пути ее с собой прихвачу».
…Часов в девять, когда на дворе было еще серо, Анюта села на дерюжку, которую Савватей постелил в сани, мать накинула на дочь старый овчинный полушубок и сказала:
— С Господом!
На крыльце, зябко ежась, стояли в одних рубахах брательники. Отец поставил в сани куль кру-пичатой муки, туесок с медом, осьмуху домашнего вина. Еще прежде Анюта спрятала на груди десятирублевую ассигнацию, которую отец приказал отдать сестре.
— Погода подымается, — сказал Захар, задумчиво поглядев на небо, закрытое низкими лохматыми тучами. — Вон как по дороге поземка крутит!
— Это нам ничего, — весело говорил Савватей, туже перепоясывая светлый тулуп. — Домчим одним пыхом!
Добрый жеребец, давно нетерпеливо уминавший копытами снег, с легким скрипом сдвинул сани и бойкой иноходью полетел по накатанной дороге.
Анфиса, томимая мрачными предчувствиями, долго-долго глядела вслед ездокам, пока они не скрылись за дальним поворотом.
…В тот же вечер семья Кирилловых поела грибов, соленых осенью, и двое мальчишек в страшных мучениях скончались уже к полудню следующего дня. Еще через несколько часов, испытывая сильную головную боль и помрачения сознания, выворачиваямая постоянной рвотой и сводимая судорогами, испустила дух Анфиса. Последним помер Захар — на рассвете следующего дня.
А еще через сутки, как раз в полдень 31 декабря, Савватей прикатил из Кимр. Он притормозил у дома Кирилловых. Из саней вылезла Анюта, улыбавшаяся в предвкушении встречи с домашними.
Но встретили ее чужие люди, толпившиеся в сенях и горнице. На сдвинутых столах стояли четыре гроба.
Схоронив родителей, Анюта переселилась в Кимры. Андрей Абрамович, муж тетки Марии, 48-летний крепкий человек, работавший механиком на ткацкой фабрике, почесывая большой, в синих прожилках нос, рассудил:
— Девчонке теперь в деревне делать нечего, пропадет там одна. Надо продать дом в Никольском, Анюта же пусть к нам переселяется. Будет по хозяйству помогать. Все едино, бездетные мы!
Так и решилась судьба сироты.
Ее поселили в угловой чуланчик, где она спала на большом сундуке, а в маленькое высокое оконце едва брезжил свет — солнце загораживала стена.
Поначалу дело пошло неплохо. Трудилась Анюта от зари до зари: бегала за продуктами на базар и в лавки, месила тесто, готовила обед, ставила самовар, следила за курами, чистила двор и мыла полы в доме, стирала белье. И все делала не только смиренно, без ропота, но как-то весело, ухватисто. Тетка Мария восторгалась:
— Ох, Анька, шустра ты. Вся в покойных отца-мать пошла.
Андрей Абрамович, раскуривая папиросу согласно кивал лысой головой:
— Как пчелка трудится. И собою краля. Тетка Мария благодушно улыбалась, радуясь бесплатной помощнице:
— Такая в девках не засидится! А тебе, Анька, и капитал к свадьбе лежит — двести рублев за проданный дом. Твое приданое!
Но и тетка, подобно несчастному Захару, ошибалась в судьбе воспитанницы. Вскоре начались такие дела, что не приведи Господи!
На общую беду, послала как-то тетка Мария Анюту на фабрику к мужу — какое-то дело приспичило. Там ее заметил 20-летний юнец в узких панталонах и лакированных штиблетах — сын хозяина фабрики. Парень он был порченый, к дамскому полу приученный. Делом он никаким не занимался, а приходил на отцовскую фабрику приставать к ткачихам. Ведь не всякая девица отважится отказать в ласках хозяйскому отпрыску!
Сам хозяин не только сквозь пальцы смотрел на забавы сыночка, но когда ему жаловались, недовольно морщился:
— Ну, что с этой девкой случится? Не убудет… Вот и проказничало это великовозрастное дитя.
Увидал он Анюту, оскалился:
— Ах, какой замечательной красоты, прямо королева! Почему я тебя раньше не видел? В каком цеху работаешь? Может новенькая?
Анюта, не подозревая худого, все про себя рассказала.
Навязался юнец, провожать пошел. С той поры стал домой к Анюте приходить, нахально себя ведет, шагу не дает девушке ступить. И время выбирает такое, чтобы она одна в доме была. Раз тетка Мария, подходя к дому, услыхала крик о помощи. Влетела она в прихожую, а там юнец Анюту на пол повалил, одежду на ней рвет.
Схватила она скалку, отходила по спине незваного гостя, а тот выскочил на улицу, кулаком грозит:
— Скажу отцу, он твоего мужа с фабрики уволит. Наплачешься!
Вечером держала тетка совет с Андреем Абрамовичем. Решили:
— От греха подальше отправить Анюту в Питер.
Дело в том, что соседский купец как раз туда собирался и обещал ее «приспособить в дом к хорошим людям».
Петербург приятно поразил Анюту, которая кроме Кимр других городов не видала. Она любовалась громадными красивыми домами, стремительным бегом легких колясок, изящно одетыми дамами и господами, зеркальными вывесками и витринами богатых магазинов и кафе.
«Хорошими людьми», про которых говорил купец, оказался его 25-летний свояк Ермолай Белов. Это был коренастый щеголеватый человек с бесцветными навыкате глазами, жидкими белесыми волосами с пробором посредине, за которым Ермолай заботливо ухаживал.
Ермолай служил приказчиком большого магазина, как раз напротив Николаевского вокзала. Это был сметливый расторопный парень, твердо решивший нажить капитал и верою-правдой служивший владельцу магазина Федору Федоровичу Скоробогатову.
Искренне восхищаясь хозяином, пробившийся из мальчика на побегушках до владельца обширной торговли, ворочавший многими тысячами, Ермолай в восторгом произносил:
— Федор Федорович человек ума просторного! Деньги лопатой гребет, совком подгребает, а.трубку ассигнациями раскуривает.
Скоробогатов в свою очередь тоже отличал Ермолая. Если даже в самых богатых магазинах на бойком Невском приказчик самое большее получал за рабочий день целковый, то Ермолаю хозяин платил рубль с полтиною, да ко всем большим праздникам подарки подносил — «за усердие!»
У хозяина росла единственная наследница — дородная, вечно словно чуть заспанная, с гладким сытым лицом, дочь Олимпиада. И хотя она не была лишена некоторой привлекательности, но все у нее как-то неудачно с замужеством складывалось. Ей в грезах все мерещился какой-то сказочный Иван— царевич, а сватались сыновья знакомых с детства купцов -Федулы да Сидоры. Вот и надувала губки Олимпиада: «Не ндравится мне он, какой-то скучный, интересу в нем никакого!»
Отец свирепел:
— Почто выкобениваешься? Сурьезных женихов отвергаешь. Вот выдам за пастуха, так будешь с ним свиней пасти…
Но прежде пастуха появился лихой урядник Казачьего полка Левченко, стройный красавец с закрученными кверху усами, решительными манерами и вдрызг проигравшийся в карты. Он лихо гарцевал на горячем жеребце под окнами Олимпиады, заламывал на затылок фуражку с золотой кокардой и посылал воздушные поцелуи.
Впрочем, как покажет жизнь, поцелуи были не только воздушными.
Ермолай сидел против потемневшего от времени большого зеркала в узорной деревянной раме, поплевывал на пальцы и тщательно ровнял пробор. При этом, важно прерывая разговор в связи со сложностями своего занятия, он говорил Анюте, примостившейся рядом на кончике стула:
— Так как ты есть сирота и никому ненужная, я буду твоим кормилицем и благодетелем. Станешь жить у меня вроде плюмянницы. Я тебя приспособлю к домашнему хозяйству. Поняла? А ты за мое добро старайся и чувствуй…
И вновь Анюта бегала по лавкам, готовила, мыла, штопала, стирала. Как-то незаметно, словно это само собой разумелось, стала с Ермолаем разделять ложе, жить как с мужем.
После первого раза Анюта, горячо переживая свой позор, разрыдалась. Ермолай облапил ее, поцеловал в мокрые глаза:
— Чего ты разошлась? Поживем, поживем, а там, глядишь, я тебя и под венец поставлю. Девка ты во всех отношениях справная, даже можно выразиться — замечательная.
Смирилась девица, тихо молвила:
— Воля ваша, Ермолай Павлович, только коли сироту обманите, большой грех на душу возьмете.
Тот за словом в карман не лезет:
— Грешный честен, грешен плут — яко все грехом живут! Только я так умишком прикидываю, что деться тебе, краля, некуда. Кто в столицах пожил, того в деревенскую глухомань и палкой не загонишь. А у тебя в деревне нет ни кола, ни двора. Так что, держись за меня, солидного человека, да угождай, чтоб в моих мыслях перемен не произошло. Так-то!
Глубоко вздохнула Анюта:
— Ваша правда! Буду услужать вам по мере возможностей.
— Вот и хорошо. На твою нынешнюю должность знаешь сколько желающих? Коли свистну я — десяток набежит. Где мой спиджак, ты его вычистила?
…Оставшись одна, Анюта опускалась на колени перед образом Спасителя, молилась за здоровье своего благодетеля, горячо благодарила Господа за доброту его, а пуще всего свой грех замаливала.
Возвращался Ермолай со службы поздним вечером. Плотно поев и выпив три небольших граненых рюмки водки, он помешивал горящие в печи дрова небольшой кочергой и рассказывал:
— У меня, Анюта, мозги по нашему делу очень большие. Мой хозяин Скоробогатов даже сегодня вслух при всех моими мозгами восхищался. Говорит: «Ты, Ермолай, из гроба покойника заставишь подняться, к нам в магазин придти, а уж тут кому хочешь из аршина сукна три раза по поларшина отрежешь!»
Анюта искренне радовалась:
— Какие у вас, Ермолай Павлович, способности необыкновенные!
— В нашем деле без этого нельзя! И еще следует деликатным разговором покупателей ублаготворить. Может сидит вещь на нем как седло на корове, а ты ему с восхищением: «В этом польте вы, ваше благородие, прямо на губернатора похожи!» Он уши и развесит, деньги отсчитывает. Да-с, нужно умение вежливо обойтись.
Анюта сочувствует:
— А что ж вы, Ермолай Павлович, так себя изнуряете, вовсе уставший со службы являетесь?
— Наш Скоробогатов мужик оборотистый, он дешевых поставщиков имеет. И все твердит: «Лучше раз в карман рубль положить, чем сотню ни разу!» Вот по этой причине у нас в магазине цены самые унизительные. Публика к нам так и прет, да я еще должен при растворе постоять.
— Это при каком таком растворе?
— Да возле дверей входа, на прохладном ветру. Как увижу подходящего звания фигуру, так и тащу ее к прилавку чуть не за рукав, зазываю: «Шелк, атлас, канифас — все товары для вас! Задарма купите — в нашу фирму заходите! У нас без обману — радость вашему карману!»
— И заходят?
— На руках заносим, с песнями! А уж как раствор покупатель пересек, тут все равно, что карась в сеть попал — трепещет, но не вывернется. Выше ушей товаром завалим. Без покупки редкий у меня ускользнет. За это хозяин и отличает.
Зевнет Ермолай, потянется сладко да скажет:
— Туши, Анюта, лампу, спать хочу!…
Так и побежали недели, месяцы, годы.
Минуло пять лет. В судьбе Ермолая наступили значительные перемены. Началось с того, что перед самым днем Святой Троицы старший продавец Филиппов с нетрезвых глаз полез купаться в Неву, в которой и утонул.
Труп, раздувшийся от бурой воды, выловили через неделю и схоронили на Волковом кладбище.
Уже во время поминок Скоробогатов посадил неподалеку от себя Ермолая, а по окончании застолья сказал ему негромко:
— Есть у меня для тебя сурпризец. Завтра с утра приди в магазин пораньше, потолкуем.
Толковать долго не пришлось. Хозяин на другой день объявил:
— Потому как вижу твое уважение к моей персоне и усердие по службе, назначаю вместо утопшего — старшим продавцом.
Это означало увеличение жалования почти в три раза и избавление от все-таки унизительного стояния «в растворе».
Тем временем скучавшая после неожиданно исчезнувшего из-под окон казака Левченко Олимпиада стала вдруг с какой-то грациозной вежливостью изъясняться с Ермолаем. С ней, впрочем, у нового старшего продавца и прежде были непринужденные отношения. Ермолай вел себя до некоторой степени нахально, пускаясь на рискованные разговоры:
— Что ж вы, Олимпиада Федоровна, столь обманчивую внешность имеете?
Олимпиада удивлялась:
— Вы об чем намекаете?
— Сказывают в народе, что к вам сыночек купца Артамонова сватов засылал. И вы ему отказали, так он, сердечный, вторую неделю с горя пьет — не просыхает.
— Это тебя не касается, но зачем ты внешность мою упомянул?
— По наружности лица вы ангел небесный, а сердце ваше — каменное…
— Ха-ха! — зарделась, польщенная словами Ермолая, Олимпиада. — Так ведь я не бесприданница какая, могу и выбрать себе кого по сердцу.
— Но и артамоновский сынок из себя хоть куда. Правда, прыщеватый малость, да причина тому известная, супруга быстро вылечит.
— И нос, скажи, как у хрюшки. Тьфу, лучше как наш Филиппов — в Неву, чем с таким страшилой на одной подушке спать.
Ермолай принимал серьезный вид:
— Не прокидайтесь женихами, сударыня! А то ведь как говорится: «Не найдешь паренька, так и выскочишь за пенька!»
Олимпиада возмущалась:
— Это я то, за пенька?
— Нет, я вообще говорю! — И помолчав, с глубоким вздохом добавлял: — Вы из себя-с такой предмет вожделения представляете, что будь у меня миллион, так я его к вашим ножкам бросил бы.
Олимпиада опять краснела:
— Зачем такая неуместная щедрость?,
— Изволите ошибаться, Олимпиада Федоровна! Это что ни есть самая корысть. За свой миллион я попросил бы сокровища много большие…
— Что такое? — хмурила бровки девушка.
— Я попросил бы позволения облобызать пальчики, извините, на ваших ножках. И был бы самым счастливым на всем белом свете!
— Ах, какой вы ветреник!
Ермолай шептал на ухо, воровато оглядываясь по сторонам, чтобы кто не заметил его выходок, за такие шуточки хозяин в два счета из магазина прогонит:
— Кто ж за сто рублей алтын жалеет?
— Ловелас! У вас дома живет девица, жена что ль ваша?
— Племяшка-сирота!
Он брал Олимпиаду за руку, та вырывалась и уходила к себе на второй зтаж, который под квартиру занимал Скоробогатов с семьей.
Ермолай мечтательно шептал:
— Повезет же кому-то… А впрочем, счастье — не лошадь, не везет по дорожке прямо!
КАРЬЕРА (продолжение)
В разгаре был золотой август. В канун Успения Пресвятой Богородицы хозяин позвал к себе в квартиру Ермолая. Тяжело отдуваясь, он пил из запотелого кувшина янтарного цвета пиво. Угостил гостя, крякнул:
— Садись!
Ермолай был озадачен: что за оказия, зачем в свои хоромы пригласил его строгий Скоробогатов?
Выпили по стакану. Оба молчали. Вдруг хозяин впился глазами в гостя:
— Как же это ты, Ермолай, живешь в блудном грехе со своей девицей? Ведь на том свете отвечать придется!
Тот промямлил:
— Коли прикажете… могу и под венец… грех, конечно.
Скоробогатов впился громадными жилистыми ручищами в подлокотники кожаного кресла. Лицо все более наливалось сизой кровью, глазищи темнели и темнели, отражая и душевные сомнения, и животную ярость. Наконец, он громко рявкнул:
— Ты, кобель, зачем моей Олимпиаде глазки строил? Зачем речи льстивые говорил? Под мой капитал, подлец, копаешь?
Ермолай побледнел от страха, напустил в порты, а язык прилип к гортани. Мысли лихорадочно неслись в помутневшем разуме: «Конец! Погиб! Выгонит со службы…» Он несвязно пролепетал:
— Помилуйте, Фед Федыч… Ей-Богу, ни сном, ни духом!
Скоробогатов хрястнул кулачищем по столу, и графин с пивом чуть подпрыгнул, а стакан упал, покатился по столу и грохнулся на ковер:
— Молчать!
Хозяин тяжело засопел, покрутил головой и вдруг, словно побежденный боец, тихо сказал:
— Хрен с тобою, паразит! Лучше жениться, чем волочиться. Моя дуреха в тебя влюбилась. Буду вас под венец ставить.
Не поверил своим ушам Ермолай. Подсеклись его ноги, повалился на колени, ухватил руку хозяина, стал губами мусолить:
— Ах, благодетель! Век буду Бога благодарить. Хозяин руки не отнимал:
— Я ведь понимаю, что ты Олимпиаде не пара. Какой ты ей муж? Но, видать, судьба нам породниться. А ты, Ермолай, не зарывайся, помни свой насест.
Потом хлопнул себя по лбу, вспомнил:
— А эта, что живет у тебя, грезетка: детей с ней не нажил? Дашь ей отступных. — Наморщил лоб, размышляя. Затем достал из ящика письменного стола толстый бумажник, протянул две «катюши». — Возьми, это от меня ей…
— Ах щедрость какая, так и скажу: «От благодетеля нашего купца первой гильдии Федора Федоровича Скоробогатова-с двести рублев! Молись, дура, за его здравие!» — и от себя деньжат ей еще добавлю — по обстоятельствам дела. И не извольте насчет этой… как ее… грызетки, сомневаться. Это так, пустяк-с!
Уже на Рождество Пресвятой Богородицы срочно отгрохали свадьбу. Неделю гуляла, кажется, вся северная столица. Скоробогатов усердно бил поклоны перед образами: «Слава тебе, Господи, выпихнул замуж свое непутевое чадо!» Спешка эта имела серьезные основания: Олимпиада ходила уже с ребенком в чреве своем. Не зря казак Левченко гарцевал под ее окнами. Казаки попусту коней не утруждают.
Ермолай отмусолил окаменевшей от горя Анюте полсотни и съехал с квартиры на углу Гороховой. Он радостно потирал потные ладошки:
— Вот, черт, как все складно образовалось. Сделал-таки я свой карьер!
В мгновение ока рухнули мечты о семейной жизни и налаженный быт Анюты. Она оказалась на улице: без угла, без заработка. Спасибо, приютила ее старушка, снимавшая комнатушку в подвальном этаже того же дома, где она жила с Ермолаем. Но при этом предупредила: «Пускаю, милая, на непродолжительное время, так как самой развернуться негде — теснота!»
Целые дни бегала Анюта по улицам, читала объявления, искала любое место: горничной, няней или хоть кухаркой. Везде отвечали: «Все места заняты!»
Деньги быстро таяли, старушка все чаще напоминала о тесноте каморки, скудный гардероб Анюты с каждым днем ветшал. Чувство несправедливой обиды и неизбывной горечи переполняло ее. Жизнь все более делалась мрачной.
После очередной бесплодной попытки найти место, возвращалась как-то Анюта Летним садом. Вдруг видит: идет навстречу изящный господин, тросточкой с серебряной конской головой вместо ручки поигрывает. На крупном румяном лице золотом очки поблескивают, а сам какую-то песенку весело напевает. Остановился, снял с головы котелок, отвесил Анюте поклон — будто сто лет знакомы, и начал что-то любезно, с улыбкой на французском языке тараторить.
Закраснелась Анюта, хотела мимо господина проскользнуть, а тот пуще прежнего шляпой размахивает:
— Ах, мадам, приношу извинительный пардон! Перепутал вас с княгиней Екатериной Алексеевной Урусовой. Такая же красавица и причесывается так же. Удивительно похожи! Да верно вы е ней знакомы, вам небось уже говорили об этом. Еще более смутилась девица, быстро отвечает:
— Позвольте, господин, мне пройти. Я по делам опаздываю.
— Если опаздываете, зачем свой экипаж отпустили? Впрочем, виноват, не смею в ваши личные дела мешаться. Но моя коляска к вашим услугам. Извозчик Корней — шустрый малый, гоняет как на пожар. Домчит в мгновение ока.
— Я пешком дойду.
— Зачем пешком? Вот и стихии начинают разыгрываться, того гляди небесные хляби разверзнуться. Нет, я вас отвезу. Более того, я очень перед вами виноват.
— Чем?
— Тем, что позволил себе задержать вас, тем, что фамильярно заговорил, не имея чести быть знакомым. Кстати, разрешите представиться: Семен Францевич Малевский, потомственный дворянин. Живу на Выборгской стороне. Вот моя визитная карточка. Если интересует место службы — директор Сампсоньевского завода. А как зовут мою милую собеседницу?
— Аня Кириллова.
— Очень приятно! Так вот, Аня Кириллова, я повторяю: я очень виноват и желаю искупить свою промашку, свое беспардонное амикашонст-во. Если вы не позволите купить для вас, ну, скажем, золотые сережки, то я застрелюсь.
Доверчивая девица испуганно воскликнула:
— Ах, нет, не стреляйтесь!
— Нет, мое слово кремень. Приеду домой и пущу себе пулю в лоб. И оставлю для газетчиков записку: «В моей смерти винить жестокосердную
Аню Кириллову». — Глаза господина сверкали свирепой решимостью.
— Не делайте этого!
— Тогда едем в ювелирный магазин, моя коляска, кстати, вон, та самая, у входа в сад. Да, с поднятым верхом. Мы отправимся к самому Фаберже. Я в приятельских отношениях с Петром Густавовичем.
Анюта покорно вздохнула. Подумала: «Может, у себя на заводе мне какое-нибудь местечко даст? Скажем, подметать в конторе?»
Господин поцеловал ее руку:
— Прежде ювелирного, давайте в этом ресторанчике пообедаем. Я ведь за тем сюда и приехал. Не будем намеченное рушить?
Швейцар, поясно кланяясь, распахнул двери:
— Милости просим, Семен Францыч! Метрдотель радостно спешил навстречу:
— Дорогие гости, ах, счастливый день! Семен Францыч, ваш кабинет свободен-с.
Анюта чувствовала себя смущенной. Ее поражали вышколенные официанты, блеск зеркал и хрусталя, дорогие картины по стенам, звон фужеров и богато одетые господа.
Малевского все знали, со всех сторон неслись приветствия, всем он радостно улыбался.
— Не хочу в кабинет! — заявил Малевский. — Будем гулять на всем честном народе.
Им тут же отвели удобный столик в углу, возле окна. Услужливо изгибаясь, подпоясанные красными кушаками с серебряными кистями, подскочили два официанта:
— Семен Францыч, сегодня у нас знаменитая стерлядь, в шампанском вареная. Жульены из птичьего ассорти желаете? Устрицы на льду све-жие, с острова французского Олерон доставленные — дюжина двадцать рублей. Галантин тетеревиный. Суп черепаховый. Тетерьки с грибами. Заливное из уток. Жаркое с каплунами-с. Артишоки. Да-с, чуть не запамятовали: нынче нежные куропатки на канопе. Прикажите с салатом «оливье» подать?
— Несите все самое вкусное! — лениво позевывает Малевский.
— Нас, Семен Францыч, мать бегом родила. Чихнуть, извините, не успеете, как мы вам на столе полный антураж изобразим.
— Тем временем на эстраде появился верткий господин в яркой плисовой рубахе, таких же шароварах и с гармоньей в руках. Он тряхнул смолянистыми кудрями, склонил по-птичьи голову набок, устремил куда-то вдаль мечтательный взор, рванул меха и высоким голосом затянул:
За— аче-ем я мальчик уро-одился? За-аче-ем тебя я полюбил? Ведь мне назначено судьбою идти в сибирские края…
К удовольствию Анюты, на столе как по волшебству появились блюда, бутылки с разноцветными наклейками. Но в то же время ей очень нравилась песня, которую выводил гармонист со слезою в голосе:
В Сибирь далекую жестоко
Судом я в ссылку осужден,
Где монумент за покоренье
В честь Ермака сооружен.
Анюта пила шампанское, на душе у нее просветлело, она с радостью думала: «Какое счастье, что я встретила такого человека! Это не какой-то магазинный приказчик — директор!»
Малевский произносил забавные тосты: «За вечнозеленую любовь!», «За пиршество чувств!». Потом он стал восхищаться:
— Какое изумительное имя — Анна! Вы, сударыня, будете моей наградой — звездой, лентой и орденом одновременно. Кстати, сейчас юбилей: ровно 140 лет назад, как вы помните, король Гольдштейн-Готторопский Карл-Фридрих учредил в память Анны Петровны, дочери Петра Великого, орден Святой Анны.
Анюта хлопала глазами и молчала.
— Выпьем за счастливую встречу с Анной, которая мне нынче дороже всех наград!
Они выпили, Малевский нежно поцеловал ее в плечо и ласково повторял, шептал в ухо:
— Вы моя золотая на красной муаровой ленте с четырьмя бриллиантами Анна! Вы — идеал мой!
…Потом он подсаживал ее в коляску. Она неясно, словно в тумане, видела мелькавшие мимо фонари и свет в окошках. В ювелирном Анюта выбрала себе золотые сережки в тут же повесила в уши.
Приехали к богатому дому на Никольском проспекте — с широкой мраморной лестницей и швейцаром в ливреи. Вновь пили шампанское в роскошной квартире Малевского. У нее сильно кружилась голова.
Очнулась она среди ночи. В громадные окна смотрели крупные звезды. Анюта лежала на широкой кровати. В подсвечнике догорала оплавленная свеча. В ее неверном мерцающем свете на стене танцевали легкие тени. Рядом с Анютой, слегка похрапывая, лежал, обнажив волосатую грудь, Малевский.
Жизнь перевернула свою очередную страницу…
В ту ночь, немного поплакав, Анюта вновь уснула — крепким ненарушаемым сноведениями сном. Проснулась она от солнечного луча, заглядывавшего в окно. Малевского не было. На столике лежала записка: «Не уходи. Жди меня. Приеду обедать. Что надо, тебе поможет горничная Лиза. Целую, твой Семен».
Горничная вскоре пришла к Анюте, показала расположение необходимых комнат. Завтракали они на кухне втроем — к ним присоединился тонкий, горбоносый, с висящими усами, похожий на кузнечика лакей Герасим.
Ели серебряными приборами с богатого сервиза. Прислуживала кухарка. Анюте все это стало казаться удивительным сном — такой роскоши она никогда не видела.
…После завтрака Анюта рассматривала цветы в горшочках, стоявшие на широких подоконниках. Горничная Лиза, миловидная, вся утянутая в талии девица лет двадцати трех, приказала Анюте вытирать пыль с листьев трех пальм, стоявших в громадных кадушках в гостиной.
Анюта работу эту выполняла долго — видать, от непривычки, боясь повредить сухо шуршавшие листья. Потом она полила цветы и села за рояль. Откинув тяжелую крышку, робко, боясь побеспокоить прислугу одним пальцем извлекла звуки.
За этим занятием и застал ее приехавший обедать Малевский.
Он был выходцем из старинной дворянской фамилии, жившей с незапамятных времен в Кракове. В нем текла кровь польских, немецких и русских предков. Малевский находился в каком-то родстве со знаменитым гетманом Куницким, который в конце XVII века громил турок в Молдавии, выжигал посады в Белгородчине и около Тягина (Бендер). Но за оставление войска во время сражения, казацкой радой был обезглавлен. Может от воинственных предков, Малевский был бесшабашно храбр, любил порой гулять по ночным окраинам Петерберга в поисках опасностей. Однажды повторил гусарский подвиг, когда уселся на краю подоконника своего высокого этажа и до дна осушил громадный кубок с вином.
Окружающих он чаровал своей любезностью, безудержной щедростью, веселостью. Никто никогда не видел его унывающим. «Жизнь для меня — это сплошной праздник, — любил повторять Малевский. — Как жаль, что человек не живет хотя бы лет пятьсот!»
У него была острая память и блестящие способности к наукам. Ему оставалось учиться чуть больше года в Николаевской военной инженерной академии, как там произошли какие-то студенческие волнения. Хотя Малевский не имел к этим беспорядкам ни малейшего отношения, он в знак протеста против исключения нескольких зачинщиков из академии тоже ее покинул. Это произошло в 1862 году, Малевскому был 21 год.
Образование он продолжил в Технологическом институте, полный курс которого окончил за четыре года. Затем по своей воле отправился
на Кавказ. Здесь показал удивительное усердие и работоспособность во время работ на Поти-Тифлисской железной дороге, а затем и Киево— Брестской. Вернувшись спустя несколько лет в Петербург, сразу был поставлен директорствовать на Сампсоньевский завод. Позже, во время суда свидетели скажут о Малевском: «Везде он успевал, всякая работа кипела в его руках… Деятельность его на заводе была изумительна: он являлся на завод в семь утра, покидал лишь поздно вечером. Прибыль завода при Малевском резко возросла, жалование рабочих и служащих увеличилась. Все его любили, недоброжелателей у него не было».
И еще: «Малевский любил общество женщин, причем исключительно „легкого поведения“. В пирушках с ними он словно находил источник отдохновения. Он никогда не искал сердечного чувства, не требовал ни верности, ни постоянства». Такой была его жизненная философия.
…Увидав за роялем Анюту, он весело расхохотался:
— Ты играешь, кажется, прелюды Листа? Браво! Хорошо сделала, что дождалась меня.
Обедали они вдвоем. Выпив бокал хорошего легкого вина, Малевский торопливо увлек Анюту в спальню:
— Как я опаздываю, дружок, если бы ты знала! Через двадцать минут он вскочил в коляску, поджидавшую у подъезда, и покатил на завод.
Три дня Анюта провела в доме Малевского. На обед он больше не приезжал, зато вечернее время они делили вместе. Лаская ее молодое, полное жизненных соков и энергии тело, страстно отдававшееся любви, он с улыбкой говорил:
— Благодаря тебе, дружок, я открыл в себе нечто новое.
Она вопросительно поднимала пушистые ресницы:
— И что же это?
— Я был уверен, что уже не способен на такие жаркие чувства. Но встретил тебя и потерял голову.
Она начинала игриво хохотать, явно счастливая его признанием:
— Такую голову терять нельзя — от этого Империя пострадает.
— Да нет, я серьезно! Но, дружок, я все обдумал. Уважая твою честь, я не могу оставлять тебя в доме — твое положение было бы двусмысленное. Я тебе сниму квартиру. И мы часто будем видеться.
Глаза Анюты стали наполняться слезами:
— И что потом?
— Потом? — удивился Малевский. — Я и сам не знаю — что будет потом. Жизнь сама все образует. Я дал зарок до сорока лет не удручать себя узами Гименея. Я хочу свободы. Так что еще, по крайней мере, лет пять мне предстоит пребывать в печальном одиночестве.
— А я?
— Прости за оговорку: вместе с тобой я, конечно, не одинок. Тебе, дружок, я буду давать «на шпильки», скажем, сто рублей. Столько на нашем заводе чернорабочий получает за три месяца. Согласна?
Анюта слабо улыбнулась, обнимая и целуя Малевского:
— Я согласна на все, лишь быть бы с вами рядом.
— Вот и отлично, — облегченно вздохнул он. — По воскресеньям у меня собираются друзья. За столом, за вечерним чаем, ты будешь хозяйкой.
…На другой день Анюта поселилась в хорошо обставленной двухкомнатной квартирке на одной из петербургских окраин — в Нарвской части. Добираться до Малевского было далековато, но он обещал оплачивать извозчиков. Навестили они магазины на Невском, накупили модные женские наряды. Малевский денег, верный своей натуре, не жалел.
Воскресным вечером к Малевскому приехали три респектабельных господина. Двое из них — лысый, лет 50-ти, с большим животом в поношенном фраке, и почти юноша, с мягкими пушистыми усами и розовым лицом, недавно окончивший тот же институт, что и Малевский, работали у него на заводе инженерами. Третий — друг детства, с которым учился еще в гимназии, Коновалов. У него были белесые редкие волосы, зачесанные назад за розовые ушки, тонкий хрящевидный носик и бесцветные навыкате глаза.
Гости с нескрываемым интересом разглядывали Анюту. Лысый сочно причмокнул губами:
— Ваш вкус безупречен, Семен Францевич! Коновалов был еще более откровенен. Не стесняясь присутствия горничной, внесшей горячий
самовар, он хлопнул Анюту по округлости зада и плотоядно ощерил зубы:
— Семен, сколько тебе обходится это сокровище? Я готов платить в два раза больше!
Малевский недовольно поморщился, но ничего не ответил.
До чая было выпито достаточно шампанского, которое и разогрело гостей. Шел горячий спор о месте женщины в современном обществе.
С прямотой, близкой к цинизму, Малевский убежденно доказывал:
— Мужчина во всех отношениях превосходит женщину — ив физическом, и в психическом, и в умственном развитии.
Коновалов лениво возражал:
— Но согласись, Семен, женщины ближе к земле, к реальной жизни…
— Это само собой разумеется. И ближе не только к земле, к самому космосу. Но как природа служит человеку, так служит ему и женщина.
Лысый понимающе покачал головой:
— Стало быть, мужчина, или, как вы изволили, Семен Францевич, выразиться, человек — это господин, а женщина — слуга, раба его?
И опережая еще не успевшего родиться Освальда Шпенглера, Малевский жарко продолжал:
— Это так! И более того: женщина не только служит источником мужского наслаждения. Она сохраняет на земле человечество, а для государства расу.
Преодолевая некоторое смущение, но желая участвовать в общем разговоре, еще более зардевшись, молодой инженер спросил Малевского:
— А как же относительно идеалов? Неужели у женщины их нет?
Малевский, наслаждаясь собственной мудростью и словно со стороны наблюдая себя и оставаясь собой весьма довольным, важно кивнул:
— Идеалы, говорите? Как же, как же, они есть — и, повернувшись к Анюте, спросил: — Скажи, ведь у вас, женщин, есть идеалы? То есть, — пояснил Малевский, — какая-то высокая цель, к которой женщина стремится?
— Конечно!
Малевский азартно хлопнул в ладоши:
— И я скажу вам, господа, какая это цель: найти богатого мужа и прижить с ним кучу сытых, здоровых детишек!
Анюта вопросительно посмотрела на своего возлюбленного:
— А что ж в том плохого: муж и детишки? Малевский досадливо поморщился:
— Я не говорю, хорошо это или плохо, тем более что эти категории весьма относительные. Речь идет о другом: у мужчины идеалы более возвышенные. Это развитие собственных способностей и служение обществу.
Коновалов спросил:
— Так что, вечный антагонизм?
— Правильно, Владимир Алексеевич, вечный антагонизм! Мужчина самим Провидением призван подавлять женские инстинкты, подчиняя их собственым целям.
Молодой инженер счел необходимым вставить слово:
— Вы хотите сказать, Семен Францевич, что мужчина борется с самой природой? Надо ли?
Вместо ответа, Малевский устало потянулся. Он был глубоко убежден, что его нынешнее положение директора много ниже его достоинства и его выдающихся способностей. Анюте он откровенно скажет: «Если бы смолоду в голове у меня было больше ума, то я не ушел бы из академии, встав тем самым в опозицию правительству. Был бы я теперь министром или сенатором…»
По этой причине Малевский в душе презирал тех своих товарищей и то окружение, среди которых был вынужден вращаться. Коновалова он считал подлизой и приспособленцем, добившимся исключительно благодаря этим качествам какого-то положения в министерстве иностранных дел. Лысый господин, по твердому убеждению Малев-ского, был отпетый жулик, грабивший вдов и сирот. Что касается самого молодого гостя, то хозяин о нем и думать не желал, полагая его личностью пустяковой.
Единственный человек, который вызывал в нем интерес, это была Анюта, в силу своей молодости и чисто женских качеств способная доставить ему минуты животного блаженства.
Малевский, извинительно улыбнувшись, вздохнул:
— Простите, господа, хочу немного нынче поработать в своей библиотеке. Спасибо за визит!
Гости ушли. Малевский со всей пылкостью страстной натуры привлек к себе Анюту и начал ее целовать.
Анюта, преданно глядя в его глаза, горячо шептала:
— Только вас одного люблю! Если надо — жизнь отдам…
Она говорила чистую правду. И с каждым днем, с каждой встречей ее чувства становились жарче и нежнее.
— В тебе что-то есть этакое, ну, змеиное, — говорил Малевский Анюте. — Когда змея смотрит на жертву, она словно завораживает ее. Так и ты обладаешь каким-то магнетическим действием.
Разговор происходил в поезде Петербург— Москва. Любовники решили навестить старую столицу, благо Малевскому по делам службы следовало побывать в Белокаменной.
— Я тебя понимаю, пупсик, — грустно отвечала Анюта. — Будь я наследницей миллионного состояния, тогда ты давно узаконил бы наши отношения. А что я теперь? Нищая с туманным прошлым…
Малевский раздражался:
— Не в миллионах дело! Если бы я захотел, я нашел бы себе весьма состоятельную невесту. Ты знаешь это. Я и сам не беден. Я говорю как раз в твою пользу. Ты зачаровываешь, приковываешь к себе. Ведь мы скоро вместе год. Прежде я никогда не был таким постоянным. Если бы ты мне была равнодушна разве я взял бы тебя с собой?
— Конечно, пупсик! — Анюта поцеловала Малевского в переносицу. — Не обращайте внимания на мою болтавню. Я знаю, что не ровня вам. И вам не нужны миллионы жены. Но вот зато если бы я была знаменитой певицей, пела в опере, мне под ноги бросали бы букеты роз, а газеты писали «Анна Кириллова — гордость русской сцены!», то вот тогда…
Малевский прикрыл ладонью ее рот:
— Мне ничего от тебя не надо, лишь хочу, чтобы ты оставалась такой же. Посмотри, купе закрыто?
И они вновь заходились в любовной страсти. Только паровоз время от времени подавал гудки, да колеса бились о стыки рельс.
…В половине десятого утра, блестя медью, никелем и маслом, паровоз медленно подкатил к дебаркадеру вокзала в Москве. Малевский и Анюта прошли через зал ожидания, сиявший нарядной чистотой, громадными зеркалами и золотыми рамами картин.
На площади их окружили комиссионеры. Один из них — черный, с крупным носом, цыганистого типа, хрипло кричал:
— Бояры вы мои, поезжайте к нам в меблированные комнаты. Где? Да в доме Рейнгарда! Это на Сретенке в Луковом переулке. Очень роскошные нумера! Предоставляем все необходимые услуги. У нас очень большие люди останавливаются.
Долговязый парень, в вытертом демисезонном пальто на узких плечах, криво усмехнулся:
— В ваших номерах не люди — тараканы останавливаются! — и он смачно сплюнул на булыжную мостовую. — Вот у нас, в «Полтаве», даже генералы бывают! Едем, господин хороший. Садовая улица, возле церкви святого Ермолая. Поживете себе в наслаждение.
В этот момент, словно из под земли вырос громадный мужик с обширной бородой, в добротном, старинного покроя армяке, с повадками думного дьяка. Раздвинув богатырскими ручищами комиссионеров, он важно басит:
— Все брешут они! Нумера у них самые заурядные, клопы постояльцев аки тигры кровожадные пожирают. У нас в «Санкт-Петербурге» останавливались? Нет? Тогда неприменно к нам следуйте. Ни клопов, ни тараканов не водится. Удобные помещения на любой вкус — от полтинника до двух рублев с прислугою и самоваром круглосуточно. Повар у нас прославленный, французский!
Анюта хлопнула в ладоши:
— Хочу к французкому повару! Малевский хмыкнул:
— Да это лишь название одно — «французский», а на деле — какой-нибудь Еремей Парамоныч из Люберец.
Бородатый мужик против этого довода не возражал, но привел еще один резон:
— Зато езды отселя — сто сажень! Давайте вашу багажную квитанцию, доставим вещички прямо в нумерок.
Малевский согласно махнул рукой:
— Вези!
Если бы ведали влюбленные, чем для них обернется сей выбор!
Они плотно уселись в легкую рессорную коляску. Мужик разместил свой обширный зад на узких козлах и, по-разбойничьи посвистывая, понесся через площадь. Едва пересек ее и выкатился на Каланчевку, как резко осадил у солидного строения, на котором красовалась вывеска: «Санкт-Петербург». (Забавная преемственность: почти на этом же месте спустя три четверти столетия была возведена высотная гостиница «Ленинградская»). В этой гостинице останавливались солидные купцы, крупные спекулянты, знаменитые аферисты и гастролирующие актеры.
В прокуренной биллиардной стучали шары, по номерам и в специальном зале азартные постояльцы резались в карты, половые носились по коридорам с пыхтящими паром самоварами. Несколько комнат занимали порочные девицы, удовлетворявшие потребности наиболее темпераментных постояльцев.
Но гостиница и впрямь оказалась довольно чистой, так что Малевский отлично выспался и утром в бодром настроении отправился по делам. Сначала он побывал в доме Купеческого общества, что в Рыбном переулке. Здесь, в правлении заводов знаменитого Кольчугина он договорился о поставках мельхиора в листах и красной меди. Оттуда отправился на Даниловскую улицу, где заключил выгодный контракт с Германом Прейсом, владельцем напилочного завода.
Усталый, но счастливый, вернулся к вечеру в гостиницу, принял ванну и вместе с Анютой отправился в небольшой, но уже изрядно заполненный гуляющей публикой ресторан, разместившийся в полуподвале.
Они пили хорошее французское вино, с аппетитом ели сочные деволяи и забавлялись зрелищем, которое шло на невысокой эстраде, освещенной керосиновыми лампами с большими отражателями. Представление было вполне балаганным. Лихо отплясывал трепака крошечного роста сухонький человечек, дробно стуча каблуками ярко начищенных сапог. Потом бородатый мужик в цветастом жилете наяривал на балалайке, то перекидывая ее через спину, то через ногу и не сбиваясь с такта.
Балалаечника сменили разухабистые цыгане, долго не уходившие с подмостков.
Уже около полуночи два половых выкатили на середину сцены арфу. Перед публикой предстал толстый человек в новом фраке с блестящими саржевыми лацканами, оказавшийся владельцем гостиницы. Воздев руки к потолку, на котором были изображены голые амуры, он пророкотал:
— Известная во всем мире, блестящая европейская знаменитость госпожа Надежда Пильская!
Из— за ширмы, стоявшей у задника сцены, вышла женщина, взглянув на которую, Малевский и Анюта от удивления обомлели. Они увидали смуглую красавицу с роскошными плечами, с громадными печальными глазами и толстенной смолянистого цвета косой. Арфистка быда поразительно похожа на… Анюту.
Последняя даже перекрестилась:
— Господи, бывает же такое!
Малевский покрутил головой и расхохотался:
— Невероятное сходство! Ох, хороша бабешка.
Тем временем госпожа Пильская изящной рукой тронула струны и запела красивым контральто:
Зачем на краткое мгновенье
В сей жизни нас судьба свела,
Когда другое назначенье
И разный путь она дала?
Зал сразу стих. Краснолицые купчины и изящные господа с моноклями в глазу с.интересом слушали арфистку. Когда она кончила песню, на сцену полетели ассигнации, за которыми, впрочем, госпожа Пильская не наклонилась, чем еще больше расположила публику.
Малевский поднялся с места, громко захлопал в ладони и крикнул:
— Пожалуйста, «Затворницу»!
Из зала как эхо отозвались крики:
— «Затворницу», «Затворницу»!
Это была популярнейшая песня на слова Якова Полонского, которую много десятилетий спустя обессмертит в одном из своих рассказов гениальный Иван Бунин, пребывавший, впрочем, в те годы, еще в младенческом состоянии. Госпожа Пильская согласно наклонила голову и запела:
В одной знакомой улице
Я помню старый дом,
С высокой темной лестницей,
С завешанным окном.
Там огонек, как звездочка,
До полночи горит.
А ветер занавесочку
Тихонько шевелит.
В зале уже никто не ел, ни пил, не произносил тостов. Все, словно заколдованные, внимали певице: голос ее завораживал, у многих гуляк на глазах блестели слезы.
Никто не знал, какая там
Затворница жила,
Как часто сила тайная
Меня туда влекла…
Чудный голос пел о несчастной любви, и трогательные слова находили отзыв в сердцах слушавших.
И опять ресторанный зал гремел овацией, и опять сцену осыпали ассигнациями. Малевский вынул из вазы, стоявшей на его столике, букет роз, вложил в него пятидесятирублевую бумажку и визитную карточку и, подойдя к эстраде, протянул певице.
Анюта весь вечер сидела надув губки. Когда они поднялись к себе наверх, она вдруг разрыдалась:
— Как не стыдно! Я всю жизнь свою тебе отдаю, а ты…
— Не капризничай! Мне певичка показалась любопытной лишь по той причине, что как две капли воды похожа на тебя. Интересно, — Малевский расхохотался, — во всем остальном она тоже похожа на тебя?
— Мне противно слушать!
— Нет, серьезно говорю. Ты знаешь, чем прелюбодеи характерны? Они очень любопытны. В мире нет двух одинаковых женщин…
— Как и мужчин!
— Ах, ты и это знаешь! Так вот, эти самые, любопытные, норовят изучить и сравнить! Впрочем, закончим этот разговор. Нам необходимо скорее возвращаться домой. Послезавтра в десять утра состоится учредительное собрание страховой компании. Меня выберут в правление. Уедем завтра с пассажирским в половине второго пополудни.
Анюта возмутилась:
— Как же так? Ведь сам обещал сводить меня в музеум князя Голицына? Еще в Питере говорил…
Тяжко вздохнул Малевский:
— Будь по-твоему!
…Утром он отправил гостиничного слугу на Николаевский вокзал:
— Возьмешь, братец, два билета в первый класс вечернего пассажирского. Того, что в половине седьмого отправляется. — И протянул 38 рублей — стоимость билетов.
Утро задалось яркое, солнечное, по-августовски тихое и теплое. Малевский с Анютой катил на лихаче на Тверской бульвар. Там в доме, принадлежавшего некому Дубовицкому, разместилась выставка картин Общества любителей художеств.
Малевский водил Анюту по залам, рассказывал о картинах и их мастерах. Его поразило то внимание, с каким девица внимала ему, ее сметливость и отличная память. «Побольше бы тебе образования, и ты украсила бы любой великосветский салон», — сказал Малевский.
Обедали влюбленные в «Париже» — это на углу Тверской и Охотного рада. Услужливые официанты кормили их сытно и вкусно.
Через Мясницкую возвращались домой — пешком. Солнце уже склонялось к западу и до отхода поезда оставалось меньше часа, когла Малевский проводил подругу в номер и сказал:
— Загляну-ка я в табачную лавку!
Он отправился на соседнюю Домниковку. В небольшом чистеньком магазинчике «Кожухов и К°» оставил семь рублей и получил ящичек с кубинскими сигарами «Гавана». И вот когда он, распахнув дверь, вновь оказался на улице, то лицом к лицу столкнулся со вчерашней арфисткой.
Малевский захлебнулся от волнения:
— Какое чудо! Простите, медам, мою дерзость, но я…желаю выразить свой восторг. У вас волшебный голос! Вам необходимо петь в опере.
Дама, чуть зардевшись, с легкой улыбкой спросила:
— В Большом театре?
— Нет! Вы должны петь в Мариинском. Там голоса лучше, знаете. К тому же капельмейстер мой большой друг. Мы с ним в «Аркадии» обедали. И дома у меня он был.
— Это кто ж?
— Направник. Вот он меня приглашал на премьеру «Бориса Годунова». Я был. И еще на «Опричников» ходил.
— Я с Эдуардом Францевичем знакома. Взяла у него несколько уроков.
— Очень хорошо! Направник вас знает, а мы еще не познакомились. Позвольте представиться — Семен Францевич…
— Малевский! — улыбнулась собеседница. — Ведь вы послали мне свою визитную карточку.
— Ах, и вы, божественная, запомнили мое незначащее имя! Позвольте поцеловать вашу чудную ручку. Что касается вашего имени, то мои уста повторяют его постоянно — Надежда Пильская! Звучит, как дуновение зефира в листьях душистого мирта.
— Да вы настоящий поэт!
— Иван Андреевич Крылов умер, когда мне.было четыре годика. Но он, бывая у нас дома, однажды поглядел на меня и сказал: «Большой фантазер растет! Будет поэтом или… сыщиком». Но я не оправдал надежд нашего баснописца. Когда вы, сударыня, пожалуете к нам на брега Невы?
— В середине сентября должна быть.
— Приходите, умоляю вас, на Сампсоньевский завод. В проходной прикажите, чтобы проводили в контору к директору. Это я и есть. Целые дни на службе провожу.
— А вот эта милая женщина, что с вами сидела за столиком и так сильно схожая внешностью со мной, ваша супруга?
Малевский протестующе замахал руками:
— Нет, Господь с вами, это так, знакомая! Я холост.
…Они расстались вполне друзьями. Эта случайная встреча решила участь Малевского.
Пасмурным прохладным днем Надежда Пильская прибыла в Петербург. Случилось это на другой день после праздника Воздвижения, в середине сентября. В августе скончалась ее богатая тетка, жившая на Литейном. Теперь Пильской предстояло выяснить некоторые дела, касавшиеся ее части наследства.
Это наследство, какая бы скромная часть его не досталась Пильской, было весьма кстати. Закончив московскую консерваторию, она не сумела хорошо устроиться в оперную труппу. По этой причине была вынуждена петь во второразрядном ресторане. Здесь, впрочем, ей порой перепадал приличный куш от подгулявших купцов. Хотя часть этих денег приходилось отдавать владельцу «Санкт-Петербурга», кое-что все же оставалось. И это кое-что она бережно откладывала для учебы в Италии, после которой Пильская надеялась стать выдающейся вокалисткой.
В Малевском она сразу разглядела натуру порочную и увлекающуюся. Но он был интеллигентен, умел, кажется, красиво ухаживать, недурен собой. Но главное, он был богат и щедр. Он сумел оценить ее певческие способности. И теперь задачей Пильской было сделать так, чтобы Малевский раскошелился и дал деньги на Италию.
Прямо с поезда она отправилась к нотариусу, а затем на завод к Малевскому. Едва они остались вдвоем в кабинете, как он осыпал певицу поцелуями.
— Я не верю своему счастью! — страстно шептал Малевский. — Бросаю все дела и — в ювелирный. Хочу подарить тебе, моя козочка, золотое кольцо с бриллиантами. Пусть это будет памятью о нашей встрече. Затем поедем в ресторан, пообедаем. — Он задумчиво потер лоб и вопросительно посмотрел на певицу: — Но, может, не будем терять попусту сладостных минут? Поедем ко мне в гости?
Пильская согласно кивнула:
— Сделайте, как находите нужным. Малевский обрадовался:
— И пообедаем, и поужинаем, и…позавтракаем. Дав указания по службе, Малевский с певицей через пятнадцать минут катил в коляске на Никольский проспект, что на Выборгской стороне, к себе домой.
В пылу страсти Малевский совершенно забыл про маленький пустяк. Минувшую ночь Анюта по обычаю провела у него в постели, Утром, отправляя ее на квартиру, которую он снимал в доме Шестаковой, это угол Петербургского проспекта и Новоизмайловского в Нарвской части, Малевский обещал:
— Вечером пришлю за тобой коляску!
Весь день она томилась и жила лишь одним — встречей с любимым. К семи вечера Анюта сидела одетая возле окна и ждала коляску. Улица была пустынной. Весь день шел дождь, и люди спешили стрятаться в дома.
Большие часы пробили восемь, девять, а затем и десять раз.
«Господи, не случилось ли чего с ним?» — взволнованно думала Анюта. — «Не простудился ли, не заболел? Ведь говорила ему утром, чтобы калоши надел, а он в легких ботиночках направился. Надо самой ехать на Никольский проспект, да денег на извозчика нет. Впрочем, пойду пешком. Промокну? Не беда! Вдруг я Сенечке нужна?»
Сказано — сделано. Раскрыв зонтик, Анюта отправилась через весь город к возлюбленному.
С темного неба беспрерывно хлестали потоки холодного дождя. Фонари в большинстве были задуты ветром, а те, что горели, почти ничего не освещали, лишь своими неверными мерцающими пятнами обозначая улицу.
Поначалу Анюта пыталась выбирать дорогу посуше, но рванул ветер, вырвал из рук зонтик и унес во мглу. Расстроенная, она тут же наступила в глубокую лужу, и ее казимировые штиблеты наполнились водой, зачавкали при каждом шаге. Вскоре промок насквозь и длиннополый бурнус с капюшоном.
«Господи, — шептали ее уста, — за что мне такая мука? Почему все-таки Семен не прислал за мной экипаж?»
Как бы то ни было, промокнув и продрогнув, валясь с ног от усталости, Анюта с каждым шагом приближалась к дому Малевского.
Она вышла на набережную Черной речки, оставила слева Головинский мост, миновала и Головинский дворец и, облегченно вздохнув, повернула вправо — на Никольский проспект. В угловой комнате, где размещалась спальня Малевского, сквозь плотно задвинутую штору желтел огонек керосиновой лампы.
У Анюты обрадованно забилось сердце. «Как хорошо, он дома! — думала Анюта. — То-то обрадуется моему приходу!»
Двери черного хода были не заперты. Не встретив никого из прислуги, она сняла с себя ставший тяжеленным бурнус, сбросила штиблеты и, оставляя на паркете мокрые следы, отправилась к спальне. К своему удивлению, она услыхала несшиеся оттуда голоса. Один принадлежал Малевскому, а второй был… женским.
Обмирая от страшного подозрения, она толкнула дверь. Та оказалась закрытой на ключ изнутри. Голоса тут же смолкли.
Анюта вновь и вновь толкнула дверь и сквозь слезы крикнула:
— Открой!
Из— за дверей раздался пьяный и неожиданно веселый голос Малевского:
— Не шуми, дружок! У меня деловое совещание.
Он помолчал и вдруг залился смехом, словно его озарила забавная идея:
— Я проводил опыт. Вполне научный! Выяснял: в какой степени внешнее сходство соответствует внутреннему, так сказать, содержанию. Делаю вывод: не соответствует. Испытания продолжаю далее. О результатах доложу особо.
И вдруг резко сменил тон, нарочито строго произнес:
— Дружок, быстро — аля-улю! — домой. Не нарушай чистоту эксперимента. Завтра я сам приеду к тебе. Поедем в ювелирный. Куплю подарок.
Анюта вдруг поняла свое бессилие. Ее всякий может оскорбить, унизить, плюнуть в душу. Даже тот, кого она любила больше своей жизни.
Чтобы обдумать себя, свое положение, она на плохо послушных ватных ногах отправилась в соседнюю комнату — там был кабинет Малевского. Она ярко, со всеми натуралистическими подробностями представила себе то счастье, которое испытывает вот здесь, за этой тонкой стенкой ее соперница. Дико завыв, повалилась лицом вниз на козетку, обитую красным, словно свежая кровь, шерстяным репсом.
Ей хотелось в одно и то же время с лютой, истинно звериной жестокостью расправиться с изменщиком и любить его нежно, самоуниженно, забывая о стыде, доходя до крайних степеней разврата и унижения.
Вдруг она вздрогнула: в коридоре послышались быстрые легкие шаги и стук закрываемой двери внизу.
— Эта женщина ушла, — глухо произнесла Анюта — Но это ничего не меняет. Я так устала от страданий. Господи, прости меня, больше не могу. Я знаю, где револьер…
Она чиркнула серником, зажгла две свечи, стоявшие в подсвечнике. Выдвинула верхний ящик. Там желтовато блестел четырехзарядный «Кловерлиф» — новейшая модель Кольта. Анюта написала на большом листе бумаги, нервно вдавливая карандаш: «Семен Францевич, умираю, помолюсь за вас Пошли Господь вам счастья. А.».
Она приставила револьвер к груди, чуть ниже соска, с силой нажала на курок. Выстрела не последовало. Еще, еще нажимала несчастная женщина — «Кловерлиф» не стрелял. Тогда Анюта стала нервно вертеть оружие и, наконец, сняла с предохранителя. Направила в потолок — надавила на курок раз, затем другой. Прогремели два выстрела, с потолка посыпалась легкая пыль.
Дверь тут же распахнулась. В распахнутом халате стоял встревоженный Малевский:
— Не безобразничай! Ты мне не жена, чтобы распоряжаться моей свободой. Дай сюда револьвер! — и он, шагнув вперед, протянул руку.
Вдруг страшная мысль пронеслась в ее сознании. С легкой улыбкой она сказала:
— Теперь мы уже никогда не изменим друг другу! — и выстрелила почти в упор. Малевский повалился вперед, стукнулся головой о кресло. Анюта направила «Кловерлиф» в затылок и выпустила еще одну пулю.
Тело дернулось, мелко забилось в предсмертных судорогах. Вокруг головы расползалась большая лужа черной крови.
— Прощай, милый! Прощай моя большая любовь…— шепотом произнесла Анюта. Чтобы запечатлеть последний поцелуй на устах убитого, она встала на колени, перевернула голову и в ужасе отпрянула. Еще минуту назад блиставшее красотой лицо, превратилось в бесформенную кровавую маску.

Анюта быстро, не раздумывая, вставила дуло револьвера себе в рот, нажала на курок. Выстрела не последовало — кончились патроны.
В тот же миг в кабинет вбежала прислуга. Герасим приказал:
— Лизавета, несись в полицию. А я эту потаскуху постерегу, — и он грубо вырвал из рук Анюты «Кловерлиф».
На судебном процессе обвинитель Плющик-Плющевский, картино вздымал руки, пытался внушить присяжным, что «убийство всегда есть убийство, ибо оно лишает человека священного дара — жизни». Как-то особенно ласково поглядывая и в зал, и на присяжных, обвинитель торжественно произносил:
— Жизнь — это священный дар, отпущенный природой человеку. Ничего дороже этого дара нет-с! И тот, кто посягает на него, отвергает себя от рода человеческого, отторгает от себя всякое сочувствие и милосердие. Подсудимая молода, смазлива. И эти качества она использовала с гнусной целью, соблазнив замечательного, ничем не опорочившего себя человека.
Плющик— Плющевский, отставив мизинчик, отхлебнул воды и патетически продолжал:
— Вы поняли, я говорю о светлой личности — о Малевском. Кириллова совершила кровавое злодеяние по причине нравственной черствости собственной натуры — порочной и грубой. Признание ее виновности послужит хорошим уроком всем тем «ночным бабочкам», которые в последнее время во множестве развелись в природе нашего нездорового, давно больного общества. Итак, господа присяжные, слово за вами.
Эта речь сочувствия в зале не вызвала.
Зато резюме знаменитого защитника Н. П. Карабчевского, говорившего о несчастной судьбе девушки, «замечательной своими душевными качествами, ставшей жертвой развратного и высоко в обществе поставленного человека», вызвала восторг. И слезы умиления. Кто-то захлопал в ладоши. Председатель был даже вынужден распорядиться, чтобы из зала вывели несколько наиболее эмоциональных дам.
По окончании суда хроникер писал: «Присяжные тонко и хорошо рассудили дело: они оправдали Кириллову».
Анюта пошла послушницей в один из отдаленных провинциальных монастырей. Там бывшая убийца и приняла постриг. Отличалась она добрыми делами и строгой жизнью. И всегда раскаивалась в своем злодейском поступке.
Что касается Надежды Пильской, то она вышла замуж за какого-то иностранца, уехала из России и никто о ней более не слыхал.
ВАЛЕНТИНУ СИЛАЕВУ
Иной читатель, возможно, недовольно поморщится: «Зачем, дескать, рассказывать о столь чудовищном преступлении, от которого кровь стынет!» Скажу: негоже уподобляться страусу и прятать голову от реальной жизни. В этой истории причудливо переплелись любовь, кровавые социальные катаклизмы, патологические извращения маньяка. Не обошлось без случайности, которая рано или поздно подстережет преступника, дабы явить миру его черные дела.
Когда— то у Эмилии, или как звали ее близкие — Эммы, было все, что нужно для счастья: богатый московский дом ее отца — известного архитектора, красавец-муж, великое множество родственников и друзей. Настоящая жизнь, впрочем, началась лишь после окончания гимназии. Литературные и музыкальные вечера, премьера в Большом театре, пьеса в Малом, восхищение баритоном Шаляпина и смелыми пьесами Горького — все это составляло будни и праздники того интеллигентского круга, к которому Эмма принадлежала. А еще были загородные прогулки, катания на рысаках, веселые ужины в «Стрельне», «Метрополе», «Праге»…
И вот эта яркая, со всем шумным и приятным многообразием жизнь, рухнула после переворота в октябре 1917 года и воцарения никому прежде неведомых большевиков.
Теперь, сидя в квартирке когда-то обожаемого, а теперь тихо ненавидимого Парижа, на широкой улице Пасси в престижном 16-м арисменде (районе), Эмма не переставала удивляться той стремительности, с какой изменилась ее судьба, судьба близких людей, да и судьба самой России — великой, сильной, могущественной.
Нежно проводя рукой по шелковистым кудрям пятилетней дочурки, Эмма говорила:
— Ты, Аннушка, мое единственное сокровище…
Дочка целовала узкую кисть матери и в тон отвечала:.
— А ты, маменька, у меня самая любимая! Пойдем гулять, ну, пожалуйста! Сегодня такая солнечная погода.
Они спускались вниз по лестнице, кланялись консьержке и попадали в разноцветье толпы, спешившей в магазины, кафе, по служебным делам.
Эмме 26 апреля исполнилось 29 лет, но глядя на ее хрупкую, стройную фигуру, легкую походку, можно было дать и меньше. Во всяком случае, мужчины обращали внимание на нее и провожали восхищенными взорами.
Но если кто-нибудь вглядывался в ее крупные, чуть прикрытые веками глаза, то легко мог разглядеть в них усталую печать много видевшего и много пережившего человека.
Аннушка дергала Эмму за руку и просила:
— Маменька, расскажи что-нибудь про нашу родину. Мы когда-нибудь вернемся к себе домой на Никольскую? Она большая, эта самая Никольская? Больше, чем рю Пасси?
Эмма улыбалась:
— Это чудесная улица. Она ведет от Лубянки к самой Красной площади, где древний Кремль.
— А ты, маменька, еще прошлый раз обещала рассказать, как с папенькой познакомилась!
Эмма глубоко вздыхала, и словно забывая, что рядом с ней всего лишь пятилетний ребенок, начинала говорить как с ровней:
— Это случилось в декабре пятнадцатого года. Из Москвы я прикатила в Петроград, на юбилей нашего родственника Егора Ермолаевича Рейна. Это был большой человек: знаменитый хирург, академик, председатель Медицинского совета Министерства внутренних дел. На юбилее гуляла, кажется, вся столица. Сам государь-император телеграммой поздравил Рейна. Я уже собиралась возвращаться в Москву, как Рейн сказал: «Эмма, сегодня принесли приглашения в Первый Кадетский корпус. Завтра, 13 декабря, там состоится кинематографический сеанс…»
Отправились мы на автомибиле Рейна с Невского, где он жил, на Васильевский остров к кадетам. Смотрели фильмы о государе, о его жизни в Ставке, о том, как навестила его там императрица Александра Федоровна с августейшими детьми. Затем показали фильм про годичный праздник Павловского военного училиша, воспитавшего многих славных защитников Отечества.
Эмма замолчала, а Аннушка требовательно подергала ее за руку:
— А что дальше, маменька? Расскажи! Смахнув украдкой невольную слезу, Эмма продолжала свой рассказ.
— По окончании сеанса заиграл духовой оркестр. Мужчины, а это были преимущественно офицеры, разбились по группам, обсуждали фильмы, говорили о положении на фронтах войны.
Мы с Рейном направились было к выходу, чтобы ехать домой. Но к нам подошел стройный подполковник, отличавшийся блестящей выправкой и галантным обхождением. Рейн представил мне офицера:
— Владимир Григорьевич Жаме, отважный защитник Отечества…
Офицер перебил:
— Все это в прошлом! После ранения был командирован к кадетам, преподаю им фехтование.
Я еще прежде заметила, что офицер немного прихрамывает. Это, как выяснилось, было последствием ранения.
— Предлагаю всем отправиться в «Вену» и поужинать, — сказал офицер.
Рейна ждал внизу автомобиль. Твой будущий папа уговорил шофера уступить ему место за рулем. «Ведь я с самим Сережей Уточкиным летал на аэроплане, а здесь уж как-нибудь справлюсь!» — улыбнулся он.
Поверь, малышка, что папа твой прекрасно вел авто. Вскоре мы весело ужинали в знаменитом ресторане Ивана Соколова, которого так любили артисты и художники.
— А что было потом, маменька?
Эмма улыбнулась:
— А потом было вот это. — Она достала из шкатулки отпечатанное золотом приглашение:
«Владимир Григорьевич ЖАМЕ покорнейше просит Вас пожаловать
на бракосочетание свое с девицей Эммой Яковлевной СЫРОМЯТНИКОВОЙ
сего 1 июля 1916 года в 4 часа пополудни
в церковь Николая Чудотворца у Яузского бульвара,
угол Воронцова Поля в Москве…»
Потом мать и дочь рассматривали фотографии. Почти на всех красовался стройный человек с белозубой улыбкой. На одном из фото Эмма надолго задержала взгляд: она сама и ее муж сидели в открытом авто марки «Панар-Левассор». Счастливые, уверенные в себе и в жизни! Было это вскоре после свадьбы — в августе шестнадцатого года.
Она хорошо помнила этот день. После завтрака они взяли извозчика и с Никольской, где теперь, после перевода мужа по службе, жили, отправились на Большую Дмитровку. Здесь в доме под номером 23 размещался роскошный магазин по продаже автомобилей. Хозяином был некий Фимбель. Еще накануне муж сторговался с ним и выбрал модель. Теперь он отдал требуемую сумму денег и выехал из ворот магазина уже на собственном авто.
— Давай, дорогой, увековечим «исторический момент» — поехали фотографироваться, — предложила Эмма.
Они поднялись в гору на Большую Лубянку. В доме князя Голицына размещалось ателье М. Волкова. Мастер самолично установил на улице треногу, накрылся темным бархатом и сфотографировал их сидящими в автомобиле.
Эмма вспомнила, как спустя всего лишь два года, на этом же «Панар-Левассоре» они бежали из Москвы, оккупированной новыми хозяевами. У нее на руках была трехмесячная Аннушка.
Супруги направлялись на юг, где власть принадлежала белым. Однако уже в Туле их задержали большевики. После недолгого разбирательства автомобиль отняли, а горячо возражавшему против этого самоуправства Владимиру Григорьевичу какой-то солдат в грязной шинели размозжил прикладом голову. Все это было проделано на глазах Эммы. Бойцы революции, стоявшие рядом, одобрительно гоготали. Муж лежал в большой луже крови, уткнувшись лицом в землю, и тело его трепетало в предсмертных судорогах.
Убийца, вытирая кровь с приклада, довольный собой, весело осклабился, гнусно подмигивая товарищам:
— А бабешка, того, аппетиктная! Можа попробуем? Вить всем достанется, да еще другой роте останется?
И не избежать бы Эмме надругательства, кабы в этот момент не появился красный командир с маузером на боку. Уснащая речь виртуозными ругательствами, он обрушил свой гнев на солдат, уклонившихся от какого-то задания.
Эмма, прижимая к груди Аннушку, поспешила скрыться.
…Испив до дна несказанную чашу мучений, она, наконец, добралась по железной дороге до Одессы. Здесь во Французском консульстве ей удалось раздобыть въездную визу во Францию.
Путь в столицу этого государства лежал через бурное осеннее Черное море — в Стамбул.
В трюме греческого пароходика, в гнусной тесноте, без самых элементарных удобств, среди узлов и чемоданов, Эмма добралась-таки до турецкого берега. Как удалось сохранить малютку-Аннушку, то ведает лишь Создатель! Из добра уцелели лишь небольшой узелок с детской одеждой да семейная шкатулка с реликвиями.
В Париже жизнь поначалу показалась сказочной: никого не водили на допросы, никого не ставили к стенке, а в лавках было сколько угодно хлеба — пшеничного.
Поселилась Эмма на красавице Пасси, у своей тетушки, с незапамятных времен проживавшей на берегах Сены. У тетушки была небольшая рента, которой они кормились и жили, в общем, безбедно.
Впрочем, скука была ужасающей. Среди многочисленной русской эмиграции близких по духу людей не нашлось. Лишь порой попадался навстречу высокий синеглазый человек. Это был Иван Бунин, живший по соседству на улице Оффенбаха. Он уже раскланивался с Эммой, а однажды обратил внимание на Аннушку:
— Какая красивая девочка! Особенно прекрасны глаза — большие, темные, и уже сколько в них лукавства. Очень похожа на вас, сударыня.
Когда Аннушке исполнилось четыре года, Эмма стала учить ее игре на фортепьяно. У девчушки оказались хорошими слух и чувство ритма. Уже через год она свободно играла несложные пьесы.
Любила Аннушка рисовать в альбоме. Особенно удачно у нее получались цветы и птицы. Бабушка даже показывала рисунки своим знакомым и все удивлялись, что в столь раннем возрасте получается столь искусно.
По воскресеньям мать и дочь отправлялись гулять в Булонский лес. По аллеям текла оживленная праздничная толпа, и Аннушка порой восторженно замечала:
— Мамочка, какие красивые наряды. Когда я вырасту большой, то сошью себе такое, как вон на той даме — с оборками.
— Конечно, моя радость, — отвечала с нежной улыбкой Эмма, — ты будешь иметь много богатых платьев.
— А ты, маменька, видела, какое я сшила платье для куклы «Сони»? Даже маленький кружевной воротничок приделала. Только у меня нет нужной пуговки, следует впереди пришить. Ты, маменька, дашь мне пуговку?
— Дам, самую красивую! Какую сама, Аннушка, выберешь, ту и возьми.
…Когда вернулись домой, Эмма очень хвалила работу дочери:
— Прекрасное платьице! И голубой шелк идет этой кукле.
— А пуговку?
— Вот, розового цвета. Это от моего старого платья…
Малышка долго и старательно пришивала пуговку — вышло на славу.
Вся жизнь, весь мир Эммы сосредоточился на дочери. Она готова была отказывать себе в самом необходимом, лишь бы ее Аннушка была накормлена, напоена, здорова и хорошо одета.
Если с дочерью случалось легкое недомогание, то Эмма тут же вызывала домашнего врача, старого профессора, большого специалиста по детским болезням.
И профессор, чистенький, улыбчивый старичок, всегда оказывал необходимую помощь: ставил верный диагноз, выписывал те лекарства, которые могли в быстрейший срок поставить на ноги ребенка.
Но однажды профессор помочь не сумел. Бушевал зеленью май, воздух был напоен сладкими ароматами первых цветов. Вернувшись после очередной прогулки по Булонскому лесу, Аннушка отказалась от обеда и прилегла на козетку.
Эмма поначалу не придала всему этому никакого значения, полагая, что девочку утомила дальняя дорога. Но к вечеру Аннушка почувствовала себя совсем плохо: ее знобило, голова разламывалась от боли, температура подскочила под сорок градусов.
Пришел профессор, заглянул больной в рот, постучал по ребрам, померил пульс и заявил:
— Обычная простуда. Давайте побольше чая, лучше с медом или хотя бы с вареньем. Вот рецепт на лекарство. Завтра утром зайду. Температура должна упасть.
Утром, действительно, вновь пришел доктор. Он был бодренький, чистенький, довольный собой. Снимая макинтош, с улыбкой овседомился:
— Ну, как наша юная пациентка? Микстуру давали? Потела? Ей стало лучше?
Эмма с мольбой простерла к нему руки:
— Профессор, Аннушке стало совсем плохо! Придумайте что-нибудь. Моя милая девочка вся в огне, временами бредит. Прошу вас…
Доктор сразу стал серьезным. Тщательно вымыв с мылом руки, он поднял рубашечку девочки, пребывавшей в беспамятстве, вновь долго стучал ей по ребрам, узнавал температуру, прослушивал, задавал вопросы Эмме и вновь выписал какой-то рецепт:
— Попробуйте, мадам, дать это лекарство. Должно подействовать. Если станет совсем плохо, позвоните мне в любое время суток. До свидания. — Забрав гонорар в конверте, доктор надел свой макинтош и, постукивая тростью по ступеням, удалился.
…Ближе к полудню дыхание больной сделалось частым и прерывистым. В ее груди словно что-то клокотало, лихорадочное тело конвульсивно вздрагивало.
Эмма металась возле больной, но не знала, что предпринять. Она позвонила профессору, но того не было дома.
Вдруг Аннушка захрипела особенно громко, втянула в себя воздух и остановилась на половине вздоха. Все тело ее натянулось, и она умерла.
Хоронили ее на небольшом пригородном кладбище, где уже покоились останки французских родственников тетушки. Был послеобеденный час теплого летнего дня. Солнце разбрызгивало между крестов и памятников спокойный красноватый свет. Вокруг царила зачарованная тишина. Сладко пахло хвоей и травами.
Аннушка лежала в небольшом, обитым голубым шелком, гробу. Ее прекрасное детское личико было таким же спокойным и тихим, как этот полдень. Казалось, что ребенок всего лишь вкушает крепкий сон, если бы не выступающий желтый восковой лоб со словно приклееными темнорусыми волосами, навсегда потерявшими свою пышность.
После того, как священник отпел новопреставленного младенца Анну, несколько человек, сопровождавших гроб стали прощаться с усопшей. К Эмме подошел бледный узкоплечий человек лет 35-ти, одетый в несколько старомодный костюм, но сшитый из дорогого английского сукна. Он галантно поклонился и глуховатым голосом произнес:
— Я смотритель кладбища. Потрясен вашим горем. Примите мои соболезнования. У меня самого шестилетняя дочурка, и мне ваше горе понятно. Могильщику я приказал выложить могилу дерном. Мы будем охранять покой дорогого для вас человека.
Эмма положила в гроб куклу — ту самую, для которой еще на прошлой неделе Аннушка сама шила платье.
…Вскоре над могилкой вырос аккуратный холмик, украшенный цветами.
На девятый день после смерти дочери, Эмма вновь приехала на кладбище. Могилку она застала в полном порядке: та была уже уложена дерном, украшена цветами, полита водой и зелень хорошо пошла в рост.

«Следует дать смотрителю чаевые, он весьма заботлив», — подумала Эмма, еще верная российским привычкам раздавать деньги.
Погрустив сколько хотелось возле могилки, Эмма направилась к домику смотрителя. Еще издали она увидала на пороге маленькую девочку, которая, сидя на деревянном крыльце, укачивала большую куклу. «Это дочь смотрителя, он говорил о ней», — догадалась Эмма.
Подойдя к крыльцу, гостья произнесла:
— Маленькая, где твой папочка?
Девочка, не переставая баюкать куклу, тихо произнесла:
— Папочка пошел кормить свинок. У нас хорошие свинки.
Эмма уже повернула прочь, как вдруг ее словно молнией поразило: «В какую куклу играет девочка? Ведь это та „Соня“, что я положила в гробик!»
Она вновь повернулась к ребенку и с ужасом убедилась, что была права: на кукле был небольшой кружевной воротничок и розовая пуговка, которые пришивала Аннушка.
Пытаясь и боясь осмыслить, что произошло, Эмма поспешила в ближайший полицейский участок.
Уже в тот же вечер большой наряд полицейских нагрянул на кладбище. В присутствии судебных медиков и понятых отрыли могилу Аннушки Жаме. Гробик лежал на месте. Его подняли и вскрыли. Внутри было пусто.
Раскопали некоторые могилы: гробы лежали на месте, покойных в них не было.
Началось следствие, которое дало сенсационные и леденящие кровь результаты
Выяснилось, что смотритель в первую же ночь после похорон приходил с фонарем к могиле и откапывал гроб. Вынув покойника, он взваливал его себе на плечи и относил домой. Стянув с мертвеца одежду, он кое-что оставлял для личной нужды, остальное раз в месяц отвозил на Блошиный рынок. Сами же трупы шли на корм свиньям, которые славились в округе своим нежным мясом, охотно покупались лавочниками.
Не забывал рачительный смотритель и про золотые зубы: он кусачками выламывал их изо рта мертвецов. В посудном шкафу, между сахаром, солью и крупами, нашли большую банку, основательно заполненную такого рода золотом.
Следствие установило, что еще в подростковом возрасте этот человек отличался большими странностями. Его родители были из пролетарских слоев. Они работали уборщиками на Бирже труда с самого момента ее основания, то есть с 1886 года. Жили они в двух маленьких комнатушках полуподвала. И вот однажды, когда будущему смотрителю было одиннадцать лет, в квартирке установился удивительно зловонный запах. Родители никак не могли открыть причину токого явления. Но как-то отец увидал, что сын потихоньку приподнял в чулане половую доску и с явным наслаждением втягивает воздух, идущий снизу.
Оказалось, что сын поймал на улице кошку, изрубил ее на части топором, спрятал в чулане и ходит нюхать зловонье разлагающегося месива.
Учился он неплохо, но однажды родителям пришлось за свое чадо выплачивать кругленькую сумму: его поймали, когда в актовом зале он ножом резал дорогую мебель.
Соседи застукали этого ребенка за другим дурным занятием: на протяжении двух месяцев ему удавалось тайком от всех срывать почтовые ящики.
Страсть к разрушению и к разрушенному у этого человека была очевидной и сохранилась навсегда.
В 15— летнем возрасте он бросил учебу и устроился в морг обмывать трупы. Усердие его было исключительным. Он за мертвецами ухаживал столь любовно, что начальство ставило его работу в пример.
Но усердного служителя вновь поджидал конфуз. Однажды сторож застал его в голом виде, пытавшимся совокупиться с женским трупом.
Изгнанный из мертвецкой, извращенец отправился работать на кладбище могильщиком. Здесь ему удалось сделать «карьеру» — стать смотрителем.
Остальное читателю известно.
Добавлю, что суд приговорил кладбищенского смотрителя к 6,5 годам заключения. В камере этот человек развлекался тем, что рисовал на бумаге голых женщин, а затем «расчленял» их — отрывал головы, руки, ноги и играл, словно несмышленыш, этими частями изображения.
Что касается Эммы Жаме, то судьба, кажется, смилостивилась к ней. Спустя полгода после смерти Аннушки, Эмма познакомилась с русским моряком, у которого было какое-то хозяйство в Аргентине. Они поженились и перебрались в это южноамериканское государство.
Эмма писала в Париж тетушке Лацре. Из писем явствовало, что живет теперь она неплохо, лишь тоскует по утраченной России и счастливым дням молодости.
ВАЛЕРИЮ И ЕЛЕНЕ СНЕЖКО
Когда начался судебный процесс по делу, о котором наш рассказ, газеты пристально следили за его ходом. И общий тон их выступлений сводился к тому, что подобные преступления совершаются, без сомнений, гораздо чаще, чем они доходят до суда. Злоумышленников трудно выявить по той причине, что главный свидетель их преступления замолчал уже навеки. Однако великолепно работали российские сыщики, Во все времена их отличали исключительная находчивость, знание своего дела и остроумное решение следственных задач.
В декабре 1893 года на Петербургской стороне, в собственном доме, обложенная подушками и грелками, умирала старушка Анна Пискунова. Умирала она долго, не торопясь, с чувством собственного достоинства.
Пискунова была интересной личностью. Она относилась к тому племени, которое в народе с легкой руки классика прозвали «Плюшкиными». Поначалу такие люди берегут каждую копейку в заботе о будущем. Но мало-помалу эта бережливость становится патологической скаредностью. И чем ближе старость и естественное освобождение от всего земного, тем они больше трясутся над каждой копейкой. Скопидомы подавляют в себе многие благие желания, отказываются от радостей жизни. И все это совершается в насмешку над здравым смыслом.
Пискунова происходила из мещан. Она овдовела лет двадцать назад. Ее муж — простой крестьянин, начинал с ломового извоза. Но умело повел дело и сколотил большой капитал. Теперь старушка владела большим двухэтажным домом на каменном цоколе, многими драгоценностями и наличными (частью, впрочем, в процентных бумагах) в количестве значительном — более 150 тысяч.
Драгоценности и деньги хранились в большом сундуке, стоявшем в спальне — у изголовья Пискуновой.
Можно помянуть и про несколько пудов столового серебра, которым были набиты ящики буфета и комода, также украшавшими спальню.
Все эти сокровища служили причиной того, что в спальне старушки с раннего утра и до позднего вечера вертелись постные физиономии тех, кто имел надежду от них, то есть от сокровищ, поживиться.
Пискунова была нрава беспокойного и переменчивого. Она частенько меняла свои привязанности. И в соответствии с этим, одних от себя отлучала, других приближала к собственной персоне. В соответствии с этим, она регулярно переписывала свое духовное завещание.
Но были два лица, которые пользовались постоянной симпатией нашей Плюшкиной в юбке (именно так ее прозвали окружающие). Это главный наследник капиталов — двоюродный племянник Михаил Хайлов, 47-летний медведеподобный человек, с нутряным голосом, бесконечно длинными усами, исчезавшими где-то за ушами, и вечно сердитым взглядом темных выпученных глаз. Хайлов служил по жандармской части, имел подполковничьи эполеты и по табели о рангах занимал седьмую позицию, то есть был надворным советником.
Другим важным лицом был дворник Пискуновой — Капитон Комаров, с окладистой бородой, обрамлявшей физиономию цвета кирпича, и в сапогах бутылками, ужасно скрипевшими при малейшем движении, за что сапожнику было дополнительно заплачено два рубля.
Капитон состоял при Пискуновой главным советником, юристом, утешителем, хранителем добра. Одним словом, был незаменимым человеком, на которого хозяйка полагалась как на самое себя.
Вот эти двое словно стояли над схваткой, которая последнее время шла в доме древней старушки.
В большой спальне, слабо освещенной керосиновой лампой, на громадной по-барски кровати, лежала 82-летняя Анна Пискунова. Самочувствие ее вечером 25 декабря было хорошим. Она обратилась к сидевшей в подножии сухонькой бабешке, одетой в какое-то допотопное, явно с чужого плеча, шелковое платье. Это и была одна из враждующих сторон — Анна Чеброва. Про себя она с гордостью говорила: «Моя специяльность — ухаживать за недужными». Впервые в доме Пискуновой она появилась месяца два назад, поставила больной банки и весьма успешно: старушке сразу полегчало. За это Чебровой была отведена небольшая комнатушка на первом этаже и она была зачислена на довольствие.
Неожиданно мощным голосом умирающая Пискунова гаркнула:
— Эй, Анна! Вчерашние щи не все схлебали? Принеси-ка мне тарелку, только чтоб горячие были. А что Беляевы делают? Небось опять лимонад в столовой пьют?
Чеброва, быстро оглянувшись на дверь, наклонив голову к уху старушки, быстро зашептала:
— Если б только лимонад! Матушка, Анна Ивановна, ведь это чистый разбой: Беляевы сегодня полбутылки вишневой наливки вылакали. Ни стыда, ни совести! Меры хоть какие принять…
— Меры? — раздраженно переспросила Пискунова. — Сбегай, позови Капитона.
Явился Капитон, низко поклонился:
— Что, барыня, прикажете?
— Ты, Капитоша, принеси из столовой наливку и поставь у меня в спальне. На вот ключ, закрой в буфет.
Тем временем Чеброва успела налить щей и с тарелкой предстала перед старухой. Плаксивым голосом она заговорила;
— Матушка, вот со дна собрала, остатки. Все Беляевы подъели. Ну что за ироды, ей-Богу? Придет ваш племянничек, так ему и налить нечего…
— Ну, мой подполковник щи у меня никогда не ест. Разве только рюмку водки выпьет. А все-таки вы, разбойники, меня вчистую разорите. Завтра первое не готовьте. Надо пост крепче соблюдать. Брюхо набивать — нечистого тешить, — говорила Пискунова, вылизывая остатки капусты с тарелки. — Все! Позовите мне Беляевых, а сами идите. Эй, Капитон, лампадку подверни. Ишь, сколько масла расходуем. Не дом — прорва бездонная!
Как читатель уже догадался, супруги Беляевы были стороной, противоборствовавшей с Чебровой, бабешкой алчной и кляузной. Арсений Беляев приходился дальним родственником Пискуновой. Но это родство было таким, какое в народе зовут «седьмой водой на киселе». Оно не давало серьезной надежды на долю в наследстве. Беляевы добивались его собственным усердием.
Призвав супругов к себе, Пискунова сказала:
— Арсений, что-то в плечо вступило. Разомни-ка малость… Ой, голубчик, от тебя несет, как из портерной лавки. Вишневкой опять баловался? Да не дыши на меня, а то и я захмелею!
Бережно разгоняя застоявшуюся старческую кровь, Арсений, 31-летний румяный здоровяк, хорошо знакомый постоянным посетителям биллиардных и трактиров, промычал в сторону:
— Виноват-с, от инфлуенции действительно принял рюмку. Это прописал, барыня, ваш лекарь Тривус.
— Буде врать! Ой, полегче! Ишь, силу девать некуда. И руку мне потри. Прошлый раз хорошо сделал. — И чуть повернув голову к супруге Арсе-
ния, приказала: — Сусанна, ты намедни раз что-то про несчастную любовь рассказывала, а я заснула. О чем ты мне талдычила, голубка?
Беляевы пришлись ко двору Пискуновой совершенно с неожиданных сторон своих дарований. Арсений, в свое время года два проучившийся в медицинской академии, был допущен разминать старушечьи члены, замлевшие от долгого лежания. Что касается его супруги, бывшей лет на пять старше Арсения, то та услаждала слух Пискуновой различными анекдотами, почерпнутыми из популярных исторических книг Пыляева и Карновича.
В пору первой молодости Сусанна отличалась совершенно исключительной красотой. Поговаривали, что в нее был страстно влюблен один из великих князей, пассией которого она была когда-то. Во всяком случае, эта дама, вопреки нужде, порой щеголяла дорогими ювелирными украшениями, вполне соответствующими великокняжеским подношениям.
Великолепная рассказчица, Сусанна, устроившись в кресле возле изголовья старушки, начинала повествовать:
— В прошлом веке в Москве жил Прокофий Демидов. Богатств было — не сосчитать! Стал он своих дочерей замуж устраивать — кого за фабриканта, кого заводчику отдал. А одна заупрямилась. «Я, говорит, только за благородного дворянина выйду!» Папаша был вспыльчивый. «Раз ты такая глупая, будет тебе благородный», — вынес он резолюцию. Приказал написать объявление и вывесеть на воротах. Идут прохожие, читают и удивляются:
«В этом доме имеется на выданье осьмнадцати годков девица. Наружность приятная, характер строптивый. Ежели кто из дворянского сословия пожелает, спросить хозяина».
Как раз шел мимо захудалый дворянин по фамилии Станиславский. Он пришел к Демидову и, даже не взглянув на невесту, попросил ее руки. Сыграли свадьбу. А этот Станиславский, — Сусанна бросила косой взгляд на мужа, — оказался игроком и пьяницей. Папаша Демидов дал в приданое всего 9 рублей 99 копеек. Так дочка и маялась всю жизнь. А те, которых отец сам пристраивал, прожили в довольстве.
— Правильно, — одобрила Пискунова. — Родителев надо уважать. А что, сам-то уже помер, чай?
— Больше ста лет назад! После него осталось одних крепостных более 30 тысяч, да еще заводы и рудники…
Старушка печально вздохнула:
— Несправедливо это, прости Господи! Копил, копил, а наследникам все задарма досталось.
— Это вы правильно говорите! — тряхнула пышными волосами Сусанна. — Эти наследники только и ждут, чтобы пропить и прогулять с актерками чужое, не ими накопленное добро. И вообще, в мире много несправедливого. Вот как раз сегодня я прочла анекдот про Павла Петровича.
— Это что ль про покойного императора?
— Про него. Интересный был человек! Порой чудил, но иной раз блистал мудростью. Вот случай из времен этого государя. Жил-был гусарский ротмистр Александр Светликов, уроженец московский. Из себя красавец, рост богатырский, по службе старательный и исполнительный. Привел он свой эскадрон на дневку в поместье близ Каменца, это в Подолии. Пока солдаты размещались, ротмистр успел отобедать у помещика и уселся играть в карты. Между тем в дом помещика пришел вахмистр и требует у лакея:
— Доложи незамедлительно, что мне по службе надлежит сделать срочный доклад господину Ц ротмистру Светликову!
Тот пошел к игрокам. «Так и так, говорит, со срочным докладом вахмистр желает вас видеть!»
Ротмистру не до пустяков, у него карта хорошая косяком идет. Махнул рукой:
— Пусти сюда!
Вошел вахмистр, рапортует:
— Ваше благородие, все по вашему приказу исполнено, гусары по квартирам размещены!
— Так чего же ты мне под руку играть мешаешь?
— Лошади не кормлены!
— Отчего?
— Сено нашел, да жид им торгует, полтинник за пуд требует.
— Полтинник, говоришь? Да-с, негоже… А сено-то хорошее хоть?
— Да жид твердит мне: «Заливное, заливное!» А какое там заливное, осока одна. Такому гривенник — красная цена.
— Купи у других.
— Так вся сила в том, что этот продавец один. Вот шкуру и дерет!
В это время помещик объявил, что карты ротмистра биты. Тот рассердился, шпорами под столом звякнул, да зарычал:
— Какой ты в ж… вахмистр, если с каким-то жидом не умеешь разобраться!
— Ваше благородие, да я торговался-торговался, он, паразит, не уступает ни копейки! Не подыхать же лошадям?
Тут ротмистр расплылся в довольной улыбке, объявил:
— У меня шесть леве — малый шлем! — и сдвинул к себе выигрыш. И наконец, повернул голову к вахмистру:
— Слушай-ка, братец! Хоть повесь своего жида, а сено у него достань…
Еще с часик поиграл бравый ротмистр, пошли они с помещиком ноги размять, по свежему воздуху походить. Вдруг видят: народ толпится, обсуждают что-то. Подошли ближе, глазам не верят. На дубу в петле человек болтается.
— Что это такое? — рассвирепел ротмистр. Тут как тут — вахмистр. По-уставному вытянулся, докладывает:
— Сено в количестве трех с половиной пудов и полпуда овса для фуража достал. Жида, как изволили приказать, повесил! Больше издеваться над русскими гусарами не будет.
Старушка Пискунова весело расхохоталась:
— Смешные небылицы мне рассказываешь! Сусанна тихо, но убедительно произнесла:
— Это — истинная правда! В книгах серьезных написано.
— Ну и что дальше было? — старушка легла лицом вниз, и Арсений стал разминать ей икры.
— А дальше… дальше деваться было некуда. Такое происшествие не скроешь! Несчастный ротмистр написал рапорт, в котором благородно
взял на себя всю вину, полностью обеляя вахмистра, как лицо подчиненное.
Дело дошло до самого государя. Павел издал указ… — Сусанна взяла книгу в зеленом переплете, которую предусмотрительно принесла с собой. — Вот что повелел император:
«Ротмистр Светликов за глупые и незаконные приказания разжалывается в рядовые, дабы остальные на сем дурном примере острастку получили». Но тут же высочайшим приказом распорядился: «19 сентября 1797 года рядовому Светликову такого-то полка вернуть чин ротмистра с производством в майоры за введение такой отличной субординации в вверенной ему команде, что и глупые его приказания исполняются беспрекословно».
В спальне на некоторое время воцарилось молчание. Лишь старушка тяжело посапывала под энергичные разминания Арсения. Наконец, отдуваясь, она произнесла:
— Уф, спасибо, утешил ты, Арсений, мои старые косточки! И тебе, Сусанночка, спасибо большое. Оченно трогательная история, хотя, по человечеству, этого самого… торгаша жаль: своим ведщдобром торговал! Сколько хочет, столько и требует. Каждому своей выгоды хочется!
Сусанна возразила:
— А чего нехристя жалеть? Подумаешь — вздернули! Говорят, смерть, когда давят, быстрая и даже приятная. Вон, сами небось знаете, даже императора Павла Петровича удавили, и то сошло. В ночь с 11 на 12 марта 1801 года это произошло.
Пискунова, блаженно потягиваясь под шелковым одеялом, вздохнула:
— Рази удавили государя? У кого же рука на помазанника поднялась? — Помолчала, удивилась: — Надо же! Я как раз на свет появилась в ночь на 12 марта первого года.
— Совпадение потрясающее! — согласилась Сусанна.
Старушка продолжала:
— Вот так и живем: один на свет появляется, другого давят. Нехорошо это! Не по Божески. Ну, Господь с вами, миленькие. Идите, попейте чаю, да спать скоро можно ложиться.
Все ушли. Пискунова стала молить Господа о прощении грехов, о здравии ближних и дальних.
Прошло минут пятнадцать, и в спальню, поскрипывая сапогами, явился Капитон. Он почтительно доложил:
— Барыня, приехали ваш племянник Михаил Захарович да доктор Тривус. Прикажете допустить?
— Сначала-то пусть лекарь войдет. Не при племяше же он осмотр меня станет производить? Зови.
Козлобородый, в золотом пенсне, доктор Тривус долго слушал Пискунову, измерял пульс, просил пациентку промычать букву «э», стучал по коленям и делал множество ненужных вопросов, ответы на которые не слушал, ибо знал их:
— Как сон? Что аппетит? Какое ощущение во рту после сна? Стул был? — и так далее.
Окончив осмотр, он попросил пригласить в спальню Хайлова, заигрывающего в гостиной с Сусанной и успевшего, в тайне от мужа, разумеется, назначить ей свидание и уже предвкушавшего сладость победы.
Когда Хайлов вошел, доктор, бесполезный как большинство докторов, стал распространяться по поводу течения болезни Пискуновой и планов терапевтического лечения. Тривусу было выгодно, чтобы старушка долго-долго находилась в нынешнем состоянии, не улучшая его и не ухудшая, ибо от таких пациентов и веры их в то, что именно Тривус — замечательный доктор, лучше всех знающий, как лечить болезнь, зависело материальное положение этого самого доктора.
По этой причине доктор беспокоился не о лечении больной, ибо излечить старость невозможно, а о том, чтобы иметь умный и многозначительный вид. Сам же он знал, что ничему помочь не может и никогда не лечил своих семейных, приглашая к ним другого доктора, который тоже ничего не знал и который тоже создавал себе репутацию знающего и умел напускать на себя самоуверенный и умный вид.
Изложив общий ход болезни, Тривус протянул Хайлову рецепт:
— Сейчас крайне полезно сделать инъекции нового препарата гормонала. Он изготавливается из перисталического гормона, добывающегося из селезенки животных. Он, при введении его в кровь, возбуждает клеточные комплексы, которые, в свою очередь, вызывают перистальтику кишок. Прекрасное лекарство! И еще — вот рецепт! — необходимо употреблять по столовой ложке во время еды три раза в день (не реже!) микстуру триферрола. Он способствует увеличению содержания гемоглобина. В аптеке Феррейна всегда в наличии. Цена флакона — девяносто копеек.
Хайлов вздыхал с покорным видом, кивал головой и обещал все исполнять в точности. Он протянул доктору конверт с пятьюдесятью рублями:
— Это от меня лично за усердие! — И, понизив голос свой до шипения, похожего на тот звук, что получается у паровоза при выпуске пара, спросил: — Можно ли надеяться на улучшение?
Тривус завел глаза и стал рассуждать на тему того, что наука пока не дошла до того, чтобы менять естественный ход событий, и что на девятом десятке лет полного выздоровления не бывает. Но при этом многозначительно добавил:
— Если правильно ставить диагнозы и находить в фармакологии точный эквивалент заболеванию, то в этом случае, вероятней всего, с точки зрения передовой науки, можно возбудить жизненные силы и найти пути поправлению на известный срок организма.
Хайлов, человек неглупый, словно бык, упершийся рогами в глухую стену, помотал головой, ибо ничего из этой наукообразной тарабарщины понять был не в состоянии. Но подполковнику даже не приходила в голову мысль, что и сам доктор в тарабарщине, которую он умел из себя извлекать, сам ничего не понимал. До его разума дошли лишь последние слова докторского монолога:
— В таком состоянии, как ваша тетушка, можно пролежать в постели еще лет пятнадцать. Но можно помереть и через неделю. Здесь предсказания антинаучны. Но будем рассчитывать на лучшее, лечение проводится правильно… — итак далее, и тому подобное.
Доктор заспешил, а Хайлов присел на кресло в изголовье, где часом раньше сидела Сусанна. Он немного поговорил со старушкой, уже уставшей от людей, потом поцеловал на прощание ее в щеку и наконец спустился на первый этаж в каморку дворника Тот попивал чаек с клубничным вареньем, явно из хозяйского припаса. Хайлов прогудел:
— Гляди за порядком в оба! Если, ни приведи Господи, тетушке станет худо, тут же пошли за мной. На сундук ты замок новый повесил?
— Так точно, ваше высокоблагородие Михаил Захарович! Это сама тетушка ваша приказала.
— Дай сюда ключ! — Хайлов грозно глянул в глаза Капитона. Тот было замялся, да поняв, что делать нечего, расстегнул ворот рубашки: на груди, рядом с нательным крестиком, висел ключ. Он снял его.
— А где другой?
— Это, извиняйте, сами Анна Ивановна отобрамши. У них…
— Слушай, Капитон, внимательно. Если все сбережешь, получишь от меня десять тысяч. Вот задаток, — Хайлов протянул тысячу рублей.
Капитон торопливо закланялся, хотел поцеловать руку Хайлова, но тот ее отдернул:
— Не сумлевайтесь, ваше высокоблагородие! Да я вам, как отцу родному, служу! Да чтоб мне…
— Будет, не трясись, как сотник в утро стрелецкой казни. Я поехал. Пес на цепи?
— Обязательно! Уж очень на людей бросается, так я его и не отцепляю никогда. Только меня к себе и подпускает. Сейчас фонарь возжгу и провожу вас до саней.
Большие часы в гостиной глухо пробили десять часов.
…Когда Капитон вернулся в дом, сапоги выше колен были в снегу. Дом погрузился в сон.
Поздний рассвет еще не успел заняться, но подполковника Хайлова разбудил слуга:
— От тетушки дворник прибежал. Требует вас, говорит — срочность какая-то…
Возле дверей, нервно теребя трясущимися руками заячьий треух, стоял Капитон. Увидав Хайлова, он всхлипнул:
— Ваше высокоблагородие, осироте-ели мы. Тетушка ваша Анна Ивановна приказали долго жить.
— Как? — выпучил глаза Хайлов. — Отчего?
— В начале восьмого утра прибегла ко мне Чеброва, говорит: «Зашла я к хозяйке, а она, кажется, не дышет». Побежали мы наверх, а она, сердечная, уже умершая. Я зеркало ко рту приставил, а испарений на нем не отпечатлелось. Как мы теперь жить будем? Ааа! — запричитал Капитон.
— Полицию вызвал?
— Как приказывали, ваше высокоблагородие. Все опечатано. Да это еще не все.
Хайлов удивленно поднял брови:
— Как это «не все»? Еще кто-то помер? Капитон с возмущением произнес:
— Чеброва стервой оказалась! Я когда в участок побежал, приказал ей охранять дом. И пуще глаза беречь добро от Беляевых. Они люди хорошие, честные, а проследить даже за честным человеком — это всегда полезно. Возвращаюсь из участка с двумя господами полицейскими, вдруг себе замечаю: из нашей калитки какая-то фигура — шмыг! Мы за ней. Да и куда фигура эта уйдет, если она с тяжеленным мешком, на плечах тащит. Догнали. Господин полицейский, как положено, для начала разговора по морде съездил, чтоб, значит, не бегала. К фонарю подтащили, глянул я, а это…Чеброва. А в мешке полным-полном серебряных ножей, ложек, вилок. Пуда два. Как это сил достало бегать с такой тяжестью?
— Где она?
— Господин частный пристав отвел ее в полицию. Там она под арестом.
— Эй, Тихон, запрягай! — приказал Хайлов своему кучеру.
…Солнце уже подымалось на краю перламутро-чистого неба. В начале третьей декады валил густой снег, но уже второй день стояли тихие денечки с приятным легким морозцем.
В доме Пискуновой была та значительная тишина, которая бывает в присутствии покойника. Хайлов увидал тетушку, лежавшую на своей постели, глубоко ушедшую затылком в мягкую перьевую подушку. На глаза забыли наложить пятаки и теперь они с непередаваемым выражением ужаса глядели в потолок. Из уголков рта, скорбно опущенных сниз, бежала пузыристая пена. Но что поразило Хайлова, так это та жалостливо-плаксивая гримаса, которая застыла на челе усопшей.
Появившийся возле покойной доктор Тривус приподнял одеяло, произвел беглый осмотр и через две минуты протянул Хайлову свидетельство о смерти:
«Такая-то, из мещан, 82 лет от роду скончалась вследствие хронической сердечной недостаточности, остановки сердца…»
Возле усопшей уже суетился человечек приличной наружности в длинном сюртуке из хорошего тонкого сукна. Коленчатым аршином человечек, в котором жандарм узнал гробовых дел мастера, измерял покойную — длину и ширину. Записав что-то в крошечный блокнот с медной крышечкой, гробовщик учтиво поклонился Хайлову и сладким голосом тихо промолвил:
— Ежели изволите, сударь, меня помнить, так как я хоронил вашего батюшку позапрошлым летом, мы держим гробовую торговлю и все необходимое к вашим услугам. Вот моя карточка.
Хайлов прочитал:
«Гробовых дел мастер ШУМИЛОВ Илларион Автономович.
Литейный пр., 50. Обслуживание круглосуточное. Всегда рады!»
— Дело спешное, — продолжил гробовщик, — а у вас скорбь душевная, с чем мы вам сочувствуем с полным пониманием-с! Материалы у нас самые превосходные. Стараемся не выгоды ради, а исключительно по причине сохранения репутации. Хоронить прикажете по первому разряду?
— Ну! — прогудел Хайлов.
— Тогда можем предоставить гроб наилучшего вечного качества с двойной просмолкою и обивкою жестью, чтоб лежать было без сырости. Крыть прикажете венецианским бархатом? Канитель на шнуры и кисти у нас исключительно лондонской работы. Подушки головные и нижние крыты белым атласом. Катафалк обобьем черным дра-де-дамом и шесть канделябров позолоченных к оному. Одежду для швейцара полную заказываете? Затем, печальная колесница о шести лошадях с выдвижною на механике доскою, да усыпание скорбного пути зеленым ельником от родного порога до самого кладбища…
— Братец, сделай по собственному разумению, только теперь дай мне покой.
— Слушаю-с! Исключительно последний вопрос извольте разрешить: как прикажете приготовлять могилу? Рекомендую-с с наложением двоиного свода в склепе, с ящиком прочной смолки и окраскою модного цвета благородного тона…
В этот момент в спальню вошел, точнее сказать, стремительно влетел ладный парень со смуглым, словно вечно загорелым лицом, и густыми, залихватски закрученными усами. Волосы обрамляли красивое лицо густой темной, кучерявещейся шапкой. Весь его облик дышал мужеством, большой физической и нравственной силой.
Вошедший быстро огляделся и направился к Хайлову.
Это был Николай Жеребцов, всего лишь несколько лет назад почти юнцом начавший служить в сыскном управлении, но уже снискавший себе славу необыкновенно удачливого и ловкого работника. С Хайловым он был знаком накоротке.
Выразив приличное моменту соболезнование, Жеребцов сказал:
— Допросил Чеброву. Что-то крутит она, скрывает. Прикажи, Михаил Захарович, всем выйти из комнаты. Хочу покойную осмотреть. Долго, говоришь, старушка болела?
— Ну, особой болезни не было, так, слабость общая, порой потеря памяти случалась. Вчера была бодрой, я ее навестил вечером, а вот утром…
В это время появился судебный эксперт, большой знаток своего дела Ивановский, чистенький, акуратный и всегда серьезный старичок.
Обнажив тело покойной, внимательно осмотрели его. Дотошный сыщик даже в рот заглянул и задумчиво причмокнул. Потом перевернули Пис-кунову вверх спиной. На задней части шеи, спине, ягодицах контрастно выделялись синюшно-багровые трупные пятна. Профессор надавил на одно, затем на другое. Вначале чуть побледнев, они вскоре вновь обрели свой первоначальный вид.
— Профессор, вас не затруднит измерить температуру тела? — попросил Жеребцов.
— Разумеется, — согласился Ивановский. Он полез в саквояж, достал градусник и провел его в прямую кишку мертвой. (Заметим, что эта методика сохранилась до наших дней.) Затем профессор вновь положил труп на спину и проверил степень трупного окоченения: для сгибания-разгибания конечностей потребовались значительные усилия. Профессор извлек градусник:
— Температура 21 градус, — отметил он. — Если учесть, что мертвое тело остывает приблизительно на градус или чуть больше в час, то смерть наступила где-то около полуночи. Об этом же говорят и другие признаки. Чтобы определенно назвать причины смерти, нам следует оформить постановление на проведение судебной экспертизы…
— Это я беру на себя, — уверил Жеребцов. — Мы доставим труп теперь же в университетский морг. Не задержите, пожалуйста, профессор, с результатами экспертизы.
— Обещаю провести сегодня же!
Жеребцов негромко, так чтобы его не могли слышать за дверями, добавил:
— Пожалуйста, сделайте микроскопическое исследование содержимого под ногтями Пискуновой.
— Хорошо, я себе пометил в памятный блокнот. Могу только утверждать, что свидетельница, которая утверждает, что видела Пискунову живой под утро, вероятней всего ошибается.
Медик уехал.
Хайлов вопросительно посмотрел на сыщика:
— Николай, что ты думаешь о случившемся?
— Мне не хотелось бы ранить твои, Михаил Захарович, родственные чувства, но… — Жеребцов замолчал, обдумывая, как деликатней изложить то, что его теперь волновало. — Мне пришлось видеть немало покойников. Если, скажем, у самоубийц посмертное выражение лица самое ужасное, то у тех, кого насильно лишили жизни, оно, как правило, скорбно-плаксивое.
— Хочешь сказать: как у моей тетушки?
— Совершенно верно. И еще ряд признаков, о которых ты узнаешь позже, говорит, что Пискунова ушла из жизни путем далеко не естественным.
— Но кто злоумышленник? Неужто ничтожество это — Чеброва? — изумился Хайлов.
Жеребцов неопределенно пожал плечами, взглянул на стенные часы. Они показывали половину десятого утра.
— Поехали, вместе допросим Чеброву! — заторопился сыщик.
Чеброва, проведя несколько часов в участке, имела самый несчастный вид. Увидав Хайлова, она со слезами в голосе затараторила:
— Это что ж такое получается? Безвинную женщину упрятали за решетку! Такой грех на свою душу вы, Михаил Захарович, взяли! И за что? За все мое доброе. Ой, пить хочу, вся душа иссохлась!
Жеребцов принес большой графин чистой воды. Чеброва долго пила, затем, закатывая глаза к потолку, продолжила свою жалобу:
— Мое положение какое? Не положение — мука мучинская! Покойница догляда постоянно требовала. Ни днем, ни ночью я не моги уснуть. Ведь она, сердечная, была мне как мать родная! С места не сойти. В ночь раз пять к ней заглянешь. То скажет: «Дай горшок!», то порошок лекарственный, то попить, то…
— Сегодня сколько раз заходила к ней? — Жеребцов пронзил взглядом допрашиваемую.
— Четыре! — резко выпалила Чеброва. — И порошок давала, и горшок выносила, и так просто заходила.
— Когда последний раз видела тетушку живой? — спросил Хайлов.
— На часы не глядела, — неопределенно развела руки Чеброва, — но под утро ближе, может в пять.
— А когда увидала, что хозяйка лежит мертвой?
— В половине седьмого утра. Зашла, а как-то тихо. То барыня, Царство ей Небесное, посапывает и похрапывает, а тут — ни-ни! Я — к Капитону. Тот, прости Господи, в одних подштанниках прибежал, ухом к ейному рту прислонился и говорит: «Не дышет!» И побег в участок…
— А ты?
— Я чего? Я ничего. Мне барыня еще намедни говорит: «Дарю тебе вилки-ложки, что в комоде снизу в ящике». Тут вижу, что пора их домой отвезти. Потому как опишут мое добро и концов не сыщу.
— Может, покойная тетушка тебе еще что подарила? — усмехнулся Хайлов. — Припомни, Чеброва!
— Чего не было, того не было! А это пожертвовала. Отдайте мешок, и я пойду домой.
— Не стоит утруждать ножки! — улыбнулся сыщик. — На санях с ветерком доставим, прямо в дом… иной. И поможем отыскать остальные «подарки»!
Хотела Чеброва что-то сказать, да только нервно зубами ляскнула.
…Менее пяти минут понадобилось Жеребцову, чтобы в комнатушке Чебровой найти уворованное. Из подушки он извлек зашитые туда 18 тысяч рублей.
Преступница грохнулась на колени, застонала;
— Виновата, всю ночь крепко спала! Утром только первый раз зашла к матушке нашей… а она… мертвая. А когда Капитон убег из дому, вот я и согрешила… схватила из сундука, что под руку попалось. Ах, бес попутал! Беляевы еще дрыхли. Думала, что никто не догадается. Ах, срам!
Чеброву отправили в тюрьму, а сами отправились обратно в дом Пискуновой.
Там их уже поджидал вызванный нотариус. Он огласил завещание покойной, по которому десять тысяч получал дворник Капитон, десять супруги Беляевы и пять Чеброва. Все остальное, включая дом, отходило к Хайлову.
В присутствии понятых вскрыли сундук. В нем обнаружили всего лишь около десяти тысяч рублей и несколько ювелирных безделушек. Остальное непостижимым образом исчезло.
— Грабеж! — зарычал Хайлов. — Николай, выручай! Найди воров, найди тетушкины богатства.
Осмотрели весь дом — нигде ничего интересного не обнаружили.
— Время — обедать, а мы еще не завтракали! — резонно заметил Жеребцов. — На голодный желудок только кошки хорошо мышей ловят, а сыщику кусок мяса надо. Хоть и грех сейчас это, пост все-таки, но грех наш маленький, проститься.
Оставив урядника и городового наблюдать за порядком, Жеребцов и Хайлов оделись и вышли на крыльцо. Был чудный солнечный день. Дым из труб тянулся вверх. Зимние птахи весело суетились возле ярких плодов рябины, росшей возле дома.
— Терентий, можешь не запрягать! — распорядился сыщик. — Мы зайдем в ближайший трактир, — говоря так, он внимательно обозрел ближайшее пространство.
Вдруг во двор вошел университетский посыльный. Пес, гремя цепью, стал бросаться на него. Но длина привязи была так рассчитана, что свирепый зверюга не дотягивался до пешеходной дорожки около двух аршин.
— Это вам, господин Жеребцов, — посыльный протянул пакет с сургучными печатями.
Хайлов удивился:
— Ивановский уже успел провести вскрытие?
— Даром что старик, а работает с молодой энергией! — довольным тоном проговорил сыщик. — Впрочем, я догадываюсь, что написал уважаемый эксперт…
Хайлов с любопытством воззрился на приятеля:
— Интересно, проверим, Николай, еще раз твою сметку. Так, какие же причины смерти называет профессор? Выскажи предположение…
— Он сделал вывод, что «смерть наступила в результате обтурационной асфикции, возникшей в результате закрытия мягким предметом, вероятней всего подушкой, дыхательных отверстий рта и носа…». А теперь вскрой пакет и почитай, — Жеребцов хрустнул сургучом.
Хайлов начал читать и глаза его от удивления стали еще более круглыми:
— «Смерть А. И. Пискуновой наступила в результате обтурационной асфикции… гм… мягким предметом». Ну, Николай, ты гений русского сыска! Кто-то сравнил тебя с заграничным Лекоком. Нет, ты выше! Скажи, как ты определил удушение подушкой?
— В свое время открою секрет. А сейчас ответь: это лающее существо с цепи иногда спускают?
— Боже сохрани! Кроме дворника, он никого к себе не подпускает.
— Другие собаки по двору не бегают?
— Никогда не видел.
— Тогда приготовься к фокусу: сейчас мы вернем твои сокровища. Эй, дворник, иди-ка сюда! Сними пса с цепи и закрой его в дровяном сарае.
Капитон, вертевшийся возле ворот, от неожиданности и испуга, кажется, едва не грохнулся на снег. Он залепетал:
— Это, тово, никак нельзя… потому кусается… Жеребцов достал из бокового кармана револьвер:
— Придется застрелить. Не жалко псину?
Капитон направился к ощетинившемуся кобелю, освободил от цепи, крепко держась за ошейник. Он поднял глаза на сыщика, мучительно о чем-то раздумывая. Вдруг заорал:
— Ату его, взять! — и направил пса на Жеребцова. Сыщик не успел снять револьвер с предохранителя, как зверюга вцепился в его левый локоть. От толчка сыщик едва удержался на ногах.
И тут пригодилась железная хватка Хайлова. Он схватил собаку за ее пушистый и длинный хвост, отодрал от Жеребцова и, держа на вытянутых руках болтавшегося вниз головой зверя, с размаху бросил его в открытую дверь сарая, успев, впрочем, ее захлопнуть.
Воспользовавшись замешательством, Капитон выскочил за ворота, ударом кулака сбил с облучка ямщика и, дико гикая, понесся по улице.
— Между прочим, пальто у меня было новое, — многозначительно проговорил Жеребцов. — Шестьдесят рубликов портному отвалил.
— Пальто за мною, — покорно вздохнул Хайлов. — И угощение. Только прежде следует принять меры к задержанию Капитона. Кто бы мог подумать, что он окажется убийцей? Я из аптеки позвоню в жандармерию, самому командиру — полковнику Георгию Петровичу фон Медему. Дворник, думаю, попытается выбраться своим ходом из города…
Оперативные рассуждения Хайлова были прерваны… самим Капитоном. Двое здоровых городовых конвоировали дворника, предварительно связав ему за спиной руки. Увидав дико несущегося Капитона, городовые вскочили на подвернувшиеся им саночки, запряженные парой, догнали беглеца и взяли в плен.
Городовые выслушали благодарность и приказание подполковника:
— Доставить подозреваемого в ближайший участок!
После этого Жеребцов весело провозгласил:
— Приступаем к предпоследней сцене нашего спектакля под интригующим заголовком — «Удавленная старушка, или наказанный порок». — Он поманил к себе супругов Беляевых, наблюдавших сцену с дворником:
— Не откажите в любезности, еще раз будьте понятыми!
Во дворе воцарилась напряженная тишина, даже уставший от лая пес примолк в сарае. Сыщик, с легкой улыбкой на устах, подошел к конуре, осмотрел ее и обратился к Арсению Беляеву:
— Пожалуйста, помогите! — и они вдвоем перевернули собачий домик. Затем Жеребцов принес из сеней топор и ловким ударом вышиб одну из досок днища. Полик был двойным, дабы подстилка в конуре не мокла. Запустив руку в образовавшееся отверстие, сыщик вынул увесистый сверток и ласково обратился к Беляевым и обомлевшему Хайлову:
— Милости прошу, господа зрители, под крышу осиротевшего дома!

Все прошли в гостиную. Сыщик сбросил на кресло пальто и развернул сверток, при этом не спуская глаз с супругов:
— Итак, господа хорошие, маленький фокус!
На столе всеми цветами спектра заиграли алмазы, бриллианты, изумруды. Кипа ассигнаций и процентных бумаг была перевязана бечевкой. Хайлов, кажется, на время потерял дар речи. Жеребцов с каждым мгновением делался все веселее. В очередной раз показав белозубую улыбку, повернулся к Беляевым:
— Какой суммы и каких драгоценностей здесь не хватает? Вы мне сейчас ответите на этот вопрос, а я, со всей учтивостью, поставлю последнюю сцену нашей кровавой трагедии. — Сыщик обратился к Хайлову:
— Ваше высокоблагородие, господин жандармский подполковник! У вас есть неповторимая возможность: угадайте имя убийцы вашей бедной тети?
Хайлов тяжело плюхнулся в кресло, прорычал
— Дворник, конечно!
— Ан нет! Беспомощную старушку, — Жеребцов сделал изящный жест в сторону Сусанны, — задавила подушкой эта очаровательная леди!
Эффект был потрясающий. Сусанна вскрикнула и в духе провинциальных актрис, театрально грохнулась на пол без чувств. Арсений, казалось окаменел. Хайлов не мог произнести ни слова, только ошалело причмокивал губами.
Пожалуй, столь сложное дело еще никто не раскрывал за такое короткое время. С момента совершения преступления прошло менее суток, но все его участники оказались за решеткой. Более того: были обнаружены все украденные ценности. (Арсений назвал место, куда он с супругой спрятали свою долю: в цветочный горшок, стоявший на подоконнике их квартиры по Кронверкскому проспекту).
На другой день, выполняя обещание, Хайлов повел приятеля в ресторанчик. Попивая из запотевшего графинчика водку, Жеребцов умерял восторги сыщика:
— Сейчас увидишь, что все легко и просто. Я всего лишь обращаю внимание на пустячки, мимо которых иные сыщики легкомысленно проходят мимо. Первое: как я догадался, что твоя тетушка задавлена подушкой? Когда я заглянул покойнице в рот, то на языке увидал у нее маленькое перышко. Именно такими набиты подушки в ее, извини, теперь в твоем доме. Далее, на слизистой оболочке губ я заметил кровоизлияния, произошедшие от прижатия губ к зубам. Это подтвердило мою догадку: на лицо надавливали сверху. Под ногтями правой руки Пискуновой я увидал нечто, напомнившее мне эпидермис человеческой кожи. Когда Сусанна душила жертву подушкой, та оцарапала ей кисть руки: полосы от ногтей я заметил еще утром, когда приглядывался к тем, кто окружал убитую. Эти полосы были совсем свежими. Профессор по моей просьбе провел микроскопическое исследование содержимого под ногтями и я убедился, что эту метку оставила покойная.
— Изумительно! — еще раз с искренним восторгом произнес Хайлов. — Я долго ломал голову: как тебе могла придти безошибочная мысль, что дворник запрятал сокровища в конуру?
Жеребцов расхохотался:
— Это, дорогой подполковник, было сделать проще всего. Во-первых, на снегу, который за конурой глубокий, ибо там никто не ходит, остался четкий отпечаток…самой конуры: как сказал бы архитектор, вид «заднего фасада». Стало быть, кто-то конуру клал на бок. Кроме самого Капито-на это никто сделать не мог. Обозревая пространство, я увидал следы собачьей оправки, которые отстояли на аршин дальше, чем собака могла бы достать, находясь на своем обычном месте. Я понял: поводок словно удлинился, когда Капитон положил конуру на снег.
— Но если бы шел снег, то эти следы замело…
— Эти бы замело, появились бы другие. Я люблю повторять слова своего учителя Апполинария Соколова: «Нет такого преступления, которое российский сыщик не сумел бы распутать. Лишь бы ему не мешали, да…платили побольше».
Был суд. На нем выяснилось, что все произошло довольно нехитро. Мысль задушить подушкой Пискунову пришла в голову Арсения Беляева. Но в последний момент в нем заговорила совесть и он отказался убивать. Тогда в спальню вошла Сусанна. Она набросилась на спящую старушку, придавила ее лицо. Но в слабом теле Пискуновой вдруг нашлись силы для борьбы. Она оттолкнула убийцу, оцарапав ей руку и громко вскрикнув. Суссана вновь набросилась на беззащитную жертву и на этот раз довела дело до конца.
Но на шум пришел дворник Капитон. Сдавать в полицию убийц ему было незачем. Соучастники были уверены, что никто не докопается до истины. Капитон бестрепетно снял с шеи убитой ключ и влез в сундук. Драгоценности — большую часть, а также 90 тысяч наличными и ценными бумагами, забрал Капитон. Беляева довольствовалась 32 тысячами и несколькими бриллиантами. Для отвода глаз в сундуке оставили несколько ювелирных вещичек и около 28 тысяч рублей.
Чеброва призналась, что всю ночь она дрыхла. И лишь утром, часов в семь она заглянула в спальню хозяйки и нашла ее мертвой. Чеброва, как чуть раньше Капитон, сняла с шеи убитой ключ, открыла сундук и «поделилась» остатком денег: себе взяла 18 тысяч, оставила около десяти. Затем сундук заперла, ключ вновь повесила на шею покойницы и побежала к Капитону: «Барыня скончалась!»
Когда дворник отправился в полицию, Чеброва решила поживиться столовым серебром, нагребла целый мешок, да была с ним поймана.
Беляевы до прихода полиции изображали из себя спящих, хотя еще ночью Арссений сбегал на Кронверкский и спрятал чужое добро.
Суд присяжных восхитился работой полиции. Супруги Беляевы, дворник Капитон Комаров и мещанка Чеброва были приговорены к различным срокам каторжных работ.
НАДИРЕ И РАФИКУ МУХАМЕДЖАНАМ
Клонился к закату первый день января 1869 года. По длинному узкому коридору двигалась странная процессия. Возглавлял ее потрепанный, явно нетрезвый мужичишка. За ним, осторожно ступая по метлахским плиткам пола, держались два представительных господина. Оба были в новых фраках, белых галстуках, с белыми гвоздиками в петлицах.
Наконец, они вошли в небольшой полукруглый зал. Внизу, на невысокой мраморной доске сидела, чуть согнув ноги, прислонившись к подпорке, молодая обнаженная женщина. Густые белокурые волосы опускались на небольшие груди. Нежная кожа подернулась зеленью разложения… Мужичишка махнул рукой, хрипло проговорил: «Нам надо дальше, в кладовую».
Харьковский тюремный замок был переполнен, арестанты раздражены и дерзили начальству, то и дело случались драки. Тех, кого начальство определяло зачинщиками, отводили на несколько дней (в зависимости от провинности) в карцер.
Вчера ранним утром, еще до раздачи завтрака, особенно сильная драка произошла в камере под номером 16.
Когда дежурный надзиратель Пономаренко с двумя помощниками вошли в камеру, драка там закончилась. Разгоряченные, еще не остывшие от баталии арестанты поправляли разодранную одежду, подымали с пола упавшие кружки и миски, подушки и одеяла.
— Почему безобразие? — грозно вращая белками, спросил Пономаренко. Камера никогда не назовет виновных, но порядок требовал виновных выявить и наказать. По этой причине он продолжал допрос:
— Кто зачинщик? Будете молчать, всех отправлю в карцер!
Возле дверей находились нары арестанта Ивана Федулова. Это был невысокий, но складный парень лет 27-ми, голубоглазый, с копной волос соломенного цвета. В драке ему расквасили нос. Он стоял перед надзирателем и кровь заливала его серый халат. Надзиратель внимательно оглядел арестантов и особенно долгий взгляд остановил на Иване.
— Почему, Федулов, у тебя кровь? Кто ударил? — спросил Пономаренко.
Федулов знал, что надзиратель не защитит от побоев. По этой причине, да еще из-за обиды, которую ему нанесли, вдруг резко ответил:
— «Почему-почему?» Потому, что кончается на «у».
— Ах, ты нарушаешь порядок, да еще и дерзишь! — Пономаренко кивнул помощникам: — Отведите его в четвертый.
«Четвертым» номером был карцер, помешавшийся в подвале.
Федулов без ропота, даже с некоторой, казалось, охотой, поплелся в карцер. От товарищей он слыхал, что в «четвертом» чисто и сухо. И, хотя! наказанным давали горячую пищу лишь раз в двое суток, и спать приходилось на голом матрасе, но там можно было отоспаться и отдохнуть в одиночестве, не видеть грубые лица сокамерников.
Федулов попал в острог по глупости.
Был он из бедной крестьянской семьи. На селе, где жил Иван, считали его малость блаженным. Поведения он был тихого, дружбу ни с кем не водил. Выпивал, но лишь по праздникам и меру знал.
В том же селе жила первая красавица в округе — Анфиса Кулиниченко. Она была резвой, смешливой, за словом в карман не лезла, умела отбрить любого мужика. К тому же отец ее — сельский староста, владел землями, сдавал их арендаторам, был человеком с большим капиталом. Многие сватались за Анфису, даже из Харькова приезжали женихи, но всем от ворот поворот сделала. А выбрала красавица скромного Ивана Федулова.
Все удивлялись, а ее папаша был возмущен такой необстоятельностью, даже хотел было дочку за косу поучить. Только из этого ничего не вышло. Анфиса взвилась:
— Убегом уйду, но за Ваньку замуж выйду.
Смирился Сила Кулиниченко, свадьбу сыграл, Ивана в свой дом взял. Три года молодые прожили ладно, двух дочерей Анфиса родила. В третий раз забрюхатела. Одно неладно: муженек ревнив оказался! Случится, пошутит Анфиса с кем из знакомцев, поговорит о том-сем, так Иван три дня чернее тучи ходит, аппетита лишается.
А на Рождество грянула беда. К Силе Кулиниченко в гости пожаловал волостной писарь, человек бедовый, зубоскал и охальник. За столом говорил он скабрезности, а затем хлопнул проходившую мимо Анфису по мягкому месту.
Вскочил с ножом в руках Иван и вне себя от ярости ударил писаря в шею. Фонтаном брызнула кровь, забился в судорогах несчастный и дух испустил.
Драка в 16-ой камере возникла, как это обычно бывает, из пустяка.
Между арестантов случился обыкновенный разговор: дескать, пока мы тут, горемычные, томимся, наши бабы на воле нам рога наставляют.
С этим тезисом не согласился лишь Иван. Вскочил он с нар, кулаками замахал:
— Вранье! Не все жены такие!
Арестанты начали подтрунивать над Иваном. Тогда он стукнул одного, началась драка.
Все это произошло в канун воскресного дня. Утром потянулись к узилищу люди с кулечками и корзинами — передачи близким принесли. Проделав более чем 50-верстный путь в санях, еще накануне прибыла в город Анфиса. С нею были и две маленькие дочки. Заночевав на постоялом дворе, она с детишками уже спозаранку топталась у тюремной ограды. Обратилась к тюремному чиновнику:
— Дяденька, как бы нам свидание получить. Ему фамилия Иван Федулов, муж он мне, деткам папаша.
Чиновник заглянул в толстую амбарную книгу и строго сказал:
— На свидание прав не имеете: заключенный Федулов находится под следствием. Вот когда осудят, тогда и дозволят. Передачку пожалуйста, в это окошко. — И заглядевшись на красивое лицо Анфисы, смягчился: — Грамоту знаешь? Можешь написать ему записку, привет передать.
Напрягая все литературные способности, Анфиса вывела:
«Ягодка, мой Ваня. Адвокат обещал тебе снисхождение по человечеству от присяжных, потому как вступился за нас, супружницу. Любящие Анфиса и детки».
Чиновник окликнул проходившего мимо Пономаренко:
— Тут приятная бабешка пришла, я разрешил ей привет мужу написать. Нарушение не шибко большое, а все на том свете доброе дело зачтется! Ты еще на дежурстве? Отнеси, пожалуйста, Федулову, да заодно и передачку…
Взглянул Пономаренко на женщину и остолбенел от неожиданности: это была та Анфиса Кулиниченко, которая когда-то отвергла его руку и сердце, спровадив сватов ни с чем. Видел эту прелестницу всего три раза, а крепко запали в душу ее синие глаза, сочные манящие уста. (Пономаренко жил на хуторе — в верстах двадцати от Анфисы.) Женщина не замечала пристального взгляда, на нее устремленного: слишком была погружена в собственные думы. А Пономаренко с горечью размышлял: «Ведь я после твоего отказа ушел на эту собачью работу — в тюрьму!»
Взял он корзину, записку и отправился в «четвертый».

Со смотрителем Харьковского тюремного замка Ткачуком случилось странное происшествие. Он вернулся со службы домой в половине четвертого пополудни — календарь показывал 30 декабря 1868 года.
Снял с себя китель и протянул домработнице Гликерии (из заключенных). Та стала его чистить и под ноги смотрителя упал листок бумаги.
— Что это? — удивился тот. Развернул, прочитал, и глаза от удивления у него округлились. Печатными буквами карандашом было написано: «Арестант Федулов вовсе не сам повесился. Это его убили».
— Откуда это? — спросил смотритель Гликерию.
— Из вашего кармана выпавши.
— Напасти этой мне еще не доставало! — пробурчал Ткачук, снова натянул на себя китель и отправился в замок. На ходу рассуждал: «Почему мне сообщают о смерти заключенного анонимным способом? Кто и как сумел сделать это? Будучи на службе, я не снимал с себя кителя».
Уже в проходной он столкнулся со своим помощником, накричал на него:
— Почему вы мне об убийстве не доложили? Безобразие!
— А кого убили? — изумился помощник.
— В какой камере сидит Федулов? Помощник справился по книге и доложил:
— Вчера за драку переведен из номера шестнадцать s четвертый карцер.
Взяв с собою корпусного дежурного, начальство спустилось в подвал. Ткачук прильнул к глазку четвертого карцера, ожидая увидать висящего в петле Федулова. Но смотрителя ожидала приятная неожиданность: заключенный был жив-здоров и прохаживался по карцеру — из угла в угол.
Начальник отхлопнул «кормушку» — форточку посреди двери, куда обычно ставят еду арестантам. Он наклонился и крикнул:
— С наступающим Новым годом, Федулов!
— Спасибо, и вас тоже! — со спокойным достоинством ответил тот.
Ткачук разогнулся, вытер ладонью пот со лба:
— Вот и хорошо!
О странной записке смотритель никому не сказал ни слова. Про себя со злобой подумал: «Ну, негодяи, нашли над кем шутить! Попадутся мне в руки — шкуру спущу!»
Но не давала покоя мысль: «Как удалось подсунуть записку? В какой момент? И все же: для чего?»
Ответов на эти вопросы не было.
«КОМАНДИРОВАННЫЙ» В ПРОЗЕКТОРСКУЮ
Когда на другое утро смотритель прибыл на службу, дежурный корпусной Негода его ошарашил:
— Дозвольте доложить, в карцере арестант повесился!
— В четвертом, что ль? — переполняясь гневом? спросил Ткачук. — Новогодние шуточки?
— Никак нет! Без всяких шуток — как изволили заметить, висит на решетке в четвертом изоляторе, — проговорил корпусной, удивляясь осведомленности начальства. — Обнаружили в половине седьмого. Был еще теплый.
— Не сняли? Откачать не пробовали?
— Никак нет, инструкцию нарушать себе не позволяем. Раз повесился — пусть висит, пока начальство не распорядится.
Смотритель спустился в подвальный этаж.
Иван Федулов висел на тонкой бечевке, подвязанной к решетке и глубоко вошедшей в задраную шею. Из уха скатилась и загустела кровь. Ноги; мертвец словно поджал под себя, чтобы петля могла затянуться. На лице были царапины, под левым глазом большой синяк.
Да— с, дело неприятное! — выдохнул смотритель. — И, кажется, темное. Откуда эти «боевые знаки» на лице, если он сам забрался в петлю?
— Так это после драки в шестнадцатой, его за это и наказали карцером.
Тяжело задышал смотритель, тягостно размышляя: «Сообщить прокурору? Там ведь Анатолий Федорович Кони, мужик дошлый. Начнет спрашивать: что да почему? Ведь арестанта наверняка убил кто-то из надзирателей. Синяки на морде — только ли от драки? Пойди докажи. А главное: убийца не подумал, что арестанту в камере негде веревку взять? В каком состоянии одежда? Оторван нагрудный карман слева, нет двух верхних пуговиц, причем верхняя вырвана с мясом. Где все это?» — Смотритель оглядел пол, заглянул под нары: — «Нету!»
Когда— то Ткачук служил полицейским следователем. Теперь в нем заговорил старый сыщик. «А мог ли пострадавший завязать веревку на такой высоте?» — размышлял Ткачук. Он встал на табурет, стоявший у стены, вытянул руку: — «Да, мог! И все равно, дело темное. Надо прятать концы в воду!»
— Срочно вызовите ко мне помощника! — распорядился смотритель. — Я иду в свой кабинет.
Едва вошел помощник, Ткачук приказал:
— Пусть батюшка быстренько отпоет самоубийцу и поторопитесь отправить труп в университетский морг! В сопроводительном письме попросите срочно вскрыть и сделать медицинское заключение. Труп оставить на препарирование студентам — для пользы медицинской науки, — Ткачук первый раз за день улыбнулся. — Корпусного Негоду и надзирателя за карцерами уволить в трехдневный срок без выходного пособия. — Дожили, арестанты в замке вешаются как на собственном чердаке!
Больше всего смотритель боялся за себя. Он отлично понимал, что произошло нечто таинственное, что понять ему не под силу, и на всякий раз решил принять крутые меры.
…Через полчаса на внутреннем дворе тюрьмы положили на подводу труп Федулова, завернутый в два казенных одеяла.
— Набросьте сверху рогожу, — приказал Ткачук, — нечего афишироваться.
Открылись ворота и то, что совсем недавно было полно жизни и надежд, отправилось в последний путь — в университетский морг.
24— летний товарищ (заместитель) губернского прокурора Кони отправлялся на новогодний раут, который имел быть 1 января 1869 года в Харьковском дворянском собрании. У парадного подъезда его ожидали легкие лакированные санки. Извозчик, могучий седобородый старик, протянул Кони конверт.
— Барышня просила вам передать. «В руки», — говорит.
— Какая барышня?
— А кто ее знает! Вон-вон, в драповом пальто побежала, за угол как раз скрылась…
Кони достал послание, прочитал:
«Считаю долгом сообщить: вчера в тюремном замке убит арестант. Это сделали его же товарищи. Начальство пытается замести следы. Убитого отправили в анатомический театр университета, где он будет, конечно же, препарирован и правды никто не дознается».
— Попробуй-ка, братец, догнать эту даму, — приказал Кони.
Извозчик хлестанул лошадь, они свернули в первый же переулок, проехали его до конца — след незнакомки потерялся.
— Не было печали! — вздохнул Кони. — Поезжай в собрание.
Про себя он решил, что доложит о происшествии губернскому прокурору, который будет на рауте. Прокурор Писарев — толстый, добродушный, прочитал письмо и ласково прогудел в нос:
— Э-э, батенька! Оч-чень прошу, проведите личное, э-э, дознание. — Вот, как раз, наш уважаемый профессор патологической анатомии Лямбль. Профессор, э-э, простите, вас на минутку можно? У кого вы, э-э, Душан Федорович, такой, э-э, прекрасный фрак шили? Сделайте одолжение, запишите адрес портного. Э-э, чуть не забыл! Па-а-жалуйста, проведите нынче же экспертизу. «Жмурик», э-э, простите, мертвец в университете. Остальное объяснит Анатолий Федорович. Мои лошади к вашим, э-э, услугам. Поскорее возвращайтесь. Э-э, на дорожку по бокалу шампанского!
Итак, Кони и Лямбль во фраках и белых галстуках оказались в университетском морге. Полупьяный сторож, спотыкавшийся на каждом шагу, стараясь казаться трезвым и исполнительным, промямлил:
— Вам какого мертвяка? Из тюрьмы, говорите? Привозили такого. Па-асмотрим реестр. — Сторож долго листал замусоленную книгу, наконец, нашел: — Федулов, 27 лет. Евонный номер 17. Сумеете запомнить? Или записать? — И торжественно провозгласил, широко взмахнув руками и теряя равновесие: — Милости просим!
Кони и Лямбль прошли коридор, оказались в амфитеатре, где на мраморной доске сидела обнаженная женщина. Лица не было видно, ибо на него с затылка был надвинут скальп, зияя мясом и мелкими кровеносными сосудами.
— Вот наша кладовочка! — радостно проговорил сторож, распахивая дверь в небольшую комнату. — Материялец поступает к нам из полиции и больниц, коли покойный не имеет родственничков.
Это были опившиеся до смертельного угара или замерзшие на улицах бездомные бедолаги.
«Они лежали на низких и широких нарах, — вспоминал А. Ф.Кони, — лежали друг на друге, голые, позеленевшие, покрытые трупными пятнами, с застывшей гримасой на лице или со скорбной складкой синих губ, по большей части с открытыми глазами, бессмысленно глядящими мертвым взором. На большом пальце правой ноги каждого из них на веревочке был привязан номер по реестру…»
Сторож отважно, словно на поленницу, влез на эту гору трупов и стал разбирать их, приговаривая:
— Седьмой, четверный, а где ж наш, родимый? Господа командиры, вы случайно не помните, какой у нашего нумерочек? 17-ый, говорите? А вы, сердечные, не путаете? Тогда тут. Вот они самые, внизу лежат. Кто ж их туда положил? Как чего надо, так обязательно снизу…
Сторож спрыгнул на пол, ухватил труп с биркой «17» за ноги, стал энергично тянуть, кряхтя и отчаянно сопя. Лежавшие сверху мужские и женские тела, словно оживая и нагоняя ужас, начали переворачиваться. Наконец, сторож извлек труп Федулова и положил его на пол. Труп был без головы.
— Запамятовал совсем, с этими самыми праздниками — все запуталось! — промычал сторож. — Прозектор ведь отпилил голову, я сам помогал ему — держал мертвяка. Вам она очень нужна? Понял, сейчас будет. Один секунд!
…Сторож проковылял по коридору, шаги его затихли. Прошло пять минут, десять, полчаса. Эксперты чувствовали себя скверно: за стеной кладовая с ее жутким содержимым, впереди — на столе белела фигура скальпированной молодой женщины. И собачий холод, пробиравший до костей.
Вскоре Лямбль не выдержал:
— Я сбегаю за сторожем. Он, поди, забыл про нас, сидит, пьет водку.
…Еще минут через пятнадцать, показавшихся Кони кошмарной вечностью, появился Лямбль с мешком в руках. Он вынул из мешка голову Федулова, приладил к телу:
— Да, отсюда! Голова спилена на уровне грудины. Странгуляционная полоса четко выражена в области щитовидного хряща, далее поднимается по боковым поверхностям шеи к сосцевидным отросткам. Отсутствует в области затылочного бугра. Борозда глубокая. Заметны мелкие кровоизлияния. Значит, вешали не труп, сам повесился. Кровоподтеки на лице? Но от них молодой человек скончаться не мог. В письме написан вздор. Это — самоубийство.
На другой день Кони получил от эксперта официальное заключение о самоубийстве. На этом история, казалось, закончилась.
Но, спросит читатель, почему Иван вдруг решил повеситься? Суд присяжных, начавший действовать в России незадолго до описываемых событий, должен был с пониманием отнестись к убийце. И еще. Откуда Федулов взял веревку?
На эти вопросы мы никогда не имели бы ответа, если бы не случай.
Минуло лет десять. В Петербурге главою сыска стал легендарный Иван Путилин. Как-то он занимался хитрым делом об убийстве. Его агент вышел на подозреваемого — бывшего тюремного надзирателя из Харькова Пономаренко. Сидя в трактире с агентом, изрядно захмелев, Пономаренко стал хвастать:
— Я ведь страсть какой ловкий! Когда-то одним махом отомстил нескольким своим врагам.
— Не может быть! — раззадорил его агент.
— Может! — отвечал Пономаренко. И он с пьяных глаз рассказал следующее.
Первым врагом для него стал Федулов, «отбивший невесту».
Получив для передачи Ивану записку Анфисы, в которой та писала о любви и верности, Пономаренко положил ее в карман. Вместо нее, ловко подражая почерку, написал следующее: «Ты, Иван, мне противен. Я полюбила другого. Прощай.»
Войдя в камеру, Пономаренко протянул фальшивку.
— Читай!
Федулов перечитал раз, другой, словно не верил своим глазам. Потом дико завыл, в бессильном отчаянии застучал кулаками по стенам каземата. Надзиратель, якобы сочувствуя, произнес:
— Все они такие! Как сядет человек, так начинают хвостом крутить.
Федулов застонал:
— Прости, Господи! Я не хочу больше жить…
— Во-во! Тогда спохватится, пожалеет. Но близок локоток, ан его не укусишь! Милый человек, дай-ка письмишко мне обратно — и так нарушил порядок, не положено. Затем будто нечаянно выронил кусок бечевки. Хороший психолог, он понял: этот наложит на себя руки!
Впрочем, Пономаренко мало чем рисковал: никто не доказал бы, что оброненная веревка — это дело его, надзирателя, рук.
…Месяца за два до тех событий, появилась вакансия — старший корпусной вышел на пенсион. На это место давно рассчитывал Пономаренко: он был грамотным и сообразительным парнем. Но смотритель назначил давно и беспорочно служившего Негоду. Пономаренко затаил лютую злобу, решил во что бы то не стало обоим отомстить. И вот, случай подвернулся.
Время дежурства Пономаренко закончилось, на вахту заступил Негода. По всем расчетам, именно в эту смену и должен был появиться труп в четвертом карцере. Отвечать бы пришлось корпусному. Пономаренко печатными буквами написал памятную нам записку и, улучив момент, засунул ее в карман смотрителя.
Тут, правда, вышла некоторая промашка: Федулов еще не успел влезть в петлю. Зато когда тот был уже трупом, мстительный злодей через свою племяшку отправил письмо товарищу прокурора.
Впрочем, как знает читатель, эти козни цели не достигли.
Надзиратель карьеру не сделал, корпусным не стал. Летом того же 1869 года Пономаренко был уличен в воровстве у своего товарища и изгнан со службы. Болтался по России, весной 1878 года сошелся с богатой вдовой-купчихой и задушил ее. За это преступление его отправили на Сахалин.
Что касается другой вдовы — Анфисы, она отвергла притязания всех ухажеров и оставалась верной памяти своего ревнивого, но горячо любившего мужа.
Анатолий Федорович Кони стал выдающимся судебным оратором, академиком, членом Государственного совета. Об этом, впрочем, знает каждый.
ВЛАДИМИРУ И ИРИНЕ СМИРНОВЫМ
В середине прошлого столетия не было в Москве человека более известного, чем прорицатель Иван Яковлевич Корейша. О нем писали Толстой, Достоевский, Лесков, Некрасов и другие. К нашей истории, полной загадочности, Корейша имеет самое прямое отношение.
Помещик Облесимов когда-то гремел на всю Смоленскую губернию. Он был богат и гостеприимен. Его обширный дом со многими службами стоял недалеко от древнего Успенского собора.
Война 1812 года все смешала. Когда пал Витебск и враг лавиной приближался к Смоленску, 50-летний отставной полковник Василий Кондратьевич Облесимов пришел к барону Ашу, губернатору:
— Ваше превосходительство, в минуту опасности хочу быть полезным моему Отечеству.
Измученный бессоницей, тревогами и толпами посетителей, просивших и требовавших то, что он чаще всего не мог предоставить, губернатор рассеянно отвечал:
— Мне, полковник, вас некуда командировать. Потом смягчился, добавил:
— В приемной дожидается моего письма к Барклаю-де-Толли гусар Елисаветинского полка Егор Пантелеймонович Коротаев. Он наш земляк. Вы, поди, его знаете?
Гусаром оказался высоченный здоровяк лет двадцати восьми, с лицом, заросшим волосом, чрезвычайно веселый и самоуверенный, говоривший исключительно громко:
— Какая встреча! Сам Василий Кондратьевич! Вы узнаете меня? У нас большое поместье за Днепром, в Гаченском предместье.
— Как же, как же, — радушно улыбнулся Облесимов, — вашего покойного батюшку я хорошо знал. Мы с ним имели горячие сражения… за ломберным столом.
Вспоминая общих знакомых, они вышли на улицу. Народ беспокойно сновал, прислушиваясь к глухой артиллерийской канонаде. Большак был запружен телегами, санитарными повозками, военными в различной форме.
— Теперь нам, Егор Пантелеймонович, не проехать — дорога забита. Милости прошу ко мне, поужинаем, а там будет видно. Только боюсь, что наши Смоленск не удержат, — озабоченно добавил Облесимов.
…Дородная супруга Облесимова — Наталья Федоровна, встретила гостя радушно. Она представила ему свою дочь — очаровательную, с большими агатовыми глазами 16-летнюю Соню.
Мужчины от ужина отказались, лишь выпили по большому лафитнику марсалы и вновь поспешили на улицу. Пальба усилилась еще более. Теперь уже с разных сторон слышался свист ядер, лопанье разрывающихся гранат.
— Посмотрите, как сильно горит! — указал рукой на высокий дым гусар. Вдруг его внимание привлекла повозка с раненными. Он окликнул подпоручика с рукой на перевязи:
— Иван Прокофьевич, ты ли? Простите, полковник, это мой приятель. — И бросился догонять повозку.
В этот момент, издавая нежный и высокий звук — «фьють», у ног Облесимова шлепнулась граната. Она немного повертелась и рванула. Полковник, прошитый множеством осколков, рухнул на землю. Первым подбежал к полковнику rycap, затем высыпала дворня, кричавшая:
— Беда, барина убили! Барыню зовите… Полковник невнятно помумлявил губами:
— Спасай, сохраняй, — и его затухающий взор был направлен вроде как бы на гусара. Глубоко вздохнув, полковник навсегда замер.
Спустилась ночь. Горожанам, к их ужасу и изумлению, окончательно стало ясно, что враг вот-вот займет Смоленск.
Гусар отыскал священника, на скорую руку отпели покойного и при свете факелов захоронили в ограде Успенского собора.
Не прошло и часа после этого скорбного события, как осиротевшие мать и дочь Облесимовы разместились в большой карете и медленно потащились по большаку Московской дороги.
Они держали путь в родовое имение покойного мужа — в Пензенскую губернию.
Гусар Коротаев простился с дамами и отправился во всей этой неразберихе отыскивать ставку Барклая-де-Толли.
Минуло три года. Мать и дочь Облесимовы вернулись в Смоленск. Вместо сгоревшего дома построили новый, еще более великолепный. Наталья Федоровна прибавила в весе и стала выглядеть еще более величественной, замечательно похожая на Екатерину Великую кисти Ивана Аргунова. Соне исполнилось 19 лет. В ней появилось то непередаваемое очарование, которое условно и весьма приблизительно называется женственностью.
Смерть любимого отца, случившаяся прямо у нее на глазах, такая случайная и по этой причине особенно обидная и больная, произвела на девушку тяжелое впечатление. Она сделалась очень набожной, усердно посещала церковь и горячо молилась.
…На самый праздник Преображения Господня, когда Соня только что вернулась от заутрени, в их доме появился рослый веселый человек — гусар Коротаев. Приглашенный к столу, он самодовольно скалил из-под черных усов белые зубы, отчаянно жестикулируя, говорил:
— Довелось пороху понюхать! Когда искал Барклая, едва в руки неприятеля не угодил. Но застрелил двух французов и ускакал. На Бородино я находился на курганной батарее Раевского. Точнее, мы стояли с легкой кавалерией в небольшой рощице. Французы перли тучей. Наша линия была прорвана. И тут мы ударили из засады. И Ермолов тут как тут — во фронт действует, а Багговут, хитрец, раз — с фланга. Как начали мы врагов катать! Натешились вволю.
Соня с восхищением произнесла:
— Вы, Егор Пантелеймонович, настоящий герой!
…Зачастил гусар в дом Облесимовых. А однажды заявил Наталье Федоровне:
— Не могу жить без Сони! И ваша дочь, кажется не возражает…
На вопрос матери Соня скромно потупила очи:
— Конечно, матушка, я полностью в вашей воле. Только… если не возражаете… я хотела бы съездить к Корейше. Посоветоваться.
— Не мели чепухи! Раз ты не против, совершим помолвку.
Пригласили самых близких друзей и родственников. Молодых помолвили. Согласно обычаю, на другой день жених дал обед в своем доме.
Уже года два по всему уезду шла молва об юродивом, поселившемся в смоленских лесах. Умел он, якобы, лечить самые тяжелые болезни и безошибочно предсказывать будущее. Но главное, этот удивительный человек отличался нестяжательством, не испытывал страха ни перед сильными мира сего, ни перед лютыми зверями. Это был как бы пришелец из другого мира, не желавший делать то, что по общему мнению, составляет необходимую принадлежность жизни земной. Пища, одежда, семья — все это было для юродивого несущественным.
Окрестный народец навещал замечательного отшельника, ему даже поставили домик в стороне от проезжей дороги. Одной из страстных почитательниц была дворовая девка Облесимовых — Лушка.
Когда с позволения барыни, а когда и убегом, она регулярно посещала Корейшу.
Соня относилась к тем натурам, которые безошибочно чувствуют приближение беды. Вот и теперь, не испытывая особого влечения к гусару, но в силу характера покорившись желанию матери, она явственно чувствовала тревогу. Неоднократно Соня умоляла:
— Мамочка, давайте навестим отшельника! Мне был сон, что я непременно должна сделать это.
Наконец, Наталья Федоровна сдалась, приказала кучеру:
— Запрягай карету!
Мать была настолько уверена в покорности дочери, что не опасалась приговора отшельника. Увы, она ошиблась!
…Дормез, торжественно влекомый шестерней, покатил к пригородному лесу. Наталья Федоровна, словно желая произвести могучее впечатление на юродивого, надела модного шитья редингот из светлого дразефира, сверху набросила дорогую кашмирскую шаль с кистями.
Дорогу указывала Лукерья. Барыня адресовала ей вопрос:
— Скажи-ка Лушка, откуда этот Корейша в наших землях завелся?
— Эх, барыня, люди ведь судят-рядят криво, да слух идет, что Иван Яковлевич — сын священника, сам всякие науки превзошел, академию духовную окончил. Но случилось ему какое-то видение, вот и ушел он в лес. Два лета и две зимы жил в открытой яме: под дождем и снегом. А на самом — лишь архалук рваный, даже шапки нет.
— А как же звери? — ужаснулась Соня. — В наших лесах полно медведей и волков!
— В том-то и удивление, голубка ты моя белая! Приходят к провидцу лютые звери, а он их прямо с рук кормит.
— Чем?
— А хлебом аль картошкой, которые Ивану Яковлевичу крестьяне приносят. И волки едят хлеб юродивого, прямо чудо! Псаломщик Порфи-рий с мужиками прошлой зимой видели через кусты, когда приходили к избушке.
— А деньги ему прилично дать? — полюбопытствовала Наталья Федоровна.
— Берет и деньгами, только все приходящим раздает. Да и то: зачем ему в лесу капитал?
— И всех он принимает?
— Ни в жисть! Ему гордые не ндравятся, он их палкой гонит. К нему следует подступать со смирением, с молитвой. — Вдруг Лукерья прикрикнула кучеру: — Стой, Василий! Дальше нам езды нету. Надо пешком по этой тропочке следовать. Сажень через двести и живет Иван Яковлевич.
— Все ждите тут! — распорядилась барыня. — Соня, за мной.
Они отправились по совсем узкой, едва заметной тропинке, змеей вившейся и петлявшей среди старых и молодых берез, перемежавшихся с кустами ольхи.
Соня чувствовала необыкновенное волнение и еще то, что сейчас у нее произойдет в жизни нечто совершенно исключительное. Ее уста беззвучно выдыхали: «Господи, Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя».
Даже всегда решительная и самоуверенная Наталья Федоровна заметно робела и оттого старалась держаться независимей. Указав рукой на просвет между деревьев, она шепнула Соне:
— Кажется, там кто-то есть. — И привычно строго добавила: — Да не трусь, не съест же он. Чего бояться? Мужик он и есть мужик… Лапотник!
Пусть читатель простит автора за небольшое отступление.
Всегда почитая самым высшим чудом тот изумительный мир, в котором по воле Создателя мы живем, все же хочу поведать об одном необычайном происшествии. История эта случилась в середине восьмидесятых годов. С 12-летним сыном Кириллом зашли однажды на Черкизовское кладбище. Благоговейно поклонились могиле, скорбный камень которого гласил, что здесь покоится прах Ивана Яковлевича Корейши, родившегося 8 сентября 1783 года. (Я сразу про себя отметил, что историки наверняка ошибаются, называя 1793-й).
Дощатая гробница Корейши находится под высоким навесом, обнесенная чугунной оградой. Среди свежих цветов, в подножьи стояла тарелочка для пожертвований, в изголовье — бутылка из-под молока с цветами.
Кирилл просяще сказалл:
— Папочка, дай денег, я положу…
— Если хочешь принести жертву, положи ту монету, что дал тебе на мороженое (В те времена, читатель помнит, мороженое стоило гроши.)
Кирилл вздохнул, но полез в карман, вынул монетку и…
Если бы я не был свидетелем последовавшей сцены, то счел бы ее досужим вымыслом. Итак, Кирилл подошел к ограде и протянул на ладони монетку. Вдруг, без малейших усилий ребенка, монетка взлетела вверх — под самый навес, и по невероятной дуге ошеломляюще точно упала бутылку. А ведь в ней, напомню, были цветы и если и оставался просвет, то вовсе не такой широкий, чтобы могла проскользнуть монета.
Дивны Твои дела, Господи! Куда уж тут лезть с убогим «материалистическим учением».
…Они увидали Ивана Яковлевича на большой, полной солнечного света, поляне, буйно заросшей! по краям кустами орешника и ольхи. Полдень был жарким и тихим. Лишь порой, густо шумя, набег легкий ветерок и тихо мотал зелень ветвей. Ha эмалевом небе не было ни облачка.
Мерно жужжали бортные пчелы, удивительные бабочки — с громадными, павлиньих разводов крыльями, бесшумно порхали с цветка на цветок. Лохматый шмель ткнулся в руку Сони и сердито гудя, продолжил полет. Во всем царил мир и неизреченная красота Природы.
Иван Яковлевич сидел на низкой скамеечке возле крошечного, почти игрушечного домика. Он сосредоточенно чертил что-то палкой на зем-ле. Вдруг отшельник вздрогнул, поднял голову.
Соня увидала довольно некрасивое одутловатое лицо с широким носом и глубокой скорбной складкой возле рта. Но девушку приятно поразили высокий чистый лоб Ивана Яковлевича и особенно большие, с чуть опущенными веками глаза — в них светился ясный и острый ум.
На аскетической фигуре отшельника свободно висел тот самый архалук, о котором говорила Лушка — короткий, едва прикрывавший колени. Некогда он был сшит из плотной в полоску шелковой ткани, но давно успел пообтерхаться и выцвести. И неожиданной роскошью выделялся большой серебряный крест на витом красивом гайтане.

Поднявшись со скамеечки, Иван Яковлевич долго и внимательно рассматривал гостей. Затем он троекратно осенил их крестным знамением. Его уста зашевелились: «Отче наш…»
Соне сразу и безоговорочно понравился этот пустынный житель, а окружающая обстановка низводила на душу успокоение и молитвенное состояние.
Наталья Федоровна подошла поближе и царственно произнесла:
— Любезный, мы приехала к тебе с деликатным вопросом. Могу ли я рассчитывать на твою скромность?
Иван Яковлевич вдруг весь затрясся гневом. Подняв палку, ступая босыми ногами по утоптанной траве, он пошел на гостью:
— Вон отсюда! Дочерью торгуешь! — И, повернувшись к Соне, добавил: — Ты останься.
Соня подняла на мать невинные синие глаза, умоляюще сказала:
— Не бойтесь за меня, маменька, покиньте нас. — Она чувствовала абсолютный покой и совершенно доверяла отшельнику. И еще подумала об удивительной несовместности, которая должна быть между ней, выросшей в барских условиях, и этим необыкновенным человеком, ведущим первобытное существование.
Мысленно сотворив молитву на древнюю икону Спасителя, висевшую под козырьком возле дверей, Соня тихо сказала:
— Простите, Иван Яковлевич, что нарушили ваше уединение. Речь идет о замужестве. Идти ли мне за гусара Коротаева?
Отшельник опустил голову и глубоко задумался. Соне показалось, что он забыл о ее существовании. Вдруг отшельник вскочил, вновь пришел в волнение и замахал руками:
— Разбойник! Гони его! Вор! Выждав паузу, Соня спросила:
— Если нельзя замуж, так что же мне делать? Поглядев куда-то вбок, Иван Яковлевич едва слышно, но вполне внятно, произнес:
— Риза спасает…
Соня про себя решила: «Старец приказал бояться гусара и идти мне в монастырь…» Несколько стесняясь, произнесла:
— Тут немного денег… Оставить можно? Отшельник отрицательно покачал головой, посмотрел в глаза, как в душу заглянул и тихо молвил:
— Жертву твори тайно, бедные уже ждут. Прощай!
…Когда карета выбралась из леса, у большака стояла оборванная женщина с младенцем на руках, завернутым в какую-то грязную тряпку. Женщина заголосила:
— Помогите погорельцам, с голода пухнем… Соня вспомнила слова отшельника: «Бедные уже ждут». И она протянула обезумевшей от радости женщине червонец.
У Сони оказался твердый характер. Матери она сказала как отрезала:
— Свадьбе с Егором Пантелеймоновичем не быть! Я ухожу в монастырь — послушницей. И надеюсь со временем принять постриг. Простите! Бога ради, не гневайтесь. Это сильнее меня.
Дом Облесимовых сотрясся от криков Натальи Федоровны. Она грозила материнским проклятьем, гиеной огненной, плакала, умоляла — все бесполезно, Соня осталась твердой в своих намерениях.
Еще сильнее бушевал обманутый в своих ожиданиях громадного приданого жених. Ему удалось выследить Соню во время прогулки по саду. Коро-таев униженно падал на колени и норовил поцеловать бывшей невесте руки:
— Сонечка, не разрушайте мое счастье! Ведь это, право, смешно — верить словам какого-то сумасшедшего. Одумайтесь, еще не поздно! Я все вам прощу! Я буду усердно служить вам, угадывать желания…
Соня с трудом вырвалась и убежала в дом, а бывший жених бросился к губернатору, потребовал:
— Под носом у властей завелся безумный негодяй, творящий безобразия! Почему он на свободе? Такому есть единственное место — в сумасшедшем доме. Следует незамедлительно заточить его туда. Иначе буду жаловаться самому государю…
— Не горячитесь, батенька, — успокоил губернатор. — Мне самому не нравится история, с вами случившаяся. Вся губерния взбудоражена. И многие, простите, сочувствуют и верят этому юродивому. В уголовном порядке я не могу его преследовать. Иван Яковлевич не совершал преступления. Дом для безумных? В Смоленске нет такого.
— Отправьте в Москву, там наверняка есть.
— Хорошо, я это сделаю из уважения к вам лично.
— Благодарю сердечно, ваше превосходительство! Ну, а прежде я сам полечу этого мужлана… палкой.
Гусар Коротаев вскочил в легкую бричку и отправился в лес на поиски обидчика. Вернулся он мрачнее тучи. Лишь спустя несколько дней, признался одному из собутыльников:
— Отыскал я этого юродивого. Замахнулся тростью, хотел ему ребра пересчитать, а у него на лице не дрогнул ни единый мускул. Только посмотрел на меня как бы с сожалением и. произнес: «Погибнешь от своей глупости!». У меня мороз по коже пробежал, занесенная для удара рука опустилась. Теперь я хожу и все время думаю: в каком смысле слова эти понимать?
Что касается губернатора, то он слово свое сдержал: послал в лес солдат, те схватили провидца, заковали в железо и вместе с арестантами отправили этапом в Москву.
Когда смольчане узнали о таком злодействе, то возмущались и огорчались. Но власти предержащие во все времена нужды и стенания народные мало интересовали.
Слава о чудесном юродивом-предсказателе бежала впереди его. Москвичи горели нетерпением видеть Ивана Яковлевича.
— Радость такая! Теперь у нас будет жить провидец замечательный. За правду его из Смоленска выгнали. Девушке из хорошей семьи глаза на
жениха открыл: жулик, говорит, он у тебя. Остерегайся, а то имение твое, девица, разорит, а самое живьем в пруду утопит. Так-то! Слушатели добавляли:
— Та девица сто тысяч провидцу пожертвовала, а он все нуждающейся братии роздал. Нестяжательный!
На Дорогомиловской заставе Ивана Яковлевича встретила громадная толпа почитателей, забросавшая его деньгами, едой, одеждой. Тот все отдал арестантам, не обошел щедростью и конвойных, обижавших его неоднократно. При этом вздыхал:
— Тоже дети Божьи! А Ему всякие люди нужны.
Толпа умильно плакала.
Поселили Ивана Яковлевича в Преображенском «безумном доме». Здесь ему предстояло провести четыре с половиной десятилетия. Ежедневно являлись сюда сотни страждущих. Одни просили исцеления, другие — совета, третьи — денег… Не всех, ласково встречал прозорливец, порой гнал от себя притвор и лгунов. Но многих привечал, оказывал помощь.
Слава его стала не менее царской, а любовь едва ли не всенародной. Исцеленные Корейшей исчислялись уже тысячами, не менее было и тех, кто горячо воспевал его за «полезные и мудрые советы».
…Спустя пять лет после воцарения Корейши в Москве, к нему явился мужчина офицерской выправки, но наряженный в простонародную чуйку и стоптанные набок хромовые сапоги. Это был несостоявшийся жених — Егор Коротаев, глаза его лихорадочно горели, руки чуть нервно подрагивали. В этом несчастном трудно было узнать самоуверенного, полного животной силы гвардейца.
Тревожно оглянувшись по сторонам, гость громким шепотом произнес:
— Любезный… э-э, уважаемый… многоуважаемый Иван Яковлевич! Вероятней всего, вы меня не помните. Мы с вами встречались под Смоленском… в лесу. Я тогда еще немного погорячился. Очень желал бы поговорить с вами тет-а-тет, так сказать, с глазу на глаз, без лишних свидетелей.
Глаза Корейши хитро блеснули, он кивнул приближенным, всегда наполнявшим помещение:
— Кыш отселя! Земляк мой смоленский прилетел яко сокол быстрый, от погони ушел.
Все клевреты моментально исчезли, словно их ветром сдуло.
Иван Яковлевич поудобней развалился на кровати:
— Ну, непутевый, докладывай! Сегодня палкой махать не будешь?
Коротаев нервно сглотнул, хрипло выдавил:
— Что было — то было! А ныне, по причине людской злобы и клеветнических наветов, нахожусь в бегах, спасаюсь от суда неправедного…
Иван Яковлевич иронически усмехнулся:
— Оклеветали агнца Божьего?
Коротаев, сделав вид, что не замечает насмешки, торопливо продолжал:
— Имение мое за долги продано, и еще обвиняют в растрате казенных средств. Грозит мне лишение всех прав состояния и решетка тюремная…
— «Терпение убогих не погибнет до конца»!
— Плоть моя изнемогает от нынешней жизни тяжелой, — Коротаев, желая угодить юродивому, пытался попасть в тон его речи. На устах Корейши играла грустная улыбка.
— Я в отчаянии совершеннейшем, — Коротаев обхватил голову руками. — Убедившись, Иван Яковлевич, в вашей мудрости и прозорливости, к стопам вашим повергаюсь и вопрошаю со смирением: что делать мне?
Надолго воцарилось молчание. Наконец, словно пробудившись от дум, Корейша поднялся с постели и уселся за крошечный столик, на котором лежала белая стопка бумаги и стоял чернильный прибор. Он любил подавать советы письменным образом, записывая их, порой завуалированные в аллегорическую форму, порой вполне ясные.
Заметим, что почерк у Ивана Яковлевича обличал в нем человека высокоразвитого. Начертание слов было несколько архаичным и напоминало каллиграфию времен Екатерины II (автор этих строк имел возможность убедиться в этом лично). Вот, наконец, что-то написал Корейша на четвертушке бумаги и протянул гостю:
— Прощай, мы больше не встретимся.
Коротаев пробежал глазами записку. Его лицо запылало от гнева, он с ненавистью затопал сапогами:
— Пропади пропадом, гнусный старик! Зачем только к тебе пришел? Всю жизнь ты стоишь на моем пути!
Корейша негромко возразил:
— Не я, а нечистый стоит на твоем пути. Ты вошел и даже забыл лоб перекрестить, вот черный тебя полюбил. Дела творишь злые и нет на тебе благословения.
В тот же вечер на постоялом дворе Поповой, что в приходе Спаса на Глинищах, произошел смертельный случай. Постоялец из второго нумера пустил себе пулю в лоб. Выяснилось позже, что это тот самый Егор Коротаев, из дворян, которого разыскивали за растрату. В кармане самоубийцы нашли записку «Бегаешь быстро, а пуля еще быстрей».
А на другой день в полицию пришло отношение, гласившее: поскольку растрата Коротаева погашена одним доброхотом, то уголовное дело прекращено и с преступника обвинения снимаются.
Так на этом несчастном дважды сбылись предсказания Корейши.
Как догадывается читатель, лицо, внесшее растрату — это Соня Облесимова. Она осуществила свое желание: приняла сначала послушание, а спустя три года и постриг. После последовавшей вскоре смерти Натальи Федоровны мать Александра (в миру Соня) наследовала громадный капитал.
Она употребила его на помощь бедным.
Однажды мать Александра сопровождала настоятельницу монастыря в Москву. Там она посетила Ивана Яковлевича, осыпала богатыми подарками. Тот произнес слова, которые, кроме матери Александры, никто не понял: «Ты — судьба моя».
В сентябре 1861 года «Полицейские ведомости» поместили некролог:
«Находившийся в Преображенской больнице Иван Яковлевич Корейша сего сентября 6-го числа в четвертом часу пополудни скончался. Отпевание тела имеет быть в воскресенье 10 сентября в 10-м часу утра в приходской церкви Екатерининского Богадельного дома, а погребение в Покровском монастыре».
Но на место последнего успокоения претендовали еще два кладбища — Черкизовское и женского Алексеевского монастыря. К счастью, погребение было совершено на первом. Почему «к счастью»? Да потому, что в годы большевистского маразма два первых были кощунственно превращены в стадион (Алексеевское) и так называемый «парк культуры» (Покровское).
Память об удивительном Корейше жива. Придите на Черкизовское кладбище и сразу направо от входа вы увидите его тщательно ухоженную могилу. Поклонитесь праху замечательного человека!
НИКОЛАЮ ПАНШЕВУ
Словно зловещий рок тяготел над семьей Достоевских. Великий писатель страдал эпилепсией. Он пережил ни с чем не сравнимые муки приговоренного к смерти, полной мерой хлебнул горькой чаши каторги и солдатчины. Совсем молодой — в 36 лет — скончалась мать Достоевского. Собственными крестьянами был убит отец. Короток век первой жены писателя — Марии Дмитриевны, детей Софьи и Алексея. Безвременно ушел из жизни любимый брат Михаил.
И уже на закате века всю Москву потрясла кровавая трагедия родной сестры Федора Михайловича — Варвары… Об этом наш рассказ.
— То-то любезная была езда, — с удовольствием говорила старуха лет семидесяти, неловко вылезая из саней и путаясь в длинных полах лисьего салопа. — И снежно нынче, и морозец в аккурат, самый легкий и даже приятный. От дочки домчались как на волшебном ковре-самолете — в мгновение ока. А ведь расстояние отскакали весьма интересное, не близкое.
— Извольте, Варвара Михайловна, встать сюда, на утоптанное, — с подобострастием произнес парень неказистой наружности, впрочем, вполне приличной. Он был одет в сильно поношенную шинель, прежде солдатскую, но давно употреблявшуюся в штатских целях — вместо зипуна и весьма засаленную, а в подоле даже разорванную, но, к чести владельца, крепко заштукованную.
— Тпру, шальной, — прикрикнул парень на резвого коня, впряженного в сани. — Держитесь за саночки, а это мне передайте, — и он с заботливой суетливостью принял у старухи легкий парусиновый сак замоскворецкой работы. — Вы точно подметили, домчались мы живо. Каурого даже немного запарили. Повернитесь, пожалуйста, спинкой, смахнуть надо, — и парень тяжелой рукавицей начал стряхивать со старушечьего салопа снег. — Вот так, сделайте такое ваше одолжение, еще повернитесь. — И, соблюдая сугубую осторожность, парень сдул пушистые снежинки c допотопной, времен Екатерины, собольей шапки. — Эко вас засыпало!
— Ну, будет! — остановила его усердие старуха. — Иди-ка лучше на лестницу, там посвети. Ишь, ходить стало что-то тяжело, а прежде порхала что твоя птичка! Еще когда парадная лестница была в нашем доме открыта постоянно, так я, веришь ли, по нескольку раз по ней чуть не бегом взлетала. Пошли!
Уминая снег, наметенный возле крыльца, большими обшитыми рыжей кожей валенками, парень вошел в неосвещенные сени черного хода. Нашарив на притолоке огарок свечи, он серником зажег его и, держа руку на отлете, двинулся по лестнице, освещая старухе путь.
На третьем этаже старуха достала из ридикюля громадный, старинного образца ключ и собственноручно отперла замок.
— Не угодно ли, барыня, чаю? — предупредительно спросил парень, стаскивая с головы башлык. — Потому как дальнейший путь и естественная усталость…
— Ну, Ванюшка, похлопочи! — доброе лицо старухи расплылось в улыбке. — Молодец, что стараешься… Имей я капитал, так держала бы прислугу, а при моей бедности лишь ты моя опора.
— Стараюсь, ибо испытываю к вам, Варвара Михайловна, душевную приверженность. — Иван был большим охотником до чтения. По этой причине он любил выражаться весьма художественно. — К тому ж юбилейное торжест-во-с!
— И то сказать — сегодня ровно семь десятков лет исполнилось! — Варвара Михайловна с некоторой грустью глянула на листок отрывного календаря: «5 декабря 1892 года».
…Вскоре на столе появился испускающий пар самовар. Варвара Михайловна полезла в ящики письменного стола, извлекая оттуда нехитрую провизию: баночку с вишневым вареньем, сухую колбаску, несколько маслин на блюдечке, сардины и даже плотно заткнутую пробкой початую бутылку бордо. Иван выпил маленькую рюмку, потирая руки и приговаривая:
— Сегодня позволительно, потому как рождение и морозно-с!
Затем они пили чай. За окном чернели сумерки позднего московского вечера. Кругом царила тишина. Все настраивало на воспоминания и неспешную беседу.
Обстановка в комнате хозяйки была самой простой, даже, пожалуй, бедной. Кроме упомянутого стола полстены занимал неуклюжий громоздкий кожаный диван с высоченной спинкой. Он выполнял роль отсутствовавшей кровати. На окнах стояли горшки с геранью, а в простенке — продолговатое зеркало в простой раме, которые; были в ходу еще при царице Елизавете Петровне. Шкаф для платья, обшарпанный комод да три венских стула — все самое необходимое.
И еще: на комоде стояла фотографическая карточка Федора Михайловича Достоевского, на которой были начертаны дарственные слова: «Любимой сестрице Варе…».
— Ведь с братцем мы были погодками, — рассказывала Варвара Михайловна. — Федя родился в двадцать первом году, а я в двадцать втором. Он всегда был особенный: серьезный такой, читать выучился года в четыре или пять. Когда мы были маленькими, нас возили на балаганные представления. Каждую Пасху они случались под Новинским, возле Смоленского рынка.
Вдруг Варвара Михайловна спохватывается:
— Ты, Ванюша, еще рюмочку выпей. За мое рождение. Я разболталась нынче, да уж день такой… Так вот, представляют петрушки, клоуны. Силачи цепи рвут, зазывалы в барабаны стучат и смешные прибаутки выкрикивают, все вокруг хохочут, заливаются. Лишь Федя смотрит на все это печальными глазами, редко когда улыбнется. Хотя со сверстниками любил играть… А однажды ел училась жуткая история. Наш отец был строгим, он запрещал нам дружить с детьми прислуги. Мы этот запрет, Ванюша, забывали. А у Феди и вовсе возникли особого рода чувства к дочери кучера. Уверена, что это было уже больше дружбы, это была хоть и детская, но любовь.
Варвара Михайловна подложила Ивану варенья. Ее руки чуть дрожали. Приходит час, когда есть настоятельная потребность излить душу другому, даже будь то случайный извозчик или, как теперь, недалекий, пусть многое непонимающий дворник. Был бы объект, на который можно излить свое горе или поведать о давно ушедшем.
— Так вот, — продолжала Варвара Михайловна, — Федя каждую свободную минуту стремился к своей симпатии. Они часами гуляли по парку Мариинской больницы для бедных на Божедомке, в которой служил наш отец и где мы тогда жили. О чем они говорили, рассматривая цветы или следя за прерывистым полетом бабочек? Бог весть! Может, мечтали о том, как вырастут и будут вместе? Никто уже этого не узнает…
Однажды мы сидели у себя дома, мама читала вслух книгу. Вдруг во дворе раздались тревожные крики. Встревоженные, побежали в парк. Страшное зрелище нам предстало. Дочка кучера, неестественно бледная, лежала, запрокинув голову, на смятой траве возле кустов орешника. Ее белое платьице было разодранно, на нем темнели пятна крови. Федя поспешил в больницу, привел отца. Но малютка была уже мертва.
— Это что ж такое случилось? — тихо спросил дворник.
— Какой-то бродяга, несколько дней крутившийся в парке, надругался над ребенком. Федор был потрясен до умопомрачения. Думаю, что рана, нанесенная на сердце человеческой низостью, не зарубцевалась у него до последних дней…
— Господи, страсть какая! Как же бродяга посмел? Ну истинный змей, — Иван перекрестился.
— Вот, возьми! — Варвара Михайловна протянула дворнику рубль. — В память моего дня рождения. Сколько таких праздников у меня осталось? Уже на десять годков брата Федора пережила.
— Зато, сказывают, он во всех землях прославился?
— Силой Господа возвеличен! Ну, Ванюшка, иди, пора спать.
Проводив Ивана, она набросила на дверь крючок.
Она долго не могла заснуть. Прошлое разбередило душу. «О Боже, сколько послал ты мне испытаний!». — Варвара Михайловна вздохнула и осенила себя крестным знаменьем. «Не ропщу, но со смирением вопрошаю: за что, за какие грехи?».
В феврале 1837 года ушла из жизни мать. Через год не стало отца. Опекуном был назначен титулярный советник Петр Андреевич Карепин, обер-аудитор канцелярии Московского военного генерал-губернатора. Это был честный и благородный человек, проявлявший к сиротам истинно отеческую заботу. Варвара Михайловна полюбила его. И хотя аудитор был на 27 лет старше, они по взаимному влечению и согласию пошли под венец. За свадебным столом сидело много достойных гостей. И самый почетный — генерал-губернатор князь Дмитрий Васильевич Голицын.
Когда он встал с бокалом в руке, за столом все тут же стихло:
— Радуюсь, Петр Андреевич, твоему достойному выбору. Уверен, что твоя молодая и прекрасная супруга станет для тебя не только источником земных радостей, но и стимулом усердия по службе. А мы всегда замечаем благие порывы наших сотрудников и никогда без награды их не оставляем…
Все одобрительно захлопали в ладоши, кто-то крикнул «Ура!» и «Горько! Горько!». За молодых пили адъютанты губернатора, граф Толстой и князь Друцкой, правители канцелярии Данзас, Вяземский, Изъединов, секретари Забелин, Трескин, начальник секретного отдела Камышин, столоначальники, чиновники канцелярий.
Князь сдержал слово: пришел день и Карепин был назначен правителем канцелярии с солидной прибавкой в жаловании. Это было кстати. Один за другим пошли дети. В 41 году родился Александр. Теперь он доктор. Правда, несколько чудаковат. Однажды он насмешил всю Москву. На прием пришел крестьянин: «У меня, барин, повреждена губа!». Александр замотал ему рот и приказал: «Так и ходи, повязку не снимай!». Хорошо, что тот не послушался, а то умер бы голодной смертью.
На другой год появилась Мария. Эта пошла по музыкальной части, училась у самого Николая Рубинштейна (царство ему небесное!). Покойник хотя и терпелив был, но и он однажды не выдержал, выпалил на репетиции: «Извините Марья Петровна, но вы в музыке… дубоваты!».
А еще родилась Елизавета. И были еще Петр и Софья, но умерли в самом младенчестве. От первого брака у Карепина осталась дочь Юлия.
Благо, что одна из теток завещала Варваре Михайловне 25 тысяч. Вот на эти деньги и купила своевременно два дома возле Петровского бульвара — один в глубине двора, где теперь жила, по 1-му Знаменскому переулку, и еще по 2-му Знаменскому. Квартиры сдаются, да постояльцы пользуются добротой хозяйки, плохо платят деньги. Все считают, что она миллионщица и скряга. А на самом деле, еле-еле концы с концами сводит. Она ведь одинока много лет, без хозяина!
Петр Андреевич помер еще в 1850 году. Он очень сильно переживал арест Федора по делу Петрашевского. Варвара Михайловна ярко, с мельчайшими подробностями помнила тот зимний морозный вечер, когда муж вернулся со службы — утомленный и как все последние месяца печальный. Отужинав, он сел в гостиной с газетой в руках. В ней живописалась страшная сцена символической казни Федора и других петрашевцев, вершившаяся на Семеновском плацу 22 декабря.
Варвара Михайловна была в детской. Когда она вошла в гостиную, то увидела Петра Андреевича, лежавшего на паркетном полу. Прибывший вскоре врач засвидетельствовал смерть от паралича сердца. Ему было всего 53 года…
— Эта юная вдова долго в одиночестве не засидится! — таково было всеобщее мнение. И оно имело серьезные основания. Варвара Михайловна была молода, умна, хороша собой. Одним словом, производила эффект.
Но бежали дни и годы. Ни богатый помещик, ни отставной генерал к ней не сватались. И это было понятно. Все ее высшие интересы вращались вокруг детей. Их надо было кормить, оберегать, лечить от инфлуенции и кори, учить музыке и танцам, наблюдать за прилежанием в гимназии. Она перестала следить за модой, не было времени чтобы сходить в гости или принять у себя. Варвара Михайловна порой вздыхала: «Что делать, коли Господь призвал нас на грешную землю, чтобы делать добро ближним. Мои ближние — это дети. Вот им и посвятила я жизнь». Заметим, что на земле российской всегда были и есть такие святые женщины. Увы, осталась вдова без новой семьи, но с долгими одинокими вечерами в собственном доме на Петровском бульваре.
Она прощала неуплату долга за жилье бедным постояльцам, отказывала себе в самом необходимом, чтобы дать лишний кусок детям и внукам.
«Скряга!» — ехидно улыбались злопыхатели. — «Живет подобно нищей, а у самой, поди, в перине миллион набит!»
Федор Михайлович, великий знаток человеческих сердец, был иного мнения. 28 ноября 1880 года он писал своему братцу Андрею: «Варвара Михайловна была скупа лишь по отношению к самой себе, но всегда была готова помочь тем из близких, которые нуждались в материальной поддержке». Это были слова мудрого человека.
Впрочем, коли быть совсем точным, Варвара Михайловна стремилась помогать не только близким, а всякому, с кем сводила ее судьба.
Летом 1892 года в ее владениях выполнял штукатурные работы некто Александр Архипов. Мужик он был тихий, безответный, из подмосковных крестьян. Семья Достоевских знала его давно, поди, лет двадцать. На сей раз он привел с собой сыночка Ивана — долговязого, косолапившего громадными ступнями, обутыми в лапти. Тот был в отца добродушен, с хитрецой, но вежлив и услужлив. Иван выполнял при своем родителе роль подсобного рабочего.
В начале ноября, когда ударили первые крепкие морозы, ремонт был благополучно завершен. Варвара Михайловна расплатилась с Александром Архиповым и пригласила перед расставанием испить чаю.
— Эх, жизнь наша приблизительная! — вздохнул Архипов-старший. — Ванька — парень большой, а, считай, сидит на моей шее. Может, хоть вы, барыня, его к какому-никакому месту пристроите?
Задумалась Варвара Михайловна, да развела руками:
— Право, не знаю! — Но увидав огорченное лицо собеседника, вдруг решилась: — Впрочем, пусть остается у меня. Будет он вместо дворника. К тому же, станет делать, что прикажу: дрова наколоть, самовар поставить или еще что. Комнату дам, да вон соседняя с моей пустует. Жалование для начала положу 25 рублей в месяц.
Расцвел папаша, тычет в затылок чадо:
— Целуй, сукин сын, своей благодетельнице ручку…
Собственная доброта привела Варвару Михайловну в умильное состояние духа. Говорит:
— Отметить такое событие следует! — полезла в письменный стол, исполнявший обязанности буфета, и достала бутылочку мозельского. Приказала новому работнику:
— Беги, Ванюшка, в третий номер. Скажи моей квартирантке госпоже Боневольской, что прошу ее взять гитару и ко мне на закуску пожаловать.
Подхватился Иван, только пятками по лестнице застучал.
Госпожа Боневольская была вдовой солиста Большого театра и неплохо пела романсы под гитару. Вскоре они гуляли вчетвером, и госпожа Боневольская, перебирая гитарные струны, говорила:
— А вот этот романс я исполняла Николаю Васильевичу…
— Это который шорник? — простодушно спрашивал Архипов.
Госпожа Боневольская фыркала:
— Нет, это который Гоголь. Эх, была я тогда юной и прекрасной. — И она брала на высоких нотах:
Вчера во мраке ночи
Мой друг меня ласкал.
И чтобы не было отказа,
Жениться обещал…
Веселье закончилось поздно. А утром новый дворник поселился в доме по 1-му Знаменскому.
И вновь потекла жизнь — размеренная и тихая. Вдова к себе никого не пускала, ездила только к дочери да внучкам на Пресню.
Но ближе к новому 1893 году начали с Варварой Михайловной происходить странные происшествия. Однажды в воскресное утро, как это было заведено, вышла она из дому, чтобы ехать к дочери. Ее внимание привлек высокий нескладный человек лет тридцати с лишним. Лицо его было грубым, мужицким, но голову украшала меховая шляпа, которые носят присяжные поверенными художники. Как человек наблюдательный, Варвара Михайловна заметила сие несоответствие и даже слегка улыбнулась.
Дня через два она вновь встретила этого человека в месте совсем неподходящем — в подъезде собственного дома. Правда, на этот раз человек был не в шляпе, а в войлочной шапке, но Варвара Михайловна узнала незнакомца сразу: мясистый красный нос, мешки под глазами на большом лошадином лице и глубокие глазные яблоки делали его весьма заметным.
«Видать, кого-то из постояльцев навещал», — решила хозяйка. Прошло еще дня три-четыре. Наступил субботний вечер, часы показывали начало девятого. Варвара Михайловна вышла из дому, чтобы у Петровских ворот сесть на конку и отправиться на Пресню к дочери. Небо было чистым. Ярко светила полная луна. На улице было довольно пустынно. Проходя мимо дома номер два по Знаменскому переулку, она вдруг была поражена резким скрипом снега под чьими-то ногами. Она не успела оглянуться, как кто-то сильно толкнул ее в спину, рванул, выхватил из рук небольшой саквояж и бросился обратно во двор.
— Караул! Помогите! — закричала Варвара Михайловна.
Минуту или две оглашала она криками пространство, пока не явился городовой и дворник.
— Побежал вон туда, за дровяной сарай! — объяснила женщина. — Такой высокий мужчина. Зверский, очень странный случай! У меня в сак-вояже всего шесть рублей — Бог с ними, пусть пользуется. Может, ему есть нечего. Да вот ключи жалко: от сундука, письменного стола и дверей. Все настроение, паразит, испортил!
Варвара Михайловна так расстроилась, что не поехала к дочери, а вернулась домой. Разбудила Ивана. Тот помог вскрыть дверь.
Наутро к ней в дверь постучал Иван:
— Пустите, барыня, что скажу… Я досконально выяснил, кто у вас саквояж укравши.
— Ну?
— Соседские дворники сказывают, что какая-то кухарка обличье мужское принимает и на прохожих разбойно налетает. Отчаянная, страсть! Интер-ресный хвакт!
— Глупость несешь!
— Никак нет-с! Потому как ей кто-то говорил, что у вас есть громадный капитал, а дома вы его хранить боитесь. За собой носите. Вот за эти подозрения она на вас набросилась.
— Кто же это распускает такие сплетни — «миллионы»… С хлеба на квас перебиваюсь, а миллионы и в глаза не видела.
— Так точно, но на чужой роток не накинешь платок!
— Это верно.
Крепко задумалась Варвара Михайловна: «Что делать? Злоумышленники явно меня выслеживают. Тот, в белой шляпе, один из них. Надо перепутать дни посещения родных. А то я со двора, а ворье — в мою квартиру! Нет-с, господа бандюги, не выйдет, не перехитрите».
Так пыталась она себя успокоить, но тревога крепко поселилась в ее сердце. Она вызвала к себе Ивана:
— Скажи-ка, Ванюша, тебе не попадался на глаза высокий человек в меховой шляпе? Морда понимаешь, на утюг похожая. Дураку ясно, что он за мной наблюдал. Хорошо было бы сдать его в полицию. И ко мне в дом зачем-то заходил. Видать, жулик прожженный. Глупейший случай грабежа.
Иван как— то странно посмотрел на хозяйку, словно заподозрил, что она с ума свихнулась, плотоядно улыбнулся и с укоризной молвил:
— Я, почитай, цельный день возле ворот с метлой служебный долг исполняю, но такого подозреваемого не обнаруживал. Я ведь вам изволил докладывать про переодетую кухарку.
— Так где она, кухарка? Кто ее видел, кто знает? Я полицию известила, но они больше любят чай в дежурке пить, чем по морозу бегать, на улицах порядок наблюдать. Власовский был мужчина твердый, заставлял нижних чинов службу строго исполнять, так его — фюйть! — и выперли. Поставили какого-то Эффенбаха, так опять порядки ослабли, потому как народу узды не стало! А тут — тьфу! — Э-ффен-бах!
Иван затараторил:
— Как же, знаю такого! Он еще композитор. Я в киатре с восторгом чувств наслаждался его опереткой «Перикола».
— Ты, Ванюшка, дубина. Того композитора зовут Жак Оффенбах, а этот совсем из другой оперы. Ну ладно, иди на пост, следи за порядком. Если заметишь… про кого говорила, или какой другой посторонний народ подозрительного вида, сдавай их в полицию. Свисток при тебе?
Иван достал из кармана свистульку и дунул в нее:
— Не позвольте себе сомневаться!
…Осталась барыня одна. Она почему-то вспомнила фразу из книги брата «Бесы»: «Носилось что-то неладное». И впрямь ей казалось, что в воздухе носится что-то неладное. Сердце явно предчувствовало беду.
Увы, предчувствия не обманули.
Обычно, как мы уже упомянули, Варвара Михайловна уезжала к родственникам вечером. Случалось это часов в 9-10-ть. Проводила у них время до 12-ти, а в отдельных случаях и до 2 часов ночи, и возвращалась домой. Ночевать никогда не оставалась.
Но однажды заболела внучка, и Варвара Михайловна решила провести вне родных стен более суток, чтоб поухаживать за девчуркой. (Читатель, думаю, не забыл, что родственники жили в одном из домов на Пресне, принадлежавших именно Варваре Михайловне.)
Надо заметить, что была у хозяйки любимая собачка неизвестной породы по кличке Мими. Вопреки своему незначительному размеру, Мими отличалась свирепым нравом. Если кто приходил к Варваре Михайловне, то хозяйка закрывала Мими в кладовку. Иначе эта лохматая малышка начинала бросаться на пришельца, норовя своими неожиданно большими клыками отгрызть гостю конечность. «Родственница тигры!» — шутили постояльцы.
Особенно Мими невзлюбила Ивана. Был случай, когда собака бросилась на зазевавшегося парня и прокусив сапог, пустила ему кровь. Кроме
хозяйки, она миролюбиво относилась лишь к госпоже Боневольской. Может, в память того, что когда Мими была еще крошечным щенком и опасно заболела какой-то собачьей болезнью, вдова артиста сумела выходить ее.
Теперь, собравшись к внучке, Варвара Михайловна известила об этом лишь Ивана, наказав, чтоб он внимательней присматривал за домом, а госпожу Боневольскую попросила прогулять для естественной нужды Мими два раза — вечером и утром.
На другой день Варвара Михайловна возвратилась восвояси лишь после обеда. Дома она застала глубокий траур. Госпожа Боневольская словно в шекспировской трагедии заламывая руки и орошая свое чело потоками слез, воскликнула:
— Беда! О, горе черное пришло к нам в дом! Мими уж нет. И хладный прах ее лежит у ваших ног.
Варвара Михайловна огляделась и действительно увидала любимую собачку, безжизненно раскинувшуюся в углу на коврике.
Когда хозяйка пришла в себя, она услышала взволнованный рассказ актерской вдовы:
— Согласно вашей просьбе, пошла я сегодня утром погулять с Мими. Веду ее на поводке. Справляет она нужду, лишь возле тумб желтые пятна оставляет. Вдруг навстречу нам идет высоченный господин. Одно плечо у него выше другого. Лицо узкое, некрасивое. Нос большой, в розовых прожилках. Осклабился этот прохожий, полез в карман, достал кусок колбасы, кинул собачке: «Кушай!» Не успела я что-либо сообразить, как Мими съела колбасу.
Варвара Михайловна сквозь слезы спросила:
— На прохожем была белая шляпа?
Удивилась госпожа Боневольская:
— Какая осведомленность! Откуда вы знаете? Зарыдала еще сильнее хозяйка, но сквозь слезы выдавила из себя:
— И… что дальше?
— Пришли домой. Мими сделалась вялой. Уже на лестнице ее стошнило. Потом она начала дико выть и кататься по полу. Из пасти пошла розовая пена. Минут через пятнадцать собачка испустила последнее дыханье. Лестницу Иван вымыл, а бедная Мими… вот лежит.
Хозяйка с нежностью взяла на руки тельце покойной и вдруг радостно вскрикнула:
— Ах, крошечка, ты еще жива!
…Собака действительно еще дышала. Хозяйка нежно ухаживала за ней, но — увы! Вскоре Мими сдохла — теперь уже по-настоящему. Горе Варвары Михайловны было беспредельным.
— Нет, тут не без коварной причины! — твердила хозяйка. — Это к чему-то страшному.
Вскоре явились предзнаменования еще более ужасные.
Отплакала хозяйка свое горе, помолилась перед образами и решила, что Господь милостлив и дальше ее жизнь пойдет прежней чередой.
Закончился Рождественский пост. До Нового года оставалось два дня. Варвара Михайловна обещала на праздник посетить дочку на Пресне
И вот в последнюю ночь года ей приснился жуткий сон. Виделось, что она идет полем и ее все время настигает какая-то страшная тень. И тень не простая — дьявола. Потом тень настигла и обволокла чернильной темнотой. А когда словно чуть забрезжил свет, Варвара Михайловна узрела себя молодой. Она лежала на каких-то досках обнаженной до пояса и вокруг ее грудей полыхало пламя, но боли уже не было. И тело ее стало все более раздуваться и как бы покрываться сажей.
С криком ужаса пробудилась Варвара Михайловна. Был ранний час. За окном серел неясный рассвет. Медленно падал крупный снег. Хозяйка быстро оделась, взяла извозчика и покатила на Пресню к родственникам.
Всех переполошил столь ранний визит. Запинающимся голосом Варвара Михайловна поведала свой страшный сон. И пробормотала:
— Попомните мое слово: скоро я умру, и умру не своей смертью.
Как ни успокаивали ее близкие, Варвара Михайловна продолжала твердить свое:
— Конец, дни мои сочтены! Все предзнаменования говорят об этом — и пропажа саквояжа, и смерть Мими, и тень нечистого (тьфу, прости Господи!), и странный сон про обнаженную грудь… Я, пожалуй, нынче ночевать у вас останусь. Дворника Ванюшку предупредила, он за домом присмотрит.
Это было очень странно: обычно родня дружно уговаривала Варвару Михайловну остаться и она не желала соглашаться, а тут — нате вам! — сама захотела.
Через два дня вернулась хозяйка домой. Там верный Иван строго порядок наблюдает. С двух жильцов сумел старый долг за квартиру получить, размел снег вокруг крыльца, песком посыпал дорожку:
— Чтоб, Варвара Михайловна, вам было не скользко преодолевать пространство…
И добавил, понизив тон:
— На самый Новый год, питая отвращение к пьянству, я презрел все кумпании и вышел во двор глянуть за порядком ваших, сударыня, владений. И вдруг вижу, а глазам не верю: идет к нашему крыльцу неизвестный субъект мужеска рода, но вроде бы как по очертанию конфигурации женщина. Я к фигуре: «Кто, дескать, такой и что тут желаете?» Сей субъект отвечает нежным, как бы бабьим голосом: «Пардон, я ошибшись». Хотел его схватить, а он мне в глаза табак бросил и вышиб из меня слезы и полное неведение.
— В полицию сообщил, Ванюшка? — дрожащим голосом спросила хозяйка.
— Без вашего регламента не имел на то оснований! Сбегать?
— Теперь, думаю, поздно. За верную службу на, возьми… — и Варвара Михайловна протянула Ивану пять целковых из денег, которые тот получил от жильцов.
В тот же вечер Иван с восторгом рассказывал всем постояльцам о своем героизме. Те дружно согласились: «Дело с переодетым фигурантом нечистое. Жаль, что его не поймали!»
Теперь уже не только Варвара Михайловна, но и все жильцы испытывали чувство страха.
21 января 1893 года крестьянка Мария Костина, снимавшая две комнатушки в собственном владении дворянки В.М.Карепиной, лежала поутру в постели. На улице было морозно и трудно было вылезти из-под одеяла. Мария рассчитывала время суток по колокольному звону соседнего Рождественского монастыря. К ранней литургии созывали давно, а по окончании службы колокола еще не слышно было. Из этого Мария вывела, что сейчас уже возле часов восьми.
Вдруг покой ее был нарушен самым необычным и тревожным образом. Кто-то сильно долбил в дверь и кричал: «Мария, Мария, скорей отвори!»
Она быстро сунула ноги в валенки, накинула на голое тело бараний тулуп и поспешила в прихожую:
— Кто там?
— Это я, — раздался громкий тревожный голос. — Архипов Иван, дворник. Скорее открой, горим! Пожар!
Мария быстро стукнула по щеколде, распахнула двери. Иван был страшно взволнован, что-то говорил о том, что из комнаты барыни валит сильный дым, что надо что-то делать, а что именно, он, Иван, сообразить не может, потому как сам во время сна наглотался дыма. Мария мгновенье подумала, потом сказала:
— Стой тут в прихожей, я хоть малость облачусь!
Она поспешила в комнату и сбросила прямо на пол тулуп с плеч, между раздвинутых занавесок Иван увидал ее белое тело с небольшими крепкими грудями. Мария натянула на себя зеленое байковое платье, крикнула:
— Иди сюда!
Когда Иван вошел, весь дрожа от возбуждения (Мария давно ему нравилась), девка сказала:
— Ванька, а что-то ты ко мне прибежал? Я-то вить в другом флигеле, у вас там есть суседи поближе.
Иван помялся. Он, честно говоря, и сам не знал, почему прибежал именно к Марии. Потом произнес:
— Ты завсегда рано подымаешься, а наши жильцы подолгу дрыхнут.
— А не сгорят?
— Не должны, по всему вероятию. В хозяйкиных комнатах дым валит, а огня не видать пока. Готова? Ну, побегли шустрей.
Они пришли в кухню, где жил Иван. Далее, в комнаты хозяйки, двери были закрыты изнутри. Пахло гарью, тянуло дымом.
Иван бросился к дверям, стал долбить в них кулаками:
— Барыня, барыня! В ответ — молчание.
— Ванька, брось руки отбивать, — сказала Мария. — Иди-ка ты в участок и заяви. Тут дело нечистое.
Иван почесал в затылке и отвечал:
— И то!
Он медленно натянул на себя башлык, надел шинель и отправился в полицейскую часть. Дежурный офицер накричал на него:
— Из-за всяких пустяков полицию беспокоить? Разбаловались!
Офицер был не в духе. Ночью в участок привели буянившего господина, избившего сначала извозчика, а затем и вступившегося за него городового. Офицер накричал на хама, а затем без лишних разговоров закрыл его в кутузку. Лишь ближе к утру выяснилось, что арестант — племянник генерал-губернатора. Буян с извинениями был выпущен, посажен на извозчика, которому дали приказ доставить господина домой без взимания платы.
Теперь офицер боялся взбучки за свою излишнюю строгость к лицу высокопоставленному. Впрочем, смягчившись, он посоветовал Ивану:
— Иди к городовому. Скажи, что я приказал ему явиться на место происшествия и разобраться в случившемся по всей форме.
Иван поплелся искать городового.
Тот стоял на посту. Иван передал ему устный приказ офицера.
Фамилия городового была Кунявин. Это был человек среднего роста, с широченными плечами и обветренным лицом, с рвением несший свою нелегкую службу.
— Ты, дурья башка, посмотрел бы прежде, чем бегать в участок! — Кунявин выразительно постучал себя по голове. — Вот наперлось в Москву всякой деревенщины! Ну, поворачивай живей. Побежали!
Кунявин действовал решительно. Едва он ворвался в дом, в котором уже никто не спал и на лестнице толпился народ, как крикнул:
— Топор, быстро!
Мария, вертевшаяся рядом, схватила чей-то топор, протянула городовому. Тот обушком долбанул в дверь Варвары Михайловны, зарычал:
— Открыть! Почему дым валит?!
— У барыни двери замкнуты изнутри-с, крючок накинут, — угодливо пояснил Иван. — Тут апартаменты имеют свое расположение. Кухня, где мы сейчас стоим, соединяется с гардеробной. Затем гостиная с пикусами, а оттедова ход в кабинет с диваном, который есть альков. Вы лицо при исполнении, так что могите двери высаживать…
— Без тебя знаю, что я должен делать, — добродушно огрызнулся Кунявин. Он ловким движением сильного и уверенного в себе человека вставил топор между дверным полотном и притолокой, нажал на топорище, и дверь распахнулась.
Здесь, в гардеробной было довольно дымно, гораздо сильней, чем в кухне. Дверь в гостиную тоже была закрыта изнутри.
— Вон ключ торчит, — показал Иван, кашляя и вытирая слезящиеся от дыма глаза. — Виднеется с той стороны.
Кунявин, действуя как заправский взломщик, в мгновенье ока вскрыл и эту дверь. В Гостиной стоял уже плотный дым. Дышать стало трудно. Городовой, направляемый за руку Иваном, повторявшим: «Моя бедная барыня, что с вами?», с разбега высадил могучим плечом дверь в кабинет. Тут уже совсем нечего нельзя было рассмотреть, да и дышать стало невмоготу — дым был таким густым.
Подскочив к светлому пятну окна, Кунявин шашкой высадил стекла. Дышать стало чуть легче. Другие окна, замазанные на зиму, Иван открыл с помощью топора.
Когда дым несколько рассеялся, присутствовавшие были поражены леденящей душу картиной. Впрочем, приведем небольшой отрывок из следственного дела: «Произведенным января 21-го 1893 года… осмотром места происшествия, обнаружен труп потомственной дворянки В.М.Карепиной, 68 лет (ошибка, правильно — 70 лет — В.Л.), лежавшей на полу в одной сажени от письменного стола на тумбочках, головой к правой его стороне, а ногами к торцовому окну. Верхняя часть тела обгорела до неузнаваемосmu, так что на ней не сохранилось одежды. Руки согнуты в локтях и находятся в так называемой «позе боксера». Правая рука выше левой, будто защищает лицо, голова и плечи оттянуты назад. Платье от пояса до туфель в абсолютном порядке: даже юбка поправлена На краю письменного стола — резервуар от столовой лампы типа «Самсон», а на расстоянии четверти аршина ближе к центру стола лежит стекло от лампы и разбитый флакон из-под керосина. На столе и возле стола явно различимые выгоревшие пятна от керосина. Все бумаги и книги на столе обнаружены в некотором беспорядке. На столе лежит почти законченный вязкой красный шерстяной чулок с пятью спицами. Правая тумба и средний ящик открыты. Имеющиеся там бумаги находятся в некотором беспорядке. Половицы с обеих сторон пострадавшей сильно прогорели насквозь и образовались отверстия до четырех, а в отдельных местах до пяти вершков»… Началось следствие.
Молодой следователь Филиппов рьяно принялся за дело. Он два раза тщательно допросил Ивана Архипова. Тот обстоятельно рассказал о таинственной грабительнице в мужском платье, о смерти Мими, о страхах покойной. Были опрошены и местные дворники — самые верные стражи порядка и надежные осведомители. Они подтвердили слухи о даме, переодетой мужчиной, но никто кроме Архипова, как выяснилось, ее не видел.
Последнее, впрочем, было легко объяснимо. Подозрительная особа интересовалась домом покойной, поэтому там она чаще всего себя и проявляла. Но Филиппов в личном докладе Эффенбаху уверенно заявил:
— Думаю, что дама в мужском платье — плод фантазии Ивана Архипова. Собака съела какую-то дрянь и сдохла без постороннего участия.
— А кража саквояжа с ключами?
— Дело для Москвы обычное. Ежедневно у кого-то вырывают из рук сумки. А тут грабитель видит, что в пустынном переулке идет одинокая старуха. Вырвал сумку — и айда, через проходные!
— Хорошо, твое мнение, Филиппов: убийство или…
Филиппов уверенно тряхнул головой:
— Несчастный случай! Пострадавшая смахнула нечаянно лампу, керосин попал на кофту. Все сразу вспыхнуло — порохом! Останки отправляли медикам на экспертизу, те не нашли никаких механических повреждений ни на черепе, ни на отлично сохранившейся нижней части туловища. Почему в ящиках стола перерыты бумаги? Сама что-нибудь искала.
Эффенбах задумчиво стучал карандашом по столу:
— Твоя версия складная. И я с тобой соглашусь, коль скоро ты, Филиппов, ответишь мне на единственный вопрос: почему в доме не обнаружены ценные бумаги и наличные деньги, не считая каких-то копеек в кошельке? Старуха все-таки не была такой бедной, как прикидывалась. Шутка ли, владелица семи домов! И даже драгоценностей не нашли, а уж какие-никакие должны быть в подобном хозяйстве.
— Я вызвал из Варшавы ее сына, который жил с Карепиной до 1 октября прошлого года, а потом был переведен по службе в Польшу. Должен вот-вот быть. Он, в отличие от родственников с Пресни, досконально сумеет ответить на вопрос: что исчезло, если действительно исчезло.
Эффенбах, как и все остальные руководители московского сыска, обладал отличными аналитическими способностями. И он непременно лично выезжал на места всех крупных преступлений. Прибыв во владения Карепиной по Знаменскому переулку, шеф увидал гораздо больше, чем его молодой сотрудник.
На другой день в 10 утра состоялось оперативное совещание, на котором Эффенбах устроил своего рода университет для московских сыщиков.
Верный любви к точности, ровно в 10 утра Эффенбах открыл оперативное совещание. С легкой улыбкой он заметил:
— Присутствуют все, кроме командира группы Филиппова. Причина уважительная: он решил лично допросить прибывшего два часа назад из Варшавы сына убитой. Да, я не оговорился. Мое твердое убеждение, что Карепину убили. Может, кто разделяет мою точку зрения?
Оказалось, что полковника поддерживают отец и сын Русаковы, те самые, которые жили в свое время в меблированных комнатах Викторова и арестовали его — знаменитого московского убийцу, отправившего труп своей любовницы по железной дороге в корзине. Гусаков-старший сказал:
— Сторонники версии несчастного случая утверждают, что Каренина заправляла горящую лампу, да перевернула на себя керосин, который и вспыхнул. Но, во-первых, ни один нормальный человек не заправляет лампу, у которой горит фитиль, во-вторых, если бы жертва опрокинула керосин, то он попал бы ей на юбку, но никак не на лиф. А обгорела как раз верхняя часть туловища.
— Хотел бы и я добавить, — вступил Гусаков-сын. — Коль скоро Каренина горела, она бы активно двигалась, крики ее услыхал бы весь дом. Но криков не было, а труп лежит чуть-ли не по стойке «смирно». Так может лежать лишь горящий мертвец.
Темпераментный Эффенбах хлопнул в ладоши:
— Браво! Но главное доказательство грабежа, уверен, нам скоро привезет сам Филиппов…
И, словно по волшебству, после этих слов массивные, уходящие под высоченный потолок двери распахнулись. На пороге стоял Филиппов.
— Прекрасно, коллега! — воскликнул Эффенбах. — Рассказывайте, какие новости.
Вид у Филиппова несколько смущенный. Он испытывал смешанные чувства: неловкости и радости.
— Признаю, был не прав, когда пытался доказать, что смерть произошла по чистой случайности! Все утро беседовал со свидетелями. Теперь следствие располагает важными сведениями. Первое, сын убитой, военврач Александр Петрович, утверждает, что из дома матери похищены… — Филиппов достал из портфеля протокол допроса: — Похищены сто рублей, которые он прислал матери к Новому году и которые она должна была сохранить для самого Александра Петровича. Дело в том, что он балуется картишками и таким способом решил сохранить часть своего жалования. Затем, из сундука украдены процентные бумаги на 12 тысяч рублей. Исчезли две семейных реликвии — старинные, усыпанные жемчугом дамские часы и большие, весьма ценные золотые мужские часы с репетиром. Всеобщее подозрение вызывает поведение дворника Архипова. Напомню, что тело покойной отправили в анатомический театр в три часа пополудни 21 января, а в тот же вечер постоялка дома, крестьянка Мария Костина, придя на черную лестницу, нечаянно застала такую картину: Архипов усиленно звал к себе домой какую-то женщину, а та упиралась и шепелявила: «Нет, к тебе я теперь ни на шаг, ты завтра сам приходи и приноси деньги». Но Костина видела, как Иван поцеловал женщину и увлек ее к себе наверх. Женщина невысокого роста, была одета в старую котиковую шубу. Соседский дворник Козьма Калягин, лет тридцать знавший убитую, часа через два после обнаружения трупа Карепи-ной встретил Архипова с той же шепелявой женщиной. Согласно показаниям Калягина, он бросил упрек: «Как же ты, Иван, допустил сгореть барыне? И скажи честно: где ты провел сегодняшнюю ночь?». Архипов страшно заволновался, даже нос его сделался белым. А женщина вступилась: «Иван всю ночь был на дежурстве!» На это Калягин возразил: «Вот врешь! Эту ночь была моя очередь дежурить. И тебя, Иван, на дежурстве не было. А видели тебя в „Русском трактире“, что на Трубной. Ты всю ночь пьянствовал. На какие шиши?». Вот, — закончил Филиппов, — собственно все. Считаю доказанным, что Каренина погибла насильственной смертью. И к преступлению причастен Иван Архипов. Слово взял Гусаков-младший:
— Похороны завтра на Ваганьково. Надо последить за Иваном, как он станет вести себя. И если поведение его будет подозрительным, надо сделать дома обыск, а самого арестовать.
Эффенбах возразил:
— А если обыск ничего не даст (не круглый же он идиот — держать у себя добро убитой)? И сам не признает вину? Нет, с арестом спешить не надо, а посмотреть на похоронах — и вообще посмотреть! — необходимо. Гусаков-младший, дайте указание Калягину (он наш надежный агент), чтобы провоцировал активное поведение Архипова у гроба. А вы побудьте в толпе, понаблюдайте.
За Архиповым было установлено круглосуточное наблюдение.
Согласно народному поверью, убийца не выносит погребальной службы по его жертве. Калягин, встретив на кладбище Архипова, как бы по секрету шепнул:
— Иван, хочешь сегодня узнать убийцу твоей хозяйки? Скажу секрет-Архипов выпучил глаза, оторопело спросил:
— Как это?
— Ученые люди открыли, что, когда убийца сделает прощальный поцелуй своей жертве, у него в жилах кровь от волнения закипит и он сразу омертвеет.
Архипов недоверчиво покачал головой:
— Чепуха, небось?
— В «Московском листке» написано. Газета у меня лежит дома. Я тебе дам почитать.
Голос Архипова задрожал:
— Такого быть не может. К тому же, смею выразиться, что вряд ли убийца на богослужении будет.
— Это другой резон, — солидно ответил Калягин. — Зато если припрется злоумышленник, так точно омертвеет. Кровь от волнения бросается в голову и там производит излияние в мозг. Убийца в начале впадает в паралич, а затем испускает дух. Только — молчок!
Отправился Иван Архипов в церковь на обедню, а ноги у него еле переставляются. Отстоял все-таки, а как отпевание началось, так сразу из церкви вон!
А его за воротник бдительный Калягин ловит:
— Ты куда к дверям стремишься?
— У меня в животе сильное бурчание… Покачал укоризненно головой Калягин:
— Твою благодетельницу отпевают, а ты, паразит, прости Господи, обосравшись? Стыдно, стыдно…— говорит он громко, на всю церковь.
— Да я в один секунд, — заискивает Иван, — до нужника и тут же взад вернусь…
Минут пятнадцать отсутствовал Иван. Калягин уже решил, что его подопечный в бега ударился. Так во все отпевание и отсутствовал. Но к прощанию он вошел в церковь. Калягин внимательно следил за ним. Иван часто и мелко крестился, но к гробу не подходил. Тогда Калягин строго ему сказал:
— Ну, иди прощайся! — и уцепившись за рукав, потащил Ивана к гробу. Тот было упирался, но видит, что народ весь на них глядит, вздохнул, подошел к гробу, глянул в лицо покойницы, или точнее, в то, что от него осталось и что было прикрыто белой кисеей, передернулся весь, скривился и так отшатнуло его, что повалил на пол какую-то бабку. Так и не простился.
А как стал священник читать Евангелие, все увидали, что рот у Ивана будто набок перекосило, а нос опять стал белым, как мел.
Наружная служба донесла, что после похорон Иван со своей подругой были в Торговых рядах на Красной площади и купили там женский платок, который спутница Архипова тут же накинула поверх вытертой котиковой шубейки. Себе Иван заказал у сапожника модные сапоги с высокими отворотами.
Филиппов изложил обстановку шефу и спросил:
— Господин полковник, прикажете брать?
К своему изумлению, он услыхал ответ Эффенбаха:
— Не спеши! И усиль наружное наблюдение…
Покачал головой Филиппов, незаметно вздохнул и решил: «Чудит начальник! Сделаю все на свой страх и риск. Докажу, что Архипов — убийца. А победителей, как известно, не судят».
Филиппов не доложил шефу, что уже успел совершить должностной проступок. Пока Иван бледнел и краснел возле гроба любимой хозяйки, он произвел у него дома тщательный обыск. В летнем картузе ему удалось обнаружить зашитые туда пять десятирублевых золотых монет. Сыщик был вне себя от радости: это ли не доказательство того, что дворник причастен к убийству! Ведь сын Карепиной говорил как раз о пропаже десяти монет: «Стало быть, — веселился сыщик, — был еще сообщник, с которым монеты и поделены поровну!»
Теперь после истеричного поведения Ивана в церкви, Филиппов решил: «Арестую и допрошу убийцу!»
Это он и сделал, нагрянув домой к Ивану в два часа ночи. От того сильно несло перегаром. Хмель еще не выветрился из его головы. Казалось, что он полностью растерян и туго соображает.
Сыщик тут же, в комнатушке Ивана, начал его первый допрос:
— Нам известно, что ты, Архипов, убил хозяйку и поджег ее комнаты. И делал это не один. Быстро отвечай: кто твои сообщники? Только чи-1 стая правда спасет тебя, паразита, от виселицы!
Иван мотал головой и мычал:
— Не убивал…
— Какими владеешь ценностями, добытыми преступным путем?
— Не владею!
— Да? — Филиппов скривил в улыбке рот. — А ну-ка достань из сундучка фуражку. Вот-вот, эту! Что у тебя зашито сюда?
— Это пять золотых. Мне отец их передал по воле покойного деда.
— Проверим! — скрипнул зубами сыщик. — На какие деньги гужуешься со своей девкой? Ей платок купил, себе у Макаева сапоги заказал?
Помотал головой Иван, удивился:
— Надо же! Вы, господин полицейский, все знаете, даже такие тонкости проникаете… А как же вы, ваше благородие, не ведаете, что кухарке Костиной мать прислала из деревни пуд пера гусиного. Она срочно нуждалась в деньгах и продала его мне за 9 рублев 40 копеек. Сам я с хорошим барышом отдал перо за 18 целковых в винном магазине Депре, что на Кузнецком.
— Кому продал? Фамилия? — Филиппову казалось, что пол уходит у него из-под ног.
— Досконально фумилию евонную не знаю. А зовут Семеном Львовичем, такой приятной наружности мужчина, при усиках и с небольшой плешью. Очен-но веселый!
— Проверим, проверим…
— А еще барыня 20 числа жалованье мне заплатила, а на Новый год 5 рублев пожертвовала за усердие по службе. Это все знают, покойница даже госпоже Боневольской о том хвастались.
Чуть помолчав, сокрушенно вздохнул, махнул решительно рукой и выпалил:
— Все же признаюсь в преступлении… Филиппов так и подскочил на стуле:
— Вот и молодец, облегчи душу…
— Ох, тажкий грех гнетет душу мою! — с надрывом всхлипнул Иван. — До дней моих последних не замолить его перед покойницей. Ведь у вас, москвичей, какой порядок? В конце года, хочешь не хочешь, тащи денежное подношение в городскую полицию. А прежний обер Власовский строжайше запретил это. Хозяйка не знала о запрещении, дала мне 8 рублев. Вот я, — Иван, словно девушка, лишившаяся невинности, залился краской стыда, — денежки утаил для себя. Что ж мне теперь будет?
Сплюнул в сердцах Филиппов и начал допрашивать соседей.
Костина подтвердила, что продала Ивану перо. Госпожа Боневольская припомнила, что хозяйка ей говорила о денежных подношениях Ивану.
Иван радовался:
— Я ведь вам истинную правду докладывал, ваше благородие. Разве я мог на любимую хозяйку руку поднять?
— Не лотоши! — осадил его сыщик. — Я тебе не верю! Своим нервным поведением возле гроба убитой ты полностью себя разоблачил.
— Не извольте ругаться! Я двистительно вида покойников терпеть не могу. Когда мне было годков пять, мой папаша упал со стремянки, закатил глаза, изобразил мертвый вид. Сбежался народ, мать голосит, я возле отцовского мертвого трупа слезами обливаюсь. Пришел священник отец Борис. Приложил ко рту убившегося зеркало, а нем дыхание не отражается. «Представился раб Божий Александр!» — перекрестился отец Борис. Вдруг родитель вскочил на ноги и стал хохотать. Говорит: «Хотел испытать крепость ваших чувств ко мне, станете ли вы плакать!» Через эту проверку я потерял сознание и с той поры категорически не переношу вида мертвецов.
Филиппов скрежещет от досады зубами, а отступать не желает:
— Архипова — в Бутырский замок! — командует. А сам поехал допрашивать Семена Львовича из винного магазина. Тот все подтвердил, что Иван говорил.
Архипов всего лишь ночь и переночевал в Бутырках, а утром его выпустили. Велика важность: русского мужика в тюрьме подержать, не английский немец, вреда никакого не случится. Ан нет! Иван начал кандибобер гордый показывать и из Бутырок прямым маршрутом в полицейское управление отправился. Дошел до самого Эффенбаха, с возмущением заявляет:
— Очин-но неприятное для моего организма полицейское самоуправство: без всякой преступной вины в кутузку ночевать отправляют! Прошу оплатить мне канписацию за ущерб нервной системы.
В тот же час Филиппов был отстранен от ведения следствия и на полгода переведен на собачью должность — в филеры.
Саша Бекман родился, в Подолии, в историческом местечке Сатанове Проскуровского уезда. Знаменито оно было Петром I, который здесь некогда останавливался.
Потянуло Бекмана к шумной цивилизации. Отправился он в Москву. Знакомых и денег нет, а кушать 16-летнему мальчику хочется. Стал он приворовывать на вокзалах. Однажды видит: дрыхнет на скамейке возле кассы какой-то дядя, а возле дяди саквояж беспризорный.
Но Саша парень осторожный. Подсел рядом, к дыханию прислушался: ровное оно, глубокое, с просвистом. Схватил поклажу и быстро, быстро — на площадь Николаевского вокзала. Оттуда дернул на Домниковку. «Эх, радуется, добыча мне хорошая досталась. Может драгоценности?»
Вдруг за версту уже от вокзала догоняет его рессорная коляска. Прямо на плечи похитителя спрыгнул какой-то господин, в мгновение ока скрутил тому руки: «Попался, такой-сякой!».
Доставили Сашу в полицейский участок Мясницкой части. До следующего утра он просидел в камере. Потом его отвели в кабинет следователя. Затрясся от страха юноша, ибо увидел он вчерашнего дядю, у которого спер саквояж. Первая смысль была: «Бить будет?».
Но господин вдруг вполне дружески улыбнулся:
— Присаживайся! Рассказывай, разбойник, о себе: как зовут, где живешь? Чем занимаешься — сам видел, не спрашиваю. Ты, дурачок, думаешь, меня вчера перехитрил? Ан нет! Это я с твоей помощью выловил опасного бандюгу. Он собрался брать кассу, да заподозрил во мне сыщика. Мы и впрямь, оказывается, когда-то с ним сталкивались. Я следил за ним, а он за мной. Но когда ты уволок мой сак, он уверовал, что я не сыщик, а пассажир-лопух. Влетел в кассу, а мы — тут как тут. Спасибо нашему осведомителю, предупредил нас о налетчике. Да, забыл представиться — агент сыскной полиции Гусаков. Чаю выпьешь?
…Через час Бекман вышел из участка с гордо поднятой головой. Его распирали горделивые мысли: «Теперь я секретный сотрудник! Буду знаменитым сыщиком…»
Ему и впрямь предстояло отличиться и войти в анналы истории криминалистики. Бекман принял христианскую веру. Крестным отцом станет Гусаков-старший.
Для Бекмана началась новая жизнь. Среди других своих профессиональных занятий более всего возлюбил посещение публичных домов.Особенно часто он проводил время у грудастой блондинки из остзейских крестьянок Анны Крюгер.
31 января 1893 года Бекман сидел в номере Анны и пил пиво, разрывая за клешни крупных раков. Рядом развалилась в кресле пышнотелая Анна. Она плаксиво жаловалась:
— Бывают же негодяи! Повадился ко мне ходить один отвратительный тип. Изо рта гнусно пахнет, морда щучья, прыщавая, сам жестокий…
— Обижает? Так можем сдать в полицию. Анна нетерпеливо дернула плечиком:
— Не в этом дело, Саша! Он и прежде ко мне захаживал. Ситро лишнее боялся заказать — голь перекатная, тьфу! Не люблю бедных мужиков. Нет денег, так люби свою жену, а не ходи к веселым девушкам! И вдруг этот клиент заявился днями — что тебе павлин с хвостом разноцветным: часы на золотой цепочке, сапоги хромовые со скрипом, новое пальто, одеколоном французским на версту разит… Лыбится: «Я человек теперь состоятельный! Могу весь ваш бардак купить. И ты должна любить только меня. Иначе я сделаю из твоего замечательного тела отбивную котлетку с кровью». И так отвратительно заржал, зубы как у лошади — крупные и желтые…
— Как зовут его?
— Федор Юргин. Живет на Семеновской улице в доме Колесина. Он показывал мне пачку процентных бумаг…
— Умница! — Бекман чмокнул девицу в щеку. — Мне пора ехать!
Выходя из дома, осведомитель увидал, как к подъезду подкатил лихач. Из саней выскочил щеголевато одетый мужчина простонародного вида, крикнул извозчику:
— Жди меня! А вот тебе пока, поди, выпей водки… — он швырнул ассигнацию.
Лицо у гостя было некрасивым и узким, зато рост высоченный, тамбурмажорский. Бекман бросился ловить извозчика. Через десять минут он влетел в приемную Эффенбаха. Дежурному, задыхаясь, сказал:
— Пустите к полковнику! Наиважнейшее дело!
Эффенбах внимательно, ни разу не перебив, выслушал Бекмана. Когда тот замолчал, полковник еще выждал и лишь после этого спросил:
— Какой адрес «веселого дома»? — записал, пожал руку гостю и, простившись с ним, приказал: — Извозчику — запрягать! Со мной едут оба Русаковы. Иметь заряженные револьверы.
…Не прошло и часа, как верзила по фамилии Юргин давал показания в кабинете Эффенбаха.
Психологи давно отметили странную на первый взгляд закономерность: люди жестокие, бессердечные, обладающие большой физической силой, в критической ситуации чаще всего оказываются трусами и предателями. Так случилось с рядовым солдатом-запасником драгунского Новороссийского полка, из крестьян, по профессии каменщиком, Федором Юргиным. Едва ворвавшиеся в номер Анны Крюгер полицейские надели на него наручники, как этот ничтожный человек начал выкладывать полиции все, что мог, даже то, что не относилось к этому делу и никогда не могло быть узнано. Он донес на своего хозяина Ко-лесина, который прятал женские часы, взятые Юргиным у Карепиной, на свою жену Софью, случайно узнавшую о преступлении и, естественно, не донесшую на мужа. Не забыл и про свою мать, которую упросил сохранить ценные бумаги и пять золотых монет…
На первом допросе присутствовали кроме Эффенбаха, срочно снятый со своего поста на Пятницкой Филиппов и Гусаков-старший.
— Что, любезный, ты знаком ведь с Иваном Архиповым? — спросил Филиппов.
Юргин аж подпрыгнул:
— А я рази не сказал еще? Простите, господа командиры, все, все сейчас доложу. Вот ни столечко, — он показал кончик мизинца, — не утаю. Знаю, знаю этого проходимца… Все равно мне пропадать, так пусть и Ванька-паразит сгниет на каторге. Дело, значит, было так…
Впрочем, рассказ о своем преступлении в тот же вечер вели оба — и Юргин, и Архипов. Валили все друг на друга. Следствие продолжалось полтора месяца. На суде была выявлена довольно объективная картина. Суть ее в следующем.
Юргин и Архипов оказались не только давно знакомыми, но даже родственниками. Летом они некоторое время вместе работали штукатурами. Юргин получил громадную для него сумму — 300 рублей. Как на грех, в это время в больницу попала его жена. Кто-то однажды сманил Юргина в публичный дом. Парню там понравилось. Он зачастил с визитами к дамам легкого поведения. Деньги быстро разошлись. Тогда он промотал много домашних вещей, спустил почти всю одежду жены. И так пристрастился к порочной жизни, что уже остановиться не мог.
Когда жена вернулась домой, начались безобразные скандалы со взаимным рукоприкладством.
Однажды за выпивкой Архипов сказал Юргину:
— Моя барыня продала дом. Отхватила 30 тысяч! Куда ей, старухе, такой капитал? — Это была выдумка, болтнул с пьяных глаз.
Юргин встрепенулся:
— А где она хранит деньги?
— Этого досконально знать не имею возможности. Не исключается, что таскает за собой в саквояже. По вечерам на Пресню к дочке ездит вместе с саквояжем.
Юргин ни слова не сказал приятелю о задуманном. Несколько дней он следил за Карепиной. Однажды подловил удачный момент, вырвал сумку; и удачно скрылся. Увы, в сумке оказались гроши. \ На другой день он отдал из этих денег два рубля Архипову и с укоризной сказал:
— Ванька, ты меня с толку сбил. Твоя бабка в сумке деньги не носит. Где лежат 30 тысяч? Ты взял свою долю, обязан мне всячески содействовать.
У Ивана глаза полезли на лоб:
— Какую такую долю?
— А два целковых! Так что, ты мой соучастник.
— И что я должен делать?
— Первое, всем рассказывай, что возле дома ты видишь бабешку, переодетую в мужчину. Этим мы собьем со следа. А главное: разведай насчет капитала… Куда бабка прячет? Иван пошел на попятную:
— Да может это все игра фантазии — 30 тысяч? Не продавала Варвара Михайловна дома. И денег у нее таких нет. Все больше конской колбасой питается. В столе письменном у ей лежит.
— Не темни, Ванька! Боишься? А зря! Дурья твоя башка, одним махом разбогатеем, от девок отбоя не будет. Девок любишь? И я люблю. А они деньги уважают. У меня в голове мысль имеется. Сделаем так, что никто на нас не сообразит. Станем богатыми, а бабке все равно скоро помирать пора.
— А как не найдем деньги?
— Найдем! Они, старые, только прикидываются казанскими сиротами, а в чулках или клубках с нитками миллионы. Отыщешь!
Вот строки из судебного отчета:
«Юргин несколько раз побывал в доме Карепиной во время ее отсутствия. Он хотел вскрыть двери в комнаты хозяйки, но Архипов того не допустил. Юргин не менее 10 раз водил Архипова в трактиры, где угощал водкой и чаем. Каждый раз он заводил разговор об убийстве Карепиной. Он говорил, что у него есть такой чемодан, в который он засунет мертвое тело, а коли оно целиком не полезет, так и разрубит на куски. После этого дело легко пойдет: чемодан вывезет за город, свалит в овраг. Тут хищники разнесут покойную до последней косточки, а если что останется, так весенняя вода остатки следов смоет. Так что, концы в воду…».
Эффенбах вопросительно поднял глаза на Ивана:
— Вы, Архипов, говорите, что не желали беды вашей барыне. Но как тогда понимать ваше молчание? Почему об ужасных намерениях Юргина вы не сообщили нам?
Иван помолчал, покрутил задумчиво головой и уж потом, глубоко вздохнув, произнес:
— Да ведь в таком случае что со мной сталось бы?
— Заслужил бы признательность!
— Вашу — это точно. А Варвара Михайловна после сей откровенности непременно бы отрешила меня от должности. Не смогла бы она простить столь неизящное знакомство-с! А я ведь очень дорожил местом.
— Признаюсь, я думал, Иван, что ты гораздо умнее.
— Что я сказал не так?
— Не сообщив о намерениях Юргина, вы обрекли жертву на заклание. — Эффенбах иронически улыбнулся: — У покойников в услужении, сколько мне известно, еще никто не состоял. Разве что кладбищенские смотрители.
— Я смекал, что Юргин не способен совершить смертоубийство. Думал, куражится! «Нет, говорил я себе, такой не сумеет поднять руку на беззащитную старуху!»
— А вышло иначе…
— Да, Юргин поступил хуже зверя. — И, потупясь, Иван добавил: — Я тоже хорош.
Далее допрос принял несколько неожиданный для Эффенбаха характер:
— Вы, Архипов, признаете, что пять золотых червонцев, обнаруженных у вас при обыске, похищены у Карепиной?
Иван упрямо помотал головой:
— Повторяю: нет! Это мое. Почитай, вся деревня наша знает, что дед их оставил мне.
— А отец ваш подтвердит?
— Обязательно! Мой папаша не даст мне соврать.
Эффенбах помолчал, постучал карандашом о письменный прибор и заявил:
— Нет, Архипов, в твою деревню я не поеду. Про монеты ты убедительно говоришь, и я тебе верю. Ведь остальных грехов вполне хватит, чтобы отправить тебя на каторгу. И очень надолго. Расскажи, как совершали убийство.
Устало выдохнув, явно без удовольствия, Архипов стал вспоминать:
— Вечером 20 января Варвара Михайловна были дома. Она еще позвала меня: «Иди, Ванюша, чайком брюхо погреем!». Когда мы пропустили по паре стаканов китайского, хозяйка вдруг и говорит: «Что-то у меня последнее время на душе как-то тошно! То покойные родители снятся, то будто лечу я куда-то в большую черную пропасть. Прямо замучилась! И молюсь — не помогает. Ну да ладно! Выйди на улицу, посмотри за порядком. Слышь, вроде, как бы кто вскрикнул?
— Не слыхал, да пойду пройдусь…» Спустился я во двор и сразу вижу: Юргин идет!
На сердце так и екнуло. Говорю: «Ко мне не ходи!» — «Это почему такие строгости?» — «Хозяйка дома». — «Вот и хорошо. Я ведь пришел ее убивать. Хватит шутки шутить!».
Чувствую: хватил мужик винца! И уж очень он куражный. Эх-ма, плохо это, но продолжаю линию свою гнуть: «Очухайся! Ты убьешь, да убежишь, а меня в тюрьму замкнут».
Юргин твердо на своем стоит: «Нет уж, дудки! Я решился и от своего не отступлю. Надо лишь все сделать умственно. Помнишь, в канун Нового года старуху на Пятницкой в мешке задушенную нашли? Моя работа! Чисто дело обтяпал, комар носа не подточит. Так и сегодня совершим мозговито. Богатеями станем. Капитал одним махом приобретем. Соглашайся!» «Нет, я не согласен!» — говорю. А Юргин прижал меня грудью к дереву и в лицо дышит: «Так я тебя, гнида, изничтожу! Лупешки твои выколю…» — и двумя пальцами мне в глаза лезет.
Испугался я уже не за старуху — за себя. Отвечаю: «Черт с тобой, обормотом! Связал нас нечистый, надо развязываться!»
Про себя думаю: «Ну, Иван, попал ты в переплет! Что делать, надо выкручиваться. Юргин тупой, а я выдумаю такое, что полиция мою задачку сроду не решит». Так и поступил.
Иван был наделен крестьянской сметливостью, а хитрость его и изворотливость были просто исключительные. К тому же, людей вводила в заблуждение его простецкая наружность.
Вот и теперь, сообщив Юргину план убийства, он держал про себя вариант разрушения намеченного. Сообщники тихо поднялись в квартиру. Кухня, где помещался Иван, была небольшой — чуть больше 10 квадратных аршин. По своему тайному плану, Иван должен был крикнуть хозяйке, что уходит и за ним требуется запереть дверь на лестницу.
Варвара Михайловна, раскрыв свою дверь, должна была бы заметить Юргина и, в силу своей пугливости, тут же вновь закрыться изнутри.
К сожалению, все вышло иначе.
Иван громко крикнул:
— Варвара Михайловна, я ухожу. Закройте… Хозяйка повернула ключ в замке, раскрыла свою дверь… и не увидала Юргина, сидевшего на
кровати Ивана. Она вышла в кухню. Убийца моментально вскочил, длинной шершавой ладонью зажал жертве рот и нос, а другой рукой намертво притянул к себе. Юргин душил старую женщину, а та встретилась с глазами Ивана, и взгляд ее был столь жалостлив, что тот не выдержал, разрыдался.
Прошло минут десять. Тело Карепиной стало обмякать и опускаться на пол. Не отнимая рук, Юргин наклонялся вслед за своей жертвой. Еще несколько подушив ее в лежащем положении, он прерывающимся шепотом произнес:
— Дай-ка, Ванька, вон то полотенце! Для верности пасть старухе завяжу. Но вроде бы уже готова, сердце не стучит. Порядок! — Он сдернул с себя кожаные сапоги с галошами («чтоб не стучали!»), обшарил платье убитой, нашел ключи от письменного стола.
На цыпочках прошел через темные комнаты в освещенный кабинет, плотно задвинул занавески. Затем стал открывать ящики стола, рыться в бумагах и старых письмах (среди которых были и послания Ф. М. Достоевского).
— Вот деньги! — радостно прошептал убийца и выгреб ассигнацию! — А вот и двое часов — золотые, а эти аж с каменьями! Не зря руки марал о «мокрухой». Ну, черт, тут целая пачка ценных бумаг. Вот мне счастье привалило. — И подумал: «Хорошо, что Ванька от своей доли отказался».
Он все жадно запихал в карманы портков, засунул за пазуху и начал заметать следы.
— Ванька, помогай! — схватив убитую за руки, Юргин протащил ее через все комнаты, положил возле письменного стола и зачем-то аккуратно поправил задравшуюся юбку. Иван стоял рядом, молча смотрел на происходящее и по его физиономии текли слезы: ему до смерти было жаль хозяйку.
— Ванька, не распускай нюни! На, возьми денег…
— Я тебе сказал: не надо… Я все равно наложу на себя руки.
Юргин промолчал, а сам тайно вздохнул: «Не плохо было бы! Все подумали бы на тебя, деревенщина хренова!». Вслух же он сказал:
— Я ухожу! А ты ночью подожги керосин… Чем черт не шутит, повезет, так не только старухина комната — весь дом с жильцами сгорит! Все концы сразу в воду. Еще керосином облей — вот бидон…
Оглядываясь, Юргин вышел из дома. Путь его был недолгий — в соседний притон к веселым девицам.
Потрясенный Иван остался наедине с покойницей. Он сидел в своей комнатушке, зубы у него стучали словно в лихорадке, он зябко кутался в свою шинель.
Ближе к утру он вошел в комнату убитой, чиркнул спичкой и поджег керосин, разлитый на столе. Бидон, что стоял на кухне и в котором было не менее пяти литров, не тронул. «Хозяйку не пожалел, так жильцов и дом спасу». — подумалось Ивану. Вспыхнул вялый огонь. Потом горящая капля упала на пол. Пламя заплясало вокруг трупа.
С трудом дыша, Иван, чтобы запутать следы; закрыл кабинет изнутри. Сам же, раскрыв окно, вылез наружу. Под окном тянулся широкий карниз. Иван встал на него и прикрыл окно, затем спрыгнул вниз и, как ни в чем не бывало, отправился к своей тайной симпатии Марии Костиной, чтобы сказать: «Пожар!»
В марте 1893 года Московский окружной суд приговорил Федора Юргина к каторжным работам без срока, 20 лет каторги получил Иван Архипов. В мае 1901-го Юргина застрелил конвоир — при попытке к бегству. Архипову повезло больше: его взяли работать уборщиком в контору. Верный любви к книгам, он сумел организовать небольшую библиотечку, которой пользовались не только каторжане, но и начальники с семейными.
В конце концов Архипов женился на ссыльной, у которой кончился срок. В 1913 году, полностью отбыв наказание, Архипов уехал со своей супругой в ее деревеньку — это где-то в Вологодской губернии. В момент отъезда с каторжного острова у этой пары было четверо детей, которых Иван нежно любил.
Девица Крюгер получила за помощь полиции денежную премию и вскоре стала платным и удачным осведомителем. Зато карьере Саши Бекмана пришел конец. В разгар его тайной сыскной работы он попался на торговле фальшивыми бриллиантами. По иронии судьбы, его разоблачил сын того, кто выводил Сашу «в люди», — Гусаков-младший.
Эффенбах, вспоминая, как Иван Архипов едва не провел полицию, с восхищением повторял:
— Эх, не прост наш человек, особенно если он жулик!
СОТРУДНИКАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ МВД РОССИИ
Когда эта история стала достоянием гласности, она потрясла людей. Как писали газетные хроникеры, «невозможно поверить, что подобная дикость могла случиться в конце просвещенного XIXвека в самом Петербурге и на глазах всевозможных властей».
Богатый московский купец Игнатий Александрович Чугреев был человеком вдовым, положительным и немолодым — ему уже стукнуло 43. Свахи чередой ходили вокруг купца, предлагая невест самых завидных — юных, красивых, из хороших семейств.
Вдовца беспокоила его могучая мужская сила, но дав зарок пять лет не жениться, он уже четыре года продолжал одинокое существование. И в то же время, блюдя нравственную чистоту, брезгал легкомысленными знакомствами с разного рода игривыми гризетками.
Но, видать, и впрямь, грех сладок, а человек падок. По торговым делам вскоре после Крещения 1881 года Чугреев прибыл в Петербург. Тут как раз приключился праздник у купца Чистова по случаю его 40-летия. Будучи с юбиляром дружен, Чугреев отправился за подарком в ювелирный магазин Ивана Гуняева, что в доме восемь по Соляному проезду. Тут он облюбовал роскошный письменный прибор с двумя нимфами и искусно изготовленный из серебра.
Он оплатил покупку и готов был покинуть магазин, как вдруг к нему обратилась прелестная особа лет восемнадцати, одетая в хорошо сшитую ротонду на беличьем меху. Чуть смущаясь, она спросила:
— Приказчик уверяет, что эти изумрудные сережки мне к лицу. Так ли это?
Барышня правильно выговаривала слова, но Чугреев все же уловил акцент и подумал: «Мамзель хоть и чужестранка, а весьма смазлива, даже аппетитна!»
— К такому личику все хорошо, а сережки эти — особенно! — галантно ответил купец.
— Спасибо! — весело улыбнулась барышня. И повернулась к приказчику: — Господин советует, я заеду к вам на днях, выкуплю их, у меня с собой нет такой суммы.
Чугреев вдруг почувствовал какого-то особого рода любовное вдохновение. Неожиданно для самого себя он воскликнул:
— Ну это вовсе и не сумма, а всего лишь двести рублей! Коли эта безделка вам, сударыня, нравится, я сейчас же оплачу ее. Вот, приказчик, возьми, — и он положил на прилавок деньги. — Берите, барышня, не сомневайтесь.
— Мне стыдно, право! — заалела девица. — Тогда завезите меня домой, я вам верну долг.
Купца словно закрутила, завертела страсть.
Натура, давно сдерживавшаяся усилиями воли, взяла свое. Он уговорил слегка упиравшуюся девицу поехать в ресторан. Там, обычно не предававшийся разгулу, Чугреев веселился от души. Девица уже успела поцеловать в губы Чугреева и звонко выкрикивала:
— Я тюкер ом шампань!
Купец интересовался:
— Это вы о чем?
— Разве ты не знаешь шведского языка? Я шведка! Родилась в прелестном городе Вестервике. Это на балтийском побережье. Зовут меня Моника. И сказала тебе, Игаатушка, вот что: «Я люблю шампанское!»
— Это сколько прикажете. Эй, человек! Неси сюда полдюжины шампанского — французского, самого дорогого! Живо!
— Игнатушка, это очень много — полдюжины. Мы столько не выпьем.
— Возьмем с собой. Или, ха-ха, лошадь мою напоим! Вы поедете со мной в гостиницу?
Глаза девицы лукаво глядели на купца:
— С таким бравым человеком я готова на все. Я тебя люблю Игнатушка! А ты меня?
Чугреев краснел, что-то мямлил. Наконец он полюбопытствовал: почему Моника так хорошо говорит по-русски?
— Так я все детство провела в Вязьме. Жила с теткой. Она была горничной у богатого купца. Я даже три класса гимназии там окончила. За мою учебу купец платил. Дома у меня еще четыре сестры. Весной они приедут в Петербург. Здесь жизнь легкая и… как это… с роскошеством.
Стол ломился от яств и бутылок с разноцветными наклейками. Тосты провозглашались один за другим. И все чаще звучало:
— За нашу любовь!
Под утро Моника в страстном порыве обняла купца, жарко дыхнула ему в лицо:
— Прости, Игнатушка! Мне стыдно ехать в гостиницу. Что обо мне подумают? Ведь я честная девушка. Я приглашаю тебя к себе в гости.
Чугреев послал лакея в кучерскую комнату с приказом:
— Скажи моему Митрофану, что выезжаем!…Пара шустро летела по заснеженной дороге.
Снег искрился в волшебном свете полной луны. Пристяжная метала копытами снежные комья. И казалось Чугрееву, что спешит он к своему долгожданному счастью. А легкую победу над девицей объяснял искренней всепожирающей страстью, которая, как верил он, вспыхнула в девичьем сердце.
Ночь эту Чугреев провел в угловом доме на Английской набережной. В окно виднелся лед Екатерининского канала, припорошенный снегом и с темными полыньями, в которых бабы полощут белье.
Моника казалась ему небесным созданьем, посланным на землю как воплощение необычной красоты и женской прелести. Впрочем, когда мужчина подойдет к полувековому своему рубежу, то любая юница кажется ему писаной красавицей. Прижимая к себе чудное девичье тело, купец нежно и серьезно говорил:
— Всю свою жизнь я втайне жаждал этой встречи, я только и жил надеждой на нее. Своей покойной жене я был предан, никогда не изменял ей, но и никогда не испытывал особой страсти. Как теперь буду жить без тебя, Моника? Девица игриво отвечала:
— Сегодня вечером уедешь в Москву и навсегда забудешь бедную Монику. А я всегда буду любить тебя, всегда буду скучать.
Туманное морозное солнце заглянуло в спальню. Девица спросила:
— Я тебе приготовлю эгрера медшинка?
— Что это?
— Это то, что шведы едят на завтрак — яичница с ветчиной.
— Охотно!
После завтрака Чугреев в последний раз крепко поцеловал губы Моники. Он пообещал:
— Постараюсь почаще бывать в Питере. А это возьми, купи себе подарок, — и Чугреев протянул пятьсот рублей.
— Какой ты, Игнатушка, щедрый! Я уже успела привыкнуть к тебе, буду скучать и хранить верность.
Что касается обещания хранить верность, то Моника тут несколько преувеличила. И вообще, она вовсе не была столь простодушной и невинной, какой хотела казаться. Уже четыре года — с 16-летнего возраста, эта девица занималась проституцией. При этом, как позже отметят в полицейском протоколе, «имела исключительно богатых клиентов, не подозревавших о ее профессии».
С этой же целью вот-вот должны были прибыть в Петербург и ее четыре сестры, надеявшиеся найти в России и богатых клиентов, и позже — простофиль-женихов.
Моника, будучи весьма неглупой, уже начинала сильно тяготиться своим порочным образом жизни. Больше всего удручало ее то, что значительную часть денег приходилось отдавать на сторону: за квартиру, за пышные наряды, полицейским на взятки. Два раза она успела переболеть дурной болезнью.
Купец из Москвы весьма устраивал Монику как будущий муж. Он показался ей чуть глуповатым, весьма щедрым, неопытным в любовных делах. Боясь разоблачения, она с радостью покинула бы Питер.
И кажется, к тому шло. Бросив в старой столице большие дела, Чугреев па Пасху и Троицу приезжал к Монике, привозил богатые подарки, уверял:
— Я так скучаю, Манька, по тебе! В следующем апреле конец моему зароку, под венец тебя поставлю. Твои шведские родители согласны будут? Но из немецкой веры тебе следует перейти в нашу, православную.
Чугреев успел переделать заграничное имя Моники на российский лад. Девица горячо обнимала купца:
— Я тоже без тебя жить не в состоянии. А за подарки — так со мюке! На языке моей замечательной родины это означает: «Большое спасибо!»
Жених уезжал домой, в Москву, а девица продолжала принимать у себя любовников: престарелого князя — члена Государственного совета, конногвардейского полковника, видного адвоката, богатого петербургского купца и еще кого-то. И каждый из этих любовников был твердо и наивно уверен, что он у девицы единственный. Частое мужское заблуждение!
В самом конце августа подвернулся особый, необычный случай. И девица решила рискнуть, пойти ва-банк.
Заметим, что еще зимою к Монике прибыли ее долгожданные сестренки — Аника, Эва, Мария и Кристина. С помощью опытной и богатой связями Моники быстренько обзавелись любовниками — как и у сесты — всех возрастов и званий, но обязательно богатыми.
Младшая из этой фамилии — семнадцатилетняя Кристина — привезла в чреве своем плод человеческий. Чтоб изгнать его, отправилась к акушерке, которая за десять рублей ассигнациями все исполнила. И приглашала еще:
— Ежели что, девки, не сумлевайтесь — топайте ко мне. При вашем вольном положении — главное без обузы. А я при каком хочешь сроке вмиг ослобожу, порожней сделаю. Одним словом, опростаю.
Моника присутствовала при всей процедуре в качестве переводчицы, да заодно с любопытством наблюдала операцию. Сейчас она обнадежила акушерку:
— Обязательно придем!
Та, вытирая окровавленные ладони, вдруг встрепенулась:
— Я об чем? Ведь бывает и противуположная нужда. У нас тут одна роженица померла, а плод любви живой вылез. Девочка, такая складная. Купить никто из знакомцев ваших не желает? Скажем, милостыню просить. С младенцем больше кидают. А коли помрет, значит к ангелам прямиком отлетит — тоже удобно.
У Моники вдруг мелькнула дьявольская мысль:
— Сколько месяцев девочке?
— Эх, милая, каких месяцев? Пять ден всего. Ни родных, ни близких. Коли что, так никто не спросит-не схватится. Будь себе покойна.
— Дорого?
— Чего уж там, за четвертной билет отдам. Вместе с пеленками. Ее покойная мамаша, как словно конец свой чуяла, притащила целую кучу с собой. Думала я пеленки продать, да уж ладно, тебе вместе с плодом вручу. И кормилицу пришлю. Одна тут нищая родила, за двугривенный ходить будет к тебе.
…Так на Английской набережной появилась очаровательная малютка. Сестренки крестить ее не понесли, а назвали Маргой.
В середине сентября в Питер к своей возлюбленной пожаловал Чугреев. Моника встретила купца с улыбкой на устах и младенцем на руках:
— Поздравляю, папочка! Вот плод нашей страстной любви.
Гость от удивления выкатил глаза.
Чугреев в силу неиспорченности свое натуры был доверчивым. Он не умел врать, обманывать, хитрить. И ему казалось, что весь мир такой же чистый, как он сам. Этим порой пользовались пройдохи, но купец избегал дурных и случайных знакомств. Это его и выручало.
Сейчас он находился в затруднительном положении. От первого брака у него детей не было. Появление наследницы, пусть даже внебрачной, было бы ему приятно. Если бы… В непорочную душу Чугреева поселились сомнения. Почему прежде Моника не говорила ему о своей беременности? Более того, в свой недавний приезд он не заметил у возлюбленной ни малейших признаков того, что скоро у нее будет ребенок.
Но, поразмыслив, купец решил, что он слишком мало понимает в подобных делах и надо полностью доверять Монике. Не может же человек обманывать в таком святом деле! Побоится кары Господней.
— Что ж! — заявил купец. — За дочку тебе, Манька, спасибо, складная девица. Видишь, все улыбается. Значит, характер хороший, добрый. Это уж верная примета.
Моника сделала кислое лицо:
— А как же положение ребенка?
— Я своему слову владелец! — заверил Чугреев. — Зарок кончится — тут же под венец тебя поставлю, а дочку сделаю наследницей.
На другой день пригласили по обычаю богатых на дом священника и без лишнего шума крестили новорожденную. Вечером Чугреев посетил своего друга купца Чистова и не разглашая деликатной новости, которую он решил пока держать в тайне, занял у него солидные деньги. Их все он передал Монике:
— Чтобы моя дочка ни в чем не нуждалась! После этого, нежно простившись со своей «семьей», купец отбыл в Москву.
Моника весело хлопала в ладошки, хвалилась сестренкам:
— Ловко я провела этого болвана? Это лишь начало. Я еще кое-что придумала.
И действительно, она поочередно представила своим клиентам ребенка, уверяя:
— Это от тебя! Забирай младенца с собой, пусть живет в твоем богатом доме. Посмотри, носик и глазки — твои. Ручки-ножки — тоже!
Конногвардеец хотел прибить шуструю девицу, сенатору стало от такого предложения дурно, видный адвокат хлопал лишь глазами, богатый, но очень нетрезвый петербургский купец полез в окно, чтобы от неприятного сюрприза свести счеты с жизнью, но все пятеро сестер его удержали от падения с высоты. Как бы то ни было, пришлось новоявленным «папашам» выкладывать отступного — солидные суммы на содержание малютки.
Сестры завидовали, пока сметливая Моника не подстрекнула их:
— Чего теряетесь, красавицы? Проделайте такой же фокус с вашими хахалями. Главное — держитесь уверенней, нахальней. И твердите: забирай, дескать, младенца к себе в дом. Мои коты как услышали об этом, состояния готовы отдать были. А вчера сенатор еще тысячу прислал: «На приданое!»
И сестренки, вначале робко, потом все более наглея, начали действовать. Десятки тысяч рублей потекли в их алчные руки.
Самое страшное — это тогда, когда жестокость простирается на существо безответное — на ребенка. Вот строки судебного хроникера той поры. Строки, от которых холодеет кровь:
«Сестры-шведки, собирая на содержание девочки огромные суммы, не только не заботились о ней, но еще находили возможным истязать ее. Крошку не кормили, а питалась она теми кусками, которые попадали ей под руку. Чтобы между малюткой и прислугой не было общения, ее названные матери, уходя на промысел, запирали ее в темной спальне. Объятый ужасом ребенок начинал кричать, но прислуга была лишена возможности успокоить его. Малютка кричала до тех пор, пока обессиленная не забывалась сном.
И это было для девочки счастьем, так как если одна из ее «матерей» возвращалась тогда, когда ребенок кричал, то малышку били до потери сознания. Так эта несчастная росла со дня рождения…»
…Время бежало. Вопреки усилиям шведских сестренок, ребенок подрастал удивительно милым и красивым. Портили его лишь кровоподтеки и синяки, которые во множестве оставляли на его теле истязательницы.
Сестренки решили переехать в более роскошную квартиру. Ненастным вечером, когда ледяной северный ветер бросал в лицо холодные брызги, к шведкам по их зову пожаловала знакомая нам акушерка. Моника, у которой переменились наметки относительно Чугреева, выпихнув на крыльцо едва одетую Маргу:
— Пусть несколько дней поживет у тебя, старая. А то путается под ногами, мешает вещи собирать. На, возьми пять рублей. Разоришься с ней… — и последовало грязное ругательство.
Пришли крещенские дни. Свирепые морозы мертвой хваткой сковали землю. К дому на Английской набережной подлетели сани. Из них легко спрыгнул на землю Чугреев.
Уже месяца три он не получал вестей от Моники. Едва дела позволили, он поспешил в Питер. На звонок вышла хозяйка дома — внушительных размеров бабенция. Не приглашая войти, она с порога крикнула:
— Адреса сестер не знаю. Тута они больше не живут. — И плотней запахивая на груди лисью шубу, проворчала: — Ишь, делов наделали, а мне не приказали говорить. — И хлопнула дверью.
Дальний родственник Чугреева работал в полиции в чине майора. Купец отправился к нему. Тот быстро навел справки, протянул листок бумаги:
— Твоя прелестница нынче имеет жительство в Литейной части, на Воскресенской набережной во владении Гассе — это под нумером 12.
Купец отправился по указанному адресу. Моника встретила его холодно, даже враждебно. Уже в прихожей, не приглашая раздеться, выпалила:
— Марги больше нет… Она умерла. Чугреев ахнул, схватился за сердце:
— Как умерла? Когда?
— Еще осенью, когда мы переезжали. Простудилась и померла. Дело обычное. Похоронена на седьмом участке Волкова кладбища. И вообще… нам надо расстаться.
Ошеломленный, Чугреев вышел на крыльцо. Его воображение живо пробудило в памяти милую детскую мордашку, которую он успел полюбить, с которой связывал надежды. Кровь гулко стучала в висках: «Что делать?»
Есть друзья, о которых мы порой забываем в светлые дни, но обязательно вспоминаем в минуты черные. Таким был для Чугреева петербургский купец Иван Чистов, детина высоченного роста, заросший буйной русой бородой, безудержный гулена, умевший за ночь прокутить целый капитал, но человек трудолюбивый и, к тому же, верный друг.
Чистов обрадовался приятелю, усадил за стол. Кухарка поставила перед ними гудящий самовар. Попивая чаек с медом, хозяин поинтересовался:
— Почто, Игнатий, ты такой хмурый? Разоткровенничавшись, Чугреев стал рассказывать о своей беде.
И тут произошло нечто невероятное. Чистов подскочил на стуле, хлопнул приятеля по плечу:
— Слушай, Игнатий, а эту маленькую девочку звали Марга?
Теперь наступила очередь удивляться Чугрееву:
— Откуда ты знаешь? — хрипло от волнения выдавил он.
Чистов схватился за голову и зашелся в нервическом хохоте:
— Ох, невероятно, ха-ха! Мил друг, извиняй, но это не твоя дочка, а моя. И мать ее — не та зануда Моника (а знаком я с ней короче, чем тебе хотелось бы), а моя любовница Кристина. Я уже тысячи три передал на воспитание малютки, да еще триста рублей на похороны.
— Ты ее хоронил?
— Нет, сестры это сделали как-то подозрительно тихо, не сообщив ничего. Но я был на ее могилке на Волковом кладбище.
— Сейчас же свези меня, я хочу во всем разобраться!
…Среди грустных холмиков, укутанных глубокими снегами, над всем бесконечным снежным полем, едва заметно выглядывал новенький деревянный крест. Смахнув рукавицей снег, Чугреев прочитал на дощечке: «Марга». И все.
Горько стало купцу. Слеза скатилась по его щеке. Он едва слышно произнес:
— Я истины добьюсь!
Приятели отправились к полицейскому майору. В тот же день прокурор дал санкцию на произведение эксгумации. Едва в вечернем сумраке исчезли тени последних посетителей кладбища и, тяжело скрипнув в осях, закрылись ворота, как рабочие ломиками начали поднимать смерзшуюся в комья землю.
Наконец раздался глухой удар о крышку гроба. Эксперты, свидетели и судебный следователь приготовились к решающему акту. Рабочий, находившийся в яме, пропустил под гроб толстую проволоку, протянул концы наружу. Гроб был поднят. Отпустили выше фитили керосиновых ламп — стало светлее.

Рабочий ломиком поддел крышку, она легко отошла и виды видавшие люди остолбенели от неожиданности. В гробу, празднично разукрашенная, лежала… большая улыбающаяся кукла.
Утром все пятеро сестренок-проституток были арестованы. Началось следствие.
Дело было настолько необычным, что оно попало не только на полосы газет, но и как классический пример мошенничества нашло место на страницах специальной литературы.
События развивались следующим образом. Акушерка, соблазнившаяся пятью рублями, не знала, куда деть ребенка. На следующий день она повела девочку с собой на службу. В конце встретила давнего знакомого — помощника присяжного поверенного Селезнева.
Когда тот узнал, что ребенок сирота, то стал выпрашивать у акушерки очаровательную малышку. Самым веским доводом стали пятьдесят рублей, которые Селезнев тут же отдал. К тому же, старой женщине сделалось жалко девчушку, которая по ее вине мыкала горе у шведок.
Как бы то не было, Селезнев взял сироту с собой. Он сразу же обратил внимание на синяки и кровоподтеки, покрывавшие тело ребенка. Селезнев отправился к врачу и тот выдал ему справку о следах побоев.
Сейчас невозможно установить причину, но уголовное дело в отношении сестер-злодеек было прекращено «за отсутствием состава преступления».
А далее случилось и вовсе невероятное. Моника подала в суд требование, чтобы ей… вернули ребенка. Когда Селезнев в качестве ответчика представил заключение врача и нашлись свидетели издевательства над ребенком, суд отказал шведке в ее иске. Тогда проститутка с жалобой двинулась в Сенат.
Судебный хроникер Е.Козлинина в своих мемуарах, вышедших в Москве в 1913 году, с возмущением вспоминала: «На суде путем свидетельских показаний выяснилась вся эта чудовищная история… Но почему жалобщица и ее сестры за такую возмутительную проделку не были привлечены к уголовной ответственности, так и осталось тайной».
Селезнев и его жена — пианистка по профессии, стали отличными родителями. Они дали девочке хорошее музыкальное образование. По классу вокала она закончила петербургскую консерваторию, пела на оперных сценах.
Игнатий Чугреев в конце-концов женился на хорошей девушке из купеческой семьи Абрикосовых. Бывая в северной столице, он навещал Селезневых, дарил девчушке, пока она не выросла, игрушки, а затем делал богатые подарки.
Что касается сестренок, то спустя два года после описанных событий их обвинили в попытке отравить и ограбить двух богатых купцов из Нижнего Новгорода. В пургу они пытались бежать из Питера на санях. Нашел их егерь — спустя неделю. Пятеро сестренок представляли жуткое зрелище: сцепившись руками, оледеневшие, припорошенные снегом они навеки застыли в фантастических позах.
МИХАИЛУ ГРИГОРЬЕВИЧУ СМИРНОВУ
Старожилы Петербурга, бывавшие в свое время на Смоленском кладбище, возможно помнят большое надгробие, стоявшее в глубине, возле ограды Гаваньского поля. Искусная рука изваяла из белого мрамора ангела, печально склонившегося над урной. В памятник вделан дольшой медальон. В нем помещалась новинка 70-х годов ушедшего столетия — фотографический портрет: девичье лицо, сияющее тихой красотой.
На пожелтевшем камне еще можно было прочитать:
ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ ДЕВИЦА НАТАЛЬЯ СКОБЛО-ФОМИНА
ЕЕ ЖИТИЯ БЫЛО 18 ЛЕТ 3 МЕСЯЦА 7 ДНЕЙ
Не долгий век здесь жить ей надлежало.
И сердце нежное пронзило смерти жало.
Покойная, некогда заставившая говорить о себе весь Петербург, унесла в могилу страшную тайну.
Был Троицын день. Семья Генриха Леопольдовича Скобло-Фомина возвращалась после обедни в церкви Воскресенского женского монастыря. Дорога, собственно, была самой близкой. От владений Шерцера на Шестой линии, где Генрих Леопольдович снимал флигель, до монастыря — рукой подать.
День был жаркий. Зелень в саду буйно расцвела и в ней порой густо шумел ветерок, мотавший туда и сюда всю эту древесную зелень. На душе было празднично, церковное пение и сокровенные молитвы размягчали души, умиротворяли их. Хотелось наслаждаться этой красотой, любить друг друга, согревая близких душевной теплотой.
Такие чувства, по крайней мере, испытывала выпускница гимназии Наталья. Несмотря на чуть крупноватый нос, впрочем, ее нисколько не портивший, лицо девушки поражало удивительно правильными пропорциями, тонкая розовая кожа — нежностью, а темно-голубые глаза, словно подернутые задумчивой печалью, придавали ей особую прелесть.
Сейчас Наталье что-то рассказывала ее старшая сестра Елизавета, девица на язык острая, в поступках независимая, кивая на 33-летнего братца Андрея, все еще холостого и без определенного рода деятельности, если не считать деятельностью ежедневное посещение клубов, где шли азартные игры. Андрей щеголял в новомодных клетчатых брюках, что и было предметом веселого обсуждения сестер.
В этот момент на крыльцо выскочила горничная Люба, вечно нечесаная, неприбранная, любившая гадать на кофейной гуще и в свои 29 лет мечтавшая об удачном замужестве. Люба крикнула:
— Отгадайте, кто к нам приходил? — и она свой озорной взгляд остановила на Наталье. — Высокий, курчавый, в мундире с золотыми эполетами?
— Кто такой? — Генрих Леопольдович блеснул стеклышками золотого песне.
Люба продолжала тараторить:
— Вам, барыня, Дарья Семеновна, офицер оставили вот эти цветы, всех поздравили с праздником, а вас, Наталья Генриховна, — горничная лукаво посмотрела на свою любимицу, — а вас… а вам… особый поклон приказали сказать.
— Хватит болтать, говори, кто был? — сильным гортанным голосом проговорила Дарья Семеновна, жена Генриха Леопольдовича. Это была очень высокая и очень прямая женщина, с серым лицом и узкими щелями глубоко ввалившихся глаз. Она никогда не смеялась, а если иногда улыбалась, то исключительно саркастически. Она была, кажется, твердо убеждена, что весь мир и все близкие люди появились на свет с единственной целью — служить ей, Дарье Семеновне, дочери смотрителя губернской тюрьмы. А поскольку окружающие думали об этом иначе, то они вызывали в душе Дарьи Семеновны неприязнь и постоянное раздражение.
Наталья, догадываясь и боясь ошибиться, с волнением ждала ответа.
— Сам молодой князь Енгалычев! — выпалила Люба. — Вот они на подносе свою визитную карточку положили. И сказали: «Как, дескать, досадно, что не застал хозяев! А молодой барышне скажи мой особый поклон».
Наталья потупила взор и залилась краской.
Елизавета ядовито хмыкнула. Генрих Леопольдович задумчиво покачал головой. Дарья Семеновна, вполне довольная, вытянула узкие веревочки губ:
— Ах, какой князь милый! Цветы прямо-таки чудесные.
Генрих Леопольдович согласно кивнул:
— Такие стоят не меньше пяти рублей.
— Поди, из собственной оранжереи! — высказала предположение Дарья Семеновна.
Андрей, отряхивая приставшую к панталонам сухую былинку, хихикнул:
— Это тот Енгалычев, что с тобой, Наташка, на рождественском балу танцевал? Помню, помню, как возле тебя крутился, а ты ему глазки строила, — и он скользнул по сестре плутоватым взглядом.
Елизавета, презрительно фыркнув, взяла в руки визитную карточку, кривляясь, прочитала: «Флигель-адъютант лейб-гвардейского Преображенского полка…»
Генрих Леопольдович с почтением произнес:
— Большая должность, полковничья… — И помолчав, не высказывая заветных мыслей, глубоко вздохнул: — Эх, коли повезло бы!
— Да уж, этот визит неспроста! — Согласно закивала головой Дарья Семеновна. — Ведь князь — миллионщик, да и у Государя на виду…
Наталья, все время молча слушавшая эти разговоры, заспешила к себе в комнату. Отец за руку остановил ее, прошептал:
— У тебя ничего с князем не было? — он пытливо буравил ее глазами.
Наталья вырвала руку, дернула плечиком:
— О чем это вы, папа?
— Да я так просто. Если и было — лишь бы на пользу пошло… — Он строго посмотрел на Любу; — Хватит лясы точить! Стол накрыт?
— Один секунд! — Люба побежала помогать кухарке.
Андрей двинулся в буфетную — до обеда выпить рюмку водки.
Наталья, желая скрыть смущение, заторопилась к себе наверх. И для этого у нее была веская причина, о которой она никому не говорила: с князем ее уже связывала общая тайна.
Наталья была страстно влюблена в князя. Чувство это вспыхнуло в чистой девичьей душе во время Рождества. Богатая дальняя родственница графиня Воронцова устроила бал. После застолья вся молодежь перешла в зал. Грянул оркестр. Мазурки, экосезы, вальсы, польки — все закружилось радостным вихрем.
Лакеи скользили среди танцующих, разнося на серебряных подносах шампанское. Мягко потрескивали ярко горевшие свечи, отражаясь в паркете, натертом до зеркального блеска. Общее внимание привлекал гвардейский полковник. Осанистый и одновременно чрезвычайно ловкий в танцах, он подкупал дам своим обращением с ними — почтительным, но в то же время смелым. Черные блестящие глаза, вьющиеся густыми кольцами темно-русые волосы, пышные, загибающиеся вверх усы придавали его красоте замечательный характер.
Оркестранты, вскинув руки с завороченными обшлагами сюртуков, заиграли па-де-катр «Любимые глаза». Красавец-полковник, отделившись от группы мужчин, стремительно пересек по диагонали зал, опередив какого-то юнца и небрежным кивком головы извинившись, почтительно склонил голову перед Натальей. Та согласно кивнула. Они заняли место среди танцующих. Кто-то крикнул:
— Пожалуйста, полковник, ведите танец!
Полковник принял это как должное. Без споров он встал вперед, искусно двигая ногами, уверенно повел Наталью. Будучи прекрасной танцоркой, она на этот раз от смущения несколько раз сбивалась, но партнер так выправлял положение, что никто этих неловкостей заметить не мог.
Все свободные от танцев с удовольствием смотрели на них, некоторые вслух восхищались:
— Какая прекрасная пара!
Сам полковник откровенно любовался очаровательной партнершей, находя в ней бездну шарма, который ей придавали непосредственность и свежая красота. Он успевал говорить:
— Я в Петербурге лишь месяц. Когда из Москвы меня сюда переводили, печалился. Жаль было с полком прощаться. У меня там все: друзья, родители, дом. Да-с! А теперь очень рад.
Она подняла на него глаза:
— Почему? — хотя заранее знала, что он скажет.
Полковник широко улыбнулся в пышные усы и деликатно промолчал. Наталье это было приятней, нежели услышать от него пошлое: «Потому, что увидел здесь вас». Они оба поняли друг друга и между ними сразу установилось нечто особенное, душевно их сблизившее.
Потом они танцевали кадриль. Полковник несколько запоздало представился. Теперь Наталья знала, что это князь Енгалычев, что его предки всегда состояли на военной службе. С интересом он расспрашивал Наталью: кто она, кто ее родители, на каких балах и вечерах бывает.
В перерыве князь крикнул лакея, взял с подноса два бокала с шампанским и один из них протянул Наталье:
— За наше знакомство!
Девушка, не жеманясь, храбро сделала несколько глотков. Загремела мазурка и они вновь танцевали, обращая на себя общее внимание и вызывая восхищение. Князь делал замысловатые па, звенел на весь зал шпорами, подкидывал платок и, встав на колено, ловил его. Давно привыкнув к легким победам на любовном фронте, он дожил до тридцати одного года и только теперь почувствовал, понял, осознал всем своим существом, что вот эта встреча — это та самая, которую он ждал все свои дни. Это его окрыляло, давало какой-то необыкновенный прилив сил и желание выказать себя перед девушкой с самой лучшей стороны. Князь, сколько себя помнил, всегда ставил перед собою какую-нибудь цель. И всю страсть натуры, все свои силы он отдавал для ее достижения. Вот и теперь, воспылав любовью к юной красавице и имея лишь самые чистые намерения, он решил во чтобы то ни стало добиться ее взаимности.
Ливрейный лакей провозгласил:
— Накрыт ужин! Князь глубоко вздохнул:
— Увы, мне надлежит возвращаться в полк. Но я томлюсь желанием видеть вас вновь и вновь. Научите, как это сделать?
Наталья неопределенно пожала плечами:
— Не знаю, мы почти нигде не бываем.
Они уже приблизились к креслам, в которых сидели Дарья Семеновна, Елизавета и явно перебравший шампанского Андрей. Князь вдруг горячо проговорил:
— Я вас найду. Да-с!
После ужина Скобло-Фомины отправились домой.
Наталья, испытывая чувство, которое наши прабабушки и прадедушки называли «сердечным жаром», не могла уснуть до рассвета. Лишь когда в саду стало светло и защелкали, защебетали птицы, она забылась в трепетных розовых снах.
Ее сердце впервые раскрылось для любви.
Бедная девушка, если бы ты знала, что ждет тебя!
После рождественского бала минуло три дня. Наталья пребывала в лихорадочном состоянии. Ей постоянно чудился голос князя, она явственно ощущала запах его одеколона, перед ней стояло его лицо — на нем добротой и смелой решительностью сияли черные глаза. За столом она почти ничего не ела, на вопросы семейных отвечала невпопад.
Братец Андрей язвительно улыбался:
— Наташка влюбилась в полковника, сохнет по нем!
— Прекрати паясничать! — обрывала его мать. — А хоть бы и влюбилась, что ж такого! Он знатный и богатый, о таком женишке можно лишь мечтать.
В разговор вступала Елизавета:
— Маман, о чем это вы? Какой «женишок»? Да у него таких «невест» на каждой улице по дюжине! Знаем мы этих конногвардейцев.
Елизавета, которой шел 23-й год, уже успела побывать замужем. Года за три до описываемых событий за нее посватался овдовевший начальник Пересыльной тюрьмы. Хотя ему было под пятьдесят, но родители Елизаветы с радостью согласились. И причин тому было несколько. Главная — жених считался человеком состоятельным, на солидном месте имел приличное жалованье.
Генрих Леопольдович за дочерью дать ничего не мог. Когда-то он делал карьеру по педагогической части. Однако, имея блудные наклонности, соблазнил сироту, бедную болезненную девушку, учившуюся в восьмом классе (диплом о его окончании давал звание домашнего учителя). Опекун — квартальный надзиратель, узнав о проделке педагога, явился прямо в гимназию, публично разбил в кровь ему нос и потребовал громадной компенсации:
— Пойдет моей сиротинушке за оскорбление невинности! — прорычал квартальный. — Иначе — в каторгу. Вертопрах!
Это был замечательный спектакль для гимназисток, а для семьи педагога — полное разорение и конец карьеры Генриха Леопольдовича. С той поры Скобло-Фомины перебивались на ничтожные проценты с незначительного капитала Дарьи Семеновны.
Вот по причине этой несчастной амурной связи и выпихнули Елизавету замуж за тюремного командира. Молодые, кстати, имели квартиру при пересыльном замке. Так что целый день дочь экс-педагога могла слышать звон кандалов и получать тяжелые впечатления от вида серых тюремных бушлатов.
Чтобы слегка развеять сии грустные переживания, Елизавета вступила в любовную связь с одним молодым надзирателем. Тот по пьяной лавочке похвалился об этом начальнику корпуса. Последний по долгу службы донес обо всем самому мужу. Муж выследил шалунов, забравшихся для своих упражнений в пустовавшую камеру. Что было дальше? Думаю, самой смелой фантазии не хватит, чтобы догадаться о том наказании, которому подверг блудников ревнивец. Разъяренный начальник замкнул висячим замком узилище, ключ спрятал себе в карман и приказал кормить преступников против семейной нравственности раз в сутки:
— А я посмотрю, потянет ли их на блуд после хлеба и воды.
С великим изумлением, дня два в смотровую дыру он наблюдал, как новые зеки продолжали свои упражнения на нарах, укрывшись тюремным суконным одеялом. Одеяло было отобрано. Упражнения не прекратились. Правда, паузы между ними становились все больше и больше. Начальнику надоело это обезьянье бесстыдство и он пинком вышиб блудников: бывшую жену — к родителям, надзирателя — со службы. Справедливость восторжествовала!
Эти приключения заставили смеяться весь Петербург. Они же лишили надежд: папашу — устроиться на приличное служебное место, а дочку — найти достойного мужа.
Отвечая на отцовские упреки в безнравственности, Елизавета огрызалась:
— Вы, папаша, на себя оборотитесь! А в супружество я и сама не желаю! Мне все мужики гадки. Я, знаете ли, устала от их ухаживаний.
Последние утверждения вряд ли были справедливы. По причине бедности, чтобы не принимать у себя, Скобло-Фомины почти никуда не выезжали. Елизавета целые дни проводила в четырех стенах и ухаживать за ней было некому.
Характер у нее до крайности испортился. Она срывала ожесточение на семейных, и в первую очередь на безответной Наталье.
Наталья совершенно выпадала из этого своеобразного ансамбля и была домашней мученицей. Она ходила на базар и таскала тяжеленные корзины, помогала по кухне и за столом разливала чай. Подобно пушкинской Лизавете Ивановне из «Пиковой дамы», она была виновата за большие расходы по хозяйству, за плохую погоду, за то, что братец Андрей пьянствует и тащит из дома каждую копейку. А она была самолюбива, тяжело переживала нищету и рваные платья и горячо молила Бога, чтобы какой-нибудь добрый человек избавил ее от этого ада. Сколько тайных и явных слез пролила она, но избавитель не спешил явиться.
И вдруг — влюбленный взор блестящего полковника! Он сказал, что найдет ее, и Наталья свято верила этому обещанию. Найдет не для того, чтобы надсмеяться над ней, — для того, чтобы повести ее под венец. А уж она станет самой нежной и самой верной женой! Их дом будет полной чашей, счастье принесут маленькие детишки — пусть их будет много. Она очень любит детишек.
— Итак, на третий день рождества, уже описанного нами, Наталья, помолившись Богу, попросив в своих девичьих молитвах о скорой встрече с возлюбленным, притушила тусклую сальную свечу в медном шандале и легла в холодную постель, зябко кутаясь под тонким одеялом.
Как и предыдущие ночи, Морфей долго не смеживал ее очи. Девушка уносилась в сладких мечтах к своему возлюбленному. Вдруг ее покой нарушили какие-то звуки под окном и — невероятно! — в ее окно, расположенное на высоком втором этаже, кто-то осторожно постучал.
Наталья, прижимая рукой к груди белую ночную рубашку, вскочила с постели и взглянула на окно. На фоне светло-синего неба, освещенного полной луной, она увидела… фигуру мужчины. Плечи его шинели украшали эполеты.
Наталья с испугу чуть вскрикнула, заметалась по комнате, не зная, что делать: то ли звать на помощь, то ли накинуть на себя платье?
Но не сделала ни того, ни другого. Чиркнув серником, она зажгла свечу в шандале и поднесла ее к стеклу. Наталья увидела знакомое лицо, блестевшие в полутьме черные глаза, пышные усы и белозубую улыбку.
Князь с трудом держался на узком обледенелом карнизе и его уста беззвучно произнесли: «Откройте!»
Наталья, как была в спальной рубахе, бросилась снимать с подоконника герань. Она повернула бронзовые шпингалеты и рванула внутреннюю раму к себе. Хотя окно было заклеено на зиму, оно с легким скрипом открылось. С наружной рамой было сложней, но князь чуть сдвинулся влево и…рама распахнулась, обдав Наталью морозным воздухом.
Князь, продолжая, улыбаться, с трудом протиснулся плечами вперед в узкий проем, и гремя саблей, оказался в комнате. Окно было тут же плотно закрыто.
Князь сбросил на пол холодную шинель и протянул руки навстречу Наталье. Схватив ее кисть, он прижал ее к губам и долго-долго целовал. Слезы выступили на его глазах. Потом он выпрямился во весь свой хороший рост и с восторгом смотрел на нее. Они слились в поцелуе — долгом, долгом.
— Ты не сердишься на меня? — спросил князь, заботливо укутывая девушку одеялом.
— Нет, милый! Я так ждала тебя…
— И я тоже, долгих три дня.
— Я ждала тебя всю жизнь. И я знаю, что мы навсегда будем вместе. Ведь так?
— Клянусь! Я не посягну на твою честь. Мы пойдем с тобой к венцу. — И они вновь замерли в поцелуе. Счастливо вздохнув, он с нежностью заглянул в глаза девушки:
— Первый раз в жизни я испытал то настоящее счастье, которое может испытать смертный. Никогда не забуду этого мгновенья. Спасибо тебе!
Ласково улыбаясь, она спросила:
— Как ты узнал мое окно?
Князь, опираясь на саблю, негромко засмеялся:
— При помощи рубля и вашего дворника. Потом он вдруг погрустнел и произнес:
— Я ведь пришел проститься с тобой. Она округлила глаза, губы ее задрожали:
— Как? Почему?
— Командируют в Гатчину. В царском дворце буду охранять Государя.
— Надолго?
— Увы, до самой весны. Обещают на Пасху сюда вернуть. Служба!
— Буду с нетерпеньем ждать.
— Вернусь, пойду к твоему отцу… Кстати, кто живет в угловой комнате?
— Моя старшая сестра.
— Ой, неудобно! Я влез нарочно возле ее комнаты по водосточной трубе. Там я снег примял, так что не догадаются, что к тебе был ночной визит.
— Если бы к Елизавете кто ночью забрался в окно, так она всем об этом рассказывала и гордилась, как Георгиевским крестом.
Князь нежно обнял Наташу:
— Прощай, моя ласточка! Будет случай, дам о себе весть.
Вновь распахнули окно, вновь увидали морозное небо в ярких звездах. Князь встал на карниз, дошел до угла и спрыгнул, глубоко уйдя сапогами в сугроб.
Повернувшись к Наташиному окну, приветливо помахал рукой, зная, угадывая в темноте, что она смотрит на него:
— До встречи, милая! Я очень тебя люблю.
Зима тянулась томительно долго. Дворник Яков три раза тайно передавал Наталье весточки от князя, который с оказией посылал их из Гатчины. Наши предки были людьми замечательными во всех отношениях: не терпели лжи, более всего ценили честь, уважала достоинство возлюбленной, на поле брани смерть предпочитали поражению и стрелялись из-за женщин. Души их были бесхитростны, как амурные послания.
Вот что писал князь:
«Мой друг, Наташа! Твой милый образ не исчезает из моих мыслей. Я ежечасно благодарю Бога, который послал на нашу грешную землю такое прелестное созданье! Я люблю тебя до бесконечности, до безумства. Если ты прикажешь, я опущусь на дно моря, спрыгну с высокой скалы, дабы доказать тебе, моя ласточка, мои чувства.
Если бы я твердо знал, что и ты меня хоть немножко любишь! Я старый, много видевший на земле человек — ведь в мае мне стукнет тридцать два! А ты, мое солнышко, юна и невинна. Но я вижу, что мы назначены судьбой друг другу. Любовь пусть станет нашим вечным спутником. Как сказал поэт, любви все возрасты покорны. Твой…»
Два других письма были подобны этому, не считая разве стихов, которые князь нарочно сочинил для Натальи. В этой поэзии было много искренней страсти, восклицательных знаков и горячих клятв — все то, что неизменно присутствует в подобного рода творчестве, литературу, впрочем, не обогащающем. Так что, воздержимся приводить их здесь.
Наталья целовала бессчетное количество раз эти послания, обливала их слезами, считала дни, оставшиеся до встречи, и еще терпеливее чем прежде выносила все домашние мытарства.
Но все на свете рано или поздно кончается. Все выше подымалось в полдень солнце, все жарче делались его лучи. Вот уж шумными потоками устремились по мостовой ручьи, сливаясь на потемневший лед Черной речки. А потом и лед тронулся, сошел снег. Обнажилась земля, обмытая дождем.
Настал первый день Пасхи. Наталья вместе с семьей отправилась в монастырскую церковь. Служба была долгой. Желая немного отдохнуть, размять ноги, Наталья вышла на воздух и направилась к монастырскому саду. Едва она ступила на землю, как кто-то взял ее за руку.
От неожиданности Наталья вздрогнула, повернула лицо и увидала князя. Все на нем было новое, золотом сияли эфес шпаги, эполеты, обшитый ментик.
Князь весело проговорил:
— Христос воскресе!
Наталья любовным взглядом окинула всю его могучую и благородную фигуру и в тон ему ответила:
— И воистину воскресе!
Он долго и крепко целовал ее руки, потом они вместе направились в сад Воскресенского монастыря. Счастливо улыбаясь, забыв обо всем на свете, радостно глядя в глаза друг другу, они говорили, говорили…
— Я дня на три-четыре покину Питер, — сказал князь, улыбаясь. — Скучно опять скакать в Гатчину, да 45 верст для кавалерии — пустяк. Вернусь, пойду к твоему, Наташа, отцу просить твоей руки. Потом представлю моим родителям. Я уже говорил с ними, они согласны и очень хотят тебя видеть. Уверен, что влюбятся в тебя. Да-с!
Наталья грустно улыбнулась:
— Они знают, что все мое приданое — несколько французских книг?
Князь горячо возразил:
— Вот и неправда! Твое бесценное приданое — твое золотое сердце, твоя красота, твоя чудесная душа. А главное — мы любим друг друга.
…На другой день дворник передал Наталье записку: «Моя душа, наши планы рухнули. Командир сегодня отправляет меня в Москву, ибо Государь и его семья должны вскоре прибыть в первопрестольную. Я обязательно должен вернуться обратно к Троице. За неделю, что будет до Петропавловского поста, посватаюсь. После поста сразу сыграем свадьбу. Я уже получил разрешение начальников, даже сам Государь пожелал мне счастья в брачной жизни. Горячо любящий тебя…»
Пришлось вновь ждать.
Если бы досужий фантазер пожелал сочинить жуткий конец этой истории, то и тогда нельзя было бы придумать ничего страшнее того, что произошло на самом деле.
Все началось с братца Андрея. В каком-то клубе он вдребезги проигрался. Как на грех, за соседним столом в отличном настоении закончил игру сосед-домовладелец по Шестой линии Листер. Он был в сильном выигрыше. Андрей чуть не со слезами на глазах стал просить у него пятьсот рублей в долг: «До утра!»
— Что, игруля, продулся? — счастливо улыбнулся Листер, всех называвший на «ты».
— Черт знает что! — сплюнул Андрей. — Положил даму червей на семьсот рублей, ждал, что придет девятка, а пришла шестерка, да слева лег валет. Если денег не достану, застрелюсь! Будь я проклят, коли вру.
— Не плети, игруля, не застрелишься! Если бы все после проигрышей стрелялись, так на кладбище уже свободных мест не было бы, ха-ха! — благодушно хохотнул Листер, аккуратно засовывая ассигнации в черный засаленный бумажник. — К тому же, игруля, у тебя и оружия нет. Ха-ха!
— Утром обязательно верну, — канючил Андрей.
— Не врешь?
— Клянусь жизнью!
Листеру, заядлому картежнику, самому не раз бывавшему в трудных положениях, жалко было «мальчишку», как он сам про себя назвал Андрея. «Ничего, с отца в случае чего получу!» — утешил себя Листер. Он порылся в бумажнике, нашел самые грязные ассигнации, протянул Андрею:
— Тут три сотни. На проигрыш, ха-ха, тебе хватит. Куда побежал? Пиши расписку. Ведь если не повезет опять, вдруг и впрямь пульнешь в себя? Как тогда без расписки получать? Ха-ха!
…Через час не стало и этих денег. Тогда Андрей выклянчил еще сорок семь рублей у какого-то отставного гарнизонного офицера. Вскоре он спустил и их, и фамильные золотые часы, принадлежащие отцу и взятые «для представительства» без ведома владельца.
Андрей пошел в буфет, выпил полбутылки рейнвейна и застыл в тягостных размышлениях. «Да, все что мне осталось — это пуля в лоб, — говорил он себе и эта мысль уже не пугала его. — Но, впрочем, Листер прав: у меня даже нет пистолета. Тогда повешусь». Он представил себя висящим на чердаке, как раз над комнатой Елизаветы, с высунутым языком, со струйками крови из ушей, с задранной головой набок — в прошлом году так висел лавочник Матвеев, Андрей ходил его смотреть, — и его аж передернуло.
В это время подошел гарнизонный офицер, тот самый, что давал в долг, и сочувственно сказал:
— Не везет в картах, повезет в любви! Андрей обрадовался собеседнику, угостил его рейнвейном. Офицер сказал:
— Вы с банкиром Зусманом знакомы? Разве нет? Он здесь бывает, да и сегодня тут.
— Что в нем интересного? — вяло спросил Андрей.
— Большой ценитель женской красоты! — причмокнул губами офицер.
Андрей скучно протянул:
— Эка невидаль! Тем более, если есть деньги…
— В том-то и дело — именно в деньгах! Тому, кто сведет его с приятной девицей, не потерявшей невинность, Зусман отваливает бо-ольшой капитал.
Андрей минуту подумал и вдруг привскочил:
— Где этот самый Кузман?
— Надо знать — Зусман. А у вас, извините, есть… предложение?
— Есть. Ведите меня к этому любителю клубнички.
Они прошли колонный зал, миновали продымленную биллиардную, вошли в карточную комнату. За четырьмя столами шла игра.
Андрей с любопытством озирался:
— Где банкир?
Офицер слегка подтолкнул его:
— Не здесь. Идите со мной.
Они прошли между столов и вышли на лестницу, поднялись на следующий этаж. Здесь перед тяжелой темно-вишневой портьерой развалился на стуле мордатый лакей в засаленной манишке. При виде господ он неспешно поднялся:
— Сюда нельзя! Офицер вежливо сказал:
— Илья Борисович просил меня придти. Лакей помедлил, словно размышляя, нужны ли такие люди банкиру или нет, и откинув портьеру, чуть приоткрыл небольшую дверь. Заглянув в комнату, он тихо, но строго сказал:
— Только без шума. Илья Борисович играют. В углу за небольшим продолговатым столом, обитым зеленым сукном и ярко освещенным четырьмя свечами, сидели четверо. Полный важный господин с редкими, зачесанными назад волосами и спокойным, уверенным в себе выражением на круглом приятном лице, вопросительно взглянул на вошедших, но тут же перевел взгляд на карты. Громадный белый бульдог, до того сидевший у ног важного господина, при виде вошедших с легким рычанием встал на четыре толстых лапы, обнажив черную слюнявую пасть.
— Фу, Милан! — строго сказал важный господин. — Он сегодня, возбужденный, порвал какую-то дворняжку.
— Совсем загрыз? — равнодушно спросил банкомет, бородатый мужик приказчицкого вида.
— Да, задавил насмерть, горло прокусил насквозь, — с улыбкой повторил важный господин. — Лукич, ты ко мне с делом? — он обратился к спутнику Андрея.
— По делу, Илья Борисович, — тряхнул головой офицер. — Если вы заняты, мы подождем, — и взяв с маленького столика бутылку вина «Замок Роланда», налил полные стаканы себе и Андрею.
— Губа не дура, — подмигнул бородатый Илье Борисовичу. — Бутылка этого французского пятьдесят рубликов стоит.
— Пусть гуляют, — улыбнулся тот. — Не мы для денег, деньги для нас.
— Вы — человек капитальный, вам себе позволить можно, — заискивающе произнес бородатый.
Илья Борисович вновь обратился к Андрею и его спутнику:
— Ребятки , мы сейчас закончим…
И впрямь, минут через десять игроки произвели взаимные расчеты. Илья Борисович был в выигрыше.
— Оно дело известное, — вздыхал бородатый. — Деньги к деньгам бегут. А я вот семь сотен профуфыкал.
— Уж видно судьба, — посочувствовал офицер. Илья Борисович строго взглянул на партнеров:
— Ребятки, быстренько — кыш-кыш отсюда! У нас большой конфиденциальный совет государственной важности.
Игроки засуетились, собрались и торопливо раскланялись.
Масляные глаза банкира уперлись в гостей:
— Ну-с, господа почтенные, какое срочное дело заставило вас прервать мою счастливую игру?
Офицер, стараясь сохранять независимый вид, небрежно стал говорить:

— Вот мой старинный товарищ… — и он замялся, вдруг сообразив, что не знает имя нового знакомого.
— Андрей Генрихович Скобло-Фомин! — по-военному вытянувшись перед банкиром, представился тот.
— Ну и что? — плотоядно улыбнулся банкир.
— Он рекомендует вам, Илья Борисович, девушку, которая вас любит.
— Приятно, приятно… И что за птичка? Вы, Андрей Генрихович, хорошо знаете сию особу? Не заблуждаетесь в ее горячих чувствах ко мне?
Андрею было неприятно признаваться, что речь идет о его сестре. Но выхода не было. Удержав вздох, не глядя в лицо баркира, он промямлил:
— Как не знать! Это моя сестра.
— Имя?
— Елизавета.
— Сколько годков этой фее?
— Двадцать! — соврал Андрей.
— Где живет?
— Вместе с родителями на Васильевском острове. Это Шестая линия, в доме Шерцера.
— Прекрасненько! — банкир вынул из жилетного кармана крошечную записную книжечку в бронзовой обложке и на костяной страничке что-то чиркнул карандашом. Потом, уставившись глазами-маслинами в переносицу Андрея, вопросил:
— Вы уверены, что ваша сестрица сохранила невинность?
Андрей, постоянно робевший в присутствии банкира, покраснел, но, набравшись куражной решимости, затараторил:
— Истинный крест, да чтоб меня!… У нас родители строгие, они за Лизкой глядят в оба глаза. Если бы она, да они ее…
Банкир перебил:
— Почему же она так долго не замужем? Андрей развел руками:
— Так это дело ясное — бесприданница-с! Женихи не на красоту девичью смотрят, а к папаше в карман заглядывают — что за невестой даст.
— Это так! — согласился банкир, — народ нынче порочный пошел, корыстью испорченный. Только о деньгах и думают. А я превыше всего ставлю невинность и девичью красоту. На деньги я плевал. Озолочу, если угодите, ребятки! — Он повернул лицо к офицеру.
— Ты видел эту Елизавету? Действительно хороша?
Офицер, не моргнув глазом, с восторгом ударил себя по колену:
— Антик! Дульсинея! Таких нынче, считай, и не бывает. Водись у меня деньги, да я сам бы…
Банкир, не слушая офицера, спросил у Андрея:
— Так вы уверены, что ваша прекрасная Елизавета не выкинет фортелей?
— Будьте покойны! Она любит деньги.
— Итак, сведем дебет с кредитом. Вы приводите Елизавету, скажем…, — банкир наморщил лоб, — ну к торцовому фасаду Академии Наук…
— Со стороны Большой Невы?
— Думаю, лучше с противоположной, там, где Академический переулок.
Андрей подсказал:
— Возле дома Сальваторе!
— Наверное. Там вас будет ожидать экипаж.
Возница знает куда ехать. Часа через три-четыре я верну ваше сокровище в целости-сохранности. Офицер загоготал:
— Ну, Илья Борисович, относительно «целости» вы обманываете…
Все дружно засмеялись. Банкир продолжил:
— Все будет обставлено мило. Девице эти сладостные минуты запомнятся на всю жизнь: нега, роскошь, в соседней комнате без перерывов играет квартет. Но есть у меня еще одно условие, которое может показаться странным: Милан во время… любовного акта будет находиться рядом, но на специальной отдельной кушеточке.
Андрей побледнел. Заикаясь, он спросил.
— Он… что… тоже? Банкир опять засмеялся:
— Нет, но если девица сама захочет…
— Тогда зачем этот… — Андрей покосился на слюноточивого бульдога, — станет наблюдать?
— Милан любит это зрелище, а я ему ни в чем не отказываю. Впрочем, все это тоже учитывается при оплате. Вы получите… — и банкир назвал такую цифру, что у Андрея сперло дыхание, и ему показалось, что он ослышался. Но переспрашивать не стал.
— Аванс получить желаете? — банкир достал бумажник.
— Оно, конечно, для пользы дела…
Банкир протянул ему несколько крупных кредиток и приказал:
— Вот вам чернила и бумага, пишите расписку. — Он стал ходить из угла в угол и диктовать: — «Я, такой-то такой-то, получил от почетного гражданина Зусмана И.Б. денежный аванс в сумме — цифрой и прописью — по соглашению сторон и с добровольного согласия ее родителей — укажите их по отдельности, и с согласия самой девицы, за право нарушить ее девственность». Поставьте дату и подпись. Готово?
Банкир сложил расписку вчетверо и убрал в карман:
— Вот этот документ меня на случай непредвиденных обстоятельств всегда оправдает. Только с согласия сторон и без всякого насилия! А теперь давайте выпьем. Когда вы мне назначите день?
— Илья Борисович, я вам тут же сообщу! Но мне нужно несколько времени, следует уговорить сестру.
Гости пожали банкиру чистенькую пухлую руку и вышли из комнаты.
Андрей протянул офицеру 47 рублей — долг.
— С вас, господин хороший, еще двести, — твердо сказал офицер, за полезное знакомство.
— Да, да, конечно, — и Андрей отдал деньги. «Теперь начинается самое трудное!» — сказал
он себе.
Однажды за карточным столом Андрей разговорился с профессором Медико-хирургической академии, которого все панибратски называли Пал Палычем. Тот, изрядно принял глинтвейна, разоткровенничался, рассказал, что существует несколько способов подделки девичьей невинности.
— И бывают клиентки? — наивно удивился Андрей.
— Хоть отбавляй! Соблазненная дочь — срам для порядочной семьи. Да и муж, если в силу деликатности не станет попрекать, но помнить об этом, поверьте, станет всегда. Вот, к примеру, на прошлой неделе ко мне прикатил из Твери богатейший купец. Привез свое чадо, успевшее в 15 лет родить от домашнего учителя. А теперь выходят замуж. За богатого и красивого. И вот чтобы не вымазали ворота дегтем этому купцу, а молодую не отправили к родителям обратно, заплатил он мне полтыщи. Я сделал все на высоком медицинском уровне. Ребенка — в деревню к родственникам.
— А это, думаю, дикость — выгонять жену…
— Не совсем! Женщина может всю жизнь оставаться верной мужу, если он у нее первый. Но коли узнала двух мужчин, то уж на этом не остановится. Так что в этом народном обычае много разумного. — И улыбнулся: — Если вам, сударь, понадобится моя помощь, — милости просим! Вот моя визитная карточка. На досуге всегда помогу.
…Теперь Андрей подумал: «Вот уж точно — на ловца и зверь бежит! Этот Пал Палыч мне ой как понадобится!»
Не сомневаясь в согласии Елизаветы, Андрей понесся к профессору, с которым и столковался.
Елизавета, едва услыхав о предложении банкира и получив сто рублей, — «аванса ради» — завертелась счастливая по комнате, в нетерпении хлопнула ладошами:
— Устраивай все скорее! Надо же — под музыкальный квартет! А что песик будет смотреть — так плевала на него. Пусть смотрит и завидует. Хи-хи!
На другой день профессор, запершись с Елизаветой в ее комнате на час или менее, сделал все как следует.
Андрей договорился с банкиром «устроить праздник любви» в ближайший выходной. Вопреки требованию банкира, шаловливые детишки решили:
— Папа и мама ничего не скажем. А то мы будем стараться, а гонораром с ними делиться придется.
Все шло замечательно и все были счастливы. Вдруг в субботу под вечер в комнату Андрея вбежала Люба:
— Барин, вас какой-то господин спрашивают. Они на улице в коляске сидят. Серди-итый!
Похолодело сердце: «Беда!»
Илья Борисович, человек серьезный и бывалый, через своих людей навел справки и без особого труда узнал, что девица Елизавета Скобло-Фомина состояла в браке и по этой прозаической причине оставаться девицей никак не может.
Андрей был посажен в коляску с банкиром, за ними двигалась другая — с широкоплечими молодцами. Далеко не поехали, а затащили молодцы Андрея на пустырь, находившийся против монастыря и монастырю же принадлежавший, слегка отвалтузили, а банкир ласково сказал:
— Ты, сукин сын, знаешь, что я люблю выдавать авансы. Эти тумаки — прилюдия того, что я сделаю с тобой, если не вернешь мне деньги сполна.
Андрей, вытирая разбитый нос, промямлил:
— У меня другая сестра есть — Наталья. Она на три года моложе Елизаветы. Это как раз то, что вам надо.
— Не врешь? Ведь я все узнаю в точности. — Не обманываю, чтоб мне…
— Ты уже божился.
— Все выполню, вы довольны будете. «Однако, влип я! — лихорадочно соображал Андрей. — От аванса почти ничего не осталось, опять в карты мне не везло. Наташка — это не Елизавета, ее и золотыми горами не соблазнишь на такое дельце. И замуж по любви выходит… Впрочем, стоп! Вот тут-то я и буду иметь свой шанс».
Андрей заискивающе посмотрел на банкира:
— Илья Борисович, для пользы дела дайте мне еще хотя б рублей двести. Надо родителей, того, взбодрить.
Банкир швырнул деньги:
— Держи! Но если что, распубликую в газетах твою расписку, пусть все узнают, что Скобло-Фомины честью дочери торгуют!
…Андрей, неожиданно для себя легко уговорил папашу и мамашу: «Подарить на три часа Наталью богатому человеку!»
Сильное впечатление произвела сумма, которую банкир обещал передать родителям в тот момент, когда девушка явится в назначенное место.
С дочерью взялась поговорить «по-матерински» Дарья Семеновна.
Наталья была удивлена ласковым, даже вкрадчивым тоном мамаши:
— Садись, моя любимая, на диванчик. У меня к тебе важное дело, — замялась она. — Ты, голубушка, знаешь то ужасное положение, в котором мы находимся: в долгах как в шелках. Не хорошо у нас… Отец весь высох от забот. Андрей ведет легкомысленный образ жизни, не можем его женить. Я за два года себе ни одного платья не сшила, в обносках хожу… А теперь случай счастливый подвернулся, можно легко деньгами расжиться и хотя бы несколько поправить наше положение.
Наталья, все более изумляясь, глядела на мать, не понимая, куда та клонит.
Мамаша долго обдумывала, как бы деликатней изложить волнующие ее мысли и начала издалека, чуть не с библейских времен. Она проявила потрясающую эрудицию, приводя исторические примеры того, как хорошие девушки ставили благо ближних превыше такого «пустяка», как собственная невинность.
— Даже с научной точки зрения, — мамаша ласково гладила руку Натальи, — ведь это чистой воды суеверие. Возьмем к примеру меня.
И тут Наталья услыхала такие «подробности», что у нее от удивления вытянулось лицо:
— Мама, зачем вы мне это рассказываете? Мне вовсе необязательно знать, кого вы любили до папеньки.
— Ты, доченька, сейчас все поймешь. Повторяю: наша семья находится в крайней нужде. Неужели у тебя очерствело сердце и ты не желаешь замечать, как бьются твои родители, чтобы снимать этот флигель, чтобы содержать кухарку и горничную, чтобы вас, моих любимых детишек, поить, кормить, обувать! — тут Дарья Семеновна изобразила крайнее отчаяние и даже уронила слезу.
— Я скоро выйду замуж и буду вам помогать. На той неделе меня придут сватать.
Мамаша живо подхватила:
— Вот в этом все дело! За пустяк, о котором я тебе говорила, банкир отвалит нам кучу денег. И тебе на подвенечное платье достанется.
— Какой такой банкир? Какие деньги? Мамаша в самых обтекаемых выражениях изложила суть своей просьбы.
Наталья, не помня себя от гнева, вскочила с диванчика:
— Да как вы смеете? По своей воле — лишиться чести! И это вы называете «пустяком»? Для меня это не пустяк… Я лучше утоплюсь.
Мать взъярилась, резко переменила тон:
— А ты знаешь, что этот самый банкир, если ты ему откажешь, всех нас обесчестит? Не тебя одну — всех Скобло-Фоминых! У него в руках такой документ против нашей семьи!
Наталья горько зарыдала, уткнувшись головой в стену.
Мать опять переменилась, начала гладить ее по спине, приговаривать:
— Не плачь, дурочка! Мне и самой тебя жалко. Хочешь, вместе поплачем? Да, выхода у нас нет. Ведь ты не желаешь, чтоб твоя мамочка страдала? Сделай как я прошу. Умоляю! Хочешь, на колени встану? Оставь свою строптивую непокорность.
Повернув заплаканное лицо, Наталья сквозь слезы спросила:
— А как же я своему жениху в глаза смотреть буду?
Мать по— своему поняла этот вопрос:
— А он ничего не узнает! У Андрея есть такой медицинский профессор, большой мастак! Он так все у тебя обратно приладит, что не только твой муж, сам черт ничего не разберет.
Наталья с обидой покачала головой:
— Эх, мама! Я ведь про совесть говорю. Моя совесть, душа моя не выдержит. Не хочу и не буду обманывать. Я ведь в Бога верю, а он все видит. Перед ним никакие профессора обман не учинят.
Мать с досадой сплюнула:
— Тогда, доченька, вот что тебе заявляю. Раз ты так с нами по-зверски, без понятия нашего положения поступаешь, то и мы с родителем тебе той же монетой отплатим. Во-первых, не дадим нашего родительского благословения на брак. А без нашего согласия он тебя под венец не поставит. А если твой женишок наплюет на наш отказ, так мы ему про тебя такое наговорим, что он сам от тебя отступится.
Наталье казалось, что весь этот ужас ей снится. Она словно окаменела: не могла двигаться, не могла думать и говорить.
Молчание дочери Дарья Семеновна расценила как колебания ее настроения. Она вновь перешла в атаку:
— Одумайся, не упрямься. Прямо лишь сорока летает. На правде, дочка, далеко не ускачешь: либо себе шею свернешь, либо конь копыто попортит. Сегодня к нам нанесет визит Пал Палыч, он желает с тобой познакомиться.
Пал Палыч был личностью примечательной. Он был посредственностью, путем упорных занятий овладевший передовыми для того времени знаниями и развращенной нигилистическим подходом к жизни.
Сынок заурядного сельского фельдшера, вечно прозябавшего в нужде, он сумел поступить студентом в Медико-хирургическую академию. Здесь он играл роль разочарованного жизнью юноши со стеклышком в глазу, на его лице застыло кислое выражение, а голова была полна возвышенных социально-политических идей, впрочем, весьма отвлеченных.
С той поры много воды утекло. Пал Палыч за крепостью зрения давно не пользовался моноклем, прыщеватое некогда личико стало глянцевито-румяной физиономией, а быстрые черные глаза с довольством взирали на окружающий мир. Перемены во внешности находились в прямой связи с переменами в жизни. Цепко ухватившись за свой шанс, он пошел по научной и педагогической части, публиковал какие-то труды, что-то говорил студентам на лекциях: все было без блеска, но вполне в соответствии с инструкциями и тем уровнем знаний, который требовался от средних способностей педагога.
Он умел с раздумчивым видом подергать свою бородку клинышком и дать рекомендации пациенту, после которых тот, как правило, поправлялся, ибо почти во всех случаях сам организм берет верх над болезнями вопреки усилиям медиков.
Если же из-за дурного лечения пациенту делалось еще хуже или он вовсе умирал, то в этом случае говорили: «Видите, каким тяжелым был недуг, даже сам Пал Палыч не помог!»
Постепенно за ним упрочилась слава замечательного доктора, которому непозволительно за визит сунуть мятую ассигнацию, а следует с поклоном протянуть большой гонорар в конверте.
Однажды, по горячей просьбе одной его приятельницы, он сделал ей упоминавшуюся выше манипуляцию. Все блестяще удалось. Она сыграла свадьбу, и ее муж, почтенный сенатор, всегда почитал свою половину святой женщиной, недоступной порокам.
Дальше — больше. Круг пациенток постепенно расширялся, росла и эта своеобразная слава Пал Палыча, а гонорары резко возростали.
Доктор, представленный Андреем родителям, произвел на них самое благоприятное впечатление. Он обещал их пользовать от всех болезней и даже успел раза два заглянуть к Генриху Леопольдовичу, с которым разыграл несколько партий в шахматы, поклонниками которых они оба были.
На этот раз, проиграв две партии Генрих Леопольдович обратился, чуть смущаясь, к профессору:
— Тут, понимаете, такие обстоятельства… В общем, можно ли будет моей младшей дочери вернуть видимость девственности?
Профессор, самодовольно улыбаясь успокоил:
— Все в наших руках!
За сытым обедом мужчины выпили бутылку марочной мадеры:
— За успех дела!
После обеда Пал Палыч любезно осведомился:
— Операцию, поди, надо скорее сделать? Могу завтра.
Генрих Леопольдович разоткровенничался:
— Пока она у меня непорочна. Но днями произойдут… обстоятельства. И вот тогда…
— …Понадобится мое искусство! — заключил Пал Палыч, не выказывая наружно удивления, которое он испытал от слов заботливого папаши. С подобным ему сталкиваться еще не приходилось.
Сверху неслись звуки рояля.
— Это играет Наталья. Пойдемте, познакомлю вас. Склоните ее к необходимости сделать операцию. Она у меня строптивица.
…Наталья, завидев гостя, хотела уйти, но отец ее остановил, а Пал Палыч похвалил игру:
— Вы, Наталья Генриховна, прекрасно играете. Ведь это Чайковский?
— Да, это «Вальс-скерцо», — Наталье была приятна похвала. — А еще я люблю «Вечерние грезы» этого композитора.
— Пожалуйства, сыграйте, — стал просить Пал Палыч.
Наталья играла, отец потихоньку вышел.
Послушав музыку, Пал Палыч начал было говорить «о коловращениях жизни, об условностях» и прочем, как Наталья его вежливо прервала:
— Я уже наслышана о вашем врачебном искусстве. Но уверяю вас, оно мне не понадобится. И не будем больше говорить об этом.
— Вы, Наталья Генриховна, совершенно чудесная девушка, — воскликнул доктор и поцеловал ей руку. Даже в отравленной цинизмом душе возникло искреннее уважение к этой нравственной чистоте.
Вскоре им предстояла еще одна встреча — на этот раз последняя.
Прошел еще день. Солнце склонялось к горизонту. Хорошо пахло свежей хвоей и самоварным дымом. Наталья, тихо покачиваясь в гамаке, читала Фета.
Прозвучало над ясной рекою,
Прозвенело в померкшем лугу,
Прокатилось над рощей немою,
Засветилось на том берегу.
Далеко в полумраке луками
Убегает на запад река.
Погорев золотыми каймами,
Разлетелись, как дым, облака.
На пригорке то сыро, то жарко, —
Вздохи дня есть в дыханьи ночном, —
Но зарница уж теплится ярко
Голубым и зеленым огнем.
Послышались чьи-то шаги, мягко зашуршала галька. Дарья Семеновна растянула в улыбке губы, присела рядом:
— Что читаешь? Стихи? Какая ты у нас умница. Доченька, завтра у тебя в десять утра свидание. Пожалуйста, оденься понарядней. Я сказала Елизавете, она тебе даст свое новое шифоновое платье, знаешь, то сиреневое, с оборками и вырезом на груди. И возьми мои лакированные туфли. Бери, бери! Для тебя, моя крававица, ничего не жалко.
Наталья печально покачала головой:
— Маменька, вы продолжаете настаивать на вашем решении?
— Да, моя птичка! Вся семья ждет от тебя благородного поступка.
Опустив голову, Наталья надолго замолкла. Потом поднялась, тихо сказала:
— Я пойду к себе…
— Пойди, отдохни, касаточка. Пусть завтра ты будешь самой красивой. Чтоб понравиться.
— Не волнуйтесь, мама, понравлюсь.
…Через несколько минут Люба побежала к казармам Преображенского полка. А еще через два часа сосед Листер видел Наталью, остановившую на Среднем проспекте наемную коляску и поехавшую в неизвестном направлении. Позже на следствии знакомый нам отставной гарнизонный офицер, успевший побывать в доме Скобло-Фоминых и представленный Наталье, показал: «Я встретил ее в тот вечер в загородном ресторанчике „Эрнест“ — это на Каменноостровском проспекте в доме под номером шестьдесят. Мы с компанией мои именины справляли.Наталья прошла в отдельный кабинет — это где зимний сад. Меня доняло любопытство и я тайком туда заглянул, стол был сервирован на двоих, но к девушке никто не пришел. Она в печальном одиночестве пила красное вино „Вилла Розе“. Оно там дорогое, я брал как-то — полбутылка полтора рубля стоит. Ушла Наталья около 9 вечера».
Официант, по требованию Натальи, нанял для нее извозчика с нагрудной бляхой 144.
Извозчик на следствии говорил: «Барышню по ее приказанию я аккуратно доставил к Преображенским казармам. Она мне отдала деньги, а у караульных интересовалась про какого-то князя. Те ей в ответ: князь, дескать, были, но недавно уехавши».
Где провела Наталья ночь? Следствию это выяснить не удалось.
…Домой она явилась в шесть утра. Брат слыхал, как она прошла к себе. Через несколько минут грянул выстрел. Домашние, прибежав к ней в комнату, нашли Наталью, лежавшею на полу в луже крови. Рядом валялся револьвер. Девушка испускала громкие стоны.
— Я побежал в полицию! — крикнул Андрей.
— Поспешишь — людей насмешишь! — осадила сына Дарья Семеновна. — В полицию всегда поспеем. Лучше съезди за Пал Палычем.
Минут через сорок Андрей привез профессора. Все это время Наталья истекала кровью и жалобно стонала. Профессор осмотрел пострадавшую и развел руками:
— Пуля направлялась в сердце, но прошла мимо. Она, однако, задела спинной мозг. Быстро нарастает паралич языка и верхних конечностей. Положение безнадежное.
— Пусть все выйдут, — простонала девушка. — Семейные вышли за дверь, а доктор, оставшись наедине с Натальей, вкрадчиво зашептал:
— Скажите, что произошло? Я никому не передам, слово чести…
— Хорошо, пусть хоть один человек будет знать правду, — едва слышно, коснеющим языком проговорила девушка.
…Докор появился перед семейными через четверть часа. Он был бледен и необычно взволнован:
— Мне Наталья Генриховна рассказала такое… Кровь холодеет от ужаса! Надо вызвать полицию!
Полицейский доктор тщательно осмотрел девушку. Она уже лишилась дара речи. На все расспросы отвечала лишь слезами и стонами. Прострадав еще три дня, несчастная скончалась.
Слух о мученической кончине славной девушки моментально пронесся по столице. Хоронить ее пришли несколько тысяч петербуржцев. У разверстой могилы семейные Натальи услыхали в свой адрес оскорбления и даже угрозы. Газеты с гневом писали об их исключительной безнравственности, требовали судебного возмездия.
Князь Енгалычев пережил сильнейшее потрясение. Он носился с мыслью о самоубийстве, но желание услышать приговор, отправляющий убийц на каторгу, заставило его жить. На его средства было сооружено грандиозное надгробие.
Князь, как выяснилось, лишь за десять минут до прихода Любы в Преображенские казармы покинул их — он отправился к приятелю в казармы казачьи. Но горничной обещали, что записку невесты ему сейчас же доставят… и не сдержали слова.
Было возбуждено уголовное дело «О доведении девицы Натальи Скобло-Фоминой, потомственной дворянки, до самоубийства». Его вел бестолковый и ленивый следоваель. Поговаривали, что Илья Борисович Зусман не жалел денег, дабы спрятать концы в воду.
Так что, дело толклось на месте, следователь даже не сумел выяснить, где провела Наталья ночь перед роковым выстрелом.
Как раз в это время из Казани в Петербург был переведен А. Ф. Кони. Этот еще молодой в то время прокурор, пытался каким-то образом продвинуть вперед следствие. В частности, он указал дознанию на судебно-медицинский протокол, сделанный на месте происшествия полицейским врачом. В нем указывалось, что половые органы Натальи находились в состоянии болезненного воспаления. Местами ткани даже омертвели. Кони сделал вывод: «Ясно, что девушка сделалась жертвою нескольких человек, лишивших ее невинности и обладавших ею последовательно много раз».
Но, вопреки логике событий, на теле девушки не обнаружили каких-либо признаков насилия.
На некоторое время следствие оживилось, было выдвинуто несколько версий, но преступников так и не обнаружили.
Впрочем, появился нежданно-негаданно шанс распутать эту загадочную историю. Случилось это во время допроса Пал Палыча. Доктор начал возмущаться:
— Какое безнравственное преступление! Удивительно, что такое возможно в век всеобщего прогресса!
Кони в тон сказал:
— Действительно, позорное преступление! Но мы его давно бы раскрыли, если бы вы, профессор, поведали нам историю, которую Наталья рассказала вам сразу после несчастного выстрела. Итак?…
Развалившись в глубоком кресле, попыхивая дорогой сигарой (приобретенной на гонорар за очередную «манипуляцию»?), доктор задумчиво пожевал губами и нерешительно произнес:
— Да… конечно, мне Наталья все рассказала. Это еще страшней, чем вы думаете. Но вам помогать я, пожалуй, не стану.
— Почему так?
— Пользы никому от этой правды нет. Наталью все равно не вернешь, а мне говорить невыгодно и… неудобно. Ведь я воспитатель подрастающего поколения, так сказать, духовный учитель, а здесь, поверьте мне на слово, много такого, о чем и полезней промолчать.
Кони, с трудом подавляя в себе раздражение, тихо произнес:
— А как же голос совести? Неужели он навсегда заглох в вас? Ведь ваше умолчание безнравственно и постыдно.
Большое сытое лицо доктора насупилось еще больше, он выпустил дым едва ли не в лицо прокурора, и с нагловатой интонацией процедил:
— Боже мой, какие страшные слова: «нравственно», «безнравственно»! И совесть, и нравственность — понятия гуттаперчевые, растяжимые. Вы, господин прокурор, человек совсем молодой и не знаете жизни. На свете есть понятия куда более рациональные, чем выдуманная попами «совесть»: это целесообразность и возможность. Так вот, возможность рассказать эту историю у меня есть, а целесообразности нет.
Доктор почесал переносицу, попыхтел сигарой и вдруг заявил:
— Честно говоря, меня самого подмывает сообщить эту историю — уж слишком она… увлекательна. — Он оглянулся на двери: — Ну, черт с ним, рискну, расскажу. Только дайте мне слово, что все, о чем я вам поведаю, навсегда останется между нами и вы им не воспользуетесь по службе. Тогда я вам все расскажу, дружбы ради и для удовлетворения вашего любопытства.
Кони с нескрываемым презрением отчеканил: — Милостливый государь! Я вас вижу первый раз в жизни. И никакой дружбы между нами быть не может. И буду говорить с вами лишь как прокурор.
— Ах, так! Тогда заявляю: по этому делу ничего не знаю.
Когда допрос был закончен, профессор протянул прокурору руку. Рука повисла в воздухе…
ЮРИЮ МИХАЙЛОВИЧУ ЧУРБАНОВУ
Эта история о возвышенных и низменных страстях, о женском коварстве, о кровавом преступлении и блестящей работе российских сыщиков.
Солнечным июльским утром 1894 года на Офицерскую улицу Петербурга вкатилась легкая коляска, запряженная парой сытых, резвых лошадей.
Возчик, парень в поддевке, лихо крикнул:
— Тпрру! — и остановил лошадей у парадного входа сыскной полиции. Соскочив на троуар, возчик помог спуститься на землю даме ле под тридцать, с развевавшимися при движении пышными белокурыми волосами. На даме было надето элегантное плаье в талию из узорчатого атласа. Высокую благородную шею плотно охватывал дорогой гелубовато-фиолетовый аметистовый фермуар.
Нервно сжимая в руках цветастый ридикюль, Дама мелкими стремительными шагами поднялась по мраморной лестнице на второй этаж и повелительно обратилась к дежурному офицеру в новом мундире с аксельбантами:
— Мне нужно видеть Платона Сергеевича. Скажите, срочно!
Офицер поднялся из-за стола и вежливо произнес:
— Сударыня, начальник очень занят. Вы, простите, по какому делу?
— Это я сообщу лишь их превосходительству! Офицер развел руками:
— В таком случае, боюсь, вам не получить аудиенции. У нас существует определенный порядок. Вы можете изложить просьбу мне, и тогда я направлю вас к соответствующему должностному лицу.
Дама устало вздохнула:
— Мне не нужно к «должностному лицу». Мне надо видеть самого Вощинина. И чем быстрее, тем лучше.
Поняв, что спорить бесполезно, офицер спросил:
— Как прикажете доложить о вас? Раскрыв ридикюль, дама достала визитную карточку и протянула ее офицеру. Тот, лишь бросив на нее беглый взгляд, тут же преобразился:
— Ах, баронесса Годе! Что же вы стоите? Вот кресло, прошу…
— Мне еще никто не предлагал нынче сесть, — с легкой иронией заметила баронесса, опускаясь на кожанное сиденье.
— У Платона Сергеевича сейчас подполковник Соколов. Но я рискну, — и офицер, приотворив тяжеленные двери, проник в кабинет главного сыщика Петербурга.
Уже через несколько мгновений двери распахнулись, и на пороге во всей стати своего гигантского роста появился Платон Сергеевич. Он шагнул навстречу баронессе, радушно пробасил:
— Милая Виктория Альбертовна! Какими судьбами? Вот не думал здесь встретиться! Проходите, проходите. Садитесь сюда, поближе ко мне. Надеюсь, от чашки чая не откажетесь?
— Если можно, прикажите, чтобы кофе принесли, — молвила баронесса. — И пусть сделают его покрепче. Надо взбодриться. — Она вздохнула; — я сегодня почти всю ночь не спала. Как, впрочем, всю последнюю неделю…
Баронесса не договорила, вопросительно взглянув на Платона Сергеевича. Тот понял, улыбнулся:
— Позвольте представить моего, так сказать, соратника — подполковник Аполлинарий Николаевич Соколов, пристав 2-го участка Александ-ро-Невской части. Человек, хотя молодой, но бывалый. Кстати, подполковник следит за порядком и на вашей Лиговке. Мне ваш прием запомнился. На минувшем Рождестве.
— Как же, имели честь!
— Ваш милый супруг Герман Григорьевич показывал свою коллекцию старинного оружия. Удивительные редкости! Монгольский колчан для стрел XIII века — потрясающая штучка! Или кольчуга Александра Невского (я даже пытался примерить ее, да мала слишком) — чудо из чудес. Кстати, как поживает супруг?
Лицо баронессы помрачнело. Она с трудом выдавила из себя:
— Платон Сергеевич, милый, выручайте! Герман Григорьевич… пропал. — Разрыдавшись, она прижала платок к глазам.
Дождавшись, когда гостья немного успокоилась, Платон Сергеевич спросил:
— Что произошло? Расскажите по порядку. Вынув из ридикюля маленькое зеркальце и пудреницу, баронесса привела лицо в порядок и лишь после этого произнесла:
— В середине июня, точнее 13 числа того месяца, муж получил из Москвы телеграмму от Егора Гинкеля.
— От торговца оружием?
— Ну конечно, тот самый, что в Москве.
Сыщик, верный привычке в моменты наивысшего интереса подымать левую бровь, с явным любопытством произнес:
— И что написано в телеграмме? Вам известно это?
— Да, я нашла ее в столе мужа. — Баронесса вновь открыла свой универсальный ридикюль и извлекла на свет Божий чуть помятый сиреневого цвета фирменный бланк. — Читайте, Платон Сергеевич!
Тот покрутил в руках телеграмму, исследовав текст штемпелей и, повернув голову к молча сидевшему, но внимательно наблюдавшему за происходящим подполковнику, произнес:
— Аполлинарий Николаевич, послушай. Тут может скрываться нечто весьма любопытное. — И он медленно прочитал: — «Есть достойная вещица. Желателен ваш немедленный приезд. Гинкель».
Подполковник Соколов обратился к баронессе:
— Ваш муж, если я правильно понял, отправился к Гинкелю и после этого исчез?
Баронесса состроила гримаску:
— Ну, не совсем так! Когда Герман Григорьевич получил телеграмму, он сказал мне: «Этот дядя слов напрасно не тратит. Если зовет, значит, у него действительно завелось нечто редкостное. Хоть Егор и торгует современным оружием, но иногда к нему от коллекционеров и наследников поподают отличные штучки». И муж мне даже назвал какое-то старинное ружье, которое он лет пять назад купил у Гинкеля. Но какое именно, я, разумеется, не запомнила.
— И что же дальше? — подбодрил баронессу Платон Сергеевич.
— А дальше все просто. В тот же вечер муж отправился в Москву. Вернулся без покупки и взволнованный. Сказал: «У Егора потрясающая редкость! Чернильница в виде миниатюрной пушки из серебра, отделана золотом, платиной и драгоценными каменьями. Согласно легенде, эта чернильница была подарена Екатерине Великой Григорием Потемкиным. Когда последний впал в немилость, императрица, не желая сохранять памяти о бывшем фаворите, за какую-то услугу передала сию чудную вещицу графу Ивану Андреевичу Тизенгаузену, обер-гофмейстеру. Сменив нескольких владельцев, чернильница попала к Егору».
— И почему же ваш муж не приобрел такой раритет? — левая бровь сыщика поднялась до крайнего предела.
— Егор назначил очень высокую цену. Муж даже возмущался: «Не могу же я вкладывать целое состояние! Пропади пропадом эта чернильница вместе с грабителем оружейником!» Но муж страстный собиратель. Мне даже стало казаться, что он не переживет тех страданий, какие вызывала эта некупленная им чернильница. Вы, наверное, смеетесь?
Платон Сергеевич добродушно улыбнулся:
— Отнюдь нет! Я хоть и не коллекционер, но знаю эту породу людей. История криминалистики ведает немало случаев, когда самые, казалось бы, тихие и добропорядочные люди шли ради своей собирательской страсти на преступления. А вашему мужу, сколько я понимаю, даже нет нужды истязать себя разочарованием некупленной вещи.
Баронесса горячо поддержала:
— Вот-вот! Я сказала мужу: «Герман Григорьевич, не терзайте себя и меня. Мы с вами достаточно богаты, чтобы позволить приобрести такую милую игрушку. Вы куда поставите чернильницу?» — Муж ответил: «Понятно, на свой рабочий стол!» — «С вашего позволения, я каждый день буду приходить, стирать с нее пыль и восторгаться при мысли, что касаюсь предмета, который в свое время был согрет дыханием великой императрицы!»
Муж был покорен моими словами и тут же со слугой отправил текст телеграммы: «Чернильницу покупаю».
В тот же вечер с девятичасовым поездом Герман Григорьевич отправился в Белокаменную. Это, вы знаете, очень удобный поезд. Он проводит ночь в пути, а в Москву прибывает в начале одиннадцатого утра. Календарь мужа по сей день открыт на той страшной дате — 20 июня.
— Вы провожали мужа? — поинтересовался Соколов.
— Да, мы еще вместе немного посидели в его отдельном купе. У меня было очень тяжело на сердце: томило предчувствие недоброго. Я предложила: «Может, мне поехать с вами? Такое неожиданное и милое путешествие…». Муж улыбнулся: «Жаль, что эта мысль не пришла нам в головы прежде. Хотя еду я всего на день, завтра же в половине восьмого вечера отправлюсь обратно с поездом № 6 — скорым. И в 10 часов 10 минут утра вернусь в Питер. Так что не скучайте, а платой за разлуку станет чернильница Императрицы…». Мы расцеловались, раздался колокол, поезд укатил.
— И вы мужа больше не видели? — Платон Сергеевич вопросительно взглянул на баронессу.
Та отрицательно покачала головой и ее серые, чуть выпуклые глаза наполнились слезами:
— Увы, сердце меня не обмануло…
— У Гинкеля вы справлялись? — спросил сыщик.
— Да, я еще 24 июня, прождав более двух суток после предполагавшегося возвращения мужа, отправила в Москву телеграмму. Гинкель сначала телеграфно, а затем письмом сообщил, что муж совершил сделку и должен был еще 21-го числа сесть на поезд. Вот, пожалуйста, прочтите…
Сыщик пробежал глазами послание Гинкеля. Тот извещал:
«Милостивая государыня Виктория Альбертовна! Утром отправил телеграмму, а теперь хочу известить Вас письмом, что Герман Григорьевич действительно заезжал по известному Вам делу утром 20 июня, пробыл около полутора часов. Он был здоров и очень радовался приобретению. Более того, сказал, что дела спешно требуют его в Санкт-Петербург и он намерен сегодня же отправиться вечерним скорым домой. Мы распростились и я уже больше Германа Григорьевича не видел Надеюсь, что с ним все благополучно. С большим почтением, Егор ГИНКЕЛЬ».
— Да-с… — сыщик барабанил кончиками пальцев по крышке дубового стола, а это означало, что он пребывает в глубокой задумчивости.
Соколов протянул за письмом руку:
— Позвольте мне!
— Да, конечно! Прости, я малость погрузился в собственные мысли. Но письмо не дает ни малейшей зацепки.
Соколов прочитал послание и положил его на стол:
— Согласен с вами, Платон Сергеевич! Баронесса нервно вскочила с кресла, с мольбой протянула руки к сыщику:
— Платон Сергеевич, голубчик, только на вас надежда! Придумайте что-нибудь. Ведь порой удается распутывать такие хитроумные дела, газеты о них каждую неделю пишут.
Сыщик задумчиво почесал кончик мясистого носа и повернул свое богатырское туловище к Соколову:
— Аполлинарий Николаевич, что ты думаешь об этой ситуации?
Соколов поднялся с кресла:
— Я спущусь в картотеку. Может, что-нибудь найду о Гинкеле.
— Думаю, что найдешь. Он лицо заметное и уважаемое.
Едва за подполковником закрылась дверь, как сыщик с удивлением воззрился на баронессу:
— Виктория Альбертовна, этот вопрос я приберег для конфиденциальной обстановки: почему вы не обратились в полицию раньше? Ведь с момента исчезновения вашего супруга прошло две с половиной недели!
Баронесса опустила голову. Ее нежное личико заалело от смущения. Потом, взяв себя в руки, она холодным тоном произнесла:
— А вы, Платон Сергеевич, сами не догадываетесь, почему я не пришла в полицию прежде?
Сыщик мягко возразил:
— Нас никто не слышит, поэтому давайте будем откровенны. Я надеюсь, что ваш милый супруг жив-здоров, но чтобы убедиться в этом, следует поставить все точки над «i».
— Хорошо, — вздохнула баронесса, — будем ставить «точки». Вы помните события девяносто первого года? Муж поехал по делам в Варшаву всего лишь на неделю, а пропал дней на двадцать: ни слуху ни духу от него не было. Я пришла к вам, сделав официальное заявление, а на другой день получила от любезного супруга телеграмму аж из самой Ниццы: «Не волнуйтесь, скоро вернусь домой». Позже правда стала известна: на берег Лазурного моря он укатил не ради рыбалки, а ради юной модистки. Об этом узнал весь Петербург и потешался изрядно.
— Можете быть уверены, что из этого кабинета подобные сведения никогда не растекаются.
— Смею надеяться! Когда мой дорогой супруг, время от времени забывающий о таких понятиях, как честь семьи и верность жене, не вернулся вовремя домой и не водрузил на стол чернильницу стоимостью 175 тысяч рублей, я полагала, что он вновь где-нибудь отдыхает в приятном женском обществе. И каждый день я с нетерпением ожидала если не его самого, то хотя бы известий. Увы мне, нет мужа, нет известий. Что делать?
Не успел сыщик ответить, как распахнулись двери и в кабинет вошел Соколов. В руках он держал несколько бумаг, размером чуть больше открыток.
Присутствующие с нетерпеливым любопытством повернули головы к подполковнику. Соколов, устроившись поудобнее в кресле, начал читать:
— «Егор (Георгий) Александрович Гинкель, 1835 года рождения, уроженец города Москвы, православный, из мещан. Проживает: Сретенские ворота, дом Дедова С 1865 года содержит оружейную мастерскую для починки и переделки оружия, С 1876 года является владельцем магазина по оптовой и розничной продаже ружей, револьверов, охотничьих принадлежностей, а также имеет лицензию на продажу пороха Поставщик Императорского общества правильной охоты и его Новгородско-Тверского отдела Магазин работает под вывеской „Диана“. Продукцию получает согласно контрактам от германской фирмы „Зауер и Сын“ в Зуле со стволами из стали Круппа Оборотный капитал за 1893 год 727.541 рубль 79 копеек. Вдов. Детей не имеет. Адрес магазина: Москва, Театральный проезд, дом Блохиной».
— И вот еще небольшие по объему, но весьма любопытные оперативные сведения, — хитро прищурил глаз Соколов. — Читаю: «В 1866 году в октябре месяце Е.А.Гинкель привлекался к следствию в качестве подозреваемого в приобретении и хранении краденого оружия, носящего антикварный характер: двух кремниевых однозарядных пистолетов с искровыми ударными замками конца семнадцатого века германского производства. Следствие вел частный пристав Тверской части Гольм, За отсутствием веских доказательств дело было прекращено». Все!
Платон Сергеевич пружинисто поднялся с места и положил руку на плечо Соколова, который статью почти не уступал своему командиру:
— Ну что? Репутация хороша, да все же с некоторым изъянцем. Ах, эти коллекционеры! Пусть память о моем предшественнике по этому служебному креслу — великом Путилине, вдохновляет тебя, Аполлинарий Николаевич. Сегодня же отправляйся к Гинкелю. Я сейчас сообщу московским коллегам — помогут! Тем более, что тебя там знают хорошо, уважают. — Вощинин повернулся к баронессе: — А вас, Виктория Альбертовна, попрошу подобрать одну из последних фотографий мужа.
— Я уже подумала об этом! В мае мы находились в Царском Селе, были гостями Сергея Александровича. Вместе с великим князем запечатлелись. Вот, посмотрите…
На твердом паспарту было выдавлено: «К. Е. фон Ган и К°. Царское Село. Широкая улица, дом Бернаскони». С фото строго глядел великий князь, в фуражке с лакированным козырьком, в портупее, с шашкой, с двумя Георгиями и двумя медалями, в сапогах с высокими голенищами.Рядом с ним стояли баронесса и барон — красивый, самодовольный, улыбающийся в пышные темные усы.
— Чудесно! — сыщик поцеловал баронессе руку, проводил ее до дверей кабинета: — Поверьте, сделаем все возможное!
На диванчике в приемной уже несколько человек ждали приема. Начальник сыска прижал руку к сердцу:
— Господа, простите, что заставляю ждать вас! Очень важное дело меня занимает. Через пятнадцать минут начну прием. — И обратился к дежурному офицеру: — Никого не впускать, на все телефонные звонки отвечайте сами!
Плотно затворив за собой двери, Платон Сергеевич уселся на свое любимое место — возле камина, кивнул Соколову:
— Располагайся, милый друг! Давай малость покумекаем. Ты ведь знаешь, что я очень люблю решать шахматные задачки. Но еще нет ни одной такой, какую не смог бы решить хороший шахматист. Так и наша работа. Когда преступник идет на свое черное дело, ему мнится, что он умнее всех сыщиков на свете. И порой действительно кажется, что злоумышленник спрятал все концы в воду. Но впечатление это ошибочно. Нет такой задачки, которую не сумел бы разгадать талантливый сыщик. Если порой мы не находим преступника, то это лишь потому, что плохо искали.
— На этот раз мы будем искать хорошо! — улыбнулся Соколов, тряхнув гривой каштановых волос.
— Что ж! Пока ты, Аполлинарий Николаевич, имеешь славу как самый красивый полицейский Петербурга. — Платон Сергеевич расхохотался — После того, как раскроешь это дело с чернильницей, мы тебе присвоим титул самого ловкого сыщика. Поди, лавры Путилина не дают спокойно спать? Что ж, честолюбие в нашем деле качество неплохое. Давай, милый человек, решать задачки. Отвечай: для кого чернильница вожделенней: для обычного злоумышленника или…?
— Или коллекционера? Конечно, собиратель редкостей за такую игрушку полжизни отдаст. Но и для вора любого калибра — верх удачи!
— Так что. — подытожил Платон Сергеевич, — чернильница — сильная приманка для преступников любого толка. Второй вопрос: кто, кроме Гинкеля, мог знать о том, что барон покупает эту драгоценность?
— А вот на этот вопрос правильный ответ может дать только сам торговец оружием! Если позволите, ваше превосходительство, я отправлюсь с ближайшим поездом в Москву.
Сыщик не успел ответить, как задребезжал телефонный аппарат.
— Ведь приказал ни с кем не соединять! — с сердцем проговорил хозяин кабинета. Он снял массивную деревянную трубку: — Алло, слушаю! Здравия желаю, ваше Императорское высочество! Так точно, уже командировали девять человек в Москву, произвели обыск у подозреваемых. Не сомневайтесь, ваше Императорское высочество, преступник будет пойман, а судьба барона Годе — выяснена. Да, да, круг вероятных злоумышленников уже выявлен, идут интенсивные розыски остальных соучастников! Здравия желаю!
Платон Сергеевич смахнул фулярным платком пот со лба и хитро посмотрел на собеседника:
— Догадался, кто звонил? Великий князь Сергей Александрович! Он дружен с нашими баронами, милейшая Виктория Альбертовна успела сообщить высокому покровителю о своей беде. Разве начальству правду объяснишь? Посадить бы всех этих радетелей и погонять на наших местах хотя бы на недельку, повертелись бы они в наших обстоятельствах, тогда бы знали, каково тут приходится: штат недоукомплектован, трое сыскарей в отпуске, один в больнице, другой уехал в деревню отца хоронить. Кому работать? Впору самому за карманными воришками гоняться. Ведь и тебя, Аполлинарий Николаевич, не от сладкой жизни отрываю от основной работы и использую не по прямому назначению.
Соколов расхохотался:
— Зато сразу девятерых сыскарей заменил!
— Ты стоишь не меньше дюжины! То-то тянет тебя ни сию стезю, где хлеб зарабатывается куда трудней, чем тумаки да шишки. Все! Топай к кассиру. Пусть выдаст тебе триста, нет, двести рублей, и отправляйся в Москву. Власовскому я сейчас же протелеграфлю, чтобы помогли. Давай, обниму тебя, милый человек. Возвращайся с удачей!
Уже на другое утро Соколов вышел из поезда на Николаевском вокзале Москвы. Он был уроженцем этого большого старинного города и любил его так, как только русский умеет любить то место, где впервые увидал свет и получил первые впечатления жизни. Хотя он знал, что обер-полицмейстер Власовский ждет его приезда, что дело торопит, но Соколов не удержался, отправился пешком вдоль ветки железной дороги через обширную площадь. Он пересек Новую Басманную и саженей через двести свернул на мостик справа. Под ним, весело выпуская в небо дым, пробежал маневровый паровозик.
Соколов с сердечным трепетом подошел к небольшому деревянному домику, что стоял почти против дворца Хлудова, дотронулся ладонью до потемневших от времени бревен. Этот домик поставил его дед после пожара 1812 года. Дед был конногвардейцем, тогда совсем молодым, только что вернувшимся из Европы — покорителем Наполеона. Здесь спустя одиннадцать лет родился отец будущего сыщика. Здесь же маленький Аполлинарий огласил окружающее пространство криком, а потом, совсем еще младенцем с неописуемым интересом вглядывался во все окружающее… За домом шел обширный веселый сад с яблонями, с грушами, с птичьими гнездами на деревьях. Был даже небольшой скотный двор: держали громадную бокастую корову Маньку, которую пасли на жирной траве откоса железнодорожной ветки. «Парное молочко да моему дитятке!» — ласково говорила мать.
Теперь сад был вырублен теми, кто поселился вместо Соколовых, знакомых лиц не было видно.
…Аполлинарий Николаевич заспешил в сторону Красных ворот по Садовой Черногрязской, зашел в темное и прохладное помещение церкви Трех Святителей. Помолился иконе Спасителя, которую он помнил с детства и которая давно была им намолена, сел в коляску первого попавшегося извозчика и по Мясницкой полетел на Тверской бульвар мимо зеркальных вывесок, богатых витрин под тентами от солнца, мимо пестрой толпы прохожих.
— Здравия желаю, господин полковник! — щелкнул по привычке каблуками Соколов, хотя для операции он нарядился штатским франтом: в модный полосатый костюм, на голове соломенное канотье, в руках тросточка. С московским обер-полицмейстером он был хорошо знаком и, подобно всем сослуживцам, обожал этого дельного и на редкость умного человека.
— Ну, что за переполох у вас там? — Власов-ский крепко пожал руку гостя. — Кстати, позволь представить — начальник сыскной полиции Владимир Рудольфович Рыковский.
Власовский совсем недавно возглавил московскую полицию. Он не мог знать, что питерский гость и Рыковский давние друзья. Вопреки тому, что их разделяло пространство протяженностью в шесть сотен верст, многие хитроумные и опасные дела они решали в тесном союзе и нерушимом согласии. Таковы были добрые традиции!
А пока что два друга, с трудом удерживая улыбки под бдительным взором командира, изобразили сцену первого знакомства.
— Докладывай! — приказал Власовский. Соколов кратко изложил суть происшествия.
— Рыковский, всячески помогай! — распорядился обер-полицмейстер. — Дело докатилось до самых верхов. Из-под земли, но достаньте злодеев. А что преступление совершено — можете не сомневаться! На вечернем совещании доложите мне ход дела.
…Прямо из кабинета обер-полицмейстера друзья-сыщики отправились в знаменитый трактир Егорова в Охотном ряду.
— Начальство было бы радо, — смеялся Рыковский, — если бы мы ловили преступников все 24 часа в сутки. Но лучше бы они спросили: «Ребятки, вы сегодня кушали?» Нет, мы сегодня еще не кушали!
Пройдя через шумный и прокуренный нижний залец, набитый галдящим простонародьем, друзья поднялись наверх. Здесь в чистоте и уюте сыщики ели яичницу с ветчиной и обсуждали план действий.
— Ты, Аполлинарий Николаевич, пойми, — убеждал Рыковский, — за настоящую редкость свихнутый коллекционер не только чужой, но и своей жизни не пожалеет.
— Так же, как за подделку не даст гроша ломаного, — отзывался Соколов. — Вот эти психологические нюансы и надо использовать! Эй, половой, сделай рассчет!
— Согласен! Более того: пока ты трясся по «железке», я, зная от Власовского суть дела, выяснил имя ювелира, с которым частенько советуется Гинкель. Это Хромов с Плющихи. Едем к нему!
— Он причастен к преступлению?
— Вот это следует выяснить! И уж в любом случае, Хромова следует употребить с пользой для следствия. Послушай, что я придумал…
Рыковский вкратце поведал свою задумку. Поначалу Соколов с сомнением покачал головой, приговаривая: «Невероятно, невероятно! Нет, на такое он не пойдет!» Но в конце концов согласился с собеседником и даже азартно рассмеялся:
— Ну, дружок, ты гений! До такого трюка еще никто не додумывался.
— Голь на выдумки хитра! Положение наше безвыходное: умри, но преступников найди! Служба у нас такая. Помнишь, как убийцу Самохвалова брали?
— Это во время облавы на Хитровом рынке?
Друзья вспоминали, как кровожадный рецидивист почти в упор стрелял в Соколова, но на мгновенье был опережен пулей Рыковского. Пришло им на память, как в заброшенном доме возле Смоленского кладбища в Петербурге они, ежесекундно рискуя быть подстреленными, поднимались на пятый этаж по пожарной лестнице. И как им пришлось брать голыми руками (стрелять было нельзя, в комнате находились люди) некоего Нечаева, по кличке Людоед, зарезавшего накануне целую семью. Людоед успел схватить в руки топор, которым навсегда оставил след на плече Соколова.
Эх, героическая жизнь российских сыскарей, отважных до безумства, честных до святости, еще никем по-настоящему не воспетая!
…Коляска остановилась у мастерской ювелира Хромова. Сыщики вошли вовнутрь, а обратно вернулись минут через пятнадцать уже втроем, вместе с поджарым, крепкоплечим человеком лет 50 — ювелиром. Лицо его было скуластым, волевым, глаза смотрели спокойно, и чуть презрительная улыбка застыла на большом рту.
— Гони, извозчик, к оружейному магазину, что в Театральном проезде, — распорядился Рыковский, которого все московские лихачи знали в лицо, весьма уважали и деньги, разумеется, с него не спрашивали.
Они издали увидали зеркальную вывеску и богатые витрины респектабельного магазина по торговле оружием. Бородатый солидный приказчик поспешил растворить перед гостями тяжеленные двери.
В зале встретил сыщиков сам Гинкель. Это был немолодой, полноватый человек, в дорогом, европейского покроя костюме, с добрым и чуть усталым лицом.
— Милости прошу! — улыбка красила лицо Гинкеля. — Чем могу служить господам покупателям?
Сыщики, задавшиеся целью нагнать на оружейника побольше страха, держались сдержанно-сурово.
— Сыскная полиция! — представился Соколов и показал жетон. — Нужно побеседовать. К вам пройдем? Или, если желаете, поедем в Гнездниковский переулок, в управление сыскной полиции.
Гинкель заметно побледнел:
— Это еще зачем я понадобился? Не было беды, Господи! — он перекрестился. — И никуда ехать нет нужды. Проходите вот сюда, в мой кабинетец. Я только отпущу покупателя.
— Мы подождем, — холодно отрезал Рыковский, своими небольшими, узко посаженными глазами буравя оружейника. Умышленно преувеличивая звание друга, командным тоном произнес: — Полковник блокируйте выход! А я постою тут! — и очутился почти за спиной Гинкеля.
Тот торопливо, трясущимися руками, оформил покупку охотничьего ружья и отпустил покупателя.
— Закройте магазин! — приказал Рыковский, разыгрывая из себя не меньше как генерала. — И не вздумайте дурить. У нас револьверы на взводе. — И для убедительности выволок из кармана оружие.
Как ни был взволнован Гинкель, он, лишь бросив беглый взгляд, вполголоса отметил:
— Револьвер системы Шамело-Дельвиня, калибра 11 миллиметров! Производится с 1880 года в Сент-Этьене. Обладает большой убойной силой…
— Вот именно-с! «Убойной»! Пошли в ваш кабинет и прикажите слуге, чтобы к нам никто не входил, — с самым свирепым видом процедил Рыковский.
Оставшись втроем в кабинете, друзья молча, не менее трех минут сверлили взглядами Гинкеля. Тот вертелся как на огне, пытался начать разговор, но сыщики словно гипнотизировали его. Наконец Рыковский медленно разжал уста:
— Ну-с, господин хороший! Ответьте нам на единственный вопрос: куда вы девали труп барона Годе?
Вопреки ожиданиям сыщиков, этот вопрос моментально привел Гинкеля в относительно спокойное состояние. Он вздохнул, кадык перестал мышью бегать по шее, попил зельтерской воды и пожал плечами:
— Вы это, господа сыщики, меня всерьез спрашиваете? Или полковник Власовский, мой добрый знакомый, прислал вас меня веселить?
— А что же вы так перепугались, если не при-частны к убийству барона? — впервые за все время визита раскрыл рот Соколов.
Гинкель ядовито усмехнулся, все более повышая тон:
— Еще бы не перепугаться! Средь бела дня врываются к честному человеку, с угрожающим видом приказывают прекращать торговлю. Вам, извините, это не пройдет. Я постараюсь, чтобы газеты оповестили общественность о тех безобразиях, какие нынче творит полиция. Еще раз предъявите ваши жетоны! Ишь револьвером грозят!
Рыковский не шелохнулся. Лишь его лицо скривилось в презрительной гримасе. Вновь воцарилось долгое мучительное молчание.
Гинкель опять начал волноваться:
— Я хочу записать ваши номера. Повторяю: предъявите ваши жетоны, вы обязаны сделать это.
— Мы уже предъявляли их, — произнес Соколов.
— Я не обязан запоминать их. Все, хватит, мое терпение лопнуло. Я звоню градоначальнику, он вас… — и Гинкель потянулся к телефонному аппарату.
Рыковский вдруг гаркнул так, что задрожали Дорогие хрустальные подвески на люстре:
— Сидеть! — зрачок револьвера холодно глядел на Гинкеля.
Тот опустошенно повалился в кресло, схватился за сердце:
— Что ж вы делаете, изверги?… Рыковский зловеще произнес:
— Вы себя, Егор Александрович, разоблачили!
— Чем? — вяло спросил Гинкель.
— Объясню. До нашего прихода вы знали об убийстве барона?
— Нет, конечно!
— А почему же эта ошеломляющая новость на вас не произвела ни малейшего впечатления? Потому, что вы все время лжете. Вы давно знакомы были с Годе. Скажите сколько вы содрали с барона за чернильницу, которая якобы принадлежала Екатерине II?
Гинкель фыркнул:
— Стоимость чернильницы — коммерческая тайна, которую я не собираюсь сообщать полиции. А что касается ее подлинности, то в том сомнений нет.
Наступила время действовать Соколову. Он с сочувствием покачал головой:
— Дорогой Егор Александрович! То, что вам кажется коммерческой и прочими тайнами, на самом деле давно известно полиции. За чернильницу утром 21 июня сего года прибывший из Санкт-Петербурга барон Годе выплатил вам 175 тысяч наличными. Второе: чернильница эта по заказу Альберта Гамбургера, вам хорошо известного антиквара, была ловко сфабрикована киевским ювелиром Маршаком. Согласно просьбе Гамбургера, вместо бриллиантов, изумрудов и дымчатых топазов были использованы обыкновенные цветные стекляшки.
— Не может быть! — побледнел до покойницкого цвета Гинкель.
— Так куда вы дели барона и чернильницу?
— Барон оплатил покупку, сказал, что возвращается домой и больше я его не видел. Но, повторяю, чернильница подлинная. Я фальшивками не торгую.
— В том то и дело, Егор Александрович, что вас надули. Хотите, я расскажу как было дело? — Соколов с печалью во взоре посмотрел на Гинкеля.
— Как? — хрипло произнес тот и выпил из сифона большой стакан воды.
— Слушайте внимательней, ибо рассказ мой будет краток, но весьма, полагаю, убедителен.
— В самом конце первой декады июня к вам пришел ваш старый знакомый Гамбургер. Он сообщил, что может достать «исключительную ценность» — упоминавшуюся выше чернильницу. Что она последние сто лет принадлежала графам Шереметевым. Но теперь славный представитель этого замечательного рода решил с ней расстаться. Так?
— Так! — мотнул головой Гинкель.
— Гамбургер вслед за этими словами, уловив ваш интерес, полез в саквояж, при нем находившийся, и достал чернильницу. Он назвал ее стоимость… Вы, внимательно изучив предмет, сказали, что нужно ее показать ювелиру. Гамбургер охотно согласился. Вы оба сели в поджидавшую Гамбургера бричку и, по вашему предложению, отправились на Плющиху к ювелиру Хромову, и прежде оказывавшему вам различные услуги.
— Вы хотите сказать, что Хромов пошел на обман? Что стекляшки он мне выдал за бриллианты?
— Именно так!
Гинкель дико расхохотался и крикнул:
— Вранье! Не верю! Рыковский спокойно возразил:
— В нашем корыстном и преступном мире возможна любая подлость. И сейчас я вам это докажу. — Он молча кивнул Соколову.
Тот покинул кабинет, вышел на улицу и поманил извозчика, дожидавшегося сыщиков в саженях пятидесяти от магазина. Извозчик подъехал, из коляски выпрыгнул на землю ювелир Хромов.
— Не оплошайте, — подбодрил его Соколов. Ювелир почти с ненавистью посмотрел на сыщика, но ничего не ответил.
Хромов вошел в кабинет Гинкеля и не глядя на него, отбарабанил как заученное:
— Да, меня подкупил Гамбургер. Дал тысячу рублей.
Гинкель налился гневом и ударил бы в ухо Хромова, не помешай этому акту справедливого возмездия Рыковский. Оружейник заскрипел зубами:
— Ну подлец, ну жулье! Пошел отсюда… ювелир хренов.
Гинкель долго-долго пребывал в задумчивости, потом проговорил тем тоном, каким порой разговаривают наедине с самим собою:
— Хоть и фальшивка, а как сделана! — Помолчал опять и добавил: — Но подделок я не собираю. — Он встал в кресла, кивнул сыщикам: — Ваша взяла! Поехали, отдам чернильницу.
Словно враз постаревший лет на десять, он сказал приказчику:
— Поедем в моей коляске! Пусть Ермила запрягает, да положи в багажник лопату. И дай мне охотничий нож.
Сыщики молча переглянулись.
Когда уселись в легкую рессорную коляску на резиновых шинах — «дутиках», Гинкель приказал возчику:
— Поезжай к селу Алексеевскому!
Далее события приняли неожиданный оборот.
Выехали на Крестовской заставе. Оставив справа Пятницкое кладбище, быстро покатили по хорошо набитой грунтовой дороге. Постоянно попадались люди — небольшими группками или в одиночку — паломники. Они держали путь к Троице-Сергиевой Лавре. Проехав версты две-три, свернули вправо. Миновали большое и древнее село Алексеевское, еще до 1812 года сохранявшее небольшое по размерам, но изящное по отделке здание — любимую вотчину царя Алексея Михайловича.
Наконец, подъехали к краю густого, поросшего сосновым молодняком лесу — Сокольникам.
— Господа хорошие, — командным тоном распорядился Гинкель, — вы помоложе меня, возьмите из багажника лопату и — вперед, топ-топ! Дальше проезда нет. Только не отставайте!
— Да уж постараемся! — весело ответил Рыковский, а Соколов подхватил лопату на небольшой ручке.
— Ермила, встань в тенек, слепней отгоняй от лошадей! — хозяйски распорядился Гинкель. — Я скоро вернусь. — И споро зашагал по узкой тропинке.
Прошли саженей сто. Перед путниками водной рябью блестел пруд. Сыщики сгорали от нетерпенья. Каждый из них думал: «Чем удивит оружейник? Неужто покажет место, где отрывать труп барона? Ну и ловко же мы дело раскрутили. Однако для чего ему нож? Какой бы фортель не выкинул!»
На небольшом возвышении красовался толстенный красавец-дуб, который мог помнить Ивана Калиту. Вот возле этого долгожителя и останс вились путники. Гудели шмели, сладко пахло травами и цветами. В прогалины между толстых и грубо-корявых ветвей виднелось знойное синее! небо. Так хорошо было в мире, так спокойно и чисто дышала природа, что человеческие дела страсти представлялись ненужными и омерзительными.
— Дайте лопату! — сухо сказал Гинкель. Он неторопливо подошел к дубу, внимательно вгляделся в его подножие и стал уже вполне уверенно действовать. Он подцепил большой кусок дерна и, дерн легко отстал от земли. Обнажилась земля — совсем немного, может в пол-аршина квадратных, но с ровными краями.
Сыщики впились лихорадочными взорами этот квадрат. Не спеша, очень осторожно погружая лопату в рыхлую землю, Гинкель начал копать. Вдруг под металлом едва слышно звякнуло. Гинкель наклонился, бережно разгреб ладонями землю и вытащил большой ларец из толстого зеленого стекла.
Соколов и Рыковский стояли как завороженные, боясь шевельнуться, боясь нарушить священную тишину. Им передалось трепетное состоянии человека, которого они подозревали в убийстве.

Гинкель вынул носовой платок, тщательно смахнул с крышки ларца прилипшие комочки земли. Затем он достал из брючного кармана большой перочинный нож, на время поставив ларец на траву. Ножом он начал аккуратно очищать сургуч, которым была заделана щель под крышкой. Наконец, едва касаясь кончиками пальцев чего-то затянутого в темный шелк, он вынул содержимое, развернул его и запечатлел на потаенном предмете долгий нежный поцелуй. Во время всего этого действа Гинкель стоял на коленях.
Потом он неторопливо поднялся с земли, отвернул в сторону лицо, залитое слезами. Тихо произнес:
— Забирайте! Хотя теперь вижу: это — настоящее. Шедевры бывают только подлинными.
Соколов принял в руки увесистое плато из малахита. На нем стояла с задранным вверх жерлом серебрянная пушка, выполнявшая роль резервуара для чернил и отделанная затейливым золотым орнаментом. Платиновая крышка была украшена изумрудами и бриллиантами. Горка ядер, служившая опорой для ручки из золота, была изготовлена из топаза. Края плато выложены изумрудами, перемежавшимися с крупными бриллиантами.
Даже у сыщиков вырвался крик изумления: такая это была красота необыкновенная, что восторгу не могло быть предела.
Показалось, что в эти невероятные мгновения даже лесные птицы прекратили свой бесконечный гвалт.
Соколов с явным сочувствием сказал: — Вы, Егор Александрович, конечно, правы: это вещь настоящая. Извините наши полицейские уловки: мы уговорили Хромова сказать вам неправду — именно сегодня, а в прошлый раз, когда определял подлинность чернильницы, он сказал истину. Но что было делать? Речь идет о жизни человека, занимающего в государстве видное положение. Цель в данном случае оправдывает методы. Ведь так?
Подавленный произошедшим, Гинкель ничего не ответил.
Выждав небольшую паузу, Рыковский решил атаковать:
— Егор Александрович, мы — на пути к истине! И в этом — ваша заслуга. Суд присяжных это, безусловно, учтет при вынесении своего вердикта. Теперь вы обязаны нам оказать помощь в главном, как бы вам не было тяжело. Признайтесь, где находится труп барона?
Гинкель с сожалением посмотрел на сыщика:
— Вы опять несете ахинею? Неужели я мог убить человека? Господь всегда лишает убийцу способности понимать изящное, а именно эта способность рождает настоящего коллекционера.
— Простите, Егор Александрович, — произнес Соколов, — а как же тогда чернильница вновь попала к вам, если вы ее однажды уже продали барону?
Глубоко вздохнув, Гинкель махнул рукой:
— Деваться некуда, расскажу вам все до конца. Барон Годе действительно купил у меня чсрнильницу, и мы распрощались с ним. Но уже вскоре — не могу точно сказать, сколько прошло время, но немного, — как барон вновь пришел ко мне. Он был чуть— чуть взволнован и куда-то торопился. Протянув обратно покупку, попросил: «Егор Александрович, вас не затруднит закрыть у себя в сейфе. Через день, самое большее — два, я вернусь и заберу…»
Я, разумеется, согласился, и не стал расспрашивать о причинах такой просьбы. Но барон, человек скрытный, добавил все же: «Мне предстоит поездка, и я не хотел бы в дорогу брать столь ценную вещь!»
Барон принял от меня расписку: «21 июня 1894 г. я, нижеподписавшийся, принял на хранение от…»
На том мы и расстались. Но уже, если мне не изменяет память, на второй день после этого из Петербурга пришла телеграмма от баронессы Годе: она спрашивала меня о муже. Я ей тут же ответил — сначала телеграммой, а затем письмом. Не желая вмешиваться в дела супругов, о которых даже в Москве ходит немало анекдотов, я словно забыл о вторичном посещении барона и сообщил лишь, что он собирался побыстрее вернуться домой.
— Зачем вы ввели в заблуждение баронессу? Гинкель раздул щеки и тяжело вздохнул:
— От вас-то, разумеется, мне скрывать ничего теперь не приходится. Когда Годе покинул магазин, я посмотрел в окно: в коляске, дожидавшейся барона, сидела очень красивая дама.
— Как дама выглядела? — спросил Соколов. — Постарайтесь припомнить. Это крайне важно. Это светская дама. Или?…
— Увольте, господин сыщик! Какую характеристику личности можно давать, коли видишь даму мельком и на большом расстоянии? Единст-венное, что могу сказать: на даме была белая шляпа с большими полями, а на лицо спущена вуаль.
— Амурное приключение?
— Весьма вероятно! Барон, не в поношение будет сказано, большой любитель до мимолетных приключений. Увы, я сам пострадал от его распутства.
— Это как же? — невольно улыбнулись сыщики.
— Человек я, как вы знаете, вдовый, одинокий.
Лет пять тому назад жила у меня вроде бы как в горничных одна милая девица. Я на нее имел самые серьезные виды. Но появился однажды барон, вскружил девице голову и… она сбежала с Годе, больше я ее не видел. Пышные усы барона и его щедрые подарки на девиц действуют магически. Но это так, между прочим.
— А кто сидел на козлах коляски? — спросил Рыковский.
— Да какой-то уличный «ванька». Номер его я, понимаете, через витрину разглядеть не мог. Да и незачем мне это было.
…Коляска с тремя седоками вновь покатила к Москве.
Соколов обратился к Гинкелю, пребывавшему в глубокой печали:
— Егор Александрович, не впадайте в уныние. Ведь чернильница все равно вам не должна была принадлежать.
— Как знать! Я когда впервые ее увидал, то она так меня поразила, что я было решил приобрести ее. Но прикинул капиталы и увидал, что не потяну на столь дорогую вещь. Выяснилось теперь, что это к лучшему? И страшно затосковал! Поймет ли профан тот душевный трепет, который испытывает знаток от соприкосновения с раритетом? Ощутит ту волшебную и необъяснимую силу, которая исходит от редкостного предмета — древней монеты, первопечатной книги или старинного оружия? Нет, коллекционером, как поэтом, надо родиться!
Сыщики переглянулись, а Соколов с восхищением произнес:
— Вы, Егор Александрович, настоящий коллекционер и тонкий ценитель прекрасного. Повторяю: если мы вас ввели в заблуждение, то этого требовали обстоятельства. Не убеди мы вас хотя бы на мгновение, что вещь эта фальшивая, вы нам ее никогда бы не отдали. Ведь так?
— Да, не отдал бы! Ведь ее делал, на мой взгляд, лучший европейский мастер второй половины восемнадцатого века…Ермила, стой! Тпрр! Я вам сейчас кое-что покажу, а то на ходу трясет, не разглядеть. Дайте-ка сюда чернильницу. Зрение острое? Притупилось? Тогда возьмите увеличительное стекло, — Гинкель достал из жилетного кармана лупу, с которой не расставался. — Посмотрите сюда, на основание мортиры. Видите клеймо: «А.Р.»? Это означает, что мастер — сам Алексей Ратько. Его работы уже более столетия украшают коллекции царей и королей.
Помолчали, подумали каждый о своем. Гинкель глубоко вздохнул:
— Никогда подобную вещь мне в руках держать не придется!
Коляска вновь тронулась, покатилась к центру города: сыщики торопились удивить своей блестящей деятельностью начальство и продолжать поиски Годе: живого или мертвого.
Гинкель был отпущен домой, но честным словом он обязался явиться в полицию по первому зову.
Были опрошены все, кто мог видеть барона Годе и его спутницу. Но никто толковых сведений сообщить не смог. И лишь дворник Кузьма Голиков, работавший метлой у дома, принадлежащего купчихе Блохиной, что в Театральном проезде, сообщил:
— Это точно, дамочка в белой шляпке в коляске сидела. Нумер извозчика? Чтоб нарочно его записать, так, извеняйте, догадки в голове малость не хватило. Но, по долгу службы и рвению, обязательно посмотрел на нумер — привычка у меня такая. Полностью назвать не умею, за истечением времени в голове выветрилось. Однако же, помню, что была цифра «13». Я еще подумавши, что как моя квартира. Я ведь в тринадцатой живу, это со двора в подвале.
По полицейским спискам быстро определили всех, у кого в регистрационном номере присутствовала «чертова дюжина». Таких набралось пятьдесят семь, но из них отобрали лишь лихачей. Поиск сразу сократился до девяти человек. Но уже второй допрошенный — его номер был «113» — Матвей Капустин, увидав фотографию, ткнул корявым пальцем:
— Вот они, этот господин! Точно, ошибки быть е может. Они взяли меня на Николаевском вокзале и поехали в Театральный проезд. Там я их ждал час или более. Когда они вышли, то к ним обратилась дама в большой белой шляпе с перышками. Они говорили с ней с большим интересом. Потом вместе сели в мою колясочку, и я их отвез в Метрополь. Там ждал тоже с час. Они вернулись оживленные, видно, что выпили. Господин все даму ручкой гладил. Они ей веселое что-то рассказывали, а дама заливалась, громко смеялась, даже прохожие оборачивались. Куда поехали? Да сначала вернулись к оружейному магазину. Господин ушли со свертком, а вернулись с пустыми руками — в один секунд. И приказывают тогда мне: «Гони, говорит, дурья башка, к Нижегородскому вокзалу. У нас поезд отходит в половине второго». Я их уважил, с нашим почтением доставил в аккурат. Не опоздали. Господин тороватый, за оказание услуги дали «красненькую». По-царски!
Теперь была очередь за железнодорожными кассирами. Нашли того, который работал днем 21 июня. Молодой, тщедушного вида человек по фотографии узнал барона и с неприязнью произнес:
— Скандальный, знаете, господин. Требовал до Петушков отдельное двухместное купе в вагоне первого класса. Я ему объясняю: «Если желаете первый класс, поезжайте с другими поездами — с 10-м, 4-м, 12-м или 2-м. У нас всего пять поездов, и лишь ближайший 20-й не имеет первого класса. Это товарно-пассажирский поезд, отправляется через семь минут, зато остальные — пассажирские и скорые.
Господин шумит на меня: «Когда с первым классом отходит следующий?» Я ему деликатно отвечаю: «Следующий поезд номер 4 — на Нижний Новгород в половине пятого». Господин малость подумал и рявкнул: «Черт с тобой, давай на ближайший, только чтобы было отдельное купе». Оплатил четырехместное купе. Каждое место стоит до Петушков 2 рубля 49 копеек.
Соколов, довольный собой и кассиром, пожал ему руку, взял билет за 2 рубля 49 копеек и пошел садиться в поезд № 20. До отхода оставалось минут десять, так что он успел дать телеграмму в Петушки — начальнику тамошней полиции: «Встречайте!»
В Петушках дело пошло споро. Местные коллеги, едва услыхав по «даму в белой шляпе», сразу же сказали:
— Есть у нас такая! Зовут Любкой Чулковой. Бабешка, правду сказать, смазливая. Эксплуатирует свои женские прелести. Ездит в Москву, закручивает мозга богатым людям. Но чтоб сюда кого-то привозила? Нет, нам о таком ничего неизвестно. Тем более, что вернулся ее хахаль — Сашка Цыган. Пять лет за налет на банк отсидел. Ради Любки и пошел на такое.
— Давайте сделаем обыск и допросим Цыгана и Чулкову.
…Через своих людей выяснили, что эта парочка сегодня как раз гуляет дома.
Разработали план операции, оцепили дом — муха, кажется, не пролетит. Тем более, что дом Любки стоит на отшибе и за оградой начинается паровое поле.
Когда полицейские ворвались в помещение, то застали Любку одну — она пьяненькая лежала в постели. Рядом с ней место еще не успело остыть, но Цыган исчез непостижимым образом.
Любка, сбросив с нагого тела одеяло бесстыдно развалилась в непристойной позе и лениво протянула:
— Вы это об чем? Кого ищете?
— Нас интересует барон Герман Григорьевич Годе, которого ты охмурила 22 июня и завлекла в свои сети. Ты прибыла с ним в Петушки на поезде номер четыре ровно в семь вечера. Мы все про тебя знаем.
— Да пошли вы, козлы вонючие, в… Вам нужен барон, вы его и ищите. Чего привязались к порядочной девушке? Тьфу, глядеть на ваши позорные рожи тошно! Да я бы с вами на одном поле…
— Хватит! — грохнул по столу Соколов. — Сегодня же кривляться будешь в тюремной камере. Что сделали с бароном? Отвечай!
Разрыдалась девица, зашлась в нервическом хохоте. Затем попила воды и во всем призналась:
— Это все Цыган! Он давно подбивал меня: «Привези богатого купца, а все остальное я сделаю!» Поехала я в Москву, иду мимо магазина, где ружьями торгуют. Вдруг из дверей важный господин выходит, в руках сверток, трясется, видать, над ним, аж к груди прижимает. А сам — к коляске, которая его дожидается, да на меня все время косяка давит. Видать заинтересовала моя красота внешности. И я на него гляжу, чуть улыбаюсь.
Любка замолчала, словно раздумывая, надо ли говорить дальше, если ее теперь все равно в тюрьму упекут.
— Ну и что дальше было? Небось, втюрилась в барона — он ведь красавцем был! — подзадорил Соколов.
— Не я, а он за меня уцепился — не оторвешь! — гордо задрала нос Любка. — Говорит: «Мадам! Не подскажете, где у вас в старой столице ресторан „Метрополь“? А то мой кучер не знает».
Я ведь понимаю, что все это только для разговору. Он лучше меня знает все рестораны. Но вежливо говорю: это совсем, дескать, рядом.
А этот усатый мне свое: «Если бы проводили, был премного благодарен!» Ну что, села в коляску, поехали в «Метрополь». Выпили вина, а усатый бахвалиться начал: «Вот эта штучка, что купил я сегодня, стоит дороже всего этого ресторана вместе с лакеями. Я за нее цельный капитал отвалил. Полюбите меня, мадам, и вы от меня испытаете счастье!»
Ну, я скромно отвечаю, что еще девушка и такими делами не балуюсь. А коли вы вышли из магазина, где ружья продают, так мне досталось в наследство одно старинное, все в золоте и перламутре — от деда. И что готова такое ружье продать.
«Где оно, ружье?» — спрашивает, а у самого глаза загорелись.
«В Петушках» — говорю. «У меня дома на ковре висит».
«Сколько до этих Петушков ехать?»
«Смотря каким поездом! Коли пассажирским, так четыре часа, а если двадцатым — так малость поболе будет. Только он в половине второго с
Нижегородского отходит. Меньше часа осталось».
«Едем!» — сказал усатый, расплатился за выпивку и мы поехали на вокзал. По дороге все спрашивал, согласна ли ехать с ним в отдельном купе. Я сказала, что согласна делать все, что господин прикажет. Кажись, он ради этого и поехал. Ружье интересовало меньше, чем моя красота.
Любка опять попросила попить водицы. Выпила большую кружку, утерла ладонью рот и продолжала:
— Я ведь почему завлекла усатого в Петушки? Думала, что он возьмет дорогую игрушку с собой. Цыган ее отберет, поженится на мне. Пушечку эту мы продадим и заживем весело, в достатке, работать не нужно будет.
— Не вышло?
— Да где уж там! Я как увидала, что он ее в магазин отнес, даже хотела передумать, в Петушки не ехать. Зачем он без такой драгоценности нужен? Но потом я смекнула, что усатый в портмоне много денег показывал, и решила, что этим будет хорошо разжиться.
— Не жалко барона?
— Очень жалко! В купе отдельном мы с ним так хорошо времечко провели, так ласково слюбились, что, ей-Богу, когда у нас сошли, хотела ему на все глаза открыть, сказать, чтоб уезжал скорее.
— И что помешало?
— Да стыдно как-то! Что, дескать, порядочный человек обо мне подумать может?
Соколов грустно покачал головой:
— Действительно, «сказать стыдно»! Не вертись, Любка Чулкова, голой. Прикрой задницу. Куда Цыган спрятался?
— Он шустрый, умеет скрозь землю проваливаться. — Любка почесала нагую грудь, сплюнула: — Это все через него, паразита. Отвернитесь, что ль, я оденусь.
…Любка и полицейские прошли во двор. Любка объясняла:
— Когда я привела усатого к себе домой, он стал допрашивать: «Где ружье?». И сам волнуется, видно, почувствовал неладное. Я его успокоила. Говорю: «Давайте с дорожки отдохнем, а потом я за ружьем сбегаю. Оно у моей тетки спрятано».
Стал усатый меня корить: «Ты, мол, говорила, что на ковре висит?».
«Правильно, — говорю, — у тетки и висит».
А в это время сзади к усатому начал Цыган подходить, а у самого — удавка. Да в последний миг усатый голову повернул, вцепился в удавку, бороться начал. Упали оба на пол…
— Что дальше? — нетерпеливо спросил Соколов.
— Вижу, что Цыгану не справиться с усатым, схватила я топорик да обушком огрела усатого по черепушке. Он враз и обмяк. Что делать-то было? Вот тут мы его из задних дверей вытащили. Цыган набросил на шею удавку… ну, задавил… Так с веревкой и закопали, только деньги вытащили — две тыщи с половиной нашли, жаль, что прогулять не успели. Уж очень капитал огромный!
Любка открыла двери старенького покривившегося дровяного сарая. Ткнула туфлей в поленницу березовых кругляшек:
— Здесь!
Полицейские раскидали дрова, срыли вершка три земли и увидали труп. Лицо с некогда пышными усами изъели мыши.
— Даже ботинки сняли! — с горечью сказал Соколов.
— У покойника с Цыганом размер одинаковый! — спокойно ответила Любка, словно речь шла о чем-то обыденном.
В кармане нашли расписку: «Принял на хранение…»
Сашку Цыгана нашли в ту же ночь. В полверсте от Петушков, в сторону станции Костерево, на рельсах валялось его тело, словно пропущенное через мясорубку. Пытаясь вспрыгнуть на проходящий товарняк, он угодил под колеса. В подкладку его тужурки были зашиты без малого две тысячи.
Любка Чулкова получила девять лет каторги. Однако осенью того же 1894 года, по случаю восшествия на российский престол Николая II, была объявлена амнистия. Срок Любке сократили до пяти лет.
Прах барона Годе похоронили на кладбище Александро-Невской Лавры. Проститься с покойным и выразить соболезнование вдове прибыл великий князь Сергей Александрович.
Он же в приватной беседе с министром внутренних дел Иваном Николаевичем Дурново выразил удовлетворение работой полиции. Более того, ходатайствовал о денежной премии начальнику петерургского сыска Вощинину и обер-полицмейстеру Москвы Власовскому, что и было исполнено.
Про тех же, кто сумел в кратчайший срок распутать сложнейшее дело, было как-то забыто, что, впрочем, вполне в наших обычаях. Казна с голоду не уморит, да и досыта не накормит.
Сам же Сергей Александрович 4 феврала 1905 года погибнет от руки психопата Каляева, задураченного революционной пропагандой.
Слетел со своего места Александр Александрович Власовский, пробывший на посту обер-полицмейстера совсем недолго. Причиной стало рвение по службе. Он уволил многих нерадивых частных приставов и квартальных надзирателей. Городовых заставил стоять посредине площадей и улиц, строго следить за движением экипажей, штрафуя лихих наездников. Это было бы ничего, но Власовский посягнул на святое: повел крутую борьбу со взяточничеством. Это и решило его судьбу.
Читатель может задать законный вопрос: что стало с чернильницей Императрицы? Поначалу это сокровище попало к законной владелице — баронессе Годе. Но не прошло и двух месяцев после похорон барона, как к вдове пожаловал… сам Егор Александрович Гинкель. Он выразил сочувствие ее невосполнимой потере, а уж потом — желание приобрести чернильницу.
Как и у Екатерины Великой, сей предмет, лишь при одном взгляде на него, вызывал у вдовы неприятные впечатления. По этой причине сделка состоялась, мортира переехала в Москву. Правду сказать, эта роскошная штучка заставила коллекционера часть своего дела уступить новому компаньону по фамилии Н.Феттер. Если вы любитель листать старые рекламные каталоги, то уже в тех, что появились в 1895 году, вы найдете фирму «Диана» под двумя фамилиями.
АНАТОЛИЮ ЛЕОНИДОВИЧУ АФАНАСЬЕВУ
Существо, о котором пойдет речь, словно вышло из кромешных глубин ада, приняв человечье обличье. Оно явилось на землю, чтобы губить тех, с кем соприкасалось, оставляя после себя гнусные преступления. Поражает несоответствие мотивов совершенным злодеяниям.
Душноватый день сменялся прохладным вечером. Листок настольного календаря пристава 2-го полицейского участка Александро-Невской части Соколова показывал: «4 июля, четверг, 1896 год».
Устало потянувшись, подполковник снял телефонную трубку, назвал свой домашний номер и вскоре услышал мягкий родной голос жены:
— Аполлон, это ты?
— Так точно, — шутливым тоном ответил Соколов. — Через минут пятнадцать буду дома. Голоден яко волк. Прикажи, чтобы накрывали ужин.
Но не зря говорится, что сыщик предпологает, а начальство располагает. Едва Соколов дал отбой, как телефон задребезжал.
— Аполлинарий Николаевич — он сразу узнал голос начальника сыскной полиции Петербурга полковника Вощинина. — Ты на месте? Вот и отлично! Приезжай-ка ко мне. Есть повод отличиться. Я ведь помню, как ты с блеском распутал убийство барона Годе и разыскал чернильницу Екатерины Великой. Не исключаю, что нынешнее дело окажется похлеще. Так что, милый друг, лети сизым голубком ко мне на Офицерскую. И не гневайся, что так поздно покоя не даю тебе: дело, кажется, не терпит отлагательств!
Через пять минут Соколов катил на служебных дрожках к начальству. Статный красавец, брови с орлиным размахом, взгляд огневой, грудь колесом — дамы тайком останавливали на нем восхищенные взоры.
Был он прирожденным сыщиком. Уже в гимназии отличался большой физической силой, острым умом, отчаянной храбростью, веселым нравом и умением располагать к себе людей. И хотя юный Аполлинарий порой откалывал такие штуки, за которые любого другого с позором бы изгнали из гимназии, однако все добрые качества помогли ее закончить с золотой медалью, а затем и юридический факультет универтитета.
Мог сделать хорошую карьеру, получая чины и награды по министерской линии, но отправился в полицию. Звезд здесь не хватали, получали лишь нагоняи от начальства, да порой нарывались на бандитский нож или пулю. (Последнее, впрочем, относилось лишь к самым отчаянным — сыскарям.) Но Соколов имел главную радость — уважение товарищей по службе. Более того, даже в бандитской среде к нему относились с почтением и страхом, рассказывая легенды о его отчаянной храбрости.
Вощинин отрывал пристава от основной полицейской деятельности лишь в исключительных случаях. Вот и теперь, встретив Соколова, он протянул ему какое-то письмо:
— Сегодня пришло по почте. Дело, кажется, не шуточное.
Соколов вопросительно посмотрел на шефа:
— Кто автор?
— Наивность, тебе, милый человек, не свойственная! «Автор!» Коли бы знал, так тебя не звал бы. Да ты, господин подполковник, садись удобней в кресло и читай. Можно вслух.
Соколов, прежде чтения, внимательно исследовал лист бумаги, лежавший в стандартном конверте. Он был почти квадратной формы, верхний край оторван. Химическим карандашом старательно выведено: «Господин обер-полицмейстер, по долгу чести заявляю, что мещанского звания Павлова Евдокия содержит в посудном шкафу яд мышьяк. Его, то есть яд мышьяк, сыплет в еду Пучевичам, от которого на праздник Рождества Иоанна Предтечи отравилась до смерти в Сестрорецке Эмилия Пучевич, а на Родительскую сестра ея Катерина. Еще отравила собаку дачную. Похоронены, mo-есть люди, на Охтинском Преображенском кладбище, где, вам известно жидов хоронять».
Соколов задумчиво почесал переносицу:
— Да-с, занятно! Настораживает то, что почерк еще детский — недостаточно выработанный, с танцующими буквами, но содержащий все элементы каллиграфии, которой наши учителя столь добросовестно изтязают гимназистов. Возраст писавшего — лет 12-13, вероятней всего принадлежит девочке: здесь изящных линий больше, чем это бывает у мальчишек. Стиль взрослого недоучки.
Вощинин ласково положил руку на плечо Соколова:
— Вот-вот, найди писавшего или докажи вину Евдокии Павловой, тогда мы сумеем убедиться в твоих графологических способностях. Ведь обвиняемая — человек, хорошо знакомый автору писания. Согласен?
— Безусловно! И еще любопытная деталь: почему оторван верхний край странички? Не исключаю, что это стандартная писчая бумага, которую может приобрести каждый желающий. Нам подтвердят это на почте.
Вощинин долго стучал папиросой по крышке портсигара. Потом поднял на Соколова большие, черные по-цыгански глаза под лохматыми бровями, проговорил:
— Ну что ж, давай раскрутим это дело! Ты кого хочешь отрядить себе в помощники?
— Если не возражаете, Каллистратова.
— Прекрасно! Он только что набрался силенок в отпуске, пусть с пользой поработает с тобой. Садись удобней, давай покумекаем, наметим план розыскных действий. Кстати, где сейчас Каллистратов?
Соколов улыбнулся:
— За дверями вашего кабинета, Платон Сергеевич.
Полковник расхохотался:
— Ты, Аполлинарий Николаевич, предусмотрителен! — И нажав на кнопку звонка, приказал дежурному офицеру: — Каллистратова сюда!
Вошел громадный детина с крутым разворотом плеч, с коротким ежиком рыжеватых волос и невинно-детским взором. Еще недавно он был профессиональным борцом, побеждал многих именитых чемпионов. И теперь он порой тешил друзей-сыщиков тем, что рвал цепи и словно тульские пряники ломал подковы. Храбрости Каллистратов был исключительной, в опасных делах равных ему не было.
— Здравия желаю! — пробасил бывший цирковой атлет, и от этого нутряного голоса задрожали хрустальные подвески люстры.
— Ты, Каллистратов, бандитов вверх ногами больше не носишь? — нарочито строгим голосом произнес Вощинин. — Не надо, у нас ведь не цирк, а учреждение серьезное.
Сыщики, не удержавшись, расхохотались.
Всем было памятно первое знакомство с этим атлетом. Года два назад у Вощинина шло большое совещание. Дежурному было приказано никого в кабинет не пускать. Но дежурный куда-то на минутку отлучился. И именно в это время двери кабинета широко распахнулись. Все в недоумении повернули головы и застыли от невиданного зрелища. В кабинет вощел громадный мужчина. Он держал за ноги какого-то мужичка, судорожно извивавшегося и истошно кричавшего: «Помогите, отпустите!…» Лицо висевшего приняло цвет бурака, и глаза, казалось, вот-вот окончательно вывалятся из своих орбит.
— Куда, господа полицейские, прикажете сдать преступника? — пророкотал вошедший, не выпуская из рук добычу. — Пострадавший от рук злодея внизу ждет.
Вскоре все выяснилось. Атлет, назвавший себя профессиональным борцом, прогуливался с дамой сердца по Офицерской. Вдруг из ближайшего проулка услыхал отчаянные вопли: «Караул, грабят!»
Атлет, галантно извинившись перед дамой, понесся на крики. Оказалось, что некий субъект нанял извозчика, но вместо того, чтобы ехать, приставил к его спине нож и стал грозить: «Отдай деньги, иначе зарежу!» Извозчик закричал, атлет Каллистратов вовремя подоспел и скрутил бандита. На этой же коляске доставили его к зданию сыскной полиции. Для вящего эффекта, Каллистратов поднял злоумышленника за ноги на второй этаж — к Вощинину. Тот был в восторге и уговорил атлета перейти работать к нему. Каллистратов принял приглашение и теперь был достопримечательностью и даже гордостью петербургских сыщиков. Более того, когда требовалось проявить большую физическую силу, атлета приглашали даже полицейские из Москвы.
— Давайте думу думать! — переходя на деловой тон, произнес Вощинин. — Дело, полагаю, кровавое и непростое.
Профессор медицины Ивановский со своим ассистентом, Соколов, рабочие с лопатами и двое понятых, петляя среди могил, двигались за кладбищенским смотрителем — 30-летним Давидом Ципиным, долгий рост которого увеличивала копна черных курчавых волос. У смотрителя было такое печальное лицо, словно его самого собирались положить в могилу. Узнав, что Ивановский — знаменитый медик, Ципин заглянул в профессорские глаза и глубоко вздохнул:
— Ох! Вы знаете, господин доктор, я сам мечтал быть врачом, а стал надзирателем мертвых. Так что же? Прикажете плакать? Но если бы я был врачом, то излечил бы свой, я извиняюсь, геморрой. Вы рецепт не посоветуете? Я могу и заплатить, хотя и поиздержался. У нас украли сына — маленького Боруха, мы с женой везде ездили, искали. Потратили 810 рублей. А это не пустяк для бедного еврея. И не нашли. А вот и могилы несчастных женщин! Стол, как приказали, уже поставили. Если пришло время мертвых из могил таскать, то значит живым — фэртиг!
Первой подняли Эмилию, похороненную всего лишь несколько дней назад, начали разворачивать тахрихим — саван. Ивановский кивнул ассистенту. Тот большим скальпелем вскрыл брюшную полость. Смотритель не выдержал, заплакал. Стоявшие рядом банки начали заполняться кусочками легких, печени, почек, сердца, толстых кишок положили более аршина.
Лишь после этого, то, что осталось от доброй Эмилии, привели в порядок и вновь предали земле — теперь уж до последнего Суда.
Затем принялись за прах 23-летней Екатерины…
Белая ночь была еще в полной силе. И в ее ясном беловатом свете вся эта кладбищенская сцена казалась нереальной, какой-то фантастической постановкой ужасов.
…На другой день профессор Ивановский сообщил Вощинину и Соколову результаты экспертизы.
— Можно не сомневаться, — поблескивал профессор стеклышками золотого пенсне, — что обе женщины скончались от введения в их организм большого количества мышьяка. Сестры Пучевичи были молодыми здоровыми особами. Симптомы, наблюдавшиеся во время их болезни, представляют полную картину отравления. Яд был дан им в большой дозе, о чем свидетельствуют и отличное состояние их сердец, не подвергавшихся гниению. Профессор откашлялся, попил зельтерской воды, любезно предложенной Соколовым, и продолжал:
— Нет нужды, господа, напоминать вам, что мышьяк — противогнилостное средство. Обычно, при отравлении, мышьяк выводится из организма путем рвоты. Присутствие у Екатерины в теле мышьяка в количестве 0,580 грамм можно уверенно считать смертельным.
Профессор выразительно поднял палец:
— Что касается Эмилии, то у нее обнаружена прямо-таки лошадиная доза мышьяка — 0,981 грамм! Это удивительно потому, что больная боролась со смертью десять дней. Такое количество мышьяка убивает гораздо быстрее. Более того, за два дня до смерти у нее наступило значительное улучшение…
— И тогда бедной женщине дали еще одну, на этот раз смертельную, порцию мышьяка, — завершил докторскую речь Соколов. — Вот откуда взялась «лошадиная доза».
Врачи, пользовавшие Эмилию, терялись в догадках по поводу симптомов заболевания: постоянная жажда, острейшие рези в желудке, судороги икроножных мышц, сильнейшая рвота — такое состояние свойственно всем видам желудочно-кишечных заболеваний. Введенный в организм мышьяк при жизни диагностировать практически невозможно. После смерти женщин муж Эмилии — Оскар, просил докторов трупы не вскрывать, ссылаясь на религиозные убеждения.
Седенький профессор раскланялся, направился к дверям, но едва не был сбит с ног влетевшим в кабинет Каллистратовым:
— Из Москвы получена депеша. Евдокия Петровна Панова, православная, рождения 1876 года, проживала в старой столице с 1893 года. Служила посудомойкой в столовой Лазаревского института восточных языков. В 1895 году уволена одновременно с поваром и уборщицей той же столовой без выходного пособия. Причина — массовое отравление студентов, обошедшееся, впрочем, без летальных исходов. Дело расследовала полиция, но конкретных виновников не нашли.
— Какие сведения удалось раздобыть здесь, в Петербурге?
— Евдокия после увольнения в Москве устроиться не сумела, перебралась сюда. Бедствовала. Эмилия Пучевич подобрала ее чуть ли не на улице — голодную и замерзавшую. Выдумала ей службу — учить игре на фортепиано дочь Маргариту. Сама Евдокия освоила это дело еще будучи гимназисткой в Костроме. Учила плохо. Сестра Эмилии — Екатерина, предлагала отказать девице от места. По этой причине между Евдокией и Екатериной были натянутые отношения. Более того: Оскар Пучевич склонил Евдокию к сожительству. Эмилия об этом узнала, устроила скандал…
— Не Евдокии — ее она считала существом зависимым, а мужу, — вставил слово сыщик Гиренко. — Я только что встречался с нашими штатными агентами — дворником Пучевичей — Максимовым и акушеркой Марией Мержвинской. Последняя уже семь лет знакома с семьей Пучевичей, с той поры, как удачно приняла роды дочери Эмилии и Оскара — Маргариты.
— Добавь, что и сама Мержвинская когда-то была любовницей Оскара, — улыбнулся Соколов. — Но последние годы он охладел к ней, а Эмилия испытывала к Мержвинской добрые чувства, поселила даже в своем доме. Мержвинская, как и Екатерина, советовала хозяйке прогнать эту девицу.
— Картина ясная, отравительница — Евдокия! — заключил Гиренко. — Особенно, если мы вспомним, что одновременно с болезнью покойной Екатерины болела желудком и Мержвинская, но сумела выздороветь. И всю эту обстановку создали два фактора: блудливость Оскара и безмерная доброта Эмилии.
Вощинин, с интересом слушавший коллег, заключил:
— Сегодня же произвести обыск у Евдокии. Не забудьте про посудный шкаф, упомянутый в анонимном письме.
Было около одиннадцати вечера, когда сыщики на двух пролетках подкатили к дому на Кирочной.
— Каллистратов, встань под окно Евдокии. Если захочет прыгнуть со второго этажа, примешь девицу в свои объятия, — приказал Соколов. Дворник Максимов постучал в дверь:
— Эй, Евдокия, открой! Тебе с почты телеграмму принесли…
За дверями послышался голос:
— Подождите, дядя Максимов, сейчас свечу зажгу!
Дверь приоткрылась. Девица, одетая лишь в ночную рубаху, увидав полицейских, вскрикнула и моментально захлопнула двери, щелкнув задвижкой.
— Павлова, не дурите! — металлическим голосом сказал Соколов.
За дверями послышался торопливый стук пяток, потом — скрип открываемого окна. Сыщики навалились на дверь и она грохнулась вовнутрь. Евдокия, бледная, трясущаяся от страха, прижимала руки к груди. Снизу послышался голос Каллистратова:
— Мне, господин подполковник, по голове сверток стукнул. Вам нести?
Соколов пронзил стальным взглядом Евдокию:
— Быстро показывайте, где храните яд? Сотрясаемая рыданиями, та не могла произнести ни слова.
— А на вид — тихоня, — со злой усмешкой проговорила Мержвинская, приглашенная в понятые, женщина средних лет, с узкой щелью фиолетовых губ, весьма худощавая, высокого роста, с короткой прической иссиня-темных волос, с чертами лица мелкими и несколько неправильными, но не лишенными все же приятности. — Я давно говорила хозяйке, что Евдокию надо выставить за порог. А она, сердечная, меня не слушалась! — и Мержвинская запричитала: — Не убе-ре-гли мы нашу бла-го-де-тельницу-у.
В дверном проеме, заслонив его, появился Каллистратов, протянул молча Соколову какую-то тряпицу, завязанную узелком:
— Вот что Павлова кинула из окна! Какие-то хлебные шарики, а еще коробочка аптекарская: «Цианистая ртуть!».
— Это я… для мышей! — сквозь рыдания проговорила Евдокия. — А бросила в окошко, потому что боялась, на меня подумаете…
— И поэтому пыталась замести следы! — с ненавистью сказала Мержвинская. — Меня тоже хотела отравить, что я тебе, змее подколодной, плохого сделала?
Начали обыск. Он, впрочем, долго времени не отнял. В крошечной комнатушке, кроме узкой кровати с сеткой, раскидистого фикуса, попавшего сюда по той прозаической причине, что хозяевам некуда было его деть, и шкафчика для посуды, ничего не находилось.
Среди других банок нашли одну — с сахаром. Дно было перестелено бумажкой. Под бумажкой Гиренко обнаружил облатки с белым кристаличе-ским порошком.
— Не пахнет! — поднес Гиренко нос к порошку. — Похоже, мышьяк. Тоже для мышек?
Евдокия оторопело смотрела на происходящее, замотала головой:
— Это не мое! Не видела…
Она была доставлена в тюрьму. Три часа кряду ее допрашивал Соколов. Евдокия, с глазами полными тоски, твердила лишь одно:
— Не отравляла!
Утром, измученный бессонной ночью, Соколов доложил Вощинину о ходе следствия, заявил:
— Все улики против Евдокии Павловой. Мотивы убийства? Хотела женить на себе Оскара Пучевича. Об этом убедительно показала Мержвинская. Но… — Соколов сделал паузу и твердо произнес: — Нутром чую, что Евдокия не виновата. Ситуацию создал тот, кто отправлял подметное письмо. Вот он и есть настоящий убийца, заметающий следы.
Вощинин задумчиво покачал головой, не соглашаясь с выводами подчиненного, но и не желая спорить с сыщиком, авторитет которого был велик. Затем все же сказал:
— Что ж! Сомнение в нашем деле — вещь благая. Но, милый человек, не отпускай из тюрьмы Павлову. Обстоятельства дела говорят против нее. А то, что она из себя овечку безвинную строит — ничего не значит. Женщины от природы отличные актрисы. Вот она и произвела на тебя впечатление. Впрочем, в любом случае — в камере ей безопасней, да и бдительность потенциальных убийц, если ты окажешься прав, усыпим. Ищи автора анонимки!
Прямо из кабинета Вощинина, подкрепившись двумя стаканами крепчайшего чая, Соколов отправился на почтамт. Разыскал заведующего — разговорчивого старичка, некогда дружившего с самим Иваном Путилиным.
— Я из полиции! У вас такая бумага продается? — и сыщик показал листок, на котором была написана анонимка.
— Да, это немецкая, в папках, с репродукциями картин старинных художников. У вас оторвана «Сикстинская мадонна» Рафаэля. Только сегодня вы опоздали, купить нельзя. Вся бумага закрыта в конторке у оператора, а я отпустил ее домой: желудочное заболевание у дочери, ждут доктора. Она ваша однофамилица — Соколова. До прошлого года служил ее муж у нас, здоровый был, да враз помер. Говорили, что-то вроде холеры. Ну, вдова, Марья Васильевна, и переехала с дочкой из деревни сюда, поселилась на квартире мужа. Раньше они порознь проживали. Вот и зарабатывает на кусок хлеба.
— Что с дочерью?
— История, знаете ли, господин подполковник, ужасная и весьма странная. Девочка иногда заходила к нам. Дома одной скучно, а тут матери кое-чем помогает: конверты сортирует, штемпелюет. Одним словом, к делу мать ребенка приучает.
Старичок понизил голос до шепота, приблизив свою бородку к уху сыщика:
— На прошлой неделе — число скажу точно, это было 3 июля, уже вечером, минут за сорок до нашего закрытия — Дарьюшка пришла к матери, чтобы домой ее проводить. Сейчас летние вакации, время свободное. Но едва девочка появилась в зале, как к ней подходит женщина. Сам я ее не видел, а девочка объяснила, что незнакомка была в легкой шляпке с темной вуалью, а рука — бывает же! — на перевязи. Подошла дама к Дарь-юшке и вежливо спросила: «Девочка, видишь, у меня рука поврежденная. Это я при верховой езде неосторожно с лошади упала, а у меня очень важное дело: надо письмо написать. Ты, деточка, мне не поможешь?»
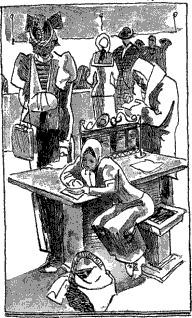
Старичок перевел дыхание, вытер пот со лба и продолжил:
— Дарьюшка, дело ясное, отвечает: «С нашим удовольствием!» Дама протянула ей лист почтовой бумаги, у нас же купленный, конверт, и стала диктовать про какую-то отраву и смерти. Дарьюшка все старательно написала, как умела, а дама ей протянула кулек леденцов и говорит: «Вот тебе, милая крошка, за службу! Я всегда благодарю, когда мне доброе дело делают. Сама кушай, угости мамочку свою и подружек». С тем и расстались. Дарьюшка взяла конфету в рот, немного пососала и выплюнула: жжет и невкусно. Кулек тут же швырнула в урну.
— Не сохранился?
— Кулек-то? Да где там, мы мусор аккуратно выбрасываем.
— Может вы мне дадите адрес Марьи Васильевны? — спросил Соколов, с любопытством и вниманием слушавший старичка.
— Как же, как же, ведь все, что вам тут наговорил, я так, краем уха слышал, а Марья Васильевна, святая женщина, вам все в мельчайших подробностях преподнесет. На Фурштадской живет, дом номер семь.
Марья Васильевна занимала маленькую двухкомнатную квартирку с бедной мебелью, геранью на подоконниках, лубочной картинкой на стене. И контрастом этого убожества был новый большой кожаный диван с искусной резьбой по дереву и высоченной спинкой.
Вдова, которой было едва ли тридцать лет, но уже со старушечьим выражением на лице — полной безысходности и бесконечного терпения, когда пришел Соколов, мыла большой тряпкой полы. Она застенчиво задвинула под небольшую детскую кроватку ведро с водой, бросила в него тряпку и очень удивилась, узнав о цели прихода сыщика.
— Да, уж и не думала отходить ее, — кивнула вдова на девочку в байковом халате, сидевшую за столом и рисовавшую акварелью что-то в альбоме. — Поела она этих проклятых конфет, и затрясло ее всю, рвота давит, судороги ножки поджимают, а сама все меня просит: «Мамочка, милая, помоги! Внутри жжет! Помираю…»
Вдова глубоко вздохнула, вдруг спохватилась:
— Господин полицейский, простите, заговорилась совсем, вы, может, чайку попьете? Сахар у нас всегда есть. Сами не съедим, а гостей угостим, это дело святое. Дарьюшка, поставь, родимая, самовар. Такой гость!
Девочка — вся прозрачно-светящаяся, с кругами возле глаз, чуть слышно ступая, прошла на кухню. Вдова, взглянув на ее худобу, заплакала:
— Поверьте, господин полицейский, ваше превосходительство, я уже думала, что не отхожу Дарьюшку! То муж внезапно помер — такой крепкий был, даже насморка никогда у него не наблюдалось, то вот — дочка занедужила. Господи, чем Тебя прогневала?
Девочка постелила белую праздничную скатерть на стол, поставила чайный сервиз — неожиданно, как и кожанный диван, — дорогой, из тонкого фарфора фабрики Гарднера.
— Это мой покойный муженек напокупал! — вновь вздохнула Марья Васильевна. — Как в лотерею выиграл пять тысяч, так и загудел. Лучше бы не попадался счастливый билет, жили бы спокойно.
Соколов дал вдове три рубля и попросил спуститься в кондитерскую лавку, купить конфет и пряников к чаю.
…И вскоре, уже за самоваром, разговор был продолжен.
— Спутался муженек тут с какой-то «дешевкой», — рассказывала вдова, предварительно отправив дочку на кухню, чтоб та не слышала нескромных подробностей из жизни покойного папаши. — Знакомые видели ее, говорят, страшная, а сама — верста коломенская. Ну да ладно, Бог судья покойному. Только стал пропадать по ночам, пьяным приходить. Билась-билась я, так и уехала к родителям в деревню. Он два раза письма писал, хорошие такие, про дочку интересуется, а к себе не зовет. Вдруг почтальон приходит, весь светится — не хуже нашего самовара. «Тебе, говорит, капитал пришел — двести рублев!» Это мой муженек прислал. Я таких денег прежде и в руках не держала. Позже письмом он мне написал, что, дескать, в лотерее повезло и что хочет свое дело по бакалейной части завести. Тогда, пишет, и тебя с Дарьей выпишу к себе.
Я и поверила ему, а это он все так, для прилику обещал. Сам с бабой путался. Потом уж с почты начальник мне письмо отписал, что, дескать, «ваш муж похоронен и мы, хоть он и выиграл деньги, на похороны сто рублей выдали, а сами на кладбище быть не могли — служба не позволила.»
Бросилась я с дочкой в Питер, а тут — квартира дворником запечатанная, а денег — фьють! — ни алтына, ни гроша. Хорошо, что на службу взяли. На Почтамтскую ездить не ближний свет, а все работа в тепле и чистая.
Позвали с кухни Дарьюшку. Сыщик стал ее расспрашивать о том, как она письмо писала, да как выглядит та женщина, что конфетами угостила.
— Очень высокая, голос глухой, как сквозь одеяло говорит. Когда диктовала, то чуть вуаль приподняла — у нее губы цвета… ну, сирени, что ль. Синюшные какие-то.
— Тебе знакомо вот это? — сыщик развернул анонимку.
Дарьюшка вскрикнула:
— Ой, так ведь это то самое, что я тогда писала, — и девочка разрыдалась.
Марья Васильевна извиняющимся тоном произнесла:
— Тяжко нам все это вспоминать. Но раз вам по службе надо, то — пожалуйста… Спрашивайте, ваше превосходительство.
Сыщик ласково обратился к девочке, которая успела немного успокоиться:
— Ты, Дарьюшка, сумеешь узнать эту тетю, что под вуалью была? — спросил сыщик. — Если вы, Марья Васильевна, не возражаете, давайте все вместе прокатимся, это совсем рядом.
…Спустя несколько минут Соколов, зашел в ближайшую аптеку и по телефону вызвал Калли-стратова и Гиренко. Теперь он вновь входил в дом на Кирочной. Мержвинская сидела за столом и вышивала гладью целующихся голубков. Увидав Дарьюшку, смертельно побледнела.
— Да, эта тетя угостила меня леденцами! — заявила девочка.
Произвели обыск и нашли много интересного. Первое — запасы мышьяка, которым можно было бы отравить жителей всей Кирочной улицы. Затем обнаружили картинку с почтового листа — «Сикстинскую мадонну»: ее оторвала Мержвинская потому, что «очень понравилась». И еще — пачку писем от покойного служителя почтамта. Позже профессор Ивановский и фон Анреп провели эксгумацию трупа и выявили в теле любовника Мержвинской «такое количество мышьяка, которое вполне достаточно для причинения смерти».
Потрясенная арестом, Мержвинская призналась, что отравила Екатерину и Эмилию потому, что «мешали ей быть вместе с Оскаром Пучеви-чем».
Выяснилось, что преступница уже на следующий день после похорон Эмилии пыталась отравить ее двухгодовалую сироту — Маргариту. Но нянька Авдотья Андреева успела вынуть изо рта ребенка леденец, который положила туда Мержвинская. Нянька попробовала конфету и ощутила начинку «горького и странного вкуса, а также жжение во рту». Немедленно, как было записано в деле, «у Маргариты и Авдотьи начались тошноты, рвоты, головные боли, внутри все жгло и хотелось пить».
— А зачем вы Эмилии дали повторную дозу яда? — спросил Соколов.
— Жалко было смотреть, как та мучается! — отравительница застенчиво потупилась.
— Что вас побудило писать анонимку на Евдокию Павлову?
— Понятно что! После случая с Маргаритой она всем заявляла, что я, дескать, всех отручаю, ну, в Подолии у нас так говорят, — отравляю, стало быть. И Оскар за Евдошкой увивается. Тогда я и придумала — подсунула ей в шкаф отраву, да вам письмишко. Ловко? Думала: ее засудят, а с меня подозрения снимутся.
— Вы ведь были замужем и у вас ребенок?…
— Да, на воспитании он, у няньки, — быстро проговорила Мержвинская. — К делу это не относится.
…История с ребенком вновь всплыла на суде. По совету защитника В.Ф.Леонтьева Мержвинская распорядилась доставить в суд ее чадо: «Чтобы вызвать жалость у присяжных поверенных!»
И вот привезли мальчика лет семи со смуглым цветом лица и копной курчавых волос. Защитник произносил пламенную речь, в которой обелял отравительницу. (Кстати, та, одумавшись, стала утверждать, что «никогда никого не отручала» и что наговорила на себя под угрозами следователя. Подобные маневры мы и нынче частенько наблюдаем). И вот защитник картинно взмахнул рукой и патетически воскликнул:
— Господа присяжные, когда вы будете выносить свой вердикт, помните, что у этой несчастной есть любимый ребенок, который нуждается в ее заботливых руках. Вот он! Встань младенец!
Поднялся мальчик и сонным взглядом посмотрел на подсудимую.
И вдруг истошный крик потряс своды переполненного зала:
— Борух, мой сынок! — и к малышу бросился известный нам Давид Ципин, смотритель Преображенского кладбища.
Выяснилась еще одна жуткая история. Года четыре назад незнакомая женщина, оказавшаяся Мержвинской, выкрала у супругов Ципиных сына. Они заявили в полицию, опубликовали фото ребенка в «Ниве» — все было тщетно! И вот теперь, считая себя немножко причастным к следствию, смотритель пришел на громкий процесс и узнал сына.
Оказалось, что Мержвинская украла его потому, что обнаружила в нем какое-то сходство с почтовым служащим Соколовым. Выдавая мальчика за общего ребенка, женщина получала деньги на его содержание. Забавно: Соколов увидел, что мальчику сделано обрезание. Но лже-мать убедила, что это — «особенности».
Зато настоящий ребенок отравительницы куда-то исчез навсегда.
На основании вердикта господ присяжных заседателей и судебного решени, Мария Феликсовна Мержвинская, 35 лет, исповедания католического, была приговорена к лишению всех прав состояния и к каторжным работам на 15 лет. В возмещение расходов по розыскам Боруха, согласно иску Давида Ципина, последнему присудили 810 рублей, что его заставило воскликнуть: «Такая радость — и Борух, и гелд!»
Это исключительное по своей безнравственности дело произошло в Казани весной 1871 года. Совершенно необычен и тот следственный прием, благодаря которому убийца признался в преступлении.
В прошлом веке недалеко от Богородицкого монастыря в Казани жил старик-портной Иван Петрович Чернов, которого знакомые ласково величали Петровичем. Работы у портного было много. Дело свое он знал хорошо, лишнего не брал и слово свое держал. Чиновникам он шил пальто и мундиры, молодым повесам — новомодные фраки. Мог угодить и красавицам — помпадурами атласными и шелковыми или сшить татарчанкам кюльмяки из зеленых материй.
Прозвали Петровича за талант и добросовестность «Золотой иглой». Клиенты хорошо знали дорожку к домику Петровича. Кстати, этот домик о трех окошках на улицу и с полуколоннами между ними построил для отца Петровича архитектор М. П. Коринфский, знаменитость казанская. Переднюю комнату занимал сам хозяин, а две другие, небольших, уже лет десять он сдавал татарам Сатаевым. Вселились они к нему сразу после свадьбы, лет десять назад. У молодых за эти годы родился мальчик, а затем и две девчушки. В те дни, о которых пойдет наш рассказ, дети жили в гостях у бабушки.
Отец семейства — рослый красавец Джавад, от рождения имел сухую руку. По этой причине он не мог заниматься ремеслом. А промышляли Са-таевы тем, что стройная, тонкая в талии Над-иря — супруга Джавада, готовила чак-чак, это орешки с медом, зажаренные в особом тесте, а ее муж продавал их на базаре.
Доходы сия промышленность приносила скудные. Вот и кланялся Джавад:
— Прости, Петрович, опять не могу тебе деньги за жилье отдать. Потерпи долг на мне. У детишек оек (обувка) поизносилась, а денег — йок!
Петрович всегда был добрым человеком, а под старость, похоронив свою хозяйку и дочь, стал все чаще о душе думать и все больше к Богу приближаться. Обнимет он Джавада, утешит:
— Человек я одинокий, мне добро в гроб не класть. Прощаю тебе долг, а вот… возьми… — и даст пять рублей.
Брал Джавад в руки деньги, смотрел долго на них, а потом, случалось, по щеке слеза скатывалась. Парень был с крепким характером, да доброта портного сильно так его трогала.
— Спасибо, Петрович! — скажет. — Народ кличет тебя «Золотой иглой», а надо бы — «Золотым сердцем». Дай тебе Аллах счастья.
В 1871 году Благовещение пришлось на пятничный день Страстной недели. Издревле на Руси существовал добрый обычай: сделать в этот праздник кому-то хорошее дело, а лучше всего — осчастливить свободой живое существо. Даже лютый Иван Грозный некоторых колодников в такой день из узилища освобождал.
Ну, а в православной жизни, народ покупал пташек на базаре и выпускал в мартовское небо.
Петрович задумал нечто более серьезное, чем с пернатыми баловаться. Отстояв заутреню в церкви Богородицкого монастыря (к слову, его основал в 1579 году сам Иван Васильевич), воспарив душою к небу, отправился добрый старик к юдоли печали, слез и горестных воздыханий — к тюремному замку.
Всю ночь лил теплый весенний дождь. Теперь же яркое солнце праздничным золотом красило землю, обещая обновление жизни. Вопреки пословице, что в такой день и птица гнезда не вьет, скворцы хлопотливо устраивали себе жилища. Из православных храмов выходили разряженные люди. Со всех сторон дрожал воздух от звона колоколов, от покрикиваний извозчиков, от веселого говора толпы.
Петрович, наряженный в новую чуйку, подошел к тюремным воротам. Возле них прохаживался мрачный часовой — солдат с ружьем и примкнутым штыком. К небольшой железной двери с маленьким круглым окошком тянулись люди с кульками, сумками, свертками. Щурясь на солнце, на пороге появился с цигаркой в зубах надзиратель в мундире с галунами.
Петрович вежливо снял картуз с блестящим козырьком, поклонился:
— С праздничком вас, любезный! К кому бы мне обратиться?
Надзиратель лениво повернул красное мясистое лицо, процедил:
— Что такое?
— Так как нынче Благовещение… Мне бы выкупить какого несчастного. Деньги я принес.
Надзиратель, услыхав про деньги, сразу оживился:
— О родственнике хлопочете?
— Нет, я, милый человек, совсем одинокий. Это так… для души.
— Хм, любопытно! — надзиратель бросил вонючую цигарку, задумался. — А какой суммой, извините, вы располагаете?
— Принес пятьдесят рублей.
— Что ж! Я сейчас доложу. А вы, господин, пройдите, пожалуйста, сюда, в дежурку.
Надзиратель толкнул сапогом железную дверь, страшно заскрипевшую. Они очутились в большой комнате со сводчатым потолком и металлической балкой посредине. Высокое окошко было забрано в решетку. Комнату наполняли люди в разнообразной одежде, преимущественно бедной. Скорбной покорной очередью они тянулись к столу, за которым сидела толстая седая надзирательница в мундире с галунами на рукавах, с синими выпушками. Она принимала передачи, складывала их в большую корзину и записывала фамилии в большую амбарную книгу.
— Сюда идите, — указал надзиратель Петровичу на боковую дверцу.
В соседней комнатушке стоял лишь дощатый стол да грубо сколоченная скамейка. Воздух был пропитан запахом плесени, табака и горя. Все это действовало угнетающе на Петровича.
Вскоре в помещение вошел молодой, подтянутый офицер с быстрыми решительными движениями и отрывистой речью. Он с любопытством бросил взгляд на Петровича, спросил:
— Представьтесь: кто вы, что от нас хотите? Петрович, немного путаясь и сбиваясь от волнения, объяснил суть дела.
Офицер не перебивая выслушал, потом сказал Петровичу:
— Подобное у нас не делается. Но вам, господин Чернов, повезло. У нас находится под арестом некий Нечаев. Он обвиняется в краже. В случае солидного поручительства и залога в 50 рублей, мы можем отпустить его до суда на свободу
— А насовсем — нельзя? Офицер усмехнулся:
— Кого можно отпустить, так мы таких не заключаем. Предупреждаю: тип неприятный. Буянит. Вынуждены поместить его в одиночку.
Офицер взглянул в формуляр, который держал под мышкой, зачитал: — «Артамон Нечаев, 35 лет, из самарских крестьян. Служил писарем в Лейб-гвардейском Кексгольмском полку в Варшаве. Отставлен в 1869 году за воровство…» Вы не передумали? Вам, господин Чернов, придется отвечать за поведение Нечаева и его явку в суд.
Петрович вздохнул:
— Чего уж там! За тем к вам и пришел. Пока оформляли документы, надзиратель ввел в дежурку человека небольшого роста в длиннополой шинели. Он был весь какой-то растрепанный. Невероятно большие уши нелепо торчали. Из-под низкого лба глядели сошедшиеся возле переносицы маленькие злые глазки.
— Вот ваш красавец, — рассмеялся офицер. — Ну, Нечаев, кланяйся низко своему благодетелю.
Нечаев с чувством прижал руку к сердцу:
— С праздником вас, господин хороший! За то, что вы меня избавили от тюремной параши и от жидкой каши, чтоб вашему благородию медаль за усердие дали.
Петрович нанял извозчика и с освобожденным мужичком отправился домой.
Предупрежденный загодя Джавад протопил баньку. Туда первым делом был направлен Нечаев. Петрович подобрал ему со своего плеча необходимую одежонку: исподнее, порты и весьма исправную поддевку.
Надиря накрыла стол белой, тщательно выглаженной скатерью. Затем закуски поставила — сузьму татарскую, соленую капусту, огурчики.
— С праздничком! — Петрович поднял рюмку. — Нынче даже скоромное позволительно. Спасибо тебе, добрый человек, — старик поклонился Нечаеву, — ты помог нам радостную усладу сердцу доставить.
— Да уж, — самодовольно хмыкнул арестант, — ради меня теперя тебя Бог в рай возьмет. — И он залпом выпил водку и тут же, не спрашивая налил себе еще.
— Ты, мил человек, долго в узилище томился?
— Да почитай два месяца. И не за что! Ну «замочил» бы кого, а то — пустяк. Пришел я наниматься к Мухамеджанову. Слыхал, небось — богатый такой купец. Полный дом добром набит. Слуга побежал докладывать, а я — в прихожей без присмотру оставленный. Вижу: шуба енотовая висит. Смекаю: «Для чего такое издевательство? Нарочно людей смущать?» Понятно, стырил я ее — подхватил да за порог.
— И не поймали? — поинтересовался Джамал.
— Коли не спалился бы, так с тобой тут лясы не точил. — Не дожидаясь приглашения, Нечаев выпил еще водки. — Прибежал в ближайший трактир, говорю хозяину: «Гони тридцатку да ставь штоф, а шубу себе забирай!» Трактирщик штоф поставил, да сам, чувырло гнусное, за легавыми послал. Так и повязали, отвели меня в «дядин дом». Хорошо еще, что успел штоф осушить.
Поймав недоуменные взгляды застольников, Нечаев хохотнул:
— Ну в тюрьму, серость ваша необразованная. Я всю музыку блатную прошел, потому как уже прежде был сиделым.
— За что?
— За ящик мыла. Это когда я в Варшаве служил. Спер у каптенармуса да на базар. Меня на кичу и отволокли. Целый месяц спал и ел за счет Императора.
В этот момент Надиря внесла на подносе тутырган тавык — фаршированную курицу с рисом. Хозяйка подошла первым к гостю, намереваясь положить ему самый сочный кусок. Тот вдруг с пьяной развязанностью ухватил ее ниже талии.
Надиря вскрикнула, выронила поднос на пол. Джавад с кулаками бросился на писаря. Петрович встал между ними.
— Прости, Джавад, этого несчастного. Трудная жизнь испортила его.
Портной было хотел, чтобы освобожденный им человек пожил в его доме недельку-другую. Теперь, познакомившись поближе со «страдальцем», решение переменил. Он подумал: «Воры и Господу не угодны! Надо его выпроваживать».
Петрович поднялся из-за стола:
— Спасибо тебе, добрый человек, что разделил с нами хлеб-соль. Нам спать пора, а ты иди восвояси. Вот тебе на память — две новые рубахи да целковый.
Нечаев молча принял подарки, засунул в карман початую бутылку водки и хлопнул за собой дверью.
— Слава тебе, Господи, избавились! — перекрестился старик.
Нет, он ошибся: не избавились.
Наступила Пасха. Отстояв всенощную, Петрович вернулся домой. Но не было обычной просветленности и подъема духа, которые он чувст-
вовал после горячих молитв. Что-то тягостное сжимало его душу.
Он хотел ключом открыть свою дверь, но она оказалась незапертой.
«Эх, совсем я стал плохой, — подумал Петрович. — Забыл закрыть!»
Снял чуйку, повесил ее рядом с новым пальто, которое только что сшил для акцизного чиновника. Вдруг на полу возле платяного шкафа увидал мокрые следы, совсем недавно кем-то оставленные.
— Кто тут? — с замиранием сердца спросил Петрович.
В ответ — тишина.
Тогда старик проследил направление шагов и заглянул за ширму возле кровати. К своему ужасу он заметил, что из-под кровати торчат чьи-то ноги в сапогах.
«Что делать? — лихорадочно думал Петрович. — Кричать? Но соседи-татары еще вчера уехали к родственникам и обещали быть лишь к обеду. Бежать? Да с моим сердцем далеко не убежишь!»
И он с усмешкой и неожиданно для самого себя спокойно произнес:
— Ты чего, добрый человек, под кровать ночевать забрался? Вылезай!
Сапоги зашевелились, заерзали, и на свет Божий появился… Нечаев.
— Хотел тебе сурпризец сделать, а ты — что Путилин сыщик — дюже хитрый! — сказал писарь. На самом деле, полагая, что Петрович будет в церкви, Нечаев забрался в дом, чтобы чем-нибудь поживиться. Но приход старика спутал воровские планы.
— Что ты хочешь? — сухо спросил Петрович.
— Что, что! — злобно огрызнулся писарь. — Лупетки вытращил, а не видишь, замерз я, есть хочу. Сидел я спокойно на царских харчах, на кой черт ты меня из тюрьмы забрал? Вот теперь ты обязан хлопотать обо мне.
Лицо писаря опухло от пьянства, верхняя губа кровоточила, под глазом темнел фингал. Сквозь распахнувшуюся полу шинели, выглядывало голое жилистое тело — даже исподнее отсутствовало.
Петрович вздохнул:
— Что ж! Садись за стол, будем есть кашу с молоком.
Нечаев хмуро зыркнул злыми глазками:
— Я тебе чо, дитя малое? «Кашка, молочко!» Налей-ка водочки.
— Водки нет в доме.
— А у меня все нутро пылает! Коли не выпью — окачурюсь! Дай тогда деньжат. Свое-то, видишь, я все проюрдонил. Даже крест пропил.
Старик решил: «Дам ему целковый, а то не отвяжется!» Он достал из кармана портмоне и протянул рубль:
— На, только больше сюда не ходи.
Нечаев деньги взял. Только что ему пришла в голову мысль: «Убить старика!» Он тяжко задышал, обмозговывая, как это лучше сделать. Потом быстрым движением наклонился к печи, схватил стоявший там топор и обухом огрел Петровича по лбу.
— Ты что делаешь, разбойник? — закричал Петрович, хватаясь за кровоточащую рану. — Пошел вон!

Нечаев вновь замахнулся топором. Старик поднял над головой руки. Остро отточенная сталь вошла в шею. Струей брызнула кровь. Петрович зашатался и грохнулся на пол. Писарь бросил топор и стал искать деньги. Нашел лишь 37 рублей 17 копеек в портмоне. Это совсем распалило убийцу. Он со злобой ударил ногой труп и проговорил:
— Ишь, хотел мною свои грехи, старая собака, прикрыть? Ан не вышло!
Потом он дико захохотал:
— Сейчас я тебе красоту наведу! — И он топором — двумя ударами — перерубил шею. Голова арбузом покатилась по полу, оставляя липкий след густой темной крови.
Нечаев за волосы поднял голову и водрузил ее на поднос, лежавший на столе. Он даже отошел шага на два, полюбовался:
— Клевость замечательная!
Ополоснув в умывальнике руки, Нечаев забрал с собою пальто акцизного чиновника и поспешил убраться из дома.
Страшный женский крик потряс стены дома портного Григорьева. Случилось это часа в четыре пополудни первого дня Пасхи. Надиря приготовила мясной бэлиш и, желая угостить им Петровича, вошла в его комнату. Здесь ее взору предстало жуткое зрелище…
Джавад понесся в полицию.
Началось следствие. Для него, впрочем, особых тайн не было. Стало ясно, что убийство — дело рук отставного писаря. Но сам убийца словно сквозь землю провалился. Агенты облазили все казанские трущобы — все напрасно. Решили, что убийца успел бежать из города.
Обнаружил его все тот же Джавад, поклявшийся отомстить за Петровича. Все произошло до невероятности случайно. На улице Собанчи Джавад повстречал знакомого торговца яблочным щербетом. Разговорились. Джавад поделился переживаниями:
— Йолдос, ты, верно, слыхал про убийство портного? Так ведь я в его доме живу… — Ион поведал то, что знал о происшествии.
Торговец встрепенулся:
— Говоришь, этот Нечаев маленького роста? Кривобокий? Да, глаза у него прямо возле переносицы! Только что прохожий мужик купил у меня щербет и откровенничал: «Иду разгулку своей натуре делать — в публичный дом!» И он скрылся во-он в том подъезде. Но он был не в шинели, а в пальто — до пят.
…Через полчаса полиция вырвала Нечаева из объятий продажной девицы. Из публичного дома он вновь отправился в дом казенный.
Нечаев шел в несознанку:
— Портного Чернова не убивал! Почему пальто на мне? А он мне сам его подарил. В субботу днем встретил на улице, говорит: «На, это мой подарок!» Видел кто, что я портного замочил? На нет и суда нет!
Дело вел сам губернский прокурор А.Ф.Кони. Он говорил следователю Хайрулину:
— Этот Нечаев — трудный орешек! Сам в преступлении не признается, если мы только не припрем его к стене.
Хайрулин согласно кивнул головой:
— Надо искать доказательства, а их пока нет: никто не видел, как убийца входил или выходил из дома портного в тот злополучный день. У нас, боюсь, будет трудная задача — убедить присяжных.
В этот момент посыльный принес Кони пакет из тюрьмы. В нем оказалось прошение: «Господин прокурор! Разрешите мне присутствовать на вскрытии портного. Я давно желал посмотреть вскрытие мертвецов. В просьбе прошу не отказать. Без вины заключенный Нечаев».
Хайрулин фыркнул:
— Ишь чего захотел!
Кони задумчиво ходил по кабинету. Потом он усмехнулся:
— Это даже любопытно! Попробуем один фокус. Не зря говорят: «Любопытной Варваре нос в цирке оторвали». И он начертал на прошении размашистое: «Разрешаю».
…Нечаеву нацепили наручники и доставили в анатомический театр университета. Он с любопытством разглядывал обезглавленный им же труп, лежавший на мраморном секционном столе. Приехавший профессор судебной медицины И. М. Гвоздев кивнул на препаравальный столик, приказал помощнику:
— Голову — сюда!
Помощник — студент-практикант, сдвинул в сторону инструментарий и сняв со льда голову Петровича, поставил ее на столик. Гребешком привел в порядок спутанные волосы. Профессор указал на кровоподтек:
— Вот видите, на лбу, сюда пришелся удар. Такое впечатление, что убийца нанес его уже мертвому. Впрочем, вскрытие покажет…
Помощник взял короткий и широкий «реберный» нож. Вдавливая его с силой — до самой кости, сделал надрез — от верхушки правого уха до левого. Затем ножом отделил скальп от кости и опустил его вперед — на лицо.
Гвоздев осмотрел мягкие ткани кожи и сказал Кони:
— Анатолий Федорович, видите пятна темно-бурого цвета? Это означает, что удар в переднюю часть лба был нанесен посмертно.
Нечаев до того с поразительным спокойствием любовавшийся процедурой вскрытия, так и подпрыгнул на месте.
— Давайте продолжим исследование дальше, — заметил Кони, — и тогда сделаем окончательный вывод. Вы — профессор знаменитый!
Профессор обмотал полотенцем нижнюю часть лица, плотно удерживая руками голову. Помощник, встав с правой стороны, приладил «английскую» пилу, намазав ее деревянным маслом, и отступя на полвершка от глазных впадин, начал пилить лобную кость. Профессор приговаривал, слегка поворачивая голову:
— Осторожнее, братец, не повреди оболочки и мозг!
Слегка вспотевший помощник наконец закончил пилить и маленькой щеточкой, похожей на зубную, смахнул опилки из образовавшегося желобка. Потом он засунул в костяную щель долото и мягко нажал. Профессор вложил пальцы в отверстие и снял верхнюю часть черепа. Он оглядел обнажившийся мозг, взял карандаш и молча что-то чиркнул на листке бумаги. Потом произнес:
— Здесь типичный случай ушиба мозга: в лобных долях серого вещества имеются мелкоточечные кровоизлияния. Их характер подтверждает мое первоначальное заключение: удар в лобную часть головы нанесен уже мертвому человеку.
Нечаев злобно захохотал, зашелся в нервном смехе:
— Ха-ха! «Профессор» кислых щей! Все, все врет, дурак! Это я портного жахнул еще живого, он у стола стоял. После удара он еще на меня ругался. Ну, «профессор»!
Кони спокойно осадил:
— Профессор Гвоздев — замечательный специалист. А если здесь есть кто дурак, так это ты сам. Читать умеешь? — и прокурор показал опешившему убийце записку профессора: «Удар прижизненный». — Ты клюнул на нашу приманку. Спасибо за признание в убийстве.
Дико завыл злодей, поняв свою оплошность.
Суд приговорил Нечаева к 10 годам каторги. Убийцу этапом отправили в Сибирь. После одной из ночевок его нашли мертвым: чей-то профессиональный удар всадил по самую рукоять нож ему прямо в сердце. Виновного, как водится в таких случаях, не нашли.
Но гораздо ранее этого события нотариус вскрыл «духовную» Ивана Петровича Чернова казанского мещанина. Дом и все свое состояние он оставил Джаваду и Надире. Супруги-татары приказали своим детишкам до конца жизни поминать в молитвах хорошего русского человека Петровича, который даже за гробом творил добрые дела.
ПОХОЖДЕНИЯ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЖЕНЩИНЫ
Приключения особы, про которую наш рассказ, в свое время переполошили тех должностных лиц, кто отвечал за политическое спокойствие государства. И уж во всяком случае, им позавидовал бы аферист самой высокой марки, включая Соньку Золотую Ручку.
На самом западе Российской империи, на границе с Пруссией, находится местечко Вержболово. Весною 1901 года тут было весьма неспокойно. Обосновавшиеся за рубежами нашей родины чуждые ей типы готовили «новую эру в истории человечества». Так пошло они называли потоки крови и социальные потрясения, к которым толкали Россию с истинно дьявольской энергией.
Через границу выливался на нашу землю бесконечный мутный поток контрабанды — прокламаций, подстрекательских газет, порнографических открыток, оружия, взрывчатых веществ.
От всех этих беспокойных дел в стороне жила дородная красавица Малка Грам. Она была рослой, плечистой, с крупными чертами лица и любила носить экзотические одежды, вроде какого-то немыслимого кокошника. Рассказывали, что его спер из музея малкин муж Исаак, когда посетил однажды Кустарный музей во Львове. И это очень похоже на правду, если вспомнить о вороватой натуре Исаака.
Малка держала дом терпимости. Даже не дом, а так, маленький публичный домишко. В нем не покладая рук трудились три особы юного возраста — Ганка, Олеся, и Фира. Когда наплыв клиентов бывал особенно велик, Малка, душою болея за дело и пользуясь отсутствием мужа, начинала помогать своим девчатам.
Эта труженица как-то познакомилась с вертким разговорчивым человеком, назвавшимся Овсеем Таратутой. Овсей решил эту славную женщину совратить в революцию:
— Я видный социал-демократ, — сладко шептал он. — Скоро мы свергнем царя, сделаем свободу и будем жить прилично.
— А мне зачем это? — лениво спросила женщина.
— Если вы станете нам помогать, то получите самое лучшее здание в Вержболово и сумеете разместить там столько девиц, сколько захотите. Кроме того, уже теперь за каждый груз контрабанды, который вы доставите через границу, получите хороший гешефт.
Малка оживилась:
— Вот это просто замечательно! А сколько именно?
— За каждый пуд нелегальной литературы тридцать рублей ассигнациями.
— Я согласна! Мой Исаак все равно болтается без дела.
И они тут же ударили по рукам.
Наступило чудное лето. Дни стояли погожие. Перепадали вдруг обвальные дожди, гремели грозы и опять на эмалево-голубом небе вовсю сияло солнце.
Однажды Малка зашла по каким-то делам на железнодорожную станцию. К перрону подкатил Петербургский поезд. Женщина с любопытством наблюдала, как жандармы входят в вагоны делать пограничный досмотр. Вдруг из вагона первого класса легко спрыгнул на дебаркадер изящно одетый человек. На нем был узкий в клеточку пиджак и соломенное канотье. Он лениво оглядывал окрестности и помахивал тросточкой с массивным серебряным набалдашником. Лицо его дышало мужеством и пренебрежением к провинциальному местечку и его обывателям, толпившимся около здания вокзала и на площади.
За приезжим носильщик тащил небольшой чемодан.
«Боже, какой красавчик! — екнуло сердце у Малки. — Вот если бы задумал зайти к нам, отдохнуть, уж я бы его всего исцеловала!»
Приезжий сел в пролетку, извозчик тронул вожжи и вскоре они скрылись за углом.
Каково было удивление Малки, когда войдя в свой дом, она увидала прекрасного незнакомца, сидевшего в гостиной на продавленном диванчике, закинув нога на ногу, и читавшего «Санкт-Петербургские ведомости».
Увидав хозяйку, незнакомец учтиво поднялся с диванчика и с легкой улыбкой произнес:
— Наше вам почтение, госпожа Грам! Не могли бы вы мне уделить немного внимания?
Малка неправильно истолковала намерения незнакомца. Она стыдливо зарделась и негромко произнесла:
— Это никак теперь невозможно. Сейчас должен муж придти.
Незнакомец хмыкнул:
— Я не имею намерения посягать на честь его супруги. У меня к вам конфиденциальный разговор. Может, пройдем на свежий воздух?
Голос незнакомца звучал повелительно. Малка с рабской восторженностью глядела в холодные голубые глаза красавца.
— Конечно, конечно! У нас замечательный садик. Вишни, яблони…
Они оказались в запущенном, заросшем лопухами и чертополохом старом саду. Прошли мимо покосившегося дощатого туалета. Возле зарослей орешника, стояла почерневшая от времени скамейка.
— Милости прошу, садитесь, сударыня! Незнакомец пристально взглянул на Малку и
сухим тоном спросил:
— Как вы, госпожа Грам, думаете: зачем я бросил свои многочисленные и важные дела в Петербурге и прикатил к вам?
У Малки шевельнулась страшная догадка, и она с трудом пролепетала:
— Не знаю, господин.
Незнакомец достал из бокового кармана листок бумаги и заглядывая в него начал перечислять:
— 17 апреля ваш муж провез через границу пятьдесят прокламаций, зашив их в полы пиджака. Вы, Малка, распарывали подкладку, доставая их, и потом сами же подкладку пришивали. 25 апреля он нелегально перешел границу с Пруссией, и на следующую ночь вернулся обратно с мешком, в котором лежало более полпуда динамита… Вы стали членами преступной партии.
Малка помертвела. И хотя господин продолжал называть разоблачающие подробности преступной деятельности Исаака и ее самой, она уже больше ничего не слыхала. В голове стучала мысль: «Вляпалась! Кого-то заловили. Может, Овсея? Наверное, нас предали. Как выкрутиться?
Вдруг взгляд этой мужественной женщины упал на массивный камень лежавший возле скамейки. «Шарахну мужика по чердаку и сегодня же с Исааком скроемся за границей», — пронеслось молнией по голове.
Незнакомец, словно нарочно подбивая Малку на этот кровавый поступок, нагнетал атмосферу:
— Забыл представиться: Кондратий Федорович Усалов, сотрудник Петербургского жандармского управления. У меня в кармане ордер на ваш арест. Желаете взглянуть? Взрывчатка, которую вы доставили через границу, была подложена под дом главнокомандующего Виленского военного округа генерал-лейтенанта Гурчина. Сам генерал, слава Богу, остался жив, но убиты его денщик, кухарка и ее пятилетняя девочка. За такие штучки — виселица!
Малка решилась. С потрясающим хладнокровием она отвлекла внимание Усалова. Показав в сторону дома, крикнула:
— Ой, кто-то идет!
Едва Усалов повернул голову, как Малка наклонилась за булыжником, схватила его, размахнулась — мгновение и мозги сыщика брызнули бы на землю. Но Усалов успел увернуться и камень полетел мимо. Сыщик с восхищением изумился:
— Отчаянная бабешка! Не зря тащился к тебе из столицы. — На его ладони тускло поблескивал револьвер — Отчаянная, но глуповатая. Если бы я хотел тебя арестовать, то не стал бы разводить эту канитель, вести с тобой беседы. Эх ты, простофиля!
— Виновата я, простите, — Малка завела к небу глаза. — Сделаю все, что прикажете. И мой Исаак — тоже.
— Надеюсь! Я к тебе с добром, а ты ко мне с камнем. Стыдно, красавица! Твое дело — продолжать эту деятельность, но сообщать нам имена и адреса тех, куда идут нелегальные грузы. Я знаю, сколько тебе злоумышленники платят. Мы будет платить тебе в два раза больше. Если арестуют, сошлешься на меня.
И сыщик сообщил Малке все самое необходимое, что понадобиться ей теперь на новом благородном поприще. Затем он достал карандаш и лист бумаги. Под диктовку Усалова Малка, взмокнув от усердия, нацарапала печатными буквами:
«Раскаявшись в принадлежности к социал-революционеров партии и желая оказать пользу Отечеству, Государю и правительству, обязуюсь сообщать все, что станет мне известно о революционной деятельности злоумышленников. Малка Г рам, 21 июля 1901 г.»
— И помни, красавица, — внушительно проговорил Усалов, убирая в карман расписку, — наше предложение весьма лестное. Из революционной среды мы имеем столько информаторов, сколько хотим. Точнее, сколько нам позволяют средства. Не вздумай обманывать!
— Ни в жисть! — Малка с собачьей преданностью смотрела в немигающие глаза сыщика. Она уже успела прикинуть в уме все те выгоды, которые ей сулила связь с охранкой. — Даже Исааку не проболтаюсь. А то он выпьет да понесет на сторону… Кстати, он сегодня за «зеленой тропе». Доставляет партию «Искры». Передаем груз Липскому. Ну тому, что владеет пивной в садике возле театра. Там еще большая торговля Сырникова. Ах, заболталась я! Пойдемте, Кондратий Федорович, в дом. Вы с дорожки пообедаете, отдохнете.
…Обед вполне удался. По случаю приема высокого гостя Малка закрыла доступ посетителям. Ганка и Фира орудовали на кухне. Смазливая блондинка Олеся поставила на стол огурчики, редиску, спаржу. Толстушка Фира пожарила домашние свиные колбаски, обложила их свежими помидорами. Ганка тушила кролика, лишенного жизни по случаю приезда высокого гостя.
Малка сказала девчатам, что это — ее дядя. «Дядя» весьма всем понравился: он был по-столичному элегантен, весел и остроумен. Когда он вместе с Малкой удалился в спальню, девчата, едва не прыская от смеха, с любопытством наблюдали за ними в щель, загодя проделанную в стене, а позже с восхищением отзывались о его мужских достоинствах.
Рано утром, оставив Малке конспиративную связь, Усалов отбыл в Петербург. Малка была на седьмом небе от счастья. Если прежде она постоянно дрожала от страха, занимаясь контрабандой нелегальщины и взрывчатки, то теперь она чувствовала полную безнаказанность и размахнулась вовсю. Деньги так и потекли в ее дом. Теперь она пила дорогие ликеры и шила одежду у лучшего вержболовского портного Смулевича.
Эта славная особа могла бы процветать еще очень долго, возможно до самого 1937 года, но она совершила один добрый поступок, за который ей пришлось хлопотно расплачиваться.
Заметим, что у нее была свояченица — дочь сестры Исаака, которую звали Евгения Барановская. Это была бедная, одинокая и озлобленная девица. Мужчины на нее упорно не обращали внимания. За это Евгения их страстно возненавидела. Время, сэкономленное за счет любовных утех, девица расходовала на чтение «прогрессивной» литературы. Евгения успела проштудировать всего Чернышевского, чей засиженный мухами портрет из «Нивы» висел у нее в изголовье. Зимой и летом девица не вылезала из темного тарлатанового платья, перехваченного на талии салатовым шнурком. Она ненавидела Россию, деспотизм, монархию, богатых, бедных, вообще весь свет. Зато обожала передовые взгляды.
Малка по своей безграмотности почитала свояченицу весьма ученой. По расчетам ее, девица в силу своих демократических убеждений могла быть весьма полезна в делах контрабанды.
— Будешь действовать на благо прогрессивного человечества, — объяснила ей Малка, затвердившая эту фразу при частых встречах с социалистами. — За каждый доставленный по конспиративному адресу груз я тебе буду выплачивать по два, нет, по три рубля.
Барановская какое-то время послушно выполняла распоряжения Малки. Но она несколько раз видела, как хозяйка хапает большую деньгу за контрабандные услуги. Червь злобы и зависти стал терзать иссохшуюся девичью душу. Однажды Евгения закрыла дверь на крючок, налила свежих чернил и накатала донос на имя начальника Сувалкского жандармского управления: «Честь имею доложить! Желая принести пользу отечеству, я в феврале 1902 года сделала вид, что склонилась на требования социалистки и контрабандистки, а также содержательницы дома терпимости М.Грам сотрудничать с целью ниспровержения династии. С этой целью я по приказу упомянутой Грам носила по известным мне адресам подрывную литературу и даже дважды взрывчатку. Теперь я все выявила и готова за достойное вознаграждение оказать услуги. Е.Барановская. Адрес…»
За два дня до католического Рождества в начале десятого вечера в доме Малки появились жандармы. Ими командовал свирепого вида с громадными усищами полковник:
— Все перерыть! Ишь, где свили гнездо, смутьяны! А это что? «Искра»? 51 экземпляр! Полный комплект — прекрасно! И прокламации тут же.
Замечательно! А это что? — глаза полковника начали вылезать из орбит. — Динамит?! Попались, сукины дети. Сейчас на улице сильная вьюга. Так что останетесь здесь под охраной до утра. А с рассветом — в тюрму.
— Как же так! — кипятилась Малка. — Мы на службе у Петербургской жандармерии. О нашей полезной деятельности сам товарищ министра внутренних дел Макаров знает. Премию нам обещали… За усердие.
— А я плевал на Петербург. Я вас, паразитов, судить буду в Сувалках. Пока Макаров узнает, я успею вас, подлецов, повесить. Шея, небось, давно хочет почесаться о веревку? — загоготал жандарм.
Ему было обидно, что кто-то из ненавистной столицы под самым его носом себе служебный капитал наживает.
Дело Грамов принимало худой оборот.
Жандарм вдруг вспомнил, отдал, не таясь от арестованных (куда они денутся?), приказ:
— Утром следует арестовать и Барановскую. Возьмем ее тепленькую, прямо в постели. А то захотела за донос «приличное вознаграждение». Получит она у меня… Я поеду домой, посплю. Следите за арестованными в оба глаза.
Малка удивилась: «Так вот кто доложил на меня? После этого делай добрые дела!»
Полковник и его двое помощников сели в сани и укатили. Охранять арестованных остались трое бдительных стражников.
Исаак, маленький невзрачный человечек с туберкулезной грудью и красным висящим носом, сидел на лавке с самым несчастным видом. Он проклинал тот миг, когда связался с политической контрабандой, и то искушение, которому он поддался, когда еще летом спер из ящика, который нес через границу, фунта два динамита. Ему и не нужен был этот динамит, а взял лишь потому, что можно было взять. А как можно не взять, когда есть возможность? И вот теперь — петля…
Малка, развалившись поверх одеяла на постели, вращала белками громадных глаз и о чем-то мучительно размышляла. Вдруг она завыла:
— Ой, Господи, что со мной? Живот подвело… Помираю! В туалет хочу, скорее, а то опоздаю… Ааа!…
— Ну уж, иди, провожу! — посочувствовал один из охранников.
Малка сунула ноги в валенки, на плечи накинула бараний полушубок и в сопровождении конвоира вышла на крыльцо. В воздухе носился снежный вихрь. Темнота — хоть глаз выколи.
Светя себе фонарем, проваливаясь в сугробах снега, Малка добрела до уличного туалета. Здесь она передала фонарь конвоиру и хлопнула за собой дверью.
Вначале конвоир слышал ее кряхтенье, потом Малка стихла. Конвоир стукнул сапогом в дверь:
— Ты еще долго? Давай скорей! Холод собачий.
В ответ — молчание.
Конвоир рванул дверь. В туалете… никого не было. Он с ужасом заглянул в выгребную яму: не провалилась ли туда мадам? Нет, не провалилась. Ее следы конвоир вскоре обнаружил за туалетом: одна из досок висела лишь на гвоздике, вот беглянка ее и отодвинула.

В глубь сада вели следы, которые с каждым мгновением теряли очертания: их заносила метель. Пока сообщили в жандармерию, пока устроили поиск, след беглянки успел простыть.
Если бы существовала медаль «За находчивость», то Малка ее заслужила вполне. Бежав от конвоира, она прямиком отправилась к… Барановской. Для начала Малка поколотила не успевшую прийти в себя от сна девицу:
— Это ты что, донесла за мои благодеяния? Рука пролетариата сурово карает предателей! Ну да ладно, дай мне денег. В долг, конечно. И одежду какую поприличней. Видишь, тулупчик чуть не на голое тело натянула. Сейчас же бегу через границу. Буду пробираться в Женеву. К самому товарищу Ульянову-Ленину. Слыхала такого? Он давно меня приглашал, да все некогда было, — с вдохновением врала Малка.
Она с трудом натянула на себя тарлатановое платье — другого у Барановской не нашлось, и спрятала в лиф 97 рублей:
— На чужбине жизнь дорогая! А теперь, Евгения, извини, я тебя к койке пришвартую — двойным морским узлом, — говорила Малка, освоившая некоторые морские термины от знакомого клиента-моряка Сырникова, и намертво привязывая предательницу. — И это вот — кляп, на всякий случай.
После этого Малка задрала своей жертве подол, стянув исподнее и со смаком выдрала остатком веревки: «За измену делу революции!»
— Покажи свои прелести жандармам, может, найдется какой охотник! — веселилась Малка. — А теперь — зай гезунд, покедова!
И она шагнула за порог, в ночную тьму.
Бывший матрос Черноморского флота, а нынче владелец лавки колониальных товаров Сырников обладал исключительной невозмутимостью. Когда среди ночи к нему прибежала запыхавшаяся Малка, он лишь спросил:
— Самовар поставить?
— Еще граммофон заведи! За мной царские ищейки гонятся, а ты мне чаевничать предлагаешь. Дай-ка лучше водочки! Спасибо! — выпив рюмочку, Малка изложила суть дела, спросила: — Как выбраться отсюда? Я Барановской сказала, будто бегу к Ульянову в Женеву. Она, конечно, сообщит это жандармам. Да собьет ли это их? Боюсь, что на вокзале меня будут искать. Мне надобно добраться до Питера.
— Делов-то! — Иван потянулся. — Бросай, дева, у меня якорь. Как все успокоится, посажу тебя в вагон — и с ветерком!
— Ну да ладно! Давай поспим. Здесь на полатях можно?
…Планы Малки с блеском осуществились. Утром остолбеневшие жандармы увидали Барановскую, привязанную к кровати и в соблазнительном виде. Евгения, заходясь от стыда и рыданий, все рассказала им.
Поклонницу Чернышевского доставили в тюрьму, пограничным кордонам дали указание усилить бдительность, а филеров с вокзала сняли.
Через два дня Малка была посажена Сырнико-вым в поезд Вержболово — Петербург. В 3 часа 55 минут ночи вагоны лязгнули буферами и покатили к северной столице. Там нашу даму ожидали новые приключения.
Малка, видно, родилась под счастливой звездой. В купе она познакомилась с энергичной и изобретательной особой, склонной к аферам не менее самой Малки. Та представилась:
— Марья Ивановна, жена провизора из Петербурга!
Малка сочинила ей слезную историю о якобы безвинно преследуемом супруге.
— Я знаю что делать! — выпалила собеседница. — Приглашаю остановиться у меня. Мы повеселимся и проведем этих сатрапов!
И действительно, прямо с поезда Марья Ивановна притащила Малку к себе в роскошную квартиру на Невском. Отыскав в «Адрес-календаре» соответствующий телефон, хозяйка соединилась с правителем канцелярии. Томным голосом она протянула:
— Это действительно статский советник Кноль? Очень приятно, вас беспокоит графиня Анна Петровна Гагарина. Из провинции прибыла супруга управляющего моего имения «Цветочное». У нее острая необходимость видеть Сан Саныча Макарова. Что? Нет, именно их превос-ходительство! Очень прошу вас, помогите. Поможете? Гран мерси. Приезжайте ко мне в субботу на раут…
Кноль не сумел вспомнить, где он познакомился с графиней, но когда в приемной на Большой Морской появилась миловидная провинциалка, он без разговора провел ее к товарищу министра. Там посетительница находилась не более пяти минут. По ее уходу Макаров устроил Кнолю головомойку:
— Зачем вы пускаете ко мне черт знает кого?! Безобразие!
Но как бы то ни было, в тот же день в Вержболово полетела служебная телеграмма: «Малку Грам не преследовать, Исаака Грам из-под стражи освободить. Они полезны по службе. Тайный советник Макаров».
Малка покидала столицу переполненная счастьем. Поджидавший ее на вокзале Вержболово Исаак не знал, не ведал, что его супруга повстречала в Петербурге красавца-сыщика Усалова. Повстречала на беду Исаака.
Зато несчастную Барановскую посадили в сувалкинскую тюрьму и возбудили против нее дело. Ее донос был расценен как собственное признание в противоправительственной деятельности. Все-таки на свете существует справедливость!
Удачи кружат голову! Провернув аферу в Петербурге, Малка почувствовала себя едва ли не хозяйкой границы. Тем более, что теперь она стала сотрудничать в самом тесном контакте с подполковником Барановым — начальником Виленского охранного отделения. Подрывные элементы и всякого разбора жулье, называвшее себя «революционерами», полностью Малке доверяли, все свои многочисленные провалы приписывая различным случайным причинам.
В Петербурге сыскное управление, понятно, в ней души не чаяло.
…Наступила весна 1905 года. Смутьяны, как известно, готовили «пролог» Великого Октября. Деятельность контрабандистов резко оживилась. Чтобы не сбиться с ног, Малка додумалась до невероятного: нелегальщину для нее через границу стали таскать… сами пограничные стражники (за деньги, разумеется).
В это время у нее произошел скандал с памятным нам Таратутой. Он неосмотрительно отказался оплатить Малке какие-то хлопоты, да еще наговорил ей в силу своей невоспитанности грубости.
— Овсей, — печально произнесла Малка, — очень стыдно обманывать даму. И уж совсем мне непереносимо слышать от вас неделикатности. Я, к сожалению, буду вынуждена вас, Овсей, наказать.
Если прежде в память о старой дружбе Малка всячески опекала Таратуту, то теперь она сдала его Баранову. Удар был расчитан точно: задержали громадный транспорт взрывчатых веществ. Овсея отвезли в тюрьму. Революция на несколько лет потеряла преданного бойца.
В столице ликовали. Сам Столыпин поздравил с успехом Макарова. Тот произвел Баранова в полковники и вознаградил 500-рублями Малку — «за усердие». «Хозяйка границы» обратилась с письменной просьбой к товарищу министра: «В Сувалкинской тюрьме находится уже года полтора моя родственница Е.Барановская. Прошу освободить ее под мою ответственность». Ради истины скажем, что Малка регулярно отправляла Евгении передачки.
Через месяц доносчица была выпущена «на поруки» Малки Грам.
Катастрофа произошла прозрачным осенним деньком — 7 октября 1905 года. Армейский дежурный разъезд верхами объезжал границу. В стороне, метрах в трехстах, был замечен дымок. Подъехав поближе, армейцы увидали трех стражников пограничной охраны и тощего мужичка с висячим носом. Эта группа разожгла костер и мирно завтракала. Рядом лежали тюки, в которых при проверке обнаружили нелегальную литературу. Контрабандисты обнаглели до такой степени, что уже перестали прятаться от пограничников.
— Да вы не извольте волноваться, — сказал мужичок, оказавшийся Исааком Грамом. — Мы действуем по приказу полковника Баранова. Си-дайте-ка к нам и выпейте водочки. Холодно что-то нынче, все кости прозябли.
Все четверо были задержаны. Армейское начальство, конфликтовавшее с охранкой, отправило донесение в министерство внутренних дел.
Иосиф Грацианович Кноль положил донесение на стол Петра Аркадьевича. Столыпин не на шутку рассердился:
— Дожили, пограничные стражи способствуют контрабанде в пределы Империи! Александр Александрович, разберитесь.
Макаров выяснил, что памятная ему Малка Грам подкупила стражников и те за сорок рублей перетащили через границу тюки с подрывной литературой. (Следствие установит, что стражники таскали через государственный рубеж даже…взрывчатку!)
Макаров скрежетал зубами от досады. Он-то хорошо помнил, что спас от тюрьмы супругов Грам. Теперь оставалось быть последовательным. Он вынес резолюцию: «В действиях чинов Ви-ленского охранного отделения незакономерности не усматриваю».
Солдаты Титехин, Шестрюк и Гусев были преданы военному суду. Супруги Грам арестованы. Началось следствие.
Эта история была столь громкой, что попала на полосы газет. И скандал не затихал более трех лет. Дошло до того, что Государственная дума 3-го созыва по предложению присяжного поверенного и близкого к Л. Н. Толстому Василия Маклакова сделала запрос Столыпину.
Объяснения давал Макаров. Случилось это 19 ноября 1908 года. Теперь он изменил политику. Эта история ему изрядно надоела. С трибуны думы он заявил (дословно):
— Показания Малки Грам и ее супруга не имеют никакой цены. Ведь это евреи, профессиональные контрабандисты и, к тому же, они содержат публичный дом. Правосудие должно сказать свое суровое слово!
Увы, Малка не стала ждать этого «слова»! Отпущенная под расписку о невыезде (помог Баранов?), она вместе с мужем в последний раз перешла границу Российской империи и поселилась в Берлине на Лютерштрассе.
Сама она растила на подоконнике в ящике цветочки, а Исаака отправила работать на стройку: «Чтоб глаза не мозолил!»
Однажды эту идиллию нарушил Кондратий Федорович Усалов. Каким образом он нашел беглянку, осталось навсегда неизвестным. Лишь соседка позже покажет следствию: «В начале мая у фрейлейн из России появился мужчина — видный такой, в элегантном клечатом пиджаке и лакированных туфлях. Я видела, как мужчина снял с головы канотье, поцеловал фрейлейн в губы и преподнес ей роскошный букет роз. Такой стоит не менее пятидесяти марок!»
Добавим, что мужчина при этой встрече с восхищением произнес фразу, которую не могла понять немка, не знавшая чужого языка:
— Малка, ты фантастическая женщина!
Что касается следствия, то оно возникло по весьма печальному поводу. 17 мая 1909 года Исаак грам не вернулся с работы. Малка заявила в полицию. Несчастного нашли в яме с раствором. Из бетона торчала нога в сильно сношенном ботинке. Следствие пришло к выводу, что пострадавший попал в яму по собственной неосторожности.
Ровно через год вдова и бывший российский сыщик Усалов официально соединили свои жизни.
Уже не за горами были страшные годы мировой и гражданской войн, революционных декретов и коммунистических концлагерей. Но пока что великая Россия развивалась быстрыми темпами и всячески благоденствовала. Преступность была одной из самых низких в Европе. Тем ужаснее показались те кровавые события, которые случились в Москве, близ Тургеневской площади.
Яков Давыдович Рацер лицом был значительным и известным. Выпускник Филадельфийской консерватории по классу скрипки, он избрал коммерческую стезю. Он торговал, как явствовало из многочисленных рекламных проспектов, «топливом и лесным материалом». Времени Рацеру всегда не хватало. Вот почему ранним августовским утром, когда у людей его круга принято еще вкушать сон, он спускался по мраморным ступенькам дома № 8, что на Тургеневской площади.
Рацера почтительно приветствовала консьержка — Мариана Пятакова, особа лет пятидесяти с громадными маслинообразными глазами на когда-то симпатичном, а теперь уже щучьем лице:
— Яков Давыдовыч, такая рань, а вы уже на ногах! Совсем себя не бережете.
Общительный Рацер добродушно объяснил:
— У моей тетушки Анны Ивановны сегодня день рождения — восемь десятков лет живет, очень милая старушка! Вот и хочу навестить ее спозаранку, подарочки передать. Путь далекий — в Лосиный Остров, а мне уже в полдень необходимо быть в Правлении банка.
Возле подъезда, в тихом дворе, уже ожидала коляска, запряженная парой. Жеребцы в богатой сбруе с серебряным набором нетерпеливо перебирали копытами, томясь своей силой и жаждая быстрого бега. Возле коляски, и тоже нетерпеливо, прохаживался кучер Терентий Хват (не кличка — фамилия). Это был парень невысокого роста, узкий в талии и плечах, но жилистый и необыкновенно ловкий, еще в юные годы успевший поработать в цирке А. И. Саламонского акробатом.
Терентий вежливо снял картуз:
— Доброе утро, Яков Давыдович! Поди, опять опаздываем? — и легко подсадил худощавого Рацера.
Тот, приваливаясь к удобной спинке сиденья, философски изрек:
— Если хорошо работать, то времени всегда хватать не будет.
— Стало быть, гоним с ветерком? — с готовностью ответил Терентий, вскакивая на облучок.
Рацер с легкой грустью улыбнулся:
— Да, братец, гони! Если однажды и повезут нас медленно, то лишь в последний путь.
Коляска двинулась.
Голова его от толчка откинулась слегка назад. Взгляд Рацера рассеянно скользнул по окнам дома: повсюду традиционные фуксии и герань, богатые тяжелые портьеры и изящные узором тюлевые шторы.
Вдруг взор Рацера выхватил такое, чего рассудок сразу переварить не мог. Терентий уже миновал арку, повернул на площадь. Несмотря на ранний час, жизнь на улицах старой столицы кипела вовсю. Дворники в светлых передниках подметали тротуары и поливали водой из шлангов. С лотками спешили афени — мелочные торгаши вразноску. Точильщик-татарин, перекинув через плечо свою машину с большим колесом и широкой педалью, занудно выкрикивал: «Ножи точу-у! Ножи точу-у!». Возле афишной тумбы суетился расклейщик, кистью размазывая клей на афише Художественного театра:
«Мольер. МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ. Эскиз и декорации А. Бенуа»…
Немного пришедший в себя Рацер хлопнул Терентия по спине:
— Стой! У нас на втором этаже… человек висит. Терентий, видимо, не понимая барина, лошадей припустил еще быстрее, лишь вполоборота повернув лицо:
— Это вы насчет чего?
Рацер, раздражаясь этой непонятливостью, а больше необычным и весьма тягостным происшествием, нарушавшим настроение, размашисто стукнул Терентия по спине:
— Да стой же, болван! — И уже чуть спокойнее: — Ты ничего не заметил в окне, где живет Абрамов?
Терентий помотал головой:
— Это который книжки собирает? Нет, не заметил.
Рацер замолчал, тяжело обдумывая: «Может мне померещилось? Я ведь вчера утром видел Льва Григорьевича, он хвалился новыми приобретениями. Говорил, что купил Острожскую библию 1581 года. Он был здоров и весел. Что делать?». Наконец, решился:
— Поворачивай обратно! Терентий буркнул:
— Это, как хотите, самое последнее дело — с дороги вертаться. Эх-ма! Ну, теперь пути не будет — как пить дать. Право, Яков Давыдович, вам померещилось, в глазах наваждение ложное. Зачем ему висеть? Поди, сидит за столом и чай дует из самовара с горячими кренделями от Филиппова.
— Хорошо, если так! А пока что делай, как тебе приказываю.
Терентий с неудовольствием махнул рукой, пропустил мчавшийся с трезвоном в колокол пожарный экипаж, и развернулся у Мясницких ворот, прямо напротив булочной Филиппова. Они вновь пересекли площадь и въехали во двор.
Вытянув шею, с напряженным вниманием и страхом посмотрели в окна второго этажа. За чисто вымытым стеклом, прямо под хрустальной люстрой, немного сместив ее в сторону, виднелась седая голова старика Абрамова. Под напором петли подбородок был вздернут вверх.
Пришедший едва ли не в обморочное состояние, Рацер едва слышно прошептал:
— К городовому, пошел! У нового почтамта стоит…
Городовой, объемистый в талии муж с багровым глянцевитым лицом, не перебивая выслушал рассказ Рацера. Дежурство кончалось и городовому не хотелось валандаться с этим самоубийством. Он задумчиво промычал:
— Мм… Дело такое, что требуется отцам-командирам доложить. Пойду протелефоню в участок. А вы тут, господин, подождите.
Вскоре он вернулся мрачнее тучи:
— Велено охранять место происшествия. А вас, господин, просили обождать, — добавил городовой с плохо скрытым злорадством. — Потому как вы первый заметили. — Он тяжело поднялся на облучок и могучим задом несколько сдвинул Терентия: — Ну, трогай, чего ждешь!
…Когда Рацер вернулся к родному порогу, там уже собралась изрядная толпа любопытных. Вышел к народу и владелец дома — изящный человек с короткими усиками, пахнувший коньяком и табаком — Самуил Давыдович Гурлянд.
Все с ужасом поглядывали на окно, за которым в лучах солнца четко виднелась фигура висящего, и ругали полицию, которая все еще не приступает к делу. Но главным предметом обсуждения были причины, которые заставили этого благополучного человека забраться в петлю. В центре внимания оказалась Пятакова, верная помощница полиции, которая, знает о жильцах дома больше, чем они сами о себе. Она страстно рассказывала:
— Мне доподлинно известно, почему наш жилец, Царство ему Небесное, — она завела глаза вверх, — наложил на себя руки. Он мне доверял во всем, делился самыми сокровенными мыслями.
Вот и вчера вечером, возле восьми часов, спускается покойный по лестнице, в руках два порожних баула держит. Я сразу догадалась:
«Это вы, Лев Григорьевич, опять за книгами собрались? Да еще на ночь глядючи?» — «Случай необыкновенный вышел, — отвечает Абрамов. — Сегодня утром в лавке Шибанова на Никольской познакомился с симпатичным молодым человеком. Он рассказал, что ему в наследство досталась громадная библиотека. Он завтра в Варшаву уезжает, а сегодня освободится лишь вечером. Вот мы решили, что я отберу все, что мне понравится. И список некоторых книг показал — большие редкости». И еще предупредил меня покойный, чтобы я не волновалась, коли он задержится. А я покойному резон: разве, дескать, можно с деньгами ехать к неизвестному лицу? А он засмеялся и отвечает: «Мы договорились расплатиться у меня дома. Ну, мне пора ехать! Молодой человек будет меня ждать в Черкизово у ворот Богородского кладбища». — «Фу, говорю, страсть какая! А почему он адрес не дал?» — «Страсти никакой нет, а адресок он мне дал. Вот, записан! Просто все: он любезно согласился меня встретить, чтоб я не плутал».
Толпа слушала, раскрыв рты. Городовой строго произнес:
— Ну а какое это отношение имеет к самоубийству?
Пятакова осадила его:
— Не запрягал, любезный, так и не нукай! Не глупее тебя. А отношение самое прямое. Вернулся домой покойный затемно. И очень сердитый! Ругается: «Ждал-ждал, а этот дядя так и не пришел! Поехал, дескать, по адресу, это 2-ая улица в селе Черкизово, дом Утенкова. А это вовсе не барский дом, а так, крестьянская хибара. И никакой, конечно, библиотеки нет. Зачем этот проходимец обманул? Не понимаю! У меня даже в висках ломит и на сердце тяжесть». Я дала покойному две таблетки оволецитина, это от переутомления и мигрени. Сорок копеек отдала, у Феррейна на Никольской покупала. Вот с горя и повесился бедняжка! Не перенес, что с книгами его обманули. Он страсть как их любил!
Фыркая клубами фиолетового вонючего газа, во двор вкатился полицейский автомобиль «Ком-ник». Из его вместительного нутра не спеша вылезли фотограф и дактилоскопист Юрий Ирош-ников, судебный медик Григорий Павловский, частный пристав Мясницкой части Николай Диев-ский и знакомый моим читателям Аполлинарий Соколов, перебравшийся на постоянное жительство из Петербурга в Москву.
Мариана Пятакова повторила им свой рассказ. Она утверждала, что вчера к Абрамову никто не заходил, и посторонних вообще ни у кого не было. Сыщики приступили к осмотру места происшествия. Дверь и замок оказались без повреждений. Окно, несмотря на хорошую теплую погоду, было закрыто, зато форточка распахнута.
— Лев Григорьевич очень боялся пыли, считая ее вредной для книг. Он окно не раскрывал даже в самую жаркую погоду, — объяснил Рацер, уже отказавшийся от мысли ехать к тетушке Анне Ивановне.
— Юрий Павлович, открывай дверь, — распорядился Соколов, уже неоднократно убеждавшийся, что у Ирошникова руки прямо-таки золотые: ему удавалось все, за что бы он не принялся.
Ирошников минут пять попыхтел с замком, пытаясь открыть его методом подбора ключей. На этот раз у него ничего не вышло.
— Дверь закрыта изнутри на задвижку! — заключил Ирошников.
— Теперь сомнений быть не может — Абрамов сам наложил на себя руки, — резюмировал Диевский.
Ирошников влез в чемоданчик, который привез с собой, достал небольшой ломик и легко отжал дверь, улыбнувшись:
— Милости прошу! Соколов восторгнулся:
— Ну, Юрий Павлович, ты фомкой действуешь, как профессиональный взломщик-шнифер.
Ирошников не остался в долгу, насмешливо протянул:
— Во-от и хорошо! Коли из полиции выгонят, так с голода не помру и без дела не останусь.
Сыщики шагнули в квартиру. За ними двигались понятые — Пятакова и Терентьев.
Соколов уже выяснил у Гурлянда, что Абрамов снимает небольшую трехкомнатную квартиру с кухней.
…Теперь библиофил висел в самой большой комнате, служившей, видимо, гостиной.
Веревка была привязана к крюку, к которому крепилась и люстра. Рот у покойного был полуоткрыт, из него выглядывал кончик языка. На шею была накинута, так называемая, закрытая скользящая петля. Не повреждая узлов (способ их завязывания может способствовать разоблачению преступника), разрезали веревку и положили Абрамова на пол.
Доктор Павловский и Соколов внимательно осмотрели труп, и явных признаков повреждений, которые могли произойти от борьбы с возможным убийцей, не обнаружили. Павловский сказал:
— Судя по всему, это самоубийство. Апполина-рий Николаевич, взгляните: след странгуляцион-ной борозды на шее полностью соответствует материалу и форме петли, а также ее косо восходящему направлению. Состояние тела и трупных пятен говорит о том, что смерть наступила где-то около полуночи.
Пятакова, до того молчавшая, ибо ужас сковал ее уста, несколько осмелев, вставила:
— Вот-вот, повесился тут же, как пришел… Соколов строго посмотрел на нее, она тут же осеклась.
Ирошников кивнул головой, соглашаясь с экспертом Павловским:
— Да, пододвинул более чем на метр стол — на ворсе отпечатки волочения ножек, я их сфотографировал. Затем поставил на него и стул — на скатерти видны следы от ножек, поднялся, привязал веревку к крюку, к которому люстра крепится.
— После этого переставил стул под люстру, — предположил пристав Диевский, — голову — в петлю, оттолкнул опору и — готов! Ясно, как Божий день.
Соколов, внимательно следивший за происходящим, распорядился:
— Труп сфотографировали? Сняли отпечатки пальцев? Доктор, вызывайте карету и отправляйте труп в морг на вскрытие. Начинаем обыск.
Там, где вся квартира заставлена шкафами и стеллажами с книгами, обыск — дело необыкновенно сложное и трудоемкое. Общее впечатление у Соколова было таким, что из ценностей ничего не тронуто. В большом палисандровом шкафу, стоявшем в гостиной, во втором ряду обнаружили пакет с тридцатью акциями Русского торгово-промышленного банка стоимостью каждой по две с половиной тысячи рублей каждая. Здесь же, в альбоме литографий «Злополучная поездка…» (название нарочно не придумаешь!), вышедшего в Петербурге в 1864 году, лежали крупные ассигнации — 31 тысяча рублей.
На подмогу вызвали из сыскного управления еще нескольких человек. После многочасового труда Соколов устало вздохнул:
— Да, кажется, это и впрямь самоубийство. Но случай невероятный! Уравновешенный, жизнерадостный человек, который только что жаждал купить книги, вдруг в петлю лезет. Ерунда, чушь!
— Но против фактов не попрешь! — уронил Ирошников. — Тем более, был посыльный от Павловского. В экспертном заключении ясно сказано: «никаких признаков насильственной смерти нет».
— Что ж! — глубоко вздохнул Соколов. — Заканчиваем обыск.
(Чуть позже он скажет своему приятелю, писателю А. И. Куприну, — «отдавая команду закончить обыск, я как никогда остро чувствовал, что дело еще не сделано. Не верил в добровольную смерть Абрамова».)
…Соколов уже шагнул к дверям, как его взгляд остановился на столе. Тот был покрыт длинной скатертью, спадавшей до пола. Подняв ее край, сыщик поднял свернутый вчетверо лист почтовой бумаги. Развернув его, Соколов увидал загадочный чертеж: во всю длину листа проведены восемь горизонтальных линий, а между ними множество вертикальных. Таким образом, получились небольшие прямоугольники. Двенадцать из них были отмечены красным карандашом.
Сыщик весь встрепенулся. Его мозг сверлила мысль: «Эту бумагу мог оставить только тот, кто двигал стол. Сначала уронил чертеж, а потом надвинул стол. Это сделал сам Абрамов? Возможно. А если нет? Тогда во время смерти библиофила в квартире был еще кто-то. И этот „кто-то“ — наверняка убийца Абрамова. В любом случае необходимо расшифровать, что означают эти прямоугольники?
Но если в квартире находился посторонний, то каким образом он ее покинул? Пятаковой можно верить: в дверь действительно никто не выходил, она была закрыта изнутри на задвижку. Тогда — окна?
К счастью, еще перед тем, как сыщики вошли в квартиру, они осмотрели землю и цветочные клумбы под окнами Абрамова, а Ирошников сфотографировал какие-то (возможно, случайные) следы. С окон сняли отпечатки пальцев.
Соколов устало и счастливо потянулся: — Ну, ребятки, теперь с чистой совестью можно уезжать. Мы сделали все, что от нас требовалось.
…За окнами занималась заря нового дня.
Расследование продолжалось. Выяснилось, что Абрамов, овдовев в 1901 году, вел замкнутый образ жизни. Он, разумеется, был знаком со многими букинистами и книжниками, но у себя принимал лишь Дмитрия Ульянинского — известного библиографа и билиофила, чиновника Управления удельного округа. Хорошие отношения были с единственным сыном Дмитрием, которому шел 41-й год, служившим инженером-экспертом в акционерном обществе «Диана», тоже постоянно навещавшим отца.
Дмитрий за два дня до смерти отца уехал в командировку в Рязань. Его известили телеграммой о происшедшем. Сын с первым же поездом примчался в Москву, с вокзала сразу бросился к Соколову:
— Почему, зачем?… Так неожиданно… — бессвязно бормотал едва не спятивший от горя Дмитрий.
— Я хотел у вас узнать, что побудило Льва Григорьевича столь неожиданно свести счеты с жизнью? — мягко, с сочувствием спросил Соколов.
Дмитрий твердил лишь одно:
— Не знаю, не понимаю…
Соколов, видя это искреннее безутешное горе, понял, что ничего пока не добьется от сына покойного. Прежде чем расстаться, сыщик протянул Дмитрию таинственный чертеж, не рассчитывая, впрочем, на успех:
— Вам вот это не знакомо?
Вдруг Дмитрий страшно разволновался, смертельно побледнел, но отрицательно замотал головой:
— Нет, нет! Первый раз в жизни вижу…
— Я так и думал! — Соколов с небрежным видом бросил листок в ящик письменного стола. И добавил: — Для пользы дела попрошу вас пройти к чиновнику Ирошникову, он снимет отпечатки пальцев.
Дело в том, что на листке с чертежом виднелся четкий отпечаток указательного пальца. Дмитрий, совершив необходимую процедуру, был отпущен домой, а взволнованный Ирошников пятью минутами позже ворвался в кабинет Соколова:
— Аполлинарий Николаевич, на чертеже пальчики сына убитого!
Сыщик схватился за голову:
— Ничего не понимаю!
В тот же день Дмитрий был арестован. Вины он за собой не признал, объясняя, что приносил отцу бумагу из дома и, понятно, мог оставить отпечаток. Действительно, такая же бумага — целая стопка, нашлась у Дмитрия в конторке. Самый тщательный обыск других результатов не дал и подозреваемого пришлось отпустить.
И хотя квартира пока оставалась опечатанной, но Кошко предупредил, что через день-другой закроет уголовное дело. В этом случае Дмитрий вступит в права наследования.
Соколов находился в страшном напряжении, пытаясь разгадать таинственный чертеж, надеясь, что именно это поможет разрешить все дело. И вот во время сна, тревожного и неглубокого, его вдруг озарило. Чертеж найденный у Абрамова, означал: горизонтальные линии — полки, восемь линий — семь полок! А вертикальные — книги. Так просто!
Ранним утром он приехал к Ульянинскому:
— Дмитрий Васильевич, вы хорошо знаете книги в библиотеке Абрамова?
Ульянинский посмотрел на сыщика, как на неразумного ребенка:
— Простите, но это дурной тон — знать чужую библиотеку, как свою. Это все равно, что знать количество денег соседа на его банковском счете. Но, разумеется, мне известны основные редкости библиотеки несчастного Абрамова — инкунабулы, иллюстрированные редкости.
— Думаю, этих познаний вполне хватит. Едем на Тургеневскую площадь!
Взяв двух понятых, сыщик и библиофил вошли в квартиру Абрамова. Исследовав чертеж, Ульянинский заявил:
— Главные редкости хранятся в палисандровом шкафу. Там как раз семь полок. Открывайте! Но у Абрамова вот в этом ящике лежит каталог. Он начал составлять его по моему наущению.
Через несколько минут выяснилось, что исчезли из шкафа одиннадцать первопечатных книг — выходивших в 16-м веке в типографиях Ивана Федорова, Острожского, Невежина. Двенадцатой пропажей стала жемчужина коллекции — альбом «Отечественная война» со 113 карикатурами на Наполеона. Их авторами были Теребенев, Венецианов, Иванов и другие выдающиеся мастера.
— Похищены именно те книги, которые на чертеже отмечены карандашом, — заметил Соколов.
— Зато на их место, чтобы не было пробелов, вложены из второго ряда пустяковые, современные издания, — добавил Ульянинский.
Соколов поинтересовался:
— Какова стоимость похищенного?
— Эти редчайшие вещи стоят столько, сколько за них попросят. Скажем, за «Отечественную войну» я сам предлагал две тысячи, но Абрамов не уступил. Действовал кто-то хорошо информированный. Тот, кто знал, где редкости лежат.
— Кто?
— Я и… сын покойного.
За Дмитрием Абрамовым установили слежку, прослушивали его телефоны — домашний и служебный. Допросили многих книжников, букинистам передали список с похищенными книгами — все тщетно.
Соколов ходил, как в воду опущенный. Он чувствовал, как теряется найденный было след к разгадке дела. И вдруг однажды у него зазвонил телефон:
— Говорит Рацер! Не знаю, поможет ли вам то, что я скажу, но… Видите ли, заболел мой кучер Терентий Хват. Я решил навестить его. Купил того-сего, приехал к нему в дом под № 21 по Лялину переулку, это владение Морозова. Так вот, на его… у него на стене висит прекрасная старинная гравюра. Он, подлец, ее наглухо к стене приклеил, испортил, то-есть.
— Вы ему ничего не сказали?
— Нет, конечно.
— Большое спасибо!
…Через час, прихватив с собою для консультации Ульянинского и букиниста Шибанова, Соколов входил в лачугу Терентия. Тот, увидав сыщика, перепугался до обморочного состояния. Шибанов и Ульянинский в один голос заявили: Это работа Теребенева «Наполеон с сатаною» — из пропавшего альбома «Отечественная война».
…Терентия арестовали. После пяти дней молчания, он под давлением следствия, наконец заговорил:
Терентий, стуча себя в грудь, раскаивался:
— Бес попутал! Все, как на духу выложу. Как-то еще в прошлом годе по случаю я подвозил сыночка покойного Абрамова. Он щедро так заплатил, отвалил червонец — а езды, тьфу, пустяк! А тут недавно 'встретил он меня, в трактир повел, водочкой угостил. Спрашивает: «Желаешь пять „катюш“ заработать?» — «Кто ж себе вредитель, — отвечаю, — хочу!» — «Я своего папашу в вечернее время отправлю из дома, чтоб стемнело уже во дворе. А ты заберись по дереву, что у дома растет, а толстый сук под окно подходит, в папашину квартиру и возьми, дескать, несколько книжек. Прямо по плану, какой тебе нарисую. Из палисандрового шкафа. И через окно все вынеси. Не работа, так, сущий пустяк!» — «Зачем в окно? Я лучше в фортку, она там просторного размера. Я ведь страсть какой ловкий! Не зря в детстве, мальчонкой, „верхним“ в пирамиде выступал — в цирке Саламонского. Тогда никто и не подумает, что в квартиру залезали. А у вашего папаши книг много, пока он спохватится, пока чего…» Похвалил меня Дмитрий Львович: «Смекалистый!».

Терентий перешел к главному:
— Настал нужный вечер. Сам Дмитрий Львович нарочно из Москвы отъехал, чтобы подозрениев не было. Я лошадь привязал у библиотеки, напротив. Во дворе — ни души! Без шума в квартиру забрался, по плану нужные книжки вынул. Набил один мешок, только за второй взялся — слышу кто-то ключом в дверях ковыряется, знать, хозяин явился. Ну, думаю, пропал! Надо выкручиваться. Спрятался я, а когда Абрамов дверь за собой на задвижку затворил, я мешок ему на голову накинул, придушил слегка. А он слабый, как котенок, быстро в омрак упал. Смекаю: тикать надо! Вдруг меня как бес в ребро толкает: «Да повесь его на веревку! Пусть все думают, что сам удавился». Пододвинул я стол под люстру, встал на стул, привязал веревку (на кухне нашел). Спустился вниз, да его голову в петлю засунул, чтоб в воздухе болтался. А где чертежный план? Как в воду канул! Плюнул я, прорехи в шкафу разными книжками заложил, да и ушел обратным ходом. Без затруднений! Поначалу я все домой отвез — как приказал Дмитрий Львович. А тут шум начался, газеты пишут, я испугался. Оба мешка переправил к свояченице, она в Сокольниках живет. Только, грешен, одна картинка очень мне понравилась, думаю: мало ли на свете картинок? Ведь никто не догадается, что это оттуда. Взял, приклеил ее. Теперь можете казнить меня, достоин. Только меня давно совесть угрызла, оттого и занемог.
Теперь Дмитрий Львович уже не запирался. Он объяснил, что ему до зарезу были нужны деньги — хотел:
— С любимой женщиной в Ниццу съездить, да чтоб с шиком!
К отцу обращаться было бесполезно, на эти «глупости» он не дал бы и копейки. В этот момент, как на грех, подвернулся некий «князь Б.» (газеты его фамилию не расшифровали), он обещал за первопечатные редкости и альбом громадные деньги. Зародился план, на первый взгляд, почти безобидный. Тогда и появился чертеж, который Соколова укрепил в мысли об убийстве Абрамова.
Суд отправил преступников на каторгу: Терентия на 9 лет, а Дмитрия на три с половиной года.
Что стало с нашими остальными героями? Д. В. Ульянинский напечатал тиражом 325 экземпляров трехтомный каталог своей обширной библиотеки, ставший важным вкладом в российскую культуру. Этот каталог считается необходимой принадлежностью собрания всякого серьезного библиофила. Ученый умер в феврале 1918 года.
С Рацером судьба обошлась круче. Он рискнул, после большевистского переворота на запад не уехал. Все, что он нажил долгими годами труда, у него было отобрано. Но с наступлением НЭПа этот талантливый человек снова встал на ноги, организовал торговое дело. В 1927 году вышел «Список абонементов московской городской сети». Передняя обложка и корешок толстенной книги рекламно украшены именем Якова Ра-цера.
В начале тридцатых годов его направили в Кузбасс — налаживать добычу каменного угля. В 1936 году он стал жертвой большевистского людоедства — был арестован. 75-летний Рацер в камере скончался.
Что касается библиотеки Абрамова, то без хозяина она разлетелась, распылилась. Впрочем, на этом свете все рано или поздно кончается.
ВЛАДИМИРУ КУЗЬМИЧУ ПОПОВУ
За всю историю Российской империи это была, кажется, самая крупная кража. Случилась она в конце декабря 1916 года. Распутывать невиданно сложный клубок преступления взялся сам генерал А.Ф.Кошко.
Тонко звенели хрустальные бокалы, матово поблескивали серебрянные приборы, стол был заставлен батареей бутылок с дорогими коллекционными винами и разноцветными водками. Двое официантов ставили перед рослым, с орлиным профилем господином то нежно-розовую семгу, то смугло-телесный балык, то черную блестящую глыбу паюсной икры. В ресторане «Славанский базар» кутили напропалую, забыв о «сухом законе», принятом в начале войны.
— Че-к, желаю еще шампанского! Французского! — на весь громадный зал рыкал господин. — И мои дамы тоже весьма желают.
Две ярко намазанные девицы, сидевшие с господином, хихикали, прижимая ко рту ладошки.
Осушив очередной бокал, господин кричал:
— Маэстры, играйте мою любимую — «Золотые денечки».
Подойдя к эстраде, пошатнувшись и едва не опрокинув чей-то столик, он залез в бумажник и швырнул к ногам цыган пачку ассигнаций. Господин говорил с явным чухонским акцентом.
Цыган Сашка, блестя ярко-синими плисовыми штанами, заломил руки, зашелся в истоме:
Прошли золотые денечки, О молодость! Где же, где ты? Любовные страстные ночки, Остались одни лишь мечты…
Возле плюшевых портьер, что в дальнем углу, скромно сидели и наблюдали за господином два сереньких, незаметных человечка. Один из них был в поношенном сюртучке, низкого роста, с оттопыренными розовыми ушками. Лицо другого уродовал глубокий фиолетовый шрам — ото рта до уха.
— Ну, рванина! — со злобой проговорил первый. — Эко его корежит…
— Гуляет! — ощерился другой. — Пусть его, недолго осталось ему веселиться.
Тем временем господин вновь выскочил из-за стола и на потеху публике стал выделывать под музыку коленца, то ловко перебирая ногами, то приседая и выкрикивая:
— Ух я, ух я, вот и родина моя!
Вскоре с помощью официантов вконец опьяневшего гуляку водворили в его гостиничный номер, помещавшийся этажом выше ресторана.
Серенькие человечки расплатились и тихо покинули зал.
До развязки «грабежа века», как его окрестили газетчики, оставалось менее суток.
Недели за полторы до описываемых событий в Харькове случилось нечто невероятное. Когда после двух праздничных рождественских дней Директор банка пришел на службу, то остолбенел. В стальной комнате, где хранились все капиталы, пол был вскрыт, а три громадных сейфа были распилены и распаяны. Их недра, еще два дня назад набитые ценными бумагами на два с половиной миллиона и некоторым количеством наличных денег, зияли пустотой.
Рядом с сейфом валялись еще невиданные инструменты для взлома: замысловатые электрические пилы, банки с кислотами, газовые баллоны.
— Боже мой! — схватился директор за голову. — Подобного воровства еще не случалось. Скорее в полицию!
Прибывший на место преступления заместитель начальника Харьковского сыскного отделения полиции Лапсин установил, что воры проникли в банк, сделав подкоп с соседнего двора — там стоял дровяной сарай.
Сарай принадлежал кассиру банка, который лишь в это утро вернулся из деревни, где гостил у тещи. Кассир отрицал свою причастность к воровству. Местная полиция была в растерянности.
Газетчики с восторгом подхватили сенсацию. Сообщения о невиданной краже появились во многих газетах.
Именно из газет узнал о банковской краже император Николай Александрович. Всегда спокойный и доброжелательный, он на этот раз разгневался и накричал на министра внутренних дел:
— Это чудовищно! В тяжелые дни войны, когда каждый рубль должен быть на учете, каким-то негодяям вы позволяете украсть колоссальную сумму. Приказываю в кратчайший срок раскрыть это преступление и вернуть в казну похищенное! Пусть сам Кошко займется этим делом.
Через полчаса глывному сыщику России полетела по телеграфу шифрованная депеша.
Поезд весело стучал по рельсам. За окошком мелькали огоньки станций и полустанков. Ночь давно вызвездила небесную бесконечность холодными изумрудинками, но генерал Кошко не спал. Рядом с ним в комфортабельном купе международного вагона сидел громадного роста белокурый офицер — Ромуальд Викентьевич Линдер. Он говорил:
— У преступников было два дня, возможно, они уже за границей.
— Сомневаюсь! Им надо менять бумаги на наличные деньги, а это, принимая во внимание громадную сумму и военное время, можно сделать, лишь оставаясь в России.
— А воровство, признаюсь, ловкое!
— Очень хорошо подготовленное! — согласился генерал. — Все это похоже на так называемых варшавских воров: выбор крупного объекта кражи, использование дорогостоящих воровских инструментов. Вот почему я приказал вам, Ромуальд Викентьевич, отобрать десятка два фотографий самых знаменитых воров этой категории.
— Уверен: дело не обошлось без подкупа. Иначе как воры рассчитали подкоп с такой точностью, что угодили точно в середину стальной
комнаты? Кассир, конечно, причастен к этому делу. Он почти наверняка знал, что его посадят за решетку…
— Но сознательно шел на это. Сумма подкупа его соблазнила. Он высчитал, что преступников без его помощи нам не поймать. А у суда не будет достаточных улик на него. Вот почему кассир будет молчать.
— Аркадий Францевич, я всегда с восторгом слушаю вас — ваша логика потрясает! Что ж! Попытаемся обойтись без показаний кассира.
— Или еще лучше, перехитрим его и заставим говорить!
Сыщики уснули лишь на рассвете. Их ждали веселые денечки.
Допрос московские сыщики провели уже в первое утро по приезде в Харьков. Кассир оказался среднего роста человеком, отлично развитым физически. Он то и дело цитировал восточных мудрецов, Толстого, Достоевского, Ницше.
Кошко битых два часа убеждал кассира:
— Напрасно вы думаете, что сыд присяжных поверит, что вы ничего не знаете…
— Если бы генералы от полиции читали мудрого Саади, то они знали бы его завет: «Самые разумные слова — „я не знаю“. Приучай свой язык почаще говорить их».
— Э нет, не Саади ваш герой, а сказочник Андерсен. Его лавры не дают вам покоя. Но даже малые дети не поверят тому, что вы плетете.
— Например? — кассир заносчиво вскинул подбородок.
— В вашей просторной квартире две печки, которые вы регулярно топите. Оно и понятно — на дворе с первой декады декабря морозы трещат вовсю. Стало быть, вы регулярно пользовались сараем, где дрова лежат и откуда преступники подкоп вели.
— Я сделал большой домашний запас…
— Вот, дорогой счетный работник, вы и попались. Зачем было в дом тащить воз дров, коли в двух шагах от него сарай? Не пора ли нам вспомнить великого Толстого: «Ложь так замучает человека, так заставит страдать его, что свое спасение он найдет лишь в истине»? Тем более что у нас есть свидетели: в сарай вы ходили регулярно, носили туда набитые чем-то сумки. Наверное, провизией. Возвращались с несколькими поленами в руках и пустыми сумками.
Кассир прошипел:
— Ничего не знаю и говорить больше не буду. Хоть ремни из меня режьте!
И действительно, он больше не проронил на допросах ни звука.
Но уже близился день, когда бедный кассир вспомнит Фридриха Ницше: «Ревность — остроумнейшая страсть и тем не менее все еще величайшая глупость».
Линдер, молча сидевший при допросе кассира, от волнения и досады искуривший полкоробки «Бахры», повернулся к шефу, когда конвойные увели арестованного:
— Положение критическое! Молчание кассира ставит нас в тупик.
— Не падайте духом! Не могли ведь преступники чуть не месяц прожить в нетопленом сарае. Уже не лето! Надо проверить для начала все гостиницы…
Для операции привлекли с десяток местных агентов. Размножив фото, которые Кошко привез из Москвы, сыщики начали обходить гостиницы.
Удивительно, но самым везучим вновь оказался сам Кошко. В «Гранд-отеле» портье сразу же опознал несколько лиц, изображенных на фотографиях:
— Вот эти останавливались у нас в «люксе». — Порывшись в книгах записи, портье добавил: — Их фамилии Станислав Квятковский и Здислав Горошек.
Но дальше произошло нечто невероятное. Увидав фото кассира, портье зашелся в хохоте:
— Ой, умора, ой, не могу! Ведь этот господин-рогатый!
— Как это? — улыбнулся генерал.
— Ему жена рога наставила! Наш комнатный лакей Ляпишев был связным между супругой этого господина и постояльцем Квятковским. Он носил записочки — они писали друг другу, а мы, грешным делом, почитывали их и много смеялись.
Вызвали Ляпишева, шустрого, востроглазого лакея. Он подтвердил слова портье:
— Так точно, ваше превосходительство! Грех мой, это я распечатывал. Но уж очень уморно читать было. Постоялец называл дамочку «лапочкой», «земляничкой», «кухонной»…
— Не путай, — осадил лакея портье. — Не «кухонной», а коханой.
— Виноват, ошибся. Я им постель застилал, а он ей еще говорит: «Уехать бы, Мотя, с тобой в Талию!»
…Оказавшись на улице, генерал весело взглянул на Линдера:
— Сегодня же меняйте гостиницу, нам нельзя показывать, что знаем друг друга Мне пришла свежая мысль!
Читатель уже знаком с оригинальными и смелыми следственными ходами генерала Кошко. Вот и теперь, осуществляя «свежую мысль» шефа, Линдер направился к неверной супруге кассира. Его встретила полноватая дама лет тридцати, с обманчиво непорочным и чуть глуповатым выражением на круглом лице.
Линдер, неотразимый красавец, галантно расшаркался, приложился к ее ручке и томно заглянул в выпуклые светлые глаза:
— Ах, как я его понимаю, как я очень его понимаю!
— Вы, пан, об ком изволите намекать?
— Да будь у меня копи царя Соломона или все золото мира, я все поверг бы к ногам такой прелестной особы! А говорю я о своем закадычном друге пане Квятковском. Он мне все уши прожжужал о вас.
— Нет, я не знакома со Станиславом.
— Ха-ха! Вот вы и проговорились. Если не знаете Квятковского, откуда вам известно его имя? Но Стас был прав, когда просил соблюдать конспирацию. Слишком серьезное дело он провернул вместе с вашим мужем. А как Стас томится без вас! Он сказал мне: «Веришь, отдал бы миллион, только бы оказаться с моей лапочкой, с моей коханой Мотей где-нибудь в Италии!»
— Ах, правда! А я боялась, что вы меня дурите. Где он сейчас?
— Страстно любя и доверяя вам безмерно, Стае все же просил ради пользы дела пока не называть его адреса. Конспирация.
— Разумею!
— Но пусть в разлуке служит вам, Матильда Ивановна, утешением вот это, — Линдер протянул фото Квятковского, хранившееся в архиве полиции и теперь наклеенное на красивое паспарту: «Ателье В. Чеховского. Москва, Неглинная,5».
Хозяйка срывающимся от волнения голосом прочитала: «Моей коханой Моте от любящего Стаса». Полицейский умелец ловко подделал почерк Квятковского.
— Какое счастье! — Матильда Ивановна прильнула пухлым ртом к фото. — Скажите ему, что я до гроба буду верна… Давайте вместе покушаем.
За обедом Линдер словно невзначай предложил:
— Кстати, вы можете сами написать Стасу. Я очень скоро надеюсь встретиться с ним.
Усевшись за секретер, она написала на своем фото, тщательно выводя слова: «Мой нежный котеночек! Я вся истомилася. Скорее приезжай, пока мужа не выпустили из тюрьмы Целую 100 тысяч раз».
И вновь кассир предстал перед генералом, и вновь его непоколебимый вид говорил о решении: «Молчать!»
— Ваша твердость вызывает уважение, — сочувственно произнес генерал. — К сожалению, вас предают те, ради кого вы идете на каторгу. Вы, конечно, знаете почерк вашей супруги. Извольте тогда взглянуть на это фото!
Кассир впился взглядом в знакомый почерк. Лицо его налилось кровью, дыхание стало прерывистым:
— Ну, мерзавец, держись! Теперь твоей любовницей будет тюремная крыса. Скорее арестуйте их всех! Они сейчас в Москве, на Переяславской улице, дом номер 14.
— Ценные бумаги при них?
— Вряд ли! Где-нибудь припрятали. Квятковский хитер. Ему нужно обменять бумаги на деньги. С этой целью я должен послать к нему своего знакомого из Гельсингфорса — некоего Хамиляйнена. Но за рекомендательным письмом он должен приехать ко мне в Харьков.
— Они знают его в лицо?
— Нет! Пусть я погибну, но и этого мерзавца упеку за решетку.
…Человек с орлиным профилем занял место в купе экспресса, несшегося к Москве. В его кармане лежало рекомендательное письмо. В старой столице ловкие мастера уже изготавливали на имя Хамиляйнена паспорт. Натуральный Хамиляйнен, шедший на квартиру кассира, туда не попал — он был арестован на улице.
Наступали решительные события,
Утром другого дня рослый мужчина в богатой енотовой шубе звонил в дом по Переяславской улице. Дверь чуть-чуть приоткрылась. На гостя уставился настороженный взгляд субретки.
— Я маклер из Гельсингфорса. Вот моя визитная карточка, — незнакомец говорил с сильным чухонским акцентом.
— Господ нет дома. Приходите завтра в полдень.
Потоптавшись в нерешительности на пороге, приезжий сел в ожидавшие его сани и покатил в сторону Каланчевки. Он сразу же заметил, что за ним следуют легкие саночки, запряженные рысаком. У Красных ворот гость зашел в ювелирный магазин, долго рассматривал товар, выбрал себе дорогую солонку с эмалью — работу самого Фаберже — и последовал дальше, к гостинице «Славянский базар».
Слежка продолжалась.
Ближе к вечеру человек, поселившийся в гостинице под фамилией Хамиляйнен, позвал комнатного лакея, доверительно спросил:
— А как у вас, братец, насчет… ну, этого? Лакей понимающе хихикнул:
— Это вы о сладеньком? Как же, есть мамзели первый сорт. Всяческое обхождение знают. Одна имеется прямо из ниверситета.
— Пришли, братец, ко мне какую посисястей да побрюнетистей — это когда я в ресторан пойду. Хочу сегодня разгул своей натуре сделать. И, черт с ней, пришли эту самую тоже — из университета.
Читателю уже знакома картина этой гульбы — с российским размахом и чухонским акцентом.
Когда две девицы с помошью официантов провожали гулену в номер, то одна из них — та, которая «из ниверситета»,-ловко отстегнула и спрятала за лиф массивные золотые часы купца.
Все это не помешало в 12 часов следующего дня побритому и благоухающему «Тройным» одеколоном фирмы «А. Ралле и К°» по 3 рубля 40 копеек за флакон гостю вновь явиться в дом на Переяславской улице. На этот раз его ожидали двое — Квятковский и Горогаек. Он протянул рекомендательное письмо и бодро доложил:
— Только вчера из Харькова. Три раза обедал у кассира. Матильда Ивановна готовит превосходный борщ. — И лукаво подмигнул Квятковско-му: — И очень ждет вас, пан, на трапезу. Прелестная пани!
Квятковский радостно улыбнулся. Теперь он поверил, что перед ним «неподдельный» посыльный.
Стали пить коньяк с кофе и торговаться. Договорились, что гость за два с половиной миллиона ценных бумаг выложит 1 200 000 наличными.
— Где гарантия, что вы найдете столь колоссальную сумму? — воры испытующе уперлись взглядами в гостя.
Гость молчал. Он отлично понимал, что полиции негде взять такую уйму денег наличных денег. Потом он деликатно улыбнулся:
— Не стоит беспокоиться! Завтра я представлю такие гарантий.
…Весьма озабоченный гость покинул воровской притон.

Прибыв в гостиницу, Линдер тут же протелефонировал Кошко.
— Не кручинься, дорогой Ромуальд Викентаевич! — утешил генерал. — Завтра пришлю с утра посыльного, он передаст письменную программу действий.
Минут десять-пятнадцать Кошко сидел за столом, обхватив голову руками, и, как шахматист над партией, тщательно обдумывал следующие ходы в игре с коварными и опасными противниками. В отличие от шахмат здесь ставка была велика — он рисковал жизнью одного из лучших своих сотрудников и двумя с половиной миллионами рублей.
Наконец он вышел к дежурному офицеру:
— Авто к подъезду!
И далее начались трюки, вполне достойные ученика сыщика «всех времен» Ивана Путилина. Кошко помчался на Старую Басманную, 20. Тут помещалась телеграфная контора. Он уединился со своим старым приятелем Григорьевым, заведовавшим конторой:
— Выручай, братец! Завтра примешь телеграмму в Гельсингфорсское отделение Лионского кредита с требованием перевода миллиона двухсот тысяч рублей. Сумма запоминающаяся! Так ты телеграмму прими, но не отправляй…
Далее генерал вернулся в свой кабинет и набросал на бумаге план действий. Еще через час, испуская тонкий аромат модных духов «Вера-Виолет» (7рублей 50 копеек за флакон), роскошная дама явилась в номер к Линдеру. Последний тут же потребовал шампанского и фруктов. До полуночи из его номера неслись громкие тосты, игра на фортепьяно и пение. Потом, нетвердо ступая по коврам, постоялец вывел даму на Никольскую, крикнул извозчика, швырнул ему червонец, и тот даму умчал.
В кармане Линдера лежало послание генерала.
…Утром он вновь покатил на Переяславскую. Отсюда вместе с Квятковским отправились в ближайшее почтово-телеграфное отделение на Старой Басманной. Седовласый чиновник принял от них текст телеграммы в Гельсингфорс: «Снимите со счета Хамиляйнена и переведите на его имя в Волжске-Камское отделение Москвы 1 200 000 рублей. Об исполнении срочно сообщите: Москва, Переяславская, 14».
Через час на почте появился сам генерал. Григорьев любезно отстучал на ленте текст ответа: «Деньги согласно требованию высланы». Лента была тут же наклеена на бланк, помечены место отправления — Гельссингфорс — и время.
Ранним утром следующего дня, когда обитатели дома № 14 по Переяславской улице еще спали, снизу позвонил почтальон (его роль исполнил сыщик Потапов). Под расписку он вручил телеграмму и получил за свой труд трешник.
Теперь дело оставалось лишь за звонком Квят-ковского в «Славянский базар». Прошло утро, уже и день клонился к вечеру — телефон молчал. Кошко получил сообщение от агента, что в дом на Переяславской вошел низкорослый человек, известный в уголовном мире Санька Бабрекин, по прозвищу Писарь. За ним числилось множество тяжких преступлений, в том числе убийств.
Линдер изнемогал в неизвестности. Ночью он почти не спал, как и генерал. Появилась опасность, что воры продолжают проверять личность Хамиляйнена.
В 10 утра в кабинете генерала зазвонил телефон. Линдер упавшим голосом сообщил:
— Аркадий Францевич, звонил Квятковский. Предложил, чтобы я сегодня получил в банке деньги, а завтра ровно в два он ждет меня «для окончания дела». Боюсь, как бы они и со мной заодно не кончили. Деньги громадные, а им, видать, море по колено.
— Внеочередной чин дешево не дается, — бодро сказал генерал. — Крепитесь и действуйте согласно инструкции.
Ровно в 12.00 Линдер вышел из «Славянского базара». Внизу скучал лихач. Линдер вспрыгнул на сиденье. Возница тронул лошадей — путь лежал всего лишь на соседнюю улицу — Ильинку, 8. Здесь находилось Московское отделение Волж-ско-Камского банка. Линдер демонстративно размахивал потрфелем, который был, очевидно, пуст. Вышел он из банка спустя час, сжимая обеими руками тяжело нагруженный портфель. Опасливо озираясь, он сел в свои саночки и покатил через Мясницкую в сторону Переяславской.
Когда он проезжал возле арки Красных ворот, то его догнал возок. Закутавшись в медвежью полость, там сидел улыбавшийся Квятковский:
— Садитесь, пан Хамиляйнен, ко мне!
Вздохнув, Линдер пересел, но приказал своему извозчику:
— Поезжай за нами! И не отставай… Квятковский был в благодушном расположении духа. Он признался:
— А ведь мы все время следили за вами! Не обижайтесь — дело серьезное, а генерал Кошко — лисица хитрющая.
— Вы правы! Вот и мой извозчик будет ждать меня на Переяславской ровно два часа. Если я не выйду, он отправится за полицией.
Лицо Квятковского свела судорога. Он кисло ухмыльнулся:
— Вот это совсем лишнее!
Линдер, подъезжая к дому № 14 по Переяславской, сразу же заметил на ней оживление. Четыре здоровых дворника скалывали лед. Газетчик заунывно тянул: «Мо-ско-вские веломо-ости»! Татарин с узлом на спине выкрикивал: «Старье берем! Старье берем!» Вдоль улицы стояло несколько извозчиков. На душе потеплело. Сыщик понял: операция подготовлена серьезно.
…Линдера ввели в гостиную. В глубоком кресле, что стояло возле окна, сыщик сразу же разглядел мужичишку с оттопыренными ушками и идиотским выражением лица. Линдер узнал хорошо знакомую по полицейским снимкам физиономию Саньки Бабрекина. Этот безжалостный убийца-садист получил кликуху Писарь за то, что, сидя в камере, сочинял всякую чушь и небылицы про «изячную жизнь» и полагал себя великим писателем.
Линдер раскрыл портфель: он был набит «куклами», но бандюги, на его счастье, приняли их за пачки крупных купюр.
Сдвинули два ломберных столика и высыпали на них процентные бумаги. Линдер тшательно их сосчитал. Прошло более часа. Вдруг Линдер зашелся в жестоком кашле. Он обшаривал карманы:
— Господи, где мой платок? Гх-гх! Наверное, в пальто забыл. Ох, гх-гх!
Он медленно вышел в переднюю, оглянулся — воры остались в комнате. Тогда он подскочил к дверям, пытаясь отодвинуть массивную медную задвижку. Наконец, резко стукнув, она поддалась.
Он вновь заспешил в гостиную, вытирая уста. И вдруг, хлопнув в ладоши, воскликнул:
— Как бы мой дурак и впрямь не отправился в полицию!
Он подошел к окну и, как было договорено с генералом, постучал пальцем в замерзшее окно, сделал строгий знак извозчику. Боковым зрением он увидал, что Квятковский подал какой-то сигнал Бабрекину. Тот потянул руку за спинку кресла, и в его руке блеснул топор.
Не спуская глаз с убийцы, Линдер прошел на свое место. Спокойно улыбнувшись, он предложил:
— А может, выпьем кофе? Квятковский, прежде настойчиво предлагавший кофе, прямо-таки расцвел:
— Правильно, по чашечке! Я сам приготовлю, — и подмигнул Бабрекину.
В этот момент двери в прихожей с грохотом распахнулись. В гостиную ворвались сыщики. Возглавлял их гигант атлет из Питера Каллистра-тов:
— Руки вверх! — заорал он страшным голосом, и хрустальные подвески на люстре жалобно зазвенели.
Преступники были так ошеломлены, что сдались без единого выстрела.
Было следствие. Преступники признались, что хотели убить «маклера из Гельсингфорса: „Не отдавать же своими руками миллион!“
Если бы Линдер не стал пить отравленный кофе, то жизни его лишили бы с помощью топора. Сумели бы разделаться и с кучером, прежде чем он поехал в полицию. Подобная же участь ожидала и кассира: «Не делиться же с ним капиталом!»
«Ниверситетской» девице пришлось вернуть в полицию золотые часы. Линдер ей объяснил: «Казенное брать стыдно!» — «Откуда я знала, — огрызнулась та. — Ведь вы были как натуральный купец!»
Генерал получил благодарность императора, а Линцер — внеочередной чин.
Но все переменилось после марта 1917 года. Преступники были выпущены на свободу, генерал отстранен от всех должностей, а Линдера за неведомые прегрешения посадили за решетку.
В 1918 году генерал бежал от большевиков в Киев, к Скоропадскому. Гетмана вскоре сме нил Симон Петлюра, а последнего — больше вики.
Генерал, живший под чужой фамилией, однажды шел по Крещатику и столкнулся со старыми знакомцами — Квятковским и Горошеком
Они узнали его:
— Не бойтесь, не выдадим! Мы сами ненавидим большевиков!
'И, сочувственно посмотрев на его потрепанную одежду предложили:
— Господин генерал, давайте мы дадим вам в долг денег…
Линдера вскоре выпустили из тюрьмы. Он бежал в Варшаву, где занялся коммерцией. Вот они, превратности судьбы!
АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВИЧУ БЕЛОВУ
Эта история началась в феврале 1921 года и закончилась в мае 1923 года, В свое время она наделала много шума. О ней много писали газетчики. В Центральном музее Министерства внутренних дел, что на Селезневской улице в Москве, ей посвящен целый стенд. Среди других экспонатов орудие преступления — увесистый сапожный молоток на круглой, потемневшей от крови и грязи ручке. Еще живут старики, которые помныт громкий процесс над «охотником за людьми» — именно так окрестили «главного потрошителя XXвека».
Бывший взводный командир Красной гвардии 54-летний Комаров проснулся со страшной головной болью. Эти боли последнее время жестоко преследовали его и отравляли жизнь. Нынче Комаров трудился извозчиком в солидной организации — Центральном управлении по эвакуации населения (Центроэвак). Это было одно из подразделений Наркомата внутренних дел, где наркомом был сам товарищ Дзержинский Ф. Э.
Соратник Железного Феликса по ломовой части глядел в грязный потолок и мучительно пытался вспомнить: где и как провел вчерашний вечер?
Постепенно в его памяти стали всплывать, как мутные, неясные картины, прошедшие события. Утром он спер у своего товарища по Центроэваку новую ременную сбрую. Пока тот не хватился пропажи, Комаров бросил на сани пять мешков торфа и отвез их по разнарядке в правление Ав-топромторга, что в доме № 15 по Каретному ряду. На возвратном пути, нещадно хлеща лошадь, за буханку ржаного подвез попутную старуху к Брест-Литовскому вокзалу. Затем вкатил в конный ряд Смоленского рынка.
Прибыл он вовремя. Какой-то невзрачный мужичок в залатанном зипуне купил у известного барышника-цыгана Гришки мерина. Мерин был древний, со съеденными зубами, с выбитым правым глазом. Цыган чем-то напоил мерина или еще чего сделал, но. тот выглядел неестественно бодро, переступал копытами и разок даже вдруг весело взбрыкнул. Получив деньги, цыган тут же куда-то смылся.
Мужик, видать, был бестолковый, ибо такого дохлого коняку можно лишь на бойню тащить, а для работы он никак не годится. Но мужик погнался за дешевизной. Теперь он прилаживал к покупке старую веревочную упряжь.
Комаров весело подмигнул мужику и ощерился:
— Рваная сбруя все равно, что мужик без… Возьми мою — смотри, прямо царская! Отдам задарма!
Тут же хлопнули по рукам. Комаров предложил:
— Чтоб твой вороной хорошо работал, обмыть покупку следует. Кабак как смерть — никак его не миновать!
Мужик согласно кивнул головой. У него от покупок еще оставались хорошие деньги. Часть их он решил пропить. Пошли в кабак, крепко выпили. Потом вместе отправились в Центроэвак. Комаров сказался больным.
— Иди лечись, — сказала начальница Роза Ра-дек, сестренка замечательного большевика Карла Радека. — Но в понедельник непременно приходи — у нас закрытое партийное собрание.
Поставив лошадь в стойло, Комаров с новым знакомым отправился в табачный магазин. Здесь он поменял буханку хлеба на махорку и ловко спер у какого-то господина с портфелем новые кожаные перчатки. Потом они пошли в пивную, где долго гуляли.
Мужик понравился Комарову своей молчаливостью, а также податливостью нрава. Комаров вопреки привычке стал много говорить о себе:
— Родился я в доме матери моей Фриды Ловжанской, а по паспорту у меня фамилия Петров-Комаров. Это когдаденикинцы в плен взяли, я назвался Петровым. Потому как за себя опасался. Я ведь мно-ого ихнего брата на тот свет отправил. Как, бывало, белые сдаются, мы их для начала допросим, а то и без допросу революционные меры осуществляем. Завсегда меня командир назначал исполнителем. «Ты, — говорит, — преданный идеям интернационализму. И к тому же партейный. Возьми кого в помощь и пусти в расход классовых врагов».
А на кой хрен мне помощь? Я и сам справлюсь, враги, вить, связанные, не убегут и сдачи не дадут. Раз — и квас! Пойду, стакан — хлобысть, а потом и пальну всех, да в карманы посмотрю, не осталось ли чего. Бывало, находил табак или деньги. Веришь, земляк, раз у офицера серебряные часы обнаружил. Наши дураки проглядели. А мне счастье привалило. Пропил я их, часы-то.
С той поры я завсегда, как выпью, или особенно с похмелья убить кого-нибудь страсть как хочется!
Думал, деникинцы меня тоже «разменяют». Ан нет, у них другая бухгалтерия — буржуазная. Командир ихний, такой молодой, усатый, все граммофон заводил, музыку слушал, говорит:
«Пусть этот красный живет! Его, должно быть, силком воевать взяли…»
«Так точно, господин поручик, я не идейный, я силком взятый!» — отвечаю ему. А сам думаю: «Хрен с два! Я сам в ноябре семнадцатого добровольцем пошел. Бить хотелось вас, богатеев и буржуев! Потому как — ненавижу тех, кто гимназии кончал и лощеный ходит, кто на фортупьянах играет».
Ну и оставили. Я дрова колол и печку поручику (евонная фамилия Семенов) топил. Он меня папиросами «Бахра» угощал. Эх, нежны! Весь век так жил бы, да опять перемена сыдьбы вышла.
Наши ночью внезапно атаковали, пленных набрали, и поручик Семенов попался. Вывели за избу, к стене приставили, а поручик босой стоит, сапоги уже на мне сияют — хороши сапоги! Вытаращил на меня глазищи, сплюнул так гордо и шипит:
«Чернь поганая!»
Я ему и вкатал в лоб за эту «чернь», мозги на бревна избяные и полетели.
Мужик лишь охал да сочувственно кивал головой, не перебивая. Это нравилось рассказчику. Он, опорожнив еще полстакана водки, продолжал:
— Ты, душа темная, того не понимаешь, что когда жизни другого решаешь, то сам себя царем и богом чувствуешь. Вот, мол, ты возле граммофона музыку могишь понимать, тебя во всяких гимназиях учили и по-всякому шлифовали, а я тебе своею силою теперь предел буду ставить. Такая во мне воля, и никуды от нее ты не денешься!
Меня командование за храбрость грамотой и именным револьвером отличило. Грамота дома на стене висит. Хочешь, посмотрим? К бабе спешишь? Ну давай. Где револьвер? Пропил и об этом люто жалею. Потому как в жизни вешь полезная. Ну, прощевай, мужик. На лошадь тебя цыган надул, а сбрую тебе я задарма отдал. Я вообще добрый. Вот свим ребятишкам — они у меня еще мальцы, леденцов кулек несу.
Мужик поплелся в ночную тьму. На Калужской заставе было темно и тихо. Лишь редкие огоньки желтовато светились в окнах. У Комарова вдруг появилась шальная мысль. Задумчиво покусывая ногти, он размышлял: «Чего же я его отпустил? У мужика ведь деньжата остались. Да сбруя новая, да одра можно продать. Дать ему по черепу камнем, а там — раз и квас! Иди, ищи ветра в поле! Да никто искать и не станет. Кому он, этот пролетарий нужен!»
Но из проулка вдруг вывалилась компания, горланившая под гармонь песни. Они пошли в том же направлении, что и мужик, — к центру Москвы,. где огней, прохожих и милиции хватает.
— Ну ладно, знать, не судьба! — Комаров махнул рукой и побрел к себе — на Шаболовку в дом № 26.
…Теперь, лежа в постели, он тяжело ворочал мозгами: «Эх, надо было мужика вчера пристукнуть! Дня три, а то и четыре пил бы вино, ребятам купил бы свистульки — давно, подлецы, просят. Да-с, большой капиталец мужик унес!»
Еще полежал, еще подумал, решил: «Да что, на энтом мужике свет клином сошелся? Авось пошлет кого черт мне на счастье!»
С трудом поднялся и, пошатываясь, подошел к крашеному шкафу, стоявшему у стены. Он знал, что жена здесь прячет денатурат, которым разогревает примус. Комаров порылся на нижней полке в правом углу. Среди газет и какого-то тряпичного хлама нашел трехфунтовую банку неразбавленного денатурата. Он начал жадно пить отвратительно пахнущую, шибающую в нос жидкость. На тощей волосатой шее резво заходил кадык — вверх-вниз.
Голову чуть отпустило, боль в висках уменьшилась.
Он вспомнил, что жена с детьми на два дня уехала в Подольск к своей сестре. «Так-то будет лучше!» — вздохнул Комаров, решивший, что сегодня он пойдет на отчаянное дело.
Натянув длинные хромовые сапоги, весело скрипевшие при каждом шаге, надев засаленный, видавший виды полушубок с прожженной полой, Комаров потащился к соседу по фамилии Андреев и попросил:
— Василий Макарыч, дай на бутылку! Нынче же отдам, провалиться мне на этом месте.
Андреев, до революции владевший многими домами, люто ненавидел эту рвань, сломавшую его прежнюю жизнь. Ненавидел и боялся, поэтому деньги вынес.
Спрятав ассигнации за пазуху, Комаров зашагал на Смоленский рынок.
— Егор, хватит волынку тянуть, иди запрягай! — так говорил старик Васильев своему сыну, собравшемуся в Москву покупать лошадь. Сын Егор был тридцатилетний, крепкий в плечах мужик хорошего роста, с густыми белокурыми волосами и ярко-синими глазами. — До города меньше чем за два часа не доедешь, а надо бы пораньше на базар попасть.
Хозяйство Васильевых в деревушке Павловке сбыло самым крепким. В большом доме мужиков-работников всего двое — сам старик, еще крепкий 60-летний мужик, да сын Егор. Жена Егора Настасья родила троих сыновей, старшему из которых на Крещение исполнилось девять лет и который уже с охотой помогал родителям в хозяйстве.
Когда большевики захватили власть, то дом несколько раз грабили. Выносили все до последней курицы, до последнего зернышка. Казалось, ни сеять, ни жать будет нечего. Но Бог миловал, как-то выкручивались и сеяли вовремя, и урожаи были всем соседям на зависть.
Посильно помогал младший брательник старика Васильева — Захар, занимавший в Чаеуправлении на Мясницкой важный пост. Оклад у него был большой, дом на Ордынке богатый. Братья жили дружно, часто навещая друг друга.
Вот и нынче старик Васильев собирался ехать вместе с Егором покупать лошадь, да Захар вдруг известил телеграммой, что едет к нему. Стало быть, надо Захара принять и угостить и поговорить о жизни, о новых порядках, о ценах на продукты и мануфактуру.
— Поезжай, Егор, один, не оплошай только, лошадь бери крепкую и смирную, — наставлял отец. Но разговор этот был лишь для порядка. Егор воевал с германцами в кавалерии, был отмечен солдатским крестом за храбрость, а в лошадях разбирался досконально. Кинув беглый взгляд на лошадь, по ее стати мог определить Егор ее достоинства и недостатки, сказать про норов, сделать верные предположения о возрасте и силе.
— Иду, батя! — Егор, как всегда веселый и исполнительный, улыбнулся отцу, пошел в сарай, чуть косолапя крепкими, обутыми в новые валенки ногами. Он снял с гвоздя тяжелую ременную с кистью узду и пошел запрягать единственную оставшуюся после революционного разорения в хозяйстве лошадь Ромашку. Теперь к посевной решили прикупить еще одну, ибо одной лошадью обходиться ненадежно.
Егор надел на лошадь хомут, засупонил, приладил к оглоблям легкую крашеную дугу.
Тем временем Настасья заботливо уминала в легких беговых санях свежеобмолоченную овсяную солому, постелила на нее дерюжку, сверху прикрыв веретьем, подтыкая его со всех сторон.
— Вот теперь, Егорушка, тебе способно будет ехать! — говорила она, ласково поглядывая на мужа.
Егор обнял жену, потрепал по щекам выбежавших провожать сыновей, принял благословение отца и пошел к саням. На Егоре был крытый овчинный тулуп, который он сильно перетянул кушаком.
— Батя, купи пряников! — кричали дети. — И леденчиков привези.
Егор улыбнулся, согласно кивнул. Он уселся на облучок и тронул умную и сильную лошадь, нетерпеливо переступавшую ногами и просившую хода.
Дорога была наезженной, солнце светило вовсю, так что трудно было глядеть. Ромашка весело бежала в город по набитой дороге, обгоняя седоков и пешеходов.
До десятого съезда большевистской партии, поставившего Россию на рельсы нэпа, оставались считанные деньки — он начнется в марте 1921 года в Москве.
Но приближение новых времен уже чувствовалось вовсю. И главными их показателями стали рынки. Еще в начале зимы они удручали пустыми рядами. Теперь же, едва милиция перестала конфисковывать у торговцев товары, их изобилие выплеснулось на московские базары и толкучки.
Смоленский рынок во всех путеводителях назывался «Большим». И он действительно был таким, занимая громадную площадь, вмещавшую прорву всякого народа — от честных и наивных крестьян до уголовников всех мастей, шулеров, проституток.
Егор не мог миновать это торжище, ибо оно как раз лежало на въезде в Москву со стороны Можайской дороги. Задрав голову, Егор читал громадный рекламный транспарант, висевший на стене трехэтажного дома:
Большой Смоленский рынок Широкий выбор всего необходимого для провинции,
деревни и местной публики!
МАНУФАКТУРА. ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ. ПРЯЖА. МОСКАТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ.
МЕХОВЫЕ ТОВАРЫ. ПРОДОВОЛЬСТВИЕ — МЯСНЫЕ ТОВАРЫ -
РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ. МАСЛО. ОБУВЬ. КОЖА. ПОСУДА. МЕБЕЛЬ.
САЛО. МУКА. КОСМЕТИКА. ЧАСЫ. ПИСЧЕБУМАЖНЫЕ И КАНЦЕЛЯРСКИЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ. КОНДИТЕРСКИЕ ТОВАРЫ и т.п.
Торговля ежедневно, не исключая праздников. Трамваи Б, 5,4,17
Егора интересовало как раз то, что было под этими буквами — «и т.п.». А под ними скрывалось множество различных вещей — от золота и ворованных бриллиантов до лошадей. Вот в конный ряд, с трудом правя лошадью в толпе, Егор и проехал. Здесь торговля была весьма скучной. Еще сказывались недавние войны, когда половину конского поголовья забрали на мировую, а оставшееся сильно пострадало от гражданской или было просто съедено во время голодовок. К тому же близилась посевная, а крестьянин в такое время лошадь не продаст ни за какие деньги, если только не вынудят особые обстоятельства — пожар или другое страшное бедствие.
Цыган опять откуда-то привел древнюю кобылу, которая так и норовила лечь от слабости прямо на снег. Еще два-три человека предлагали старых лошадей, годных лишь для живодерни.
Егор поспрашивал, поинтересовался, на каких рынках лошадиныя торговля нынче идет лучше. Цыган, убедившись, что мужик этот в лошадях разбирается хорошо и клячу не купит, послал его на Сухаревку, но добавил:
— Вряд ли чего найдешь, если только втридорога…
Егор, жалея, что понапрасну промучил Ромашку дальней дорогой, понуро направился с рынка. Он решил возвращаться восвояси.
Вдруг тощий мужик, с испитым лицом, бесцветно-голубыми глазками, щеголявший отличными хромовыми сапогами, спросил Егора:
— Это какой же породы лошадка будет? Уж очень чистая масть — и красавица!
Егору похвала была приятна. Нехорошее чувство, возникшее при первом взгляде на этого прощелыгу, сменилось доброжелательным.
— Отец Ромашки — прекрасный ахалтекинский жеребец, это наш барин сам выводил. От отца у Ромашки длинные сильные ноги и резвый бег.
— А в работе как?
— Старательная лошадка, да приехал купить еще одну…
— С коняками сейчас плохо. Ежели что отдают, так кости да шкуру.
Помолчали. Закурили — каждый свое. Комаров вдруг задумчиво сказал:
— Ну что, парень, на ловца и зверь бежит? Хочу я отличного жеребца отдать. Я, вить, извозом теперь занимаюсь в казенном учреждении. У меня и лошадь теперь государственная. А жеребец — истинно картина, владимирских кровей! Трехлетка! Черт в упряжке, а не конь!
— Куда уж лучше! — заинтересовался Егор. — А чего хочешь?
— Договоримся, главное — в хорошие руки.
— Тогда садись, куда везти?
— Двигай к Калужской заставе, На Шаболовке живу. У меня свой домик, кобылка там стоит.
— Тпрру! — Егор сдержал Ромашку. — Ты, мужик, чего темнишь? То говорил, что жеребец-трехлетка, а теперь — «кобылка«! Слезай…
— Жеребец и есть! Кобылу сосед хочет продавать. Андреев Василий Макарыч — слыхал такого? Напрасно, что не слыхал. Четырьмя домами на Шаболовке владел, а нынче лишь в одном зацепился — номер 25. Советская власть потеснила. Богатый человек. Я дружу с ним. Сегодня утром вместе чай пили. Не глянется мой жеребец, у Андреева сторгуемся. Стой возле лавки, бутылку пойду куплю. Тебя угощу, а там раз — и квас!
— Я не пью.
— Те пьют, которым нальют.
…Через минуту они ехали к Калужской заставе.
Дорога от Смоленского рынка до Шаболовки недолгая. Комаров успел хлебнуть из купленной поллитровки с «белым горлышком» (водка повышенного качества, горлышко которой заливалось светлым сургучом; обычную заливали красно-коричневым). Комаров опять стал разговорчивым, даже почувствовал к Егору особого рода расположение.
— Эх, парень, коли бы ты мою жизнь знал — заплакал бы! — говорил Комаров, развалясь в санях. — Сам я из витебских. Отец мой алкашик. Меня заделал в 55 лет. С 12 лет я на помещика горбился — туфли евонные чистил и газеты в постель подавал. С 15 лет пить по-черному начал, да еще тогда же меня кухарка кое-чему научила, — Комаров захихикал, показав мелкие гнилые зубы. — Так с той поры и пью — ежедневно.
Помолчал, с задором добавил:
— Пьяный да умный — дьяк думный! Так, парень?
Егор чувствовал себя рядом с этим человеком явно не в своей тарелке. Словно что-то тяжелое и гнетущее наваливалось на него.
Оба замолчали и до самого дома больше не разговаривали.
Выкатили на Шаболовку. Около дома под! № 26 Комаров приказал:
— Стой, прибыли! — и двинул вихляющей походкой открывать ворота. Вошел через калитку во двор, загремел засовами, распахнул ворота, скомандовал:
— Станови лошадь сюды под навес! Дом этот советская власть мне предоставила — как бойцу и партийцу. В мирное время здеся купец Кириков проживал. А теперь — мое, потому как я воевал за трудящих…
Двор был широкий, заваленный какими-то ржавыми железками и битыми бутылками. За высокой оградой — тишина и ни души.
— Где жеребец? — поинтересовался Егор.
— Там, в сарае! — неопределенно махнул рукой Комаров. — Обычай дорогой — выпить по другой. Давай, парень, долопаем бутылку, и тогда продам тебе коня. Поезжай на нем хоть на тот свет, — и Комаров вновь было захихикал, но зашелся в нервическом кашле, и его вырвало на снег чем-то зеленым.
Комаров утер рот рукавом, просипел:
— У меня на жеребца пачпорт есть, там вся его родословная прописана! Прямо царской фумилии.
Вошли в дом. В помещениях — сумрак и сырость. В угловой комнате в правом углу висели две потемневшие иконы. Рядом на стене четыре пустые рамки. Под рамками — кровать, на которой лежали грязные, все в пятнах, перины. Возле окна — стол, застланный скатертью и заваленный какими-то огрызками.
Когда они распахнули дверь, со стола с визгом проворно соскочила на пол громадныя жирная крыса.
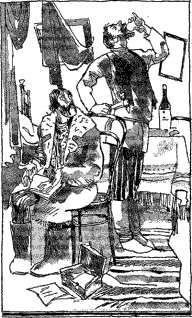
— Садись, мужик, сюды! — Комаров рукавом смахнул на пол объедки. — Страсть как выпить хочется.
Он вылил в стоявшие на столе грязные стаканы из бутылки остаток водки и торопливо осушил свой. Егор пить отказался. Он спросил:
— Где паспорт?
— Это сичас! — засуетился Комаров. Он с жадностью опрокинул в себя содержимое стакана, брезгливо отодвинутое Егором. Счастливо рыгнул и полез в большой ящик, набитый какими-то бланками, журналами, газетами, бумагами. Достал целый ворох и положил на стол перед Егором. — Накось, разберись, тут где-то. Я без очков не вижу.
Егор, сидя лицом к окну, с недоумением стал перебирать бумаги. Комаров достал загодя приготовленный молоток, подошел сзади, коротко взмахнул и с силой ударил Егора по лбу. Тот обмяк.
Комаров вытащил из-под перины удавку, накинул на шею Егора и долго сдавливал трепетавшее под его руками тело. Затем еще теплый труп ловко раздел (пригодился опыт времен гражданской войны).
После этого начал связывать мертвое тело под размер мешка. Комаров аж весь взмок, пока управился с делом. На всю операцию ушло полчаса. В дальнейшем он успевал, по собственному признанию, в два раза быстрее.
Ночью, взвалив труп на плечи, тщедушный пропитой Комаров сумел оттащить его в подвал соседнего, заброшенного дома № 24, принадлежавшего до революции неким Смирновым, родственникам винозаводчика.
Этим убийством Комаров начал серию кошмарных преступлений, взбудораживших всю Москву.
…Напрасно в доме Васильевых ждали Егора, напрасно Настасья и дети лили слезы. О жуткой судьбе отца они узнают только два с лишним года спустя, когда Комаров будет пойман. Старик умрет еще раньше. Вдова с тремя малолетними детьми вконец разорится.
«Первое преступление было совершено в феврале 1921 года. За 1921 год Петровым-Комаровым было убито 17 человек. С конца декабря 1922 года по время ареста 19 мая 1923 года — 6 человек. 15 трупов были брошены в полуразрушенном помещении в Конном переулке и в доме № 24 на Шаболовке… 6 зарыты во владении Орлова на Шаболовке. Позднее, обзаведясь собственной лошадью, Петров-Комаров увозил трупы и сбрасывал их в разных местах набережной Москвы-реки и в каналах. На суде Петров-Комаров обнаружил полное равнодушие к содеянному: спокойно описывая все детали преступления, он заявил, что, если бы ему еще 60 человек привалило, он бы и их убил и употребил выражение „а там раз, и квас“.
За преднамеренное убийство 29 человек суд приговорил Петрова-Комарова и его жену, с конца 1922 года помогавшую скрывать следы убийств, к высшей мере наказания.
Бывший красный командир, услыхав решение суда, лишь презрительно усмехнулся.
Расплакался он единственный раз, подумав наконец о своих детях:
— Как они, бедные, будут без отца, без матери? Не станут ли хулиганы обижать в приюте моих деточек?
О других детях, которых он своей волей лишил родителей, убийца даже не вспомнил.