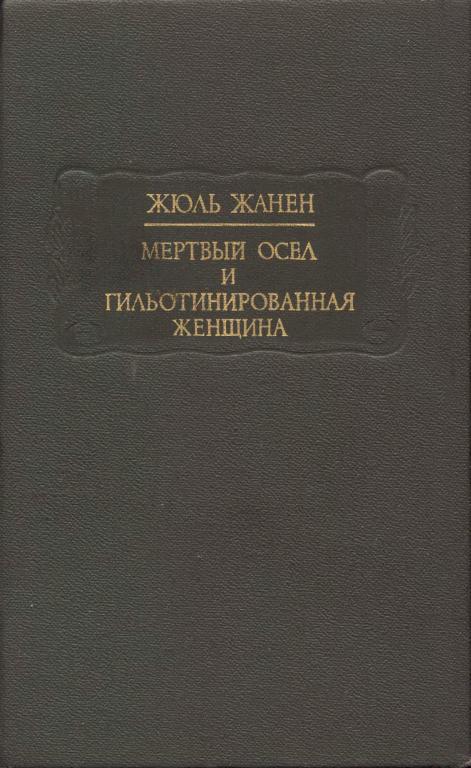Книга: Мертвый осел и гильотинированная женщина

Мертвый осел и гильотинированная женщина

Автор этой книги не из тех, кто отказывает Критике в праве чинить допрос писателю по поводу его сочинений и допытываться, зачем нужен такой-то персонаж и откуда он взялся? Короче, если ты, мол, хочешь, чтобы я за тобою следовал, скажи, куда ты меня ведешь?
Напротив, автор признает за Критикой это неписаное право, и признает полностью. Он лишь осмеливается полагать, что во многих случаях ответить на сей вопрос затруднительно, в особенности в наши дни: сам он, право же, не знает, как отвечать на этот вопрос.
И, однако, ему известно, что помимо Критики есть на свете праздное и грозное племя неискушенных господ, не имеющих иного занятия, как допрашивать тебя по любому поводу; господ этих, принявших тревожную форму вопросительного знака, можно найти где угодно; это люди тем более докучные, что могли бы тебе быть весьма полезными, ибо, ежели ты прислушаешься к их пустым вопросам, они охотно последуют за тобою повсюду, куда тебе заблагорассудится их повести. Славные эти люди вслепую помчатся за твоим блуждающим воображением, как Панургово стадо[1], и, если придется, уцепятся за его стремя; но, разумеется, коль ты настаиваешь, чтобы тебя долго одобряли и долго не отставали от тебя, совершенно необходимо заранее растолковать все имеющиеся в твоей книге кто? и что? и почему? и как? и когда? А для литературы наших дней, повторяю, нет ничего затруднительней этих предварительных объяснений.
Правда, я знаю лучше, нежели кто иной, что при первом путешествии в страну воображения не слишком совестливому писателю нетрудно приблизиться к этим господам, держа шляпу в руке, и посредством смиренного предисловия в духе предуведомлений XVII века либо финального куплета современного водевиля[2] дерзновенно пообещать провести их самыми удобными и торными тропами в Севилью или в Лондон, в Кремль или в собор Св. Петра в Риме, и эти добрые люди побегут за тобою без колебаний и с зажмуренными глазами.
Но предпринять путешествие — это еще не все, надо его завершить. Пусть самая злополучная «кукушка»[3] из Сен-Дени возьмется отвезти меня в долину Монморанси или на Энгьенские воды, а вместо этого вдруг высадит на пыльной дороге в Понтуазе, — думаю, я останусь весьма недоволен. Точно так же, если после всех обманчивых обещаний, вместо того чтобы перенести своего читателя в какой-нибудь мертвый город Востока, с дворцами и сфинксами, ровесниками Сезостриса[4], ты заставишь его заночевать в жалкой ночлежке, где при свете коптящей лампы скверно прислуживает одетая в лохмотья скотница, — увидишь, будет ли читатель расположен последовать за тобою в другой раз.
Отсюда я с уверенностью заключаю, что на первый вопрос, который Критика неизбежно задаст относительно новой книги: «Куда ты идешь?» — автор не только обязан ответить, но должен еще принять всяческие предосторожности, иметь с собою паспорт, который потом может весьма пригодиться ему на неизведанной, столь каменистой и столь ненадежной дороге к благосклонности публики.
Так и поступаю я ныне; и, однако, я едва и сам-то знаю, что представляет собою моя книга.
Скажем, не сочиняю ли я фривольный роман;
или длинный трактат по вопросам литературы;
или кровожадную судебную речь в защиту смертной казни;
или даже мою личную исповедь;
или, если угодно, не пересказываю ли какой-то долгий сон, начавшийся жаркой и душной летней ночью и закончившийся в самый разгар грозы?
Так или иначе, моя книга написана, она перед вами; и теперь положимся на милость Божию и читательскую!
Не успев ступить на порог своей уединенной кельи с этою книгой в руках, я внезапно натолкнулся на Критику — капризную богиню, о которой один отзывается так, другой этак; я узнал ее по скучающему виду, а она сразу же отнеслась ко мне безжалостно, хотя впервые увидела меня в лицо.
Начала она с вопроса: не поэт ли я? И когда, со всем душевным смирением, я признался, что не только не являюсь поэтом, но никогда таковым не бывал, она немного смягчилась, но посоветовала мне, прежде чем пускаться в опасное путешествие, которое я собирался предпринять, научиться более серьезной и менее самоуверенной повадке, а главное, накинуть на плечи более прозаический плащ.
Затем она спросила, как называется мое сочинение. Узнав, что я озаглавил его «Мертвый осел и гильотинированная женщина», богиня нахмурилась: она сочла это не более как банальной причудой, не желая понять, что я нашел самое точное название.
Критика вновь обрела приветливость, когда я душой и совестью поклялся, что, невзирая на такое странное заглавие, речь идет менее всего о пародии, что ремесло литературного балагура ничуть не отвечает ни характеру моему, ни жизненному положению, что сочинил я эту книгу, не желая вредить никому; что ежели книга моя, на беду, обернулась пародией, то это пародия серьезная, пародия непроизвольная, как то случается в наши дни у многих выдающихся авторов, столь же мало, как и я, о том помышляющих.
Но лик богини вдруг снова омрачился заботой, когда, принужденный ей ответствовать, я объяснил, что лишь хладнокровно изложил историю человека печального и желчного, тогда как сам я веселый и жизнерадостный малый, пышущий здоровьем и благожелательностью, что я окунулся в кровь, не имея ни малейшего права на грустное сие удовольствие, поелику из всех ученых обществ Европы состою пока только безобидным членом Общества практической агрономии, кое соблаговолило принять меня в свое лоно лишь два месяца тому назад, в тот самый день, что и г-на Этьенна[5].
Разгневанный вид Критики несказанно меня огорчил; но на устах ее снова заиграла улыбка, когда я рассказал, дабы снять с себя вину за самому себе навязанный кошмар, что, не желая стать жертвой утомительных переживаний от фальшивого душевного страдания, коим так злоупотребляют в наши дни, я вознамерился раз и навсегда с непреложностью доказать склонным к сочувствию душам, что ничего нет легче, как фабриковать всяческие ужасы. В этом виде литературы Анна Радклиф[6], столь ныне презираемая, является истинной главою секты. Задолго до анатомического кабинета Дюпона она изобрела восковые фигуры с содранною кожей или покрытые волдырями; мы же только копали все глубже по мере того, как лучше узнавали анатомию. Я, как и прочие, пожелал воспользоваться прогрессом науки: вместо того чтобы очинять свое перо перочинным ножом, я очинил его медицинским скальпелем — только и всего.
И Критика прониклась ко мне великой жалостью, когда я поведал ей, каких невероятных усилий стоило мне добраться до ужасного и мерзкого, какого труда — примешать к свирепому моему вымыслу частицу моего «я». Она даже прослезилась от сострадания, когда узнала, что сердце и душа моей героини — это, может быть, лишь печальная действительность и что книга моя не только поэтическое исследование, кое я вознамерился произвести, но также и отчетливые воспоминания моей юности, которые мне захотелось записать; у нее почти не осталось сил на то, чтобы бранить меня.
И все же она ужасно рассердилась, когда во всех этих россказнях, во всех раскатах стиля, сперва ей понравившегося, но под конец ее утомившего, она не нашла нравственной идеи — ни единого слова, которое выходило бы за пределы реальных фактов; среди столь доскональных описаний — ничего, кроме форм и красок, всего того, что составляет мир действительности, ничего от мира иного, ничего из области души, — в какой-то миг Критика готова была с презрением отвернуться от моей книги.
Поскольку это и был самый чувствительный для меня упрек и самый большой недостаток, за который я втайне краснел, я пал в ноги своему судии и, трепеща, стал объяснять, почему порок моей книги не есть порок моего сердца, а целиком принадлежит тому роду литературы, в коем я решился работать; объяснил, что далеко превысил бы свои намерения, если бы говорил об иных вещах, нежели те, что касаются наших чувств, и сослался по этому поводу на описательную поэзию, каковой она является со времен аббата Делиля[7] вплоть до наших дней; и мне удалось втолковать моему судии, что в этой сухости следует винить тот род чувствований, коим я предался в минуту отчаяния, с тем чтобы более к ним не возвращаться, — можете быть уверены.
С этой минуты беседа наша сделалась более дружественною и доверительной. Ведь я не был ни главарем секты, ни литературным сеидом;[8] я был один из тех простых писателей, что идут куда могут, не создают школу, не порождают раскол, публика занимается ими, когда у нее есть время, у них же самих имеются иные дела, чем добиваться известности, на которую, впрочем, им достает благоразумия не претендовать.
Итак, у нас с Критикой завязался серьезный спор о том, что называют правдой в искусстве. Я доказывал ей, что, согласно новой системе взглядов, старик Гомер достигнуть этой правды не мог, уже по той причине, что был слеп. Что действительно (я все еще говорю от лица новой системы), прежде чем быть правдивым, надо видеть телесными и духовными очами, а увидев, выразить то, что видел, в словах, только и всего — в этом и состоит искусство; что Мильтон[9] лгал, когда спускал с цепи свою несметную свору ангелов и дьяволов; что Тассо[10] лгал, когда воздвигал в воздухе элегантный дворец Армиды; что вся эпическая поэзия в совокупности лгала, когда ринулась в невидимый мир, что, наконец, правда была только в «Девственнице» Вольтера и в «Избиении младенцев»[11]. Критика слушала меня с таким видом, словно вела разговор с умалишенным.
И в доказательство я привел историю об отрубленной голове в серале и о том, как великий визирь показал одному французскому художнику, что в обезглавленном теле кровеносные сосуды не расширяются, а суживаются. Следовательно, до встречи с этим ужасным магометанином все художники, изображавшие усекновение главы Иоанна Крестителя, даже сам Пуссен, лгали, рисуя своего мученика!
Отсюда опять-таки следует, что, прежде чем говорить о каком-либо предмете, надо его увидеть своими глазами, пощупать своими руками. Вы ведете речь о смерти — отправляйтесь в анатомический театр; о трупе — извлеките его из могилы; о гложущих этот труп червях — произведите вскрытие. Если же вы скажете, что заключить поэтический мир в тесные границы пяти чувств, уменьшить его настолько, чтобы он весь уместился в ваших ладонях, — значит невероятно обузить этот мир, вам ответят, что против такого неудобства, связанного с правдой, имеется лекарство: описание. А теперь, когда вам запрещено быть слишком дальнозорким и в то же время запрещено пользоваться телескопом, вам остается лупа; вооружившись ею, вы сделаетесь приверженцем бесконечно малого, вы станете поэтом или, что то же самое, анатомом деталей; сузившись, ваши владения по-прежнему пребудут обширными. А как же иначе? Когда-то вы двигались от целого к подробностям, от фасада к карнизам, от общего к частностям; ныне ваш путь изменился. Величественная руина виднеется на вершине этой горы; если вы хотите рассмотреть ее хорошенько, начните с изучения этого маленького обломка — этот камень отвалился от сводчатого оконца, освещавшего старую замковую часовню; часовня примыкает к башенкам, башенки — к оружейной палате… вот вам целый мир, воссозданный по одному обломку; вам остается лишь некоторое время карабкаться таким образом от песчинки к скале, чтобы добраться до того человека в узорах и фестончиках, над которым потешался Депрео́[12].
Видите, это не столь уж новая новость, и в современной поэзии все восполняется: целое — единством, памятник — его осколком, факты — словом, мысль — описанием, драма — повествованием, поэзия — прозой, воображение — взглядом, мир душевный — миром физическим, бесконечность — конечностью, «Поэтическое искусство» — предисловием, которое нацарапал первый встречный.
Значит, я только воспользовался своим правом новообращенного и новой поэтической хартией, поставив на место значительного ничтожное, и если бы по воле случая даже в этом небытии, где я расположился, мне встретился какой-нибудь ревнивый собственник, который с дерзостью первопришельца сказал бы: «Не заслоняй мне хаос!», как Диоген сказал Александру: «Не заслоняй мне солнце!»[13] — я скромно отвечал бы этому владельцу пустоты, что напрасно он гневается; ибо хаос принадлежит всем, в особенности, когда ничего, кроме хаоса, уже не существует; что он вовсе не первый, кто поселился в этой бесцветной и бесформенной неопределенности; что я мог бы назвать немало других, погрязших здесь до него, и что, наконец, мрак достаточно обширен, чтобы каждый из нас мог построить в этих сумрачных ландах по воздушному дворцу и разместить там, как нам заблагорассудится, палачей, каторжников, ведьм, покойников и прочих симпатичных обитателей, достойных сего нового Эдема. Я, со своей стороны, не проявил бы небрежения при строительстве своего готического замка.
Прежде всего, я выбрал бы просторный участок на вершине горы либо на речном берегу; а когда место было бы найдено, я вырыл бы широкий ров, который со временем заполнился бы зеленою тиной и жидкой грязью; под этим рвом я поместил бы феодальную тюрьму, со стенами, сочащимися влагой и четырехфутовою решеткой, дабы можно было жечь на медленном огне бродягу-иудея; над тюрьмой — большие залы для моих лучников и солдат, где вместо картин висели бы на стенах шлемы, кирасы, набедренники, перчатки, аркебузы с зажженным фитилем, луки с натянутыми звонкими тетивами, везде железо — и окна, открытые всем ветрам.
Затем зала для вассалов, церемониальная зала, увешанная громадными шпалерами, колеблемыми вечерним ветерком и украшенными гигантскими изображениями персонажей Священного писания, — плод медлительного и тяжкого творчества иголки наших прабабушек. Я уже вижу огромные кресла, необъятный очаг, факелы в железных вставках, прикрепленные к стенам сего феодального жилища; рядом с этой залою, столь подходящей для привидений, — другая, вымощенная плитами, предназначенная для пиршеств; стол уставлен мясом и вином, вокруг теснится толпа паладинов, каждый в особой перевязи цветов его дамы; они едят, пьют, хмелеют, спорят, богохульствуют. А тем временем башни вздымаются все выше и выше, тяжелые, смертоносные, прорезанные бойницами, пока, завершив возведение замка, зодчий не обнаружит, что напрасно потратил время на постройку бесполезной громадины, что поступил бы куда разумнее — раз уж ему захотелось Средневековья, — если бы создал Средневековье более дешевое, из картона или глины.
Вообще следует опасаться злых шуток своего воображения, ибо, если воображение руководствуется толикою здравого смысла, оно — дурной зодчий; лишь дайте ему волю, этому домашнему проказнику, и оно перепутает все времена, исказит все места, все сотрет и уравняет безо всякого толку. Оно поместит зубцы на четвертом этаже современного городского дома, окружит рвом пол-арпана салата в огороде нантерского фермера; шаловливое и беспечное, как девчонка, у которой на уме одна только любовь, воображение придаст новенькой часовне форму нагромождения руин, приведет белых призраков в раззолоченную спальню, где все отделано мрамором и красным деревом. Отсюда происходит своего рода литературное донкихотство, в сто раз более смехотворное, чем все, что было нам известно прежде по части анахронизмов.
Как ни суди, тот рыцарь из Ламанчи, что отправился в поход, дабы искупить свои прегрешения и рассекать надвое великанов, готовый принять смерть ради сироты, ради вдовы, ради дамы своей мечты, — фигура, достойная уважения, и ты сердишься, что над ним насмехаются, когда поразмыслишь о том, какое благородное сердце пряталось под картонными латами, какого храброго человека нес на себе тощий конь, какому доброму хозяину служил забавный его оруженосец; сам себя порицаешь за то, что смеялся, ибо здесь куда больше высокого человеческого духа, нежели чего иного, и одна-единственная речь героя прекрасно возмещает и ветряные мельницы, и шлем Мембрина.
Но дайте мне вместо этого странствующего рыцаря какого-нибудь Дон Кихота домоседа, Дон Кихота в ночном колпаке, странствующего рыцаря, как Дон Кихот, только без его отваги, преданности, ума, доброты, чести, веселости, самоотречения, жалости, чистой любви; сделайте так, чтобы этот буржуазный Дон Кихот, оставив бурные подвиги, мечтал подражать лишь той смешной и шутовской стороне, какую любой лакей всегда отыщет у героических персонажей и в геройских подвигах; пусть он разрушит красивые зеленые мостки у своего порога и заменит их подъемным мостом работы сельского плотника, подвешенным на колодезных веревках; пусть нежится в зеленоватом свете расписных витражей; пусть заполнит свои пруды вместо рыб царственной грязью; пусть снесет скотный двор, слишком, на его феодальный вкус, отдающий деревней; пусть попадет в руки исправительной полиции за то, что хотел воспользоваться своим правом первой ночи или каким-либо иным столь же неоспоримым правом, — вот тогда вы получите реального Дон Кихота, Дон Кихота осязаемого, поистине смехотворного «человека рыцарских времен»; вот тогда вас обуяет безумный смех самой высокой пробы, который не оставит в вашей душе сожалений, вы будете с чистым сердцем насмехаться над глупцом, в коем ничто не внушает уважения. Но поверьте, надо и впрямь обладать очень уж злым сердцем, чтобы не проливать настоящие слезы, когда славного героя из Ламанчи, этого безупречного Рыцаря Печального Образа, доставляют всего в ссадинах и ушибах в родной дом. Я, кажется, вижу, как, кроткий и гордый, грустный, но не побежденный, здоровается он с другом своим цирюльником, пожимает руку доброму священнику и входит через садовую калитку, идет мимо капустных грядок, окаймленных подсолнухами, которые словно поглядывают с любовью и жалостью на своего хозяина; из сада проходит на скотный двор.
Завидев Росинанта, ослица заливается приветственным ржанием, коему вторят хором трое ослят, подаренных рыцарем своему оруженосцу; потом навстречу ему выходит старый пес, старый петух, старуха сестра, молодая племянница, все его домочадцы, весь домашний мирок бедного сельского жителя — и он сразу оказывается защищен от каких бы то ни было посягательств Критики. Это, знаете ли, несостоявшаяся комедия, это все равно, как если бы Скупой отдал свою шкатулку нищему, как если бы Тартюф выказал почтительность к жене своего друга; с этой точки зрения «Дон Кихот» Сервантеса, может быть, превосходная, замечательная книга, стоящая в одном ряду с комедиями Мольера, но это — дурной поступок.
Прежде чем возвращаться таким манером в прошлое, неплохо бы спросить себя: «А зачем?», — не значит ли это оставлять, подобно Робинзону Крузо, на стапеле бесполезный фрегат? Что касается правды в литературе, как понимают ее в наши дни, то это настоящая ловушка для поэтов. По чести, куда заведет нас этот раж правдивости? По моему разумению, надо бы дозволить писателю не быть столь уж безжалостно точным, не вынуждать его по каждому поводу говорить читателю: «Это красное» или «Это белое», — или даже разлагать цвет, дабы можно было сказать: «Это лиловое»; вождям школы не следовало бы настаивать, чтобы, завидев дом, мы бы знали, например, столь же точно, как знает сборщик прямого налога, сколько в нем дверей и сколько окон.
Что касается героев современной литературы, то, поскольку они весьма малочисленны, поскольку мы уже перебрали все разновидности внешнего облика — людей белых, черных, зобатых, прокаженных, каторжников, палачей, вампиров, и лишь альбиносы и пораженные водобоязнью не используются, насколько мне известно, в полной мере, я хотел бы, чтобы каждый писатель имел право целиком заимствовать героя у соседа, причем тот не смел бы кричать: «Меня обобрали!»; эгоизм в искусстве — самый печальный из эгоизмов; особенно в современной поэзии дурно было бы говорить собрату: «Оставь мне моих мертвецов».
Вот что сказал я Критике в свою защиту и в извинение за все, что она могла счесть в моей книге подражанием, вольностью, неопределенностью и плагиатом. Она слушала вполуха, а когда я кончил, заявила, что я ужасно неясно выражаюсь.
— В том-то и состоит красота всякого предуведомления, — дерзко возразил я.
И еще она сказала, что это наглость по отношению к читателям.
Я подскочил от радости, словно услышал самую лестную похвалу.
Тогда она приблизилась ко мне, обняла руками, длинными и сухими, словно у привидения на рисунке Буланже[14], и одарила меня поцелуем мира, прижавшись к моему лицу своим ликом, отнюдь не блещущим ни юностью, ни свежестью, ни красотой.
И все же я поблагодарил ее за ласку; но, поднеся ладонь к щеке, я обнаружил на ней кровь: жестокая подарила мне поцелуй Иуды.
Но, слава Богу, я скоро утешился мыслью, что ввиду моего обыкновения пребывать в одиночестве и писать по воле случая, а также, быть может, по причине ненависти, которою меня уже не раз успели почтить, Критика и не могла поцеловать меня иначе.

ЗАСТАВА КОМБА́

Вот вы говорите — осел Стерна![15] Было время, когда смерть этого осла, сопровождаемая надгробной речью, вызывала у читателей сладостные слезы. Я тоже пишу историю осла, но, будьте покойны, я не стану придерживаться простодушия «Сентиментального путешествия», и по многим причинам: мало того, что столь обыденный сюжет показался бы нам сегодня пресным, он еще и слишком труден для того, чтобы искушенный писатель мог развивать его, будучи уверен, что не окажется в конечном счете скучным либо смешным. Нет, дайте мне сюжет ужасный, мрачный, кровавый — вот что легко, вот что вызывает восторги! Итак, держитесь: бордо вас больше не пьянит — так осушите этот большой бокал коньяка! Для нас даже водка слаба, мы добрались до самого духа вина и не отведали разве что чистого эфира; но берегитесь, как бы в тяге к чрезмерности нам не глотнуть опиума.
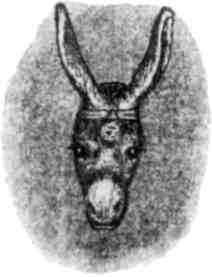
Впрочем, что такое чаша Родогунды, наполненная до краев Аристотелевым ядом[16], по сравнению с потоками черной крови, бороздящими пыль вокруг римского Цирка, при свете факелов из заживо сжигаемых христиан, вымазанных смолою и серой, факелов, освещающих ночные битвы, когда поверженный наземь могучий атлет ищет угасающим взором милое небо Арголиды, но встречает лишь алчный взгляд молодой римлянки, которая одним знаком белой хрупкой руки обрекает его на смерть? К тому же герой поразительного этого празднества обставляет свою смерть с изяществом, старается, чтобы последний его вздох был гармоничным, дабы еще раз заслужить аплодисменты удовлетворенной толпы.
Увы! У нас нет такого Цирка, как у римлян, где люди могли бы пожирать друг друга, зато у нас есть застава Комба́!


Убогий полуразвалившийся забор, широкие нетесаные ворота, просторный двор, чьим украшением служит множество молодых и старых дворняг с красными глазами и черной пастью, откуда на бескровные губы медленно стекает белая пена. Среди комедиантов, обитающих в этом дворе, особенно выделяется один пес, молча сидящий в своем углу. Это ужасный хищный зверь, ощерившийся великан! Годы сражений сделали его беззубым, он словно собрат султана, вычеркнутого из числа людей, или бывший король Франции с бритою головой[17]. Этот заслуженный пес страшен на вид, столь же страшен, как Баязет за его решеткой[18], есть в нем что-то от сидящего в клетке кардинала де Ла Балю[19]. Гордый и униженный, сварливый и бессильный, злобный и раболепный, равно готовый и лизнуть тебя, и укусить, — достойный актер такого театра. В углу, за этими зловонными кулисами, — куски лошадиной туши: окровавленные ляжки, разорванные кишки, клоки печени, предназначенные для кормления только что ощенившихся сук. Все эти отвратительные останки привезены сюда прямо с Монфокона, ведь именно на Монфокон отправляются умирать все скакуны Парижа. Они приходят туда гуськом, связанные хвост к голове, печальные, тощие, старые, ослабевшие, изнуренные тяжкими трудами и ударами кнута. Миновав ворота и лачугу старухи — властительницы этого замка, пристально глядящей на вереницу жертв с такою улыбкой на морщинистом лице, какая испугала бы и мертвеца, — лошади останавливаются посреди двора, рядом с лиловатою лужей, где плавает свернувшаяся кровь, — и начинается бойня: человек с засученными рукавами, вооруженный ножом, забивает их одну за другой; они молча падают, они умирают, а когда все кончено, их трупы продаются до последнего кусочка — шкура, грива, копыта, черви для королевских фазанов и мясо для актеров заставы Комба.

Итак, я находился на заставе Комба, у входа в зрительную залу и, на свою незадачу, в день, когда спектакль не игрался. Собачий лай привлек внимание управляющего псарней — тощего человечка, сухого, с жидкими рыжими волосами и значительностью во всем облике; в его голосе звучали повелительные нотки, на морщинистом лице читалась угодливость, ноги волочились, спину согнула сухотка, он являл собою приятное сочетание полицейского пристава и театральной билетерши. Впрочем, со мною он был весьма вежлив.

— Нынче я не могу показать вам всю труппу, — произнес он. — Мой белый медведь занемог, другой спит; мой бульдог сожрал бы нас обоих; дикого быка сейчас как раз доят; но все же, если у вас есть охота, я могу предложить вам проглотить осла.
— Ну что ж, пусть будет осел, — отвечал я этому импресарио и ступил за молчаливую ограду; я оказался в полном одиночестве, будто попал на представление «Гофолии» или «Родогунды»[20].
Я уселся за этою безмолвною оградой, и за спиною у меня не было даже какого-нибудь честного мясника, способного еще больше возбудить меня восторженным восклицанием. Я пребывал в трудноописуемом состоянии полной внутренней сосредоточенности. Но вот ворота отворились, и я увидел, как входит…
Несчастный Осел!
Он был силен и горделив, он был печален и покалечен, он держался только на трех ногах — передняя левая нога была у него перешиблена наемною коляской, и он едва дотащился до этой арены. Уверяю вас, грустное это было зрелище. Бедный осел сперва пытался сохранить равновесие, он сделал шаг, затем другой, затем выставил вперед правую ногу как только смог далеко, потом опустил голову, готовый ко всему. В тот же миг к нему ринулись четыре собаки, приблизились, отступили и вот уже набросились на несчастное животное. Они рвали в клочья его тело, пронзали его острыми зубами; атлет оставался неподвижен и спокоен, он не брыкался, потому что в таком случае упал бы наземь, тогда как он, подобно Марку Аврелию, желал умереть стоя[21]. Скоро потекла кровь, мученик проливал слезы, его легкие издавали однообразный глухой хрип, — а я здесь совсем один! Наконец осел падает под натиском псов, и тогда я, жалкий человек, издаю пронзительный вопль: в побежденном герое я узнал старого знакомого!
И правда, не оставалось сомнений, то был он!

То был Шарло! Вот его удлиненная голова, его спокойный взгляд, его серая шкура! Это он, бедняга! Он сыграл некогда слишком важную роль в моей жизни, и малейшая его примета навсегда врезалась мне в память. Достойный Шарло, значит, мне было суждено стать причиной твоей смерти! Вот он лежит, окровавленный, на земле, мой бедный друг, перед которым я когда-то заискивал, лаская его своею рукой! А его хозяйка, молодая его хозяйка, где она теперь? Взволнованный, я кинулся на арену, стремясь как можно скорее бежать отсюда. Пробегая мимо Шарло, я видел, что он еще бьется в ужасной агонии; и в судорогах медленно приближающейся смерти он даже слегка толкнул меня копытом сломанной ноги — слабый, безобидный удар, походивший на нежный упрек, на последнее печальное «прости» оскорбленного тобою друга, который отпускает тебе твою вину.
Задыхаясь, покинул я это роковое место.
— Шарло, Шарло! — восклицал я. — Ты ли это, Шарло? Ты умер ради минутного моего развлечения! Ты, некогда столь резвый и быстрый!
И мне невольно вспомнилось, сколько юной и скромной прелести, сколько горьких разочарований примчалось ко мне рысцою однажды на спине этого осла! Трогательная и грустная повесть! В моей книге два героя, разных, конечно, но неразлучных в моей памяти и моих слезах. Одного, как вы уже знаете, зовут Шарло, другая звалась Анриеттой. Я расскажу их историю, расскажу прежде всего для себя, а потом уж, если вы пожелаете, и для вас.
Бедный Шарло! Несчастная Анриетта! И все же я, погубивший их обоих, из всех троих достоин наибольшей жалости!

«ДОБРЫЙ КРОЛИК»

Скоро второе мая, и, значит, минет два года с того дня, как я шагал по дороге к Ванву, безлесному холму в двух шагах от Парижа; это сомнительная сельская местность на потребу прачкам, мельникам, романистам, раздолье для всех посредственных поэтов с Нового моста[22]. В тот день я был счастлив тем, что живу, дышу, что я молод, что меня овевает чистый теплый воздух; я, как ребенок, любовался каждым цветком, раскрывающим лепестки, и на добрых четверть часа задерживался возле красивых ветряных мельниц, следя за их внушительным тяжеловесным вращением. Вдруг, на изгибе проезжей дороги, как раз там, где от нее отходит тропа к таверне «Добрый Кролик», узкая тропа, каменистая и неухоженная, но столь излюбленная парижанами, я увидел молодую девушку верхом на осле, который нес ее во всю прыть. О, чарующее зрелище! Никогда в жизни я его не забуду. Юная всадница, раскрасневшаяся и возбужденная, довольно рослая, с еще не развитой, но уже волнующейся грудью, охваченная страхом; она потеряла свою соломенную шляпу, волосы растрепались, она кричала во все горло: «Стой! Стой!» Но проклятый осел все мчался вперед, я же не трогался с места. Девушка перепугалась, но особая опасность ей не грозила. Я даже обрадовался, когда понял, что она отдана на мою волю! Ведь помочь ей могли только я сам да мой пес.
Наконец я крикнул:
— Пиль, Рустан!
Рустан мгновенно кидается напрямик за ослом, осел внезапно останавливается, девушка падает с него, мы разом вскрикиваем, я бегу к ней, она ко мне, а осел улепетывает через поля. Я едва успеваю подхватить ее на руки и уже считаю своею добычей, как вдруг девушка вырывается, встает на ноги и бросается вслед за ослом.

— Шарло! Шарло! — зовет она. Мой пес летит за ними, а осел удирает во все лопатки; стоит ли следовать ровным шагом за бегущим псом, припустившим рысью ослом, а главное, за девушкой, вовсе о тебе и не помышляющей?
Прежде всего я поднял с земли шляпу красотки, обыкновенную соломенную шляпу с полинявшею лентой и скверным голубым цветком, от которой, однако, исходила толика обаяния ее хозяйки. Девушка была уже далеко! «Шарло! Шарло!» — кричала она.
А Рустан все бежал за ослом и скоро пригнал его ко мне самым коротким путем, как раз с той стороны, куда слетела шляпа. Между мною и юною его хозяйкой дорога делала крутой поворот; я остановил осла на обочине, за большим кустом, и, пока девушка все звала: «Шарло! Шарло!» — взгромоздился верхом на серого, напялил себе на голову соломенную шляпу и шагом двинулся в глубь рощи.

Она все кричала «Шарло! Шарло!», и я стал трясти колокольчик на ослиной шее, в то же время ища какое-нибудь большое дерево, чтобы спрятаться за ним и подпустить ее поближе. Но вот она показалась на опушке, еще более раскрасневшаяся, тяжело дыша, вся в тревоге, и, заметив наконец своего осла и меня, бросилась к нему и начала его целовать, называя самыми нежными именами.
— Вот ты где, Шарло, — говорила она, обнимая маленькими руками большую ослиную голову; осел не сопротивлялся, а я, сидевший у него на спине, не удостоился даже и взгляда, хотя склонился над нею и готов был жизнь отдать за один из свежих поцелуев, какими она осыпала серого. Шарло поглотил все ее внимание.
Наконец девушка подняла голову.

— Ах, вот моя шляпа! — воскликнула она обрадованно; потом посмотрела на меня своими большими черными глазами и, видя, что я все еще сижу верхом на осле, присела рядом с нами на траву и стала приводить в порядок свои густые волосы; потом вытерла ладонью лоб, надела шляпу, устало вздохнула и поднялась на ноги, словно говоря мне: «А теперь слезайте!» Вид у нее был решительный, она не намеревалась долее оставлять мне своего Шарло.
Я спрыгнул на землю; она вскочила на осла.
Рванула уздечку, ударила осла ногой — и прощай, мое видение!
Никогда не встречал я такой соблазнительной, такой веселой и свежей девушки! Впрочем, для меня у нее не нашлось ни слова, ни взгляда. Я же глядел на нее во все глаза, но молчал. Что мог я ей сказать? Она была так занята своим ослом и своею шляпой! А потом, я ведь не из тех праздношатающихся, людей без чести и совести, которые знают только один способ проявлять интерес к женщине, — у меня их сотня, и совершенно невинных. Ах, разве не было несказанным блаженством видеть ее такою оробевшей, но оживленной, слышать ее полуиспуганный-полурадостный щебет? А как славно она бежала, как остановилась, как она уселась на лужок и как вскочила! И как она звала: «Шарло! Шарло!» А к тому же, разве я не сидел верхом на ее осле, на том самом месте, где прежде сидела она? Она меня не видела, но что из того? Я покрыл свою голову ее соломенной шляпой, подвязал под подбородок ту самую ленту, которую она подвязывала под свой, я склонился над нею, когда она целовала осла, и почти что получил этот нежный поцелуй!
Размышляя таким образом, я вернулся в трактир «Добрый Кролик». Вы найдете этот трактир, как уже было сказано, у подножия Ванвского холма, он прислонился к мельнице и гостеприимно расположился между двором и садом; двор затемнен деревьями, а в жаркие дни затянут плотным тентом, защищающим сотрапезников от солнца, — этот двор обычно служит обеденною залою для парижских кумушек, которых мало заботит, что их не видно из-за деревьев, зато они могут вволю глазеть на прохожих, гуляющих по большой дороге. На этот двор бесперебойно поступает дешевое вино, серый хлеб, бараньи лопатки и ростбифы; сад предоставляет свою сень менее плотоядным клиентам: молодым девушкам и молодым людям, молодым девушкам и старикам, молодым девушкам и военным, молодым девушкам и судейским. Я, право, дивлюсь, как много на свете молодых девушек, они, должно быть, ужасно быстро размножаются, раз их хватает на всех. Совсем как жаркого в трактире «Добрый Кролик».
Я устроился в саду, в уголке, один, без молодой девушки, как неограниченный властитель всех тех, которые были здесь, но в глубине души желали бы быть в другом месте. Увеселения наших кабаре не на должной высоте. Доход загородным кабачкам приносит не любовь, — любовь прячется, пьянство же не боится дневного света. Так разве более постыдно терять голову из-за женщины, чем оставлять разум на дне бокала? Пусть кто желает разрешит эту проблему. В «Добром Кролике» я видел только двух счастливых людей. В самой дальней беседке уединились подросток с юною кузиной, обоим по семнадцати лет! Весь их завтрак состоял из хлеба и сыра, но ели они весело, с аппетитом и, откусывая от ломтя, передавали свой хлеб друг другу после каждого глотка. Только раз в жизни бывает такое пиршество.

Но утренняя встреча, но та девушка и ее Шарло запали мне в душу! Грация одного — резвого, щеголеватого, смелого, легкого, и красота другой — резвой, соблазнительной, смелой и легкой; эти прекрасные ослиные уши, грозящие небесам, эта озорная улыбка, словно спорящая с бедой; изящная, мягкая рысца — и стройная оживленная всадница! Я был без ума от обоих! К тому же они так хорошо понимали друг друга, имя Шарло так непосредственно слетало с ее уст! Счастливая чета!
И я поспешил возвратиться на прежнее место самой короткою дорогой, уже не разглядывая ни молодую травку, ни ветряные мельницы, ничего не замечая в том прекрасном ландшафте, который так занимал меня поутру; я был печален, я дулся, как человек, уязвленный тем, что остался в одиночестве. Неожиданный случай вывел меня из задумчивости. Идя по дороге, я обогнал неуклюжего крестьянина, здоровенного мужика, который плелся за гадким ослом, навьюченным корзинами с навозом. Крестьянин что было силы лупил осла. «Эй, Шарло!» — крикнул он. Шарло… Я оглядываюсь, присматриваюсь. Несчастный! То был он. Он, согбенный под этой отвратительною ношей… он, совсем недавно гарцевавший под ее идеальной фигуркой. Какая внезапная перемена! Какая превратность судьбы! Я прошел мимо Шарло, бросив на него сочувственный взгляд, и он вернул мне этот взгляд. Целую неделю я был безутешен. Та прелестная девушка — и этот мерзкий груз, те нежные поцелуи — и эти палочные удары, тот ласковый голосок, так мило выговаривавший «Шарло!» — и этот грубый голос, с бранью и проклятиями кричавший «Шарло!».
Чуть оправившись от своего приключения, напрасно бродил я целыми днями вокруг Ванва и «Доброго Кролика», напрасно садился под цветущим кустом, близ которого она упала, — на глаза мне попадалось много ослов и много молодых девушек, но, увы, не Шарло и не Анриетта!

СИСТЕМЫ

Однако с того дня я загрустил. Надо сказать, что я выбрал подходящий момент для того, чтобы отказаться от всех радостей, какие испытываешь каждый день, когда тебе двадцать лет. Невинных радостей, весенних радостей, что встречали меня при пробуждении и сопровождали своим веселым смехом весь головокружительный день вплоть до отхода ко сну. Но, незаметно для меня, во вчерашней французской веселости уже произошел великий переворот. Все умы захлестнула новая поэзия, и на меня тоже вдруг упал темный отблеск какой-то вертеровской страсти; я сделался сам не свой. Когда-то бодрый, веселый, жизнерадостный, а ныне печальный, мрачный, скучающий; некогда — друг забав, радостного смеха, хмельных вакхических песен, когда, развалившись за столом, локтями на скатерть, бездумно прижимаешься к соседке, а она умело притворяется, будто отшатывается от тебя, ты же правой ногой тайком пожимаешь под столом маленькую ножку, которая этого, кажется, не замечает. А ныне — прощайте, мои милые забавы, веселые напевы! Песенку заменила драма, и одному Богу известно, какая драма! Я сам, говорящий с вами, сочинял подобные ужасные драмы: первый акт вы могли бы принять за шестой акт седьмого дня или седьмого года[23], столько там было крови! В этом жанре я совершил невероятные открытия, я нашел новую жилу — область страдания, я воздвиг целый мрачный Олимп, нагромождая пороки на преступления, телесную порчу на душевную низость. Чтобы лучше их разглядеть, я содрал оболочку с живой натуры, убрал ее белую бархатистую кожу, подернутую нежным румянцем и тонким пушком греха, и печальный труп открыл моему взору все тайны крови, артерий, сухожилий, легких, внутренностей; я подверг поэзию настоящему анатомическому вскрытию: крепкий молодой человек распростерт на большом черном камне, а два искусных палача сдирают с него кожу, теплую, окровавленную, как заячья шкурка, не оставив на живой плоти ни единого лоскута! Вот какую натуру избрала, пока я мечтал, поэзия, и вот какую натуру принял я, несчастный, дабы поскорее освободиться от двойного своего наваждения: Анриетты и Шарло!

К сожалению, столь полного результата достигнуть не так-то просто. Требуется куда больше, нежели обыкновенно думают, времени, внимания к своей душе, к своему сердцу и уму, чтобы извратить таким образом свои непосредственные чувства, заглушить совсем невинную душевную наивность, нежную стыдливость, утратить которые труднее всего. Особенно мне, запоем читавшему в отрочестве Фонтенеля и Сегре[24], пришлось сильно страдать, прежде чем прийти к такому поэтическому совершенству. Увы! Я и правда помню, что все эти селяне в батистовых сорочках, пасту́шки в кринолинах, все эти припудренные барашки, посохи, увитые розовыми лентами, мягкие, как софа, луга, солнце, под которым не загорают, небо, не знающее облаков, доставляли мне мгновения несказанного экстаза; очень любил я также «Галатею» Вергилия, «Двух рыбаков» Феокрита и восхитительную комедию «Две афинянки». Прошу прощения, я был тогда не прав. Правда! Правда! Не отклоняйтесь от правды, друзья мои, даже если это грозит вам гибелью. И верно, что такое в реальном мире пастух? Бедолага, одетый в лохмотья, умирающий с голоду, который зарабатывает пять су, выгоняя на булыжные дороги несколько паршивых овец. Что такое настоящая пастушка? Грубый, плохо вырезанный кусок мяса с красным лицом, красными руками, жирными волосами, от которого несет чесноком и кислым молоком. Да, конечно, Феокрит и Вергилий лгали. Что они нам рассказывают о поселянах! Поселянин такой же торгаш, как всякий иной, он наживается на скотине, как бакалейщик на сахаре и корице. Следовательно, мужайтесь! И раз уж надо, подарим поцелуй мира той обнаженной натуре, которую нам выпала честь первыми открыть.

Впрочем, на все нужна удача, за все надо браться умеючи: пожатая кстати рука, брошенный вовремя и к месту взгляд, хорошо обдуманный вздох нередко далеко продвигают нас в любовной интриге. А я впервые пожал руку этой натуре в морге и, как легко догадаться, прежде чем решиться на такую дерзость, прошел уже долгий путь.

Прежде всего, я отказался от деревни, цветов, Ванва, «Доброго Кролика» и от однообразного сердечного покоя, от восторженной приверженности добрым поступкам и добропорядочным произведениям литературы, которую я питал в ту пору, когда был столь счастлив, не замечая, что мое блаженство старо, как первая весна на этом свете. Освободившись от смешной своей наивности, я начал рассматривать природу под прямо противоположным углом зрения: я повернул бинокль другой стороной и сквозь увеличительное стекло сейчас же увидел ужасные вещи. Так, прежде, каждое утро, в ночном колпаке, с выбивающейся из-под него прядью волос, с глазами, еще отягощенными сном — который я с тех пор потерял, — я становился у окна, и мой благожелательный взгляд привычно замечал в первых движениях пробуждающегося города лишь ничем еще не омраченный покой; я вопрошал просторный особняк, чьи широкие двери только приоткрывались в этот час, я мысленно поднимал двойные занавески, белые и красные, и представлял себе хорошенькую желтую туфельку на ярком обюссонском ковре, прекрасную шаль, небрежно брошенную на софу, а в пышной постели какую-нибудь юную герцогиню, придворную даму Карла X, погруженную в сон, такой же улыбающийся, как она сама, несущий на своих белых крыльях грезы столь короткой летней ночи.

Пятью этажами выше, в мансарде… в облаках! Да, это молоденькая девушка, прелестное дитя, которое разыскали любовь и счастливый случай, словом, гризетка. Она поднялась с постели, распевая, словно птичка, разбуженная солнечным лучом, и, даже не надев юбки — тем хуже для подсматривающих за нею! — принимается у окошка за свой утренний туалет. Закончив невинное свое омовение, со смехом, как все, что делает гризетка, она расчесывает длинные волосы роговым гребешком с выщербленными зубьями, потом надевает на хорошенькую головку круглый чепчик, какие носят белошвейки, потом, глянув в последний раз на свою красоту в осколок зеркала, весело принимается за работу. На улице, волоча ноги, скромно и сдержанно передвигается старый холостяк, бедняга, согбенный годами и своею свободой; в руках у него треснувший горшок, он вышел за ежеутренним своим завтраком. Стоит посмотреть, как загораются его серые глазки при виде молодой горничной, снисходительной кокетки, подающей ему как милостыню свой взгляд. А старая молочница стоит в нерешительности между двумя этими постоянными клиентами; рядом ее маленькая тележка и большая собака; дальше нищий, еще бодрый, льстящий поварихам на всех кухнях, успокаивающий своей честной миной тех, кто мог бы опечалиться его жалобным голосом, собирает обильную милостыню; а в отдалении несчастная публичная женщина, тщетно уповавшая на фортуну, неудачливая бродяжка, бледная, без гроша в кармане, в растерзанном платье тайком пробирается в позорное свое логово, чтобы оплакать там роковую ночную игру — игру, жертвой которой она стала, ибо играла не на что иное, как на свои поцелуи. Каждое утро я битый час предавался этой пошлой забаве, после чего поливал свои анютины глазки, подрезал свои розы, наводил порядок в своем садике, подравнивал высокую поросль на своем подоконнике, всячески украшал свои владения, читая при этом потрепанный какой-нибудь шедевр былых времен. Я навсегда, до конца дней своих, остался бы человеком убогим, человеком пропащим, чуждым поэзии, если бы вовремя не понял, что я — жертва обмана, если бы не встретил юную Анриетту на осле, а минутою позже не увидел бы этого же осла под грузом навоза.

От чего зависит ход нашей жизни! Когда по здравом размышлении и после нелегкой внутренней борьбы я отказался от сладостного обыкновения проводить утро в наивном созерцании у своего окна, от своих роз и анютиных глазок, от шедевров минувших великих веков; когда убедился, что в пышных покоях гнездится супружеская измена; что моя гризетка отдается первому встречному, которому заблагорассудится повести ее на танцы у заставы; что этот холостяк со сливками всегда был лишь жалким себялюбцем, чья любезность вызвана низостью; что горничная, выросшая в доме своей хозяйки, отняла у нее мужа и развратила ее младшего сына; что все эти подлые торгаши поднимаются чуть свет для того, чтобы подделать свой дрянной товар, и подают милостыню только из суеверия, — я принялся искать замену своим утренним грезам, и я отправился во Дворец Правосудия. Был полдень, как раз подходящий момент. Один адвокат поднимается вверх по широким ступеням, другой спускается вниз, снуют с деловым видом безбородые ораторы, коим нечего делать; судейские чиновники, прикованные скукой к своим сиденьям, судебные приставы с пронзительными голосами, тяжелые тележки с несчастными подсудимыми, чья жизнь или свобода зависят от красноречия первого встречного! Я столько всего насмотрелся, что в святилище правосудия мне понравилась лишь железная позолоченная решетка: я представил себе перед этою решеткой какого-нибудь молодого кузнеца, привязанного к позорному столбу за то, что он украл кусок железа; увы, вот он размышляет о том, что, владей он хотя бы обломком этой решетки, он и сейчас бы пребывал свободным и счастливым в кругу своей семьи; и во время самого горького из этих сожалений бедняга вдруг чувствует холод на плече, за которым следует острая боль и вечный позор!

Когда-то я любил Цветочную набережную. Настоящая гирлянда, связующая цепью из анютиных глазок, миртов и роз оба берега Сены, место встречи всех любителей дешевой природы: тут без нотариуса, без расспросов вы покупаете земельный участок, огород, сад и победно уносите его домой на руках; лютики, бледные лавровые деревца, простые голубые цветочки без запаха, белые маргаритки с желтой сердцевиной, анютины глазки, разросшиеся на кусочке картона: какая опора для цветка — игральная карта, одна из тех дьявольских сил, вершителей судьбы в игре, что посылают человека на каторгу или на дно реки! Когда я пригляделся к Цветочной набережной поближе, она тоже стала наводить на меня тоску: расположенная в двух шагах от виселицы, по дороге на Гревскую площадь, напротив «Судебной газеты», окаймленная судебными приставами с их подручными, адвокатами и стряпчими, не говоря уже о том, что на дне каждого цветочного горшка — известковый раствор, который делает цветок краше и убивает его. Так заставляют лгать даже розу.
Вот как все извращается благодаря этому ражу правдивости! Правда, которую упорно ищут те, кто стряпает поэтические произведения, — вещь страшная, я сравниваю ее с огромным увеличительным зеркалом, предназначенным для Обсерватории. Ты приближаешься к нему беззаботно, не подозревая ничего дурного, и уже хочешь мило улыбнуться самому себе, но вдруг в испуге отшатываешься, увидев красные глаза, изборожденную морщинами кожу, зубы, покрытые камнем, потрескавшиеся губы; и, однако, весь этот ужас старости — лишь твое собственное изображение, красивое и белое лицо молодого человека. Пусть это научит тебя не разглядывать свою цветущую юность со слишком близкого расстояния.
Мое ужасное продвижение в область правдивого было слишком быстро; вскоре я стал видеть только безобразную природу. Беспощадный мой анализ проникал везде и всюду, дерзко срывая старательно сшитые одежды, развязывая все шнурки, обнажая далеко запрятанные увечья, и я злорадно убеждался в том, что в области прекрасного имеется великое множество исключений. «И вправду, — говорил я себе, — неужели ты думаешь, что в этом мире есть что-нибудь истинно прекрасное и правдивое? Уродства, лжи — сколько угодно, да еще и вовсе недавно открытых!» Размышляя так, я отправился в Госпиталь для слепых и заткнул уши, дабы не слышать музыки незрячих; я пошел в Приют для глухонемых — и зажмурил глаза, чтобы не видеть премудрости глухих; я пошел в лечебницу костных болезней и с горечью подумал, что все эти искривления позвоночника будут достаточно хорошо скрыты, так что я первый на этом попадусь; и я представил себе свое изумление и испуг, когда, пожелав в законном супружеском восторге обнять юную свою новобрачную, я почувствую, как ее лгавшие мне прежде бедра ускользают из-под моих дрожащих пальцев, талия исчезает, и вместо грациозной красоты я найду лишь уродливое, бесформенное тело.
Среди прочих уродств я изучил однажды, в день рекрутского набора, защитников отечества. Их раздели, и они выставили, кто как мог, на обозрение спрятанные прежде уродства, и хвалились ими, как богач хвалится своим состоянием, дабы избегнуть воинской славы. Одни были в грязных сорочках, другие — в дырявых, самые элегантные — вовсе без сорочек; а под тряпьем — какие безобразные тела! Какие жалобные взгляды! Какой-то человек измерял их, рассматривал не менее заботливо, чем рассматривают лошадей, которых предстоит запрячь в «кукушку». Бедный род человеческий! Сперва выродились души, потом тело. И воинской славе приходится довольствоваться этими живыми мертвецами.
А когда наступал вечер, я возобновлял свои жестокие забавы: я выходил в город один и наблюдал, как у дверей театров жалкие люди с боем вырывают места в зрительной зале, чтобы аплодировать отравителю или дьяволу, отцеубийце или прокаженному, поджигателю или вампиру; я видел, как по сцене ходят люди, не имеющие иного ремесла, как делаться то разбойниками, то жандармами, то крестьянами, вельможами, греками, турками, белыми медведями, бурыми медведями, — всем, что угодно публике; не считая того, что они выставляют на грязных подмостках жен своих, малых детей и престарелых родителей; не считая их тщеславия! Эти театральные удовольствия, доставляемые подобными деятелями, вызывали у меня отвращение; но они входили в мою систему наблюдения над тем, как живет, веселится, смеется человеческая низость, которая обладает театрами, комедиантами, комедиантками и гениями, нарочно созданными для того, чтобы выделять для нас из действительности порок и ужас.

Потом я обошел из конца в конец великолепные бульвары: они начинаются от развалины-Бастилии и упираются в другую развалину — недостроенную церковь. Я наблюдал все фазы парижской проституции. Сперва, если идти от Бастилии, она еще робка, кажется, только набирает силы, она проявляется в малом — в какой-нибудь юной девушке, поющей непристойную песенку на потеху портовым крючникам и сборщикам пошлины. Пройдите дальше, и продажная женщина сменит маску: черный передник, белые бумажные чулки, чепчик без лент, мимолетный скромный взгляд, — медленно и с опаскою пробирается она под самыми стенами домов, словно боится прикоснуться к зачумленному. Дальше эта женщина разукрашена, полуобнажена, простоволоса, напевает хриплым голосом и оставляет за собою густой запах мускуса и амбры: это порок на потребу более искушенных любителей. Ступенькой выше — и вот уже у нас есть кашемировая шаль, мы разъезжаем на извозчике; купите постоянное место на авансцене театра «Жимназ» — и вы получите на целые сутки, почти для себя одного, тридцать шесть лет и кашемир; но только, друг мой студент, вы будете разорены на целый триместр.


Наконец, — но молчите, если вы благоразумны, и держите себя в руках, — на сей раз дело идет о даме, принятой в обществе, которую нелегко укротить. Видите ли вы в туманном далеке, полном богатых подарков, измен, любовных записок и нежных вздохов, любовницу вельможи, женщину, устроенную на широкую ногу, молодую и красивую, соблазнительную и разнаряженную, одним словом, танцовщицу из Оперы или инженю из Французского театра? Ах, эта женщина не была бы столь изысканна, если бы каждый вечер не меняла туалет и личину, если бы непрестанно не изображала лживые страсти и не вызывала их, если бы весь партер не твердил ей прерывающимся голосом: «Я тебя люблю!» — а любовник этой женщины не отвечал бы партеру с гордостью: «Любите на здоровье, но она-то любит меня!» Безумец! Как будто актриса когда-нибудь любила кого-нибудь, кроме партера! Виват! В этот час, в семь часов вечера, проституция царит по всему Парижу. В уголке на улице бедная женщина выставляет на продажу собственную дочь, у дверей лотерейных заведений старые женщины торгуют даже счастливым случаем. Поднимите голову: откуда льется весь этот свет? Он исходит от домов игры и разврата. В самом низу этой башни мужчина фабрикует фальшивые монеты; в этом темном углу женщина перерезает глотку мужу, ребенок обирает отца. Прислушайтесь: что за ужасный звук? Это тяжелое тело упало с моста в воды Сены, — о горе, быть может, этот утопленник юноша! Но идите своей дорогой и не беспокойтесь: во мраке и в текучей воде ничего не теряется.
Итак, от неосознанных чувствований, от беспричинного ужаса я, несчастный, рухнул в эту ужасающую правду, которая начала расползаться все шире, как масляное пятно.

МОРГ

Сколько ни погружался я душою и телом в эти страшные развлечения, сколько ни выворачивал наизнанку, без жалости и милосердия, все вокруг, делая из красоты уродство, из добродетели порок, из белого черное, — все было напрасно: чем стремительнее проникал я в область ужасного, тем чувствовал себя более подавленным и несчастным. В глубине души у меня оставалось что-то похожее на сожаление, на угрызение совести. В новой жизни, которую я себе навязал, не хватало цели, героини, не хватало девушки из Ванва. По непредвиденной случайности я снова увидел ее однажды утром на повороте улицы Таранн, у фонтана, — она наблюдала за падением водяных струй. Напрасно было бы искать у нее на голове скромную шляпу из выцветшей соломки, на лице — румянец и оживление прежних дней, на руках — здоровый золотистый загар. И все же то была она, та самая девушка из Ванва, но вот какою ее сделал город: засаленные перчатки, стоптанные башмаки, новая шляпка, облегающее платье, крахмальный воротничок в мелкую складку — полубогатство-полунищета! И это Анриетта! Держалась она с чопорным достоинством и, хотя останавливалась у каждой модной лавки и везде, где было на что поглазеть, казалось, спешила. Впрочем, ее скромный вид, сдержанная поступь, немного жеманная повадка — все заставляло меня рассудить, что здесь уже свил себе гнездо порок.
Я пошел за нею. Она то двигалась медленно, то ускоряла шаг, то оглядывалась на прохожих, то они оглядывались на нее. Она ничему не удивлялась, ничто ее не трогало. И так мы спустились по улице Сен-Жак. В конце улицы толпа осаждала двери дома, довольно бедного с виду, который именем закона подвергался целому нашествию, — весь дом внутри был набит спекулянтами. По обеим сторонам улицы выставлен обычный товар передвижной торговли — несколько новых зеркал, старые молитвенники, самые низменные предметы обихода, картины без рам и рамы без картин; какой-то бедняга был арестован за долги, продавали всю его обстановку, обстановку грошовую, но для него драгоценную, жалкую рухлядь, составлявшую все его имущество: жесткую кровать, которая была его брачным ложем, некрашеный стол, за которым он сочинял свои книги, старое кресло, в котором скончалась его мать, портрет, писанный им с жены до того, как эта обожаемая жена сбежала в Брюссель со своим соблазнителем, хорошие гравюры, приколотые булавками к стене, — все это находилось теперь в руках правосудия. Правосудие было представлено визгливым голосом, а также и другими голосами, гудящими, словно трутни, и набивавшими цену. Пошло с молотка все, вплоть до чижика в клетке; только собаку достойного человека никто не захотел получить и задаром, — его собака и его ребенок забились в угол. Правосудие ими пренебрегло! Потребовался всего какой-нибудь час, чтобы общипать этого несчастного по всей форме; никто не подумал о том, сколько горя, сколько одиночества ожидает его в тюрьме Сен-Пелажи[25], под замком, о пяти годах заключения, за которым последует жизнь без крыши над головой, без средств к существованию, об этой девочке… Никто, даже юная Анриетта! Я долго наблюдал за нею и не обнаружил на ее лице ничего, кроме любопытства, — ни мысли, ни жалости, ни следа сочувствия, ни души: она вышла из этого дома, отмеченного горем, словно после дарового представления, оправляя широкие рукава своего платья, и через двадцать шагов остановилась напротив полицейского участка, куда двое подручных пристава тащили нищего, не имевшего патента на сбор милостыни.

До сего рокового дня этот нищий был счастливейшим из смертных: он побирался всю жизнь, побирались его прадед, дед, отец, все родственники по материнской и отцовской линии. Сбор милостыни был неотъемлемым правом этой фамилии пэров панели. Наш нищий пятнадцати дней от роду уже просил милостыню, лежа у груди своей матери.


В двухлетнем возрасте протягивал ладонь прохожим, спокойно усевшись на ступенях Нового моста между клеткой с собаками и продавщицей республиканских декретов; юношей обнаружил такой талант казаться уродливым, что смог уклониться от военной славы Империи, — тогда он клянчил милостыню во имя утерянной королевской власти и злосчастий нашего родовитого дворянства. Когда королевская власть была нам возвращена, он превратился в солдата, побывавшего под Аустерлицем и Арколе, он тянул руку во имя французской славы и удара судьбы при Ватерлоо; так что никогда не иссякала к нему жалость публики. Современная история была для него неисчерпаемым источником щедрой благотворительности и почтительного подаяния.

А завершив свой побор, он располагался на каком-нибудь перекрестке, насмехаясь в душе над торопливостью стольких прохожих, гнавшихся до потери дыхания за неведомым счастьем, кое сам он обретал так легко, не сходя с места. Он гордился своею жизнью не меньше, нежели ученый мудрец XV столетия; и, верно, он был истинным мудрецом, угадавшим доступное ему счастье, притом он на свой лад всеми средствами служил государству, обогащая отечество путем пополнения косвенного налога, ибо по утрам он охотно предавался приятным и обильным возлияниям, весьма угодным управе по взиманию городских пошлин. В полдень, если солнце сияло, а воздух бывал чист и свеж, он любил, зажав в зубах черную трубочку, одурманивать себя табаком и плести в воздухе веселый узор из колеблющихся струек дыма, столь выгодного для налогового управления; а поскольку его трапеза состояла обыкновенно из одной лишь солонины, он с полным правом утверждал, что является самым полезным гражданином Франции, раз больше всех употребляет вина, табаку и соли — трех продуктов, наиболее доходных для представительного правительства. Что было не таким уж глупым утверждением.
Вот почему он был донельзя поражен, когда ему объявили, что отныне его будут содержать под кровлей, кормить, обогревать и обстирывать без необходимости просить при этом милостыню.
Мы видели, как он проследовал в арестный дом; лицо его было еще ясно, весь вид выражал спокойствие и благородную грусть, и, поскольку в конечном счете для него стоял вопрос о свободе, я его пожалел. Анриетта равнодушно отвела взгляд и продолжила свой путь; я последовал за ней, и мы вместе пришли к моргу.
Морг — это маленькое четырехугольное строение, стоящее, будто на часах, напротив больницы; сводчатая крыша одета водорослями и вечнозелеными растениями, что создает приятное впечатление. Морг замечаешь еще издалека; у его подножия катятся черные воды, замутненные нечистотами. Сюда входят запросто живой и мертвый в любой час дня или ночи; низкая дверь всегда отперта, стены сочатся сыростью; посреди пустой залы, на четырех-пяти больших черных плитах, составляющих единственную меблировку этой пещеры, покоится столько же трупов; иногда, в пору сильной жары, как и во всех мелодрамах, — по два трупа на каждой плите.
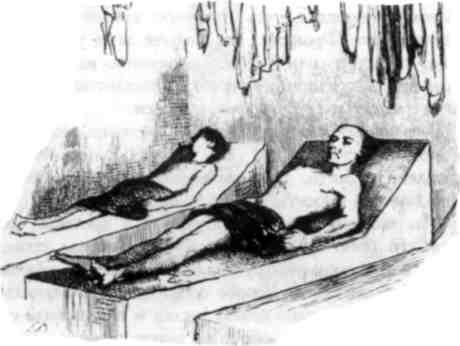
В тот день их было всего лишь три: первый был старик каменщик, который размозжил себе голову, упав с высоты четвертого этажа как раз в тот момент, когда, завершив рабочий день, собирался сходить за скудною платой. Ясно было, что после долгих лет труда несчастному не под силу сделалось его тяжкое ремесло; окрестные кумушки — а тут было излюбленное место их встреч, болтовни и развлечений — рассказывали, что ни один из выращенных стариком троих детей не пожелал его опознать, опасаясь расходов на похороны. Рядом с бедным рабочим — маленький мальчик, раздавленный каретою графини с улицы Эльдер, лежал полуприкрытый черным кожаным полотнищем, прятавшим его огромную рану, — казалось, ребенок спит, позабыв о школьных уроках и розге учителя; над его головою висели его фуражка, зеленая тетрадка, вышитая блуза, измазанная грязью и кровью, и корзиночка с завтраком; на среднем камне, между стариком и ребенком, раскинулось тело красивого юноши, уже подернутое лиловатой синевою смерти. Анриетта остановилась перед этим зловещим камнем и произнесла вполголоса:
— И вправду, это он!
Действительно, несчастный безумец — поверите ли? — убил себя из-за этой женщины. Он был первой игрушкой в ее руках, и она ее сломала, как ребенок, которому каждое утро дарят новую игрушку вместо сломанной накануне. Так бывает в жизни каждой женщины, и нередко безжалостнее всего злоупотребляет чувством несчастного та, кого он больше всех любит. С бедным самоубийцей именно так и произошло. Он встретил эту женщину, полюбил ее, как водится, с первого взгляда. Ради нее забыл он свой готический замок, свое обширное графство в Англии, свое будущее в палате лордов, свое имя, которое в Америке произносили не иначе, как склонив голову! Он, как и я, видел ее скачущей на Шарло! Видел во всей ее девственной красе и верил, что под столь чистыми формами найдет душу! Душа испарилась, а он — он мертв! Она не произнесла иных слов, кроме «Это он!», и, удостоверившись, что наконец избавилась от этой великой любви, от этой безграничной преданности, казалось, облегченно вздохнула. Он не мог больше любить ее, слава Богу! И она направилась к выходу из морга; но тут на пороге возникли еще двое молодых людей: у одного был озабоченный вид слуги из хорошего дома — то был не более и не менее, как преждевременно созревший ученый; другого можно было принять за вельможу — то был лакей утопленника.
Он узнал своего хозяина с первого взгляда — у них была если не общая мать, то общая кормилица, общие детство и юность, они думали, что ни на день не переживут друг друга, они были почти что братья; слуга не захотел бы стать хозяином, так любил он названого брата! Лакей уселся в ногах покойного и погрузился в молчаливую скорбь, тогда как тупоумная толпа, та гнусная толпа, что составляла некоторое время французскую нацию[26], казалось, ничего не понимала в этом немом горе.
Был как раз день рождения смотрителя морга, его семья и приятели собрались за столом; в его честь пели куплеты, сочиненные нарочно по этому случаю, он был так же пьян, как и все прочие, однако время от времени приподнимал красную занавеску, отделявшую его трапезную от залы, дабы убедиться, что никто не украл его покойников.
Тем временем первый из вошедших приблизился к англичанину.
— Хотите вы увидеть своего хозяина снова на ногах? — спросил он.
— Моего хозяина! Снова увидеть моего хозяина! — вскричал несчастный.
— Да, вашего хозяина собственной персоной, с приветливо поднятою рукою, с улыбкой на устах, хотите?
Англичанин испуганно уставился на него с таким беспокойно-недоверчивым и несчастным видом, что сам сделался похож на мертвеца.
— Нынче вечером, — продолжал незнакомец, — доставьте мне этот труп, и я сдержу слово.
Англичанин, весь дрожа, взял протянутую ему бумажку с адресом и, словно покоренный такой уверенностью и столь торжественным обещанием, отвечал:
— Я приду.
Незнакомец, Анриетта и я, будто сговорившись, вместе вышли из морга.
Едва очутившись за дверью, я приблизился к чудотворцу; я забыл об Анриетте, я был целиком поглощен этим покойником, которого он собирался вечером оживить.
— Сударь, — настойчиво обратился я к нему, — осмелюсь ли просить у вас дозволения присутствовать нынче вечером при обещанном вами воскрешении?
— Охотно дозволяю, сударь, — отвечал он и, думая, что Анриетта пришла со мною, обернулся к ней, чтобы пригласить и ее тоже. Но один Бог знает, в каких выражениях было сделано это приглашение! У меня же волосы на голове зашевелились при одной мысли о том, что мне предстоит увидеть. «Держись! — сказал я себе. — Теперь уж ты собираешься заигрывать с мертвецами! Вот это, и правда, решительный шаг в царство ужаса!»

МЕДИЦИНСКАЯ ВЕЧЕРИНКА

Я призвал на помощь все свое мужество. Солнце угрожающе быстро ушло за горизонт; мне было холодно, страшно, стыдно, я так волновался, будто готовился совершить преступление. У меня есть теория относительно преступлений, которая могла бы послужить материалом для толстой книги. Я полагаю, что, если бы все люди проживали в больших, просторных комнатах, они проявляли бы меньше склонности к преступлению, больше прислушивались бы к голосу совести. Но в наши дни мы стараемся все сжать и уменьшить. Человек погребает себя в пространстве шесть футов на шесть, да и это ничтожное пространство сокращает, загромождая его картинами, пыльными книгами, статуями под античность; он задыхается под грузом роскоши и произведений искусства, дабы при каждом повороте шеи находить для себя новое развлечение. Как же может прорвать такую осаду добродетельная либо страшная мысль? Вы скажете, что имеются большие гостиные, куда с трудом проникает дневной свет, где стены обиты панелями из черного дерева! Там все становится торжественным, там эхо благоговейно вторит каждому биению сердца; там вы ощущаете свое одиночество и беспомощность — беспомощность существа, неспособного заполнить собою свое жилище; там говорит своим языком и поучает вас даже сама тишина. Я понимал, на что иду, но ведь я был ярым приверженцем ужасного, — как же отказаться от этого последнего причащения к нему? Знать греческий язык — и не прочесть «Илиаду»! Невозможно! Пробило девять, я вышел из дому.
Моя лошадь мчалась галопом, путь показался мне долгим; остановившись у нужной двери, я почувствовал, что он был слишком коротким. Дом выглядел вполне пристойно, я поднялся по лестнице. В ярко освещенной гостиной я обнаружил группу весело настроенных молодых людей; хозяин дома встретил меня довольно приветливо. Но, о Небо! Полулежащая на диване женщина, не Анриетта ли это? Она здесь! Казалось, она главенствовала здесь уже целую неделю!
Шла оживленная веселая беседа, говорили — и хорошо! — обо всем понемножку, можно было подумать, что я попал на вечеринку, что ожидают г-жу Даморо или крошку Литц; но вдруг на лестнице послышались глухие шаги, громкий шум за дверью, обе ее створки распахнулись — то был молодой человек из морга; он нес на плечах тело своего хозяина; оглядевшись, куда бы положить мертвеца, он нахмурился и сбросил свою ужасную ношу на диван, где лежала мадемуазель Анриетта, так что голова утопленника оказалась рядом с головою девушки, из-за которой умер несчастный!
Тем временем приготовили стол — он был завален газетами, гравюрами, нотами современной музыки, потребовалось некоторое время, чтобы все это убрать. Англичанин повернулся лицом к дивану, сверля взглядом неблагодарную девушку.
Когда все было готово, труп положили на стол, приставили отвалившуюся ногу, и умелец приступил к операции…
. . . . . . . . . . . . . . . .
Труп поднялся, челюсть у него лязгнула, оторванная нога тяжело рухнула на паркет, и на глухой удар фортепиано отозвалось жалобным звуком; все было кончено!

Молодой англичанин был вне себя. Заметив эту хрупкую и ужасную видимость жизни, он было радостно вскрикнул; но, увы! прах человеческий ожил менее чем на секунду. Англичанин бросился к потревоженному мертвецу, взял его за руку — рука была холодная. Тогда он стал протирать себе глаза, словно мучимый дурным сном, и хотел бежать. Я поспешил за ним, поддерживая его на ходу. Мы были уже в дверях, как вдруг он обернулся и с угрозой сказал хозяину дома:
— Сударь, завтра в восемь часов я вернусь, но до тех пор удалите от мертвеца эту женщину жалости и уважения к нему ради!
Я увлек его прочь от гибельного этого места. На лестнице мы чуть не сбили с ног лакея, который нес гостям пылающую чашу пунша.

СБОРЩИЦА ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Я сказал себе, что слишком поспешно вступил в царство ужаса. Не так, конечно, действовали древние мастера изображать страдание; с меня должно бы хватить «Эдипа на горе Киферон», «Гекубы», «Андромахи», «Дидоны», смерти Гектора и старого Приама на коленях перед Ахиллом; к тому же не способно ли душевное страдание сильнее воздействовать на наши чувства и вызывать иной, более живой отклик, нежели страдания телесные? Наконец, в ожидании того дня, когда извлечение камня из мочевого пузыря послужит основою драмы или эпической поэмы, я решил оставаться немного более похожим на прочих людей.
Но увы! Вопреки всем моим усилиям я в скором времени вернулся к излюбленному своему предмету изучения — правде в царстве ужаса, ужаса в области жизненной правды. Поистине, мы живем в слишком эгоистическом обществе, нас не могут тронуть злосчастия ближних; сочувствие воображаемым бедам кажется нам возмутительным излишеством, довольствоваться ныне страстями древней поэтической вселенной — значит вычеркнуть себя из списка живых в мире, который устал искать душевных волнений у героев истории и не нашел ничего лучшего, как развлекаться одними лишь каторжниками и палачами. Тут я снова возвращался к первоначальным своим расчетам.
«Правда, наблюдая эти жгучие страдания, я разучусь плакать», — говорил я себе, стеная. Горделивый безумец! Не плакать! Хороша победа! Разыгрывать стоицизм — хранить в сердце капли влаги, разбивающие его! Такому молодому отказаться от блаженства слез, да еще и кичиться этим как неким подвигом! Вот к какому жалкому шарлатанству подтолкнула меня новая поэзия! Я был как человек, умирающий от жажды, который держит в руках бутыль животворной воды, но не может глотнуть ни капли из этой бутыли, потому что она чересчур полна и слишком плотно прижата к его устам!
А кроме того, я желал узнать любой ценою, пусть даже ценою своего проклятия на этой земле, что сталось с героиней моей истории; я хотел найти смысл этой печальной загадки, словно был уверен, что в ней кроется какой-то смысл.
Бедная, она разделила судьбу многих падших женщин, то взлетающих на верхи общества, то низвергающихся вниз; нынче в шелках, завтра в грязи, то роскошь, то нищета, и так до того часа, когда красота уйдет и придется впасть в нищету бездонную. Анриетта старалась каждодневно извлекать новую выгоду из своего обаяния и юности, так что скоро сделалась своего рода светскою дамой, то есть почти уважаемой женщиной, ибо в сфере порока бывает положение едва ли не столь же почетное, как и в сфере добродетели: на определенной высоте порок уже не презираем, самое большее, если он становится темой для скандалов, — презрение остается, скандал забывается. Войдя в высокие круги под покровительством любовника с громким именем, который сам оказался под покровительством и защитою своей любви, она сделалась дамой-благотворительницей, чтобы не быть просто любовницей дворянина, приставленного к королевской опочивальне. К амбре, которою надушен был ее туалет, она добавила капельку ладана, ее мирская красота преклонила колени на молитвенную скамеечку и от этого показалась еще более изящной. В те годы красота, даже и мирская, совсем как благородное происхождение, совсем как богатство, была титулом, обеспечивающим любезный прием в доме Господнем. Анриетта скоро стала неизменной посетительницей обычной и праздничной церковной службы и получила постоянное место на церковной скамье. Швейцарец склонял перед нею перья своей шляпы и звонко бряцал алебардою[27]. Она просила пожертвований такою маленькой ручкой, таким нежным голосом! Я словно вижу ее на всех блестящих празднествах, вижу, как она, держа в сверкающей бриллиантами руке лиловую бархатную сумку, улыбкой призывая тщеславную благотворительность мужчин и поклоном мелочную благотворительность женщин, проходит по зале. Однажды утром она явилась за подаянием ко мне домой; я был один!
Только что пробило два часа пополудни; жаркое солнце опаляло мою улицу, ставни на окнах были затворены, на моем столе стоял прекрасный букет роз, комната, чистая и прохладная, освещалась лишь нескромным солнечным лучом, голубым и белым, как мои занавески, — преодолев все препятствия, он падал прямо на дивную головку мадонны, точно вышедшую из-под кисти Рафаэля. Итак, она вошла, юная красавица, ставшая такой блестящей, вошла одна, пышно разодетая, всколыхнула благоуханный воздух моей гостиной, и на ее взволнованном лице я увидел весенний отблеск былого румянца. Я был с нею вежлив, предупредителен, даже нежен. Она, когда-то не обратившая на меня внимания, как на человека толпы, нынче явилась ко мне в столь неподобающий час, наряженная будто для вечера; наконец-то она была здесь, наконец-то взглянула на меня и обратилась ко мне с несколькими словами — здесь, у меня дома, чтобы вымолить у меня пожертвование! Я мигом позабыл всю ее теперешнюю жизнь, я помнил лишь то дитя и резвого Шарло.

— Наконец-то вы навестили меня, юная моя Анриетта, — сказал я, усаживая ее как старую знакомую или как человек, знающий с кем имеет дело и потому обходящийся без церемоний.
— Анриетта, милая Анриетта! — воскликнула она почти с негодованием. — Вам, сударь, значит, известно мое имя?
— А Шарло, Анриетта, знаете ли вы, что сталось с Шарло?
— Шарло? — Она глядела на меня со вниманием слишком безмятежным, чтобы быть разыгранным, то ли силясь вспомнить, знавала ли меня прежде, то ли притворяясь, что не помнит Шарло. Такое полное забвение резнуло меня по сердцу.
— Да, бедный Шарло, — продолжал я, все более волнуясь, — грациозный Шарло, которого вы так любили, так пылко целовали, Шарло, резвый Шарло, на котором вы так лихо скакали по Ванвской долине, своевольный Шарло, из-за которого вы однажды потеряли соломенную шляпу, работяга Шарло, который тащил навоз на поле вашего батюшки, Шарло, которого я потом видел… Увы, если бы вы знали, Анриетта, где я потом встретил Шарло!
Она вытащила из узорного мешочка сафьяновую записную книжечку с золотыми уголками и, не ответив, произнесла:
— Я собираю пожертвования для подкидышей, сколько вы дадите?
— Нисколько, сударыня.
— Прошу вас, подайте им из любви ко мне; в прошлый раз я набрала на триста франков больше, чем госпожа ***, я буду в отчаянии, если нынче она обойдет меня.
— Знаете ли вы, что такое подкидыш?! — резко вскричал я.
— Нет еще, — отвечала она.
— Так узнайте же, сударыня, и тогда, идя из родильного приюта, без гроша за душою, увядшая, постаревшая, дрожащая и больная, покрытая позором и грязью, возвращайтесь сюда, окликните моего лакея, назовите имя Шарло, и я подам милостыню вашему дитяти.
Она медленно поднялась, не забыв тщательно оправить свое шелковое платье, с сожалением посмотрела на свой кошелек, бросила удовлетворенный взгляд в мое зеркало, другой на меня самого; она всем своим видом силилась выразить презрение, но в ней не было даже гнева: гнев — последняя из добродетелей, требующих участия сердца.
Когда она ушла, я пожалел, что так принял ее при первом же посещении, так твердо отказал в первой ее просьбе! Иметь случай дотронуться до ее руки, вкладывая в нее золотой, и так грубо оттолкнуть эту умоляющую руку! Но нет, правильно я поступил, что был жесток, — как ни хороша эта женщина, она не стоит подаяния. В ее просьбе слишком много кокетства, в ее благотворительности слишком много суетности; и к тому же — ни слова о Шарло! Ни единого воспоминания о Шарло, моем друге Шарло, наивном Пегасе моей поэтической юности! Холодная и тщеславная — и, однако, такая молодая, такая прелестная! «Я узна́ю, что с тобою станется, — говорил я себе, — я буду следовать за тобою как тень, не отступлю от тебя всю твою жизнь, а она наверняка будет короткой. Несчастная девушка, уже презренная, раз ты так скоро разбогатела! Это твое довольство не может длиться вечно, каприз какого-то мужчины сделал тебя богатой, другой каприз низринет тебя в ничтожество!» И я перебрал в уме истории большинства молодых девушек, коих судьба бросила при рождении в низкую общественную среду, дабы они послужили игрушками немногих богачей, а те обращаются с ними, как с дорогими лошадьми, и столь же легко от них избавляются.
Женщина — самое злосчастное существо из созданных по подобию Божию. Детство ее, наполненное ребяческими занятиями, протекает скучно; ранняя юность — и обещание и угроза; ее двадцатый год — это ложь; обманутая фатом, она разоряет глупца; зрелый возраст — это позор, старость — ад. Она переходит из рук в руки, оставляя каждому новому хозяину лоскутки своего «я», — свою невинность, молодость, красоту, наконец, последний зуб. Хорошо еще, если после всех несчастий бедняжка сможет найти убежище на краю панели, на больничном одре или за кулисами мелодрамы. Видывал я и таких женщин, которые, чтоб не умереть с голоду, позволяли дробить камни у себя на животе, а ведь были когда-то хорошенькими! Иные выходили замуж за доносчиков. Я знал одну, которая согласилась сделаться законной супругою цензора, низкого и подлого цензора, у коего указательный и большой пальцы правой руки были еще красны от ножниц! Так скажите на милость, стоит ли быть красивою? А между тем красота — это столь редкий дар! В одном этом слове заключено столько счастья и любви, столько покорности и почитания!.. И все же горе, горе этой дивной земной оболочке, если она не скрывает за собою сердце и душу!

ДОБРОДЕТЕЛЬ

И вот я сделался мрачнее, чем когда-либо; я тревожился за себя, не зная, не влюбился ли я в эту женщину всерьез, невзирая на все мое к ней презрение. Чтобы хоть немного отвлечься, немного забыть свои тревоги, я оставил свои поэтические философствования, намереваясь вернуться к ним позже, когда я буду поспокойнее, и на какой-то миг погрузился во мрак метафизики. По своему обыкновению, я начал изучать ее особо от всех иных наук, изучать эту овеществленную абстракцию, ее жаргон, размеренный и звучный, но никому не внятный и не дающий результатов. Я искал первопричину добродетелей и пороков, долго размышлял над тем, что́ есть счастье и удовольствие, — лучше не стал бы действовать и человек, вырвавшийся из Шарантона. «Где ты, счастье?» — вопрошал я себя, и я начал приглядываться к прохожим: каждый гнался за тем, что ему казалось счастьем, и все делали это по-разному, но цель у всех была одна. «Остановимся же и поглядим, куда это нас заведет», — сказал я себе.
Я уселся под деревом, этим солнечным зонтом проезжих дорог, пыльным и опаленным, но меня вывел из задумчивости подошедший путник, в коем, по монотонной его просьбе еще более, чем по суме и суковатой палке, я признал бродягу, этого современного странствующего рыцаря, который бывает покорным и льстивым лишь до наступления темноты. Поскольку дело происходило среди бела дня, он приблизился ко мне учтиво и попросил поделиться с ним частью моей тени, после чего, не дожидаясь ответа, бесцеремонно уселся со мною рядом, вытащил из котомки хлеб и флягу с вином и принялся поспешно ее опустошать, время от времени испуская глубокие вздохи, будто затем, чтобы не утратить привычку к ним. Я сообразил, что для изысканий, коими я был в данный момент занят, этот человек может оказаться весьма ценным подспорьем, и обратился к нему с заинтересованным видом.
— Брат, — вопросил я, — знаете ли вы, что такое счастье?
Он уставился на меня в удивлении и, прежде чем ответить, сделал глоток из фляги.
— Счастье, — произнес он наконец. — О каком счастии вы толкуете?
Подобного вопроса я не ожидал, он смутил меня, и, чтобы уклониться от разъяснений, я возразил:
— Значит, вам известны различные виды счастья?
— Вне всякого сомнения. С тех пор как я родился на свет, я испытал их великое множество: ребенком я имел счастье обладать отцом и матерью, а ведь сколько детей растут без родителей; юношей я имел счастье лишиться в Бристоле только одного уха[28], хотя заслужил, чтобы мне отрезали оба; в зрелом возрасте я вкусил счастье путешествовать за казенный счет и ознакомиться с нравами и обычаями чужих народов; вот вам много разных видов счастья.
— Но все эти виды счастья, мой друг, — лишь частицы счастья как такового, можно сказать, разные члены одной семьи. Как понимаете вы счастье вообще?
— Поскольку не существует бродяги вообще, я не могу вам ответить. Но за свою жизнь я заметил, что для здорового человека счастье — это стакан вина и кусок сала; для больного счастье в том, чтобы лежать одному на мягкой больничной постели.
— При такой жизни, полной одиночества и лишений, вас, должно быть, терзало много страстей?
— Я знал страсти ужасные, — тихо сказал он, склоняясь ко мне. — Сперва я пылко любил плодовые деревья и виноградники в осеннюю пору, потом обожал кабаки и таверны, совершал тысячи безумств ради малой толики деньжат; помню, я провел четыре долгих зимних ночи в ожидании жалкого бархатного сюртука с металлическими пуговицами; я едва не попал на каторгу из-за невинного мула, за которым забрался в конюшню. Теперь все эти страсти совершенно утихли, — добавил он и, пока я с восхищением слушал его, стащил у меня из кармана носовой платок.
— Не спрашиваю, были ли в вашей жизни горести, — продолжал я сочувственным и грустным тоном.
— Нет такой горести, какую не преодолела бы карточная игра, — возразил он с улыбкой, уже готовый предложить мне партию.
— Были ли у вас друзья, славный и достойный человек?
— В девятнадцатилетнем возрасте у меня был друг, я проломил ему голову из-за трактирной служанки; был у меня друг в Бристоле, я устроил так, чтобы его повесили, и этим спас свое второе ухо; еще вчера у меня был друг, я выиграл у него его котомку, хлеб и паспорт. Всю жизнь у меня были друзья и всегда будут, — добавил он.
— Вы много путешествовали, что видели вы самого удивительного?
— В Бристоле я видел, как веревка оборвалась под тяжестью висельника; в Испании видел инквизитора, который отказался сжечь еврея; в Париже видел полицейского шпика, заснувшего под дверью заговорщика, в Риме купил хлеб в одну лишнюю унцию весом. Вот и все.
— Вы так хорошо знаете, что такое счастье, — не знаете ли случайно, что такое добродетель?
— Об этом мне ничего не известно, — возразил он.
— Весьма сожалею, — отвечал я, — мне крайне важно было бы узнать ваше мнение. — И я снова принял озабоченный вид.
В следующее мгновение нищий уже стоял передо мною, держа в одной руке свой посох, а другую торжественно вытянув вперед.
— К чему отчаиваться, хозяин, — провозгласил он. — Если ни вы, ни я не знаем, что такое добродетель, то, возможно, существуют люди, в отличие от нас, знающие это; я их порасспрошу, если вы желаете и если думаете, что господин начальник полиции это дозволит.
— Расспрашивай! — отвечал я. — И будь спокоен: спросить у человека, что такое добродетель, — это не то же самое, что потребовать у него кошелек; только второе требование нескромно.
Бродяга стал посреди дороги с отвагой мошенника, который чувствует поддержку честного человека, — расставив ноги, высоко держа голову, сосредоточив взгляд и полуоткрыв большой рот, так что видна была огромная вставная челюсть, по меньшей мере в тридцать два зуба.
Как раз в это время мимо проходили два человека: один был ростовщик, другой — его жертва.
— Что такое добродетель? — крикнул им бродяга громовым голосом.
— Это деньги, данные взаймы из двадцати пяти процентов, — отвечал один.
— Это путешествие в Брюссель[29], — отвечал другой.
И они снова пустились в путь.

Бродяга обернулся ко мне, чтобы узнать, надо ли ему продолжать расспросы; я кивнул утвердительно. В тот же миг показался третий путник.
То был старый обитатель каторги, отбывший свой срок, у которого еще имелось тридцать шесть франков пятьдесят сантимов, чтобы сделаться добродетельным; впрочем, то был человек бывалый, удалой и веселый. Бродяга приветливо приблизился к нему.
— Доброго пути, приятель! Но прежде чем идти дальше, скажи, не знаешь ли ты, что такое добродетель?
— Добродетель, сынок, — это суд присяжных, десять лет каторги, палка надсмотрщика да две буквы на плече, которые нет нужды писать заново, — вот что такое добродетель.
— Хорошо сказано, — молвил бродяга, — если хочешь сделаться путешественником, как я, станем промышлять вместе; ты слишком правильно понимаешь добродетель, я не могу расстаться с таким товарищем.
И они отправились дальше вдвоем, но тут жандарм, во всю прыть скакавший на коне, закричал им:
— Стой!
— Что такое добродетель? — крикнули они всаднику.
— Добродетель, — отвечал тот, — это добрые наручники, добрая смирительная рубашка, добрая камера с тройным замком. — И он погнал их перед собою.
Вот каким образом вместо одного определения, коего я так добивался, я получил несколько.
Так что я столь же мало продвинулся в своих поисках, как сам Катон Утический[30], — ведь и он тоже предлагал свое скромное определение добродетели.

РАССУЖДЕНИЕ О НРАВСТВЕННОМ УРОДСТВЕ

К тому времени я уже узнал, что проказа сердца столь же отвратительна, как и всякая иная, и что если уж нам во что бы то ни стало нужен ужас, то, по всей вероятности, было бы разумно не ограничиваться уродством физическим: решение задачи, которую я перед собою поставил, а именно, изучить безобразное и уродливое, лежало, вне всякого сомнения, между двумя видами уродства — уродством тела и искаженностью души. Несчастный! Дорого обошлась мне эта наука, она стоила мне веселости, покоя, счастья; из вопроса, так сказать, литературного она сделала сперва вопрос любви, а напоследок — вопрос, разбиравшийся судом присяжных. Я слишком далеко зашел, чтобы отступить, я походил на человека, который начал собирать коллекцию насекомых и поневоле вынужден пополнять ее самыми отвратительными экземплярами.
К тому же это печальное и жестокое изучение жизни должно было, по моему суждению, дать мне более верное знание людей, нежели все сочинения моралистов. Много написано трактатов о прекрасном и возвышенном, о нравственной природе человека, и эти трактаты ничего не доказывают, — авторы останавливались на незначительных внешних проявлениях, тогда как надлежало копать в глубину до самой подоплеки. Что мне за дело до нравов наших гостиных, когда мы живем в обществе, которое не смогло бы и дня просуществовать без своих доносчиков, своих тюремщиков, своих палачей, игорных домов, притонов разврата, кабаков и театральных зрелищ? В мой план входило ознакомление с этими главными проводниками общественного воздействия, тем более что таким способом я смог бы на миг отвлечься от мучений телесных, коими занимался доселе.
И я принялся изучать даже полицейских шпиков, этих печальных героев, долженствующих занять свое место в моей истории; я повидал все их разновидности на площадях и перекрестках и был крайне изумлен, убедившись, что эти люди — отцы семейств, что они ласкают своих детей, улыбаются женам, что у них есть друзья, которые ходят к ним обедать, — более порядочной жизни не вел бы и самый добропорядочный буржуа.

Однажды на улице Св. Анны я видел, как в жалкую каморку вошел человек мерзкого вида, в лохмотьях, с длинною бородой, растрепанный и грязный. Откуда он пришел? Из какого логова, из какой пещеры? Скольких воров выдал он нынче утром? Минуту спустя я увидел, как этот самый человек выходил прилично одетый, с двумя крестами Почетного легиона на груди, — господин граф отправлялся на обед к судейскому чиновнику.

Столь мгновенное это превращение меня испугало, я содрогнулся, подумав, что так, быть может, и сходятся крайности.
В другой раз, поздним вечером, я видел младшего служащего из игорного дома, который возвращался домой, — целых девять часов подряд он равнодушными глазами созерцал разорение и отчаяние многих семейств, а теперь — глядите-ка! — бросает свой плащ закоченевшему на холоде бедняку.
Это балансирование между пороком и добродетелью испугало меня еще более, нежели перевоплощение на улице Св. Анны.
Я видел женщину в лотерейном заведении, молодую и привлекательную, она сидела за конторкой рядом с красивым молодым человеком, спокойно слушала его любовные речи и одновременно, с безразличным видом, продавала бедным рабочим гнусные бумажки, коим предназначено было довершить их несчастье.
Эта любовь по соседству с колесом фортуны возмутила мое сердце.
Я видел цензора, взгромоздившегося на свой эшафот и безжалостно обрубавшего человеческую мысль, словно речь шла лишь о том, чтобы отрубить голову; видел подлого пьяницу, который калечил общественное мнение, как усердный солдат, бьющийся против врага.
Во всех этих социальных клоаках гнуснее цензора я не узрел никого.

ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА

Домой я возвратился все еще осаждаемый этими мрачными образами, — мир плотский, когда я рассмотрел его вблизи, сделал меня несчастным, мир духовный, который я разглядывал в лупу, привел меня в уныние; под воздействием поэзии я возненавидел человечество, под воздействием реальности я вообразил, что должен возненавидеть жизнь; я упал с высоты, я, прежде на каждом шагу, при каждом биении сердца возносивший хвалу Богу, создавшему юность! Жизнь моя увяла, моя вселенная изменилась, я невольно ввязался в неразрешимую драму, надо было во что бы то ни стало выбраться из нее, а у меня не было развязки. И тогда моего сердца коснулась смутная мысль о самоубийстве. Печальная поэзия могил и мертвецов ужасна тем, что скоро делает привычной мысль и о своем собственном мертвом теле. Раз играешь с серьезными идеями, становится возможна любая экстравагантность. Убить себя, столь счастливого, свободного, любимого, чья голова так ясна, а сердце так переполнено, убить при жизни благородного моего отца, старой тетки, столь молодой еще моей матушки! Убить себя безо всякой причины, без оснований, лишь потому, что нескольким безумцам вздумалось изменить язык, нравы и литературные шедевры моей страны! Ах, вот почему подобная смерть казалась мне прекрасной и поэтической! И я подумал, что прежде всего надо привести в порядок — не дела свои, дел у меня не было, — а свои бумаги, коих у меня накопилось множество. И машинально я уже открывал тяжелый секретер черного дерева, инкрустированный желтоватым перламутром, драгоценный предмет моего домашнего обихода. Целая поэма была рассована по этим ящичкам! Я меланхолически пересмотрел ее, и осмотр этот оказался занимательным, как воспоминание — воспоминание вчерашнее, но которое по твоему желанию может стать надеждой.
Внутри секретера прежде всего бросается в глаза довольно большая груда бумаги, уже пожелтевшей, — это юношеские стихи, планы театральных пьес, начатые книги — полный провал, здание, выстроенное лишь наполовину и рухнувшее, куча обломков. Ни единая из этих некогда захватывавших меня мыслей не вышла на свет Божий, ни единая не получила отзвука во внешнем мире, ни одна не сохранилась в памяти человеческой. В искусстве воображения думать — еще не самое трудное, труднее выразить свою мысль, выбросить ее наружу достаточно завершенной, чтобы она могла поразить, достаточно красиво наряженной, чтобы она могла соблазнить. Хоть я был тогда юным и сильным, у меня не хватило на это мужества; словно неловкая или нерадивая служанка, я оставил свою богиню полуодетой, но не в той скромной и грациозной наготе, которая является верхом искусства, а в той полуодетости, что оскорбляет вкус: дурно натянутые чулки, поддерживаемые изношенными подвязками, корсет, в котором просвечивает каркас, плохо сидящая юбка — вся изнанка неудачного наряда. Вот что содержится в моем первом ящике.
Второй ящик почти пуст, тут лежат семейные бумаги, несколько документов на право собственности, государственная рента, ради приобретения которых было пролито столько родительского пота! Мое завещание всего в две строки — словом, вся моя независимость, моя сладостная и драгоценная свобода в этих клочках бумаги! Сожгите содержимое этого ящика, и завтра я сольюсь с толпою, завтра я уже только наемник, продавец острот за неимением лучшего, птица на ветке, которая уже в первый весенний день предвидит с трепетом мрачную зиму. Однако этот ящик, столь драгоценный для моего существования, — единственный не запертый; зато соседний с ним защищен двумя замками: в открытом ящике лишь денежные дела, в запертом — дела сердечные.
Я не из тех, кто смеется над ушедшей любовью. Я на себе испытал, что одна любовь полностью не замещается другою. Другая ущемляет третью, третья — четвертую, и так они постепенно ослабляются, словно эхо, словно недолговечные круги на воде от брошенного ребенком камня. Но есть такая женщина, которую никто никогда не заменит, — это вторая женщина, которую любил.
Все эти сладостные реликвии благоговейно разложены в ларце моей памяти по датам и эпизодам любви. Это письма, начертанные крупными буквами либо написанные таким мелким почерком, что, когда любовь уже ушла, их не прочесть без лупы; это прядки каштановых или черных волос, еще хранящих легкий аромат духов; это золотые или серебряные перстни, напоминающие о некоем часе, о дне, о неточной дате — как будто нам не суждено забыть даже, в каком году была эта вечная любовь! Это полустертые портреты, засушенные цветы — все виды легкомыслия, забвения, лжи, клятв, блаженства, обещаний, все виды небытия!
Ну что ж! Таково всемогущество памяти сердца, что все блаженство, все радости, все восторги, все удачи, все страхи, все слезы, все бурные ночи, все упреки, все приступы отчаяния, запертые и сохранившиеся в этом ящике, все выдохшиеся ароматы, все ушедшее опьянение я могу оживить в один миг и сказать им: Встаньте и окружите меня! — как сказал Христос умершему человеку. Да, вы все еще принадлежите мне, мои юные пылкие страсти, портреты, локоны, письма, ленты, увядшие цветы! Я знаю ваши имена, узнаю ваши голоса и ваш шепот. Вы — смеющиеся призраки былых моих страстей! Даже в темноте я распознал бы вас по форме и запаху, по чему-то смутно угадываемому, распознал бы всех в этой мешанине любовных воспоминаний. Вот первая фиалка, которую Анна сорвала для меня на берегу нашей любимой речки; вот лента, которую подарила мне Жюльетта в день своей свадьбы, бедняжка! Гортензия отдала мне этот вышитый носовой платочек, когда я впервые взял ее за руку. Эти длинные черные волосы принадлежали испанке, они украшали гордую и властную головку; я был тогда совсем еще ребенком и, несмотря на самые нежные ласки, не смел заглянуть в ее жгучие черные глаза; эта любовь меня пугала, я разбил ее, бурно начиная свое юношеское воспитание чувств.

Вот эти письма, видите? Грубая бумага, длинные кривые строки, особый язык, внятный лишь тому, кого любят! От светской дамы я возвысился до гризетки, юной нежной девушки, которая все впервые узнавала от меня, которую я любил безумно; она приходила по утрам, шаловливо бросалась на мой ковер и там, полусонная, со спокойною долгой улыбкой, глядела, как я работаю, а то с легким нетерпением ждала счастливой минуты, когда, гордая тем, что я веду ее под руку, очарованная своей юной красотой, она позволит увлечь себя на веселые празднества, на театральные представления, — всюду, где для того, чтобы тебя встретили приветливо, достаточно быть молодою и хорошенькой.
Есть в ящике браслет тончайшей работы, я бережно храню его; он подарен мне в минуту безумной страсти, когда рука как будто укорачивается, чтобы крепче обнять, когда золото скользит по руке, как по слоновой кости, когда женщина забывает обо всем, даже о своих кружевах и жемчуге. Она подарила мне и свой браслет, и свою любовь одновременно, но где эта любовь? А из всего золота, которое она расточила, бедная девушка, быть может, осталось только это! Когда тебе стукнет тридцать, пусть Небо дарует тебе хотя бы хорошее место в Бисетре[31] или Убежище кающихся дев, ибо рано или поздно тебе суждено там оказаться!
Но разве могу я рассказать вам обо всех моих сокровищах? Вот колечко невесты Гюстава: она поклялась мне, что будет ему неверна, и сдержала слово, честная девушка! Едва на пальце у нее очутилось это обручальное колечко, благословленное священником, как она обменялась им со мною на таинственный перстень, носивший наши инициалы; вот кусочек розовой подвязки, которую ее ножка снисходительно предоставила мне под свадебным столом. Поднесите к губам маленькую перчатку — красавица Анна швырнула мне ее в лицо, разгневавшись на то, что я танцевал с Юлией; не прикасайтесь к этому кинжалу с такой затейливой чеканкой на рукоятке, этот кинжал защитил Луизу, хотя не смог защитить ее добродетель. Дженни, когда уезжала из Франции в Англию, где ее ожидал старый муж, оставила мне хрупкий фарфоровый горшочек, где она хранила белизну и румянец своего личика. «Сохраните это, — сказала она, — мне некого больше обманывать!» Сюзанна послала мне свой пояс в день, когда почувствовала, что станет матерью: какая же у нее была осиная талия! За эту розу, выпавшую из белокурых волос Огюстины, дрались двое молодых людей, а я был секундантом Эрнеста; роза еще окрашена его кровью — бедный мальчик! Я сказал ветреной Люси, что у нее большие ноги, — назавтра она прислала мне эту черную туфельку, которая тесна была бы и ножке Золушки; вторую туфельку я так и не смог заполучить! О, привет, привет тебе, моя славная зеленая вуалька, совсем выцветшая, ты честно прикрывала самое свежее, самое хорошенькое, самое оживленное, самое веселое личико, какое когда-либо улыбалось моей юности. Вот эта история.
Однажды г-жа С… сказала мне (она хворала):
— Сходите вместо меня в дальний конец предместья Сент-Оноре, заберите из пансиона мою дочку, я хочу ее видеть; скажите ей, пусть будет умницей и больше не расстается со своею мамой!
Я отправился за девочкой. Целая стайка юных пансионерок высыпала в сад. Надо было их видеть, надо было их слышать! Тут было радостное щебетание выпущенных на волю птичек. В калейдоскопе свежих лиц я узнал крошку Полину, уже задумчивую, и я увел ее, торжествующую, не успевшую даже попрощаться с юными подружками. Когда мы подошли к двери материнского дома, я сказал:
— Что вы мне дадите, если я сообщу вам добрую весть? Поздравляю вас, мадемуазель Полина, если вы будете умницей, вы останетесь с мамой, пансион теперь не для вас!
И тогда Полина отколола свою зеленую вуальку.
— Держи! — сказала она. — Я тебе ее дарю за радостную весть. — И она побежала целовать свою матушку.
Милая моя вуалька! Мой целомудренный залог! Ты из простого газа, ты вылиняла под южным солнцем, ты пахнешь только неуловимым запахом прекрасного чистого детства, пятнадцатилетнего отрочества! Невинная моя вуалька, покров, которому нечего было скрывать, ты — самое драгоценное из всех моих сокровищ, ты — святая, чистая часть этой трогательной истории; твои пятнадцать лет, твоя невинность, твоя дочерняя любовь, твое милое неведение всплыли над всеми упоениями, над всеми очарованиями, представленными этими кусочками золота, лоскутами шелка; прости, моя зеленая вуалька, что я соединил тебя со всеми воспоминаниями о вульгарной любви; но не требовалась ли твоя невинность, чтобы очистить эти воспоминания?
И все это, все свои сокровища я отдал бы ради тебя, Анриетта! И даже — о, негодник, о, безумец! о, неблагодарный! — никому не отдал бы, но я сжег бы ради тебя, Анриетта, мою зеленую вуальку.

ПОЭЗИЯ

Когда я заканчивал эту опись, под руку мне попался тщательно запечатанный конверт; печать была нетронута, адрес написан моею рукою, хрупкое послание осталось лежать в ящике как священный клад, коего я не мог тронуть, не совершив правонарушения. И все же, повинуясь какому-то невинному любопытству, я вскрыл таинственный пакет. В нем находился шелковый носовой платок явно вышедшего из моды цвета; к нему был приложен простой листок бумаги, старательно запечатанный, все еще источавший слабый нежный аромат — сладостный предвестник любовного письма. Я развернул письмо; оно было начертано столь четким почерком, что сперва я не признал его за свой. Не без глубокого волнения перечитал я следующие стихи, давно уже позабытые:
К МАРИИ
Ткань нравится тебе — прими ее в подарок!
И ночью, в тишине, на темный шелк кудрей
Надень вуаль, чей цвет так нежен и так ярок,
Примерь ее скорей!
Когда же сон смежит моей кокетке очи
И сгонит до зари улыбку с алых уст,
Оставив красоту царить во мраке ночи,
Как роз расцветший куст,
И сомкнутых очей небесное сиянье
Опущенных ресниц прикроют веера,
И будет слышаться лишь ровное дыханье
До самого утра,
В тот час — еще слабей, чем шелестенье крылий,
Когда воздушный сильф, чья поступь так легка,
За юной феей вслед взлетает без усилий,
Не покачнув цветка,
Над головой твоей как будто бы знакомый,
Чуть слышный в темноте вдруг голос прозвучит:
«Спи, милое дитя, не расставайся с дремой,
Но знай, что он — не спит!»
У ночи просит он мелодий и сюжетов,
Легенд, не ведомых дотоле никому,
О тайнах неземной гармонии сонетов
Он вопрошает тьму.
А все лишь для того, чтоб мировая слава
Поэта вознесла высоко над людьми,
И он сказал тебе: «Она твоя по праву,
Любимая — возьми!»
Да, я найду слова, что не боятся тленья
И сквозь столетия сверкают, как кристалл,
Чтоб имя дивное твое над тьмой забвенья
Взошло на пьедестал!
Чтоб помнили его влюбленные отныне,
Как имя Делии, как будто сам Тибулл
Из тех времен, когда он пел свою богиню,
Мне руку протянул.
Но я прошу! Когда с моей священной тканью
Останешься — следи, чтоб чуждый взгляд ничей
К ней не проник! Запрись от дерзкого вниманья
На тысячу ключей!
А если все-таки случится так — о, Боже!
Мне даже эта мысль мучительно страшна! —
Что ты, не сняв ее, окажешься на ложе
Средь ночи не одна.
И что соперник мой в любовном упоенье
Дерзнет помять вуаль иль подшутить над ней,
А ты простишь ему кощунство без смущенья, —
Что может быть больней! —
Тот голос, что звучал ласкающим напевом,
Вдруг грянет над тобой, как разъяренный гром:
«Страшись! Рожденное обидою и гневом,
Не кончится добром!»
О, если можешь ты предать любовь и ныне
Быть счастлива с другим и дерзко весела, —
Сбрось и сожги в огне погибшую святыню,
Как сердце мне сожгла![32]
Я резко задвинул ящик и схватил лежавшие на полочке с ним рядом свои пистолеты; то было прекрасное оружие, изготовленное Стелейном, закаленное в Фюрансе[33]. Забавы ради я принялся их разглядывать, вновь увидел гравированную на платине голову вепря, и непроизвольно кровь моя разгорячилась, пульс забился сильнее, меня охватило такое жестокое, но такое ощутимое блаженство! Но, слава Богу, послышался легкий стук в мою дверь.
— Входи, крошка! — крикнул я.
Дверь отворилась… Я был спасен!

ЖЕННИ

Пока милое дитя входило в мою комнату, пистолет, который я уже приложил к виску, начал потихоньку опускаться, и, с последним шагом девушки, роковое оружие упало на свое обычное место.
— Какую добрую весть принесла ты мне, крошка Женни? — спросил я спокойно. — Не потеряла ли ты опять какие-нибудь принадлежности моего гардероба или, может быть, сожгла мою лучшую сорочку?
— Добрая весть, сударь. Завтра я выхожу замуж.
Я был как громом поражен: целых шесть лет я обращался с нею как с ребенком, еще нынче утром припрятал для нее кое-какие лакомства, а она собралась замуж, эта малышка Женни, это дитя! Я разглядывал ее и нашел, что и впрямь тут нет ничего удивительного. Я глубоко вздохнул и поднялся, взбешенный.
— Будь проклят, — вскричал я, — тот, называющий себя поэтом, кто первым вознамерился превратить ужас в ремесло, в предмет торговли! Будь проклята новая поэтическая школа с ее палачами и призраками! Они все перевернули во мне вверх дном, из-за них я начал изучать духовный мир в его самых таинственных проявлениях, и это помешало мне заметить, что милая маленькая Женни уже не дитя! Прости меня, крошка Женни, — сказал я, приблизившись к ней. — Твои восемнадцать лет явились, не крикнув мне «Берегись!». Я, видишь ли, стал таким философом!
И Женни, готовая вот-вот расплакаться, засмеялась, а потом подставила мне пухлую щечку.
— Разве сегодня вы не поцелуете свою маленькую Женни?
— Я почтительно поцелую достойную невесту, — отвечал я, наклоняясь к ней.
— Нет, вашу маленькую Женни.
— Пусть так: мою маленькую Женни, — согласился я, не в силах удержать глубокого вздоха.
— Ведь вы придете на свадьбу, правда? — спросила Женни, играя полою моего сюртука. — Мы вас ждем завтра.
— С удовольствием, сударыня!
И на этом она покинула меня, со всех ног бросилась вон из комнаты. Я выглянул в окошко и спустя минуту увидел, как она взбирается на большую повозку, в каких прачки развозят белье, влекомую крупной нормандской лошадью. Девушка правила этою тяжелою махиной с такой же легкостью, как кучер из Сен-Жерменского предместья, везущий свою высокородную хозяйку в церковь Св. Сульпиция.
На другой день я отправился в сторону Батиньоля. Свадьба была многолюдная, процессия уже прошла мимо, я увидел ее перед входом в церковь. Женни шла впереди, вся ее фигурка дышала совершенным спокойствием; она была одета в белое, головка украшена лентами; в правой руке она несла огромный букет флердоранжа[34], при виде которого я почти покраснел. Муж шагал за нею — веселый малый, на вид совершенно заурядный; а дальше — все, что полагается: растроганная мать, отец, гордый своим новым сюртуком, местные кумушки, пьянящий аромат кухни и визгливые звуки скрипок. Я проводил Женни до самого алтаря, и можно было подумать, будто она всю жизнь только и знала, что венчаться. Она твердо и решительно произнесла «да», быстро пробормотала короткую молитву и поднялась с колен. Я побежал, обогнал ее и торжественно подал ей освященную воду. Странное дело! Я был счастлив, почувствовав, как ее пальчик коснулся моего, я, шесть лет дважды в неделю целовавший ее, как мне было угодно; то было мое домашнее дитя, которое у меня отнял и похитил другой человек. Этот другой был тупица, но славный малый, муж. Однако, все еще подталкиваемый своею печальною страстью к анализу, я в свое удовольствие, как мог, мысленно портил счастье Женни, сравнивая ее рабочие дни с днями отдыха, и уже находил, что лучший миг ее жизни, прекрасный день ее свадьбы выглядит скучным и пошлым. Я мысленно уже представлял себе Женни через девять месяцев, на складной кровати, во власти всех мук роженицы. Я безжалостно рассекал эту расцветшую простодушную радость, я пропускал через перегонный куб все вино, выпитое с таким весельем. Я говорил себе, что в вине заключено много нездорового зелья. Моя глупая философия походила на ревность, а это было достойно жалости или пугало. Но Женни казалась счастливой, она наглядеться не могла на мужа, так что попрощалась со мною, даже не взглянув на меня, а я покинул ее, вопреки своему желанию находя ее хорошенькой, — хорошенькой, потому что счастливой! И я испустил вздох — вздох человека, покорившегося судьбе. «Возможно ли, — думал я, — чтобы любовь с первой же минуты не заметила себя, можно ли влюбиться в женщину, того не подозревая?» При такой мысли я невольно содрогнулся. Несчастный, тщетно я пытался спрятаться от самого себя: не Женни меня расстроила! Я не был игрушкою безымянной и бесцельной любви, я слишком хорошо знал, к какому низкому и недостойному предмету была привязана моя жизнь! Как! Любить женщину, следовать за нею по ужасной стезе порока и растления, видеть, как она губит себя, и не быть в состоянии крикнуть ей: «Остановись!» — ибо эта женщина не слышит меня, не понимает моего языка; не иметь возможности ничего не требовать от нее, ибо это «ничего» она дает всем! Не знать, что сказать ей, ибо эта женщина — женщина, лишенная разума, как и сердца! Присутствовать немым и бесстрастным свидетелем столь быстрой порчи столь прекрасного существа! И все же любить ее, любить ее одну на целом свете, все позабыть ради нее, отказаться ради нее даже от счастливой жизни, даже от удовольствий, даже от обыкновенных порывов юности! Злой рок! Но, как говорят еще и ныне на Востоке, Анриетта есть Анриетта, и я влюблен в Анриетту.

ЛИЦЕДЕЙ

В двух шагах от заставы я столкнулся нос к носу с человеком зрелого возраста, с очень красным лицом, окаймленным длинною черною бородою. Я пристально взглянул на него.
— Если хочешь смотреть на меня, заплати, — сказал он. — Я живой и совершеннейший образец природы, можешь сам рассудить. Приказывай, что желаешь ты увидеть?
Я прислонился к дереву.
— Если хочешь получить плату, изобрази Аполлона и стань прекрасным! — возразил я ему.
Тут он выпрямился во весь рост, засунул бороду под воротник, отставил назад одну ногу, поднял глаза к небу, раздул ноздри, свободным и сильным движением уронил левую руку. «Красавец!» — подумал я и сказал, на секунду почувствовав зависть:
— А теперь покажи мне римского раба, которого отстегали плетьми за кражу фиговых плодов.
Он сейчас же упал на колени, согнул спину, опустил голову, нервно оперся на обе ладони и пополз ко мне на животе, глядя на меня боязливо и заискивающе, как собака, потерявшая хозяина. Когда человек столь унижен, он хуже собаки. «Червь — Бог!» — сказал Боссюэ[35]. Мне захотелось, чтобы он отыгрался за унижение, и я приказал:
— Поднимись, восстань, ты зовешься Спартаком!
Он приподнялся, но не сразу, точно человек, постепенно охватываемый гневом и собирающийся с силами, оперся одним коленом о землю и сделал вид, будто душит кого-то, схватив его за горло обеими руками, — он широко разинул рот, полузакрыл глаза, насторожил уши, — казалось, он смакует всеми чувствами радость мести; мне стало страшно.
— А мог бы ты изобразить пьяного? — спросил я его.
— Я никогда не подделываюсь под пьяницу из почтения к вину, — возразил он, вставая. — Если ты хорошо мне заплатишь, сможешь увидеть меня нынче вечером в самом деле мертвецки пьяным, где-нибудь под забором, причем увидеть задаром.
Я бросил ему несколько монет. И сейчас же Аполлон, раб, Бог, червь снова стал существом заурядным, и, чтобы отблагодарить меня, у всех четверых не нашлось ничего, кроме глупой улыбки, лишенной всякой выразительности. И все это в одних и тех же глазах, в одной и той же душе, в одном и том же теле!
Мне представлялась тут, разумеется, прекрасная тема для философской тирады, но незначительное происшествие заставило меня рассмеяться, и я обрадовался, что еще сохранил способность радоваться.
Дело в том, что за мною пустился вдогонку маленький савойяр, праздный, беспечный, веселый цыган парижских улиц, вероятно, рассудив, что я добрый человек.
— Подайте мне что-нибудь, капитан! — Капитан молчал. — Генерал! — Генерал продолжал шагать. — Принц! — Никакого результата. — Король! Мой король! Мой король!
Я уже готов был дать мальчишке что-нибудь, но я вспомнил г-на Ройе-Коллара, господ Лафайета, Себастьяни, г-на Лаффита, газету «Конститюсьоннель» и всю оппозицию[36].
— Мой король! Фу! Не получишь ни сантима, попрошайка!
Бедняжка исчерпал все известные ему титулы, остановился и уныло глядел мне вслед; тогда, заметив, что он неподвижен, я вернулся к нему.
— Дурак! — сказал я гневно. — Раз уж ты столько наговорил, назови меня Боженькой!
— Подайте мне что-нибудь, добрый Боженька! — воскликнул он, молитвенно сложив руки.
Я дал ему монетку, которой как раз хватило бы, чтобы перейти через мост Искусств.

ОТЕЦ И МАТЬ

После столь весело проведенного дня я прекрасно спал всю ночь напролет и видел счастливые сны. Проснувшись поутру, я очень удивился, обнаружив, что голова у меня легкая и свободна от тягостных мыслей. Растянувшись на мягкой постели, я вволю наслаждался своим пробуждением, как любитель вина, смакующий последний стакан из старой бутылки. Хвала Богу! Прекрасная вещь печаль; но не хуже и веселье, и легкий сон, и радостные сновидения. Как покоен мой ум, как светлы мысли, как подвижно воображение, как ласкает мой взор окружающий мир! Словно добрая фея утешила своею дланью треволнения моего сердца. Я дышу, я живу, я мыслю; и весь покой пьянящего утра происходит оттого, что вчера я отдался сладостной лени, что не силился быть ни поэтом, ни философом. Ну что же, кто знает? — быть может, когда-нибудь я снова стану добропорядочным человеком. О, доктор Фауст! О, мой учитель! Сколько раз случалось тебе оставлять свои книги, свой горн, свой перегонный куб и бродить под окном Маргариты!
Продолжая думать о великом произведении искусства, я встал, принарядился, развеселился, принялся насвистывать новую песенку, в унисон той, что выводила под моим окном варварская шарманка. Я вышел на улицу, твердо решившись не уносить с собою мрачную философию, и по неодолимой привычке направил свои шаги в сторону Ванва. Дойдя до «Доброго Кролика», я внезапно остановился: вот где, сам того не ведая, загубил я свое счастье! В этом радостном уголке пришла мне безумная мысль проследить до конца, в качестве постоянного бесстрастного свидетеля, судьбу девушки — и какой девушки! — из парижского пригорода. Все же я вошел в сад. Стояла жара, но жара осенняя, тяжело и томительно палило солнце, от которого плохо защищала пожелтевшая и увядшая листва. Я уселся за обычный свой столик, на котором когда-то начертал свои инициалы, искусно вплетя их в готическую литеру «L»; буквы еще виднелись, но полустертые, их окружили другие инициалы, начертанные позднее и столь же недолговечные. Как много радостных минут провел я за этим столиком! Как безмятежно разглядывал все вокруг! Сколько раз на этом самом месте, под этими недвижными ветвями я наблюдал, как колышутся свежее платье и поля легкой шляпки! А ныне «Добрый Кролик» почти пуст, весна унесла с собою из маленького сада древесную сень и любовные парочки. В глубине, в полуобнажившейся древесной беседке я увидел лишь одну даму — даму богато одетую и спесивую; она сидела напротив красивого молодого человека, который что-то пылко ей говорил, а она слушала презрительно и вполуха. Небрежная поза этой дамы привлекла мое внимание, а изящная фигура вызвала желание увидеть ее лицо; какое-то смутное предчувствие говорило мне, что я его узна́ю; но, сколько я ни глядел, дама так и не обернулась. В это время в полуотворенную садовую калитку вошел убогий бедняк, которого поддерживала старуха, сама едва ковылявшая, опираясь на палку; бедняк попросил милостыню; лицо его было ясно, тон вполне пристоен, в голосе не слышалось ничего заискивающего, — я почувствовал к нему жалость. Спрятав мою монету в карман к жене, он протянул чистую дрожащую руку к даме, сидевшей в беседке, но та нетерпеливо отмахнулась от него грубым и повелительным жестом, и обескураженный старик уже хотел было покорно удалиться, но, вглядевшись в безжалостную особу, обратился к своей спутнице:
— Жена, не правда ли, можно подумать, будто это наше дитя?
Бедная женщина тяжко вздохнула, она с первого взгляда узнала свою дочь. Старик хотел обнять ее, готов был все ей простить, но она с отвращением отвернулась.
— Дитя, ради старого твоего отца, признай нас, ведь мы так тебя оплакивали!
Она отвела взгляд.
— Ради Господа Бога, признай нас, — молила мать, — мы все тебе прощаем!
То же молчание.
Я вскочил.
— Ради Шарло, — вскричал я, — взгляните на старого своего отца, он у ваших ног!

Оба старика протянули к ней руки; но, заслышав имя Шарло, она встала из-за стола и, не удостоив ни единым взглядом эти протянутые ей для объятий старческие руки, быстро вышла из сада в сопровождении влюбленного молодого человека, онемевшего от изумления.
Едва белое ее платье скрылось за калиткою, старик уселся со мною рядом и почти радостно спросил меня:
— Так вы знавали нашего Шарло?
— Знавал ли я его, добрый человек! Я даже сидел на нем верхом и, не говоря ни о ком дурного слова, клянусь, славная это была скотина.
— Ах да, славная скотина, — подхватил старик. — Этот серый делал по двадцать ходок в день с поклажей навоза! — добавил он, опорожняя оставленный дочерью стакан и доедая брошенный ею хлеб.
— Как же получилось, — спросил я, — что вы лишились такого достойного товарища?
— Увы! Жена часто давала его нашей Анриетте, — отвечал он. — Мы так любили эту девочку, что не раз я сам тащил поклажу вместо Шарло, чтобы дочка могла прокатиться верхом. В один злосчастный день — до самой смерти я его не забуду — Анриетта с Шарло уехали и больше не вернулись; жена оплакивала дочку, я оплакивал их обоих, Анриетту и Шарло: наше дитя придавало нам мужества, серый зарабатывал нам на хлеб; мы все потеряли в один день, и вот я перед вами с клюкою и сумой.
— Бедная, бедная Анриетта! — подхватила старуха.
— Да, бедная Анриетта и бедный Шарло! — добавил старик. — Потому как я думаю, он плохо кончил.
— Увы, плохо кончил! — отвечал я. — Я видел, как он умирал! Его сожрали собаки, сожрали, чтобы доставить мне минутное развлечение!
При этих словах старики попятились от меня, охваченные ужасом. Напрасно я пытался удержать их и успокоить, они не слушали меня и поспешно удалились, больше возмущенные моей жестокостью, нежели жестокостью своей дочери.
И верно, по какому праву доставил я им такое ужасное горе? Ведь эта женщина не вспоила меня своим молоком, а этот мужчина не вскормил меня своим хлебом!

ВОСПОМИНАНИЯ ВИСЕЛЬНИКА

Человек предполагает, а Бог располагает. Я невольно снова погрузился в свою философию, вид этих стариков свел на нет все прекрасные мои утренние планы. Я покинул «Доброго Кролика», чтобы более уже никогда не ступать на его порог, и возвращался домой, напрасно ища вожделенного удовольствия, как вдруг на полдороге встретил путника, который двигался на Париж, словно победоносная армия. То был славный малый, беспечный любитель доброго вина и добротной плоти; видно было, что он шагал бесцельно, не заботясь о сегодняшнем ночлеге и завтрашнем обеде; у него было честное открытое лицо, вся его особа дышала надеждою на счастливый случай. Я всегда замечал, что, если человек искренне отдается на волю случая, его наружность приобретает силу и свободу, на которую любо глядеть. Поскольку я во что бы то ни стало хотел рассеяться, а он вовсе не выглядел свирепым, я зашагал с ним рядом; то был славный малый, он первый со мною заговорил.

— Вы в Париж идете, сударь? — обратился он ко мне. — В таком случае вы покажете мне дорогу, потому как я уже дважды заблудился среди всех этих оврагов и колючек.
— Охотно, любезный, следуйте за мною, и мы вместе войдем в Париж, хотя, по чести, не похоже, что вы очень туда торопитесь.
— Я никогда никуда не тороплюсь. Где мне хорошо, там я и остаюсь, а где плохо, все равно остаюсь, потому что опасаюсь, что в другом месте может быть еще хуже. Хоть я и кажусь вам истинным героем больших дорог, я всегда вел скорее жизнь доброго буржуа, нежели странствующего рыцаря. Терпение — это такая добродетель, которая приходит вслед за мужеством. В Италии найдется не одна скала, где я по две недели просиживал в засаде, начеку, с карабином в руке, прислушивался и приглядывался, поджидая дичь, которая так и не появлялась.
— Вот как, любезный? Вы случайно не один ли из тех дерзких сицилийских разбойников, о чьих убийствах и грабежах я слышал столько приятных рассказов и чья жизнь, полная риска, вдохновила Сальватора Розу?[37]
— Верно, — подхватил разбойник, — в свое время я принадлежал к этим, как вы говорите, дерзким сицилийцам, был веселым и храбрым бандитом, похищал на проезжей дороге человека и его коня так же ловко, как французский мошенник крадет жалкий кошелек на сельской ярмарке.
При этих словах он поник головою и я услышал глубокий вздох.
— Сдается мне, вы весьма сожалеете об этой прекрасной жизни? — молвил я заинтересованно.
— Сожалею ли, сударь? Жить иначе — значит вовсе не жить. Никто на свете не сравнится с достойным обитателем гор. Представьте себе двадцатилетнего горца: зеленая куртка с золотыми пуговицами, красиво взнузданная и оседланная лошадь на тонком поводе, роскошный шелковый пояс, к которому подвешены пистолеты, широкая сабля, с грохотом волочащаяся за ним, сверкающий как золото карабин за плечами, на боку кинжал с изогнутою рукояткой, — представьте себе молодого бандита, стоящего на посту на вершине скалы и бросающего вызов пропасти под ногами, — он то поет, то сражается, нынче заключает союз с папой, завтра — с императором[38], требует выкуп за чужестранца, как за раба, вливает себе в глотку длинными струями доброе вино; он — отрада таверн и юных девушек и всегда уверен, что умрет либо на виселице, либо в постели вельможи, — вот какого прекрасного ремесла я лишился.
— Лишились? Однако, сдается мне, вас нелегко было бы схватить, и если вы удалились от дел, то по своей доброй воле.
— Хорошо вам говорить, а если бы вас, как меня, повесили?
— Вас повесили?
— Вот именно, повесили, да еще из-за моей набожности. Я скрывался в одном из непроходимых ущелий в окрестностях Террачино, как вдруг, в один прекрасный вечер (луна уже взошла, такая чистая и светлая), я вспомнил, что давно уже не подносил десятую часть моей добычи святой Мадонне. Был как раз праздник Богоматери, в этот день вся Италия звучит хвалами ей, и только у меня не было для нее молитвы; я решил не медлить, быстро спустился в долину, любуясь сверкающим отражением звезд в широком озере, и явился в Террачино как раз в тот момент, когда луна светила особенно ярко. Я всей душою предался Мадонне, прошел через толпу итальянских поселян, дышавших вечерней свежестью на пороге своих домов, — и прошел, не заметив, что все взоры обращены на меня. Я приблизился к вратам часовни: лишь одна створка была отворена, а на другой был вывешен большой плакат — объявление о том, что за мою голову назначена награда! Я вошел в храм нашей католической и христианской страны, в церковь с резными арками, пестрой мозаикой, воздушным куполом, с алтарем белого мрамора и сладостным ароматом, в церковь, где последние звуки органа отдавались эхом во всех углах. Образ святой Мадонны был украшен цветами; я простерся ниц перед нею и предложил ей свою добычу: бриллиантовый крестик, который прежде носила молодая англичанка, еретичка, — бриллианты чистой воды; затем испанский ларчик драгоценной работы, прекрасное жемчужное ожерелье, отнятое у галантной дамы из Франции, которая заливалась в это время смехом и напоследок послала мне воздушный поцелуй. Пречистая Дева была, по-видимому, довольна моими подношениями, мне почудилось, что она снисходительно улыбнулась и проговорила: «Счастливого пути, Педро! Я пришлю тебе в горы подходящих путешественников». Я поднялся, полный надежды и ощущения безопасности, и уже направился было к своему дому, как вдруг меня грубо схватили за шиворот; сбиры[39] притащили меня в тюрьму, откуда я не мог сбежать, потому как там не было ни женщины, ни девушки, а у меня оставался лишь один паоло, чтобы заплатить тюремщику.
— И вас повесили, дружище?
— Повесили на другой же день, во внимание к моему мужеству и широкой известности. Нескольких часов достало, чтобы соорудить виселицу и вызвать палача. Утром за мною пришли, вывели из темницы, и у последней решетки я увидел черных кающихся, белых кающихся, серых кающихся, обутых кающихся, босых кающихся; в руках у них были зажженные факелы, горевшие зловещим огнем, головы покрыты сан-бенито[40], они были похожи на призраков; передо мною шли четыре священника, несли гроб и бормотали заупокойные молитвы; я храбро шагал к виселице. То была почетная виселица, она состояла из большого дуба, разбитого молнией, который высился над пропастью. У подножия дерева расстилался ковер из белых маргариток, за моею спиной вздымались любезные моему сердцу горы, хранившие память о моих подвигах, — не без душевной боли послал я привет прекрасным своим владениям! Перед виселицей тянулся глубокий овраг, куда с глухим ревом низвергался быстрый поток, и до меня доходили его влажные испарения; солнечный свет и ароматы царили вокруг рокового дерева. Я без содрогания приблизился к подножию лестницы и уже готов был полностью отдаться злой судьбе, но последний взгляд, брошенный на гроб, заставил меня на два шага отступить.
— Этот гроб мал для меня, — воскликнул я. — Меня не повесят, пока я не увижу другого гроба, подходящего мне по росту!
Вид у меня был столь уверенный и решительный, что подошел начальник сбиров и сказал:
— Любезный сын мой, вы безусловно имели бы право жаловаться, если бы вас должны были положить в этот ящик целиком; но поскольку вы слишком хорошо известны в округе, мы решили, после того как вы умрете, отрубить вам голову и выставить ее на видном месте на городских укреплениях.
На это мне нечего было возразить. Я поднялся по лестнице и в мгновение ока очутился на верхнем помосте; оттуда открывался восхитительный вид. Палач был новичок, так что у меня достало времени вдоволь налюбоваться оплакивающей меня толпой. Некоторые молодые люди дрожали от ярости, девушки заливались слезами, поселяне жалели меня — отважного человека, который так хорошо умел взимать дань с путешественников, желавших бесплатно обозревать церкви, увидеть солнце, женщин, папу и князей Италии. Только сбиры не скрывали своей радости. Среди толпы держался, скрестив руки на груди, Франческо, наш достойный капитан, он взглядом говорил мне: «Держись! Сегодня — мужество, завтра — месть!» Тем временем, в ожидании палача, я ходил взад и вперед по помосту виселицы, над пропастью; легкий ветерок тихо шевелил роковую веревку.
— Ты разобьешься насмерть! — крикнул палач. — Подожди меня!
Он наконец взобрался по лестнице до верхней ступеньки, но тут у него закружилась голова, ноги подкосились; рев водопада под ним, ослепительное солнце, все эти взгляды сочувствия ко мне и ненависти к нему — все это вместе взволновало несчастного до глубины души. Дрогнувшей рукою он накинул мне на шею веревку и столкнул меня в пропасть; он попытался своею гнусною ногой упереться в мои плечи, но плечи эти крепки и тверды, человеческая стопа не может в них вдавиться; стопа моего палача соскользнула, он больно ударился, на секунду застыл, держась обеими руками за верхушку виселицы, потом одна его рука ослабела, и мгновение спустя он тяжело рухнул на дно оврага, и поток унес его тело.

Таков был рассказ висельника.
Эта веселая виселица, эта сцена, так забавно описанная, в высшей степени заинтересовали меня; до сих пор я и вообразить не мог, что виселица может послужить приятной темой для воспоминаний, никогда я не видел, чтобы смерть раскрашивали в подобные цвета; среди тех, кто разрабатывал эту жилу, столь волнующую, большинство сгущали мрачные краски, рисовали кровавые сцены, будто смертная казнь у нас не самое банальное в своем роде явление, некая подать, которую постоянно приходится платить, не более того. Но наш бандит был честный малый, он знал, что виселица — это оборотная сторона его ремесла, понимал, что итальянское общество тактично предупреждало его: «Я позволяю тебе грабить, воровать, даже убивать англичан и австрийцев при условии, что, если ты вынудишь нас повесить тебя, ты будешь повешен».
Он принял это условие и был слишком справедлив душою, чтобы жаловаться. Я пожелал узнать, что сталось с ним после повешения, и по моей просьбе он продолжил свой рассказ.
— Я прекрасно помню малейшие свои ощущения, и, если бы через час мне пришлось пережить все заново, я не стал бы ни о чем тужить. Когда петля захлестнула мою шею и я упал в пустоту, я сперва почувствовал довольно сильную боль в горле, а потом уже ничего не чувствовал; воздух с трудом проникал в мои легкие, но малейшая частица этого воздуха, душистого и целительного, поддерживала во мне жизнь; к тому же, легко качаясь в воздухе, я ощущал, что какая-то невидимая рука убаюкивает меня. Шум в ушах был дивною небесной музыкой, теплое и чистое дуновение на пересохших губах моих было поцелуем моей возлюбленной, все предметы я видел словно сквозь прозрачную дымку, передо мною открывалась сияющая даль, будто мой взор достигал пределов рая. Вне всякого сомнения, на помощь мне пришла Святая Дева, ибо я был ее мучеником. И разве не носил я на сердце медальон с прядкою волос Марии? Вдруг мне стало не хватать воздуха, я уже ничего не видел, не чувствовал больше покачивания; я был мертв.
— И, однако, — возразил я, — в данную минуту вы больше чем когда-либо пребываете на этом свете и вовсе не намереваетесь его покинуть.

— Это великое чудо, — серьезно отвечал мне бандит. — Я был мертв уже целый час, но тут мой достойный капитан перерезал веревку виселицы. Когда я пришел в себя, глаза мои встретились с ласковым взглядом женщины, которая, склонившись надо мною, возвращала мне душу… душу более чистую и более крепкую. У этой женщины был итальянский голос, итальянская грация, мягкий говор, живой взгляд — все совершенства итальянки. На миг я подумал, что восстаю из могилы и меня принимает в объятия мадонна Рафаэля. Вот, синьор, моя история; пока я был бандитом, я обещал своей кроткой Марии сделаться, если смогу, порядочным человеком — теперь надеюсь достигнуть этого из любви к ней: чтобы быть порядочным человеком среди вас, порядочных людей, я даже раздобыл себе приличную одежду и новую шляпу, что особенно важно.
— Вам понадобится еще и честное ремесло, а я очень опасаюсь, что у вас его нет.
— Именно это мне везде и говорят, синьор, и все-таки, сколько я ни искал, я никогда не видел, чтобы честное ремесло в вашей стране привело к чему-нибудь хорошему.
— И вы думали, что вам больше бы повезло в Италии?
— Неаполитанская округа, добрая матерь, каждое утро порождает столько грибов, что можно прокормить целый город. А у вас за все нужно платить, даже за ваши грибы, хотя они сущая отрава.
— Значит, вы полагаете, что ремесло бродяги-ладзарони — это ремесло порядочного человека?
— Лучше ничего нет на свете; ты не хозяин и не слуга, ни от кого, кроме как от себя, не зависишь, работаешь, если уж крайность пришла, а крайности никогда не бывает, пока солнце светит на небе; да, в конце концов, можно отправиться в Рим, проползти на коленях вокруг собора Святого Петра, а это все равно, что двести раз получить отпущение грехов, — вот что значит быть ладзарони.
— В таком случае, почему же вы не сделались ладзарони?
— Я подумывал об этом, ваша честь, — сказал он, — Мария сама просила меня об этом, но я слишком боюсь извержения Везувия.
В этот момент мы вступили в Париж.
Вход в город через заставу «Доброго Кролика», быть может, самый приятный, хотя и самый скромный из всех возможных. Идешь через поля, пересекаешь широкую дорогу, где каждое утро производит учения кавалерия, входишь в узкую аллею, слева оставляешь «Большую Хижину» и все соседствующие с нею кабачки — и вдруг оказываешься возле прекрасного Люксембургского сада, излюбленного места прогулок жителей этих отдаленных кварталов. Мой итальянец сыпал вопросами на каждом шагу, всему удивлялся — то старым дамам, заполнявшим сад, то юным пэрам Франции, которые явились сюда зубрить законы с хлыстом в руке и шпорами на сапогах; удивлялся этой громадной театральной зале и этой столь ничтожной Сорбонне, этим внушительным особнякам из простого камня — а вокруг ни одной мраморной статуи, ни единого человека, греющегося на солнышке; а вот эти ладзарони работают как каторжники, а иные ладзарони поют на улице фальшивыми голосами в сопровождении еще более фальшивых музыкальных инструментов; отвратительные цветные гравюры на дверях стекольщиков, глиняные горшки, лишенные всякого изящества, никаких древностей; улицы узкие, воздух зловонный, молоденькие девушки без улыбки, придавленные нищетой, на всех улицах — продавцы ядов и ни одной Мадонны! Бандит был ошеломлен.
— Каким же ремеслом занимаетесь вы здесь, чтоб прожить? — проговорил он с видимым беспокойством.
— Прежде всего, что вы умеете делать? — возразил я, сам немного затрудняясь, что́ бы можно было посоветовать такому человеку.
— Ничего, — отвечал он. — Только я пел бы куда лучше, рисовал бы лучше и ваял бы лучшие мраморные статуи; я лучше охранял бы дворец, чем те, кого я здесь до сих пор видел; что же касается ваших торговцев ядами, то вот кинжал, который больше стоит, чем все их зелья, — добавил он с энергической улыбкою.
— Если у вас нет никаких иных средств к существованию, от души жалею вас, любезный: у нас висят на шее пятнадцать тысяч живописцев, тридцать тысяч музыкантов, а поэтов — не счесть, и у всех у них дела идут весьма неважно; что же касается вашего кинжала, то советую оставить его в покое, потому как на сей раз вы будете повешены на такой виселице, у которой веревка никогда не обрывается.
— И все же не хвалясь скажу, я недурно пою любовные песни. Когда я был в Венеции, самые галантные синьоры доверяли мне возглавлять серенаду, и я так успешно с этим справлялся, что не раз мне доводилось завершать для себя самого дело, начатое для другого.
— У нас серенада была бы самым глупым занятием. Во Франции существует лишь один надежный способ заполучить женщину: что-нибудь ей подарить. Никакие на свете песни тут не помогут. Будь ты самим Метастазио[41], бедняга, она только посмеется над жалобными звуками твоей гитары и над твоими мелодическими любовными песнями среди летней ночи.
— В таком случае, — сказал молодой итальянец, поднимая голову, — я попрошусь на службу к королю Франции, покажу ему, как я умею обращаться с карабином, командовать батальоном; если он согласится взять меня на службу, я берусь стоять на посту в самое жаркое лето без зонта, как самый отважный бандит.
— Узнайте же, мой храбрец, что с королем Франции не разговаривают запросто. А что касается вашего таланта владеть карабином, то вы найдете у нас сто тысяч человек, которым платят по пять су в день и которые владеют карабином не хуже вас; наконец, вам нужно знать, что есть только одна чужеземная нация, имеющая право охранять короля, и что со времен Лиги нам никогда не приходило в голову обращаться за этим к итальянцам[42].
— Ах, что за несчастная нация! — нахмурился бандит. — Несчастная нация, недостаточно богатая для того, чтобы содержать добрую шайку разбойников и их вожака! Если бы вы, к вашей чести, обладали хотя бы одной такой шайкой, нынче же вечером — тем хуже для Марии! — я сделался бы поваром у ваших бандитов, и они приняли бы меня с распростертыми объятиями.
— Что вы говорите! Вы умеете стряпать? А по каким же рецептам?
— Клянусь Богом, я приготовил бы им ужин по рецептам большой дороги, и вряд ли среди вас, французов, найдется человек со столь извращенным вкусом, что он откажется отведать моего жаркого с перечной приправой. В бытность мою в Террачино я слыл самой большой знаменитостью благодаря моему заячьему рагу и соусу из угря и раков. Так считал сам его святейшество кардинал Флеш, храни его Господь! Он посылал за мною вечерами в лес, чтобы я приготовил ему ужин, а после окончания трапезы клялся своею душой, что не едал ничего более изысканного даже в своем собственном дворце.
Я приблизился к бандиту и торжественно произнес:
— Поздравляю вас, вы спасены! Ваш поварской талант лучше послужит вам, чем если бы вы были великим музыкантом, живописцем, скульптором или полководцем. Только от вас зависит добиться высокого положения, ибо мы живем в эпоху злата и равенства. Более того, в данный момент, когда я с вами разговариваю, Франция занята дебатами вокруг сметы на продовольственное содержание некоего министра[43]. Поэтому прогуляйтесь-ка по Парижу, смело заходите в первый же дом, какой вам приглянется, скажите хозяину: «Я — великий кулинар», докажите это на деле, и вот вы уже устроены как нельзя лучше.
Висельник поблагодарил меня дружеским жестом, и я расстался с ним, отныне спокойный за его судьбу.

ПОСАЖЕННЫЙ НА КОЛ

История висельника нередко приходила мне на память. Как раз в это время во Франции, Англии, в Германии — везде набирала силу новая школа публицистов, которая первым же параграфом своего кодекса отвергала смертную казнь. Вопрос этот долго обсуждался, как бывает со всеми теориями у народов, довольно ученых и понаторевших в спорах, чтобы играть парадоксами. И вышло так, что, поневоле затянутый в эту мешанину противоречивых аргументов за и против смертной казни, я счел весьма удачным, что мне довелось поговорить с висельником; я был горд тем, что могу поведать историю человека, вернувшегося с того света, вместо того чтобы довольствоваться неполным, да и неправдоподобным рассказом приговоренного, идущего на казнь[44]. Мне казалось, что в руках у меня бесспорный аргумент в защиту карательного закона, столь рьяно оспаривавшегося нашими мудрецами, и я лишь ожидал удобного случая использовать этот аргумент.
Случай вскоре представился. Однажды осенью, когда листва уже опала и чувствовалось зябкое дыхание надвигающейся зимы, мы собрались в обширной гостиной холодного, поливаемого дождем загородного дома. Общество было многочисленное, но присутствующие не питали друг к другу той живой симпатии, что сближает людей и не дает им заметить, как бежит время. Посреди комнаты, отдельно от прочих, уселись дамы и молча занимались рукоделием. Мужчины переговаривались вяло, с долгими паузами, потому что им нечего было сказать; короче, вечер был бы загублен, если бы весьма кстати не подвернулся великий вопрос о смертной казни, который возбудил страстный интерес праздной компании. Это было подобно электрической искре — у каждого оказался наготове аргумент за или против, каждый перебивал и перекрикивал других. Я же, как умелый рассказчик, выждал, пока уляжется первое возбуждение, и, когда счел момент благоприятным, поведал историю моего висельника.
История не произвела большого впечатления: правдоподобной и достойной доверия она казалась только в устах итальянского бандита, в моем же изложении выглядела вздорной басней. Загорелся жаркий спор; мои противники, то есть противники смертной казни, уже загородились великим словом Человечность! Так что никто не отваживался стать на мою сторону; но тут, среди громких воплей, что рассказ мой фальшив, я неожиданно получил могучую поддержку.
То был почтенный мусульманин, утопавший в подушках буржуазной софы, предусмотрительно покрытой потертой индийской шалью: он поднял голову, украшенную длинной седою бородой, и с достоинством подхватил разговор с того места, где я остановился.
— Охотно верю, что этот итальянец был повешен, — произнес он, — потому что сам я был посажен на кол!
При этих словах внезапно воцарилась полная тишина; мужчины сгрудились вокруг говорившего, дамы позабыли про свои иголки и навострили уши. Вам, наверное, приходилось видеть, как дамы слушают интересующий их рассказ? Тогда вы нередко восхищались этими оживленными лицами, широко раскрытыми глазами, затаившей дыхание грудью, красивой шейкой, изогнутой, словно лебединая шея, небрежно опущенными праздными руками — всем этим любовался лишь я один, в ожидании, когда турок соблаговолит начать свой рассказ.
— Хвала Магомету! — заговорил он. — Все-таки раз в жизни я проник к священным супругам его султанского величества!
Тут общее внимание усилилось; я заметил пятнадцатилетнюю девочку, сидевшую возле матери: она делала вид, будто намеревается возобновить вышивание, — когда работаешь, не слушаешь.
— Меня зовут Хасан, — продолжал турок. — Мой отец был богат, и я богат тоже. Как истинный мусульманин я знал в своей жизни лишь одну страсть — страсть к женщинам. Но чем более страстным я был, тем более затруднялся в выборе. Тщетно обошел я самые знаменитые торжища, мне не удавалось найти ни одной женщины достаточно прекрасной для меня. Всякий день показывали мне новых рабынь, черных, как черное дерево, белых, как слоновая кость; та прибыла из Греции — родины красоты, но была вся в слезах, эта — из Франции, но она смеялась мне в лицо и дергала меня за бороду.

— Значит, у тебя нет ничего лучшего? — спросил я работорговца.
— Но вспомни, Хасан, что не должно искушать Бога. Конечно, женщина — прекрасное творение, но не следует желать, чтобы она была прекраснее, чем создал ее Бог.
Так говорил работорговец; этот достойный человек был прав, он не набивал цену своему товару, он продавал такой, какой у него был. А я желал попросту невозможного, так что однажды вечером, гонимый этим желанием, я перебрался через укрепления султанского дворца.

Я и не думал таиться, вскарабкался на дворцовые стены, будто их не охраняли янычары и немые, вследствие чего и остался незамеченным. Я счастливо преодолел три непроходимые ограды вокруг священного сераля и наконец, когда рассвело, проник дерзким взглядом в это неприступное святилище. Велико же было мое изумление, когда при первом бледном луче солнца я убедился, что жены преемника Магомета походят на всех женщин, виденных мною прежде. Мое разочарованное воображение не могло поверить в столь грустную реальность, и я уже начал раскаиваться в своем предприятии, но тут меня схватила дворцовая стража.
Вопрос стоял не только о моей голове, но и о жизни несчастных женщин, которых я застал спящими, так что было решено не докладывать его величеству об этом оскорблении; и все же меня протащили через грозные укрепления вон из дворца и отправили на заслуженную казнь.
Вы, может быть, не знаете, господа, что такое пик? Это заостренное орудие на верхушке наших минаретов, весьма похожее на стрелу громоотвода, который вы, европейцы, придумали, чтобы бросать вызов року, даже принявшему облик небесных туч. Меня посадили верхом на такой острый пик и, чтобы я лучше сохранял равновесие, к каждой ноге мне привязали по два пушечных ядра. Сначала я почувствовал ужасную боль, железо медленно впивалось в мое тело; и второй восход солнца, чьи жгучие лучи ударили в сверкавшие купола Стамбула, быть может, уже не застал бы меня в живых, если бы ядра не отвязались и с грохотом не упали с моих ног; пытка моя стала более терпимою, и я начал надеяться, что не умру. Невозможно и представить себе зрелище, прекраснее того, что было у меня перед глазами: бескрайнее море, усеянное островами, одетыми зеленью, испещренное кораблями со всей Европы. Глядя с высоты, я убедился, что Константинополь — истинный царь всех городов. Я парил над святым градом, у ног своих видел блестящие мечети, римские дворцы, висячие сады, обширные кладбища, укромные убежища любителей хмельного меда. С признательностью взывал я к Богу правоверных. Моя молитва, вероятно, была услышана, ибо христианский священник с опасностью для своей жизни вызволил меня и унес в свою хижину. С трудом вылечившись, я возвратился в свой дворец; мои рабы пали ниц передо мною. Назавтра я купил первых попавшихся женщин, вновь наполнил длинную трубку своего кальяна, окунул его в розовую воду и если порою и вспоминал о немых стражах его величества и о свершенной ими казни, то лишь для того, чтобы громко твердить себе, что следует покупать таких женщин, какие есть, и что если Пророк не создал их более прекрасными, значит, Пророк этого не хотел. Слава Аллаху!

Так закончил турок; долгий рассказ утомил его, он снова откинулся на подушки, снова принял сладострастную позу правоверного, который курит свою трубку в полуденный час. Если бы я был художником, я изобразил бы в этой позе Покой и Счастье. По-моему, ничто не может лучше выразить покой, нежели счастливый сын Магомета, возлежащий на персидском ковре, без горестей, без желаний, без грез, погруженный в ту блаженную дрему Востока, для которой не требуется смыкать веки, словно и это слишком большое усилие для смертного.
Так закончил турок. Я нередко замечал, что интересная, хорошо рассказанная история приводит слушателей в доброе расположение духа и часто меняет характер беседы, повернув ее от скуки к приятности. Что делать человеку, вошедшему в гостиную, как не хвалить себя и хулить отсутствующих? А вот после этого рассказа вечер приобрел иную окраску — каждый приблизился к соседу, более того, хозяйка дома, заглушив голос мелочной экономии, запрещавший ей возжигать свой очаг прежде, чем календарь решительно возвестит о наступлении зимы, обмолвилась, что неплохо бы протопить комнату. Это предложение было встречено дружным «браво!», — в мгновение ока камин был освобожден от груды серой бумаги, подставка для дров засверкала золотом под горящей лозой, по комнате разлилось приятное тепло, и все лица оживились, повеселели, нежданное удовольствие отразилось на них. Целая описательная поэма заключена в первом печном огне последнего осеннего дня, дающем внезапное предвкушение озаренных веселым пламенем дней зимы.
Итак, огонь пылал в своем ожившем логове; когда белые и голубые его язычки, распространяя добрый запах сосны, вспыхнули особенно ярко, они вдруг осветили фигуру молодого человека, до сих пор еще не проронившего ни слова. Он сидел в углу, и все его участие в беседе состояло в том, что время от времени он отмечал ее особо значительные моменты полуприветливой-полунасмешливой улыбкою. Так что теперь к этому человеку обратилось всеобщее внимание. К тому же он был хорош собою, его черные глаза и вся внешность выдавали ум и тонкий вкус, не позволявший его обладателю мнить себя в обществе выше или ниже прочих. По любопытным взглядам молодой человек сразу понял, что от него ждут очередной истории. Не заставляя долго себя просить, он оперся рукою на спинку кресла сидевшей впереди него молодой женщины, подался вперед, приблизив голову к ее хорошенькой головке, и начал свой рассказ таким нежным и чистым голосом, что мы могли бы подумать, будто говорит не он, а эта его юная соседка, если бы ее полуоткрытые уста не оставались совершенно неподвижными, а вся ее поза — крайне сдержанной.
— Боюсь, сударыни… — начал молодой человек.
Это неожиданное нарушение неписаного правила обращаться к слушателям «господа» показалось пикантным нововведением и было по достоинству оценено нашими дамами: ловкий рассказчик как бы отделил себя от остальных мужчин, присвоив себе честь интимного общения с женской частью общества. Послышался одобрительный шепот, словно побуждающий его повторить свою фразу, но, как человек умный, он этого не сделал.

— Что касается меня, — заговорил он, — то мне довелось только утонуть; однако обстоятельства моей смерти довольно любопытны. Некоторые из вас, вероятно, знают ландшафт, раскинувшийся вокруг стен города Лиона, — один из прекраснейших ландшафтов под солнцем.
Был летний день, один из тех теплых летних дней, когда небо сияет, а воздух так чист. Я разлегся на мягкой траве, на берегу реки, вернее рек, ибо с этого места видишь, как воды Соны смешиваются с водами Роны, как ее прозрачная струя сперва сопротивляется желтоватым струям этого потока, словно любовнику, потом сопротивляется уже слабее и, наконец, признает себя побежденной, сливается с Роной и дальше течет в общем с нею русле. В тот полуденный час стояла жара, вода казалась совсем прозрачной; я лежал на прибрежном лугу в блаженной полудреме, будто одурманенный опиумом. Что вам сказать? Я созерцал широкую водную гладь, которая издали выглядела такою мирной, такою спокойной, и вот мне почудилось, что в глубине реки я вижу идеальную юную красавицу; она сидела на обломке утеса, простирала ко мне руки и дарила меня ласковым взглядом. Очарование было невыразимо. Видение тихо колыхалось в зеркале вод, старая прибрежная липа осеняла эту юную головку своими белыми цветами, зеленая листва служила ей прозрачным одеянием. Я лежал на краю потока, недвижимый, зачарованный, охваченный несказанной любовью, — казалось, сбываются все сны моей молодости. Мне чудилось, что я герой Тассо, прекрасный Ринальдо, влачащий дни своего плена в садах Армиды[45], у края мраморных водоемов, где опьяненные страстью нимфы поют о любви, качаясь на серебристых волнах; прекрасные женщины в хрустальной глубине тянули ко мне руки, манили меня улыбками. Я не выдержал!
Я ринулся вниз, и вот я уже в потоке, и ни прохлада воды, ни увлекшая меня неодолимая сила, ни исчезновение призрачной моей богини не могли пробудить меня от этой поэтической грезы; я плыл в водах сразу двух больших рек, Роны и Соны, и они рвали друг у друга мое тело как свою добычу. Не думая о подстерегавших меня опасностях, я томно отдался их усилиям: то меня нежно баюкала Сона, то Рона вырывала меня из ее любовных объятий и с яростью увлекала за собой. Порою, оказавшись во власти двух могучих соперниц, я застывал на одном месте, и тогда возвращалось мое видение, такое же прекрасное, такое же светлое и юное; в какой-то миг красавица оказалась так близко, что я кинулся к ней, пытаясь ее поймать.

Не знаю, что случилось со мною потом, какое мне досталось счастье, какой я удостоился несказанной награды, но только после целого дня экстаза я очнулся в деревенском амбаре. С гор уже спустилась ночь, быки возвращались в свое стойло с меланхолическим мычанием; мою голову поддерживал один из тех красивых и сильных ронских лодочников, каких немало еще можно увидеть в моей деревне, в Кондрис, — впрочем, эти смелые гребцы почти повсеместно выродились в лукавых и робких торгашей, в их жилах не осталось ни капли отцовской крови.
Вот какова была моя смерть; как видите, то был прекрасный сон. Я полностью согласен с итальянцем и турком. Вы могли убедиться, что не следует бояться ни смертной казни в Италии, ни смерти от руки восточных деспотов, ни добровольной смерти на Западе. С того дня я разделяю мнение некоего философа, который полагал, что жизнь и смерть — это одно и то же; но, поскольку я уже один раз уснул, меня огорчает, что я проснулся.
Когда общество немного опомнилось от таких удивительных рассказов, спор загорелся с новою силой; противникам смертной казни нечего было возразить на столь сильные аргументы, и, пока они ломали себе головы в поисках какого-нибудь убедительного ответа, оробевшие было приверженцы этой узаконенной кары, потерпевшие временное поражение и до сих пор опасавшиеся, что их обвинят в жестокости, ринулись в бой и начали сыпать бесчисленными примерами. Каждый вспомнил, что, по крайней мере, один раз в жизни уже умирал. Тот однажды упал пронзенный шпагою в Булонском лесу и до сих пор хранил в памяти приятное ощущение холодка от стального лезвия; другой получил прямо в грудь пулю, не причинившую ему ни малейшего вреда; а тот проломил себе при падении череп, от чего осталось лишь забавное воспоминание; не говорю уж о злокачественной лихорадке, гнойных воспалениях, воспалении мозга — всех мыслимых воспалениях; словом, доводы были столь убедительны, что компания пришла к единодушному заключению: смерть — не страдание, казнь за преступление есть не столько сатисфакция со стороны общества, сколько предосторожность ради общего спокойствия, и общество слишком дорого платит за смерть на поле брани, оплачивая ее славою, этим бессмертным вознаграждением; наконец, боязнь умереть в своей постели — занятие для дураков еще более, нежели для трусов.
Мы были в самом разгаре рассуждений о смертной казни, перед какими спасовал бы и сам Беккария[46], когда старый аббат, который до сих пор молчал, развалившись в длинном кресле с подставкой для ног, и блаженно переваривал вкусный обед, с трудом поднялся со своего сиденья, прошел в середину кружка собеседников, почти к самому пылающему камину, и, встав здесь, заговорил с важностью. Поскольку его знали за человека здравомыслящего, доброго советчика, поскольку он был один из тех снисходительных старых священников, изгнанных Революцией, которые после возвращения на родину принялись заново строить для себя жизнь, исполненную довольства и покоя, и проявлять деятельное милосердие к ближним, его выслушали со вниманием.
— Клянусь святым Антонием, — воскликнул он, — вот славный спор о смертной казни! По-моему, господа, вы беседуете в добром здравии, а если бы вы, как я, чуть не умерли от несварения желудка, вы рассуждали бы о смертной казни с бо́льшим почтением.

«КАПУЦИНЫ»

Напрасно пытался я забыть двойную страсть, двойной опыт моей жизни — Анриетту и нравственное уродство, ничто не могло развеять эту пагубную страсть, этот роковой опыт. С каждым днем одержимость моя усиливалась, усиливалось и какое-то пугающее желание довести ужас до предела, узнать наконец, могу ли я преодолеть его или буду им побежден. Ужас существовал для меня прежде всего там, где была Анриетта, столь пустая и лживая натура, бездна эгоизма и слабости, человеческое существо, лишенное духовности, чудесная оболочка, обладавшая всеми совершенствами, кроме души. Эту тварь, живую и бессердечную, к которой я привязался и которую сопровождал на стезе порока, я снова встретил однажды утром. Сказать вам, в каком месте? Осмелюсь ли, да и как это расскажешь! Однако сделать это надо. История моя была бы неполною, если бы мы не прошли через эту мертвящую грязь. Ужасное место, куда порок завел эту женщину, — место в нашем обществе столь же роковое, столь же необходимое, чуть не сказал — столь же неизбежное, как родильный приют и морг. Столь же заразное, отвратительное, полное несчастий, жалоб, рыка и скрежета зубовного. Это больница, но больница позорная. Врач презирает там больных, питает к ним больше омерзения, чем жалости. На сей раз больница делается тюрьмою, больной — язвой общества! Болезнь принимает здесь страшные названия, произносимые вполголоса. Прохожий с ухмылкою указывает пальцем на жертву, которую туда влачат. Не сестры милосердия, а полицейский префект отворяет двери этих мрачных убежищ. Полиция здесь — королева и верховная владычица, монахиня-странноприимница бежит прочь от этого злосчастного места, опустив на лицо покров. Стало быть, здесь пристало находиться лишь самым отталкиваемым существам, раз вы отводите свой чистый взгляд, нежные и святые девы, целомудренные царицы приюта «Милосердие» и больницы «Божий дом»! Несчастная, которую порок бросает в это мрачное жилище, обычно вступает сюда после оргии: с еще плохо вытертыми губами, с обнаженной грудью и головой, увенчанной цветами. Она выходит отсюда такою же, какой пришла: с обнаженной грудью, увенчанная цветами, готовая к новому разгулу, — а ведь тесное пространство, куда ее запирают, воздух, коим она здесь дышит, ожидающие ее отвратительные пытки, позор и унижение, чьей презренной жертвою она станет, — все делает это страшное место как бы первым проклятием, почти столь же ужасным, как то, что ожидает грешников после смерти.
В верхнем конце улицы Сен-Жак, между больницами «Кошен» и «Валь-де-Грас», почти вплотную к родильному приюту «Грязи», стоит древний монастырь, печальный и уединенный, напоминающий лепрозорий XI века. Налево от этого здания простирает свою тень, точащую сырость, грязная и вонючая свечная фабрика. На правом его углу выстроила себе деревянную лавочку бедная торговка яблоками; у дверей ее хижины прогуливается большая коза, тощая и облезлая. Вы заходите в ворота и не встречаете ни единого благожелательного взгляда у сторожей, ни капли сочувствия и жалости у врача, никакого доверия у больных; это нравы зачумленного города, его смятение и эгоизм, это самое худшее на свете — стыд пораженного болезнью, жгучие страдания, в коих он не смеет признаться. За этими стенами жизнь — если это можно назвать жизнью! — сплошной страх, голод, всепожирающие страсти, нарастающая тревога, недуг, принимающий все формы, все названия, поражающий весь организм, сплошное отвращение и ужас. Воздух здесь заразный, вода в ручье тинистая. В этом узилище я видел юношей, мертвенно-бледных, отупевших, лишенных искры разума, ничтожных жертв ничтожной страсти; а рядом — отцы семейства, носящие траур по женам своим и детям, дальше — мерзкие старики, коих медицинское искусство бережно хранит как любопытные образчики, их показывают чужеземцам со словами: «Наши зачумленные отвратительнее ваших!» Есть чем гордиться! Все это сборище несчастных, сгорбленных, искривленных, раздавленных недугом, лишенных памяти, надежды, воспоминаний, медлительно и молчаливо прохаживается взад и вперед. Ни один больной из этой толпы не смеет жаловаться даже Богу, так боятся они, что их услышат люди! Везде, на всех лицах, во всех душах одна и те же проказа, тот же стыд, та же смрадная грязь, то же отчаяние.
«Ах, ты хочешь ужаса, — говорил я себе, — ах, ты гоняешься за всякого рода низостью, ах, ты выходишь утром из дому единственно затем, чтобы созерцать лохмотья, растление, гниль и порок? Ну что ж, будь доволен, пресыться мерзостью и пороками! Но все же выйдем, уйдем прочь от этой заразы». И я действительно собрался уходить, как вдруг кто-то сказал мне:
— В больнице два отделения, здесь мужчины, наверху женщины, не желаете ли поглядеть и на этих?
Женщины! Женщины здесь? Увы! Едва ступил я на лестницу, как встретил кормилиц, зараженных хилыми младенцами, коих они еще держали у своей увядшей груди, — я встретил их скорее взглядом жалости, нежели гнева; дальше бедные деревенские девушки, плачущие навзрыд, не понимающие, чем они больны, почему их приняли с насмешливыми ухмылками, прятали лицо в свои грубошерстные передники. У дверей этой берлоги беременная молодая женщина, несчастная жертва супружеских уз, застыла, как статуя Ниобеи[47], в ожидании, пока освободится кровать возле какой-нибудь проститутки. Как! Женщина, кормящая своим молоком ребенка; как, юная девушка, отдавшаяся своей любви; как, порядочная женщина, доверившаяся мужу, — как, и до этих тоже добралась ужасная болезнь? Злосчастные! И в сто раз более достойные сожаления, нежели прочие пациентки, хохочущие здесь в общей спальне. Эти последние чувствуют себя как дома, больница для них — место развлечений, место отдыха. Я вошел в спальную комнату: огромная зала, вокруг громко смеются, играют в настольные игры; одни прихорашиваются, драпируясь в шерстяные покрывала, другие кутаются в халаты, самые юные, полуобнажившись, спорят, кто из них выглядит моложе; иные отвратительно бранятся или хрипло напевают песенки пьяниц и распутниц. Насколько мужчины, здесь живущие, были безобразны, бледны и подавленны, настолько женщины, в большинстве своем, были еще свежи, белолицы и веселы. Несчастные женщины! Такие красивые, что не утеряли красоты и здесь! Такие сильные, что смеются над своими мучениями! Боже, какие сокровища красоты даровал ты им в гневе Твоем! Бедные про́клятые создания! Они могли бы оказать честь молодости, составить гордость домашнего очага, опору зрелого возраста, утешение старца; они жадно проглотили, прежде чем им минуло двадцать лет, все: молодость и красоту, семью, любовь и брак, даже детство и старость, — они все расточили, все продали по дешевке, обменяли на язвы все драгоценные блага, полученные в удел от Господа, — грацию, юность, улыбку, здоровье, счастье! О, поистине, это ужасно, ужасно!
Вдруг по данному сигналу игры прекратились, шум улегся, наступила полная тишина; все женщины принялись приводить себя в порядок и потянулись туда, где ожидал их врач.
То было ложе скорби. Ложе это помещается в маленькой низкой комнате, освещенной единственным окном, выходящим на помойку; стены выкрашены в серый цвет, причудливым украшением им служат несколько непристойных рисунков — плод праздности пациентов. На кровать брошен тощий тюфяк, покрытый черным полотнищем; рядом с этим убогим ложем разбросаны в беспорядке разного рода режущие инструменты. Тем временем вносят жаровню с горящими углями, на них виднеется раскаленное железо; вокруг кровати стоя расположились старожилы, заслужившие своею помощью право присутствовать при этом зрелище; на единственном стуле восседает элегантный хирург и болтает со своими учениками об актрисах и о газетных новостях. Я стоял среди этих юных последователей Эскулапа, понимающих в медицине больше, нежели сам Господь Бог, по счастью, не знавший стольких болезней; единственный из всех я был взволнован и внимателен. Через полуотворенную дверь я видел полуодетых женщин, ожидавших своей очереди с таким нетерпением, будто они толпились у входа в Оперу. Были тут прелестные головки, детские личики, тонкие и скромные, с полуоткрытыми в легкой улыбке устами; были прекрасные лица с изогнутыми бровями и выразительным взглядом, осененные черными кудрями; то было беспорядочное смешение различных видов красоты, настоящий сераль какого-нибудь султана, обитательницы которого, разбуженные ночью господином, бегут босиком к дверям своего гарема, с влюбленной покорностью ожидая его приказаний и взмаха его бича.

Послышался зов, прозвучало имя Анриетта. Анриетта! Из расступившейся толпы вышла она, высоко держа голову, с гордым взглядом, все такая же прекрасная; она столь же непринужденно бросилась на мерзкое ложе, как некогда на лужайку под Ванвом, и ждала хирурга. Было совсем тихо; этот человек, вооружившись кривыми ножницами, принялся резать по живому телу, — слышен был только лязг инструмента, и когда, не стерпев боли, молодая женщина шевельнулась и жалостно застонала, ответом ей были презрительный окрик и брань. Разрываясь между ужасом и состраданием, любовью и отвращением, я смотрел на эту несчастную, восхищался ее мужеством, ее телом, таким белоснежным, ее формами, такими чистыми, всей этой столь безжалостно уничтожаемой красотой! Я говорил себе, что она могла бы составить счастье короля… а она опустилась на последнюю ступень человеческого падения! Когда хирург кончил возиться с железом, он взялся за огонь; безжалостно прижигал он кровавые раны, то и дело поглядывая на результат своей ужасной работы с удовлетворением художника, завершающего пейзаж. Потом грубо крикнул ей:
— Освободи место для следующей, и чтобы я больше здесь тебя не видел!

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Не помню, как я выбрался из этого проклятого места. У ворот я залез в свой экипаж — деревенскую коляску, довольно безобразную, но широкую и удобную. И я сидел в ней, погруженный в тупое изумление, близкое к отчаянию, пока, по крайней мере, через час ожидания, посреди улицы Здоровья (Здоровья! Горькая насмешка, плод остроумия какого-нибудь муниципального чиновника), на обочине, в куче вечной грязи не заметил что-то белое, дрожащее от холода, пытавшееся выбраться на дорогу.
— Дай мне твой каррик и шляпу, стань на запятки! — приказал я своему вознице Готье. С этими словами я проворно натянул на себя каррик с галунами, низко надвинул большую клеенчатую шляпу с полями, и предстал совершенным извозчиком перед какими-то двумя женщинами. То была Анриетта, а с нею та молодая порядочная женщина, чья скромность и страдальческий вид столь меня поразили; завершив лечение в один и тот же день, они обе были вышвырнуты за дверь больницы, полураздетые, полумертвые от холода, — у одной не было пристанища, другая не решалась вернуться под свой кров. Я соскочил наземь.

— Не желаете ли воспользоваться моею коляскою? — обратился я к ним.
Не успел я договорить, как Анриетта забралась в просторный кабриолет.
— Я не смею, сударь, — промолвила другая женщина. — Мой муж проживает весьма далеко отсюда, и сомневаюсь, что он заплатит вам за мой проезд.
И она, как могла, закуталась в черную шаль — единственную вещь, которую у нее не успели отобрать или не смогли украсть товарки, — и продолжала сидеть на грязной обочине, в промокших насквозь башмаках.
— Все равно, поднимайтесь в коляску, сударыня, — возразил я. — Заплатите, если сможете. — И я уселся между обеими пассажирками. В этот день все излечившиеся пациентки женского отделения одновременно выходили из больницы. Видя их такими оживленными, никто не догадался бы, через какие ужасные испытания прошли эти несчастные. Они смеялись, они прыгали, пели «Да здравствует вино, да здравствует любовь!» — они возвращались сразу и к жизни, и к разврату. Что из того, что существует эта ужасная болезнь? Большую часть освободившихся узниц больницы встречали мужчины подозрительного вида, близлежащий кабачок наполнился радостными криками, люди битком набивались в наемные коляски, какие-то гнусные старухи в этой толпе вновь завладевали своими невольницами — бедными девушками, купленными в нормандской глуши во всем девственном блеске их девятнадцати лет, — болезнь похитила их с этой омерзительной каторги, но они еще не отбыли свой срок.
— Куда ехать, сударыня? — обратился я к юной несчастной женщине, дрожавшей у моего плеча.
Она была настолько растеряна, что едва меня понимала. Наконец выговорила, что муж ее проживает там, далеко. Бедняжка! Она так просила его навестить ее, вытащить из пропасти, куда он же сам ее и столкнул! Но он не пришел.
— И если бы не вы, сударь, я умерла бы от стыда и от холода на этой обочине.
Так говорила она, и таким нежным голосом! Так трогательно смотрела на меня! Бедная женщина! Столь целомудренная и столь запятнанная, столь чистая, но погибшая! Будто нарочно созданная для мирных семейных радостей — и проведшая медовый месяц в больнице! Мы продвигались вперед, и с каждой новою улицей она все грустнела. Я это заметил и пустил лошадь шагом.
— Что с вами, бедняжка, почему вы так дрожите?
— Бог знает, как примет меня муж? — отвечала она. — Простит ли он мне то зло, которое я ему причинила?
Я взглянул на нее: она была бледна как смерть, ее красивое лицо несло на себе следы всех ее душевных и физических страданий.
— Мужайтесь, сударыня! — сказал я ей. В эту минуту мы проезжали под аркою Ратуши.
— Мужество! Боже мой, как нужно было оно мне целый год! Что я за несчастная! Год тюрьмы и пыток в уплату за один месяц законного брака!
Так мы подъехали к дверям ее дома; я остановил лошадь, молодая женщина оставалась немой и недвижной, и я дал ей время, чтобы собраться с духом. Что же касается Анриетты, то, закоченев, она спрятала голову под нижней пелеринкой моего каррика и задремала, сложив руки на моих коленях.
Наконец я сказал молодой женщине:
— Хотите, сударыня, я отведу вас к вашему мужу?
Она кинула мне грустный, но полный благодарности взгляд. Тогда я бережно приподнял головку Анриетты и переложил ее на дверцу коляски; ветерок подул на волосы задремавшей девушки, она почувствовала холод, открыла глаза и что-то жалобно простонала. Порядочная молодая женщина уже стояла на своем пороге; ни слова не промолвив, она сняла с себя черную шаль, поднялась на подножку коляски и окутала этим дружеским покровом плечи Анриетты, все еще боровшейся с дремотой; Готье невозмутимо держал лошадь под уздцы.
Свершив последнее подаяние, несчастная вновь обрела мужество и взошла по крутой лестнице, опираясь на мою руку, — она была так слаба, хоть больше и не дрожала! Дом был спокойный, опрятный, холодный, такой порядочный, каким всегда бывает дом ростовщика; мы остановились на третьем этаже, постучали в дверь; моя спутница была смертельно бледна, ее прекрасная грудь, теперь не покрытая шалью, волновалась, она задыхалась от робости; я вошел первым. Я увидел человека, окруженного зелеными папками и деловыми бумагами; жену он встретил так, будто виделся с нею только вчера: ни слова участия, ни улыбки, ни угрызений совести, ни жалости! Ужасный человек! Он посмел поцеловать жену, что меня испугало, ибо глаза у него были отвратительно красные, сухие волосы ниспадали жидкими прядями, а лицо было усеяно красными прыщами!
— Ах, несчастная женщина! — вскричал я, приблизившись к ней. — Несчастная! Что будете вы делать здесь? Какой злой рок привел вас к гибели! Здесь!.. Вам было бы лучше оставаться там, откуда вы вышли!
Муж зло усмехнулся и снова зарылся в свои бумаги.
Хрупкая невинная женщина залилась слезами. Потом она взглянула на меня, словно говоря: «Я знаю свою участь. Приходите за мною через год в то же место!»
О, злосчастная! Вот, значит, куда ведет тебя супружеский долг! Что же худшее мог дать тебе разврат? И неужто права бедная Анриетта, — ведь в конце концов ты, ты, воплощенная добродетель, ты, незапятнанная честь, достойна большего сожаления, нежели уличная проститутка! Бедная женщина! Бедная женщина!
Я спустился вниз по лестнице, охваченный судорожной дрожью, и уткнулся головою в морду моей лошади.

ДОМ ТЕРПИМОСТИ

Немного справившись с волнением, я спросил оставшуюся мою подопечную:
— Куда поедем?
Анриетта не отвечала и глядела на меня с удивлением, словно ей и в голову не приходило, что надо еще куда-то ехать. Несчастная! У нее и правда не было пристанища. Прежде, до больницы, она жила в прелестном домике, столь кокетливом, веселом и столь изящно порочном, что ему прощался порок. В этом доме, полностью ей принадлежащем, она была королевою: у нее были кружева, шелка и золото, чтоб оттенить и усугубить ее красоту; ее ноги едва касались расшитых цветами ковров. Она улыбалась себе в блестящие зеркала, скользила небрежным взглядом по шедеврам искусства минувшего века — порхающим амурам, вздыхающим пастухам, пасту́шкам, улегшимся на краю лужайки, выставив из-под юбок крошечную ножку. Самая редкостная мебель украшала это пышное жилище, старая бронза, отполированный временем мрамор, поющие стенные часы, точно указывающие час любви; сотни неуловимых ароматов кружились в этих нечистых стенах, как циркулирует кровь в человеческом теле; тайное веселое эхо тихонько вторило нежным речам; прислушавшись, можно было уловить в уголках звуки поцелуев. Весь мир послал в этот дом свои трофеи: Китай — старинные лаки, с порочными кривляющимися фигурками; Англия — странные вычурные изделия из серебра; Севр — благородный фарфор, ценимый выше золота; старые королевские замки — тысячи своих безымянных причуд, не лишенных изящества. Немногочисленные, зато хорошо вышколенные слуги толпились вкруг своего кумира: у нее была старуха, чтобы отворять двери, а по вечерам, в случае надобности, превращаться то в строгую дуэнью, то в снисходительную матрону; чтоб стоять на запятках ее кареты, имелся красивый крестьянин из Ванва; развращенный, как и она сама, столь же порочный; чтобы льстить ей с утра до вечера и делить с нею свою веселость, свой опыт, свою пикантную дерзость, была у нее хорошенькая шестнадцатилетняя девочка, субретка с большим будущим, коей скоро предстояло использовать порок в своих собственных целях. Кухня ее так и пылала, гостиная была тиха и прохладна, спальня благоухала жасмином и розами, ее альков безмолвствовал, дверь надежно хранила ее секреты, окно позволяло украдкой наблюдать за крыльцом. Здесь красота ее расцвела во всем своем могуществе, у нее было все необходимое снаряжение для извлечения выгоды из этой красоты; невозможно было быть лучше обслуженной, лучше ухоженной, улещенной, развлекаемой, упокоенной; она не могла пожелать ни более теплой ванны, ни более мягкого ложа, ни более тонких вин, ни лучше накрытого стола, ни более тщательно охраняемой тайны. В таком окружении, в таком жилище, при таких ухищрениях даже самая банальная миловидность показалась бы красотою, — посудите же, как хороша была Анриетта! Каждый час ее существования отмечен был празднеством, предательством или наслаждением. Каждое утро при ее пробуждении Роза, ее субретка, приносила ей свежеотпечатанными тысячи новых клевет на все — красоту, ум, юность, добродетель. Читая эту клевету и оскорбления, Анриетта утешалась в том, что отлучена от этого общества, коему отвечала на презрение презрением; затем следовали модные журналы, театральная газета и любовные письма, и она второпях выбирала шляпу, спектакль и любовника на сегодня. Ровно в полдень у крыльца ее ждет запряженная карета с фальшивыми гербами; наступает час улицы Вивьен и медленных прогулок, столь любезных сердцу хорошенькой женщины, когда, задерживаясь у каждого нового магазина, ловя льстивый шепот бросающихся к ней юных продавщиц, она колеблется между сотнями только что поступивших новинок, щупает одну ткань, потом другую, добавляет или убирает цветок на шляпке, набрасывает на плечи простой газ или богатое кружево, а после четырех часов такого приятного труда снова садится в свою карету, чтобы вечером покрасоваться во всех этих блестящих пустяках.
Когда вечер приходит, ее призывают Опера либо Итальянский театр, к ее услугам весь блеск искусства, лучшие его образцы, ежедневные царственные празднества; и пока толпа честных людей терпеливо ожидает у входа в театр, под дождем, по щиколотку в грязи, нередко натощак (вот она, восхитительная страсть к музыке!) — ожидает своей очереди купить ценою трех дней труда билет на скромное и тесное место в самом неудобном уголке зрительной залы, она, фаворитка богачей, подъезжает галопом на собственных лошадях и выходит из кареты, сверкая драгоценностями; ей подает руку в качестве почетного кавалера какой-нибудь важный господин, занимающий высокое положение, — государственный советник, председатель королевского суда, пэр Франции, в крайнем случае, бывший воин императора, героический осколок побед, который, чтобы предложить руку этой женщине, нацепил свою самую широкую орденскую ленту, синюю либо красную; а вслед за нею, готовые умереть, лишь бы защитить ее от любого оскорбления, шагают, служа ей телохранителями, счастливые и гордые своею ролью, самые молодые и красивые. Она шумно входит в ложу, безжалостно прерывая пение г-жи Паста или г-жи Малибран[48], она склоняется через барьер, чтобы партер мог вволю восхищаться ею и чтобы удостовериться, что ни одна женщина здесь не может затмить ее красотой. У нее наглый взгляд, оскорбительная улыбка. Она громко отпускает самые злые и насмешливые замечания по адресу порядочных женщин, — насмешки тем более жестокие, что их с одобрением встречают и готовы поддержать пять или шесть шпаг. В самую студеную зиму в ее ложу приносят розы, и она выбирает самые свежие, а прочие кидает на пол, к своим ногам. При виде этой женщины, такой наглой и такой прекрасной, старик забывает о благоразумии, молодой человек — о своей новобрачной; безупречные женщины, видя, что этот торжествующий порок окружен бо́льшим поклонением, нежели добродетель, с тревогою задаются вопросом: не жертвы ли они собственной непогрешимости? У самого Гарсии[49] замирают звуки на устах при виде женщины более прекрасной, чем Дездемона, этот одухотворенный мрамор.

А она, привычная к таким триумфам, принимает в своей ложе все почести от остроумцев, военных, ученых, поэтов, юных школяров, сбежавших с урока, — ей все годится, была бы вокруг нее толпа заметных людей. Потом, как раз в тот момент, когда эта толпа делается особенно заискивающей, она поднимается, все с тем же презрительным и дерзким видом, и выходит, как и вошла, не дожидаясь конца арии; она будто говорит поющему актеру: «Оставляю тебе твоих слушателей», — а самым красивым дамам в зале: «Сударыни, забирайте своих мужей и любовников, я их больше не хочу». Ей и нужды нет: стоит ей пожелать, и она в любой вечер найдет у подножия лестницы нового Релея[50], который бросит ей под ноги свой плащ.
Но, достигнув вершины своей красоты и наглости, несчастная не почувствовала головокружения. Ни разум, ни сердце не могли указать ей верный путь, так что внезапно она обнаружила, что безвозвратно запуталась, и тогда она очертя голову ринулась в пучину непрерывных наслаждений и безумных излишеств. В тысячный раз оправдалось ясновидение Божие — умеренность в пороке невозможна, вот почему порок, как и слава, преходящи и губительны. И эта несчастная после всех триумфов узнала свое Ватерлоо и свой остров Святой Елены в верхнем конце улицы Сен-Жак. О, несчастные женщины, им так мало нужно, чтобы потерпеть поражение! Легкая морщинка, почерневший зуб, несколько выпавших волосков, суждение их господина, который говорит им, как Ювенал[51]: «Твой нос мне не нравится» — displicuit nasus tuus! И вот однажды, в зимний холод, в грязь и снег, утром, когда она еще не успела позавтракать, ее выталкивают в шею из дома, который еще вчера был ее домом: ее лакей говорит ей «Убирайся», старуха привратница, еще совсем недавно такая преданная, с презрительною ухмылкою приотворяет ей одну створку двери, Роза, ее горничная, которую она так любила, Роза, согревавшая ей ноги на своей груди, та самая, которой она столь щедро передаривала свои драгоценности, платья, кружева и вчерашних любовников, — занимает ее место в этом нечистом раю, даже не кинув ей из жалости пару перчаток, украденных у нее, когда она была хозяйкой. Одного слова хозяина оказалось довольно для того, чтобы разбить вокруг нее все зеркала, фарфор, бриллианты, любовь мужчин и ярость женщин, чтобы снизу доверху разгромить эту державу; счастье еще, что в уличной грязи ее подобрала полиция и отворила перед нею двери больницы.

Но теперь, когда ее выгнали даже из этой больницы, теперь, когда она лишилась последней покровительницы — ужасной болезни, доныне ее охранявшей, куда теперь деваться этой девушке? Какой дом пожелает принять ее, такую бледную, такую слабую, нищую, плохо одетую, на какой гостеприимный порог ступит она, прося одра и хлеба? И чтобы решиться на что-нибудь, она перебрала в памяти всю свою прежнюю блестящую жизнь. Я терпеливо ждал, пока она примет решение, меня интересовала эта битва в современном духе, я бы весьма желал узнать, куда может податься несчастная, вышедшая из позорного особняка «Капуцинов».
Побежденная столькими бедами, доведенная до крайности, бедняжка тщетно пыталась припомнить мужчин, некогда окружавших ее почетом, покровительством, любовью. Старики называли ее дочерью, юноши мечтали умереть за нее — где все они, что с ними сталось? Она забыла даже их имена, а они, может быть, не узнали бы ее в лицо! Если бы у нее были сейчас деньги, которые она пустила на ветер, она купила бы в Ванве двадцать арпанов земли. Но у нее не оставалось никакой надежды. За тот год, что она оторвалась от людей, поднялась новая поросль стариков и юношей, чтобы любить женщин и губить их, и новая поросль молодых женщин, которых будут любить и которые загубят себя, как загубила себя Анриетта. Значит, она не находилась больше на вершине порока великолепного, она была пригодна теперь лишь для порока ничтожного. Ее вышвырнули из гостиной, и у нее уже не было иного пристанища, кроме панели. И смутно, но с ужасом она поняла, какой страшный путь открывается отныне перед нею: теперь проституция стала для нее вопросом спасения от голода и нищеты. И она припомнила некоторые советы, некие тайные сведения, полученные от товарок по больнице. Именно в этих лепрозориях нашего века агенты растления вербуют своих печальных жертв, больница — это прихожая, достойная подобного будуара! Анриетта напрягала память, стараясь вспомнить имя незнакомой покровительницы, к коей ее направляли, вспомнить адрес горячо рекомендованного ей убежища; после долгих усилий имя она припомнила, но адрес в свое время пропустила мимо ушей, настолько недальновидной она была, когда надеялась только на свою счастливую судьбу. После битых четверти часа раздумий она спросила меня:
— Не знаете ли вы, где живет госпожа де Сен-Фар? Мне говорили, что она стала бы заботиться обо мне, как о собственном дитяти, что у нее всегда найдется для меня постель, платье и место за столом. Отвезите меня к госпоже де Сен-Фар.
Я уже говорил вам, да вы и сами убедились, что я малый порядочный, я даже имени не слыхал г-жи де Сен-Фар, а ведь это имя известно среди студентов и коммивояжеров. Тем более не знал я адреса этой дамы. Однако я непроизвольно повернул в сторону самых богатых и самых развращенных кварталов Парижа; но, к счастью, на полпути мне встретились несколько подвыпивших военных, славных солдат королевской гвардии, под руку с приземистыми уродливыми девицами, но солдат столь гордых, будто они покорили итальянских принцесс.
— Господа! — крикнул я солдатам. — Не скажете ли, где проживает госпожа де Сен-Фар?
Вопрос польстил тщеславию солдат, но поставил их в затруднение: они были удачливее меня и хорошо знали имя упомянутой дамы и ее малопочтенную профессию, не раз на веселых ночных сборищах гвардейцев они слыхали, как господа унтер-офицеры говорили между собою об этом заведении с таким же восторгом, с каким правоверные говорят о магометанском рае, но в точности указать мне нужный адрес не могли. Их славные подружки повисли у них на руках, тоже явно уязвленные своей неосведомленностью. Наконец один капрал крикнул мне, шевеля усами:
— Если уж Агата не сможет дать вам адрес госпожи де Сен-Фар, придется вам обратиться к нашему лейтенанту, он-то доберется туда с закрытыми глазами!
Тут медленно и торжественно, как дама, носящая перчатки, которой приходится опускаться до всякого сброда, подошла Агата, доселе державшаяся на два шага в стороне; я низко ей поклонился.
— Мадемуазель, если вам, как утверждает капрал, знаком адрес госпожи де Сен-Фар, не можете ли вы указать мне его?
— Знакома ли я с мамашей Сен-Фар! — подхватила мадемуазель Агата. — Слава Богу, я вполне гожусь для такого знакомства, а захотела бы, так познакомилась бы и поближе!
Презрительно произнеся эти слова, она гордо вскинула голову, выпрямилась и подобрала подол платья, волочившегося по дорожной грязи.
— Значит, мадемуазель, вы будете так любезны и укажете мне этот дом?
— За кого вы меня принимаете! — возразила Агата, сверкнув глазами.
— Ну, ну, Агата, будь славной девушкой, не заставляй долго просить себя оказать услугу достойному человеку, — сказал капрал. — Какого черта! Пусть знает, что у нас есть знакомства в хорошем обществе, кое-кто повыше, чем хилые молокососки, не смеющие высунуть нос дальше Сент-Антуанского предместья![52]
Бедные девицы кусали губы. Мадемуазель Агата состроила любезную улыбку и протянула указательный палец с длинным черным ногтем, вылезшим из дырявой замшевой перчатки.
— Поезжайте прямо, до конца аллеи, — сказала она, — потом сверните налево до Пале-Рояля, а там, на третьей слева улице, сразу увидите дверь госпожи де Сен-Фар.
Выслушав эти дорожные указания, капрал возгордился своею подружкой, солдаты возгордились капралом, а я возгордился тем, что так скоро раздобыл адрес дамы, наверняка не числящейся в «Королевском альманахе»[53], — у каждого своя гордость.
Погнав лошадь в указанном направлении, я начал присматриваться к Анриетте, пытаясь объяснить себе ее неподвижность и ее уверенный вид.
Неужто она так легко пошла на это? Неужто ни секунды колебаний, никаких упреков себе? Однако очевидно было, что она приняла на плечи этот ужасный груз и уже занесла ногу над глубочайшею, последнею бездной порока! Вот, значит, на что она рассчитывала. Видя ее такою спокойной и умиротворенной, можно было подумать, что она исполняет необременительный долг. Я же, по воле обстоятельств ведущий ее по этому гибельному пути, я, слепое орудие ее ужасной судьбы, я, некогда столь невинный, вольный и счастливый, увы! я содрогался при мысли, что стану свидетелем последней сделки, на какую только может пойти женщина, свидетелем этого невероятного торга, в результате которого она отдается первому встречному за облегающее платье и кусок хлеба.
Когда мы доехали до улицы, где проживала мамаша Сен-Фар, я сейчас же узнал нужный дом по окружавшим его молчанию и тишине: то было безмолвие позора, тишина стыда, казалось, соседние дома расступились и закрыли лица, дабы не запятнать себя близостью к этому дому. Ужасно, что нет на свете ни одного города, свободного от этой дани пороку и преступлению! Дом можно было опознать по таинственно полуотворенной двери, по любопытным взглядам, которые украдкой бросали на него прохожие, по разбитым оконным стеклам, по стенам, испещренным адресами ломбардов и лекарей тайных недугов, словно разорение и страдание составляли достойную рекламу для этих зловредных мест! Я смело остановил свой кабриолет у двери, где обычно не останавливался ни один экипаж, даже похоронные дроги. Анриетта спустилась с подножки, опираясь на мое плечо; у нее уже полегчало на душе, она почувствовала себя на знакомой почве. Мы вместе вошли в дом, и в дверях я непроизвольно пропустил Анриетту вперед. Лестница была темная и грязная, старуха в трауре, уж не знаю, по какому случаю, встретила нас на верхней площадке; ни слова не промолвив, она проводила нас в добротно, но безвкусно обставленные апартаменты. Хотя была середина дня, комната освещалась лампой, чей неверный и печальный отблеск боролся с заблудившимся солнечным лучом, тусклым и бледным, проникающим сквозь дыру, нарочно проделанную в верхней части ставен по требованию префекта полиции: кто угодно мог свободно войти в этот дом — палач, рецидивист, убийца, даже шпион собственной персоною — все, кроме солнца; ничего лучшего не могли придумать судебные власти для поддержки и защиты добрых нравов! В маленькой гостиной вокруг стола сидели три женщины почтенного вида за приходо-расходною книгой и старательно подсчитывали доходы и убытки. То были три компаньонки этого коммерческого предприятия, из коих две — матери семейств, и они с большой совестливостью и щепетильностью делили прибыль от дела. Председательницею казалась женщина, сидевшая во главе стола, она привносила в товарищество свое широко известное имя, добрую репутацию своего заведения и длительный опыт в такого рода сделках; она первая обратилась к Анриетте, я же ретировался в угол и ловил каждое слово их разговора.

— Вы желаете поступить к нам? — спросила эта женщина совсем просто, как честная буржуазка, нанимающая новую прислугу, а ее товарки тем временем внимательно разглядывали претендентку.
— Да, сударыня, — почтительно отвечала Анриетта. Она умолкла, а они рассматривали ее рост, ее руки и ноги, грудь, волосы, всю ее фигуру и ее исхудавшее болезненное лицо.
— Эта особа достаточно красива, — проговорила младшая из женщин, — из нее можно кое-что сделать, но придется очень постараться: во-первых, она чересчур худая и бледная, а потом, плохо одета, волосы в беспорядке, пальцы выглядят непомерно длинными, — как видно, она вышла из больницы, и, если надо, я скажу ей из какой именно.

— Не имеет значения, — возразила женщина, сидевшая справа, — вы знаете, дорогой друг, что туда могут попасть самые честные девушки, и надо надеяться, что такой урок пойдет ей на пользу.
Затем, обратясь к просительнице, она продолжала:
— Кажется, милая, я вас еще нигде не видела?
— Верно, сударыня, нигде.
— Тем хуже, — подхватила председательница, — вы, должно быть, нахватались понятий о роскоши и независимости, которые не очень-то укладываются в мирные порядки нашего дома. Если вы намерены долго оставаться здесь, мадемуазель, знайте, что нам требуется беспрекословное послушание и безграничная покорность; вам нельзя будет ни привередничать в еде, ни шуметь, ни болеть, придется постоянно заботиться о своих платьях, чепцах и шляпах, надо будет самой обратиться к господину комиссару полиции за разрешением добросовестно заниматься вашим ремеслом и исполнять все особые законы, имеющие к этому отношение; не пить вина чаще, чем раз в неделю, посещать театр не более как раз в месяц. При этом условии мы рады будем оказать вам поддержку. Но, однако, сударыни, если мы ее берем, как вы считаете, кем ее надо сделать?
— Я считаю, — сказала первая, — что надо сделать ее гризеткой. Во-первых, у нас нет ни одной, а, во-вторых, ничто так не забирает за душу господина из большого света или человека скучающего, как белые чулки, туго обтягивающие округлые икры, черный передник, который легко заменяется другим, и к тому же такой наряд недорого обойдется заведению.
— А я нахожу, — возразила другая, — что нет ничего пошлее гризетки, их встречаешь во всех магазинах, во всех водевилях и во всех романах, описывающих современные нравы; на свете есть много мужчин, которые не принадлежат к высшему обществу и не станут открыто гоняться за круглым чепчиком и черным передником. То ли дело буржуазка! Буржуазка не бросается в глаза. Она никого не компрометирует. Можно идти за нею, можно вести ее под руку не краснея. К тому же наряд для буржуазки можно придумать в одну минуту: шелковое платье, шевровые башмаки, бархатная шляпка, шаль от Терно, цветные перчатки, крепко надушена мускусом с амброй, скромница с виду, — есть чем вскружить голову студентам и розничным торговцам!
— Да, — подхватила ее товарка, — но эти лавочники — скупердяи, а студенты поднимают страшный шум, да к тому же барышня слишком молода для роли буржуазки, это подойдет ей лет через пять-шесть; я бы предпочла одеть ее светскою дамой: голая шея, голая грудь, шикарное платье из желтого атласа, ажурные чулки, фальшивые жемчужины в ушах, перья марабу на голове, а рядом — наша почтенная Фелисите, которая вечером послужила бы ей матерью.
— А я уже по горло сыта всеми этими княгинями, — вмешалась прислушивавшаяся к ним мамаша Сен-Фар, — они разоряют нас на газ, позолоту и побрякушки; нет ничего горше, как видеть запачканными великолепные атласные платья, которые они возвращают нам в таком виде; я больше этого не хочу, и на месте барышни я предпочла бы славный деревенский наряд: открытые плечи, золотой крестик на невинной черной бархотке, белый цветок в руке, скрученные узлом волосы, соломенная шляпа набекрень, сельская непосредственность — все это будет ей так к лицу!
При этих словах, воскресивших перед моим внутренним взором равнину Ванва (о дорогие мои чистые воспоминания, зачем явились вы в это место!), я сорвался со стула и решился сделать последнюю попытку вытащить несчастную из этого притона.
— Да, да! — воскликнул я. — Бедная девушка, еще не поздно! Надень снова твое грубошерстное платье, повяжи на шею ситцевую косынку, покрой голову скромной соломенной шляпой, выгоревшей на солнце, будь снова юною и веселою поселянкой, пышущей свежестью и здоровьем; пойдем, пойдем, бежим! Я люблю тебя, я тебя спасу, если ты хочешь!
Услышав это, все три женщины испуганно переглянулись: добыча была слишком хороша, чтобы можно было ее упустить.
— Мы не принуждаем барышню, — проговорила мамаша Сен-Фар. — Если ей хочется бархатного платья, золотого ожерелья, вышитого платка и ажурных чулок — нынче же вечером она их получит.
…Этим было все сказано!

СИЛЬВИО

Я связан нежной дружбою с молодым человеком немного моложе меня, по имени Сильвио. Прекрасная натура, человек открытый и любезный, скромный, сильный, стройный и таящий в душе ярую страсть сочинять всяческие драмы. Женщина только для него одного — вот какова была великая мечта опрометчивого и нетерпеливого Сильвио; он считал всех женщин существами высшего рода и в их присутствии не смел дышать; это молчаливое поклонение, это немое обожание не приносило ему никакой выгоды: молодой, красивый, богатый и отважный, непринужденно носивший, не посрамляя его, громкое имя, он едва удостаивался безразличного либо презрительного взгляда тех прекрасных созданий, о которых так мечтал. Впрочем, сам виноват: зачем был он таким скромником? Полностью занятые лишь самими собой, женщины не умеют разгадать мужчину, — для того, чтобы быть ими понятым, он должен выставлять свои достоинства напоказ. А именно этого Сильвио и не осмеливался делать; я пытался уберечь его от столь опасной восторженности, но безуспешно: самые разумные мои советы он встречал усмешкою. Не знаю уж, каким образом он догадался, что я страдаю от неудачной любви, и часто подтрунивал над моим тайным чувством; он подсчитывал мои вздохи, угадывая смысл недосказанных слов, причину моей лихорадочной рассеянности, бросал мне жалостливые взгляды, под которыми я нередко вздрагивал, боясь, что ему известна вся моя тайна, иными словами, все мое несчастье до конца!
Наутро после моего рокового приключения я был очень грустен, я твердил себе, что всего себя, свою молодость и любовь я принес в жертву бархатному платью, грязному платью проститутки! Презренная женщина, да, конечно, трижды презренная! И тут в мою комнату вошел Сильвио, неся с собою хорошее настроение, никогда его не покидавшее, даже когда он бывал охвачен самою сильной из своих любовных страстей. Накануне на балу он вообразил, будто какая-то почти сорокалетняя женщина, толстая и жирная матрона, годящаяся ему в матери, пожала ему руку! Он так и пыжился от гордости и прибежал ко мне, чтобы похвастаться своею необыкновенной удачей.
— Черт возьми, она пожала тебе руку! Ты многого достиг! — промолвил я, вздыхая.
— Многого, — отвечал он, — путь к сердцу женщины лежит так же через ее руку, как и через губы. Но ты, господин чванливец, ты бы, я думаю, был счастлив достигнуть того же, чего достигнул я.
— Уверяю тебя, мой бедный Сильвио, что я в своей любви достигнул куда большего, нежели желал, и что ты запрыгал бы от радости, если бы понимал, сколь многого ты достигнул, сам того не зная.
Сильвио вытаращил глаза — его юное живое воображение уже сочиняло целый и весьма сложный любовный роман, построенный на песке.
Тем временем я вертел в руках свой кошелек и, машинально высыпав его содержимое на мраморный туалетный столик, отделял золотые монеты от серебряных, серебро — от мелочи. Сильвио все грезил.
Я безжалостно прервал его мечты.
— Знаешь ли ты, сколько стоит женщина? — воскликнул я. — Я хочу сказать — прелестное, идеальное создание, какого ты и во сне не видел, юная девушка, едва достигшая двадцати лет, чистая и свежая, расцветшая под сенью своих роскошных кудрей как столепестковая роза, женщина, которую я встретил менее года тому назад, когда она бегала по полям близ Ванва, не зная иных забот, как о своем осле и своей соломенной шляпе! Знаешь ли, во что оценила себя эта счастливая поселянка, которая оказала бы честь испанскому гранду, прекрасная девушка, к коей я проникся обожанием с первого взгляда? Знаешь ли, за сколько ты, я, кто угодно может получить ее?
Юноша слушал меня, весь дрожа.
— Сколько же стоит та, которую ты любишь, о которой думаешь день и ночь, которую преследуешь? Та, ради кого ты забросил свои цветы, забыл всех друзей, всех поэтов! Сколько она стоит?
Я взял со стола золотую монету.
— С тебя, добрый мой Сильвио, поскольку ты хорош собою и молод, она спросит вот это, смеясь над твоею простотой.
Потом я взял серебряную монету наполовину меньшего достоинства.
— Для заурядного человека, для прохожего, для первого встречного, если он не слишком торопится, — вот ей цена. А если придет солдат, хвативший лишку, или какой-нибудь настойчивый и скупой старик, она будет стоить вот столько! — И я ткнул пальцем в пятифранковую монету с изображением его величества Людовика XVIII; потом мне стало стыдно за самого себя, и я впал в прежнее подавленное состояние.
На минуту установилась тишина. Было ли это со стороны Сильвио сострадание или упрек? Наконец он встал, приблизился ко мне и взял золотую монету.
— Я хочу сам убедиться, — молвил он. — Где она? Я ее куплю.
— Ты, Сильвио?
— Я! Какая разница, кто ее купит, если каждый имеет право сделаться твоим соперником? Безумец! Только что ты смеялся над моей переменчивой страстью, и вот ты уже раздавлен позором, к коему непричастен! Все на свете могут обладать твоей возлюбленной, кроме тебя самого, и ты умираешь от ярости на ее пороге! Если бы еще в твоем кошельке не было денег! Но в данное время у тебя есть чем двадцать раз заплатить той, которую ты любишь! Эта продажная женщина — вот она тут, на этом мраморе, ты можешь купить, если пожелаешь, три месяца ее жизни, а потом продлить сделку еще на три месяца или на час, — а ты, малодушный, только плачешься и ничего не говоришь, ничего не предпринимаешь! Это как раз тот случай, когда надо сказать, как Ваго: «Наполните серебром свой кошелек, дон Родриго!» А тем временем я, наивный Сильвио, Сильвио — робкая барышня, схожу к твоей любовнице и, чтобы ты впредь доводил свои дела до конца, возьму твои золотые, ибо, лишь заняв денег из твоего кошелька, я совершу прелюбодеяние. Ах, бедняга, ах, страдалец! Ну же, встряхнись, я не хочу тебя оскорбить, я хочу получить эту красотку за свои деньги! Хочу поглядеть, — добавил он более мягким тоном, — на предмет твоей страсти, хочу иметь право рассказать тебе, каковы те покой и счастье, что можно обрести в объятиях этой женщины; сам ты не смеешь их купить — я куплю их вместо тебя, а потом приду сюда и скажу тебе, достойна ли она твоих сожалений, стоит ли единой твоей слезы или же стоит не больше, нежели эта монета. Итак, я куплю ее только для себя одного, если ты не хочешь присутствовать при сделке.
— Разумеется, я буду присутствовать, Сильвио, мы отправимся вместе, идем!
Я забрал деньги, все свои деньги. И вышел вслед за другом, подавленный, как поджигатель или убийца, коего толкают на преступление.
Мы двинулись к новому пристанищу Анриетты, но, когда подходили к этому заведению, я вскричал:
— Сильвио, невозможно допустить, чтобы она оставалась в этом ужасном доме, я не могу, Сильвио, оставлять ее на торжище для всех покупателей, я умру или сойду с ума, Сильвио! Если ты мне доверяешь, мы купим ее оптом, чтобы помешать ей торговать собою в розницу!
— Это будет убыточная сделка, — отвечал Сильвио, оглядываясь на всех встречных женщин.
Мы уже повернули на нужную нам улицу, уже приближались к дому, когда увидели у роковой двери возбужденную и все прибывающую толпу. Притон был уже окружен отрядом солдат, и комиссар полиции в полосатом шарфе торжественным шагом входил в дом. Сильвио был знаком с достойным чиновником, и тот пропустил нас в это гиблое место. Внутри все было перевернуто вверх дном, обитательницы заведения, бледные и растрепанные, сидели на своих жалких постелях и растерянно переглядывались, а их ничтожные партнеры по распутству, захваченные врасплох посторонними людьми в столь непотребном виде, закрывались руками, сгорая от стыда. Лицемеры! Они дрожали за свою репутацию и пытались совместить низкий порок с честью и добродетелью! А на улице нетерпеливая толпа жаждала побольше узнать о преступлении и увидеть преступницу. Ибо речь шла о совершенном ночью убийстве; уже рассказывали ужасные подробности, все содрогались; один лишь я испытал какую-то дьявольскую радость, когда услышал имя преступницы. Да, то была она, она самая, пожелавшая смыть свое падение кровью! Слава тебе, Господи! Ты спас ее через преступление!
Наконец-то она вырвалась из лап публики, отныне она принадлежала только палачу. Наконец-то этот мир, развративший ее, имел на эту женщину лишь право закона — он мог теперь требовать только ее голову, но не ее тело! Она теперь уже не будет влачиться по панели, она будет выставлена напоказ лишь на эшафоте! Отныне она доступна лишь правосудию, она укрыта от грязных страстей людских! Итак, наконец-то я торжествовал над этою женщиной! Вместе с комиссаром полиции я поднялся в ее комнату. Резкое зловоние ударило нам в нос, едва мы переступили порог этого кровавого алькова: в комнате царил полнейший беспорядок, везде валялась разбросанная одежда, дырявые косынки, стоптанные башмаки, засаленная юбка; грязь и жир, смешанные с винным осадком, мерзкая мешанина потускневшего тряпья с более чем двусмысленной роскошью; а за пологом — труп и еще не остывшая кровь. Она убила этого человека, сперва его соблазнив, и выбросила из этой всем доступной постели, сама не зная зачем, как и пустила его туда! К моменту, когда мы проникли в ее логово, публичная женщина благодаря своему преступлению уже снова превратилась в обыкновенную женщину; она стыдливо прикрылась пеньюаром, густые распущенные волосы рассыпались по белым плечам; видя ее такою спокойной и тихой, вы никогда бы не сказали, что это проститутка, и проститутка, только что совершившая убийство. Впрочем, она заранее отлично знала, что душою и телом принадлежит комиссару полиции, — он олицетворял для нее неумолимый закон! Поэтому она была готова к тому, что ее схватят, готова была следовать за полицейским. Она уже собирала жалкий гардероб арестантки: вышитые тряпки, щербатый гребень, щетку, обмылок, помаду, горшочек румян и прочие предметы туалета самого низкого пошиба. Во время этих сборов прибыл младший полицейский чин; она протянула маленькие ладони к наручникам, которые оказались слишком широки для ее детских рук, таких изящных, что казалось, будто она примеряет новые браслеты; запястья покраснели от соприкосновения с железом, но кисти рук остались такими же белыми. Когда все было готово, она прошла через толпу, поднялась в коляску наемного извозчика и медленно скрылась из виду под улюлюканье и брань толпы.

— Радуйся, — сказал я Сильвио. — Вот она и погибла!
— Сколько она стоит теперь, — молвил он, — можешь ли ты мне сказать?
— Теперь ее нельзя купить за все золото мира, слава Господу! — отвечал я.
— Преступление сделало ее недоступнее, чем сделала бы самая свирепая добродетель; крайности сходятся, мой друг, — проговорил Сильвио.
— Тюремная решетка или добродетель — какая разница? Она спасена, она вернулась на честный путь; теперь я могу любить ее сколько мне угодно и гордиться своею любовью, могу признать свою любовь перед лицом судей и палача; она больше не хозяйка своему телу и не вольна продавать его, она освободилась из рук верховной своей хозяйки — проституции. Смейся же, Сильвио, насмехайся надо мною! Я могу любить ее с такою же безопасностью, с какою ты любил бы свою новобрачную через сутки после свадьбы, Сильвио.
И я полностью предался своей ужасной радости.

СУД ПРИСЯЖНЫХ

Вот как произошло это неожиданное убийство, единственный мужественный поступок несчастной девушки. Когда она оказалась в этом притоне, ее в нескольких словах обучили новой профессии: быть наготове в любой час дня и ночи, ждать с улыбкою, бежать за проходящим мимо стариком, улыбаться всем подряд, отказывать только тому, у кого нет ни гроша за душою, каждый вечер прогуливаться от одной придорожной тумбы до другой, пусть под дождем и по грязи, сносить любые оскорбления, удовлетворять любое желание — и таким образом ежеминутно присутствовать при жалкой и позорной продаже с торгов своей красоты. О, горе! Быть одетой в лохмотья — и носить их гордо, как носит свою мантию королева, — не распоряжаться более ни сердцем своим, ни телом, ни трупом, ибо, быть может, как раз сейчас какой-нибудь госпиталь уже ждет его, для того чтобы препарировать, — не знать иного земного пространства, как расстояние между двумя тумбами на краю панели, и не выходить за эти пределы никогда!
И так кружить по всем этим злосчастиям, не ведая, куда идешь, или, увы! твердить себе на каждом шагу: «Ты идешь к смерти!» Более того, более того, оказаться вдруг во власти скуки, даже среди всех унижений, той самой скуки, что является достоянием людей могущественных и богатых; скучать и все же быть такою жалкой! Скучать, и все же пребывать в столь глубоком небытии, скучать среди всех этих клокочущих страстей, — знаете ли вы столь печальное наказание для души? Скука!
Уже в первый вечер своего пребывания здесь несчастная пожелала заплатить за приветливый прием честной компании, которая взялась планомерно сводить на нет ее красоту. Раз ее взяли в аренду, она захотела, чтобы арендатору не на что было бы жаловаться. Еще не сделав первого шага по улице, она говорила себе, что не придется долго ждать покупателя. Ведь еще недалеко ушло то время, когда стар и млад летели ей вслед, только бы коснуться ее платья, только бы добиться одного ее взгляда! Какой фурор производила она, показываясь в главной аллее сада при королевском дворце Тюильри! Воздух делался сладостнее, старое дерево влюбленно склонялось, приветствуя ее, и покачивало седою бородой, апельсиновые деревца роняли ей под ноги свои белые цветы; гуляющие словно пожирали ее единым взглядом, словно любили единою душой! Только шепот хвалы и обожания достигал ее ушей, а она едва удостаивала этих людей своим мимолетным появлением. «Что же будет ныне, — говорила она себе, — когда я здесь нарочно для того, чтобы подчиниться первому желанию, покориться первому же поцелую, принять в объятия первого встречного, которому я теперь принадлежу? Что они будут делать теперь, когда все они мои хозяева, мои любовники, когда им стоит только опуститься в мою грязь, чтобы взять меня?» Такие вела она в душе расчеты, вернее, так полагалась она, бедная девушка, на свою растраченную и уничтоженную красоту! Но едва вступила она в область грязного распутства — о, Небо, какая перемена! Ее так любили, так обожали, восхищались ею, когда она еще была вольна выбирать, а теперь ее избегали самые порядочные люди; те, кто случайно задел своим плащом ее платье, с отвращением отряхивали плащ; а потом пришли насмешки, зубоскальство, брань, проклятия! Она слышала, как говорили: «Вот уродина!» — ибо самый миловидный порок становится отвратителен, когда опускается столь низко! Осыпаемая всеми этими оскорблениями, она едва верила своим глазам и ушам, ей казалось, что это страшный сон. Как может это статься — она предлагает себя всем, а никто ее не хочет? В такой момент, когда она совсем уже была близка к безумию, какой-то подвыпивший мужчина велел ей следовать за ним. Она повиновалась, не разглядывая этого человека, ибо таково было правило. Но, о, неожиданность, о, мука, о, мщение! Этот человек, первый, кто воспользовался ее положением проститутки, был тот самый, кто первый воспользовался ее невинностью! Значит, она дважды встретила его, этого низкого распутника, на крайних точках своей жизни: когда была девственницей и когда стала публичной девкой! И в глазах у нее сверкнула молния, страсть пронзила сердце, сожаления легли камнем на душу.

Когда первая причина ее преступлений, тот самый, кто вырвал ее из ее полей, кто бросил ее, развращенную, в больницу, явился, беззаботный и гнусный развратник, за мерзкими удовольствиями дешевой любви, — она не могла сдержаться, она его убила. Убила его, ибо сразу вспомнила все оскорбления, все злосчастья, ибо какой-то ужасный свет мгновенно обнажил перед нею всю ее судьбу, ибо с этим человеком были связаны последние горькие воспоминания о ее невинности; она убила его спящего, убила одним ударом, словно по внезапному внушению, а потом освободила свою постель от этого мерзкого груза и заснула, ибо гнев накатывался на нее лишь временами, страсть — озарениями, ибо все в ней было мертво — сердце, разум, душа. И потому, когда она предстала перед судьями, не отрицая своего преступления, дело ее было заранее обречено. Защиту несчастной поручили начинающему молодому адвокату, родному племяннику господина королевского прокурора; юный оратор только начинал практиковать; что мог понять своею двадцатилетней головою в жизни несчастной женщины этот ребенок в мантии и квадратной шапочке? Я даже думаю, что эта женщина внушала ему страх и что, оставшись с нею наедине, в тюрьме, он испытывал неловкость. Юный стажер, коему дядюшка для начала соблаговолил поручить защиту в деле об убийстве, защищал подсудимую по всем правилам, выученным в классе риторики. Свою речь он написал, опираясь на Quousque tandem[54], включил в нее все, что мог припомнить самого жалостливого; он был красноречив на манер величайших ораторов былых времен; его добрый дядюшка в ответной речи воздал должное «юному оратору»; но в поединке дяди и племянника жизнь этой женщины была не в счет — то был вопрос учтивости, самое большее, вопрос тщеславия. Более того, в глубине души дядя, как добрый человек, не прочь был подарить племяннику эту голову и оставить женщину жить, дабы подбодрить рождающееся красноречие юного Цицерона; но, что поделаешь, факты были доказаны, обвиняемая сама нежнейшим голосом сказала: «Я убила этого человека!»
О, горе мне! Ныне, когда я вспоминаю все ужасные обстоятельства, я сам с полной уверенностью могу сказать: «Я убил эту женщину!» Ведь только я, я один мог ее защитить, я один знал ее жизнь, я один мог бы рассказать, по какому роковому неотвратимому уклону несчастное создание докатилось до этих мерзких скамей суда присяжных; я один знал, что погубило ее: соседство с Парижем, который ежедневно выбрасывает в окрестные деревни свои нечистоты и свои пороки. Париж — растлитель всех невинных душ. Париж, под чьим дыханием увядают все розы, оскверняется всякая красота. Париж, этот ненасытный распутник! Такой страшный для всего чистого и незапятнанного! Только я мог ее спасти, если бы нарисовал суду жизнь этой девушки, какою я ее знал, представший ей жестокий выбор между нищетою и роскошью, поклонением и затерянностью, если бы показал ее — сегодня осыпанную поцелуями, завтра — замаранную грязью, если бы я крикнул судившим ее людям: «Вот дело рук ваших сыновей и престарелых отцов! Вот какою сделал эту девушку парижский разврат!» Да, и если бы добавил: «О, судьи! Эту девушку, запятнанную и павшую, я люблю! В моих глазах пролитая кровь обеляет ее; убив этого человека, она еще не полностью воздала ему по заслугам, ибо она сделала его только трупом, а он сделал ее проституткой!» Вот что следовало мне сказать на суде, а я дал ей умереть. Я, эгоист, не желал, чтобы она снова от меня ускользнула. Теперь она принадлежала мне до того дня, когда будет принадлежать палачу. Единственный в мире, от которого она видела столько обожания и столько оскорблений, я остался негодующим и верным ей. Она же была спокойна, ибо не сомневалась, что умрет. Никогда не видел я ее столь прекрасною. Бледный свет залы, окровавленное распятие над головами судей, женщины из публичного дома, явившиеся сюда, дабы единодушными показаниями просветить правосудие, речи за и против, ни словом не относящиеся к делу, — ничто не могло смутить ее, ничто не могло развлечь. Душевная сила, толкнувшая ее на убийство, ни на минуту не покидала ее. Она оперлась подбородком на руки, словно чувствовала, что голова ее плохо держится на плечах. Она отвечала судьям с самою изысканною учтивостью; голос ее был мягок, держалась она скромно — а ведь над нею нависла угроза смертной казни, эшафот, звук падающего топора!.. Все красноречиво говорило в ее пользу и спасло бы ее, если бы не ее низкое ремесло. Но кто решился бы заинтересоваться какою-то проституткой? Уберечь от смерти публичную девку! Что сказали бы жены и дочери господ присяжных заседателей и господ судей? Общественной морали и господину прокурору был нужен пример. Самое человечное, что могли сделать для несчастной Анриетты, — это целых шесть часов подряд обсуждать ее смертный приговор.

ТЕМНИЦА

Когда приговор был вынесен, я подумал, что наконец-то нашел решение философской и литературной проблемы, столь долго меня занимавшей, — еще немного мужества, и мое дело будет сделано: ужас достиг своего предела. Я решил держаться до окончания драмы, не упустить ни одной сцены, наблюдать до последнего вздоха за этою жизнью, столь несчастливо растраченной. Жертва интересовала одного лишь меня на целом свете; я любил ее, я желал увидеть ее снова и более не покидать. Сильвио, столь давно испытывавший ко мне жалость, не оставил меня на этой крайней ступени: используя свои связи с некоторыми влиятельными лицами, он открыл мне доступ в обширную тюрьму, коей самые удачливые обитатели были присуждены к галерам, этой половинчатой казни, столь же страшной, хотя и менее очевидной, нежели мучения на каторгах Бреста и Тулона. В этом отвратительном месте, которое можно было бы назвать адом, если бы не боязнь оклеветать ад, я услышал стоны и радостные клики, проклятия и молитвы, узрел ярость и слезы; но сейчас все это мало меня интересовало. Из всех падших женщин меня волновала лишь одна женщина, одна-единственная, та, что скоро должна была умереть. Ее голова, обреченная топору, была заживо брошена в общую могилу гильотины или каторги, которая зовется тюрьмою Сальпетриер. В какую темницу поместили осужденную? Потребовалась вся моя проницательность и вся любовь, чтобы это обнаружить. Камера, где она была заперта на тройной замок, находилась глубоко под землей, в углу заброшенного двора; у отдушины подвала стояла позеленевшая скамья, покрытая, как мягким ковром, густым мхом, и я мог присесть на нее и погрузить свой потерянный взгляд в это небытие. Я узнал эту скамью так же хорошо, как знал гостеприимную каменную скамейку у моего отчего дома; и через тысячу лет я смог бы описать эту, поросшую липким зеленоватым мхом, сочащуюся сыростью доску на тюремном дворе. Время и дожди наполовину выдолбили скамейку, она стала похожа на корыто или на гроб; на конце ее, обращенном к отдушине подвала, прогнившая дубовая древесина раскололась, образовав широкую трещину, в которую я мог просунуть голову, не отбрасывая тени в подвал, не боясь быть обнаруженным. Благодаря треснувшей доске, благодаря столь удачно образовавшейся щели я слился со скамьей воедино. Из впадины моего наблюдательного пункта я мог неотрывно следить за живою покойницей, которая продолжала дышать и мыслить и в этой могиле. Целыми днями лежал я здесь; двор, окруженный толстыми стенами, стал моим владением; по милости покровительства со стороны начальства на меня смотрели почти как на сверхштатного тюремщика, — вот почему я мог каждый день вволю изучать каждое движение узницы.
Это изучение было мучительно. Сырые стены, тусклый свет, охапка соломы, — а на соломе молодая женщина, которую уже взыскует эшафот, не имеющая иной надежды — хрупкой надежды! — как на кассационный суд! Как же мог я по-прежнему негодовать на нее при столь плачевном зрелище? В тюрьме, как и на воле, эта женщина была предметом моего изучения, моим бременем, моей ежедневной мукой. Я присутствовал при ее утреннем туалете;[55] первый солнечный луч, дерзко падавший на ее подстилку, внезапно будил ее; глаза ее испуганно открывались, она садилась на соломе и замирала, мрачная и задумчивая. Немного погодя она вставала на ноги и, верная навыкам опрятности и изящества, приводила в порядок свою камеру. Сперва убирала постель, то есть собирала всю разбросанную по полу солому; подносила к губам кружку и холодной водой плескала себе на бледное лицо, которое на минуту оживлялось; она мыла руки, и без того белые, укладывала на головке длинные черные волосы, медленно оглядывала свои ноги, ладони, гибкий стан, слегка поглаживала свою крепкую шейку, временами вздрагивая, словно ее руки были холодным железом, — как можно дольше растягивала она это важное занятие, ибо вкладывала в него всю душу; а когда все бывало окончено, когда не оставалось ни одной невколотой булавки, ни одной незавязанной ленты, она становилась на колени на соломе, садилась на подогнутые под себя красивые ножки, а руки ее медленно опускались вдоль тела; увы, казалось, что она ни о чем не думает.

В полдень тюремщик приносил ей обычную арестантскую еду: черный хлеб и теплую похлебку в грубой деревянной миске, где плавала оловянная ложка. Поставив миску на пол, тюремщик удалялся. Тогда осужденная опускалась на колени и, склонив голову над дымящейся жидкостью, принималась вдыхать благотворный пар; она охватывала миску обеими руками, которые немного розовели от тепла; насладившись своим супом посредством всех внешних чувств, она мгновенно проглатывала его, дабы вознаградить себя за столь долгое ожидание. С наступлением вечера, в тот час, когда в прошлом она принимала за своим столом всех влюбленных, наперебой старавшихся ей понравиться, тот же тюремщик бросал ей в дверное оконце кусок хлеба; она неторопливо прожевывала этот черный хлеб, подняв глаза к отдушине подвала, где уже с четырех часов начинала сгущаться темнота, и, думая, как долго будет тянуться эта новая ночь, застывала в тяжком оцепенении; глаза ее увлажнялись, из полуоткрытого рта падали на землю недоеденные крошки хлеба. Какая медленная агония! Какое глубокое одиночество! Какое небытие! И, однако, сколько грустных эпизодов я мог бы добавить к этой грустной истории!
Однажды, в жаркий день, когда обширная паутина под мрачным сводом заиграла лиловыми огоньками, а веселый паук, обегая творение своего искусства, умножал до бесконечности тонкие нити, юная узница запела. Сперва она напевала тихонько, потом принялась петь громче и наконец запела во весь голос, выводя чисто и звонко безыскусную мелодию. То была незатейливая песенка, бравурная ария, какие исполняет уличный певец под неверные хриплые звуки шарманки. Но певунья придала мелодии неописуемую выразительность, а я, лежа на своей скамейке, с неуемною дрожью угадывал мрачную подоплеку ее песни. Она была похожа на последний вздох смертельно раненного прекрасного юноши, падающего замертво, но так, будто ему в следующее мгновение предстоит восстать из мертвых и отомстить.
В другой раз она была весела, громко смеялась; потом принялась протирать что-то кусочком шерсти и краем своего дырявого одеяла. Она терла с невероятным упорством и старанием, то подолгу не проверяя результатов труда, то ежеминутно разглядывая свой кусочек металла. Подумать только, она хотела отполировать его до блеска, освободить от покрывавшей его ржавчины. Работа была нелегкая, узница теряла терпение, теряла силу, теряла надежду, но снова и снова бралась за труд; вдруг она радостно вскрикнула — работа была завершена! Она утаила от тюремщика старую медную пуговицу и отполировала ее так, чтобы пуговица могла послужить ей зеркальцем!
В первую минуту узница была счастлива: зеркало! Так давно она не гляделась в зеркало! Но, увидев свое отражение в коварном металле, она не обнаружила своей несравненной красоты, предмета своего постоянного поклонения, своей страсти, религии, веры, любви! И она опечалилась снова: это не ее лицо! Где ее живые глаза, где ее кожа, такая белая и бархатистая, где ее алые губы, жемчужная улыбка, грациозная осанка? Перед глазами у нее был призрак, печальное и бледное отражение тени! Возмутившись, она далеко отшвырнула лживое зеркальце. Секунду спустя она его подобрала и принялась снова себя разглядывать, — она пришла к заключению, что зеркалу верить нельзя, что выпуклый металл удлиняет ее лицо, что на него падает желтый отблеск от пуговицы, потому оно и кажется таким бледным; призвав на помощь свои воспоминания, она вновь увидела себя такою, какой привыкла когда-то видеть; она собрала одну за другою все свои розы и все свои лилии; она медленно вернулась вспять по самым цветущим тропинкам к прекрасным дням своей сияющей красоты; воспоминания сделали ее еще краше, улыбка довершила остальное.
В минуту, когда, счастливая и гордая, все позабыв, она так улыбалась самой себе, в ее темницу вошел тюремщик.

ТЮРЕМЩИК

Этот человек — но можно ли назвать его человеком? — был, как и я, покорен ее несравненной красотою. Но сердце этого страшного любовника покрывала толстая кора. Он был столь же несчастен, как и несчастная, которую он сторожил. Родился он в этой самой тюрьме, его отец был здесь тюремщиком до него. Зачала его под палками каторжница с галер, и все же это нежеланное существо явилось на свет как раз вовремя и оказалось достаточно смышленым, чтобы в свою очередь стать тюремщиком. Он был безобразен, особенно когда смеялся. Я видел, как он объяснялся ей в любви. Сперва он осмотрительно приотворил дверь и остановился на пороге, обеспечив себе возможность отступления, и, подняв на несчастную девушку разные глаза, открыл большой рот, где меж толстых губ чуть виднелись острые лисьи зубы, обратился к ней без слов: он жестом показал, что через две недели ей отрубят голову, — жест был ужасный и весьма выразительный, он выпрямился, занес за голову тяжелую ладонь и сделал вид, будто наносит удар по своей шее, при этом из груди его вырвался звук, достаточно походивший на стук падающего топора… Потом он поднял лицо, задрал длинную бороду и оскалил острые зубы в улыбке, которую бережно сохранял и в последующие минуты, дабы избавить себя от труда улыбнуться снова.
Приговоренная к смерти смотрела на него блуждающим взором. Он приблизился к ней, взял за руку, не столь грубо, как можно было бы ожидать, и с тем красноречием, которое порождается только страстью, пространно объяснил ей, что она может быть спасена. Не знаю точно его слов, они до меня не долетали, но под конец она как будто согласилась на все: она не вырвала свою руку из рук этого человека, они тихонько условились о подходящем часе; он хотел ее поцеловать, но она в страхе попятилась; наконец он вышел все с тою же мерзкою улыбкой, застывшей на его мерзком лице.
Боже правый! При таком зрелище мне пришлось призвать на помощь все свое мужество. Как? В темнице! На своем смертном одре! Со своим тюремщиком! Я обезумел, обезумел от горя, от изумления, от отчаяния, от ярости! Я думал, что истощил все рудники страдания, но вот совсем новая жила растления! Я думал, что этому долгому разврату пришел конец, а он преспокойно начинается сначала! Я довольствовался моральным уродством, его хватало с избытком — но вот, если мне угодно, я могу присутствовать при совокуплении уродства морального с уродством физическим, палача с жертвою, бессердечной женщины с безобразным мужчиной! И когда? В какой момент? В какой час? Может быть, нынче вечером, теперь, сию минуту! И я оставался пригвожденным к своей скамейке, бездыханный, без пульса, взбудораженный, ошеломленный. Я душу отдал бы, да, душу, — бери ее, Сатана! — за то, чтобы проникнуть ослепленным взглядом в густой мрак этой жуткой темницы! Что произойдет в этом мраке? О, горе мне, позволившему этой женщине так себя загубить! Горе мне, не извлекшему эту жемчужину из навоза! Но, слава Богу, еще светло. Тише, идут! Дверь отворяется — не резко, как бывало под грубой рукою тюремщика, а так почтительно, что по одному этому угадывался любовник. Но то был все тот же, давешний человек. Анриетта кинулась в глубь темницы. Кроме обычного дневного пропитания, человек принес охапку свежей соломы, которую со значением разложил поверх старой; потом он вышел, бесстрастный, даже не взглянув на узницу. Я услышал отдаленный щелчок запираемого замка; я облегченно вздохнул: слава Богу, это еще не сегодня!
Но после минутного успокоения ко мне вернулось беспокойство. Что, если тюремщик меня заметил? Что, если это назначено на завтра, может быть, на сегодняшний вечер? Наступила ночь, одна из тех черных ночей, что слишком черны даже для любовников, даже для убийцы. Я не мог заснуть, неодолимое предчувствие толкало меня; я ощупью пробрался в тюремный двор; леденящий воздух, туман, запертый в этих длинных стенах, осел на них тяжелыми холодными каплями; подвал потонул во тьме — вообразите себе глубокую могилу, такую мрачную, такую черную, что нельзя разглядеть даже белый скелет, распростертый в сырой земле. Все молчало в ночи; в этот час в тюрьме не было иных совокуплений, кроме зловещего совокупления ночи и тишины, угрызений совести и преступления. Анриетта, вероятно, производила бы больше шума, если бы, окровавленная, лежала на последней своей охапке соломы. Я успокоился: должно быть, мужчина испугался такой ночи, женщина тоже. Я уже отходил от отдушины и собирался вернуться к себе домой, как вдруг в глубине темницы, сквозь большую замочную скважину, мне почудился — нет, действительно забрезжил слабый лучик света, легкое мерцание, блуждающий огонек, какой видит вечером сбившийся с дороги путник, блеск светлячка, спрятавшегося в розовом кусте. То был он! Другое чудовище — самец! Дверь медленно приотворилась, свет медленно разлился по камере, тюремщик медленно шагнул вперед, придерживая одною рукою свои ключи, чтобы не звякнули, в другой держа тусклую лампу; и внезапно в ее сумрачном свете я увидел постель на полу — свежую солому и лежащую на ней Анриетту: она не спала! Она ждала! Она ожидала его! Чего вы хотите? Этот человек был последним ее рабом, ее последней любовью, ее последним торжеством — торжеством почти мертвой женщины! Поставив на землю лампу — факел, достойный подобного гименея, — тюремщик уверенно приблизился к ней, его руки уже сжимали ее прелестный стан, его мерзкое лицо уже склонялось к ее нежному личику — а я? Я хотел закричать — и не мог; хотел бежать — ноги мои окаменели; хотел отвернуться — моя голова не слушалась, привязанная, прикованная силою неодолимого желания увидеть все; я умирал; но, к счастью, лампа погасла, наступила тьма, я ничего не видел, ничего не слышал, ничего не в состоянии был вообразить. Боже правый! Величайшие из благ, дарованных тобою человеку, — это безумие или бред; будь иначе, такие ужасы его бы убили!

Две недели я пролежал в горячке. Двумя неделями поздней я смог объяснить себе эту тайну. Для того, чтобы я пришел в себя, Сильвио вынужден был говорить о ней, признавать, что она — самая прекрасная, самая прельстительная из женщин.
— Повтори, добрый Сильвио, — говорил я ему, — что никогда ты не видывал столь совершенного создания.
— Правда, — отвечал Сильвио, — она красивее всех на свете, и я думаю, что ее пожалеют, не казнят.
От этих слов у меня снова началась лихорадка.
— Она не умрет? Ах, если бы я верил в это, Сильвио, я убил бы ее собственными руками! Да, пусть она умрет! Пусть умрет на эшафоте! Пусть падет преступная ее голова! Пусть этот нежный взгляд застынет под ножом! Поди, найми мне заранее подходящее окно на Гревской площади! Ах, если бы ты знал, если бы знал все ее преступления — какая бездна! Убьют ее или помилуют, все равно я сойду с ума!
Однако осужденной предстояло получить длительную отсрочку. После того как она отдалась тюремщику, я заметил, что она беспокойна и задумчива, что каждую минуту подносит руку к своему чреву, вопрошая его с мрачным любопытством; когда явился секретарь суда, чтобы прочитать ей смертный приговор, добавив, что некто желает с нею поговорить, она выслушала его хладнокровно, ибо у нее был готов ответ даже для смерти. Мгновение спустя я увидел, как в камеру вошли два человека в черном одеянии, два ученых медика: один уже старый, суровый, с видом занятым и озабоченным; другой — молодой, веселый, легкомысленный; он взял осужденную за руку, мягко и учтиво, тогда как его собрат сделал вид, будто едва прикасается к ней, и выказал отвращение, коего не испытывал. Старый медик сразу сказал судебному исполнителю:
— Эта женщина не беременна, пусть исполнится закон. — И вышел.
Солдаты уже собирались увести Анриетту, но тут молодой медик опроверг старика.
— Эта женщина беременна! — вскричал он. — Она мать; закон, человечность — все против ее смерти. — Он говорил так живо, привел столько доказательств, что смертнице дали отсрочку; за девять месяцев этой печальной жизни она заплатила часом своей любви; из всех ступеней, по коим она спускалась, эта ступень была самою позорной.

ПРИЮТ САЛЬПЕТРИЕР

Я махнул рукой на мать, отца и ребенка и отправился прогуляться по Новому бульвару. «Господин молодой доктор, — говорил я про себя, — вы сделали великое дело. Вы оказали добрую услугу зародышу, принадлежащему полиции и этой женщине. Черт возьми, вы ненадолго вырвали это дитя у палача; дайте ему только вырасти и достигнуть возраста, когда оно получит право наследования и право тоже сложить голову на плахе. У этого дитяти мало шансов на наследство, зато оно собрало воедино все шансы отца и матери лишиться головы. Право, господин доктор, вы всем сослужили хорошую службу — а зачем? К тому же, какое право имеет эта женщина, отрезанная от мира, сделаться матерью? А это дитя по какому праву явится на свет, и что ему тут делать? Его рождение будет для его матери повторным смертным приговором, и на сей раз кассационному суду нечего будет рассматривать. Если бы еще этой матери дали время выкормить ребенка! Но ей отводят едва девять месяцев для того, чтобы произвести его на свет; молоко, которому должно было бы питать этот плод, потечет, за недостатком крови, из-под скальпеля хирурга, это будет достойный предмет для шуток в анатомическом театре. Господин доктор, вы умелый доктор!» Думая так и переходя от тюрьмы к тюрьме, я добрался до площади, раскинувшейся перед приютом Сальпетриер, этим убежищем для старух, отбросов общества, коим не дозволяется даже стать привратницами либо старьевщицами. Сальпетриер — это целый поселок, многолюдный, как город; но, Бог мой, какое тут население! Жены без мужей, матери без детей, бабки без внуков — все виды беспомощности и одиночества собраны в этих стенах. Этот гостеприимный дом открыт для старых женщин и женщин безрассудных. Настоящие катакомбы, полные живых скелетов, где женщины на краю могилы разлучены с мужчинами столь заботливо, словно надо было защитить самую раннюю и самую целомудренную весну. Дом возвышается горделиво, как все дома, где обитают бедняки, — нищие и лживые дворцы! Им даруют золоченый купол и мраморный фасад, но под этим куполом бедняк одинок, за обтесанным камнем у него нет иного занятия, как только умирать по дешевке. Больно смотреть на это ужасное скопище одиноких старух. Невольно подсчитываешь, сколько разбитых привязанностей можно увидеть в этой больнице. Вот где находят конец так много добродетелей и пороков, праздности и труда, любви продажной и любви законной! Я пытался понять, по воле какого злого рока пришли все эти старые женщины к одной и той же последней черте, как вдруг, на повороте аллеи, напротив веселого на вид дома, увидел бедную женщину и двоих ее детей. Женщина сучила пеньку, чтобы свить веревку, семи-восьмилетний мальчик, кудрявый и босоногий, вертел колесо, а бедная мать пятилась назад, то и дело бережливою рукою вытягивая пеньку из кучи, наполнявшей ее передник. Она трудилась с самого утра, но работа не спорилась, ибо ей приходилось приноравливаться не только к своим слабым силам, но еще больше к силенкам своего помощника; под веревкой, которую начала сучить мать, на увядшей траве газона спала девочка, совсем крошка. Она подложила правую руку под детскую головку, ветер трепал ее длинные шелковистые волосы, которые затем снова падали ей на чуть розовевшую щечку; старший братец временами поглядывал на нее, завидуя, быть может, ее сну и покою; бедная женщина посматривала то на одного, то на другую, но тут же, спохватившись, отрывалась от этого материнского созерцания и упрекала себя за миг надежды и отдохновения.
«Бедное дитя, — сказал я себе при виде девочки, которая спала, пока юный ее брат и молодая мать зарабатывали ей на глоток молока. — Нищета бодрствует у твоей колыбели, поддержкою будет тебе служить нищета и советчиком нищета! Нет для тебя никакого средства избежать подобной судьбы — бедность, заброшенность, порок! Ни надежды, ни счастья! Твоя матушка, которая так любит тебя сейчас, когда еще в силах тебя прокормить, возненавидит тебя, когда у нее не будет хлеба ни для тебя, ни для нее самой. У нее даже недостанет времени говорить тебе о Боге, о жизни небесной, так все вы трое — она, ты и твой брат — будете обременены заботою о самом насущном в жизни земной. Бедное дитя, светлое и розовое, спящее под жужжанье прядильного колеса, которое вертится, подобно колесу фортуны, от которого нечего ждать, кроме пеньковой веревки; бедное маленькое создание, хорошо еще, если, после двадцати четырех лет голода, труда и заброшенности, ты получишь наконец постель в Сальпетриере, суму и лоскут для савана!»

ПОЦЕЛУЙ

Моя жертва ускользнула от меня. Ее вытащили из темницы, чтобы вновь запереть в комнате, в каких обитают живые. Теперь, когда я больше не мог видеть ее, я вышел из своего добровольного затворничества и возобновил жизнь, полную приключений. Я знал, что из бездны ее дней встанет — и встанет скоро — последний ее день, но, чтобы уйти от этой страшной мысли, терзавшей меня, я еще более рьяно принялся за излюбленное свое изучение мелких фактов повседневности, выискивая натуру самую пошлую, ежедневно похищая у нее тысячу невинных секретов, слишком простых, чтобы их изучать, и все же столь богатых сердечными волнениями! Так отвлекался я от бега времени, так старался забыть обо всем, что знал. Я воображал себе, что все это сон, я окружал себя только радостными образами; снова пришла весна, а с нею — прелестные прогулки, во время которых восхищаешься на каждом шагу и делаешь открытие за открытием. Среди восторгов, всегда новых, невидимый спутник говорит твоему сердцу, таинственный голос тихо напевает тебе на ушко; ты не один, и это лучше, чем если бы ты был один. Однажды проходил я через маленькое ласкающее взгляд селение в окрестностях Парижа, мимо большого двора, заваленного бревнами; возле стены были старательно сложены доски. В глубине двора своевольная и умелая рука очертила цветник, весь благоухающий прекрасною полураспустившеюся сиренью; над крутою кровлей виднелась хорошенькая голубятня, крытая красною черепицей, полная воркования; красивый голубок с переливчатой шеей, в оперении, отсвечивающем золотом, гордо прохаживался под солнцем по дощечке и махал крыльями вокруг своей кокетливой белой возлюбленной; от милого этого домика веяло таким благополучием, опрятностью и добродушием, что я не удержался от желания взглянуть на него поближе. Я вошел во двор, вдохнул аромат сирени и хотел уже продолжать свою прогулку, но тут я заметил в обширном помещении на первом этаже какую-то наполовину выстроенную большую машину. Странное это сооружение состояло из длинного дубового помоста, с двух сторон ограниченного легкими перилами; на задний его край опиралась лесенка, спереди возвышались два грозных столба; с внутренней стороны этих толстых столбов были проделаны желобки и тут же укреплена под прямым углом доска с вырезанным посредине круглым отверстием в виде воротника. Доска была раздвижная. Можно было заметить, что сооружение почти готово.
Красивый молодой человек, сильный, веселый, хорошо сложенный, что-то напевая, с размаху стучал молотком по плохо пригнанным доскам, забивая в них последний гвоздь. На нижней ступеньке лестницы виднелась почти пустая бутылка и наполовину полный стакан; молодой человек время от времени отпивал из него глоток, а затем снова брался за работу, все так же весело напевая.

Эта неизвестная машина, столь необычная с виду, помимо моей воли внушила мне беспокойство: что означает эта театральная эстрада и зачем она нужна? Пробудь я здесь хоть весь день, я все-таки не мог бы себе этого объяснить. И вот я задержался у окна первого этажа, безмолвный, встревоженный, полный любопытства, и с невольным содроганием прислушивался к ударам молотка. Но внезапно молодого человека отвлек от работы миловидный ребенок: он принес на продажу веревку, и я узнал маленького мастерового с площади Сальпетриер: в руках у него был плод двухнедельного труда, и по робкому его виду нетрудно было догадаться, что он боится отказа. Плотник принял его как человек добрый и, почти не глядя, взял веревку, щедро расплатился и, прежде чем выпроводить мальчика, поцеловал его и дал ему выпить вина из стоявшего на ступеньке стакана. Оставшись один, молодой плотник не стал возобновлять работу; он прохаживался по комнате, не спуская глаз с двери, — он явно поджидал кого-то, того, кто всегда приходит слишком поздно и уходит слишком рано, кому бывают благодарны за то, что он отнимает у вас время и в чьем присутствии часы пролетают с быстротою мысли. Наконец явилась красивая свежая девушка, простодушная и любопытная; после первых же приветствий, обращенных к возлюбленному, она, как и я, занялась машиной. Мне не было слышно ни слова из их разговора, но, по-видимому, он был живым и интересным. Завершив, очевидно, свои объяснения, молодой человек подал девушке знак, как бы приглашая ее к участию в спектакле; она сперва отнекивалась, потом отказывалась уже не столь решительно и наконец согласилась. Тогда ее суженый, приняв серьезный и значительный вид, связал ей за спиною руки веревкой, принесенной мальчиком; он поддерживал девушку, пока она поднималась на помост; там он привязал ее к укрепленной на помосте доске, похожей на детские качели на лежачем бревне, — привязал так, чтобы поднятый в воздух конец доски оказался на уровне ее груди, а ноги привязал к нижнему краю этой зловещей планки; я начинал понимать сущность ужасного механизма!

Я страшился додумать до конца, как вдруг доска начала медленно опускаться меж двух столбов до горизонтального положения. И вот, в мгновение ока, молодой человек одним прыжком соскочил на землю; обеими руками он охватил шею возлюбленной, связанной по рукам и ногам, и, весело исполняя вынесенный приговор, нагнулся и протянул пылающие губы к ее головке, просунутой в круглое отверстие между раздвижными досками. Тщетно смеющаяся жертва, вся порозовев, пыталась защищаться, она и пошевельнуться не могла! Лишь при втором поцелуе, подаренном молодым плотником его суженой, я окончательно понял предназначение этой машины.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИГОВОРЕННОГО К СМЕРТИ

Легкий удар по плечу отвлек меня от этого ужасающего зрелища; я в страхе оглянулся, словно ожидая увидеть за своей спиною того самого человека, для которого трудился плотник, но увидел лишь кроткое, печальное и сочувственное лицо Сильвио.
— Пойдем, дружище, — сказал я ему с безумною улыбкой, — взгляни на эту машину, на которой двое молодых людей занимаются любовными забавами, словно голубок и горлица на гладкой дощечке голубятника. Веришь ли, что на этом ровном помосте, между этими столбами из душистой сосновой древесины, вместо зрелища невинной любви может предстать ужасная сцена убийства? Да что я говорю, может предстать самое страшное преступление — убийство хладнокровное, убийство, открыто совершающееся перед ликом Божиим и лицом человеческим! Допускаешь ли ты даже мысль, что из этого круглого отверстия, откуда высовывается смеющееся личико красивой влюбленной девушки, может выпасть, в последний раз подпрыгнув на помосте, только что отрубленная голова? И, однако, это яснее ясного. Быть может, уже завтра заявится палач и спросит, готова ли машина. Он вскарабкается по этой лестнице, чтобы убедиться в ее прочности, пройдется крупными шагами по доскам помоста, так добросовестно пригнанным, что они смогут выдержать предсмертные судороги несчастного; он проверит качающуюся доску, ибо надо, чтобы эта доска двигалась легко и свободно и опускалась со скоростью, приноровленной к скорости падения ножа. Убедясь в высоком качестве работы, от которого зависит мир, спокойствие, честь и благоденствие граждан, — качестве страшного фундамента, на коем зиждется все общество, — палач с довольною улыбкой обратится к плотнику и велит доставить к нему машину еще засветло или же к вечеру; после чего этот радостный театр любви сделается не чем иным, как театром убийства, будуар превратится в эшафот; здесь уже не услышишь — нет, никогда! — звука поцелуев, разве что назвать поцелуем ту последнюю милостыню, которую дрожащие уста священника подают умирающему, касаясь его бескровной щеки. И, однако, Сильвио, я вспоминаю, что когда-то, в счастливые по сравнению с нынешним днем времена, когда я резвился среди парадоксов, я слыхал, как люди смеялись над смертной казнью. Более того, эти люди хвалились, один тем, будто был повешен и долго болтался на веревке над роскошным пейзажем Италии; другой — тем, что был посажен, как на кол, на шпиль константинопольской башни, откуда мог вдоволь любоваться Босфором и Трасой; третий, наконец, тем, что утонул в прозрачных водах Соны, в любовном экстазе, увлекаемый прекрасной юною наядой с обнаженной грудью. Признаюсь, что, слушая, как они приукрашивают насильственную смерть, я приучился с нею играть; я смотрел на палача как на услужливого помощника, умеющего более ловко, нежели другие, навеки закрыть человеку глаза; но ныне один вид этой машины, столь еще невинной, один вид этих досок, пока еще вымазанных только чистым воском, сокрушил все мои кровожадные убеждения. Помнишь, я рассказывал тебе историю висельника, историю посаженного на кол, историю утопленника; что ты об этом думаешь, Сильвио?
— Я думаю, — отвечал Сильвио, — что ты гонялся за парадоксами, а парадокс проделал лишь полпути навстречу тебе. Истина приходит не так скоро, или же она менее снисходительна; самое большее, что она дозволяет, — это приблизиться к себе, когда к ней идут твердым шагом. Несчастный! Теперь, когда ты приучил свои глаза к ослепительным вихрям парадоксов, боюсь, что ты уже не выдержишь более чистого и более спокойного света. А между тем я нынче все утро шел следом за тобою, чтобы рассказать тебе историю смертника, написанную им самим. Ты услышишь человека, который не играет со смертью. Ему-то ты можешь верить, ибо он действительно подставил свою голову палачу, действительно почувствовал на шее роковую веревку, действительно умер на эшафоте.
Говоря это, Сильвио в то же время увлекал меня прочь от дома плотника. Мы пролезли через несколько живых изгородей, едва еще начинавших зеленеть, и уселись в тени, вернее под солнцем, у старого вяза с почти не распустившейся красноватой листвою; мой друг медленно развернул одну из тех огромных американских газет, чья многочисленность и широкое распространение все еще составляют во Франции предмет всеобщего удивления. И когда он наконец увидел, что я немного успокоился и готов его слушать, не торопясь начал читать мне печальную и правдивую историю последних ощущений человека, приговоренного к смертной казни. Позднее мне стало известно, что, щадя меня, Сильвио пропустил описание последнего свидания смертника с Элизабет Клэр, которую тот страстно любил.
«Было четыре часа пополудни, когда Элизабет покинула меня, и после ее ухода мне показалось, что все кончено и мне нечего больше делать на этом свете. Я должен был бы пожелать себе смерти в ту самую минуту — я исполнил последнее дело в своей жизни, самое горькое из всех. Но по мере того, как спускались сумерки, моя тюрьма становилась холоднее и сырее, вечер выдался туманный, у меня не было ни свечи, ни огня, хотя стоял январь, ни достаточно теплого одеяла, чтобы согреться; и мое сознание постепенно слабело, и сердце мое успокоилось под влиянием окружавшего меня убожества и отчаяния, и мало-помалу (ведь то, что я теперь пишу, должно быть чистою правдой) мысль о Элизабет, о том, что с нею станется, начала отступать перед осознанием собственного моего положения. Впервые, не знаю почему, я вполне понял значение приговора, коему надлежало исполниться надо мною через несколько часов; и, размышляя об этом, я почувствовал леденящий страх, будто приговор был произнесен только что, будто до сих пор я всерьез и твердо не знал, что должен умереть.
Я целые сутки ничего не ел. Пища стояла рядом со мною, навестивший меня благочестивый человек прислал мне ее с собственного стола; но я не мог к ней притронуться, и, когда глядел на нее, странные мысли овладевали мною. То была еда изысканная, не такая, какую обыкновенно дают заключенным, ее прислали мне потому, что мне предстояло умереть. И я подумал о птицах небесных, о животных в полях, которых откармливают, чтобы затем убить. Я чувствовал, что не такими должны были быть мои мысли в такой момент; думаю, что я терял рассудок. В ушах у меня стоял глухой шум, похожий на пчелиное гудение, и я не мог от него избавиться; хотя вокруг был полный мрак, перед глазами у меня вспыхивали и гасли яркие искры, и я ничего не мог вспомнить. Я пробовал читать молитвы, но припомнил только одну, да и то отрывками, без всякой связи с другими молитвами; неясные слова, с трепетом обращенные мною к грозному Богу, казались мне кощунственными проклятиями. Я даже не знаю, что это были за молитвы, не могу вспомнить, что именно тогда говорил. Но вдруг мне почудилось, что весь мой страх напрасен и бессмыслен, что я не останусь тут ожидать смерти. Надежда! Была ли это надежда? И я вскочил, бросился к оконной решетке и повис на ней, тряся ее с такою силой, что погнул прутья, ибо я ощущал в себе львиную мощь.

И я ощупал пальцами каждый дюйм дверного замка и даже попытался выдавить плечом самую дверь, будто не знал, что она обита железом и тяжелее церковных врат; я водил руками по стенам своей камеры, осматривая все закоулки, хотя прекрасно знал бы, будь я в своем уме, что все стены сложены из массивных камней трехфутовой толщины и что, если бы даже я мог пролезть в щель с угольное ушко, у меня все равно не было ни малейшего шанса на спасение. Среди всех этих усилий меня внезапно охватила такая слабость, будто я проглотил яд; едва достало у меня сил добраться до того места, где стояла кровать. Я рухнул на нее и, думаю, потерял сознание. Но это длилось недолго, ибо голова у меня кружилась и, казалось, камера кружится тоже. И в лихорадочной полудреме мне чудилось, что уже полночь, что Элизабет пришла, как обещала, и что ее ко мне не пускают. Мне чудилось, что идет густой снег, что улицы покрыты его белой скатертью и что я вижу Элизабет — мертвую, лежащую в снегу у самых ворот тюрьмы. Когда я пришел в себя, то начал метаться по постели, не в силах продохнуть. Через две-три минуты я услыхал, как часы на церкви Гроба Господня ударили два раза, и понял, что бредил.
Вошел тюремный священник, хоть я об этом и не просил. Он торжественно призвал меня позабыть о тяготах мира сего, обратить мои помыслы к миру вечному, постараться примирить душу мою с небом, в уповании на то, что грехи мои, как они ни тяжки, будут мне отпущены, коли я в них покаюсь. Когда он ушел, я на какой-то миг почувствовал себя более уверенно. Я сел на свое ложе, силясь серьезно поразмыслить и приготовиться к своей участи. Я твердил себе, что, так или иначе, жить мне осталось считанные часы, что у меня нет никакой надежды в этом мире и что надо, по крайней мере, умереть достойно, как мужчина. И я стал припоминать все, что слышал о смерти через повешенье: «Только один миг страха», «Это почти не больно или совсем безболезненно», «Жизнь сразу же угасает», — а вслед за этим возник десяток других странных идей. Мало-помалу мысли мои опять спутались. Я поднес руки к горлу, крепко сжал шею, будто хотел испробовать ощущение удушья. Потом принялся ощупывать свои руки там, где их должна была связать веревка, и уже чувствовал, как она обматывается вокруг них и завязывается прочным узлом, чувствовал, как мне связывают кисти; но наибольший ужас вызвало во мне видение: на глаза мне, а потом на все лицо опускается белый колпак. Если бы можно было избежать этого колпака, этого ничтожного предвосхищения вечной ночи, все остальное было бы не столь омерзительно. При этой мрачной игре воображения тело мое постепенно стало цепенеть.
За овладевшим мною оцепенением последовало какое-то тяжкое отупение, уменьшившее му́ку от мыслей, но даже в этом отупении я продолжал думать. Но вот церковные часы пробили полночь. Мне почудился некий далекий звук, но он доходил до меня смутно, словно через несколько закрытых дверей. Постепенно я начал различать возникавшие в моей памяти предметы, они роились, передвигались вверх и вниз, становились все отчетливее, потом один за другим уходили и, наконец, исчезли совсем. Я заснул.
Проспал я до часа, предшествовавшего казни. Было семь утра, когда меня разбудил стук в дверь. Еще окончательно не проснувшись, я услышал какой-то шум, и первым моим чувством была досада усталого человека, которого внезапно пробудили от крепкого сна. Я был весь расслаблен, мне хотелось еще спать. Минутой позже отодвинулись наружные засовы на двери моей камеры и вошел тюремщик, неся маленькую лампу; за ним следовали смотритель тюрьмы, сторож и священник. Я поднял голову. По телу пробежала дрожь, похожая на удар электрического тока, на погружение в ледяную ванну. Довольно было одного взгляда. Сонливость соскочила с меня, будто я и не спал вовсе, будто мне никогда больше не надо будет спать. Я до конца осознал свое положение.
— Роджер, — произнес смотритель тихо, но твердо, — пора вставать!
Священник спросил, как я провел ночь, и предложил мне помолиться вместе с ним. Я съежился, сидя на краю постели. Зубы у меня стучали, колени дрожали помимо моей воли. Еще не совсем рассвело, и в полуотворенную дверь камеры я видел мощеный дворик; воздух был густой и темный, моросил редкий, но непрерывный дождь.
— Половина восьмого, Роджер, — сказал смотритель.
Я собрался с силами и попросил, чтобы мне дали до последней минуты побыть одному. Жить мне оставалось полчаса!
Когда смотритель уже собирался выйти из камеры, я попытался что-то еще сказать, но на сей раз не смог выговорить ни слова: дыхание у меня перехватило, язык присох к нёбу, я не только не мог найти нужных слов, но утратил способность говорить; дважды, изо всех сил, пытался я извлечь из своей гортани звук, но тщетно. Когда они ушли, я остался недвижим на том же месте на кровати. Я оцепенел от холода, от недавнего сна, от непривычно прохладного воздуха, проникшего в мою камеру; я свернулся в клубок, чтобы согреться, скрестил руки на груди, нагнул голову, дрожа всеми членами. Мое тело казалось мне непомерно тяжелым грузом, который я не мог ни поднять, ни сдвинуть с места. Между тем солнце вставало, и тусклый желтоватый свет потихоньку пробирался в мою темницу, видны стали сырые стены и черные плиты пола; и странно, я не мог не делать этих ребяческих наблюдений, хотя через короткий миг меня ожидала смерть. Я заметил на полу тюремную лампу с длинным фитилем, на чей тусклый огонек давил, словно душил его, холодный нездоровый воздух; и я думал, что этот фитиль не поправляли со вчерашнего вечера; я глядел на холодную голую раму железной кровати, на которой сидел, и на огромные шляпки гвоздей, украшавшие дверь, и на надписи на стенах, оставленные другими узниками. Я пощупал свой пульс — он был таким слабым, что я едва мог сосчитать его. Невозможно было ощутить, заставить себя понять, сказать себе, признаться, вопреки всем моим усилиям, что я действительно сейчас умру. Сквозь свое смятение я услышал, как церковный колокол начал отбивать время, и я подумал: «Господи, пожалей меня, несчастного!» Нет, нет, не может быть, что уже три четверти восьмого, самое большее — четверть… Пробило три четверти… и прозвонила четвертая четверть, потом восемь. Час настал!
Они уже были в моей камере, прежде чем я успел их заметить. Они нашли меня на том же месте и в той же позе, что оставили…
Досказать мне остается немного; до этой минуты воспоминания мои весьма четки, но далеко не столь ясно помню я все то, что последовало. Однако вспоминаю, что я вышел из камеры и перешел в обширную залу. Два сморщенных низкорослых человека поддерживали меня. Я знаю, что, когда вошел тюремный надзиратель со своими людьми, я попытался встать — и не мог.
В большой зале уже находились двое несчастных, коих должны были казнить вместе со мною. Руки у них были связаны за спиной; они лежали на скамье в ожидании, пока и меня приготовят.
Тощий старик с редкими седыми волосами что-то читал вслух одному из осужденных; старик подошел ко мне и сказал… не могу в точности передать, что он сказал, что-то вроде «Нам надо обняться», но я плохо расслышал.
Самым трудным было для меня держаться на ногах, не упасть. Прежде я думал, что последние эти минуты будут полны ярости и ужаса, но ни ужаса, ни ярости я не испытывал — только тошнотворную слабость, словно меня покинуло мужество и доска, на которой я стоял, уходит у меня из-под ног. Я мог лишь сделать знак седому старику, чтобы он оставил меня в покое; кто-то вмешался и выпроводил его. Мне связали руки. Я слышал, как пристав сказал вполголоса священнику: «Все готово!» Когда мы выходили, один из людей в черном поднес к моим губам стакан воды, но я не мог сделать ни глотка.

Мы начали путь по длинным сводчатым переходам из большой залы к эшафоту. Я видел, что все еще горят лампы, ибо под эти своды никогда не проникал дневной свет; я слышал настойчивые удары колокола и торжественный голос священника, который, идя впереди нас, читал: «Я есмь воскресение и жизнь, — рек Господь, — верующий в Меня будет жить и после смерти, и хотя черви будут глодать плоть мою, я узрею Бога».
То была заупокойная служба, молитвы, сочиненные для мертвых, недвижно лежащих в гробах, но читались они для нас, еще живых и здравых… Я снова ощутил, я увидел, что это мой последний миг полного восприятия окружающего мира. Потом я почувствовал, как эти подземные коридоры, теплые, душные, освещенные лампами, внезапно перешли в открытую площадку со скрипучими ступенями, которые поднимались к эшафоту. И вот я увидел у себя под ногами громадную толпу, молчаливую и темную, она растянулась по всей улице; в окнах лавочек и домов напротив эшафота до самого пятого этажа теснились зрители. Сквозь желтоватый туман я увидел вдали церковь Гроба Господня, услышал гул ее колокола. Помню облачное небо, туманное утро, сырые доски помоста, громадную массу черных строений, даже тюрьму, которая вырисовывалась сбоку и, казалось, все еще отбрасывала на нас безжалостную тень; я и сейчас еще чувствую холодный влажный ветерок, овевавший мое лицо, и сегодня еще перед глазами у меня это последнее зрелище, которое, словно палица, ударило мне в душу, вся ужасная картина целиком: эшафот, дождь, толпа, зеваки, взобравшиеся на крыши, дым из труб, тяжело стелющийся вдоль домов, повозки, полные женщин, почерпнувших свою долю возбуждения во дворе трактира напротив; я слышу глухой хриплый ропот, пробежавший по толпе при нашем появлении. Никогда не видел я столько разных предметов одновременно так ясно, так отчетливо, как при этом одном-единственном взгляде; но то был короткий взгляд.
С этой минуты все последующее для меня ничего не значило. Молитвы священника, узел роковой веревки, колпак, мысль о котором так меня пугала прежде, наконец, моя казнь и моя смерть не оставили во мне ни малейшего воспоминания; если бы я не был уверен, что все это имело место, я ровно ничего бы не почувствовал. Позже я прочел в газетах подробности о моем поведении на эшафоте. Там сказано, что я держался твердо, с достоинством, что я умер без особых хлопот и что я не бился в петле. Но сколько ни силился я вспомнить хотя бы что-нибудь из этих обстоятельств, ничего не получалось. Все мои воспоминания кончаются на том, что я увидел эшафот и улицу. Мне кажется, что сразу за этою страшной минутой наступило пробуждение от глубокого сна. Я оказался в какой-то комнате, на кровати, возле которой сидел человек, внимательно смотревший на меня, когда я открыл глаза. Я вполне пришел в себя, хотя связно говорить не мог. Я думал, что меня помиловали, что меня сняли с виселицы, что я потерял сознание. Когда я узнал правду, мне показалось, будто я смутно припоминаю, что находился в каком-то странном месте, лежал голый, а вокруг парило множество каких-то фигур; но мысль эта ясно представилась моему уму лишь после того, как я узнал, что́ именно произошло».
Таков был этот мрачный рассказ. Полный печали, серьезности и смирения, он как нельзя более подходил к теперешнему моему настроению, к моей тоске. Я слушал не без страха, и, однако, самый этот страх примирил меня со смертью. Несчастному смертнику остается хотя бы одно достоинство — то, с каким он принимает свою казнь! Я сочувствовал мукам этого осужденного, но в глубине души поздравлял его с ними. Не будем играть с бессмертною душою, которая отлетает, насильственно изгнанная из своего тела.
Добрый Сильвио! Он дал мне единственное утешение, соразмерное моему горю. Он показал мне, что я могу уважать Анриетту, девушку, которой предстояло умереть.
История приговоренного к смерти принесла мне такое облегчение, что я мог вернуться к литературным идеям, столь уже далеким от меня.
— Знаешь ли, — сказал я Сильвио, — что можно написать прекрасную книгу с таким героем, приговоренным к смерти, который сам рассказывает историю своей жизни?
— Друг мой, — возразил Сильвио, — не будем касаться этой истории и делать из нее книгу, ибо такая книга уже написана[56].
Впоследствии я понял, что Сильвио был прав.

«ГРЯЗИ»

Для несчастных и счастливых время в этом мире бежит быстро. И для одних, и для других смерть торопит свои шаги, и они с испугом спрашивают себя: «Который час?» Только мудрец умеет считать часы и не находит их слишком долгими или слишком короткими. Мудрец прислушивается к бою часов и благословляет Небо, подарившее ему этот час.
Пробежали часы, дни, месяцы, а я лишь мельком вспоминал о судьбе Анриетты. Анриетта? Это ведь та женщина, не правда ли, которая ныне уже умерла? Но однажды вечером, поддавшись какому-то роковому предчувствию, словно внезапно проснувшись, я начал подсчитывать месяцы, дни, считал дважды и вдруг бросился в родильный приют «Грязи». По вечерам посетителей не пускали; на другой день я вернулся туда чуть свет: было еще слишком рано, и я остался ждать под дверью. Если я подсчитал правильно, дитя Анриетты уже давно должно было появиться на свет! Роковой приговор не подлежал обжалованию, печальная отсрочка кончилась: приговоренная сделалась матерью, ей оставалось только умереть. Жалкое, бессильное заведение, которое не может по-настоящему отнять у палача затребованную им жертву! Оно хорошо названо — Грязи.
«Грязи» — это последнее прибежище бедных девушек, ставших матерями, юных жен, чьи мужья — игроки, женщин, приговоренных к смерти, коих у порога ждет палач. В «Грязях» нищета родит нищету, проституция — проституцию, преступление порождает преступление. Дети появляются на свет на нищенском одре, их ждет лишь одно наследство: каторга и эшафот. Это их земельный надел, это предназначенные им владения, это их бесспорное право. Если женщина родила в «Грязях», «Грязи» предоставляют ей три дня, чтобы оправиться, после чего выставляют за дверь и мать и дитя; но из филантропической предусмотрительности здесь же разместили, в качестве отделения «Грязей», приют для найденышей: почти всегда несчастного ребенка, коего «Грязи» изрыгают из одной двери, они же принимают через другую дверь… Я попросил дозволения повидаться с осужденной и свиделся с нею; нежное и покорное лицо ее сияло тою необыкновенною белизной, что часто возмещает молодой матери перенесенные ею страдания; она сидела в большом кресле и, склонив голову, кормила свое дитя. Ребенок жадно присосался к неиссякаемой груди матери. Грудь была белая, с голубыми прожилками, ясно было, что это грудь хорошей кормилицы, женщины молодой и сильной, созданной для материнства. В слове «мать» есть что-то внушающее уважение везде, даже в «Грязях». Женщина, дающая дитяти свои сосцы, полные молока, хрупкая жизнь беспомощного существа, зависящая от жизни матери, внимательное и нежное покровительство, только от матери исходящее; это маленькое сердечко, что начинает биться у большого сердца, эта рождающаяся душа, пресытившаяся материнским молоком и осыпанная поцелуями, которую мать тихонько баюкает у своей груди, держа на скрещенных руках, — да, конечно, тут забываешь все преступления женщины, все ее измены, слабости, кокетство, ее неуемное исступление, роковое ослепление страстью, толкающее ее к гибели; бедные женщины, изначально обреченные!
Да, материнской любви должно было бы достать для искупления всех их похождений, капля молока должна была бы отмыть все их вероломство. Более того, если эта женщина и убила какого-то человека, то разве не возместила она эту потерю рождением другого человека? Да еще и такого, который будет моложе, красивей, сильнее! Итак, я вошел в «Грязи» наутро того самого дня, когда Анриетта должна была умереть. Ее спокойствие, ее поза, ее слабость, ее красота и все, что было мне известно о ее ранней юности и о ужасных ее несчастиях… Что могу я сказать? Я готов был разрыдаться. Я попросил сестру-монахиню оставить нас одних, сказал, что я брат жертвы, что хочу поговорить с нею без свидетелей; добрая сестра удалилась, шепча про себя: «Выйдем отсюда, быть может, он ей и не брат». Ребенок спал на груди Анриетты, не отрывая губ от ее соска.
Я приблизился к ней.
— Узнаете ли вы меня? — спросил я.
Она медленно подняла на меня глаза и слегка кивнула, давая понять, что узнает. Видно было, что ей нелегко дается это признание.
— Анриетта! — продолжал я. — Вы видите перед собою человека, который любил вас, любит и теперь; это единственный человек, для которого у вас не было ни взгляда, ни улыбки, а ныне — единственный оставшийся у вас друг; если у вас есть какое-нибудь последнее желание, доверьте его мне, ваша воля будет исполнена.
Она все еще не отвечала, однако взгляд ее был нежен, щеки зарумянились; прекрасное лицо ее озарилось в последний раз огнем ее глаз, несказанной прелестью улыбки. Бедная, бедная девушка! Бедная голова, коей суждено пасть! Бедная шея, такая хрупкая и белая, — ее так же легко сломать, как стебель лилии, а ведь на нее обрушится сто ливров свинца, оснащенные огромным ножом! И, однако, если бы ты хоть раз так взглянула на меня, один-единственный раз, ты была бы моею на всю жизнь, ты была бы царицею мира, ибо наверняка была бы самою прекрасной.
— Анриетта, — сказал я, — значит, это правда, надо умереть, умереть такою молодой и красивой, а ведь ты могла бы стать моею женой, воспитывать наших детей, быть долго счастливою и всегда почитаемой и умереть в старости, седовласою бабушкой, окруженной внуками! Еще несколько часов — и прощай, прощай навек!
Она оставалась все такою же безмолвной, она не отвечала мне, прижимая к сердцу ребенка; она плакала. То были первые ее слезы, увиденные мною; я следил, как они медленно текут из ее глаз, как орошают ее дитя; и на этого, залитого ее искупающими слезами ребенка я уже смотрел как на своего!
— По крайней мере, — произнес я, — это дитя будет мне сыном.
При этих словах бедная женщина торопливо поцеловала дорогое существо и конвульсивным движением протянула его мне; но не успел я окончить фразу, как отворилась дверь.
— Это мое дитя! — воскликнул хриплым голосом вошедший человек.
Я повернул голову и узнал его: то был давешний тюремщик, все такой же безобразный, но не столь мерзкий.
— Я пришел за своим ребенком, — заявил он. — Я не могу допустить, чтобы он принадлежал другому. Если уж я не могу передать ему тюремную должность, как мой отец передал мне свою, то он будет носить на спине мою корзину тряпичника. Пойдем, Анри, — обратился он к ребенку и в то же время вытащил из заплечной корзины белую, как снег, пеленку; приблизившись к матери, но не глядя на нее, он осторожно вынул у нее из рук младенца; бедное созданьице спало, приникнув к материнской груди, и пришлось силой оторвать его от нее. Дитя было завернуто в пеленку и уложено в корзину; старый тряпичник торжествовал.

— Пойдем, мой Анри, — приговаривал он. — Бедность не бесчестье, и Шарло тебя не тронет!
Он вышел, и вовремя. Шарло! При этом имени Анриетта подняла глаза.
— Шарло! — повторила она изменившимся голосом. — Что он этим хотел сказать, я вас спрашиваю? — И она вся содрогнулась.
— Увы! Шарло — так в народе и на тюремном жаргоне называют исполнителя смертных приговоров.
— Да, вспоминаю, — проговорила она.
Потом, с неописуемым выражением страдания и горького сожаления, продолжала:
— Шарло! Шарло! Это был ваш пароль, не правда ли? И это мое угрызение совести. О, несчастная! Как я виновата! Как сурово вы меня предупреждали! Какое имя произносили вы передо мною, сами того не подозревая! Шарло! Все мое детство, вся первая юность! Вся невинность моих пятнадцати лет! Шарло! Честность моего отца, благословение матушки, сельские труды, бедность без душевных угрызений! Несчастная я! Тщеславие меня погубило! Вы встретили меня такую невинную, скачущую верхом на Шарло, испугали меня, и я избегала вас из гордости. Тщеславие увлекло меня во все бездны, в которых вы меня видели, где преследовали меня с именем Шарло на устах! Вы давали мне мудрые советы, а я принимала их за насмешку. Чтобы заглушить память о Шарло, я хотела быть богатой, почитаемой, всюду принятой; воспоминание о Шарло постоянно отравляло мои дни, портило все мои триумфы. Вы видели Шарло, вы любили его, и ваше присутствие, ваш голос, ваш взгляд страшили меня. И все же, сколько раз готова я была кинуться в ваши объятия, сказать: «Я тебя люблю, люби меня!» О, простите, простите!.. — твердила она. — Простите меня во имя Шарло! Пожалейте меня, женщину падшую, оскверненную, преступную, умирающую!.. О, сударь, из христианского милосердия, поцелуйте меня!
И она протянула ко мне руки, я почувствовал, как ее пылающая щека коснулась моей… в первый и в последний раз.
. . . . . . . . . . . . . . . .
К нам вошли и сказали, что я слишком долго здесь пробыл.

ПАЛАЧ

Я бежал, я летел, врезаясь в толпу, которая еще ничего не знала и текла лишь в сторону Главного рынка. Пробежав по бесчисленным улицам, свернув во многие переулки, я достиг наконец улицы без названия и дома без номера на двери; этот дом был известен всему Парижу. Частая железная решетка, скрытая за деревянной обшивкой, преграждает вход во двор. Эта решетка отворяется лишь в торжественные дни. В дом проникают через низкую калитку, усеянную гвоздями с широкими шляпками, а в калитке видна обитая железом щель, более страшная, чем Железная пасть в Венеции[57], ибо если в этот ящик что-либо и бросают, можно не сомневаться, что только смертный приговор; под щелью висит дверной молоток, весь заржавевший, ибо лишь немногие руки прикасаются к нему. Дом окружен безмолвием и ужасом. Я постучал; мне отворил слуга, поразивший меня обходительностью и учтивой физиономией. Он пригласил меня пройти в хорошо обставленную гостиную и отправился узнать, принимает ли хозяин. Оставшись один, я успел оглядеть несколько предметов меблировки, подобранных тщательно и с большим вкусом. Тут были совсем новые драпировки, самые изысканные гравюры, самая удобная мебель. На камине стояли свежие цветы, стенные часы изображали мифологический сюжет — Психею и Амура — и уходили на четверть часа вперед; на открытом фортепиано виднелись ноты романса, сочиненного каким-то молодым гением, — ритмические тайные вздохи на потребу парижских любовных страстей; хорошенькая дамская перчатка валялась, забытая, на ковре. В задней маленькой комнате висела картина кисти хорошего художника, на которой улыбались друг другу молодые хозяева этого жилища. Я было подумал, что ошибся адресом.
В отдалении, за стеклянной дверью, я обнаружил почтенного старца, убеленного сединами. Рядом в благоговейной позе стоял белокурый голубоглазый подросток: то был дед, дававший урок истории своему внуку. Странная, должно быть, была эта история, преподаваемая старым человеком, который, согласно кровавому генеалогическому древу, вышел из длинной династии палачей и сам был палачом целого поколения! Уж он-то наверняка видел гибель королевства и гибель славы. Под его топором склонялись Лалли-Талендаль[58] и Людовик XVI; его топор обрушился на королеву Франции и Мадам Элизабет[59] — на царственное величие и добродетель! Он видел, как простиралась у его ног безмолвная толпа честных людей, безжалостно истребляемых Террором, все громкие имена, все великие умы, все стойкие мужи восемнадцатого столетия; он один осуществил то, о чем мечтали все вместе Марат, Робеспьер и Дантон, он был единственным Богом, единственным королем этой эпохи, не знавшей ни уважения к власти, ни веры, грозным Богом, неприкосновенным королем. Он испробовал кончиками пальцев все разновидности самой благородной крови, от крови юной девушки, оправляющей перед смертью платье, до холодной крови старика; он знал тайну всех видов покорности и всех видов мужества; и сколько раз этот кровавый философ впадал в смущение, видя, как негодяй умирает столь же достойно, как и порядочный человек, как ученик Вольтера подставляет шею с такою же твердостью, что и христианин! Он видел, как дрожит от страха куртизанка на том же помосте, на который твердым шагом взошла королева Франции. Он созерцал на своем эшафоте все доблести и все преступления: нынче Шарлотта Корде, завтра Робеспьер. Что мог он понимать в истории? И как понимал ее? Это трудный вопрос.
Наконец появился человек, коего я ожидал. Он был в выходном платье и в перчатках, он собирался выйти из дому, и я знал, на какое свидание.
— Сударь, — обратился ко мне этот человек, бросив беспокойный взгляд на часы, — нынче я себе не принадлежу; не соблаговолите ли сообщить цель вашего визита?
— Я пришел, сударь, просить вас о милости, в коей вы мне не откажете.
— О милости, сударь? Я был бы счастлив оказать ее вам, у меня часто просили о милости и всегда тщетно — это все равно, что просить пощады у рушащейся скалы.
— В таком случае вы должны были нередко чувствовать себя весьма несчастным.
— Несчастным, как скала. Правда, я занимаюсь жестоким ремеслом, но мне служит опорою право, единственное законное право, которое еще никто ни на миг не оспаривал в наше время.
— Верно, вы — это законность, нерушимая законность, сударь; и в добросовестно написанной истории, чтобы доказать величие законности, надо возвыситься до вас.
— Да, — подхватил мой собеседник, — это беспримерный факт, никто никогда не отрицал, что я в своем праве. Революция, анархия, империя, реставрация — ничто не повлияло на мое право, оно всегда оставалось на своем месте, не сдвигалось ни на шаг ни взад, ни вперед. Под мой меч склоняла голову королевская власть, потом народ, потом империя; все подпало под мое иго, только надо мною одним никакого ига не было, я был сильнее закона, чьим высшим выражением я являюсь; закон сто раз менялся, только я не сменился ни разу, я был неотвратим, как судьба, и силен, как долг; из стольких испытаний я вышел с чистым сердцем, с окровавленными руками и с чистой совестью. Какой судья мог бы сказать о себе так, как говорю я, палач? Но еще раз, сударь, время не терпит; смею ли спросить вас, что вам угодно?
— Я всегда слышал, — отвечал я, — что осужденный, коего предают в ваши руки, принадлежит вам целиком и полностью; я прошу уступить мне одного, он мне очень нужен.
— Знаете ли, сударь, на каких условиях закон отдает мне осужденных?
— Знаю. Но после удовлетворения закона вам кое-что остается: тело и голова — именно это я и желал бы купить у вас за любую цену.
— Если речь только об этом, сударь, сделку заключить недолго. — И, снова взглянув на часы, он добавил: — Но прежде позвольте мне отдать несколько распоряжений.
Он торопливо позвонил, и к его услугам явились два человека.
— Будьте готовы к половине третьего, — приказал он, — и оденьтесь поприличнее; будет женщина, мы должны оказать ей всяческое уважение.
Выслушав его, оба человека удалились, и тут же в комнату вошли, чтобы попрощаться с ним, жена и дочь. Дочь, уже шестнадцатилетняя девица, поцеловала отца и сказала, улыбаясь:
— До скорой встречи!
— Мы ждем тебя к обеду, — подхватила жена. Потом, подойдя к нему поближе, шепнула: — Если у нее хорошие черные волосы, прибереги их мне для накладных локонов!
Муж обернулся ко мне.
— Волосы входят в нашу сделку? — спросил он.
— Все входит, — отвечал я. — Туловище, голова, волосы — все, включая пропитавшую их кровь.
Он обнял жену со словами:
— Получишь в другой раз.

САВАН

Час пробил. Окровавленную голову уже ждали. Каждый устроился поудобнее, чтобы видеть, как умрет та, которой предстояло умереть. Так уж устроен Париж: ему все равно, порок или добродетель, невинность или преступление, — он не справляется о жертве, лишь бы она умерла! Минута агонии на Гревской площади — это самое приятное из всех даровых парижских зрелищ. А ведь эта ужасная Гревская площадь испила столько крови! Пока весь безжалостный город стремился к месту казни, задыхаясь от спешки, опережая роковую повозку, я поднимался по улице Анфер; в последний раз углубился я в эти глухие кварталы, скопище всей нищеты, всех низостей парижского люда; я снова прошел мимо больницы «Капуцины», где она содержалась когда-то, мимо «Грязей», где ее уже не было, мимо приветливого домика молодого плотника — ни его, ни его нареченной я не встретил, они ушли поглядеть, хорошо ли работает машина. Во дворе еще стояла банка с красною краской, при помощи которой эшафоту впервые придавался слегка кровавый оттенок. Я миновал Сальпетриер: мальчик и его мать сучили еще одну веревку, словно понимали, что надо будет заменить ту, которую скоро разрежет палач. У заставы я снова нашел того нищего, что изображал героя; маленький попрошайка опять назвал меня «Боженькой». Ужасно! Двое стариков, поддерживая друг друга и спотыкаясь, влачились к площади, чтобы поглазеть на казнь: то были отец и мать Анриетты! Ничего не подозревающие, любопытные, они тоже шли на этот праздник, где должна была пролиться кровь. В тяжелой карете проехал важный с виду мажордом, и я узнал своего итальянца. Так увидел я почти что всех героев моей книги. Жизнь их ни на йоту не изменилась, они стали двумя годами старше, вот и все; а я исчерпал свою жизнь, утратил последние иллюзии ранней своей юности! И я предпринял последнюю прогулку на кладбище Кламар, чтобы дождаться там доставки купленного утром товара.

Было два часа пополудни, солнце передвигалось медленно, и я шел под удлинившимися тенями придорожных пыльных тополей, когда заметил на зеленой лужайке привязанные к деревьям веревки, на которых было развешано в большом количестве белье для просушки; несколько женщин, стоя на коленях у соседнего ручья, ударяли вальками по мокрому белью, вызывая ответное эхо; и тут только я вспомнил, что у меня нет погребального савана: я решил добыть его во что бы то ни стало. Я спустился с большой дороги на лужайку: она как раз принадлежала моей крошке Женни. Женни собственной персоной сидела на мешке с овсом, предназначенным для ее лошади, и сторожила развешанное белье, а также и то, что еще оставалось в корыте, — такая же, впрочем, славная и резвая, да еще и беременная на восьмом месяце.
— Вы так печальны! — сказала она мне после первых приветствий.
— Ты находишь, Женни? Это потому, что мне нужен сию же минуту большой кусок ткани (я надеюсь на тебя!), чтобы похоронить бедную девушку, которая умирает.

— Умирает? — поразилась Женни. — Но, может быть, есть еще надежда; я видела много молодых девушек, которые возвращались разве что не с того света, а теперь чувствуют себя не хуже нас с вами.
— Для нее, Женни, надежды нет! Нынче в четыре часа она наверняка умрет! Поспеши же, время не терпит, дай мне во что ее завернуть.
Женни отвела меня к своим веревкам и показала простыни.
— Это не то, — сказал я. — Мне надо что-нибудь потоньше, женскую сорочку, например; ты скажешь, что она потерялась, что ее у тебя украли — скажи, что хочешь, Женни, я потом возмещу тебе все, но она мне нужна.
Добрая девушка не заставила себя долго упрашивать, она позволила мне пересмотреть все белье, но я не находил ничего по росту Анриетте: то было велико, это слишком мало; иногда меня останавливала метка с именем владелицы вещи: я хотел, чтобы, за неимением клочка освященной земли, несчастная получила хотя бы ничем не запятнанный саван. Женни шла за мною, не понимая моей угрюмости.
В конце концов я нашел развешанный на миндальном деревце, уже покрытом лиловатыми цветочками, самый прекрасный саван, какой только можно было вообразить. То был чудесный батист, белый и гладкий, как атлас, украшенный по верху и по низу легкой вышивкою; он так колыхался под весенним ветерком, что порою под тонкой тканью чудился шестнадцатилетний девичий стан.
— Вот то, что я искал, — сказал я Женни, — вот то, что мне надо, дай мне это, и я буду удовлетворен.
Женни колебалась. Ведь эта прекрасная вещь принадлежала невинной особе, почти девочке, которая через неделю должна была венчаться. Но я выглядел столь довольным своею находкой, что добрая Женни не посмела противоречить моему желанию. Я бережно свернул свой роскошный незапятнанный саван и собрался было уходить, но тут же возвратился назад.
— Это еще не все, — сказал я Женни, — мне требуется еще кое-что, маленький саван вроде мешочка…
— Значит, это для родильницы? — проговорила Женни.
Я попятился, так испугавшись, будто она разгадала мой секрет.
— Родильницы! Кто тебе сказал, Женни?
— Да я сама все понимаю, — возразила она, — саван для матери, саван для ребенка. — И, взглянув на свою расплывшуюся талию, добавила: — Печальная смерть!
— Увы, да, милая Женни, очень печальная смерть. Нельзя убивать женщину, только что ставшую матерью!
— По крайней мере, — продолжала Женни, — ей бы следовало умереть лишь в том случае, если бы у нее не было ребенка, которого можно любить.
Я добавил к первому савану мою собственную наволочку, на которой столь часто и так блаженно покоилась моя голова. Когда я удалился, Женни перекрестилась и шепотом помолилась за умирающую.
— Да будет так! Аминь!

КЛАМАР

Кламар — это, если хотите, кладбище. Люди делают вид, будто что-то хоронят на этом клочке земли; ни один служитель церкви не освящал эту землю. Вместо надгробного памятника здесь воздвигнут анатомический театр, кое-где воткнуто несколько крестов, упавших под собственной тяжестью. Здесь никогда не звучали заупокойные молитвы, никто не бросил цветка; если кто-то преклоняет на этом месте колена, в уши ему рычат невидимые голоса. Кламар — место упокоения казненных, они покоятся тут часа два, не больше, вернее, они совершают прыжок с эшафота почти прямиком на стол для вскрытия трупов. Гробница на этом гостеприимном поле — одна лишь видимость, гроб покойника лишь сдается ему в аренду: похороненного в пять часов вытаскивают из могилы в восемь, для обучения будущих Дюпюитренов[60]. Странная у нас любознательность! Мы сделали букварь из человеческого преступления. Но среди преступлений человеческих новая наука выбирает только самые ужасные. Не успевает палач занести кровавую руку над чьей-то головой, как является врач, дабы довершить дело палача. Любой отцеубийца, отравитель, предатель родины по праву занимает свое место в френологическом Пантеоне. Мы хотим знать, сколько весило его сердце, какую форму имела его голова, мы бережно храним его останки. Зато простого человека мы зарываем в могилу без лишних хлопот, а зарыв, оставляем его червям и забвению.
На кладбище Кламар имеется только один могильщик; когда я его увидел, он рыл яму в песке.
— Вы не больно-то стараетесь, добрый человек, и ваша яма, на мой взгляд, не слишком глубока.
— Делаю как могу, — отвечал он мне. — Что до ямы, то, по моему суждению, она всегда будет чересчур глубокой для того, кому предназначается; к тому же мертвец может лежать в ней до скончания веков, никакой заразы от него не будет; у нас здесь обыкновенно чумных не зарывают, а все молодцов таких же здоровых, как мы с вами.
— Я вижу, вы довольны своим местом, приятель, и никому не завидуете.
— Никому не завидую? Как бы не так! Эх, почему я не сверхштатный могильщик на кладбище Пер-Лашез! Вот где выгодно и не скучно! Каждый Божий день там на чай получишь и поглядишь на военные учения; там конца и края нет отчаявшимся матерям, безутешным сыновьям, убитым горем супругам! И потом, такие торжественные минуты: надо разложить цветы, подрезать плакучие ивы, ухаживать за садиками. Богатым людям непременно надо платить кому-нибудь каждую минуту, чтобы достойно выказывать свою скорбь. Вот там уж точно, подходящее место для работы.
Рассуждая так, он разок ударил заступом в землю и продолжал:
— А здесь, в этом проклятом месте, — все наоборот: ни провожатых, ни плачущих родственников, ни единого букета на продажу! Только и видишь физиономии подручных палача, а от этих-то и на выпивку еле дождешься. Скверное ремесло! Уж лучше быть жандармом или сборщиком пошлины. — И он оперся на рукоятку заступа в позе честного земледельца, завершающего долгий трудовой день.
— И все-таки мне нужна глубокая яма, — властно возразил я, — в шесть футов. Копай дальше, даю слово, получишь добрые чаевые.
— Шесть футов для казненного? Вот еще! Да тут еще будет на целый час работы, а хоронить его должны нынче вечером.
— Шесть футов, говорю! Труп принадлежит мне.
— Тем более, хозяин, ежели это ваш покойник. — И, повернув голову, он добавил: — Уже поздно, они вот-вот подъедут.
Действительно, вдали я увидел медленно приближающуюся тяжелую повозку; кучер шагал рядом, на передней скамейке, скрестив руки, сидели два человека, их можно было принять за приказчиков мясника, возвращающихся с бойни. В глубине повозки смутно виднелось нечто красное, грубо повторяющее очертания человеческого тела, — то была корзина, в которую укладывают труп после свершения казни.
Когда повозка подъехала к воротам кладбища, один из пассажиров спрыгнул на землю; могильщик, с шапкой в руке, подошел, чтобы подсобить; человек, остававшийся в повозке, поддерживал корзину, а двое других приняли ее на руки; груз был не столь тяжелым, как неудобным, они неловко уронили его к моим ногам; несколько капель крови оросили землю. Я полуприсел на каменную тумбу и видел все неясно, как во сне.

Один из подручных приблизился ко мне.
— Это вас я видел утром у моего хозяина?
— Меня самого, что вам от меня нужно?
— Поскольку вы затребовали тело осужденной, хозяин подумал, что вы, может быть, ей родственник и не захотите, чтобы она умерла за казенный счет, так что он передал мне для вас этот счетец.
Я взял листок; то был счет, как всякий другой — на плотной белой бумаге, будто от бакалейщика или галантерейного торговца, написанный хорошим почерком; я прочитал его медленно, как человек, готовый платить, но не желающий, чтобы его надули.
Вот его точная копия.
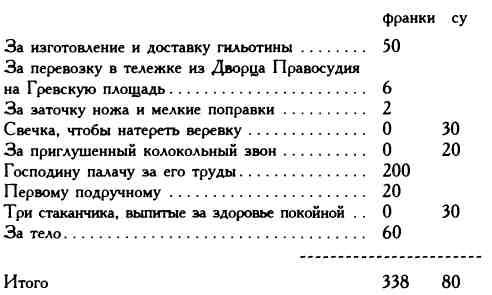
— Это вся сумма? — спросил я подручного.
— Подсчитано совершенно точно, — отвечал он, — вы не заплатите ни на одно су больше, чем платит город Париж, но зато у вас будет утешение, что она умерла не за счет правительства.
Но я перечитал счет.
— Тут значатся лишние три франка в вашу пользу, сударь, — сказал я, проверив сумму.
Я заплатил по счету, будто ошибки не было.
Потом обследовал красную корзину; подручный открыл ее; сперва стала видна обескровленная голова с коротко обрезанными, будто обритыми волосами; рот был страшно искажен, потухшие глаза, казалось, еще глядели; судорога, очевидно, была столь сильной, что челюсти сместились, так что этот рот, некогда такой прелестный, знавший столько улыбок, был с одной стороны сжат, с другой страшно разверзнут.
— Несчастная! Она, должно быть, ужасно страдала!
— Ничуть, — возразил другой подручный, удерживавший поднятую крышку, — с минуты, как нам ее отдали, мы обращались с нею со всей деликатностью, мы дали ей минутку посидеть, остригли ее длинные черные волосы совсем новыми ножницами, потом, чтобы она долго не томилась, отнесли ее к своей тележке, и, поверьте, она была такая легкая.

— Вы несли ее! Значит, она не держалась на ногах? Бедняжка! Убить, убить ее таким образом, такую молодую и красивую!
— Верно, сударь, очень красивую, ничего не скажешь. Толковали, будто она публичная девка, но что-то непохоже, она была такая робкая, скромная, так трепетала. На ней было черное шерстяное платье с воротом, открытым до самых плеч, на шее креповая косыночка, а шея у этой женщины была очень белая, плечи очень округлые, грудь очень красивая.
— Добавь, что у нее были прелестные руки, — подхватил другой подручный, — ведь это я их связывал; и нежные кисти, тонкие и белые! Их я тоже связал, но только для виду, я боялся сделать ей больно. Что ни говори, прекрасное было создание, прямо совершенство.
— И все же вы безжалостно убили это прекрасное создание…
— Мы сделали для нее все что могли, — возразил первый подручный, — мы ее поддерживали, загораживали от ее глаз эшафот, так что она умерла с почетом.

— А она никого не пожелала видеть перед смертью?
— Никого. Но когда ее выводили из тюрьмы, она все оглядывалась вокруг так беспокойно, будто хотела разыскать глазами в толпе кого-то знакомого.
— Да, — подтвердил другой, — и когда никого не нашла, тихонько сказала: «Шарло! Шарло!», а потом глубоко вздохнула; я не мог удержаться от смеха, когда увидел, что мой хозяин обернулся на имя Шарло, он подумал, что это его окликают!
Я положил конец этой болтовне.
— Оставьте меня, оставьте меня одного, — сказал я обоим палачам, — отдайте мне тело и уходите.
Тело наполовину выглядывало из корзины, его вытащили совсем… Оно было совершенно нагое!
Могильщик пододвинул к телу гроб.
— Хозяин, — сказал он, — я на минуту отлучусь, только выпью глоток с этими господами и тут же вернусь обратно.
Тогда я развернул свой двойной саван. Я взял в обе руки отрубленную голову, украсил ее прекрасными черными волосами, завернул в наволочку и приставил к краю большого савана.
Оставалось тело. Но как одеть его мне одному? Рядом очутился Сильвио, добрый Сильвио! Он храбро поднял на руки обезглавленное тело, я поддерживал ноги, белые и холодные как снег. Увы! Из этого прекрасного тела текли одновременно кровь и молоко. Мы надели на нее белую сорочку — полупрозрачный саван, который едва доходил ей до кистей рук, но полностью укрывал плечи; оказалось даже, что можно завязать узлом на шее это погребальное одеяние.

Все обитательницы этих мест, старухи, молодые женщины, вторглись на кладбище и глазели на нас, на меня и Сильвио.
— Пресвятая Дева! — вскричала одна из них. — Прямо сердце ноет, когда видишь, что такое прекрасное белье бросают в землю, словно покойника!
— Была бы еще освященная земля! — подхватила другая.
— Увидите, казненная на гильотине получит рубашку поновее тех, что достаются добрым христианкам! — посетовала третья.
Среди этих женщин затесался мужчина, толстый, цветущий, философ и краснобай с нежным певучим голосом; этот человек держался у края могилы, ко всему приглядывался и прислушивался. Он был столь кроток и спокоен, столь любопытен, так вольготно чувствовал себя в этом месте! Я часто вспоминаю одно его жестокое наблюдение. Дрожащею рукою я оправил саван и шептал последнее «прости» своей любви, а он в это время объяснял собравшимся женщинам, что открытые дамские сорочки куда удобнее для казни, нежели мужские, с воротником.
Потом, заметив, что из глаз моих текут крупные слезы, он продолжал, пожав плечами:
— Сердечные муки, — как люди безумны! Я десять лет пел в соборе Святого Петра в Риме, я был церковным капельмейстером во Флоренции, был первым солистом на сцене театра «Ла Скала» в Милане, я разделял самые пылкие страсти прекрасных итальянок, я обошел всю Венецию под черной карнавальною маской, в розовом домино, видел, как женщины умирали за своих любовников, и я ни разу не испытал того безумного чувства, которое называют любовью.
Сказав это, наш философ вновь укрылся за цветущей изгородью своего эгоизма.
Женщины глядели на него с ужасом и отвращением, и — черт возьми, вы не поверите! — этот цветущий человек оказался неаполитанским сопрано![61]
Итак, в ходе моего повествования ни один вид ужасного меня не миновал, даже утешения неаполитанского сопрано!
Когда саван был приведен в полный порядок, голова приставлена к верху туловища, словно и не была отрублена, Сильвио закрыл крышку гроба; и мы оба, как на часах, стали, скрестив руки, у края могилы, ибо могильщик все еще не возвращался. Тем временем медленно надвигалась ночь, небо окрасилось в живые мирные тона, какие обычно возвещают завершение погожего дня. Внизу, у меня под ногами, виднелся Париж — тот самый город, что так безжалостно уничтожил молодую женщину, здесь лежавшую, — без всяких угрызений совести он готовился к своим вечерним празднествам, удовольствиям, концертам, танцам, любви. Где же ты, бедная моя Анриетта? Куда улетела не душа твоя, но твоя красота? Где покоится теперь твоя последняя улыбка? Бедное дитя! В этот час твоя порочность и твоя красота уже утратили цену, твое место занято. Другие женщины, другие пороки, во власть которых девушки попадают в двадцать лет, уже привлекли любовь и восхищение мужчин… Никто уже не помнит тебя, даже плешивые старики, коим ты подавала милостыню твоей любви, всей твоей юности, которая сверкнула и промчалась, как молния! Ни один из них не знает даже твоего имени! Упоминая о тебе, даже не говорят: «Она умерла! Ее убили!» — ибо даже не знают, что сегодняшняя жертва была женщиной. Они, счастливцы, избранники этого мира, они, неблагодарные, уже бросились в погоню за иными жертвами, коих раздавят с тем же безжалостным хладнокровием. О, умереть так! Умереть для них и из-за них! Умереть потому, что была красива, была слаба и потому, что отомстила за себя! Умереть, убитой этим городом, развратившим ее! Умереть, когда ей нечего уже было отдать, кроме своей крови, этому городу, отнявшему у нее невинность и красоту! Умереть во имя кого? И ради кого? Праведное Небо!
Да, жестоким был этот миг у края могилы. Грустные воспоминания толпой осаждали меня рядом с этим мертвым телом. Все призраки, разочаровывающие или страшные, снова прошли передо мною с улыбкою или проклятием. Я был во власти ужасного кошмара. В мгновение ока перед моим внутренним взором промелькнула эта история, полупорочная-полудобродетельная, где истина берет верх над вымыслом, где лоскут царственного пурпура безжалостно пришивается к самым гнусным лохмотьям. Какой я видел страшный бесконечный сон!
Ночь уже настала, когда возвратился могильщик; он был навеселе и насвистывал вакхическую песенку. Он очень удивился, застав нас на прежнем месте, но все же принялся за дело. Гроб был опущен в яму, комья земли посыпались на звонкое дерево, словно издававшее жалобный стон; мало-помалу звук ослабевал.
— Держись! — сказал я могильщику. — Потребуется много земли, чтобы доверху засыпать эту могилу!
И честный малый, от старательности, начал приплясывать на могиле, напевая свою песенку: «То ли дело выпить рюмку!»
Сильвио с трудом оторвал меня от созерцания этой ужасной сцены.
— Прощай, Анриетта, прощай, публичная женщина, моя бесценная и невинная любовь! Завтра я приду снова.
На другой день я вернулся один. Голова моя была полна молитв, сердце полно жалости, руки полны цветов; но, придя на то самое место, где еще видны были капли крови, я обнаружил, что могилы больше нет. Пустая, наполовину засыпанная, она упустила свою добычу: Медицинская школа похитила труп, могильщик, протрезвев к утру, завладел этою пошлой гробницей, чтобы перепродать ее другому казненному; местные кумушки подрались за саван, в жажде принарядиться живьем в эту одежду мертвых; наволочка досталась неаполитанскому сопрано; другая публичная женщина уже купила прекрасные черные волосы, чтобы прикрыть ими свою лысину. Не осталось ничего.
Это последнее оскорбление показалось мне чудовищным. Способ, которым эта девушка ускользнула от меня в последний раз, оказался самым страшным. Теперь мне невозможно было найти даже относящийся к ней лоскуток! В этот миг я признал окончательное свое поражение. Призвав на помощь все свое хладнокровное и печальное мужество, я следовал за нею по гибельной стезе чистоты и порока, роз и шипов, но, дойдя до этого кладбища, безвозвратно утерял ее след. Я мог пытаться отвоевать ее у разврата, болезни, нищеты, проституции, палача, у могильщика… я отвоевывал бы ее у могильных червей; но попробуйте вырвать ее из-под хирургического скальпеля! Ах, несчастный, разве не желал ты отвоевать ее также и у нового искусства твоей страны?
Итак, я оставил при себе свои ненужные молитвы, подавил в своем сердце страдание, утренний ветерок высушил последнюю слезу на моих глазах, я отбросил далеко прочь цветы, принесенные мною на эту пустую могилу.
— Вот чего ты достиг, несчастный, в своей погоне за ужасным, — воскликнул я в отчаянии, — нет больше ни надежды в твоей душе, ни слез на твоих глазах, — нет ничего даже в этой могиле!

Оноре де Бальзак
XXX
НОЖ ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ БУМАГИ
— Я доволен, — сказал я Сильвио, — я нашел средство исчерпать человеческую чувствительность от самого низкого градуса холода до самого высокого градуса тепла, считая от дружеских чувств к ослу и до надежды на безумное счастье с самой прекрасной на свете женщиной, от Шарло (это имя мертвого осла) и до Анриетты (имя обезглавленной женщины), я так сгустил жизнь человеческую, видел столько несчастий, что сердце мое окаменело. Я могу, не страшась, обогнать цивилизацию. Ужас доведен до предела, и я окунулся в Стикс[62]. Какое громадное преимущество быть вооруженным столь драгоценной бесчувственностью! Если я окажусь так глуп, что стану государственным деятелем, то не буду опасаться аневризмов; если сделаюсь оратором, ничто не собьет мою речь на трибуне, сколько бы меня ни прерывали. Я подобен тому человеку, который, дабы не огорчаться зрелищем низости людской в Версале, каждое утро проглатывал по жабе.
Вместо того чтобы откликнуться на мои соображения, Сильвио, взволнованный воспоминанием, печально воскликнул:
— И ты мог спать нынче ночью!..
— А почему бы и нет?
— Но ведь только вчера… ты похоронил… Анриетту!..
— Убитую именем закона, — возразил я. — Ну что ж, да, я спал так же мирно, как если бы она была вымышленным персонажем, какой-нибудь Эми Робсарт[63]. Но разве не счастлива она теперь? Разве не должно испытывать радость от сознания, что она, невинная, похищена у злосчастий людских?
— И похищена даже у своей могилы… — добавил Сильвио, бросив прощальный взгляд на пустую яму. — Где она, несчастная?
— В руках у каких-нибудь прилежных студентов, которые в последний раз заплатят ей, и денег за эту последнюю продажу своего тела она не получит!
С этими словами мы вышли из ворот кладбища Кламар и двинулись в сторону Парижа.
— Значит, ты не считаешь ее преступницей? — спросил Сильвио, имея в виду эпитафию Анриетте, только что мною произнесенную.
— Преступницей!.. О чем ты говоришь? Она первостатейная преступница для людей, любящих точность, которые составляют платежные ведомости и готовы разломить пополам сантим, когда отдают тебе долг… Она убила человека, который когда-то убил ее жизнь, счастливую, скромную, невинную. И закон тут как тут; о причинах он не спрашивает, он видит факт. Я аплодирую правосудию. Анриетта была еще достаточно честной, чтобы отмстить за себя; ее преступление — это дурно осуществленное раскаяние; будь она мужчиной, дай она мерзавцу пару пощечин, возьми она меня в свидетели и всади ему пулю в сердце, она, может быть, танцевала бы сейчас вальс на сверкающем парижском паркете, а не лежала бы в земле… Бедная женщина! Теперь она достойна уважения, можно пролить слезу в ее память, тогда как если бы этот злополучный человек пришел к ней двумя годами позже, она ничего бы ему не сделала, может быть, стащила бы его часы, вот и все… В эту минуту Бог, возможно, уже простил ее, а через два года она была бы уже такой отвратительно низкой, что навсегда осталась бы в аду…
— Ты все выворачиваешь наизнанку.
— Нет. Я предаюсь своим мыслям о причинах и следствиях. Боже меня сохрани разрушать что-нибудь. Ведь все так прекрасно![64]
Мы услышали довольно веселый смех и увидели идущих нам навстречу товарищей по коллежу, которые возвращались в город через заставу Анфер. Мы возобновили знакомство.
— Вы очень спешите?
— О да, — отвечал один из них, — мы идем в свой анатомический театр препарировать превосходный образец, а потом у нас холостяцкий завтрак, его дает один новичок… Видел ты когда-нибудь вскрытие?
— Никогда.
— Так пойдем с нами!.. Это тебя позабавит, это очень интересно.
Мы шли, болтая о нашей юности, и вскоре подошли к дому, расположенному недалеко от Медицинской школы. Поднявшись на чердак, мы с Сильвио первыми вступили в залу с выкрашенными под зеленоватую бронзу стенами. Свет проникал через окно в крыше и падал на стол, вокруг которого собралось несколько молодых людей в зеленых передниках и в нарукавниках из зеленой материи, столь любезных всем сверхштатным служащим. Они были так поглощены своим занятием, что не сразу отворили дверь.
— Они начали без нас, разбойники! — вскричал мой приятель по коллежу, которого я звал Мишель.
— Очень дурно с вашей стороны, господа!.. — подхватили трое других в один голос.
Четверо хирургов обернулись было к нам, но они казались столь поглощены вскрытием мертвой плоти, обнажением сосудов, изучением каких-то тайн жизни в этом трупе, что тут же снова принялись за работу; последовал целый поток восклицаний:
— Видишь?
— Ну да, а что?
— Легкое!
— Сердце!
— Солнечное сплетение!
— Э…
Не помню всего дословно, но вечно буду помнить зрелище, открывшееся моему взгляду. Женское тело, белое как снег, местами трупно-зеленоватое, разъятое на четыре части и выпотрошенное, как заяц; под столом нагромождение отрезанных кусков плоти — и женщина, старая женщина, сидящая на скамеечке и спокойно жующая ломоть хлеба с ветчиной совсем рядом с этой ужасною сценой. Землисто-серое лицо старухи цветом напоминало лицо мертвеца. Она поднялась со скамейки и, собрав скрюченными пальцами все человеческие останки, бросила их в корзину.
— Боже! Какая красивая женщина! — невольно воскликнул Сильвио.
— Она составила бы счастье честного человека, если бы была порядочная, — проворчала старуха.
Слова эти громом отдались в моем сердце.
— Таким образом, господа, — произнес старший из молодых людей, — я думаю, что могу утверждать в высшей степени важный факт. Вот уже третий раз, как я узнаю в органах головы…
Я обернулся к оратору, чей голос взывал к благоговейному вниманию, и увидел у него в руках голову… Анриетты. Я издал такой страшный вопль, что все замолчали, и упал на стул.
— Ужас доконал меня! — воскликнул я. — Как! Эти холодные внутренности, исполосованные вашими скальпелями; как, эти куски плоти в корзине, эти висящие лоскуты кожи… все это вчера в половине четвертого было Анриеттой?.. Она жила, она думала, она страдала!..
Молодые студенты глядели на меня как на сумасшедшего.
— Да, в четыре часа пять минут она жила, она думала, она страдала, — отвечал старший студент, — несмотря на то, что ее обезглавили. Как я уже говорил, это факт, в коем я уверен и который нетрудно было бы доказать, если бы вскрытие тела казненных производилось бы в присутствии людей образованных и добросовестных. Лично я думаю, что смерть через усекновение головы происходит, как и при удушении, из-за излияния черной крови в сосудистую систему. И вы только что видели, что, судя по состоянию органов мозга, ничто не могло помешать этой девушке мыслить в продолжение одной, двух, трех, четырех, — почем я знаю, может быть, и пяти, — минут после отделения головы от туловища. Я бы даже осмелился сказать, что тело не умирает hic et nunc[65].
— Значит, она сильно страдала? — спросил я молодого человека.
— Да, — отвечал он холодно, словно желая избавиться от меня. — Ибо мы нашли начало аневризмы, которая должна была образоваться вчера… Так что, — продолжал он, — есть две смерти: смерть насильственная и противоестественная, к которой организм не приспособлен; и смерть, которую природа медленно вносит во все наши органы. Хорошую научную работу сможем мы представить, господа! Ибо предчувствие говорит мне, что наблюдения над этими двумя родами смерти будут настолько отличаться одни от других, а факты окажутся настолько разными, что это неминуемо приведет к доказательству только что мною утверждавшегося, а именно: того, что при противоестественной смерти не всегда сразу же и полностью уничтожаются наши духовные способности.
Я стал искать глазами Сильвио, но Мишель, догадавшись о моем намерении, сказал:
— Сильвио здесь, он не мог вынести зловония, и я проводил его в соседнюю комнату, где стоит алтарь.
Я отправился за Сильвио. Он сидел за накрытым столом, уставленным аппетитными яствами; бутылки шампанского обещали веселье, было тут и бордо, и бургундское, и риверсальт, руссильонское, эрмитаж, — словом, депутация всех французских вин. Большой паштет из гусиной печенки возвышался между блюдом с лососевой форелью и окороком. Скоро семеро молодых людей присоединились к нам, и мы принялись есть, пить, шутить по поводу вскрытия, паштета, форели и Анриетты.
Мишель, желая что-то показать, сломал берцовую кость бедной девушки.
— Ах, ах! — проговорил я после нескольких бокалов шампанского. — Могли бы вы начертить мне маршрут Анриетты? Где она теперь?
— Теперь, — отвечал Мишель, — если ее кости достаточно белы, мамаша Виргиния…
— А, ее зовут Виргинией?[66]
— Да, мамаша Виргиния, наверное, продала их для домино… и остается лишь плоть, а из нее извлекают воск, который употребляют при изготовлении красивых полупрозрачных свечей.
— Так что я имею шанс потерять часть своего состояния на зеленом сукне, освещенном всем, что так очаровывало меня в Анриетте! О, ужас! О, цивилизация!.. Общество как свинья — все идет в дело! Ужас!..
— За здоровье новоиспеченного доктора! — закричали все вокруг, и все стаканы сдвинулись и зазвенели; этот тост завершил завтрак.
— Что сказали бы классики и греки, так почитавшие мертвых!..
— Греки никогда не изобрели бы паровую машину, не открыли бы кровообращение, нервные токи и прочее.
Когда я выходил, мамаша Виргиния потянула меня за рукав и показала мне тщательно вымытую и выскобленную кость.
— Бедренная кость, белая как снег; если вы, сударь, хотите получить ее за монетку в тридцать су… вы могли бы сделать из нее разрезной нож для бумаги… это был бы сувенир, поскольку вы говорили, что она была вашей подружкой…
— Спасибо… — ответил я важно.
И я забрал бедренную кость Анриетты. Знаменитый художник взялся выгравировать на одной стороне рукоятки ножа изображение осла, на другой — молодой девушки. Я уверен, что не посрамил доброго пашу из оды г-на Виктора Гюго, который оплакивал смерть своего нубийского тигра[67].

«НЕИСТОВЫЙ» НАСМЕШНИК
Можно с уверенностью сказать, что роман Жюля Жанена «Мертвый осел и гильотинированная женщина» — книга совершенно неизвестная современному русскому читателю. Созданная в начале XIX столетия, в разгар романтизма, она в свое время наделала много шума, стала сразу известна за пределами Франции, в том числе и в России, и даже была переведена на русский язык, но затем полностью забыта и более полутора веков ни разу у нас не издавалась.
Однако во французской литературе XIX века произведение Жанена оставило свой след, и при изучении этой литературы в отечественных историко-литературных трудах и в университетских курсах постоянно ссылаются на «Мертвого осла…» при том, что сам текст этого романа был до сих пор доступен лишь узкому кругу знатоков.
Поэтому представляется вполне оправданной публикация романа Жюля Жанена на русском языке вскоре после стодвадцатилетия со дня кончины его автора, с тем чтобы познакомить читающую публику с книгой, давно ставшей во Франции классикой и не утратившей с годами ни своей оригинальности, ни эстетической свежести.
В литературной истории Франции XIX века Жюль Жанен (1804—1874) — заметная и колоритная фигура; он вошел в нее прежде всего как один из наиболее известных и влиятельных литературных и театральных критиков своего времени, с которым вынуждены были считаться самые серьезные писатели. Регулярно выступая в прессе с театральными обзорами, рецензиями на новые книги и спектакли, яркими портретами деятелей искусства, Жанен длительное время угадывал и формировал эстетические вкусы публики и направлял общественное мнение в области литературы и театра.
В течение сорока двух лет Жюль Жанен вел театральный раздел в солидной ежедневной газете «Журналь де Деба», основанной еще в 1798 году и хранившей при всех сменяющихся политических режимах умеренно-либеральное направление; и подписчики с нетерпением ожидали каждый понедельник его блестящих фельетонов, в значительной мере содействовавших популярности газеты. Нередко от мнения Жанена зависел успех или неуспех нового романа или спектакля, он полвека пребывал в гуще французской литературной жизни, близко общался с виднейшими ее представителями, среди которых у него имелось много друзей и врагов, был вхож в литературные салоны и пользовался широкой известностью; в газетах и журналах сохранилось множество портретов Жанена, шаржей и карикатур на него. На поприще газетной литературно-театральной критики ярче всего проявился незаурядный дар Жанена, здесь он составил себе карьеру, имя и благосостояние. В зрелом возрасте он удостоился прозвища «Принца критики», а под старость (в 1870 г.) долгожданного титула академика.
Жюль Габриэль Жанен родился в городке Сент-Этьен (департамент Луары) в семье провинциального адвоката, учился в коллеже города Лиона, затем был отправлен в Париж для завершения образования в престижном Коллеже Людовика Великого; он отказался от службы в министерстве просвещения, предпочтя ей карьеру юриста, получил степень лиценциата прав и собирался начать деятельность в суде. Но, как и десятки его одаренных сверстников, чьи судьбы изображены во французских романах XIX века, скоро оказался втянут в круг артистической богемы и начал пробовать свои силы в литературе.
«Я вошел в литературу, сам того не зная и не желая; я стал писателем невольно, по необходимости, как все», — признавался позднее Жанен[68]. В 1820-е годы — период Реставрации — временного восстановления на французском престоле королевской династии Бурбонов (1815—1830, после падения Наполеона) — в Париже кипела литературная жизнь: выступило новое поколение романтиков, «лохматого и бородатого племени», молодых талантов, которые, в полемике с традиционным искусством классицизма, начали шумную борьбу за свободу творчества, а заодно и за политическую свободу. Юный Жанен примкнул к романтикам и вошел в их кружок «Второй сенакль» (1826—1827), вождем и кумиром которого был Виктор Гюго, тогда уже признанный поэт и теоретик нового искусства.
Но тернистый путь начинающего литератора оказался слишком тяжек для молодого провинциала. В поисках средств к существованию он начал с 1825 года помещать статейки в «Театральном курьере», а в 1827 году дебютировал в сатирическом листке «Фигаро», имевшем хождение в маленьких театрах и литературных кофейнях, и сразу обратил на себя внимание язвительным остроумием и оригинальным стилем своих рецензий. Темнокудрый и белозубый юноша с подвижной физиономией и сверкающими черными глазами — каким он тогда был по описаниям современников, — сделался душой литературных салонов и грозою кулис. Журналистика оказалась его стихией и его судьбой.
Жюль Жанен был детищем и выразителем той эпохи, когда укреплялось новое явление в духовной жизни молодого еще буржуазного общества — власть прессы. Теперь литературное творчество сделалось ремеслом, и профессиональные писатели зависели от газет, от конъюнктуры на книжном рынке. Жюль Жанен откровенно поставил свое перо на службу карьере, и его успеху как критика немало способствовали эстетический эклектизм, чтобы не сказать «всеядность», и политический конформизм. Его литературные вкусы сформировались в лоне романтизма, но он не принадлежал к фанатикам романтической школы, был переменчив и капризен в своих оценках, порою противореча сам себе даже в пределах одной статьи. Он мог сегодня восхищаться программной романтической драмой Виктора Гюго «Эрнани» (1830), а завтра утверждать, что Гюго «не знает сцены», и восхвалять классицистскую трагедию Расина «Андромаха»; почуяв близкий конец политического режима Реставрации, он накануне его падения ушел из роялистской газеты «Котидьен», где два года прослужил редактором, в более либеральную «Журналь де Деба», которая после революции 1830 года стала правительственным органом; выпустил роман «Барнав» (1831) — о Людовике XVI, королеве Марии-Антуанетте и Мирабо, — воспринятый как «прощание с Бурбонами», но затем возвел в культ Орлеанскую династию и в 1836 году получил орден Почетного легиона от правительства короля Луи-Филиппа. Недавний романтик поддержал драматурга Франсуа Понсара и «школу здравого смысла», пытавшихся воскресить на французской сцене эпигонский классицизм, проповедовавших мещанские добродетели в противовес «безнравственности» романтизма, и превозносил выдающуюся трагическую актрису классицистского репертуара Рашель. Тем не менее после бонапартистского государственного переворота 1851 года написал блестящие страницы о политическом изгнаннике Викторе Гюго, с которым до конца жизни сохранил самые дружеские отношения.
Видные литературные современники не искали в критических выступлениях Жанена глубины и последовательности, но отдавали должное его артистическому чутью, остроумию и живому воображению, его стилю, создававшему впечатление вольной импровизации. Многие, в том числе Ламартин и Гюго, видели в нем прежде всего поэта. Именно беллетризированная форма статей Жанена обеспечивала ему популярность в буржуазных кругах. Его сверстник и в прошлом соученик, известный поэт и критик Шарль Сент-Бёв, был, вероятно, близок к истине, когда однажды оговорился, что, сочиняя свои фельетоны, Жанен «забавляется».
Бальзак в знаменитом романе «Утраченные иллюзии», прослеживая трагическую судьбу таланта в меркантильном обществе, дал широкую картину литературной жизни Парижа времен Реставрации. Вторая часть этого романа, первоначально мыслившаяся как самостоятельное произведение, озаглавленное «Провинциальная знаменитость в Париже» (1839), выразительно рисует нравы буржуазной прессы. Французские историки литературы неоднократно утверждали, что, работая над образом прожженного журналиста Этьена Лусто, Бальзак имел в виду Жюля Жанена[69]. Автор «Человеческой комедии» и в жизни недолюбливал этого «толстячка, который кусает всех подряд» (как сказано в одном из писем Бальзака к Э. Ганской в 1833 г.)[70].
Сам Жанен даже бравировал своим цинизмом. Некоторые иронические изречения знаменитого критика были бы вполне уместны в устах бальзаковского Этьена Лусто. Так, Гонкуры записали в своем «Дневнике» фразу Жюля Жанена, будто бы сказанную им третьему лицу: «Знаете, как мне удалось продержаться двадцать лет? Я менял свои мнения каждые две недели. Если бы я всегда утверждал одно и то же, меня знали бы наизусть, не читая» (запись от 19 июля 1855 г.)[71].
Разумеется, нельзя безоговорочно принимать подобные остроты Жанена, как и многочисленные недоброжелательные отзывы о нем братьев Гонкур, которые крайне болезненно реагировали на неприятие им первых их книг, чуждых Жанену по эстетике. Но и другие современники отмечали беспринципность процветавшего при всех правительствах, с годами обуржуазившегося «Принца критики». По насмешливым словам поэта Шарля Бодлера (в задуманном в 1865 г. открытом письме к Жюлю Жанену), «Жюль Жанен не желает больше огорчительных картин… состарившись, черт делается пастушком»[72].
Братья Гонкур вспоминают, что в разговоре с ними Жанен как-то заявил, будто «единственное, что он хорошо знает», — это французский язык. «Я не знаю ни истории, ни географии… И все равно никто не сможет помешать всему Парижу прийти на мои похороны…» (запись от конца января 1852 г.)[73].
Но и эти слова нельзя принимать всерьез. На самом деле Жанен получил солидное классическое образование, обладал широкой, хотя и несколько поверхностной эрудицией и завидной работоспособностью, позволившей ему оставить обширное творческое наследие, до сих пор еще систематически не изученное. Он переводил в стихах с латинского оригинала на французский язык поэзию Горация (1860), опубликовал труды «Плиний Младший и Квинтилиан» (1846) и «Поэзия и красноречие в Риме времен Цезарей» (1864). Перевел с английского известный роман писателя XVIII века С. Ричардсона «Кларисса Гарло» (1846); ему принадлежит «Курс по истории газеты во Франции» (1834), обширная «История драматической литературы во Франции» — на основе лучших его «Понедельничных» рецензий (1853—1858); двухтомный труд «Французская революция» (1862—1865), яркая книга «Конец одного мира и „Племянник Рамо“» (1861); несколько монографий, как «Дебюро» (1832) — о знаменитом французском мимическом актере, «Рашель и трагедия» (1859), «Беранже и его время» (1860).
Нельзя не отметить содержательные книги историко-этнографического характера «Нормандия» (1842) и «Бретань» (1844), изданные с многочисленными иллюстрациями, полные любопытных подробностей, они представляли популярное просветительское чтение. Жанен сотрудничал в десятках изданий, публиковал сопроводительные статьи к издававшимся во Франции художественным произведениям отечественных и иностранных авторов. И все это, не считая собственных нескольких романов и сборников рассказов, не ставших, правда, крупными литературными событиями, но в свое время пользовавшихся популярностью (в особенности роман «Исповедь», 1830; сборники «Фантастические и литературные рассказы», 1832, и «Новые рассказы», 1833); в них чувствуется романтическая закваска и литературная мода первой половины XIX века.
По любопытному парадоксу, единственным действительно нашумевшим художественным произведением Жюля Жанена сделался его первый роман (фактически юношеская проба пера) — «Мертвый осел и гильотинированная женщина» (конец апреля 1829 г., издатель Бурден, два томика in-12), который двадцатипятилетний автор даже не решился подписать своим именем и выпустил анонимно.
Эта книга имела удивительную судьбу: для целого поколения она стала визитной карточкой французского романтизма, пользовалась огромным успехом во Франции и за ее пределами и в течение одного лишь XIX века выдержала 17 французских изданий.
Характерной чертой романтизма было «братство всех искусств» — живописи, музыки, театра, а в литературе прежде всего поэзии, но также и других жанров: драматургии, новеллы, романа. Очень часто романтики проявляли себя сразу в нескольких областях искусства, были одновременно поэтами, прозаиками, художниками и музыкантами. Жанен, как и другие, в юности пытался писать стихи, но первый его роман «Мертвый осел и гильотинированная женщина» остался ярким образцом романтической прозы.
Проза французского романтизма была значительным явлением в европейской литературе XIX столетия. Она отразила мировоззренческие и психологические сдвиги, умонастроения и эстетические вкусы, возникшие в результате грандиозных социально-исторических потрясений рубежа XVIII и XIX веков — крушения «старого режима» в ходе Великой французской революции и последующих за нею событий и рождения нового, еще не осмысленного строя общественной жизни. Романтическая проза была сложной и многогранной, дала произведения различные по темам, по глубине проникновения в действительность, по уровню «среза» жизни и аспекту ее художественного воспроизведения. Как самостоятельная струя в литературе романтическая проза существовала, по крайней мере, до середины XIX века, параллельно с реалистической литературой, в постоянном и плодотворном взаимодействии с ней. (Недаром Бальзак, Стендаль, даже Флобер и Золя начинали в русле романтической прозы, а, с другой стороны, она вырастила такого гиганта романтизма, как Гюго-романист, вобравшего в свою эстетику на протяжении долгой жизни опыт иных, более поздних литературных направлений.)
Французская романтическая проза оставила столь крупные имена, как Шатобриан, Б. Констан, мадам де Сталь, А. де Виньи, П. Мериме, Ш. Нодье, А. де Мюссе, А. Дюма, наконец, Жорж Санд и Виктор Гюго — имена, хорошо известные широкому читателю во всем мире и доныне пользующиеся заслуженной популярностью. Но грунт ее составляли менее значительные фигуры, писатели второго ранга, чье творчество в совокупности определяло лицо литературной эпохи не меньше, чем творчество корифеев. Именно к таким писателям принадлежал и автор «Мертвого осла…». Сам Жанен не претендовал на звание первоклассного мастера и позднее, с присущей ему иронией, заявил, что вполне «удовольствуется тем, что будет помещен в первом ряду второстепенных писателей»[74].
Литература второго ряда подхватила и усвоила художественные принципы и достижения романтической школы: пристальное внимание к личности, ощущение движения истории и причастности к ней человека, повышенную эмоциональность, культ чувства, воображения, внутренней свободы художника. Она приняла новые жанры, в том числе традицию «исповедального романа» (идущего от «Рене», 1805, Шатобриана), где изображалась духовная драма личности на историческом переломе; она на все лады варьировала, не без влияния Байрона, образ «романтического героя» — одинокого бунтаря и отщепенца, охваченного бурными страстями либо разочарованного и снедаемого эгоизмом. Широкое распространение получили все исторические жанры — поэзия, драма, а главное, роман, особенно после 1816 года, когда во Франции стали известны произведения Вальтера Скотта, послужившие для него образцом. Пробужденное революцией чувство историзма вызывало понятный интерес к прошлому, к его быту и нравам, к живописному «местному колориту» далеких эпох, ко всякого рода экзотике. Вместе с тем исторический маскарад служил вместилищем современных чувств и настроений. Юный Виктор Гюго уже в 1823 году, разбирая роман Вальтера Скотта «Квентин Дорвард», сетовал на то, что английскому писателю в качестве пружины действия недостает «страсти», которая должна лечь в основу французского исторического романа[75].
Но истинным литературным открытием для французской прозы начала XIX века сделался «готический», или «черный», роман — жанр, который произвел настоящий фурор среди читающей публики, вошел в моду на четыре десятилетия и породил целую литературную ветвь «неистового романтизма».
Рационалистическая традиция классицизма и Просвещения XVIII века оказалась прерванной, героическая страница национальной истории перевернулась, складывающаяся новая буржуазная повседневность претила романтикам своей прозаичностью. В 1820-е годы они ответили на нее взрывом лиризма и фантазии, потоком произведений, в которых реальная действительность представала в романтически «зашифрованном», порой и фантасмагорическом виде. Такая литература строилась на сгущенном драматизме, пугающих образах, стремилась дать читателям острые ощущения. Из книги в книгу, независимо от ее художественной значительности, переходил постоянный набор тем, ситуаций, персонажей, сюжетов, литературных приемов, составлявших костяк «черного» жанра: экстравагантность, гипербола, роковые тайны; постоянно рисовались кошмары и ужасы, кровавые преступления; в средневековых замках, в глухих лесах бродили призраки; страшные злодеи преследовали невинных красавиц. На страницах второстепенных сочинений замелькали колдуны, чудовища, вампиры, мертвецы, встающие из могил, всякого рода дьявольщина и чудеса.
Архетипом этого жанра были английские «готические» романы, появившиеся к концу XVIII века как реакция на просветительскую рассудочность. Лучшие из них переводились на французский язык и получили широкую известность: «Замок Отранто» (1764) Хореса Уолпола; «Удольфские тайны» (1794) и «Итальянец» (1797) Анны Радклиф; «Монах» (1796) Мэтью Грегори Льюиса; позднее «Франкенштейн» (1821) Мэри Шелли. В 1830 годы к этому прибавилось влияние фантастических произведений немца Э. Т. А. Гофмана (таких, как «Эликсиры сатаны», 1815—1816).
Первые французские «черные» романы родились в канун революции, но особенно вошли они в моду в период Реставрации. Попав на французскую национальную почву, «черный» роман впитал впечатления от недавних событий революционной эпохи и кровопролитных наполеоновских войн. В пристрастии к жестоким сюжетам и сценам французские авторы превзошли иноземные образцы, в их книгах общим местом стало изображение темниц, эшафотов, казней, палачей.
Среди множества забытых французских «черных» романов в истории литературы сохранилось все же несколько названий: «Влюбленный дьявол» (1772) Жака Казота, «Селина, или Дитя тайны» (1799) Гийома Дюкре-Дюмениля, «Отшельник» (1821) виконта д’Арленкура и некоторые другие. Сценическим вариантом «черного» романа стали мелодрамы таких авторов, как Виктор Дюканж или Феликс Пиа.
В 1820-е годы мода на «черный» роман втянула в свою орбиту столь больших писателей, как Бальзак и Гюго. Молодой Бальзак, прежде чем найти свой самостоятельный путь в литературе, за десять лет опубликовал под псевдонимами более десятка типичных «черных» романов: «Наследница замка Бираг» (1822); «Колдун» (1822); «Аннета и преступник, или Пират Арго» (1824); «Ван-Хлор» (1825), и так далее, со всем арсеналом «готики». А первыми прозаическими опытами Гюго были вполне «черные» романы «Ган Исландец» (1823) и «Бюг Жаргаль» (1826). Правда, оба великих писателя впоследствии отреклись от этих юношеских произведений: Гюго назвал их слишком экстравагантными, а Бальзак даже окрестил «литературной пачкотней» и уверял, что сочинял их только «ради денег». Однако это не совсем справедливо; эти романы — не литературные поделки, в них местами уже видна рука будущих больших мастеров, а элементы «черного» романа, разумеется, творчески переосмысленные, нетрудно обнаружить и в зрелой прозе Гюго, и в «Человеческой комедии».
Современные французские исследователи говорят о целой «неистовой культуре, ставшей своего рода преддверием фантастики новейшего времени»[76], и справедливо связывают ее возникновение не просто с влиянием английских литературных образцов, а с особенностями французской исторической действительности начала XIX века: «Ничто так не подходило обществу, обескровленному Революцией и войнами Империи», как эти романы.
Связь «черного» жанра с духовным состоянием французского общества эпохи романтизма уловили уже проницательные умы того времени. Так, маркиз де Сад, чье собственное творчество близко соприкасалось с этим жанром, писал:
«Быть может, нам следовало бы проанализировать здесь эти новые романы, почти всю ценность коих составляют волшебство и фантасмагория, поставив на первое место „Монаха“, во всех отношениях превосходящего причудливые порывы блестящего воображения Радклиф… Согласимся, однако, что жанр этот, как бы о нем ни судить, положительно не лишен достоинств; он стал неизбежным плодом революционных потрясений, прогремевших по всей Европе»[77].
В 1830-е годы, когда мода на «неистовую литературу» во Франции начала падать, эта литература продолжала жить под пером так называемых «малых романтиков», к которым можно причислить и молодого Жюля Жанена.
«Мертвый осел и гильотинированная женщина» вписывается в эстетику «неистового романтизма» в том виде, как она сложилась около 1830 года у юных последователей Виктора Гюго, поэтов, прозаиков и художников, образовавших новый романтический кружок «Малый сенакль», столь красочно описанный позднее одним из его участников, Теофилем Готье, в книге «История романтизма». Жюль Жанен был вместе с теми, кто, «откликнувшись на зов рога Эрнани, устремился вслед за ним на неприступные высоты Романтизма и доблестно защищался от нападения классиков»[78] во время нашумевшей премьеры одноименной драмы Гюго (25 февраля 1830 г.), завоевавшей романтическому театру французскую сцену. Молодые романтики, горя энтузиазмом в борьбе «за поэзию и идеал», бунтовали против официального общества и на литературном, и на бытовом уровне. Они сознательно «эпатировали» добропорядочных буржуа своими эксцентрическими костюмами, эксцентрическими повадками и эксцентризмом своих произведений. Их объединяло презрение к житейской прозе, пренебрежение литературными «правилами», переизбыток лиризма, свобода воображения, пристрастие к живописности, экзотике, пугающей фантастике.
В основе всего этого лежало острое ощущение разрыва между мечтой и действительностью, неприятие реальности, которая на каждом шагу грубо вторгалась в романтический иллюзорный мир и разрушала его. Это приводило к крушению надежд, пессимизму, а порою и к отчаянию (как у писателя Жерара де Нерваля, 1808—1855, покончившего с собой), и выражалось в «неистовстве». С другой стороны, под давлением реальной жизни молодые романтики испытывали болезненное отрезвление, и это развило в их кружке вкус к пародии и самопародии, ярко проявившийся, например, у Петрюса Бореля (1809—1859), подписывавшего свои «неистовые» произведения ироническим псевдонимом Ликантроп (Оборотень).
В «Мертвом осле…» мы находим характерные для «малых романтиков» черты: то же отсутствие гармонии между внутренним миром лирического героя (порою сливающегося с автором) и внешним миром, который поворачивается к герою самой мрачной и безобразной стороной; ту же иронию, за которой скрывается осознание беспочвенности прекрасной мечты и мучительное пробуждение к действительности[79]. Как в этом, так и во многом другом «Мертвый осел…» опередил «неистовых романтиков» 1830-х годов, и это одна из причин широкого резонанса романа и успеха его у читателей.
В Предуведомлении Жанен аттестует свое произведение как плод свободной романтической фантазии:
«…я едва и сам-то знаю, что представляет собою моя книга.
Скажем, не сочиняю ли я фривольный роман;
или длинный трактат по вопросам литературы;
или кровожадную судебную речь в защиту смертной казни;
или даже мою личную исповедь;
или, если угодно, не пересказываю ли я какой-то долгий сон, начавшийся жаркой и душной летней ночью и закончившийся в самый разгар грозы?»
Действительно, «Мертвый осел…» вобрал в себя вольный дух и атмосферу искусства романтической эпохи. Отсюда и легкий поверхностный тон, словно доверительная беседа с читателем, за которой прячется горечь разочарования, и свобода композиции, и непрерывная смена интонаций, чередование светлых и мрачных сцен, «рая и ада» по принципу романтической «антитезы» (контраста), незадолго до того сформулированного Гюго (в «Предисловии к „Кромвелю“», 1826), а главное, — новый для «неистовой» литературы элемент — своеобразный «черный юмор», придающий «Мертвому ослу…» совсем особое лицо. В этом отношении Жюль Жанен задолго предвосхитил жанр, получивший столь широкое распространение в искусстве XX века. Дух пародии, игры приобретает в его произведении важнейшую роль.
Как истинный романтик, Жанен восстает против мещанских вкусов, воспитанных на литературе эпигонского классицизма и сентиментализма, «приукрашивающих натуру». Он смеется над «потрепанными шедеврами былых веков», над трагедиями, в которых гладиатор на арене римского цирка «обставляет свою смерть с изяществом, старается, чтобы последний его вздох был гармоничным»; над подражателями идиллиям Вергилия и Феокрита (вроде французских писателей Флориана и Сегре) с их «селянами в батистовых сорочках, пастушками в кринолинах» и «припудренными барашками». «Что такое в реальном мире пастух? Бедолага, одетый в лохмотья, умирающий с голоду, который зарабатывает пять су, выгоняя на булыжные дороги несколько паршивых овец. Что такое настоящая пастушка? Грубый, плохо вырезанный кусок мяса с красным лицом, красными руками, жирными волосами, от которого несет чесноком и кислым молоком».
Но с не меньшей иронией говорит он и о «новой школе с ее палачами и призраками», которая признает лишь «обнаженную натуру», «выворачивает жизнь наизнанку», сводя ее к одному безобразию и ужасу. Знаменателен зачин романа, в котором Жанен иронизирует над «простодушием „Сентиментального путешествия“» (1769) — программного произведения английского писателя Лоренса Стерна, где в одном эпизоде описание смерти крестьянского кормильца-осла «вызывало у читателей сладостные слезы». «Я тоже пишу историю осла», — вызывающе заявляет он и тут же противопоставляет трогательной сцене из книги Стерна насмешливо-жуткое описание смерти осла, заживо сожранного псами на потеху любопытному зрителю. «Нет, дайте мне сюжет мрачный, кровавый… вот что вызывает восторги!» — обращается Жанен к читателю, — «бордо вас больше не пьянит — так осушите этот большой бокал коньяка!». «Я подверг поэзию настоящему анатомическому вскрытию: крепкий молодой человек распростерт на большом черном камне, а два искусных палача сдирают с него кожу, теплую, окровавленную, как заячья шкурка, не оставив на живой плоти ни единого лоскута! Вот какую натуру избрала, пока я мечтал, поэзия…»
В «Мертвом осле…» Жанен откровенно пародирует стереотипы «черного» жанра. В Предуведомлении он шутливо берется «раз и навсегда доказать, что ничего нет легче, как фабриковать всяческие ужасы», а в самом романе современники усмотрели пародию на кошмарные сцены «Гана Исландца» и «Бюг Жаргаля» Виктора Гюго. Иронизируя над обуявшим литературу «ражем правдивости», над стремлением рассматривать жизнь «с помощью лупы», Жанен еще не почувствовал принципиальной разницы между романтическим тяготением к гротеску, безобразию и новым пониманием правды в искусстве, новым аналитическим методом, который проявился уже в 1830 году в почти одновременно созданных романах великих реалистов «Красное и черное» Стендаля и «Шагреневая кожа» Бальзака.
Однако он чутко уловил падение к концу 1820-х годов моды на «готику» и начавшееся изменение в общественных вкусах. В Предуведомлении к «Мертвому ослу…» он как бы раздваивается между любованием средневековьем, опоэтизированным романтиками, и более трезвым взглядом на жизнь и искусство. В эти годы крупные писатели, в том числе и сам мэтр романтизма Виктор Гюго (в 1831 году опубликовавший «Собор Парижской Богоматери»), начали преодолевать крайности «неистовой словесности». Многие вчерашние молодые соратники Жанена стали печататься в либеральной газете «Ле Глоб», отнюдь не безоговорочно принимавшей эстетику «черного» романа. За год до публикации «Мертвого осла…», в 1828 году, критик этой газеты выступил против «поисков, низкого и склонности к уродливому» и неодобрительно отмечал, что «мир, уставший искать эмоций у героев истории, не нашел ничего лучшего, как развлекаться каторжниками и палачами». Один из самых пылких адептов романтизма, Теофиль Готье, в предисловии к роману «Мадемуазель де Мопен» (1835), уже самому по себе скандальному с точки зрения расхожей морали, все же предавал анафеме «эту литературу морга и каторги, рисующую кошмары палача, галлюцинации пьяных мясников и горячечный бред тюремщиков», авторы которой, по благосклонному мнению публики, «были головорезами и вампирами, имели пагубное обыкновение убивать отца и мать, пили кровь из черепа, пользовались вместо вилки берцовой костью и резали хлеб ножом гильотины… век гонялся за падалью, и бойня нравилась ему больше, нежели будуар»[80]. А Бальзак в предисловии к «Истории тринадцати» (1833) — своеобразному триптиху, на котором лежит отчетливый отблеск романтизма, утверждал, что автор не должен «на протяжении четырех томов водить читателя из подземелья в подземелье, дабы показать ему какой-нибудь иссохший труп», и выражал надежду, что читатель «пресытился ужасами, которые за последнее время вошло в обычай хладнокровно преподносить публике»[81].
К концу периода Реставрации, а особенно после революции 1830 года и воцарения «короля лавочников» Луи-Филиппа, когда началось бурное капиталистическое развитие Франции, стали ярче выявляться социальные конфликты, в литературе наметился поворот к современности. Первым симптомом этого было распространение бытописательского («физиологического», как его тогда называли) очерка, заполнившего журналы и газеты сценками из городской жизни и разнообразным современным типажом («Банкир», «Гризетка», «Крючник»). Толпа обыкновенных людей, современников, прежде гулявших лишь по строкам песен Беранже, теперь — на ином художественном уровне — хлынула в популярную прессу. Физиологические очерки не поднимались до широких обобщений, но этот жанр был этапом в формировании реалистического социального романа, ему отдали дань многие большие писатели (в том числе Бальзак), выдающиеся художники-графики (в том числе Тони Жоанно, Гаварни, Домье). Перу Жюля Жанена также принадлежало множество физиологических очерков, которые иногда выходили сериями при его активном участии, как «Париж, или Книга ста одного» (15 выпусков, 1831—1834) или знаменитый в свое время цикл «Французы в их собственном изображении» (15 томов, 1840—1842).
Сочетание романтической традиции с новой художественной «оптикой» очень заметно в «Мертвом осле…». С одной стороны, многочисленные бытовые зарисовки говорят о пробудившемся интересе к повседневной жизни. Через несколько месяцев после опубликования этого романа, в следующем своем романе «Исповедь» (выпущенном за подписью «Автор „Мертвого осла и гильотинированной женщины“»), Жанен ясно высказался на сей счет:
«Есть нечто более любопытное, нежели пирамиды Египта, башни Кремля или ледники Швейцарии, более удивительное, чем все чудеса, на которые отправляются поглазеть ценою такого утомления и стольких расходов: это большой парижский дом в многолюдном квартале, заселенный от фундамента до самой крыши… это собрание изобилия и нищеты, смех рядом со слезами, безобразные уродства рядом с грацией, порядок в беспорядке»[82].
С другой стороны, автор «Мертвого осла…» постепенно словно бы втягивается в художественную логику «неистового» жанра, интонация (особенно во второй половине книги) меняется, пародия уступает место драматизму, и произведение само превращается в «черный» роман: его страницы заполняются всякого рода ужасами, безобразными образами и жестокими сценами, преподносимыми уже всерьез.
Но это ужасы не романтической фантазии, а реальной действительности. Оригинальность Жанена сказалась в том, что он практически первый перенес действие «черного» романа, вместе с характерными атрибутами «готики», из средневековых замков в современный Париж. Здесь действуют самые вульгарные персонажи, социальные отбросы; Париж предстает в особом ракурсе: городская живодерня, морг, больница, игорные притоны, дом терпимости, публичная казнь, кладбище, анатомический театр. Это не тот Париж, полный кипения мысли и страсти, «средоточие умов и талантов», «город тысячи и одной ночи», страшный и притягательный, какой через несколько лет встанет со страниц «Человеческой комедии»; по словам самого Жанена, это «та обнаженная натура, которую нам выпала честь первому открыть».
Драматическое напряжение в «Мертвом осле…» происходит оттого, что постепенное пробуждение героя от романтических грез причиняет ему подлинные душевные страдания. Рушится его идеал, воплощенный в красавице Анриетте, а вместе с ним рушатся и прежние представления о жизни. Символическим ключом к роману является эпизод, где герой, только что видевший прекрасную девушку на грациозном ослике, встречает того же осла под грузом навоза. Такова «голая» изнанка действительности, с которой в духе «новой школы» срывается лживая поэтическая оболочка. Под красотой таится безобразие, любовь продажна, физическое уродство дополняется нравственной порчей, радостно просыпающийся утренний Париж прячет лицемерие, корысть и нищету, а ночной — пороки и преступления. Цветочная набережная находится рядом с Гревской площадью, где совершаются казни; здесь «заставляют лгать даже розу», выращивая ее на известковом растворе; талантливый «лицедей» — в реальной жизни пошлый пьяница, романтический разбойник — повар в богатых домах. По мере «ужасного продвижения в область правдивого» темные краски все сгущаются: чистая красавица оказывается проституткой, молодой плотник забавляется, разыгрывая любовную сцену со своей суженой на прилежно изготовленной им гильотине. И уж совсем из «черного» романа такие эпизоды, как «Медицинская вечеринка», с оживлением трупа, или глава «Тюремщик» (добавленная автором по техническим причинам, для увеличения объема книги[83], но весьма характерная), в которой происходит «совокупление уродства морального с уродством физическим, палача с жертвой, бессердечной женщины с безобразным мужчиной» и создается чудовищно-гротескный образ, заставляющий подумать не только о Гане-исландце Виктора Гюго, но и о еще не созданных им Квазимодо и Жавере.
Автор сочувствует герою-рассказчику, потому что столкновение с реальной жизнью, которой тот прежде не знал, больно ранит этого героя, но вместе с тем автор иронизирует над ним, потому что жизненная правда воспринимается героем однобоко и пугает его. «Неужели ты думаешь, — рассуждает рассказчик в романе, — что в этом мире есть что-нибудь истинно прекрасное и правдивое? Уродства и лжи — сколько угодно, да и вовсе еще недавно открытых». В главе «Системы» правда жизни, как она представляется герою, сравнивается с «огромным увеличительным зеркалом», искажающим все пропорции, если смотреть в него «со слишком близкого расстояния». И лишь в финале, после всех испытаний, подводя итог «ужасному кошмару», во власти которого он «так долго пребывал», герой пытается отдать себе отчет в противоречиях жизни, заново осмыслить «всю эту историю, полудобродетельную-полупорочную, где истина берет верх над вымыслом, где лоскут царственного пурпура безжалостно пришивается к самым гнусным лохмотьям». По словам его друга Сильвио, «Истина приходит не так скоро или она менее снисходительна; самое большее, что она дозволяет, — это приблизиться к себе, когда к ней идут твердым шагом». Однако герой продолжает оценивать реальную действительность с точки зрения романтического идеала, что и приводит его к пессимизму и отчаянию, которые автор отнюдь не разделяет до конца. Оставаясь романтиком, автор «Мертвого осла…» запечатлел в этой книге переход к новому, уже начинавшему заявлять о себе реалистическому методу в литературе.
В самом недолгом времени Бальзак сделает художественное открытие, которое будет иметь огромное значение для всей литературы XIX века: под прозаической оболочкой повседневности он обнаружит не только безобразие и ложь, ужасавшие «неистовых» романтиков, но также поэзию и драматизм, сопоставимый с шекспировским.
Угол зрения Жанена был сразу же воспринят другими авторами романтической школы; одно за другим стали появляться произведения, близкие по поэтике к «Мертвому ослу…». Так, уже в июне 1830 года вышел в свет роман «Луиза, или Горести уличной девки», посвященный Жанену и позднее охарактеризованный Теофилем Готье как произведение «полное грязи, которую анонимный автор почерпнул в „Мертвом осле…“»[84] (роман был подписан «Аббат Тиберж» — то есть именем одного из персонажей романа Прево «Манон Леско» (1733), где тоже действует безнравственная героиня). В том же, 1830 году в парижских журналах печатался в отрывках, а в следующем, 1831 году вышел отдельной книгой первый роман молодого писателя Раймона Бюра де Гюржи «Примадонна и подручный мясника», и по стилю, и по содержанию тесно связанный с произведением Жанена; даже его заглавие, тоже построенное на шокирующем контрасте, прямо отсылает к «Мертвому ослу и гильотинированной женщине». Примеры можно было бы умножить. Современники сочли Жюля Жанена родоначальником школы «ужасного в обыденном».
В «Мертвом осле…» не следует искать глубокого социального анализа, стремления проникнуть в скрытые законы жизни; при изображении современной действительности Жанен оставался на почве романтического романа ужасов. Но если публика спокойно принимала все привычные кошмары традиционных готических романов, где действие протекало в условном Средневековье, то перенесение их в современность было непривычно и шокировало. Книга Жанена показалась крайне дерзкой, грязной и безнравственной, поскольку в ней выставлялись напоказ низменные и темные стороны жизни сегодняшнего дня, тогда еще не освоенные литературой. В самый год выхода в свет «Мертвого осла…» рецензент газеты «Ле Глоб» возмущался «прелюбодейным соединением картин очаровательных с картинами страшными» в романе Жанена, тем, что «прелестные образы» в нем «разорваны и испачканы грязью и кровью»[85]. Это лишний раз подчеркивает переходный характер произведения.
Жанен не обладал эпическим даром и широким дыханием, необходимым для создания обширных художественных полотен, — даром, присущим не только гениальным Гюго и Бальзаку, но и другим крупным романистам первой половины XIX века. И дело не только в масштабах таланта и разных уровнях мастерства, но и в различии художественных задач. Жанен и не пытался создать всеобъемлющую панораму эпохи, выстроить сложную интригу, изобразить бурные страсти и значительные общественные события. Не надо забывать, что его книга появилась в 1829 году, когда французский социальный роман только начинал формироваться, и принадлежала к иной традиции. Критика усмотрела в «Мертвом осле…» отчетливое стилистическое влияние замечательного английского писателя Лоренса Стерна, которым, впрочем, увлекались во Франции почти все романисты эпохи. Сам Жанен проявлял постоянный интерес к Стерну: уже в 1829 году напечатал статью о Стерне и Маккензи; через десять лет написал предисловие к французскому изданию «Сентиментального путешествия» (1839); имя Стерна возникает буквально в первой же строке «Мертвого осла…». Разумеется, Жанена притягивала не философия Стерна, не его концепция человека, недоверие одновременно и к догматическому разуму, и к чувству, не его просветительско-гуманистические идеи, выросшие на почве XVIII века, — а то, как все это выразилось в литературном стиле Стерна. Жанену оказались близки стернианская ирония и нарочитая беспорядочность повествования, и прерывистое ведение фабулы, и юмор, и особый мечтательно-лирический тон, местами придающий произведению характер личных записок, и наряду с этим — насмешливый скептицизм, сбивающий с толку читателя, который перестает понимать, где автор искренен, а где пародирует сам себя, и стилистическая пестрота (которая осталась характерной чертой Жанена и отмечена, в частности, Гонкурами[86]). Все это ясно выразилось в первых двух романах Жанена — после «Исповеди» он начал отходить от поэтики «Мертвого осла…».
«Мертвый осел…» отличается мозаичностью композиции. Роман построен как ряд самостоятельных эпизодов, наподобие физиологических очерков, ряд зарисовок быта и нравов, разнообразных по темам, контрастных по колориту, связанных между собою лишь как ступени «воспитания чувств» героя и в совокупности составляющих некий жизненный калейдоскоп, который иллюстрирует разрыв романтического идеала и действительности. Вместе с тем в «Мертвом осле…» «мы находим хронику эпохи, истинный вызов традиционному роману»[87].
В этих миниатюрах проявилась наиболее сильная сторона дарования Жюля Жанена, обеспечившая в дальнейшем успех его фельетонам; по словам Бальзака, «это магия увлекательного стиля, коему автор жертвует драмой и во всю прыть своего таланта мчится к фразеологии»[88].
Собственно, сквозной сюжет романа — трагическая любовная история: юная героиня, впервые встреченная героем и читателем невинной красавицей, весело скачущей на ослике по весенним лужайкам, постепенно развращается, опускается на городское дно, совершает преступление и умирает на гильотине, загубленная жестокой социальной действительностью, а ее осел находит смерть на живодерне; герой же, пережив тяжелую душевную драму, утрачивает все жизненные иллюзии.
Однако наличие связного сюжета здесь в значительной мере мистификация. В романе, в сущности, отсутствует единое драматическое действие и психологически разработанные характеры. Хотя некоторые биографы Жанена пытались отыскать реальный прототип Анриетты в личной жизни автора[89], все герои романа скорее — романтические символы или своего рода «амплуа», которые указывают на жизненные обстоятельства, судьбы, душевное состояние, порожденные эпохой и зафиксированные в литературе. В читательском восприятии герои не складываются в живые цельные образы, как в реалистическом произведении. Так, история превращения идеальной красавицы в проститутку имеет социальную логику (недаром «падшее, но милое созданье» скоро станет одним из стереотипных образов во французском романе XIX века), но внутренняя логика этого превращения в «Мертвом осле…» не раскрыта, из разрозненных эпизодов жизни и поведения Анриетты не возникает конкретная личность. Веселая поселянка первых страниц, бессердечная и наглая куртизанка, жалкая обитательница публичного дома, юная смертница-мать, в мелодраматической сцене поручающая своего младенца герою, которого она, как вдруг выясняется, всегда любила, — все это разные персонажи, разные образы; даже «поразительную красоту» Анриетты мы вынуждены принимать на веру, потому что не видим ее. «Мертвый осел…» пронизан романтической символикой. На идиллическую картину первой встречи героев уже ложится зловещая тень будущего. Не случайно осел Анриетты носит имя Шарло — народное прозвание палача. И по ходу повествования образ осла как воспоминание и предостережение возникает на всех этапах жизненного пути героини.
Что же касается героя-рассказчика, то он варьирует, частично пародирует многочисленных героев «исповедальных романов». Это образ лирический, внутренне близкий автору. Однако и тут лишь с натяжкой можно говорить о живом характере с меняющимся внутренним миром, хотя сверстники узнали в нем (как и в Анатоле, герое «Исповеди» Жанена) — по определению современного французского исследователя — «болезнь поколения, лишившегося иллюзий и не видящего смысла в жизни»[90]. Крушение веры в любовь и красоту, разочарование и душевная опустошенность, даже попытка самоубийства во цвете лет — все это уже было известно по многим книгам, среди которых одной из завершающих оказалась «Исповедь сына века» (1836) Альфреда де Мюссе.
Но в романе Жанена «Мертвый осел…» перипетии утраты героем непосредственной радости жизни и его сознательное погружение «в область ужаса, в область жизненной правды» достаточно условны, так же, как и его любовь к Анриетте; переворот в мироощущении героя («Я стал сам не свой») происходит будто бы под воздействием новой литературной школы, которая научила его «повернуть бинокль другой стороной» и «рассматривать природу под прямо противоположным углом зрения». В «Мертвом осле…» исповедь героя — скорее художественный прием, позволяющий соединить вместе все разрозненные эпизоды, подчинив их одной мысли, а также проследить с начала до конца историю Анриетты, в которой воплощается ужас реальности, трагическая невозможность преодолеть уродство, иллюзорность романтической мечты.
По ходу романа герой, затеявший игру для «решения философской и литературной проблемы», как он говорит, для проверки поэтики романтической «неистовой школы», незаметно превращается в действующее лицо драмы, построенной по принципам этой поэтики. И потому особенно важным становится появление в конце книги его двойника и оппонента Сильвио, который по-своему повторяет и проясняет его путь от наивно-романтического восприятия жизни до мучительного отрезвления.
Но нельзя не отметить и другую сторону книги. Хоть автор и рассматривает современную действительность в романтический бинокль, все же в его поле зрения попадают и такие явления, которые в недолгом времени выдвинутся в центр внимания французской литературы. В «Мертвом осле…» намечены темы, социальные и нравственные проблемы, персонажи, какие в разном освещении будут присутствовать и на страницах бальзаковской «Человеческой комедии», и в социальной поэзии тех же лет, и на французской сцене, а главным образом, в социально-приключенческом газетном «романе-фельетоне» 1830—1840-х годов (типа «Парижских тайн» Эжена Сю или «Графа Монте-Кристо» А. Дюма), который вместе с мелодрамой представлял низовые, демократические жанры романтизма. В романе-фельетоне (он назывался также «народным романом») слились элементы «черного» романа и физиологического очерка. По остроумному определению Теофиля Готье (применительно к роману Э. Сю «Агасфер») — «это эскиз Метьюрина или Льюиса, из которого то и дело выглядывают персонажи Гаварни»[91]. Роман-фельетон, приспосабливаясь ко вкусам массового читателя, выработал свою эстетику, оказавшую влияние и на высокую литературу: так, некоторые его элементы, художественно переосмысленные, оказались близки и Жорж Санд, и Гюго — автору «Отверженных» (над первым вариантом которых он работал уже в 1830-е годы).
Главная привлекательность этого жанра, имевшего оглушительный успех, состояла не только в доступности художественных средств и увлекательной фабуле, впитавшей, наряду с «готическими» ужасами, тайны и загадки в духе возникавшего в эти годы полицейского романа[92], но и в обличении социального зла и сочувственном изображении народной жизни. Во Франции образовался целый пласт произведений, проповедовавших гуманность и получивших в критике наименование «литературы социальной жалости».
При всей романтической причудливости «Мертвого осла…» от него тянутся нити к подобного рода литературе; правда, для Жанена социальная проблематика не главная цель, а своего рода орнамент повествования, часть экзотики современной жизни. Однако по всему роману разбросаны социально-обличительные тирады и сентенции, то насмешливые (как в главе «Добродетель»), то взволнованные, и многочисленные зарисовки тяжкой доли бедняков: «старик каменщик, который размозжил себе голову, упав с высоты четвертого этажа как раз в тот момент, когда, завершив рабочий день, собирался сходить за скудной платой»; молодой кузнец, привязанный к позорному столбу у золоченой решетки «святилища правосудия» за кражу куска железа, при том, что, «владей он хотя бы обломком этой решетки, он и сейчас бы пребывал свободным и счастливым в кругу своей семьи»; «какой-то бедняга», арестованный за долги, чей дом и жалкое имущество пошло с молотка; бездомная мать, что вместе с семи-восьмилетним сыном весь день трудится, прямо на улице, ради куска хлеба и «глотка молока» для маленькой дочки, которую в жизни ждет только беспросветная бедность; одинокие старики, умирающие «по дешевке» в приюте для обездоленных, и так далее.
Жанен один из первых изобразил судьбу женщины из низов, которой предоставлен «жестокий выбор между роскошью и нищетой», толкающий ее на нравственное падение. Прослеживая жизнь Анриетты, он еще до Бальзака показал в «Мертвом осле…» «блеск и нищету куртизанок», и хотя он не углубляется в социальный анализ и обвиняет в нравственной порче своей героини главным образом «соседство с Парижем», растлителем «всех невинных душ», все же он полон сочувствия к жертвам лицемерной общественной морали. Эта тема, ставшая общим местом в социальном романе эпохи романтизма (от судьбы Флер-де-Мари в «Парижских тайнах» Э. Сю до судьбы Фантины в «Отверженных» Гюго), постоянно занимала Жанена и после «Мертвого осла…», возникала в его романах и рассказах; поэтому неудивительно, что он написал взволнованное предисловие к роману Дюма-сына «Дама с камелиями» (1852). Характерный для романтической литературы мотив нравственного искупления продажной женщины через истинную любовь мимолетно намечен уже в «Мертвом осле…»; автор пытается возвысить Анриетту и как мстительницу первому ее развратителю: эта месть и последующие страдания и смерть как бы возвращают ей утраченное человеческое достоинство.
Среди социальных вопросов, намеченных в «Мертвом осле…», выделяется проблема смертной казни, которой отведено большое место, прежде всего в связи с судьбой героини. Взятая сперва в пародийном плане, эта тема перекочевала в произведение Жанена из «черного» романа. Среди первых критиков «Мертвого осла…» было распространено мнение, что здесь отразилось впечатление от только что вышедшей и нашумевшей книги Виктора Гюго «Последний день приговоренного к смерти» (февраль 1829) — психологического этюда, которым началась многолетняя борьба великого гуманиста против смертной казни, воспринятого в контексте «черного» жанра. Некоторые основания для такого мнения критики имелись. Видный французский писатель-романтик Шарль Нодье вспоминал, что слышал в 1828 году чтение Жаненом в кругу друзей «странной пародии на „Последний день приговоренного к смерти“, озаглавленной „Поучительная история человека, проглоченного змеей“, — пародии, которая могла быть одним из источников замысла „Мертвого осла и гильотинированной женщины“»[93]. Пародийная игра на эту тему имеется и в самом романе Жанена: то это рассказ повешенного разбойника, сорвавшегося с «веселой виселицы» среди прекрасного пейзажа Италии; то рассказ турка, посаженного на шпиль мечети за попытку проникновения в султанский гарем и обозревавшего с высоты красоты Стамбула; то утопленника, не устоявшего перед призывом русалки. Откровенной параллелью к этюду Гюго является эпизод, вызывающе озаглавленный Жаненом «Последний день приговоренного к смерти», — рассказ смертника, якобы почерпнутый из американской газеты; весь психологический рисунок здесь иной, чем у Гюго, и словно полемизирует с мэтром.
Но возникновение у Жанена этой темы имело, конечно, и более веские причины. Вопрос смертной казни был одним из социальных вопросов, особенно актуальных для исторической действительности Франции, и на рубеже 1830-х годов нашел отражение не только в творчестве Гюго. Эта проблема широко обсуждалась в прессе, в частности, в связи с требованием некоторых кругов казни министров свергнутого короля Карла X. Сенсационный успех у публики имели «Записки Видока» (1826) — начальника сыскной полиции, в прошлом уголовного преступника, так же, как и «Записки Сансона» (1829), парижского палача времен революции, составленные Бальзаком и Леритье будто бы на основании подлинных рукописей и документов. Споры в обществе о смертной казни отражены в «Мертвом осле…» в различных эпизодах, пародийных и серьезных (например, дискуссия на эту тему собеседников, собравшихся в загородном доме, или посещение героем дома палача), а также в авторских рассуждениях более общего плана. Фигура палача становится в романе символом бесчеловечности социального устройства, которое будет впоследствии с таким пафосом обличать Виктор Гюго в «Отверженных». Жюль Жанен вкладывает в уста палача знаменательную речь:
«…я в своем праве. Революция, анархия, империя, реставрация — ничто не повлияло на мое право… я был сильнее закона, чьим высшим выражением я являюсь; закон сто раз менялся, только я не сменился ни разу, я был неотвратим, как судьба, и силен, как долг».
А в другом месте институт смертной казни рассматривается как выражение безнравственности «общества, которое не могло бы и дня просуществовать без своих доносчиков, своих тюремщиков, своих палачей, игорных домов, притонов разврата, кабаков и театральных зрелищ». Выразительно обрисован в романе суд присяжных, где поединок адвоката и прокурора — это «вопрос учтивости, самое большее, тщеславия», а человеческая жизнь «не в счет». Эта сторона книги подверглась наиболее серьезной авторской переработке в сторону большей гуманности в духе Гюго. И если в первой редакции 1829 года рассказчик, «резвясь среди парадоксов», лишь с иронией говорил, что смертная казнь — «самое банальное в своем роде явление», некая «подать», которую платит общество за свое спокойствие, то в окончательном тексте он прямо определяет этот акт как «убийство хладнокровное, убийство, открыто свершающееся перед ликом Божиим и лицом человеческим».
Гуманистические идеи первой книги Жанена и сегодня имеют право на внимание читателей.
В истории французского романа XIX века имя Жюля Жанена сохранилось только благодаря «Мертвому ослу и гильотинированной женщине». Вскормленный романтизмом, молодой писатель создал произведение оригинальное, причудливое, в котором вольная фантазия соединяется с точными жизненными наблюдениями, ирония с патетикой, лиризм с элементами социального обличения. Этот роман вобрал в себя многие эстетические и общественные вопросы своей эпохи и частично предугадал дальнейший ход литературного развития во Франции, опередив по времени более крупных писателей.
Своеобразный угол зрения на жизнь, живость и увлекательность изложения, остроумие и стилистический блеск придают этой забытой книге прелесть, которую почувствует и современный читатель.
СУДЬБА ПЕРВОГО РОМАНА ЖЮЛЯ ЖАНЕНА В РОССИИ
«Мертвый осел и гильотинированная женщина» сделался известен в России почти сразу же после первой парижской публикации — сперва по откликам во французской прессе, затем и по самой книге, — и вызвал большой интерес среди читающей публики, прежде всего в пушкинском кружке.
Французская литература была той культурной средой, в которой воспитывалось пушкинское поколение; в 1820—1830-х годах французские газеты и журналы являлись в этом кругу таким же предметом повседневного чтения, как и русские. Для самого Пушкина французский был вторым родным языком, и книги на этом языке составляли больше половины его личной библиотеки. По словам авторитетного русского исследователя, «Пушкин — может быть, в большей степени, чем его современники, — был воспитан на французской литературе. Но именно Пушкин с его пытливым интересом ко всему западноевропейскому сумел придать русской литературе глубоко национальный характер и ввести ее в семью европейских литератур в качестве равноправного члена… Создавая национальную литературу в России, Пушкин действовал на европейском фоне, и факты французской литературы — передовой литературы его времени — были ему близки, как был близок исторический опыт западноевропейских литератур»[94].
И сам поэт, и люди из его окружения внимательно следили за литературной жизнью Франции тех лет, за становлением романтической школы, ее полемикой с эпигонским классицизмом, считая именно романтиков зачинателями нового, современного искусства.
Пушкина поразил новизною образ Адольфа из одноименного романа Бенжамена Констана (1816), одного из первых французских романтических героев, в котором он увидел тип человека, больного «недугом времени», выразителя нового умонастроения[95]. «Какая ужасная разница между идеалами бабушек и внучек! Что общего между Ловласом и Адольфом?»[96] — такие слова вложил Пушкин в уста героини «Романа в письмах», над которым работал осенью 1829 года (то есть в год выхода в Париже «Мертвого осла…»). А еще раньше, в письме к Вяземскому из Одессы (от 5 июля 1824 г.), Пушкин предсказывал, что французский романтизм скоро «ударится в такую бешеную свободу, что что́ твои немцы»[97].
Эта предугаданная Пушкиным «бешеная свобода» и выразилась в «неистовой словесности», прежде всего в новейших французских романах, на которые к концу 1820-х годов переместился с французской драмы интерес русских читателей. В момент первой публикации «Мертвого осла…» это произведение было воспринято в России как явление того же порядка, что и романы Виктора Гюго, Бальзака, А. Дюма, А. де Виньи, Жорж Санд, Э. Сю, которые все без различия считались представителями единой школы «неистового» или, по терминологии того времени, «взбесившегося», «беснующегося» романтизма.
Всплеск читательского интереса на рубеже 1830-х годов к современному французскому роману подогревался и политическими событиями (революция 1830 г. во Франции, о которой русская правительственная пресса старалась умалчивать; польское восстание 1831 г.) и заметным подъемом журналистики. В 1830-е годы русские журналы начали играть все более важную роль в развитии отечественной литературы и ознакомлении читателей с литературой западноевропейской. «Сын Отечества» Н. Греча (выходил в 1812—1856 гг.); «Вестник Европы» Н. Карамзина, потом М. Каченовского (1802—1830); «Московский телеграф» (1825—1834) Н. Полевого; «Телескоп» (1831—1836) Н. Надеждина; официозная «Северная пчела» (1825—1859) Ф. Булгарина, потом Булгарина и Н. Греча; «Отечественные записки» (1818—1830) П. Свиньина и журнал под тем же названием, издававшийся с 1839 года А. Краевским, затем Н. Некрасовым; «Библиотека для чтения» (1834—1865) А. Смирдина с О. Сенковским в качестве редактора — и другие журналы, постепенно определявшиеся как представители разных политических и литературных направлений, постоянно помещали библиографические обзоры иностранных литературных новинок, критические статьи о них; в конкурентной борьбе русские журналы всех оттенков стремились привлечь подписчиков, печатая в отрывках или полностью переводные, в первую очередь, французские повести и романы. Произведения романтической школы, с их бурными страстями, экзотикой, загадками, тайнами и ужасами, пользовались у русских читателей, как в обеих столицах, так и в провинциальных городах и помещичьих усадьбах, большим успехом. На страницах журналов 1830—1840-х годов замелькали имена Гюго, Дюма, Бальзака, Э. Сю рядом со множеством имен второстепенных французских авторов (как Мишель Ремон, Жакоб Библиофил, Альфонс Карр, герцогиня д’Абрантес, Гюстав Дрюино), среди которых видное место занимал и Жюль Жанен.
Образованные читатели из высших слоев общества на основании анонсов и статей во французской прессе (и в выходившем в Санкт-Петербурге на французском языке журнале «Ревю этранжер» — «Иностранное обозрение») выписывали из Парижа или добывали иными путями новые французские романы, которые могли читать в оригинале. (Так, Пушкин доставал в эти годы французские газеты и журналы, а также иностранные литературные новинки у своей приятельницы Е. М. Хитрово, которая получала их через своего зятя Фикельмона, австрийского посланника.) По переписке Пушкина начала 1830-х годов видно, что он с живым интересом и одобрением прочитал и «Собор Парижской Богоматери» Гюго, и «Красное и черное» Стендаля, и многие произведения Бальзака. Новые французские романы настолько интересовали русского поэта, что он собирался специально о них писать. Сохранился (записанный по-французски в 1832 г.) план статьи «О новейших романах» с таким составом: «Барнав», «Исповедь», «Обезглавленная женщина», Э. Сю, Де Виньи, Гюго, Бальзак «Сцены частной жизни», «Шагреневая кожа», «Озорные рассказы», Мюссе «Ночной столик»[98] (имеется в виду сочинение Поля де Мюссе, брата Альфреда де Мюссе. — С. Б.). Знаменательно, что этот список начинается с трех подряд произведений Жюля Жанена.
Пушкин как читатель увлекся жаненовскими романами, начиная с анонимно изданного «Мертвого осла…». Об этом свидетельствует письмо к Вере Федоровне Вяземской, посланное по прочтении книги из Москвы в Остафьево в конце апреля 1830 года (первое парижское издание «Мертвого осла и гильотинированной женщины» сохранилось в библиотеке Пушкина вместе с четырьмя другими томиками сочинений Жанена):[99]
«Вы правы, находя, что „Осел“ прелестен. Это одно из самых замечательных сочинений настоящего времени. Его приписывают В. Гюго. По-моему, в нем больше таланта, чем в „Последнем дне“, который, однако, талантливо написан»[100].
Таким образом, роман неизвестного автора дошел до Пушкина ровно через год после его первой публикации. «Мертвый осел…» возбудил интерес и других русских читателей и сразу же привлек внимание критики. Не вызывала сомнений близость этого произведения к французской романтической школе, тем более что само собою напрашивалось сопоставление «Мертвого осла и гильотинированной женщины» с «Последним днем приговоренного к смерти», уже известным в России (и даже появившимся в переводе в 1830 г.). Перу Виктора Гюго и приписывали многие на первых порах «Мертвого осла…», ставя его выше упомянутой повести вождя французских романтиков. Инкогнито нового автора не было раскрыто и после появления в следующем году в Париже второго романа Жанена «Исповедь» (тоже вызвавшего большой интерес в России), поскольку он вышел за подписью «Автор „Мертвого осла и гильотинированной женщины“». И нужна была чуткость Пушкина, чтобы усомниться в авторстве Гюго при первом же знакомстве с сочинением никому еще тогда не известного французского писателя.
Вероятно, Пушкина привлекало в Жанене именно изображение современной жизни, «ужасное в обыденном», потому что ему нравились не только произведения самого автора «Мертвого осла…», но и сочинения других писателей, следовавших его эстетике, в том числе «Примадонна и подручный мясника» Бюра де Гюржи. Во второй половине 1831 года Пушкин писал Е. М. Хитрово: «Очень вам благодарен за „Мясника“. В этой вещи чувствуется подлинный талант — но „Барнав“… „Барнав“…»[101]
О пристрастии русского поэта к французской прозе эпохи романтизма (поэзию он по большей части не принимал) говорит и то обстоятельство, что Пушкин хранил в своей библиотеке несколько номеров петербургского «Ревю этранжер» с литографированными портретами Гюго, Дюма и Жанена (в т. VIII)[102].
Неостывшее впечатление от «Последнего дня…» и «Мертвого осла…» просвечивает и в помещенной в «Литературной газете» (№ 5 за 1830 г., без подписи) заметке Пушкина относительно предстоявшего выхода в свет «Заметок Самсона, парижского палача». Размышления Пушкина о «свирепом фигляре, игравшем свою однообразную роль» на помосте гильотины, который в «течение сорока лет жизни своей присутствовал при последних содроганиях стольких жертв и славных и неизвестных, и священных и ненавистных»[103], почти совпадают с мыслями героя-рассказчика из «Мертвого осла…» при посещении им дома палача (глава XXVII романа).
Первый роман Жанена вызвал в России такой интерес, что сразу же был предпринят перевод его на русский язык; в 1831 году «Мертвый осел…» в русском издании увидел свет.
«Северная пчела» (№ 158 за 1831 г.) в разделе «Библиография», среди книг, вышедших в мае текущего года, объявила (под № 25) о публикации в анонимном переводе анонимного французского романа:
«Мертвый осел и обезглавленная женщина», перевод с французского, 2 части. Москва, в Университетской типографии, 1831; ч. I, 158 стр., ч. II, 179 стр. Цена 8 рублей. (Цензурное разрешение от декабря 22 дня 1830 г.)[104].
Это издание, ознакомившее с романом более широкие читательские круги, послужило сигналом к бурной полемике в русской критике и вокруг самого «Мертвого осла…», воспринятого как манифест «неистового» романтизма, и вокруг всего литературного направления, которое он представлял.
Споры о романтизме велись в России и до того. Во второй половине 1820-х годов увлечение «сатанинским» байронизмом стало уступать место влиянию немецкой философии, особенно Шеллинга, и возвеличиванию немецких романтиков; причем романтиками, наряду с братьями Шлегелями, Тиком и позднее Гофманом, почитались Гете и Шиллер. Немецкая литература как образец нравственного искусства противопоставлялась французской романтической школе, в которой усматривались разрушительные тенденции. Иные критики, как Н. Надеждин, с недоверием относились к романтизму как таковому. Другие, как Н. Полевой, сочувствовали романтическому направлению.
В 1830 году либеральный «Московский телеграф» Полевого (№ 10) напечатал большую статью в защиту романтизма за подписью «Н. П.» (Николай Полевой?) в связи с опубликованной латинской диссертацией Н. Надеждина «О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтической» (1830). Возражая Надеждину, считавшему романтизм, как и классицизм, архаичными формами искусства, автор статьи возмущается тем, что для Надеждина романтические произведения — это «нелепейшие и бессмысленные бредни, кои взрослым стыдно и слушать», и он сокрушается о том, что «целые народы на Романтизме с ума сошли». По словам автора статьи, «затеи поетических мятежников наших времен» потому отвергаются Надеждиным, что ему «Романтизм новейший представляется исчадием безбожия и революции».
Как следует из статьи в «Московском телеграфе», современники отдавали себе отчет в том, что начавшаяся на рубеже 1830-х годов эстетическая полемика имела политическую подоплеку. Действительно, литературные воззрения Надеждина (сохраненные им и в дальнейшем, как видно по его «Путевым заметкам», помещенным в «Телескопе» в 1836 г.) были близки к официальной оценке современной французской романтической литературы.
Еще в 1828 году реакционный цензурный устав 1826 года, принятый после восстания декабристов, был, по требованию царя и при участии шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа, дополнен двумя статьями, на основании которых Третьему отделению целиком передавалась цензура театральных пьес, газет, журналов и альманахов, а также вводилась цензура иностранных статей и книг. В марте 1831 года министр народного просвещения Ливен подал царю секретную записку об ответственности переводчиков иностранных книг и статей[105]. А вступивший в должность в 1832 году новый министр народного просвещения Уваров (в циркуляре от 27 июня того же года) призвал к борьбе «против этого рода сочинений, которые по господствующему в них духу и по ложным нравственным понятиям большей части новейших французских романистов не могут доставлять полезного общественного чтения. Содержа в себе предпочтительно изображение слабой стороны человеческой натуры, нравственного безобразия, необузданности страстей, пороков и преступлений, эти романы не иначе должны действовать на читателя, как ко вреду морального чувства и религиозных познаний»[106].
В соответствии с такой установкой была в 1831 году закрыта «Литературная газета» Дельвига за перепечатку четырех строк французского поэта Казимира Делавиня, в которых цензура усмотрела прославление Июльской революции 1830 года. А в 1834 году был запрещен, по настоянию Уварова, «Московский телеграф» Полевого; в докладе царю (от 21 марта 1834 г.) Уваров доносил: «Весьма многое, что появляется в злонамеренных французских журналах, „Телеграф“ старается передавать русским читателям с похвалою»[107].
Однако, несмотря на цензурные ограничения, романы и повести французских писателей в 1830—1840-е годы привлекали читательский интерес, постоянно печатались в русских журналах, ими занималась русская критика, нередко давая им полярно противоположную оценку. Это ясно показывает журнальная полемика вокруг «Мертвого осла…» Жюля Жанена.
Еще до публикации русского перевода этого романа на творческий дебют Жанена откликнулась «Литературная газета». В томе II, № 60 за 1830 год она поместила рецензию (предположительно Дельвига) на только что появившийся в Париже второй роман Жанена «Исповедь», отдельные главы из которого были затем напечатаны в следующих номерах той же газеты (№ 61 и № 62). В рецензии сочувственно цитировалось авторское предисловие к «Исповеди» и довольно подробно излагалось содержание этого произведения. «Главнейшее искусство Сочинителя, — писал рецензент, — еще сильнее обличающееся в первом его романе „L’âne mort“[108], состоит в равнодушном рассказе о событиях самых ужасных, в холодном описании предметов, возмущающих душу». И за это рецензент критикует автора, ибо, по его суждению, задача писателя «давать возвышенное направление своему веку, а не увлекаться его странностями и пороками». Правда, он тут же признает художественную значительность обоих французских произведений: «Мы должны отдать полную справедливость Автору, что он умеет живо схватить черты едва заметные, ощущения самые легкие и передать их верно, хотя и хладнокровно, вместе с теми, кои по свойству своему гораздо глубже и сильнее и которые резко означаются под пером его». В «Мертвом осле…» и «Исповеди» критик «Литературной газеты» уловил характерные черты романтического мироощущения: автор этих романов, пишет он, «кажется… хотел выразить дух современного поколения, прошедшего через все крайности, изведавшего все ужасы, охладевшего ко всему и на все взирающего с бесстрастием фаталиста мусульманского».
Благонамеренная «Северная пчела» отнеслась к «Мертвому ослу…» враждебно. На той же странице (в № 158 за 1831 г.), где помещено было объявление о выходе этой книги на русском языке, она начала печатать большую рецензию «Разбор романа „Мертвый осел и обезглавленная женщина“», продолжение которой последовало в № 159—162 газеты. В этой анонимной рецензии содержался жестокий разнос только что вышедшего из печати произведения. Рецензент «Северной пчелы», резко высказываясь против «романтической болезни», писал: «Чтобы убедиться в злокачественности этой литературной проказы», довольно прочитать переведенный на русский язык роман. «Его можно назвать венцом господствующего ныне грязного рода литературы. Эта квинтэссенция мерзостей, до каких в состоянии унизиться человеческая природа, возможна только французскому романтизму взбесившемуся». «Без нравственной тошноты нельзя следовать за автором в смрадную яму разврата и порока, по всем ступеням ее, начиная с первой, до самого гнусного злодейства. Мало того, что Сочинителю приносит незавидное удовольствие обнаружение отвратительной стороны человечества, он еще находит наслаждение чернить и марать чистое святилище самых лучших чувствований и святейших добродетелей — сердце женское. Дарование свое, которое отрицать было бы несправедливо, употребляет он на то, чтобы женщину вообще представить тварью самою презренною». И рецензент сожалеет, «что г. Переводчик убил свое время на переложение именно этого произведения». Рассуждая далее о нравственности в литературе, критик «Северной пчелы» противопоставляет автору «Мертвого осла…» немецких романтиков и взывает к «авторитету Шиллера и братьев Шлегелей», который в этой области для него «не подлежит сомнению».
Надо отметить, что русская критика, даже сочувствовавшая французской романтической школе, отнюдь не безоговорочно принимала эстетику «неистовой словесности». Так, «Московский телеграф» (1831, № 2) перепечатал статью из газеты «Журналь де Пари», где «Мертвый осел…» рассматривался как пародия и «отражение» «Последнего дня…» Гюго и выражалось недовольство смешением у Жанена «прелестных» и «шутовских» картин. Соглашаясь с этим, русский рецензент писал: «Могу ли я наслаждаться, когда вижу очаровательное лицо девы, на котором отвратительная прихоть живописца намазала гренадерские усы?» — и далее высказывался против «тягостного усилия выставить уклонения болезненной безобразной натуры» в романе; под конец, однако, выражал восхищение стилем автора «Мертвого осла…»: «Простим ему! Он художник! Может ли душа его не быть благородна? Среди стольких гадостей перо его сохранилось в удивительной чистоте, в удивительном целомудрии».
«Телескоп» (1831, ч. IV), возражая «Московскому телеграфу», утверждал, что «Мертвый осел…» — «не пародия, а продолжение ужасной пытки, начатой Виктором Гюго над бедною природой человеческой!». Рецензент в свою очередь восхищался «энергической дикостью языка» во французском романе, не видя, однако, в «Мертвом осле…» ничего, помимо «ужасной картины смрадного гниения нашего внутреннего организма», «трупа бытия», «во всей ужасающей наготе… освещенного ярким факелом фантазии».
Гораздо большей вдумчивостью отличалась рецензия на «Мертвого осла…», помещенная в «Сыне Отечества и Северном архиве» (1831, т. XXII). Рецензент, скрывшийся за инициалом «В.», в противоположность «Литературной газете» отмечает глубоко личный тон анонимного повествователя и потому ставит его «гораздо выше простого копииста автора „Последнего дня приговоренного к смерти“». «Было бы глубоким заблуждением, — пишет критик, — видеть в романе лишь ряд обнаженных чудовищ, с холодной рельефностью спокойно вылитых», — напротив, рецензент почувствовал в «Мертвом осле…» драматизм крушения романтической мечты и попытался определить общественно-исторические истоки этой драмы. Вслед за французской критикой отнеся роман Жанена к «стернианской» традиции, рецензент утверждает, что между мироощущением человека XVIII века и человека эпохи романтизма «вся разница… состоит во времени: любители отвлеченной природы силою истории изменились в любителей гражданственности, но характер Стерна и нашего героя один и тот же — болезненное, страдательное мышление, ведущее к сентиментальности, у первого пастушеской, у второго гражданской». По словам рецензента, в романе показано «прекрасное томление души, чувствующей сладость гармонии и пораженной отсутствием ее между собою и внешним миром». Поэтому он отказывается признать «Мертвого осла…» «литературным чудовищем, выставлением на позор нравственной жизни нашей, — скорее это есть громкий призыв духа человеческого к просвещению и жизни с верою и упованием».
Примечательно, что критик «Сына Отечества и Северного архива» не ограничивается общими положениями и занимается конкретным художественным анализом «Мертвого осла…». Он отмечает в романе отсутствие динамики, связного действия, видит «нагромождение целого мира опытов», «ряд происшествий без внутреннего отношения». «Представьте себе, — пишет он, — море, мгновенно остановленное: какое безобразие! Это то же болото, покрытое кочками; но пусть оно качается перед вами в своей колыбели: какое величие!» В романе же — по впечатлению критика — все лица «показаны без движения, отдельные рельефы, только что на одной доске». Отсюда и происходит, по его мнению, излишнее выпячивание низменных сторон действительности: герой-рассказчик «видел только, так сказать, плоскость жизни, а не нашел основы для собственного деятельного изложения».
В последующие годы упоминания о Жанене и о «Мертвом осле…» не сходили со страниц русских журналов, которые, особенно после закрытия «Литературной газеты», «Московского телеграфа», а затем и «Телескопа», оценивали и сам роман, и всю «школу Жанена» по большей части отрицательно. Тот же «Сын Отечества и Северный архив» в 1835 году (№ 150) явно отталкивался от «Мертвого осла…», когда писал об авторах «неистовых» романов: «Безмилосердно таскают они нас по тюрьмам, лазаретам, галерам, клоакам, анатомическим залам, где рассекают трупы, по местам лобным, словом, повсюду… где водятся зверства, муки и отчаяние человеческих созданий». «Северная пчела» (1833, № 54) иронизировала над «прелестями ужаса, какими отличаются творения нынешней плеяды французских романтиков»; а в 1834 году (№ 27) обрушилась на «жалких подражателей Гюго, Сю, Бальзака, Сент-Бёва, Дюмаса и проч., которые полагают, что нет искусства, нет литературы без неистовств, грязи, крови, отвратительных сцен, плахи и палача». В свою очередь «Библиотека для чтения» (1834, № 11) утверждала, что для литературы этого направления «злодеяния, убийство, посрамление женской чести, кровосмешение суть предметы повествовательного нравоучения».
О «Мертвом осле…» вспоминали и в связи с вопросом о смертной казни, и в связи с литературными произведениями, изображавшими падение чистой женщины, ибо в русской критике Жанен считался «Колумбом этого цикла»[109], и все истории подобного рода воспринимались как вариации «Мертвого осла…» (например, повесть Безумного «Любовь и долг»; Москва, 1834).
Насколько в 1830-е годы Жюль Жанен и другие современные французские писатели занимали умы русских литераторов, можно судить по тому факту, что «Библиотека для чтения», известная постоянными нападками на романтическую школу, поместила в 1834 году (т. I, № 1) статью Н. И. Греча под заглавием «Письмо в Париж к Якову Николаевичу Толстому», где содержался обзор текущей русской литературы и просьба к адресату (несколько лет проживавшему в Париже) сообщить сведения о французских писателях. «Любопытно было бы нам узнать некоторые подробности о нынешних героях Французской Словесности: опишите нам Ламартина, Делавиня, Гюго, Нодье, Дюмаса, Мериме, Герцогиню Абрантскую, Жанена, Бальзака; снимите маску с Библиофила Жакоба и Мишель-Ремона»[110].
Судя по письму В. Ф. Одоевского к Пушкину (от 17 сентября 1833 г.), существовал замысел коллективного сочинения, в котором участвовали бы Гоголь, Одоевский и Пушкин, под заглавием «Тройчатка, или Альманах в три этажа». Здесь предполагалось собрать сцены из жизни петербургского трехэтажного дома, наподобие того, как была описана жизнь пятиэтажного доходного дома парижского в «Исповеди» Жюля Жанена. Но Пушкин, ссылаясь на занятость, отказался, и замысел не был осуществлен[111].
Уже в год выхода русского перевода «Мертвого осла…» зарисовки парижского быта в этом романе сопоставлялись с реалиями российской действительности. Ходили даже слухи о том, будто автор побывал в России и отразил в своем произведении петербургские впечатления. Так, «Северный Меркурий» (1831, № 41) в полемике с «Литературными прибавлениями к Русскому Инвалиду» писал о «Мертвом осле…»: «Мы слышали, что сочинитель оного молодой французский автор г. Жанен некоторое время жил в Петербурге (по-видимому, не без наблюдения) и, по возвращении своем в Париж, написал упомянутое сочинение, в котором, по словам Воейкова[112], ярко и сходно изображена человеческая натура, униженная, искаженная, почти дьявольская»[113].
Имя Жанена вошло в России в то время не только в литературный, но и в бытовой обиход. П. В. Анненков вспоминает: «Надо сказать, что около 1832 г., когда я впервые познакомился с Гоголем, он дал своим товарищам по Нежинскому лицею и их приятелям прозвища, украсив их именами знаменитых писателей, которыми тогда восхищался весь Петербург. Не знаю почему я получил титул Жюль Жанена, под которым и состоял до конца»[114].
О популярности французских неистовых романов, в том числе и «Мертвого осла…» в русском быту свидетельствовал И. А. Гончаров в «Обыкновенной истории» (впервые напечатанной в «Современнике», в № 3 и № 4 за 1847 г.). Иронически повествуя о типичном воспитании в 1830-х годах петербургской светской барышни «классическим триумвиратом педагогов» (немцем, французом и русским), Гончаров пишет: «Француз усовершенствовал, наконец, воспитание Юлии тем, что познакомил ее уже не теоретически, а практически с новой школой французской литературы. Он давал ей наделавшие в свое время большого шуму „Le manuscrit vert“, „Les sept péchés capitaux“, „L’âne mort“[115] и целую фалангу книг, наводнявших тогда Францию и Европу. Бедная девушка с жадностью бросилась в этот безбрежный океан. Какими героями казались ей Жанены, Бальзаки, Друино — и целая вереница великих мужей! Что перед их дивными изображениями жалкая сказка о Вулкане? Венера перед этими новыми героинями просто невинность! И она жадно читала новую школу, вероятно, читает и теперь»[116].
В 1830-е годы русские журналы писали о зловредном влиянии французской «неистовой словесности» не только на отечественную литературу, но и на реальную жизнь. Так, «Библиотека для чтения» (1834, № 2) перепечатала из провинциальной французской газеты заметку о том, как некая дама, начитавшись «черных» романов, отравила мышьяком двух «прелестных молодых девиц» — «от ревности». «Сын Отечества» (1833, № 156) сообщил, на основании французских газетных источников, о самоубийстве двоих юношей, которые «задушились угольным дымом» по причинам «совершенно мнимым» и умерли в объятиях друг друга. «Они вообразили себе, что жизнь им надоела», «слепо вверились своей современной Пиитике, приняв ее за истину». Наконец утверждалось, что романтическая литература вредна для здоровья человека. «Литературные прибавления к Русскому инвалиду» (1835, № 7) напечатали в своей обработке французскую статью «О влиянии беснующейся (фантастической) литературы на здоровье», а «Сын Отечества» поместил (1835, № 7) ту же статью в иной обработке под заголовком «О гигиеническом влиянии чудесного в литературе»[117].
Следует, однако, отметить, что русская критика, с порицанием или одобрением, в зависимости от идейно-эстетической позиции рецензента, гораздо определеннее, чем это делала критика во Франции, выделяла в романтических произведениях, прежде всего в «Мертвом осле…» Жанена, социально-обличительные мотивы. «Московский телеграф» (1832, ч. XI, III) заявил, что Жанен «истощает все ужасы жизни человеческой», «срывая в своих романах маску с безобразного лица общества». «Сын Отечества» (1835, № 150) утверждал, что автор «Мертвого осла…» — «мизантроп», носящий маску «апостола отчаяния», «отшельничествующего кощуна», что мироощущение «неистовства» есть «глубочайшее презрение к сему негодному гаерству, которое мы называем обществом… открытая брань общественному союзу».
Передовые люди эпохи выступили в защиту современной французской литературы, в том числе и Жанена-романиста, от критических нападок, диктовавшихся политическими мотивами. В этой связи знаменательно выступление Пушкина. Поводом послужила произнесенная в 1836 году в Российской Императорской академии речь драматурга и переводчика Лобанова, на которую Пушкин откликнулся заметкой в «Современнике» (1836, № 3), озаглавленной: «Мнение М. Е. Лобанова о словесности, как иностранной, так и отечественной». Лобанов, эпигон классицизма, был яростным врагом французской романтической школы, клеймил ее за «безнравие» и «нелепость», за вредоносное влияние на русских писателей и требовал ужесточения цензурных ее преследований. «При сем случае, — писал Пушкин, — своды Академии огласились собственными именами Жюль Жанена, Евгения Сю и прочих…» И, желая вывести французских романтиков из-под удара, Пушкин отрицал безнравственность их творчества и его связь с актуальными политическими событиями: «Вопреки мнению г. Лобанова, мы не думаем, чтоб нынешние писатели представляли разбойников и палачей в образец для подражания… Мы не полагаем, чтобы нынешняя… французская словесность была следствием политических волнений… Литературные чудовища начали появляться уже в последние времена кроткого и благочестивого Восстановления (Restauration). Начало сему явлению должно искать в самой литературе», «где совершилась своя революция, чуждая политическому перевороту»[118].
Против осуждения французской литературы по политическим соображениям поднял голос в том же году и молодой Белинский, в связи с полемикой между «Телескопом» и «Московским наблюдателем». Последний журнал поместил (1835, ч. II) рецензию С. Шевырева на вышедший годом ранее сборник повестей Жюля Жанена, где критик объявил автора книги «символом литературы французской… плодом соединения литературы с торговлею». «Жюль Жанен плохой романист, — писал Шевырев, — он пошел в сатанинскую школу романистов, потому что мода этого требовала», — в чем убедится всякий, «кто имел терпение дочитать его „Барнава“, его „Мертвого осла и Казненную женщину“, или Обезглавленную, следуя Русскому переводу». «Жанен весь в слоге, тут его физиономия, и физиономия оригинальная». Его перо «очинено легко и свободно, это не перо, а живой, говорливый язык в руках у писателя». Но «его сфера — фельетон, на целую книгу его не хватает». Белинский ответил Шевыреву в статье «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя“» («Телескоп», 1836, № 5).
Отношение Белинского к современной французской литературе было достаточно сложным и критическим. Так, он не принимал Гюго, отрицательно оценивал Бальзака, причисляя его к «неистовой словесности». В статье, напечатанной в «Телескопе», он соглашался с тем, что «французской литературе недостает чистого, свободного творчества вследствие зависимости от политики, общественности и вообще национального характера французов, что ей вредит скорописность, дух не столько века, сколько дня», «жажда успеха во что бы то ни стало». «Все это можно приложить к романам и повестям Жанена, — продолжает критик, — и вследствие этого можно найти в них важные недостатки; но невозможно не признать в них следов яркого и сильного таланта». И Белинский встает на защиту «Аретина современной французской критики, знаменитого Жюля Жанена». «…нас крайне изумило, — пишет он о Шевыреве, — его мнение, что Жанен будто бы плохой романист. Плохой романист! Помилуйте, ведь это слишком много значит… Неужели таким считается во Франции автор „Барнава“?.. У всякого свой вкус, и мы не хотим переуверять г. Шевырева насчет истинного достоинства романов Жанена, но мы осмеливаемся иметь свой вкус и почитать романы Жанена хорошими, а не плохими… Поэтому мы сочли за долг заступиться за Жанена, как за романиста, сколько из любви к истине, столько и потому, что для нашей публики слишком достаточно возгласов „Библиотеки для чтения“ против французской словесности…»[119]
Позднее Белинский использовал имя Жанена в сатирических целях, изобразив, как на него пытаются опереться литературные пасквилянты. В статье «Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке», написанной в форме диалога двух персонажей, названных «А» и «Б» («Отечественные записки», 1842, т. XXIV, № 9), один из собеседников, «Б», расхваливая некую статейку против «Мертвых душ» Гоголя, восклицает:
— Жанен! Решительный Жанен!
На что «А» возражает:
— Ну, уж вот этого-то я и не скажу. Жанен — болтун… но все-таки болтун остроумный… и отличается тоном порядочных людей»[120].
Передовые русские современники уже в середине 1830-х годов пытались осмыслить литературу французского романтизма как культурно-историческое явление, определить ее сущность и причины ее возникновения. Молодой А. И. Герцен в статье «Гофман», впервые подписанной псевдонимом Искандер («Телескоп», 1836, ч. XXIII, № 10), размышлял так:
«Во Франции в конце прошлого столетия некогда было писать и читать романы, там занимались эпопеею… Но когда она успокоилась в объятиях Бурбонов, тогда ей был полный досуг писать всякую всячину. Знаете ли вы, что называется с похмелья? Это состояние, когда в голове пусто, в груди пусто, а между тем насилу поднимается голова и дышать тяжело. Точно в таком положении была Франция после 1815 года… Начали было писать романы по подобию Вальтера Скотта; не удались. Юная Франция столь же мало могла симпатизировать с Вальтером Скоттом, сколько с Веллингтоном и всем торизмом. И вот французы заменили это направление другим, более глубоким; и тут-то явились эти анатомические разъятия души человеческой, тут-то стали раскрывать все смердящие раны тела общественного, и романы сделали психологическими рассуждениями». И далее, в сноске, Герцен поясняет, каких он имел в виду французских писателей: «Бальзак, Сю, Ж. Жанен, А. де Виньи». Однако Жанена-романиста Герцен оценивал не слишком высоко. «Жюля Жанена натянутые, вытянутые, раскрашенные повести»[121], — писал он в той же статье.
Почти одновременно с Герценом и Гоголь в статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 годах», предназначенной для первого номера «Современника» (появилась в этом журнале в 1836 г. без подписи автора) и обдумывавшейся, вероятно, не без участия Пушкина, корил русские журналы этих лет за то, что они не объяснили, «что такое французская современная литература, отчего, откуда она произошла, что было поводом неправильного уклонения вкуса и в чем состоял ее характер?» «Французскую литературу одни приняли с детским энтузиазмом… — пишет Гоголь, — другие безотчетно поносили ее, а между тем сами писали во вкусе той же школы с еще большими несообразностями. Вопросом, отчего у нас в большом ходу водяные романы и повести, вовсе не занялись, а вместо того напустили своих собственных».
Как и Герцен, Гоголь связывал возникновение французского романтизма с европейской исторической действительностью: «В литературе всей Европы распространился беспокойный, волнующийся вкус. Явились опрометчивые, бессвязные, младенческие творения, но часто восторженные, пламенные — следствие политических волнений той страны, где рождались. Странная, мятежная, как комета, неорганизованная, как она, эта литература волновала Европу, быстро облетела все углы читающего мира»[122].
Однако интерес к французскому роману «неистовой» школы начал в России спадать по мере формирования реалистического направления в отечественной литературе, а также укрепления критического реализма в литературе самой Франции и других стран Запада. «Поверьте, что на ужасы и в Париже проходит уже мода. В. Гюго пишет теперь благочестивые стихи; г. Жанен в последнем романе[123] является большим скромником, — писала „Библиотека для чтения“ в 1836 году. — Слышите, господа, и в Париже ужасы уже не в моде»[124].
Пушкин в статье «Мнение Лобанова», цитированной выше, тоже отметил, что «„словесность отчаяния“ (как назвал ее Гете), „словесность сатаническая“ (как говорит Соутей)[125], словесность гальваническая, каторжная, пуншевая, кровавая, цигарочная и пр. — эта словесность, давно уже осужденная нашею критикою, начинает упадать даже во мнении публики».
А Белинский в обзоре «Русская литература в 1840 году» («Отечественные записки», т. XIV, № 1 за 1841 г.) писал: «Так называемая романтическая школа: Гюго, Сю, Жанен, Бальзак, Дюма, Жорж Занд и другие возникли и преходят на наших глазах и готовятся к смене: но как еще недавно ярка была их слава, как велико было их влияние! И что же они? что такое „Последний день осужденного к смерти“, „Мертвый осел и гильотинированная женщина“? что такое кровавые нелепости Александра Дюма? — протест человека против общества, апелляция человеческой личности на общество, поданная ею этому же самому обществу»[126].
В эти годы, как известно, эстетическая позиция Белинского менялась, он становился теоретиком нового, реалистического, «гоголевского» направления в литературе; он неоднократно высказывался о романтизме как о переходном и потому недолговечном явлении, и среди французских писателей, которых считал корифеями романтизма, постоянно называл Жюля Жанена: «Виктор Гюго, Бальзак, Дюма, Жанен, Сю, де Виньи, конечно, не громадные таланты, особенно пятеро последних; но все же это люди замечательно даровитые. И что же? — они не успели еще состариться, как их слава, занимавшая всю читающую Европу, умерла уже» («Речь о критике», «Отечественные записки», 1842, т. XXIV, № 9)[127].
Таким образом, и в 1840-е годы, когда созданы уже были почти все шедевры «Человеческой комедии», Белинский по-прежнему не усматривал принципиальной разницы между Бальзаком и романтиками. Но все же русский критик признавал, что у своих истоков французская «неистовая словесность» была значительным художественным явлением. В рецензии на роман Э. Сю «Тереза Дюнойе» («Современник», 1847, т. II, № 3, без подписи) он говорил: «Какое бы ни было направление французских романистов — Бальзака, Гюго, Жанена, Сю, Дюма и пр. в первую эпоху их деятельности, — оно имело свои хорошие стороны, потому что происходило от более или менее искренних личных убеждений и невольно выражало дух времени»[128]. И среди писателей, «выражавших дух времени», Белинский выделял Жанена — автора «Мертвого осла…». С тем большим негодованием наблюдал он обуржуазивание Жанена как критика и причислял его к таким литераторам, которые «бывают и мизантропами, и байронистами, а потом делаются мещанами, довольными собою и миром. Жюль Жанен начал свое поприще „Мертвым ослом и гильотинированной женщиною“, а оканчивает его продажными фельетонами в „Journal des Débats“, в котором основал себе доходную лавку похвал и браней, продающихся с молотка» (статья «Парижские тайны». — «Отечественные записки», 1844, т. XXIII, № 4)[129].
В русской литературе французская «неистовая» школа нашла подражателей главным образом среди той части писателей, которые — по насмешливому выражению Гоголя — приняли ее «с детским энтузиазмом»; в России тоже появлялись романы роковых страстей, тайн, ужасов, фантастики, нередко переносимых на национальную почву (Бестужев-Марлинский «Роман и Ольга», 1823; «Замок Нейгаузен», 1824; «Изменник», 1825; М. Погодин «Адель» и «Живописец», 1823; «Касимовские повести и предания» А. Павлова, 1836; «Именины» и «Ятаган» Н. Ф. Павлова — в составе «новых повестей», 1839; многочисленные повести Барона Брамбеуса (Сенковского). Но это были произведения второго ряда, порою на уровне расхожей беллетристики. Высокая русская литература развивалась по своим собственным закономерностям. Пушкин в той же статье 1836 года «Мнение Лобанова» утверждал, что влияние французской романтической словесности на русскую литературу «было слабо. Оно ограничивалось только переводами и кой-какими подражаниями, не имевшими большого успеха. Журналы наши… вообще оказались противниками новой романтической школы. Оригинальные романы, имевшие у нас наиболее успеха, принадлежат к роду нравоописательных и исторических. Лесаж и Вальтер Скотт служили им образцами, а не Бальзак и не Жюль Жанен»[130].
Гоголь, невзирая на неприятие «произведений преувеличенных и неестественных писателей нынешней французской школы», в 1830-е годы, как и Белинский, огульно не отрицал французских романтиков, однако резко протестовал против прямого им подражания. В цитированной выше статье он выступил прежде всего против Барона Брамбеуса (Сенковского), который, как критик «Библиотеки для чтения», «во всех книжках журнала всегда являлся громомечущим против французской литературы, подсмеивался над Бальзаком, Жаненом, Сю, Гюго, а между тем сам старался всеми силами писать в их духе», «не заметив того, что они имеют в себе истинно хорошего», и «схватился за одну наружную оболочку». В не вошедшем в окончательный текст гоголевской статьи черновом наброске говорится о Бароне Брамбеусе, «что если взять некоторые повести, то перед ними Жанены будут чистые и невинные». Поэтому, — делает вывод Гоголь, — «все его повести, мы должны искренно признаться, больше ничего, как пародия на повести французской школы»[131].
В 1840-е годы вышло на первый план реалистическое направление русской прозы, связанное с именами Гоголя и Белинского, получившее (с легкой руки Булгарина) наименование «натуральной школы» и представленное писателями, составившими затем славу отечественной литературы (Некрасов, Тургенев, Герцен, Достоевский, Салтыков-Щедрин и др.); романтизм потерял свое былое значение. Однако в некоторых литературных кругах бытовало мнение, будто беспощадная правдивость в изображении современной действительности позволяет считать русскую натуральную школу наследницей французской «неистовой словесности». Белинский называл такое мнение «нелепостью». В обзоре «Взгляд на русскую литературу в 1847 году» («Современник», т. VII, № 1 за 1848 г.) он писал:
«Какие произведения французской литературы причислены были у нас почему-то к неистовой школе? Первые романы Гюго (а в особенности его знаменитая „Notre-Dame de Paris“[132]), Сю, Дюма, „Мертвый осел и гильотинированная женщина“ Жюль Жанена. Не так ли? Кто теперь их помнит, когда сами авторы их давно уже приняли новое направление? И что составляло главный характер этих произведений, не лишенных, впрочем, своего рода достоинств? — преувеличение, мелодрама, трескучие эффекты. Представителем такого направления у нас был только Марлинский, а влияние Гоголя положило решительный конец этому направлению. Что же у него общего с натуральною школою?»[133]
И все же ближайшее знакомство с творчеством зачинателей натуральной школы не подтверждает столь категорического суждения Белинского. Французская «неистовая словесность», наряду с французским «физиологическим очерком», оставила свой след в русской литературе 1830—1840-х годов — не как образец для подражания, а как один из художественно переосмысленных элементов, органически вошедших в эстетику формировавшегося русского реализма. И тут прежде всего приходится говорить о Жюле Жанене как авторе романа «Мертвый осел и гильотинированная женщина». Сам Гоголь, невзирая на все оговорки, проявлял постоянный интерес к Жанену. Свидетельство тому, в частности, его рецензия «Сорок одна повесть лучших иностранных писателей», помещенная в «Современнике» (№ 1 за 1836 г.) в связи с изданием Н. Надеждиным в Москве, в виде двенадцати книжек, литературных произведений, печатавшихся до того в разные годы в «Телескопе». В числе авторов, намеченных Гоголем к рецензированию, значились Бальзак, Дюма и Жанен[134]. Жаненовский принцип изображения «ужасного в обыденном», контрастов низменного и поэтического в картинах жизни большого города, переплетение реального и фантастического, презрение к пошлости, сочувственно-ироническое изображение краха романтической мечты оказались близки Гоголю — автору петербургских повестей, прежде всего таких, как «Невский проспект» (начат в конце 1833 — начале 1834 г., опубликован в январе 1835 г. в составе первой части «Арабесок») и «Портрет» (в первой редакции опубликован там же). Впечатления от «Мертвого осла…» всплывают здесь и в общей интонации, и в теме, и в персонажах, и даже в отдельных эпизодах (как романтическая влюбленность молодого художника Пискарева в красавицу незнакомку, оказавшуюся проституткой, и описание публичного дома)[135].
Традиция физиологического очерка, одним из создателей которого был автор «Мертвого осла…», жанра, открывшего для французской литературы новую сферу художественного изображения действительности — жизнь и типаж современного большого города, — отозвалась в России в 1840-х годах в сборниках «Физиология Петербурга» (1845, ч. 1, 2) и «Петербургский сборник» (1846), изданных Некрасовым при участии крупнейших писателей реалистического направления и воспринятых как манифест натуральной школы.
Наконец изображение фантасмагории обыденности, ужаса, таящегося в будто бы прозаической повседневности, которое поразило первых читателей «Мертвого осла…», не оставило равнодушным молодого Достоевского. С новой художественной силой, с неизмеримо большею глубиною и трагизмом эта фантасмагория предстала на страницах его повестей 1840-х годов, таких как «Двойник» (1846), «Хозяйка» (1847), «Белые ночи» (1848), незавершенная «Неточка Незванова». Уже первые русские критики отметили в них не только связь с петербургскими повестями Гоголя и «гофмановские мотивы», но и эхо впечатлений от французского романтического романа. Эти впечатления отразились и в образах «молодых мечтателей», появившихся в произведениях Достоевского уже тех лет. Достоевский очень интересовался французской литературой, увлекался Эженом Сю, Жорж Санд, перевел на русский язык «Евгению Гранде» Бальзака (1844); позднее восхищался «Отверженными» Гюго. Воспоминания о «Последнем дне приговоренного к смерти» и «Мертвом осле и гильотинированной женщине» через много лет прозвучали отголосками в «Идиоте», в рассказе князя Мышкина о виденной им сцене восхождения смертника на эшафот.
В последующие десятилетия, когда время показало истинные масштабы дарования и значимость творчества каждого из тех французских писателей, которые начинали будто бы на равных в романтическую эпоху, когда в искусстве XIX века повсеместно возобладал реализм и появились новые громкие имена, романы Жюля Жанена, в том числе и «Мертвый осел и гильотинированная женщина» были в России забыты. Но широкая известность этой книги и живое восприятие ее читающей публикой и русской критикой в первой трети XIX века — еще одно доказательство плодотворности литературных связей, взаимно обогащающих национальную культуру разных стран.
Роман Жюля Жанена «Мертвый осел и гильотинированная женщина» впервые появился в Париже у издателя Бодуэна в мае 1829 года в двух томиках in-12, анонимно; имел шумный успех и многочисленные отклики в прессе. Это привело ко все новым и частым переизданиям книги в Париже и Брюсселе.
Убедившись в успехе произведения, автор (начиная с третьего издания 1832 г.) стал подписывать его своим именем. В четвертом издании (Париж, издатель Дюпон, 1837) Жанен произвел значительную переработку текста романа, исключил некоторые абзацы, переделал отдельные фразы, добавил целые страницы и новые эпизоды (например, чувствительную историю «зеленой вуальки»), убрал фигурировавшие в первых изданиях и модные в то время эпиграфы к каждой главе, на манер Вальтера Скотта; произвел он также ряд изменений принципиального характера (см. Послесловие к настоящей книге). К этому, четвертому, изданию автор присоединил ироническое «Предуведомление», где обосновал свою эстетику; здесь звучат отголоски полемики вокруг романа, разгоревшейся во французской прессе.
Начиная с шестого издания (1842 г.) роман Жанена начал появляться под заглавием «Мертвый осел», менее вызывающим, чем полное его первоначальное название, — это отражало постепенный отход автора от позиций «неистового романтизма». Однако и во Франции, и за ее пределами (в том числе и в России первой половины XIX в.) роман Жанена получил широкую известность под названием «Мертвый осел и гильотинированная женщина» — названием, более полно выражающим художественный замысел, идейную сущность и романтический дух этой книги. На этом основании мы сохраняем полное заглавие романа Жанена и в настоящем русском его издании.
Переработанный текст французского четвертого издания «Мертвого осла и гильотинированной женщины», 1837 года, можно считать окончательным. Этот текст использовался во всех последующих переизданиях романа, прижизненных и посмертных, вплоть до юбилейных изданий к столетию кончины Жюля Жанена[136]. Лег он в основу и нашего перевода.
Любопытно, что одним из первых откликнулся на публикацию «Мертвого осла и гильотинированной женщины» Бальзак, тогда еще пребывавший в приятельских отношениях с Жюлем Жаненом (охлаждение наступило несколько позже). Бальзак напечатал в газете «Волер» 5 февраля 1830 г. анонимную рецензию на роман Жанена, сопровожденную сочиненной им самим, будто бы заключительной, XXX главой «Мертвого осла…» (сохранилось письмо издателя «Волер», журналиста Эмиля Жирардена к Бальзаку по сему поводу)[137]. Рецензия была озаглавлена «Вскрытие трупа», глава — «Нож для разрезания бумаги». В созданной Бальзаком своего рода пародии на пародию нарочитое сгущение ужасов достигает апогея и имеется прямая ссылка на Виктора Гюго (см. примеч. 67 данной книги). Написанная Бальзаком глава XXX воспроизводится в современных французских изданиях «Мертвого осла…». Дана она и в нашем издании.

1
Панургово стадо. — В книге Франсуа Рабле (1594—1653) «Гаргантюа и Пантагрюэль» один из персонажей, Панург, купив у жадного купца за непомерную цену барана, выбрал вожака стада и выбросил его за борт корабля; остальные овцы попрыгали за вожаком, так что купец лишился всего своего состояния.
2
Водевиль. — Во Франции XVIII и начала XIX в. так назывались музыкальные, нередко сатирические куплеты, к которым в их устном хождении присочинялись все новые строки.
3
«Кукушка». — вид общественного транспорта, двухколесная коляска, которая курсировала в начале XIX в. между Парижем и близлежащими населенными пунктами.
4
Сезострис (Рамзес II) — египетский фараон XIV—XIII в. до н. э.
5
…в тот самый день, что и г-на Этьенна. — Этьенн Шарль-Гийом (1777—1845) — памфлетист и автор комедий; при Реставрации был изгнан из Французской Академии.
6
Анна Радклиф (1764—1823) — английская писательница, чьи «готические» или «черные» романы были весьма популярны во Франции начала XIX в. и послужили образцом для французских романтиков.
7
Аббат Делиль Жак (1738—1813) — французский поэт, автор описательной поэмы «Сады».
8
…литературным сеидом… — В трагедии Вольтера «Магомет» (1740) юноша Сеид, фанатический приверженец пророка, становится жертвой его лицемерия. Во Франции имя Сеида стало нарицательным.
9
Мильтон Джон (1608—1674) — английский поэт, в эпической поэме «Потерянный рай» рисует восстание сонма падших ангелов против небесного самодержца.
10
…Тассо лгал… — В поэме итальянского поэта Торквато Тассо (1544—1595) «Освобожденный Иерусалим» волшебница Армида держала в любовном плену в своем зачарованном дворце и садах юного крестоносца, рыцаря Ринальдо.
11
…в «Девственнице» Вольтера и в «Избиении младенцев». — Имеется в виду поэма Вольтера «Орлеанская девственница», рисующая в антиклерикально-сатирическом свете подвиги Жанны д’Арк в войне Франции с англичанами (XV в.). Библейский эпизод об истреблении по приказу царя Ирода всех новорожденных младенцев мужского пола при известии о рождении Иисуса Христа (Матф., II, 13—23) послужил сюжетом для многих произведений искусства, в том числе и картины французского художника Никола́ Пуссена (1594—1665).
12
…над которым потешался Депрео́. — Никола́ Буало-Депрео (1636—1711) — французский поэт, законодатель поэтики классицизма в литературе и театре; в дидактической поэме «Поэтическое искусство», среди прочих «правил» требовал, чтобы сюжет трагедии брался только из античной мифологии или истории.
13
…как Диоген сказал Александру… — По преданию, древнегреческий философ-киник Диоген (413—323 до н. э.), который презирал все социальные условности и жил в бочке, на вопрос царя Александра Македонского, есть ли у него какое-либо желание, ответил: «Да, не заслоняй мне солнце».
14
Буланже Луи (1806—1867) — французский художник, примыкавший к романтизму.
15
…осел Стерна. — В книге крупнейшего писателя английского сентиментализма Лоренса Стерна (1713—1768) «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» имеется эпизод, в котором бедный крестьянин оплакивает смерть своего кормильца-осла.
16
…чаша Родогунды, наполненная до краев Аристотелевым ядом… — В трагедии «Родогунда» одного из корифеев французского классицизма Пьера Корнеля (1616—1684) героиня в финале выпивает яд. Классицизм ссылался на поэтику древнегреческого философа Аристотеля (384—302 до н. э.).
17
…бывший король Франции с бритою головой. — Вероятно, имеется в виду гильотинированный во время революции, в 1793 году французский король Людовик XVI. Осужденным перед казнью сбривали на голове волосы. К якобинскому террору Жюль Жанен относился отрицательно.
18
…Баязет за его решеткой… — Имеется в виду Баязет, турецкий султан, завоеватель, разбитый и взятый в плен (в 1402 г.) персидским завоевателем Тимуром (Тамерланом). Герой одноименной трагедии Жана Расина (1639—1699).
19
Кардинал де Ла Балю Жан (1421—1491) — министр французского короля Людовика XI. Был посажен королем в железную клетку за участие в заговоре против него.
20
…будто попал на представление «Гофолии» или «Родогунды». — То есть на постановку устаревших, с точки зрения романтиков, и не имеющих уже успеха у публики классицистских трагедий. «Родогунда» — см. примеч. 16. «Гофолия» — трагедия Расина.
21
…подобно Марку Аврелию, желал умереть стоя. — Марк Аврелий — римский император (161—180), проповедовал философию стоицизма, славился мудростью и умеренностью.
22
…посредственных поэтов с Нового моста. — Этот старинный мост в Париже (построенный в XIII в. и соединивший два рукава Сены) был весь уставлен лавочками, в том числе книжными, которые исчезли только в 1854 г. Здесь продавались многочисленные песенники (в том числе тексты таких распевавшихся по всему городу песенок, как «Король Дагобер» или «Мальбрук в поход собрался»).
23
…шестой акт седьмого дня или седьмого года… — Романтики демонстративно нарушали «правила» классицизма, согласно которым в трагедии должно было быть пять актов, а все действие укладываться в двадцать четыре часа.
24
…Фонтенеля и Сегре. — Фонтенель Бернар де Бовье (1657—1757) — французский писатель, автор пасторалей, оперных либретто и галантных стихов; один из предшественников просветителей. Сегре Жан де (1626—1701) — французский поэт, автор «Эклог» в духе пасторальных произведений греческого поэта Феокрита и римского поэта Вергилия.
25
Сен-Пелажи — долговая тюрьма в Париже.
26
…гнусная толпа, что составляла некоторое время французскую нацию… — Намек на период Великой французской революции, которую Жанен и в других местах романа оценивает отрицательно.
27
Швейцарец склонял перед нею перья своей шляпы и звонко бряцал алебардою. — В 1820-е годы швейцарские наемные солдаты, служившие в личной охране французских королей (с XV в.), использовались также для службы в церковной полиции.
28
…лишиться в Бристоле только одного уха… — Речь, очевидно, идет о каторжной тюрьме. Уточнить по источникам не удалось.
29
Это путешествие в Брюссель… — То есть, бегство в Бельгию от преследования за банкротство.
30
Катон Утический (95—46 до н. э.) — римский полководец и политический деятель, который вел жизнь в соответствии с философией стоицизма; после военного поражения при Тарсе бросился на свой меч.
31
Бисетр — тюрьма в Париже и приют для проституток, престарелых и психически больных.
32
Перевод Инны Шафаренко.
33
…закаленное в Фюрансе. — Фюранс — река, приток Луары; считалось, что его вода великолепна для закаливания железа; ею пользовалось несколько оружейных заводов.
34
…букет флердоранжа, при виде которого я почти покраснел. — Флердоранж (померанцевые цветы) на свадебной фате невесты — символ девственной чистоты.
35
Боссюэ Жак Бенинь де (1627—1704) — французский католический прелат, славившийся своим красноречием.
36
…но я вспомнил г-на Ройе-Коллара, господ Лафайета, Себастьяни, г-на Лаффита, газету «Конститюсьоннель» и всю оппозицию. — В конце 1820-х годов во Франции пришло к власти крайне реакционное правительство «ультрароялистов», и встал вопрос о сохранении самого принципа конституционной монархии; новая умеренно-либеральная оппозиция уже подумывала о смене династии, ее девизом было «Да здравствует король, да здравствует Хартия!». В приведенных строках романа Жанен иронизирует над падением престижа короля Карла X Бурбона и попытками оппозиции добиться от него уступок. Ройе-Коллар Пьер-Поль (1763—1845) — в годы Реставрации теоретик и вождь умеренно-либеральной роялистской партии «доктринеров». Газета «Конститюсьоннель» — влиятельный орган этой партии. Лафайет Мари-Жозеф маркиз де (1757—1834) — видный политический деятель, генерал, в прошлом участник Войны за независимость в Америке и Великой французской революции; лидер партии «независимых» — либеральных роялистов накануне революции 1830 г., в которой сыграл активную роль. Себастьяни Орас, граф (1772—1851) — также деятель оппозиции, умеренный либерал, с 1827 г. занимал пост министра иностранных дел. Лаффит Жак (1767—1844) — французский банкир, крупный деятель либеральной оппозиции, сыграл заметную роль в революции 1830 г.
37
Сальватор Роза (1615—1673) — итальянский художник неаполитанской школы, автор колоритных полотен, изображающих боевые стычки, сражения, жанровые сцены.
38
…нынче заключает союз с папой, завтра — с императором… — То есть с папой римским и австрийским императором. В 1820-х годах Австрия захватила почти весь север Италии, некоторые австрийские гарнизоны располагались даже на территории Папской области. В стране шло национально-освободительное движение, охватившее разные слои общества.
39
Сбиры — название полицейских в Италии начала XIX в.
40
Сан-бенито — монашеское одеяние иезуитов, с колпаком, закрывающим лицо, на котором были проделаны прорези для глаз и рта.
41
Метастазио Пьетро (1698—1782) — итальянский поэт и драматург, автор лирических и героических трагедий, служивших либретто для опер.
42
…только одна чужеземная нация… со времен Лиги… — Имеются в виду швейцарские солдаты в охране французских королей (см. примеч. 27). Лига (точнее, Католическая лига) — объединение крупных феодалов-католиков против гугенотов во время религиозных войн во Франции во второй половине XVI в.
43
…Франция занята дебатами вокруг сметы на продовольственное содержание некоего министра. — В 1828 году в политической жизни Франции большой шум вызвало обсуждение в Палатах нового государственного бюджета.
44
…рассказом приговоренного, идущего на казнь. — Намек на только что (в феврале 1829 г.) вышедшую книгу Виктора Гюго «Последний день приговоренного к смерти».
45
…Ринальдо… в садах Армиды… — см. примеч. 10.
46
Беккария Чезаре (1738—1794) — выдающийся итальянский ученый-юрист; стремился гуманизировать правосудие, протестовал против смертной казни.
47
…как статуя Ниобеи… — Ниобея, жена фиванского царя Амфиона, гордясь своим многочисленным потомством, надменно отнеслась к богине Латоне, у которой было только двое детей. За это разгневанные боги умертвили всех детей Ниобеи, а ее превратили в статую (греч. миф.).
48
Малибран Мария-Фелисия (1808—1836) — знаменитая в свое время испанская певица; Паста (Джудитта Негри; 1798—1865) — знаменитая итальянская певица; пели во многих европейских оперных театрах; в 1820-х годах работали в Париже.
49
У самого Гарсии… — Гарсия Винсенте (Мануэль дель Пополо; 1775—1832) — выдающийся испанский певец и композитор; в 1820-х годах пел в парижских оперных театрах, прославился в роли Отелло.
50
…нового Релея… — По преданию, английский мореплаватель и политический деятель Уолтер Релей (1552—1613) однажды бросил свой плащ под ноги королеве Елизавете Тюдор.
51
…говорит им, как Ювенал… — Ювенал Децим Юний (ок. 60—140) — выдающийся римский поэт-сатирик.
52
…высунуть нос дальше Сент-Антуанского предместья. — Сент-Антуанское предместье в XIX в. — рабочий квартал Парижа.
53
«Королевский альманах» — был издан во Франции в 1699 г. В нем содержались сведения о знатных дворянских фамилиях.
54
Доколе же… [будешь Катилина, испытывать терпение наше…] — начало одной из речей знаменитого римского оратора Марка Туллия Цицерона (106—43 до н. э.).
55
Я присутствовал при ее утреннем туалете… — Все последующее описание времяпровождения героини романа Анриетты в тюремной камере, по мнению французских исследователей (в частности, Тристана Майа — см. послесловие к данному изд.), отражает впечатление Жюля Жанена от оды Андре Шенье (1762—1794) «Юная узница»; погибший на гильотине поэт был поднят на щит романтиками после публикации в 1819 г. сборника его стихотворений.
56
…такая книга уже написана. — Снова намек на книгу Виктора Гюго «Последний день приговоренного к смерти».
57
…Железная пасть в Венеции. — По обе стороны большой лестницы, ведущей во Дворец Дожей в Венеции, имеются скульптурные изображения львиных голов с открытой пастью, куда клали доносы; по поверью, в случае клеветы или оговора пасть смыкалась на руке доносчика.
58
Лалли-Талендаль (1702—1766) — французский вельможа, генерал. На посту губернатора французских владений в Индии провел неудачную экспедицию против англичан, был разбит и обвинен в измене; 19 месяцев без допросов провел в тюрьме Бастилия и через два года обезглавлен. Жестокость по отношению к Лалли-Талендалю вызвала протест со стороны Вольтера.
59
Мадам Элизабет (1764—1794) — младшая сестра французского короля Людовика XVI; во время революции была казнена по приговору трибунала.
60
…будущих Дюпюитренов. — Дюпюитрен Гийом (1777—1833) — выдающийся французский ученый-хирург.
61
Неаполитанское сопрано. — Намек на певцов-кастратов из церковного хора папы.
62
…я окунулся в Стикс. — Стикс (греч. миф.) — огненная река в подземном царстве мертвых, окунувшись в которую человек делается неуязвимым. Мать героя Ахилла окунула его младенцем в Стикс, чтобы предохранить от предсказанной ранней смерти, держа при этом за пятку; именно в пятку героя и попала впоследствии смертоносная отравленная стрела.
63
Эми Робсарт — героиня романа Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста» (1819), сюжет которого лег в основу ранней романтической драмы Виктора Гюго «Эми Робсарт».
64
Я предаюсь своим мыслям о причинах и следствиях… Ведь все так прекрасно! — Намек на философскую повесть Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759), в которой учитель Кандида, философ Панглосс, упорно твердит, вопреки фактам реальной жизни, что в мире царит предустановленная гармония, что все имеет свои причины и следствия и что «все к лучшему в этом лучшем из возможных миров».
65
Сразу же (лат.).
66
А, ее зовут Виргинией? — Имя Виргиния (от лат. virgo) означает Девственница. Это имя, в частности, носила юная чистая девушка, героиня популярного во Франции начала XIX в. идиллического романа «Поль и Виргиния» (1787) Жака-Анри Бернарден де Сен-Пьера.
67
…доброго пашу из оды г-на Виктора Гюго… — Имеется в виду стихотворение Виктора Гюго «Горе паши» из лирического сборника «Восточные мотивы» (1829), вышедшего в январе того же года, что и роман Жанена.
68
Jules Janin et son temps. Un moment du romantisme. Paris, 1974. Préface de P.-G. Castex. P. 14.
69
Bailbé J. Jules Janin. Une sensibilité littéraire et artistique. Paris, 1974. P. 7.
70
Balzac H. Lettres à l’Étrangère. Paris, 1899—1950, I. P. 26 (La lettre du 29 Mai — Juin 1833).
71
Гонкур де Э. и Ж. Дневник. В 2-х томах. Т. 1. М., 1964. С. 88.
72
Bodelaire Ch. L’Art romantique, ch. 25. (См. Jules Janin «L’âne mort». Verviers (Belgique) 1974. Préface de Tristan Maya. P. 18.)
73
Гонкур де Э. и Ж. Дневник. Цит. изд. Т. 1. С. 53—54.
74
Jules Janin et son temps. Op. cit. P. 137.
75
Гюго В. Собр. соч.: В 15 т. М., 1956. Т. 14. С. 50—51.
76
Baronian J.-В. Panorama de la littérature fantastique de langue française. Bruxelles, 1978. P. 51—52.
77
Ibid. P. 47.
78
Готье Т. Избр. произв.: В 2 т. М., 1972. Т. 1. С. 477.
79
См.: Тимохина Е. В. Неистовый романтизм и русская литература периода становления реализма. — В сб. «Художественное творчество и литературный процесс», вып. 5 (Томск, 1983. С. 125—134). Алавердов Ю. В. Романтический стиль в кривом зеркале пародии (Жюль Жанен, «Мертвый осел и гильотинированная женщина»). — В кн. «Стилистические проблемы французской литературы». Л., 1975. С. 16—26.
80
Gautier Th. Mademoiselle de Maupin. Paris, 1904. P. 13—14.
81
Бальзак О. Собр. соч.: В 15 т. М., 1953. Т. 7. С. 7.
82
Janin J. La Confession. Paris, 1861. P. 217—219.
83
Maya Tr. Op. cit. P. 17.
84
Цит. по кн.: Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. Л., 1960. С. 378.
85
История французской литературы. Т. II. М., 1956. С. 112.
86
Гонкур де Э. и Ж. Дневник. Цит. изд., т. II. С. 620.
87
Maya Tr. Op. cit. P. 16.
88
Bailbé J. М. Op. cit. P. 90.
89
Mirecourt Eug. Jules Janin. Paris, 1868; Mergier-Bourdeix. Les Amours de Jules Janin et le mariage de critique. Paris, 1968.
90
Milner Max. Le Romantisme. Paris, 1973. P. 346.
91
Baronian J.-В. Op. cit. P. 88.
92
Messac R. Le «Detective Novel» et l’influence de la pensée scientifique. Paris, 1929.
93
Mergier-Bourdeix. Op. cit. P. 23.
94
Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. Л., 1960. С. 10.
95
Пушкин блестяще охарактеризовал этот тип в гл. VII «Евгения Онегина», а затем сам выделил эти строки и привел их в заметке «О переводе романа Б. Констана „Адольф“», помещенной в «Литературной газете» № 1 за 1830 г. (см.: Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 6. С. 38—39). Далее цитаты даны по этому изданию.
96
Там же. Т. 5. С. 407.
97
Там же. Т. 9. С. 100.
98
Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 6. С. 330.
99
Модзалевский Б. Л. Библиотека Пушкина, СПб., 1910. С. 258.
100
Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 9. С. 307.
101
Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 10. С. 75.
102
Модзалевский Б. Л. Библиотека Пушкина. С. 370.
103
Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 6. С. 38.
104
Цитаты из русских журналов начала XIX века здесь и далее (кроме особо оговоренных случаев) даются по оригинальным изданиям этих журналов с библиографическими ссылками в тексте статьи.
105
Лемке М. Николаевские жандармы и литература. СПб., 1908. С. 80.
106
Цит. по кн.: Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. С. 403.
107
Лемке М. Цит. изд. С. 80.
108
«Мертвый осел» (фр.).
109
Виноградов В. В. Эволюция русского натурализма. Гоголь и Достоевский. Л., 1929. С. 203.
110
Герцогиня Лора д’Абрантес опубликовала «Воспоминания» о периоде наполеоновской Империи и Реставрации; «Библиофил Жакоб» — псевдоним близкого к романтикам французского писателя Поля Лакруа, автора многочисленных исторических романов, стилизованных под Средневековье и выходивших в 1820—1830-е годы; Мишель Ремон — псевдоним, под которым на рубеже 1830-х годов публиковали совместно сочиненные романы, в духе «неистового» романтизма, три французских писателя: Мишель Массон, Ремон Брюкнер и Леон Гозлан. Некоторые русские журналы считали Мишеля Ремона одним из вождей «неистовых» наряду с Жаненом и Гюго.
111
См.: Виноградов В. В. Цит. изд. С. 158—159.
112
Редактора «Литературных прибавлений».
113
Цит. по кн.: Виноградов В. В. С. 113—114.
114
Цит. по кн.: Виноградов В. В. С. 158.
115
«Зеленая рукопись», «Семь смертных грехов», «Мертвый осел» (фр.).
116
Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1952. Т. 1. С. 201.
117
Цит. по указанной выше книге В. В. Виноградова, с. 114.
118
Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 6. С. 123—124.
119
Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953, Т. XI. С. 142—143.
120
Там же. Т. VI. С. 352.
121
Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954. Т. 2. С. 69.
122
Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М., 1952. Т. 8. С. 171.
123
Вероятно, имеется в виду роман Жанена «Кратчайший путь», вышедший в том же, 1836 году.
124
Цит. по кн. В. В. Виноградова, с. 121.
125
Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 6. С. 124. Соутей — в современной транскрипции Саути Роберт (1774—1843), английский поэт-романтик.
126
Белинский В. Г. Цит. изд. Т. IV. С. 420.
127
Там же. Т. VI. С. 278.
128
Там же. Т. X. С. 109.
129
Там же. Т. VIII. С. 169.
130
Пушкин А. С. Цит. изд. Т. 6. С. 124—125.
131
Гоголь Н. В. Цит. изд. Т. 8. С. 128 и 527—528.
132
«Собор Парижской Богоматери» (фр.).
133
Белинский В. Г. Цит. изд. Т. X. С. 313.
134
Гоголь Н. В. Цит. изд. Т. 8. С. 197.
135
См. об этом подробнее в исследовании В. В. Виноградова «Жюль Жанен и Гоголь» («Литературная мысль», сб. III. Л., 1925), вошедшем в его книгу «Эволюция русского натурализма. Гоголь и Достоевский», с. 153—205. Автор ссылается также на доклад Г. А. Гуковского «Юношеские романы Жюля Жанена», прочитанный 23 февраля 1925 г. в секции новой и новейшей литературы ЛЯЗ при ЛГУ.
136
В том числе:
Janin Jules. «L’âne mort». Collection «Nouvelle bibliothèque romantique». Préambule de J.-M. Bailbé. Paris, Flammarion, 1973.
Этот текст перепечатан с седьмого издания романа (1847 г.), иллюстрированного гравюрами знаменитого романтического художника Тони Жоанно.
137
Balzac H. Correspondance. Paris, 1960. Т. 1. Р. 443—444.