Книга: Особый отряд 731
Особый отряд 731
В 1956 году в Японии вышла книга «Особый отряд 731». Она представляет собой попытку очевидца, выступающего под псевдонимом X. Акияма, рассказать об одной специальной части Квантунской армии — бактериологическом отряде, который тайно вел в Маньчжурии усиленную подготовку к бактериологической войне в больших масштабах.
Книга состоит из трех частей и послесловия.
В первой части говорится о том, как автор попал в отряд и стал служить в нем. Во второй части дается описание массового культивирования смертоносных бактерий, опытов на людях, диверсионных вылазок с целью заражения населения и т. п. Наконец, в третьей части автор рассказывает о поспешной ликвидации Отряда 731 в связи с быстрым продвижением наступавших советских войск и о чудовищных злодеяниях этого отряда, которые можно поставить в один ряд с преступлениями, совершенными в Освенциме, Бухенвальде и Майданеке.
Преступная деятельность японского бактериологического отряда была вскрыта в 1949 году в Хабаровске на судебном процессе по делу двенадцати бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия. Следствием было установлено, что, планируя и готовя агрессивную войну против СССР и против других государств, японские империалисты для достижения своих разбойничьих целей намеревались в широких масштабах использовать и частично использовали бактериологическое оружие. Факты грубого нарушения законов и обычаев войны бывшей японской императорской армией были также установлены Международным военным трибуналом в Токио в 1946 году.
Приводимые автором факты не только целиком и полностью подтверждают материалы следствия, но и значительно дополняют общую картину преступлений. Это отмечается и в послесловии японского издательства.
Таким образом, книга «Особый отряд 731» является еще одним и притом весьма убедительным доказательством преступлений против человечества, совершенных японской военщиной во главе с императором, по указу которого и был создан бактериологический отряд. Она служит обвинительным документом не только против тех, кто совершил преступления, но и против тех, кто в наши дни замышляет новые преступления против всего миролюбивого человечества.
Выпуская данную книгу на русском языке, издательство надеется, что она послужит делу скорейшего запрещения бактериологического оружия наряду с другими средствами массового поражения.
Должность с неизвестными обязанностями
Я попал в Маньчжурию в конце марта 1945 года по мобилизации учащихся. К этому времени Япония уже потеряла Манилу, остров Иводзиму, американская армия приближалась к Окинаве. Несмотря на это, я, тогда еще подросток, ученик четвертого класса средней школы, верил в конечную победу Японии. Несколько моих товарищей оставили школу и добровольно записались — кто в авиацию, кто в специальные офицерские училища. Я тоже твердо решил посвятить себя великому делу защиты родины и при первой возможности поступить в армию.
И вот однажды классный руководитель вызвал меня и спросил, не хочу ли я пойти в армию добровольцем.
Никаких подробностей он мне не сообщил, а только намекнул, что придется ехать в Маньчжурию, в Квантунскую армию. Это как раз совпадало с моей давней мечтой попасть на материк. Я находился под влиянием модных тогда военных рассказов и авантюрных романов о похождениях японцев на материке, но больше всего на меня действовали открытки, которые присылал служивший на СМЖД[1] брат. Виды на этих фотографиях были очень похожи на те прекрасные картины, какие я рисовал в своем воображении. Да и рассказы брата во время его приездов на побывку разжигали мое мальчишеское любопытство.
— Да, я хотел бы поехать туда, — ответил я. И учитель тотчас послал меня домой заручиться согласием родителей и велел к вечеру вернуться в школу с окончательным ответом.
Мой старший брат служил в армии, и от него давно не было вестей, поэтому родители, естественно, не хотели отпускать меня. Правда, отец протестовал не так уж сильно.
— Видно, уж ничего не поделаешь, коль ты решил ехать… — сказал он, но мать пыталась уговорить меня остаться.
— Все равно тебя скоро призовут, так зачем же очертя голову лезть в добровольцы?
Однако я твердо решил ехать, и все увещевания матери, которую беспокоила моя судьба, не могли изменить моего решения.
— Раз все равно придется ехать, так не лучше ли сделать это раньше? Так можно быстрее продвинуться по службе, — сказал я родителям.
Настояв на своем, я поспешил обратно в школу и сообщил учителю, что родители согласны. Учитель провел меня в приемную, где нас ждал вербовщик из армии, объезжавший средние школы ближних префектур.
Вербовщика звали Накано. Он являлся младшим армейским чиновником («ханнинкан»)[2] и носил нагрудный знак — белую звезду на темно-зеленом фоне и погоны с одним золотым просветом. Я с большой завистью смотрел на него, стараясь представить себе, как сам буду выглядеть в такой же великолепной форме.
— Учитель рассказал мне о твоих успехах в учебе, — ласково обратился ко мне Накано. — Такие молодые люди нам нужны. Мобилизация учащихся, которую мы проводим, равносильна призыву на военную службу, и ты должен гордиться этим…
Накано расспросил меня о состоянии здоровья, о семье, но о том, что мне хотелось знать больше всего, — о моих будущих обязанностях, — не сказал ничего определенного. Он вручил мне триста пятьдесят иен на подготовку к отъезду и предупредил:
— Жди повестки и будь готов отправиться в любой момент.
В то время триста пятьдесят иен были большими деньгами, и такая крупная сумма невольно вызывала какую-то тревогу даже в моей детской душе. Мне было известно, например, что старший сын наших соседей, который, окончив среднюю школу, поступил на службу в сельскую управу, получает всего тридцать пять иен в месяц, а месячное жалованье директора начальной школы было что-то около ста иен. «Что бы это значило? Интересно, что же мне придется делать?» — спрашивал я самого себя.
— Ну, Хиротян, у тебя будут, наверное, очень серьезные обязанности… Мы тебя хорошо соберем в дорогу! — cказали мне дома.
— Правда, сейчас ничего не купишь ни за какие деньги, — жаловалась соседям мать. Казалось, она была даже расстроена тем, что мне выдали столько денег. Может быть, ее страшила мысль, что эти деньги зачтут потом как компенсацию, которую получают родные погибшего. В самом деле, о каких расходах на так называемое «снаряжение в дорогу» могла идти речь, когда за деньги нельзя было достать не только одежду или обувь, но даже сладостей.
Об отъезде меня известили открыткой через четыре дня. Отец, обычно не баловавший нас своим вниманием, на этот раз заявил:
— Я пойду проводить тебя!
В пальто с бамбуковыми пуговицами, одетом поверх ученической формы из грубой материи темно-зеленого цвета, по рисунку напоминавшему москитную сетку, в ботинках старшего брата я покинул родной дом. Стоя у ворот, мать долго провожала меня взглядом. Вместе с отцом я пришел, как было указано в открытке, в городскую гостиницу.
Там уже было трое подростков. Один из них, Кусуно, оказался моим земляком, двое других были родом из соседней префектуры. В сопровождении родных, кроме меня, пришел только один Кусуно, тихий на вид мальчик.
Испытывая одинаковое чувство горечи расставания с детьми, мой отец и мать Кусуно разговорились.
— Мой мальчик еще ни разу никуда не уезжал, и меня очень тревожит, как ему там придется… Вы уж, пожалуйста, не обижайте его, очень прошу вас всех… — сказала мать Кусуно, простая на вид женщина, и даже поклонилась нам.
— Ничего, мой сынок тоже еще нигде не бывал… Они сразу подружатся. Ведь они солдаты-одногодки… — успокоил ее отец.
Он с гордостью произнес слова «солдаты-одногодки» и засмеялся. Мать Кусуно начала рассказывать ему про свою жизнь.
— Мой муж умер давно, и мне с трудом удалось отдать своего младшего в среднюю школу… Но я решила, что нельзя оставаться в стороне в такое время… да и учитель очень советовал.
Волосы ее уже тронула седина, и мы все трое с любопытством смотрели на эту пожилую женщину, прислушиваясь к ее словам. Кусуно, по-видимому, заметил это и сконфузился.
— Будет тебе, мама! — стыдливо проговорил он и умоляюще посмотрел на нее.
Вскоре мы остались одни. Накано заговорил с нами уже не так, как в первый раз. В его голосе звучали совсем другие нотки.
— С сегодняшнего дня вы находитесь на службе в армии. Вы должны проникнуться новым духом и быть стойкими и мужественными.
Из гостиницы мы отправились в Ионэхара. Там на платформе нас поджидали еще восемь подростков из разных префектур вместе со своим вербовщиком Такаяма.
Как раз в это время начался воздушный налет, и мы уже стали сомневаться, удастся ли нам выехать. Но скоро это опасение отпало. Мы были зачислены в армию по особому приказу, поэтому нас посадили в первый же эшелон вместе с курсантами. Прибыв в Симоносэки, мы присоединились к юношам из районов Кюсю, Сикоку, Тюгоку, Канто и Кансай в ожидании рейсового парохода в Корею.
В Корейском проливе на море и в воздухе господствовал противник, и целых два дня прошли в напрасном ожидании парохода. Тогда Накано и другой вербовщик — Оцуно — наняли рыболовное суденышко, на котором мы (нас было человек тридцать) глубокой ночью переправились в Хаката.
Настроение у всех стало падать. Мы начинали сознавать, что нас окружает какая-то тайна, и потому избегали даже дружеских бесед. Хотя теперь нас и связывала одна судьба, настоящей близости между нами не возникало.
На севере Кюсю как раз в это время цвели вишни. Но нам, с большим беспокойством ожидавшим судна, было не до них.
Наконец утром 31 марта на горизонте появились два белых парохода. В Хакате не было причала, и мы небольшими группами добирались до судов на шлюпках и взбирались на палубу по штормтрапу.
Однако мы не сразу вышли в море и снова чего-то ждали. Все с непривычки чувствовали себя в новой обстановке очень стесненно.
Нам не разрешалось ни открывать иллюминаторы, ни выходить на палубу. Так мы просидели взаперти до утра следующего дня. Мы изнывали от скуки и беспокойства, а к тому же давал себя знать и голод. Каждый из нас получал только по маленькой чашечке риса да вареную в сое соленую морскую капусту. Мы так были голодны, что нам хотелось есть даже во сне. У меня в мешке оставались рисовые лепешки, которые туда украдкой положила мать, но я, конечно, не мог съесть их один, а поделился с теми, кто оказался рядом, и прежде всего с Кусуно.
— Дай и мне одну! Ужасно хочется есть, — раздался голос за моей спиной. Это попросил Хаясида, который наблюдал за нами, стоя в стороне. В его тоне не было и намека на унижение. Мне понравился его открытый характер.
Вечером, когда я направился в умывальную, он пошел следом за мной и по дороге сказал:
— Твоя лепешка очень вкусная.
Потом он застенчиво спросил:
— А ты любишь сладкое?
— Ага, очень, — ответил я, задержавшись на минуту в дверях.
— Ну вот, как стемнеет… — загадочно проговорил Хаясида и отошел.
Вечером, когда я уже засыпал, Хаясида тихонько подошел ко мне и молча сунул мне в рот кусочек виноградного сахару. Он засмеялся, когда я вздрогнул от неожиданности, и от его открытой улыбки у меня на душе потеплело. С этого времени мы подружились.
Двое суток пароходы стояли на якоре и лишь на третий день около десяти часов утра отправились в рейс. Суда шли быстро, видимо опасаясь нападения неприятельских подводных лодок, и через каких-нибудь пять часов мы прибыли в Фузан[3].
В Фузане нас посадили в скорый поезд, идущий в Синьцзин[4]; конечная цель нашего путешествия все еще оставалась неизвестной. Проехав весь Корейский полуостров, мы оказались в Синьцзине. Днем нас водили в штаб Квантунской армии, Синьцзинский храм и парк Кодама, а ночью посадили в поезд, уходивший в Харбин.
Умытый свежей утренней росой Харбин показался мне сказочным городом. Над красными черепичными крышами поднимались окутанные легкой молочно-белой пеленой высокие кроны деревьев, откуда-то доносилась тихая музыка. Слышалось щебетание птиц.
Выйдя из вокзала, наша группа направилась в город. Вскоре мы остановились на углу Гиринской улицы. Перед нами было каменное двухэтажное здание с крышей в японском стиле и с какими-то узенькими входными дверями.
— Это, наверное, здесь? — зашептались мои соседи. Невыспавшиеся и усталые, мы все обрадовались: наконец-то прибыли к месту назначения!
Нас провели во внутренний двор здания. Армейский чиновник с золотым просветом и одной звездочкой на погонах поздравил всех с прибытием и сказал:
— Пока приедет машина, я вас сведу поесть!
Мы невольно переглянулись. У всех мелькнула одна и та же мысль: как, еще не здесь? Оказалось, что это был только пункт связи с нашей частью. В подвальчике, хозяином которого был русский, мы вволю поели карэ-райса[5]. Впервые с тех пор, как мы покинули родной дом, нас накормили досыта.
Хаясида, у которого старший брат служил в армии по найму, знал все ранги и права вольнонаемных армейских служащих. Он разъяснил нам, что человек, проводивший нас в столовую, относился к категории младших чиновников и имел чин, соответствовавший чину фельдфебеля.
Когда мы вернулись во двор, нам выдали шинели, сапоги, пистолеты и сабли.
— Ну вот, теперь вы стали служащими Маньчжурского отряда 731, — подбодрил нас начальник пункта связи.
На севере Маньчжурии весной холодно, и мы успели изрядно продрогнуть. Поэтому мы тут же переоделись в шинели, натянули теплые сапоги, и на наших посиневших от холода лицах вновь заиграл румянец. Разглядывая свое отражение в стеклянных дверях, молодые солдаты, между которыми начала завязываться дружба, весело хлопали друг друга по плечу.
Крытый брезентом военный грузовик пришел за нами лишь во втором часу пополудни. Нас молча посадили в машину, и она тронулась. Мы даже не могли определить направление движения. Сквозь маленькие застекленные круглые оконца в брезенте я видел поля и мелькавшие то здесь, то там памятники павшим в боях.
Грузовик мчался со страшной скоростью по пустынной, безлюдной дороге. Примерно через час машина резко сбавила скорость и, сделав несколько крутых поворотов, остановилась.
— Ну вот, и приехали, — сказал сопровождавший нас Накано.
Я соскочил на землю, залитую лучами весеннего солнца, и, как человек, едва очнувшийся от сна, жмурясь от ослепительного солнечного света, пытался осмыслить развернувшуюся передо мной картину. Нет, это не было игрой воображения, вызванной ослепительным сиянием солнца. В самом центре однообразной плоской равнины стояли высокие современные здания, чего я никак не ожидал.
В центре над всеми другими строениями возвышалось огромное четырехугольное, облицованное белыми плитками здание. Таких больших зданий я не видел ни в Осака, ни в Синьцзине, ни в Харбине, через которые мы проезжали по пути сюда. Озаренное лучами солнца, оно казалось ослепительно белым и высоко вздымалось, заслоняя небо. Здание было обнесено кирпичной стеной, поверх которой в несколько рядов была натянута колючая проволока. Оглянувшись, я увидел, что несколько дальше, позади нас, возвышался высокий земляной вал с колючей проволокой, и понял, что весь этот городок изолирован от внешнего мира. Этот вал, как я потом узнал, тянулся на пять километров, а центральное здание по объему было в три раза больше здания Марубиру в Токио.
Мы стояли на плацу перед казармами и учебными корпусами.
— Сейчас с вами будет говорить господин начальник учебного отдела. Становись! — скомандовал встретивший нас вольнонаемный Комия. Поручив нас другому вольнонаемному — Осуми, он побежал встречать начальника учебного отдела.
Судя по свирепому лицу Комия, это был злой и чванливый человек. Нам стало неприятно, что нами командует человек, который является всего лишь младшим военным чиновником, не говоря уж о Накано, перед которым мы также должны были держать себя соответственно его чину.
Место каждого в строю пока еще не было точно определено, поэтому после построения я, Хаясида и Кусуно оказались рядом.
— До чего страшно, — со вздохом тихо прошептал кто-то.
Внимание всех было приковано к громадным, внушительным зданиям, за которыми ничего нельзя было увидеть.
Мы еще не знали, где находимся, но чувствовали, что попали в часть особого назначения.
К востоку от здания, находившегося в центре, возвышалась огромная труба. Из нее клубами валил черный дым. Вдали за трубой виднелся аэродром. К западу от здания выстроились в ряд какие-то белые дома, похожие на больничные корпуса, склады и жилые постройки европейского типа.
Улыбаясь, Накано самодовольно произнес:
— Говорят, что труба вот той котельной по величине вторая в Маньчжурии. Ну как? Наверное, вы в первый раз в жизни видите такую большую трубу?
Но мы были не столько изумлены, сколько обеспокоены.
Как и все, я был подавлен видом проволочных заграждений и охвачен смутным чувством какого-то страха.
От беспечного настроения, с которым я ехал в Маньчжурию, не осталось и следа, и я впервые серьезно задумался о том, что меня ожидает здесь.
* * *
Начальником учебного отдела был подполковник медицинской службы Ниси. Когда он поднялся на возвышение, я по простоте душевной решил, что сейчас мы услышим о нашей службе, но Ниси произнес только обычное приветствие, поздравил нас с благополучным прибытием и, пожелав здоровья, призвал отдать все свои силы предстоящей службе.
Вечером за ужином нас накормили до отвала свининой, сладким пирогом и другими вкусными блюдами, о которых мы в Японии могли только мечтать. Так же сытно и вкусно кормили нас и потом.
На следующий день нас и еще человек сто, прибывших сюда в разное время, собрали вместе и разбили на учебные группы. Почти все мы были ровесниками, с той лишь разницей, что одни из нас окончили четыре класса средней школы, другие — полную среднюю школу, а некоторые — только начальную. Я и Хаясида хотели попасть в одну группу и встали в строй рядом, но нас разъединили. Я попал в четвертую, а Хаясида — в третью, В каждой группе было семнадцать-восемнадцать человек. В нашей группе начальником был вольнонаемный Осуми из Симоносэки, и мы облегченно вздохнули. В группе Хаясида начальником оказался Комия, который вчера произвел на нас такое отталкивающее впечатление.
Казармы, где нам предстояло жить, представляли собой небольшие одноэтажные бараки; посредине каждого из них тянулся проход, по обе стороны которого на некотором расстоянии от пола возвышались сплошные нары; на них лежали зачехленные постельные принадлежности. Казармы обогревались печами, в окна были вставлены двойные рамы. Ниже окон вдоль стены находились небольшие индивидуальные полки для личных вещей.
Жизнь в отряде регламентировалась обычными для каждой воинской части правилами, но материально нас обеспечивали несравненно лучше, чем это было в любой другой части. В Японии нам приходилось есть все вплоть до травы и отрубей, а здесь утром и вечером нас обильно кормили отборной пищей и только в обед иногда подбавляли соевые бобы, да в особые дни, установленные приказом для всей армии, давали вареный гаолян. В остальные же дни в наш дневной рацион, кроме риса, ежедневно входила свинина во всех видах. В лавочке, находившейся в расположении части, мы свободно могли покупать сакэ[6] и различные сладости.
Мой месячный оклад был невероятно высок. Помимо основного оклада — около ста иен, я получал фронтовые и надбавку за службу на опасной территории. Всего набиралось около трехсот иен, которые я при всем желании не смог бы истратить, да и тратить их было некуда. Все деньги, кроме тридцати иен на карманные расходы, я каждый месяц вносил на военную сберегательную книжку. До ста иен в месяц разрешалось высылать родителям. Об этом я написал матери. Указывая свой обратный адрес, я перед словами «731-й Маньчжурский отряд, учебный отдел» написал «Маньчжоу-Го, провинция Биньцзян, уезд Пинфань». Мне сделали замечание, что «никогда нельзя указывать местонахождение части и писать о том, что здесь делается», и приказали переписать письмо.
Пришлось переписать открытку. Я знал, что ее прочтет цензура, и потому не стал писать о нашей части. Впрочем, и эта открытка, попади она начальнику группы, возможно, показалась бы ему неосторожной, хотя я всего в двух-трех строках сообщал лишь о том, что жив и здоров, и спрашивал, нужно ли высылать деньги. Писать о своих впечатлениях, о городах, через которые мы проезжали по пути сюда, о моих здешних товарищах, очевидно, тоже было нельзя.
От матери пришел ответ. Она писала, чтобы я не беспокоился, так как дома все благополучно, а свои сбережения отдал бы родине.
— Замечательная у тебя мать! И ты крепись, не поддавайся, — с этими словами начальник группы Осуми передал мне открытку от матери.
Это было спустя месяц после приезда на место. Я еще не знал, почему следует так строго хранить тайну нашего пребывания здесь, но вскоре все стало ясно, и меня все чаще и острее мучило раскаяние: зачем я приехал в это страшное место.
Тюрьма под покровом военной тайны
Вскоре начались занятия. До полудня у нас была военная подготовка, а затем лекции по различным предметам, но изучение их было поставлено необычно. Кроме общеобразовательных предметов, мы слушали лекции о различных инфекционных заболеваниях: тифе, дизентерии, холере, дифтерии, туберкулезе, сапе, чуме и многих других. Нашими преподавателями были военные и вольнонаемные врачи. Все они имели высокие чины и ученые степени докторов медицинских наук.
Многие из нас не имели ни малейшего представления о заразных болезнях и испытывали одно лишь отвращение к ним, поэтому на лекциях мы чувствовали себя несколько подавленно. Мы были очень удивлены, узнав, что в японской армии имеется такой особый медицинский отряд, как наш. Очень скоро мы начали понимать в общих чертах его характер и назначение. Но мы не имели ни малейшего представления о том, к какой работе нас готовят, и даже не думали критически разобраться в смысле нашего обучения. Было похоже, что нас, не искушенных в жизни подростков, родившихся и выросших в глухих деревнях, собрали здесь, вдали от людей, чтобы подготовить к секретной службе. Ходили слухи, что после двух-трехлетнего обучения здесь нас пошлют в медицинский институт в Харбине и по достижении призывного возраста оставят в отряде в качестве лаборантов. Нам было суждено всю жизнь провести в отряде. Несмотря на это, мы прилежно изучали все предметы, которые нам преподавали: ведь нужно было сдавать экзамены.
— Выбросьте из головы мысль о том, что когда-нибудь вы вернетесь домой.
Эти слова начальников не шли в сравнение с банальным выражением в армии, вроде: «Не думайте, что вам удастся живыми вернуться на родину». В них явно сквозила тревога за сохранение тайны.
Кроме нас — в общей сложности около ста человек, прибывших сюда недавно, — большая часть личного состава отряда жила со своими семьями в казенных квартирах в трехэтажных зданиях европейского типа в западной части лагеря. Примерно половину из них — около двух тысяч человек — составляли военные и вольнонаемные врачи и другие специалисты, которые знали только квартиру да рабочее место в лаборатории. В расположении отряда находились крупные научно-исследовательские лаборатории, которые, конечно, не нужны для обычной воинской части. Были там также электростанции, различные склады, питомники для подопытных животных, лавка, спортивная площадка, небольшой парк, лекционный зал с киноаппаратурой, огороды, аэродром и даже бассейн для плавания и храм. Снабжение отряда всем необходимым и связь осуществлялись через военно-медицинское училище, находившееся в небольшом городке Синьсуяолинь. От железнодорожной станции Пинфань в расположении отряда была проложена железнодорожная ветка, с Харбином отряд связывало шоссе специального назначения, принадлежавшее отряду.
Вероятно, немногие даже из тех, кто жил в Маньчжурии, знали, что всего в двадцати километрах к югу от Харбина и в восьми с небольшим километрах к западу от станции Пинфань находится особый отряд с таким разнообразным хозяйством.
Район расположения отряда был объявлен запретной зоной. Никто не мог останавливаться ближе чем в десяти километрах от лагеря без специального пропуска, который мог быть выдан только штабом Квантунской армии. Лишь случайные пассажиры, изредка проезжавшие через Пинфань, издалека любовались величественной панорамой, которая, словно мираж, проплывала в потоках нагретого солнцем воздуха. На восточной и западной окраинах городка, кроме приданной отряду санитарной авиации для перевозки больных, размещались еще авиаотряды для непосредственной охраны лагеря с воздуха. Всем другим самолетам полеты над территорией отряда были категорически запрещены. Любому нарушителю грозил суд военного трибунала. Ворота на территории городка, разумеется, строго охранялись. Особенно тщательно охранялись обнесенные кирпичной стеной лаборатории в самом центре городка. Туда не мог пройти никто, даже из личного состава отряда, кроме тех, кто работал в них. У единственного входа в эту святую святых отряда постоянно находилась охрана из двадцати военных жандармов во главе с поручиком или подпоручиком. Охрана была настолько бдительной, что, казалось, муравей вряд ли прополз бы через ворота незамеченным.
У ворот бросался в глаза щит размером около трех квадратных метров, на котором тушью по-японски и по-китайски было написано:
Объявление
1. Вход без разрешения командующего Квантунской армии запрещается всем без исключения. Нарушители предаются суду военного трибунала и подвергаются суровому наказанию. Никакие оправдания во внимание не принимаются.
2. Лица, работающие здесь, обязаны предъявлять пропуска.
Командующий Квантунской армией (подпись отсутствует).
Командир отряда (подпись отсутствует).
* * *
В строгости охраны я имел случай убедиться на собственном опыте. Это произошло через несколько дней после нашего прибытия в отряд. Выполняя поручение учебного отдела, я и сослуживец Морисима вместе с двумя вольнонаемными сели в грузовик и выехали из расположения лагеря. Только отъехали от городка, как вольнонаемные, о чем-то переговорив друг с другом, неожиданно остановили машину.
— Вы должны вернуться в отряд, — сказали они.
Так как впереди был Харбин, где можно было развлечься, мы немного расстроились. Но делать было нечего, и пришлось сойти с грузовика.
Возвращаясь в лагерь, мы перепутали ворота и подошли к другим, приняв их за те, через которые только что выехали. Мы сразу поняли свою ошибку по тому, как пристально с ног да головы оглядели нас солдаты, охранявшие ворота.
— Нас двое; вероятно, можно ограничиться общим строевым приветствием, — сказал я Морисима.
— Наверное, можно. Давай командуй, — ответил он.
Видя, что Морисима сам твердо не знает, как поступить, я подал команду: «Тверже шаг!» — и, печатая шаг, мы направились в ворота. Охрана стояла по обе стороны ворот, и я не мог определить, кого же из них следует приветствовать. К тому же никто из них не имел знаков различия, и установить, кто старший по званию, было невозможно. Раздумывать было некогда, и я, решив приветствовать более многочисленную группу, подал команду: «Равнение налево!»
Но тотчас же послышалась команда: «Стой!».
Я интуитивно почувствовал, что приветствовал не так, как положено, но не знал, что делать, и, похолодев от страха, встал по стойке смирно.
— Фамилия? Какой части?
Мы облегченно вздохнули и, достав свои удостоверения личности, ответили.
Тот, кто остановил нас, перелистывая наши удостоверения, спросил фамилии старших начальников, дату рождения и в заключение приказал раздеться до пояса.
Нам ничего не оставалось, как выполнить приказание. Волнуясь, мы стали раздеваться. Вероятно, такая тщательная проверка лиц, еще недостаточно известных охране, была здесь обычным явлением. В удостоверение личности обязательно вносились даже самые незначительные особые приметы. Поэтому попытка любого, кто, выкрав удостоверение, захотел бы проникнуть в расположение отряда, окончилась бы провалом. Нам, подросткам, казалось, что, с точки зрения здравого смысла, достаточно сличить фотографии. Но охрана меньше всего думала о здравом смысле.
Впрочем, бессмысленным это казалось только на первый взгляд, а на самом деле оправдывалось интересами обеспечения безопасности.
Тайна отряда! Мы еще не знали, в чем она заключается, но уже чувствовали необходимость строгого сохранения ее.
Не прошло и четырех недель с начала изучения основ бактериологии и других предметов, как нам устроили экзамен, чтобы определить способности каждого. На практическую работу в лаборатории, скрытые за крепкими кирпичными стенами, и в другие здания, где требовалось соблюдать строжайшую тайну, попали только те, кого после экзамена приписали к какому-нибудь отделу. Если уж нас привезли сюда, преодолевая такие трудности и опасности, то, видимо, в наших руках испытывали большую нужду.
Из нашей учебной группы, состоявшей из семнадцати человек, отобрали только семерых.
В общий отдел попал Хаманака из Токио, я был зачислен в первый отдел, Кусуно, Моридзима из префектуры Иватэ и Сирояма из префектуры Вакаяма — во второй, Исицука из префектуры Кумамато и Канэи из префектуры Окаяма — в третий отдел. Остальным десяти наряду с военной и другой подготовкой пришлось выполнять сельскохозяйственные работы.
Нам семерым было запрещено рассказывать кому-либо или говорить между собой о содержании работы. Меня направили в первый отдел, в секцию чумы, где мой непосредственный начальник техник-лаборант Сагава строго предупредил: «Смотри, никому не рассказывай о своей работе, даже тем, кто живет вместе с тобой. Если проболтаешься, плохо тебе придется».
Все это делалось, вероятно, для того, чтобы никто в отряде, кроме самых старших офицеров, не знал о деятельности отряда в целом.
Мы, наша семерка, пожив вместе, очень подружились, и теперь, расставаясь, почувствовали какую-то пустоту.
Пришли новые люди из других групп, и мы вынуждены были перебраться в другие комнаты. Я, Хаманака, Моридзима и Кусуно снова поселились в одной комнате, но вместе мы бывали теперь только по утрам, во время поверки, да иногда на вечерних занятиях. Завтракали мы в столовой для холостяков и в половине восьмого расходились по своим рабочим местам.
Я слышал, что Хаясида тоже был приписан к отделу и оставлен здесь, но меня сильно беспокоило то, что я некоторое время не мог увидеться с ним.
Я работал в здании, где содержались подопытные животные. Это здание по форме и размерам напоминало школу. В нем держали лошадей, коров, овец, свиней, кур и кроликов, но больше всего там было мышей, крыс и морских свинок. Мне один раз пришлось увидеть все своими глазами, и, хотя пословица говорит, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, я не мог представить себе, как много их там было.
— Сколько всего их здесь? — спросил я как-то Сагава, и он, молча показав головой, все же ответил:
— Сколько, говоришь? Да одних мышей, пожалуй, будет около ста тысяч.
Куда бы я ни пошел, всюду в помещениях стоял противный запах мышей, напоминающий запах разложившейся мочи.
Всю черную работу выполняли маньчжуры[7], которых там было около сорока человек. Они косили траву, готовили корм, носили уголь, им не разрешалось выходить из расположения крысиного отряда. Эти несчастные были обречены жить там до самой смерти. На корм животным шло огромное количество зерна, проса и сои. Железобетонный склад, в котором хранился корм, достигал высоты пятиэтажного дома.
Я должен был смотреть за крысами, мышами и морскими свинками и учиться обращению с ними. Наблюдая за работой техника-лаборанта Сагава, я постепенно научился делать прививки животным, брать у них кровь, умерщвлять и препарировать их.
Два года назад мне приходилось иметь дело с мышами, и поэтому я немного знал, как нужно брать их руками. Считая мышей очень занятными тварями, я все же понимал, что не имеет смысла особенно беспокоиться oб их судьбе, но меня раздражало грубое обращение с животными. Когда выпустишь мышь на металлическую сетку клетки и возьмешь за хвостик, она начинает быстро перебирать лапками, тщетно пытаясь вырваться. Когда берешь ее за ушки или загривок, она так цепко держится своими розовыми лапками за сетку, что ее приходится отрывать силой. Чувство жалости не позволяло мне слишком бесцеремонно обращаться с этими крошечными зверьками, но я не хотел, чтобы смеялись над моей сентиментальностью, и старался выполнять все операции с таким же безразличием, как и другие.
Вскоре я неожиданно увидел Хаясида. Мы очень обрадовались, узнав, что будем работать вместе.
— Почему ты долго не появлялся? Тебя ведь тоже взяли? — сразу спросил я.
— Ладно, подожди. Я еще ничего не знаю — ни как кормить мышей, ни как обращаться с ними. Дай мне осмотреться. Потом поговорим, — ответил он и замолчал, так как к нам подошел Сагава.
Натянув тесные резиновые перчатки, мы выполняли работу, заданную накануне. Для Хаясида она была совсем незнакомой.
После полудня Сагава нужно было пойти куда-то. Уходя, он бросил Хаясида, у которого дело подвигалось медленно:
— А ты догоняй остальных быстрее.
Когда мы остались вдвоем, то, как это обычно бывает с людьми, которые давно не виделись, я не знал с чего начать наш разговор.
— У меня каждый день новое: вчера — лошади, сегодня — крысы. Если мы теперь надолго останемся вместе, то, как говорится, и в горе у нас будут радости, — сказал Хаясида, поднимая за хвостик мышь. Он проделал это упражнение несколько раз, строя уморительные гримасы.
— Меня очень ненавидит начальник группы. Этот Комия, стоит ему только увидеть меня, обязательно говорит что-нибудь унизительное. Просто несчастье какое-то, — продолжал он.
Когда мы еще учились, Комия, бывало, ночью приходил в свою группу и начинал спрашивать по материалу, пройденному днем. При этом он задавал каверзные вопросы, мучая всю группу. Видимо, он хотел, чтобы его группа имела самые хорошие показатели в учебе. Трудно сказать, по какой причине, но больше всех доставалось Хаясида.
— Эх, как вспомнишь об этом… — печально сказал он, сдерживая гнев. — Вчера я был в секции, где содержат лошадей. Меня там долго спрашивали, но я ничего не знаю. Поэтому меня, дурака из дураков, как и тебя, послали сюда, к крысам. С сегодняшнего дня я остаюсь здесь. Мне кажется, что тут будет лучше, только вот начальство твое…
Было ясно, что Хаясида боялся, думая, что ему и здесь устроят экзамен. Мне очень хотелось пригласить его к себе в комнату, но это, видимо, не разрешалось, а обратиться с просьбой к начальнику у меня не хватало храбрости.
В отделы из группы Хаясида попали только двое, так как результаты экзаменов были не блестящими. Похоже, что у Комия из-за этого было плохое настроение. И он ни за что не хотел выпускать из поля зрения того, кто из его группы оказывался приписанным к какому-нибудь отделу. По-видимому, он не отказался от этого даже тогда, когда мы перешли жить в другое помещение.
Вернувшись к себе в казарму, где нельзя было разговаривать о работе, я стал раздумывать о том, как бы помочь Хаясида. На следующий день я посоветовал ему обратиться к технику-лаборанту Сагава.
Нам страшно не нравилось притворяться глухими, и тем не менее мы вынуждены были прибегать к этому, хотя потом нам было неприятно. Но это не являлось коварством с нашей стороны, просто другого выхода не было.
— Когда спрашивает начальник о работе, можно, наверное, не отвечать ему? — начал Хаясида, обращаясь к Сагава.
Я слушал, повернувшись к нему боком.
— Спросит начальник? А как зовут твоего начальника? — резко спросил Сагава.
Я понял, что эти слова относятся не только к нему.
— Так знайте же, — продолжал Сагава, — для вас здесь нет ни начальника учебного отдела, ни начальника группы. Даже мы не имеем права говорить о нашей работе в семье. Поняли? Если кто еще будет задавать подобные глупые вопросы, скажите непременно мне, — закончил он.
Мы тогда облегченно вздохнули. Однако в конце концов этот разговор обернулся очень плохо. И с тех пор начальник группы Комия по каждому поводу стал бить Хаясида.
Вскоре я был переведен на работу в здание центральной части отряда за кирпичной стеной. Снова пришлось расстаться с Хаясида.
По-видимому, все это время Сагава приглядывался к нам, чтобы оставить того, кто ему больше понравится. И я попал в секцию Такаги, в которой работал он сам. Там моими новыми друзьями стали Хосака и Саса, которые пришли из другой секции.
Здесь, за кирпичной стеной, всю тяжелую работу выполняли маньчжуры, и сюда не имел права входить никто из работающих в других отделах.
В секции майора Такаги работали два инженера, семь техников-лаборантов, человек двадцать младшего обслуживающего персонала из вольнонаемных, а также один поручик медицинской службы и один офицер-стажер. Когда нас, троих новичков зачислили в эту секцию, то в ней стало около сорока человек.
Секция имела восемь лабораторий и ряд других помещений, в том числе хранилище для культивируемых смертоносных бактерий, помещения для приготовления питательной среды и выращивания бактерий, зал для совещаний, гардероб, душевую и др.
Вход в секцию закрывала темно-красная портьера; окна, если их можно назвать окнами, для защиты от мух были затянуты плотными металлическими сетками.
Казалось, что майор Такаги не особенно стремился привлекать нас к работе. «Что они могут делать, сорванцы», — говорил он с язвительной улыбкой. Однако он выделил одну комнату и все необходимое для занятий. В этой комнате до нас, видимо, кто-то занимался, так как на полках остались книги по бактериологии.
От военного врача Цудзицука мы получили белые защитные халаты, рабочую форму цвета хаки, резиновые сапоги и перчатки, маски и фуражки. На каждой вещи белой краской были написаны номер секции и личный номер.
— Вещь, которые вы сейчас получили, — это ваше основное оружие, особенно защитные халаты. Их можно носить только в лаборатории. Если нужно выйти наружу, то обязательно надевайте рабочую форму, — объяснил врач Цудзицука, хитро посматривая на нас. Он приказал стоявшему рядом технику-лаборанту Сагава выделить место в гардеробе для одежды.
Нам сразу бросилось в глаза, что врач старался держаться с достоинством.
Сагава сказал нам:
— Майор Такаги обеспокоен тем, что вы ничего не умеете делать. Вы должны учиться, не теряя ни минуты, чтобы как можно быстрее подготовиться к настоящей работе.
И мы стали учиться у товарищей, которые начали работать в секции раньше нас, и усиленно штудировать книги.
Однажды в субботу в начале мая я, Саса и Хосака, как обычно, сидели в отведенной нам комнате и читали книги по бактериологии. Было уже около пяти часов вечера, и мы собирались уходить, как в комнату вошел Сагава и сказал:
— Майор Такаги сейчас, по-видимому, находится в зале для совещаний в главном здании, а может быть, уже ушел совсем. Кто-нибудь из вас должен сходить туда и узнать, там ли он?
— Разрешите, — вызвался я и вышел из комнаты. Вход в главное здание находился в конце широкого коридора. Справа располагались лаборатории секции чумы, слева — секции холеры. Попасть в эти лаборатории без специального разрешения было невозможно. Подойдя к входу в главное здание, я спросил у часового, где находится майор Такаги. Часовой ответил, что майор уже ушел.
Возвращаясь обратно, я случайно глянул в окно, выходящее во двор, и увидел странную закрытую машину зеленого цвета, без окошек. Ее окружала охрана в штатском. Было ясно, что это переодетые жандармы. Охваченный любопытством, я остановился и стал наблюдать.
Я, разумеется, не ожидал увидеть что-либо интересное и развлекательное. Просто, еще толком не зная, в чем заключается задача нашего отряда, я, естественно, обращал внимание на все, что было непривычно для моих глаз.
Вспомнив, что в коридоре стоять не разрешается, я повернулся и снова пошел к главному зданию.
Около машины я увидел десятка два мужчин в наручниках и с завязанными глазами. Я сразу определил, что это были не японцы. Большинство из них были похожи на китайцев, пять-шесть человек имели русые волосы. Их выталкивали из машины через заднюю дверку. Двух-трех человек, которые не могли стоять на ногах, жандармы подхватили под руки и спустили на землю. Когда всех увели в главное здание через дверь, которой мы никогда не пользовались, я поспешно вернулся в свою комнату.
Доложив Сагава о майоре Такаги, я тихонько сказал Саса и Хосака:
— Вы знаете, что я сейчас видел! Привезли заключенных, причем не японцев. Охраняли их еще строже, чем нас. Все с повязками на глазах и в наручниках.
— Наверное, их привезли для работы, — сказал Хосака.
— Нет, не может быть, — с серьезным видом заметил Саса. — Ведь в главное здание не разрешается заходить никому, а тем более иностранцам. Где же их будут держать в заключении? Это, наверное, иностранные шпионы!
Саса слышал однажды разговор о том, что в отряд направляют пойманных шпионов.
— Шпионы они и есть, — утвердительно сказал он. Мне тоже сначала показалось это правдоподобным, но чем больше я думал о них, тем сильнее сомневался.
«Зачем же их привозят к нам в отряд? Где их держат?» — думал я. Гауптвахта находится рядом с учебным корпусом, и если их держат там, то незачем везти к главному зданию через двое охраняемых ворот. Кроме того, я никогда не слышал, чтобы иностранцев содержали на гауптвахте.
Вернувшись в этот день в казарму, я все смотрел в окна, думая снова увидеть людей в наручниках. Но вечером никаких признаков пребывания их в главном здании я не заметил.
— Наверное, в главном здании есть тюрьма? — спросил я Саса, вспомнив, что в одной комнате с ним живет человек, который работает в главном здании и, возможно, слышал об этом.
— Не знаю, но думаю, что никакой тюрьмы там нет, — ответил Саса.
На следующий день с полудня мы были свободны. У нас в отряде не было отдыха в воскресные дни. Я зашел за Хаясида, и мы пошли в поле, которое начиналось сразу за огородами. Греясь на солнышке, мы разговорились о заключенных.
— В главном здании, кажется, есть тюрьма. Говорят, там держат вражеских шпионов, — начал я.
— Вот как! Зачем же их привозят в отряд? Да и отряд наш какой-то непонятный. Я нисколько не чувствую, что нахожусь на военной службе, — сказал Хаясида.
Его мечты о настоящей службе в армии, навеянные рассказами старшего брата, оказались обманутыми. Ежедневно он возился с мышами и подвергался издевательствам со стороны Комия, который с самого начала относился к нему недоброжелательно.
* * *
Впоследствии я постоянно обращал внимание на проезжающие автомашины, но ничего подобного не замечал. Но вот однажды в субботу вечером Саса подбежал ко мне и тихо сказал:
— Я тоже видел! Сегодня около трех часов дня.
Вскоре мы заметили, что на нас стали обращать внимание. Каждую субботу в три часа дня в нашей комнате на окнах опускали темные шторы. Мы были уверены, что именно в это время привозили новых заключенных. Это поняли все. Даже в группе, занятой сельскохозяйственными работами, начались тайные разговоры о заключенных. Долгое время об этом говорили только в узком кругу друзей.
Где в действительности содержались таинственные заключенные? Этого никто не знал, и все строили всевозможные догадки.
Массовое культивирование бактерий чумы
Только было я немного освоился с работой в своей секции, как на меня возложили новую опасную обязанность. Как известно, чума — самая страшная из заразных болезней, поэтому даже опытные люди должны соблюдать крайнюю осторожность при обращении с чумным материалом. А мне как раз поручили пересаживать зараженных чумой крыс в специальные клетки и собирать с них блох. Кроме того, я должен был заражать чумой здоровых крыс, а затем вскрывать их, чтобы получить материал, необходимый для выращивания чумных бактерий.
Нам объяснили, что возбудитель чумы живет в организме мышей, крыс, сусликов и других диких грызунов и что в Маньчжурии ежегодно в ряде районов чума поражает людей. Если человека укусит блоха, напившаяся крови зараженной чумой крысы, то он заражается так называемой бубонной формой чумы. В слюне больных чумой, которая разбрызгивается при плевках и кашле, содержатся бациллы чумы. Когда они при вдыхании попадают в легкие другого человека, он заболевает легочной формой чумы. Если бациллы попадают на кожу, возникает бубонная форма чумы. При попадании же их в глаза человек заболевает глазной формой чумы. Заболевшие чумой почти никогда не выздоравливают.
Нам, с очень скудными медицинскими познаниями, все это было объяснено только в общих чертах. Мы узнали, что при легочной форме чумы быстро развивается воспаление легких. Мы узнали также, что при холере температура подскакивает до 45 градусов, происходит обезвоживание организма, человек высыхает, как мумия, и умирает. Когда мы представляли себе, какая опасность угрожает нам, у нас от страха буквально волосы вставали дыбом.
При чуме в тканях, окружающих лимфатические узлы, возникает воспаление и отечность; из-за подкожных кровоизлияний кожа на лице и груди принимает синюшный оттенок.
Эти рассказы о чуме вызывали в памяти страшные лица прокаженных или привидений из известных рассказов писателя Ецуя.
Теперь мы буквально боялись открывать рот и задерживали дыхание, чтобы не заразиться. Перед началом работы мы проходили обработку раствором карболовой кислоты. После работы делали то же самое.
Да и всякий раз, выходя из лаборатории, чтобы поесть или поговорить с кем-нибудь, мы обязательно мылись в душевой и проходили обработку дезинфицирующими растворами.
Мы имели дело с самыми разнообразными видами полевых мышей и крыс, которых ловили по всей Маньчжурии. Чтобы блохи не могли перепрыгнуть с одного хозяина на другого и укусить его, зверьков помещали в глубокие стеклянные банки, которые закрывались крышками из двойной проволочной сетки. Банки помещались в ящики, тоже обернутые металлической сеткой. Перед тем как войти в препараторскую, поверх белья, сшитого из плотной белой ткани, мы надевали защитные комбинезоны, резиновые перчатки и сапоги, а лица закрывали масками. Грызунов в банках убивали хлороформом, затем извлекали и гребнем вычесывали у них блох, которые подвергались дальнейшему исследованию под микроскопом. Мы препарировали множество мышей и крыс — носителей чумы, чтобы взять у них комочки свернувшейся крови. Определяли таких зверьков по опухшим лимфатическим узлам. При отсутствии этих признаков мы разрезали живот и извлекали селезенку.
В отличие от других грызунов мыши обладают одной характерной особенностью. Дело в том, что у них чумные бациллы в большом количестве скапливаются в сердце. Взяв кровь из сердца в качестве материала для посева, можно приготовить чистую культуру бактерий.
Хотя эта работа называлась исследовательской, на самом деле она проводилась только с целью получения болезнетворных бактерий. Именно для этой цели и заражали крыс и мышей. Разумеется, эта работа была проще, чем определение возбудителей болезни. Чтобы получить чумные бациллы в чистой культуре, применяли питательную среду, на которой особенно быстро растут именно эти бактерии. Мы не могли сами вести работу по отделению различных видов бактерий, и нам эту работу не поручали. Мы занимались только приготовлением чистой культуры чумных бацилл.
Работа эта требовала крайней осторожности, так как в случае заражения нельзя было рассчитывать на выздоровление. Подобные случаи всегда оканчиваются смертью.
При этой работе можно было не опасаться блох и мух, которые являются переносчиками заразы, поэтому мы выполняли ее более спокойно. Соблюдать большую тщательность при одевании, как это было необходимо, когда мы имели дело с мышами и крысами, уже не требовалось.
Кроме белых халатов, мы надевали только головной убор, резиновые перчатки и маски. Некоторые же работали в одном комбинезоне и маске и даже без перчаток.
— Мы все время должны быть начеку, — заботливо предупреждал нас один вольнонаемный лаборант по фамилии Коэда. — Вначале наше дело кажется очень трудным, но, привыкнув, можно научиться делать все быстро и безошибочно.
Знакомясь с нами, он сказал, что приехал сюда из префектуры Нагано и что он служит в отряде уже около двух с половиной лет. Среди многих служащих, мрачных и замкнутых людей, этот человек с открытым лицом и ясным взором выделялся, подобно яркому цветку среди мха.
При выращивании бактерий в качестве питательной среды иногда использовались куриные эмбрионы и пептон, но чаще для этой цели применяли агар-агар[8].
Пересев живых бактерий на свежие среды производился при помощи специальной платиновой петли. В лаборатории, где выращивались бактерии, вдоль стен тянулись полки с бесчисленным множеством пробирок со средами, которые хранились в наклонном положении.
Я не мог сразу освоиться с этой работой и нервничал, повторяя по нескольку раз одни и те же приемы. Чтобы не внести в среду посторонних бактерий, я каждый раз прокаливал платиновую петлю и открытый конец пробирки, затем осторожно, чтобы не коснуться самой петлей застывшей массы свежей питательной среды, наносил порцию питательной среды с живыми бактериями на кусочек агар-агара. После этого петлю, на которой оставалось немного старой питательной среды, надо было быстро, не давая бактериям улетучиваться в воздух, на секунду снова ввести в пламя горелки.
Закончив посев бактерий, я снова прокаливал открытый конец пробирки над пламенем горелки, затем затыкал пробирку ватой, наклеивал на нее этикетку с указанием вида бактерий и даты посева и ставил на полку. Через полтора-два дня пробирки упаковывались в ящики и на ручных тележках увозились в хранилище в главное здание.
К новой работе я приступил не без трепета. Впервые в жизни мне пришлось переступить порог лаборатории. Но механически повторяя одно и то же изо дня в день, я постепенно освоился с работой, понял ее опасность и окончательно упал духом. Временами я даже завидовал моим сверстникам, которые работали на полях под яркими лучами солнца. В душе у меня постепенно росла тревога, так как я не понимал еще смысла работы по размножению бактерий. Я рассуждал так: «Если все это служит делу медицины, призванной охранять жизнь людей, то она должна как-то содействовать мерам борьбы с заболеваниями. А здесь, наоборот, размножают опаснейшие бактерии».
Я рассказал о первом этапе работы, когда бактерии выращивали в пробирках, но вскоре, кроме пробирок, для этой цели стали применять специальные большие сосуды диаметром полтора-два метра, которые назывались культиваторами системы Исии. Эти культиваторы давали возможность выращивать микробы в огромных количествах.
Мне сказали, что ко времени моего прихода в лабораторию уже было получено около двадцати пяти килограммов смертоносных бактерий чумы, холеры, тифа, газовой гангрены и других болезней. Каждый грамм этих бактерий мог убить миллионы людей. Количество накопленных бактерий исчислялось астрономическими числами. Самые маленькие из тех пробирок, которые мы применяли, были около трех сантиметров в диаметре, а большинство пробирок было крупнее. Если даже считать, что в каждой пробирке содержалось хотя бы пятьдесят миллиграммов бактерий, то это означало, что в каждой пробирке насчитывалось около пяти миллионов бактерий.
Чтобы активность чумных бацилл не уменьшалась, необходимо было по крайней мере раз в месяц вводить их в живой организм. Поэтому одно хранение бактерий было ужасно обременительным делом. Я слышал, что только для культивирования и хранения бактерий требовалось более тысячи человек.
Короче говоря, на культивирование биологических агентов тратили больше сил и средств, чем на борьбу с эпидемиями. Причем это дьявольское производство непрерывно расширялось. Частенько нам приходилось задерживаться в лаборатории до глубокой ночи.
Во второй части книги я расскажу о том, что мне довелось услышать о производстве бактериологических бомб.
Чем чаще приходилось работать до глубокой ночи, тем мрачнее становились лица людей. Работа в лабораториях опостылела, к этому прибавилась безотчетная тоска по дому. Из-за постоянного переутомления и недосыпания голова все время была тяжелой, а взгляд становился блуждающим.
Такое состояние было очень опасным для нашей профессии. Работая с бактериями, нельзя отвлекаться ни на миг. Зазевавшись, можно уронить пробирку; a если при посеве культуры бактерий дрогнет рука, то может произойти непоправимое несчастье. Допустим, на палец попадут бактерии, человек забудет продезинфицировать руку и бактерии с пищей попадут в рот. В результате заражение и смерть неизбежны. Ведь бактерии не видишь невооруженным глазом. Следовательно, нервы постоянно напряжены. Когда возникает хоть малейшее подозрение, необходимо лишний раз вымыться и пройти обработку дезинфицирующим раствором.
Все это в конце концов так растрепало мои нервы, что выполнять проклятую работу стало невмоготу.
Меня раздражал уже один запах карболки. Когда усталость от недосыпания и нервное напряжение достигало предела, мне становилось страшно, появлялось желание умереть.
Порой старшим над нами случалось опаздывать, тогда мы прекращали работу и мечтали о возвращении домой. Но бывало и так. Когда мы уже заканчивали работу и, убрав все, собирались уходить, появлялся врач Цудзицука и заставлял нас мыть пробирки и другую посуду. Снова нужно было приниматься за работу. Как мы ни возмущались, приказ оставался приказом. Приходилось снова пачкать руки, и в душе нарастало недовольство. Наше недовольство не ускользало от внимания Цудзицука. И чем сильнее это задевало его самолюбие, тем больше прибавлялось у нас работы.
Теперь я окончательно убедился в том, что мне не повезло. Я ругал себя за то, что мне пришла в голову мысль поехать в Маньчжурию. Но было уже поздно жалеть об этом.
По ночам я не мог спать, ворочался на койке. Мое натруженное за день тело не находило покоя, а в голову лезли разные мысли. Снова и снова перед глазами вставали образы родной стороны. Я не раз давал себе клятву не думать о ней.
Жившие со мной в одной комнате Моридзима и Кусуно тосковали не меньше меня. Сначала я даже смеялся над Кусуно, который то и дело плакал, называл его хлюпиком и плаксой, но теперь я понимал его душевное состояние. Укрывшись с головой одеялом, я давал волю слезам. Становилось легче на душе, и я засыпал.
Один только Хаманака из общего отдела, казалось, не унывал. По-видимому, он не испытывал на работе таких огорчений, как мы. Он познакомился с одной девушкой — дочерью врача, служившего в отряде. К тому же, видимо, в общем отделе обстановка была не такой гнетущей, как у нас.
Со временем я сильно осунулся, глаза у меня ввалились, покраснели и стали трусливыми, как у зайца.
«Не лучше ли умереть сразу? А может, убежать?» — так шутили мы иногда, оставшись втроем — я, Саса и Хасака. Возможно, мои друзья думали об этом всерьез. Но совершить самоубийство не хватало духу, а побег был невозможен. Поэтому в конце концов мы на все махнули рукой.
Единственным человеком, который нас утешал, был вольнонаемный Коэда. Бывало, увидев, что на нас напала тоска, он говорил:
— Довольно хандрить, ребята, бодритесь! Пойдемте-ка лучше гулять в поле.
И он уводил нас на луг к аэродрому. Там мы боролись друг с другом или развлекались ловлей сусликов. Суслик роет нору обязательно с двумя выходами, и если стараться поймать его у одного выхода, он ускользнет через другой. Мы стремились найти оба выхода. Если нам это удавалось, то кто-нибудь караулил у одного выхода, а в другой лили воду. Спасаясь от воды, суслик высовывался из норки и попадал к нам в руки.
Коэда читал стихи и учил нас военным песням. От него мы выучили марш Квантунской армии и песню Управления по водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии[9]:
Взгляни, скоро тучи рассеются,
Наша императорская армия
Сделает легкой жизнь,
Сейчас еще тяжелую для народа.
Но, несмотря на бодрые слова этой песни, заходящее солнце казалось нам печальным. И, когда мы пели, повернувшись к красному от заката небу, нас еще больше начинала одолевать тоска по родине.
В свободное время мы писали домой письма, но ответ получали почему-то очень редко. Мы писали родителям, братьям, друзьям по школе, но в большинстве случаев так и не знали, получали ли они наши письма или нет.
Восьмого июня 1945 года, в день чтения императорских указов, нас построили на крыше главного корпуса. Церемония началась в восемь часов утра одновременно во всех подразделениях отряда. После церемонии поклонения императорскому дворцу и чтения императорских рескриптов к нам обратился с речью начальник первого отдела генерал-лейтенант медицинской службы Кикути, человек в летах, с бельми как снег волосами и глуховатым голосом. Он был пионером в отряде, которого сейчас боялся весь мир, и каждое его слово, казалось, находило отклик в наших сердцах.
Мы впервые поднялись на крышу этого высокого здания, с которого вокруг было видно далеко-далеко. Длинная и скучная церемония не вызвала у нас никакого интереса, если не считать того, что нам посчастливилось так близко увидеть генерал-лейтенанта Кикути. Однако возможность оглядеть окрестности нашего городка нам была очень кстати. Поэтому я почти не отрывал глаз от раскинувшегося передо мной вида.
До самой линии горизонта, затянутой легкой дымкой, простиралась обширная равнина. Как на ладони лежала перед нами территория нашего отряда, и я, постоянно запертый в четырех стенах лаборатории, созерцал эту картину с таким освежающим чувством, будто мне удалось вырваться на волю. Дул слабый утренний ветерок, рыбьей чешуйкой светилось еще совсем нежаркое утреннее солнце.
Стараясь не потерять даром ни секунды из объявленного после церемонии короткого перерыва, я жадно смотрел на бескрайнюю маньчжурскую степь. Временами мои глаза отыскивали на ее бескрайних просторах то крохотные, будто игрушечные, постройки станции Пинфань, находившейся почти в восьми километрах от нас, то красную крышу ламаистского храма, то далекий тающий в лиловой дымке памятник павшим японским воинам в Харбине.
Я не заметил, как ко мне подошел Саса. С таинственным видом, словно собираясь сообщить что-то очень важное, он сказал:
— Пойдем скорей туда, посмотрим.
Я последовал за ним. Мы подошли к краю крыши у внутренней стороны здания, и я застыл на месте, как вкопанный.
До сих пор, видя главный корпус только с внешней стороны, я был уверен, что это обычное четырехугольное здание. Но теперь я увидел, что оно построено в виде замкнутого четырехугольника. Внутри него находился узкий двор, напоминавший глубокое ущелье с отвесными скалами, на дне которого притаилось небольшое приземистое строение. Кое-где в стенах его виднелись маленькие оконца, едва пропускавшие свет. Солнечные лучи никогда не падали на эту мрачную каменную глыбу.
Несомненно, это была тюрьма. Ни я, ни Саса долго не могли произнести ни слова. Мы чувствовали себя так, будто увидели что-то запретное. Глаза наши выражали удивление и любопытство, щеки горели: «Так вот куда мы попали!»
Делая вид, будто мы ничего не замечаем, я и Саса медленно передвигались по краю крыши и смотрели вниз. Мы заметили, что тюрьма с обеих сторон соединялась с главным зданием крытыми переходами. Казалось, что она, будто нарост, прилепилась к нему с обеих сторон своими отростками.
— Ой, смотри, там кто-то есть! — понизив голос, воскликнул я, толкнув Саса локтем.
Один из тех странных людей, которых я случайно увидел накануне, когда их выводили из закрытой машины, прогуливался по внутреннему дворику. Узник двигался медленно, едва волоча массивные железные цепи, в которые он был закован. У него был вид человека, который отрешился от всего.
Мы все поняли. Недаром вход в центральный коридор так тщательно запирался, а окна, обращенные во двор главного здания, были закрыты ставнями.
— Вот кого следует пожалеть больше, чем нас! — сказал я.
— Да, каждый день видеть только один маленький квадратик неба… — посочувствовал Саса.
Другие наши товарищи по работе, подзывая друг друга, тоже наблюдали за этим несчастным.
Вскоре прозвучал сигнал, возвещавший о начале занятий, и мы гуськом спустились вниз. Видно было, что никому не хотелось уходить — ни нам, новичкам, впервые поднявшимся на крышу главного здания, ни тем, кто начал работать здесь раньше, но тоже редко получал эту возможность.
Дойдя до середины лестницы, я увидел впереди себя Хосака. С ним был его приятель, земляк. Я догнал их.
— Видели?
Оба утвердительно кивнули головами. По их лицам было заметно, что и они ошеломлены виденным во дворе.
В этот день мы, новички, были взволнованы и подавлены неожиданным открытием и строили всевозможные догадки и предположения. Может быть, нас умышленно вывели на крышу? Может быть, вместо того, чтобы усиливать наши подозрения излишней скрытностью, нам, обреченным оставаться здесь до самой смерти, исподволь открывали то, что было совершенно секретным? Старшие же сохраняли обычный невозмутимый вид. Казалось, наши мысли нисколько не интересовали их.
Но зачем же в медицинском отряде тюрьма? Для этого непременно должна быть какая-то очень важная причина. Причина, которая заставляла хранить в тайне не только создание бактериологических бомб, но и скрывать, что в отряде есть тюрьма…
— Послушай, а в твоей секции чем занимаются?
— Чем?.. Разве ты не знаешь, что о таких вещах не болтают?
— Плевать… Ведь это между нами, так что нечего бояться…
Такие разговоры появились теперь у нас в казарме после отбоя. Самым молчаливым был Морисима из префектуры Иватэ. Он редко заговаривал первым. Поистине мучительно скрывать друг от друга секреты, когда живешь в одной комнате и работаешь под одной крышей. Только в откровенном разговоре с товарищами можно было отвести душу в гнетущей обстановке тоскливой жизни в отряде, где не было никаких развлечений. Мы прожили вместе целый месяц, но до сих пор не сблизились по-настоящему. Тяжкое бремя тайны заставляло каждого из нас держаться обособленно. Но в конце концов мы не выдержали.
В дружеских беседах между собой мы стали выяснять назначение отряда, о котором нам до сих пор ничего не говорили. И постепенно мы начали все серьезнее задумываться над своей незавидной долей.
* * *
Отряд состоял из трех номерных отделов: первого, второго и третьего; кроме того, было еще два отряда: общий и учебный[10].
В первом отделе изучали применение бактерий — возбудителей таких заразных болезней, как чума, холера, тиф, дифтерит, туберкулез, газовая гангрена, сап и другие, и меры защиты от них.
Второй отдел работал над проблемами изготовления бактериологических бомб и фильтров, а также изучал эффективность действия средств бактериологической войны в различных метеорологических условиях. Этому отделу была придана авиационная группа из семи транспортных самолетов.
Третий отдел, или секция Асахина, изучал различные виды бактерий, предназначавшихся для заражения сельскохозяйственных культур — зерновых, бобовых, кукурузы.
Кусуно и Морисима служили в секции метеорологии, но, кроме ведения метеорологических наблюдений, им нередко приходилось с поручениями бывать в разных уголках расположения отряда.
Хаманака из общего отдела рассказывал, что в Хайларе, Нуньцзяне, Хэйхэ и Муданьцзяне имеются филиалы отряда, а в Аньда — полигон для испытаний. Ходили слухи, что в горах Северной Кореи у второго отдела есть целый подземный завод, где ведутся исследовательские работы над смертоносными лучами и атомной бомбой. Еще дома мне приходилось слышать разговоры о том, что Япония готовит какое-то особое оружие, и теперь я все больше верил всем этим слухам.
— Подумать только, говорят, что на наш отряд в год расходуется десять миллионов иен. Такие деньги просто так не стали бы тратить на один отряд. Наверное, на это оружие они и идут, — как-то заявил Хаманака, явно гордясь даже теми скудными сведениями, которые ему удалось добыть.
Хотя мы назывались всего лишь отрядом, у нас было три генерал-лейтенанта медицинской службы, пять или шесть генерал-майоров, около шестнадцати полковников, больше двадцати подполковников и майоров, а младших офицеров и кандидатов в офицеры — почти триста человек. Очень многие служили здесь по вольному найму. Говорили, что в отряд почти со всей Японии собраны доктора медицины, работающие в области бактериологии, причем приравненных к генералам среди них было больше десяти человек, а к полковникам — более тридцати. Всего в отряде насчитывалось свыше двух тысяч человек. Мне приходилось слышать, что именно Отряд 731 был для военных врачей единственным путем к карьере. Не послужив здесь, им нечего было надеяться на продвижение по службе.
Но тогда я еще не знал, что бактериями, в культивировании которых я принимал участие, будут заряжены авиабомбы, не знал, какой поражающей силой они обладают. Прошло значительное время, пока я узнал об этом во всех деталях.
* * *
Была середина июня. Однажды вечером техник-лаборант Сагава вошел к нам с бумагой в руке и заявил:
— Получен приказ по отряду. Слушайте, я зачитаю его. — И он начал читать.
Смысл приказа сводился к тому, что служащие отряда должны усилить бдительность, чтобы об отряде не пронюхали шпионы, и с еще большим рвением относиться к своим обязанностям.
— Коротко сообщу вам, почему вышел такой приказ, — сказал Сагава, окончив чтение.
Он разъяснил, что советские войска захватили в целости и сохранности немецкие бактериологические лаборатории, с которыми наш отряд обменивался материалами, в результате чего стало известно и об исследованиях, которые проводятся у нас. И вот теперь Советский Союз все энергичнее настаивает на проведении расследования.
— Исследования в области бактериологической войны ведет не только Германия, — добавил Сагава, — но и Америка, и Советский Союз. Но только нам удалось создать бактериологическую бомбу, годную для практического применения. Поэтому вы, члены отряда, который держит в руках ключ к окончательной победе, должны понять всю серьезность положения, проникнуться сознанием гордости за свое отечество и хранить военную тайну… Кстати, сегодня я расскажу вам историю нашего отряда.
Мы — трое новичков и двое служащих, поступивших в отряд всего на полгода раньше нас, — уселись вокруг Сагава и приготовились слушать. Вот что мы узнали из его рассказа.
До событий на Халхин-Голе в 1939 году существовало Управление по водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии, которое возглавлял нынешний начальник первого отдела генерал-лейтенант Кикути. Вначале главной задачей этого Управления было обеспечение армии питьевой водой, проверка пригодности пищевых продуктов и борьба с местными эпидемическими заболеваниями, от которых страдали солдаты. Формы заболеваний, возникавших по неизвестным причинам, были различны в разных районах. Кроме того, подчас не успевали специалисты изучить возбудителя, как болезнь сама собой прекращалась. Для удобства заболеваниям давали название соответствующей местности: лихорадка Хэйхэ, лихорадка Суньу и т. п.
Во время событий на Халхин-Голе обратили внимание на то, что можно не только предотвращать заболевания, но и эффективно использовать их в наступательных целях.
Под давлением мотомехчастей Красной Армии японские войска были вынуждены отступать, но при этом они стремились во что бы то ни стало удержать водоемы — источники водоснабжения. Кто контролирует водоемы, тот сохраняет господствующее положение на поле боя. Заботиться об удержании водоемов тоже входило в обязанности Управления по водоснабжению армии.
Однажды Управлению приказали заразить воду в верховьях реки Халхин-Гол — источника воды для всего прилегающего к ней района — бактериями тифа, холеры и чумы с целью вынудить противника к отступлению. Это было смертельно опасное задание. При его выполнении погибло более тридцати армейских и вольнонаемных врачей. Возможно, некоторые из них заразились сами, когда пускали смертоносные бактерии в воду, но большинство их погибло от неприятельского огня во время совершения этой операции.
— Обычно так много военных врачей не погибает сразу. Не правда ли? Ведь когда наша армия наступает, санитарные отряды обычно следуют позади войск, — многозначительно подчеркнул Сагава.
Слушая его с затаенным дыханием, мы узнали, что в бассейне реки Халхин-Гол от Номонхана до озера Буир-Нур сразу же вспыхнула эпидемия, и японская армия оказалась в очень выгодном положении.
— Сыпной тиф относится к болезням холодного пояса. Он является непременным спутником войны и оказывает немалое влияние на исход военных действий. Об этом говорит история войн. Распространению сыпного тифа способствуют паразитирующие на человеке блохи и вши, неизбежные на фронте, где всегда царит грязь. Поэтому никого не должно было удивлять, что в районе Халхин-Гола вспыхнула эпидемия. Этим-то и заманчива бактериологическая война, — подчеркнул Сагава, как бы резюмируя первую часть своего рассказа. После некоторой паузы он продолжал:
— После событий на Халхин-Голе, где Квантунской армии пришлось вести самые тяжелые в ее истории бои, командование армии стало придавать бактериологической войне очень серьезное значение.
Управление по водоснабжению и профилактике за успешное удержание водоемов впервые в истории санитарных частей получило благодарность от командующего армией. Однако об обстоятельствах гибели военных врачей подробно не сообщалось. Было лишь объявлено, что погибло несколько человек.
Со временем начальником этого Управления стал нынешний начальник отряда Исии, а в 1942 году оно было преобразовано в Отряд 731. Так как разведки многих стран все время охотились за этим отрядом, в 1945 году ему дали новое название: Маньчжурский отряд 25202.
Затем Сагава перешел к рассказу об Исии:
— Его превосходительство начальник отряда — гордость Японии. Доктор медицины, доктор технических наук, доктор естественных наук — три докторские степени сразу! Он изобрел фильтры для очистки воды и культиваторы для выращивания бактерий, которыми вы каждый день пользуетесь, и все те, — Сагава показал в сторону второго отдела, — автомашины для снабжения армии водой. Сейчас эти автомашины — необходимое, важнейшее оружие Квантунской армии.
О фильтрах системы Исии и его автомашинах для подвоза питьевой воды нам приходилось слышать и раньше. Во время учебы мы ходили на завод, где делают эти фильтры. Завод находился недалеко от армейского госпиталя в Харбине. В памяти сохранилось здание с красной черепичной крышей и длинная печь, где обжигали диатомит — сырье для фильтровальных пластин. На заводе было налажено поточное производство различных фильтров для индивидуального пользования, а также ротных и батальонных фильтров. Когда об Исии было все сказано, Сагава перешел к фильтрам и автомашинам:
— Фильтры для индивидуального пользования похожи на малые носимые дегазационные аппараты. Такой фильтр во время пользования можно не снимать со спины. Достаточно нажать на рычаг ручного насоса, и из резинового шланга сразу потечет питьевая вода. Ротный фильтр длиной около двух метров имеет небольшой маховичок. Если вращать маховичок, то фильтр одним шлангом будет засасывать загрязненную воду, а из другого подавать чистую. Говорили, что с помощью этого превосходного аппарата можно очистить любую загрязненную воду, кроме морской, и что он не улавливает только один какой-то вирус, да и то безвредный для человека.
Автомашины для водоснабжения оборудованы более крупными фильтрами. В конструкции такой машины, где только возможно, используется дерево, чтобы ее можно было быстро сжечь при угрозе захвата неприятелем. В районах, где постоянно ощущается недостаток питьевой воды, эти автомашины поистине бесценны, — закончил свой рассказ Сагава.
Мы прослушали рассказ Сагава о генерале Исии с благоговением, словно повесть о великом человеке. В наших глазах Исии был почти божеством. Нам еще не приходилось близко видеть начальника отряда. Только раз нам удалось проводить его взглядом, когда он проезжал в великолепной темно-зеленой машине в сопровождении высших офицеров.
В тот вечер допоздна продолжалось обсуждение рассказа Сагава.
Из нашего отряда исчез один вольнонаемный. Это случилось в тот день, когда я во второй раз после поступления в отряд получил увольнение из казармы. Прошло всего два месяца со дня моего приезда сюда, но из-за однообразного и строгого распорядка, при котором отдохнуть можно было только полдня в неделю, они показались мне мучительно долгими.
В восемь часов утра тридцать человек, получивших в этот день увольнительную, собрались перед казармой учебного отдела.
— Ведите себя так, как приказано. Помните, что за воротами отряда за вами будут охотиться иностранные шпионы. Не болтайте, даже если с вами заговорит японский солдат или жандарм, не вздумайте куда-нибудь идти с ними. Поняли? — напутствовал нас младший военный чиновник Офудзи из учебного отдела.
Он оглядел нас, небрежно козырнул и сошел с возвышения, на котором стоял во время инструктажа.
Так как ходить в одиночку не разрешалось, нас разбили на группы по пять человек, связанных круговой порукой. Трое вольнонаемных служащих были назначены старшими. Из них я знал только Накано, а двое других — Китадзима и Сэкинэ — были мне незнакомы.
Хаясида тоже получил отпуск, но пятерка, в которую он попал, стояла далеко от нас, и окликнуть его мне не удалось. Целью нашей прогулки было знакомство с Харбином.
Когда Офудзи ушел, и мы уже приготовились отправляться, внезапно появился вольнонаемный Оми и громко крикнул: «Внимание!» И стал прохаживаться перед строем. Мы не питали к этому человеку ни малейших симпатий. В то же время мы, работники лаборатории, куда сам он не имел права входить, были у него словно бельмо на глазу.
— Сейчас я проверю, как вы знаете правила поведения во время увольнения, — наконец заговорил он. — Что вы будете делать, если вдруг отстанете от своей пятерки? Четвертый номер второй пятерки, отвечай!
Им оказался Окинака. Я, третий номер этой пятерки, задрожал от страха.
— Слушаюсь. Я пойду в пункт связи с отрядом и попрошу направить меня сюда, — волнуясь, ответил Окинака.
Именно этот парень первым из нас оказался избитым Оми. И теперь ему очень не хотелось иметь через него еще одну неприятность.
— В пункте связи не оказывают услуг заблудившимся детям. Кто ответит по-другому?
— Разрешите? Я останусь на месте и буду ждать, пока меня не разыщут товарищи, — ответил кто-то из третьей пятерки.
— Эка, сколько с тобой хлопот! Ну, кто еще?
Все стояли молча, не шевелясь, и по лицам было видно, что предвкушаемое удовольствие от прогулки уже испорчено.
— Вот и видно, что вы еще не усвоили духа нашего отряда. Да только подумать о том, что такое может произойти, уже означает допустить оплошность. Как это никто из вас не догадался ответить, что он ни за что не отстанет от товарищей по пятерке?
Отличавшиеся таким «глубокомыслием» нередко встречались тогда среди начальников. Помню, как в первые дни строевых занятий однажды инструктор подошел ко мне и, много раз заставив повторить прием «на плечо», вдруг молча протянул руку, схватил мою винтовку и потянул к себе. Я решил, что, наверное, должен отдать ему оружие, и выпустил из рук. А он вдруг напустился на меня:
— Кто же ты есть, если так легко отдаешь винтовку — душу солдата?
Короче говоря, нам то и дело устраивали ловушки. Хотя у инструктора был чин поручика, я потерял к нему всякое уважение. Такие люди воображают, что раз они начальники и мы обязаны беспрекословно повиноваться, значит они могут издеваться над нами. С тех пор мы все презирали Оми.
На военном грузовике вместе с нами отправились двое переодетых в штатское жандармов. На станции Пинфань мы пересели в автодрезину и поехали в Харбин. Из Пинфаня мы впервые увидели весь городок нашего отряда, главное здание которого издали походило на белый замок. До самой линии горизонта местность была очень ровной и пейзаж крайне однообразным. В Харбине мы прежде всего зашли в пункт связи на Гиринской улице, где расстались с жандармами.
У русского кладбища мы сели в трамвай и проехали мимо храма Хигаси-Хонгандзи и универсального магазина Акибаяси к реке Сунгари. Билетов никто не покупал. Кондуктор, высокий русский из эмигрантов, недовольно смотрел, как мы один за другим выходили из вагона. Сходивший последним очень испугался, когда кондуктор подтолкнул его в спину, да и у остальных на душе был какой-то неприятный осадок от этой бесплатной поездки.
У реки мы уселись на чахлую траву. На другой стороне виднелись красивые ярко-желтые здания, а выше по течению — красные дуги ферм железнодорожного моста. Из уютного клуба на берегу реки доносилась веселая музыка, похожая на легкую рябь, пробегающую по величаво спокойной глади реки.
Накано повесил на дерево полотенце и сказал:
— Вы можете гулять в пределах видимости этого знака.
Приехавший вместе с нами уже не молодой одинокий вольнонаемный служащий по имени Китадзима шутливо заявил:
— Что ж, господин Накано, в таком случае я позволю себе покинуть вас.
Ухмыльнувшись, он преувеличенно вежливо взял под козырек.
— Теперь ты, наверное, будешь занят. Привет супруге! — засмеялся Накано.
— Смотри, с пустыми руками не возвращайся, — весело поддержал его Сэкинэ.
Те, кто знал, что Китадзима холостяк, понимали, о чем идет речь, и ухмылялись. Мне приходилось сталкиваться с Китадзима в столовой для холостяков, и я тоже начал догадываться, в чем дело.
— А ты чего смеешься? Это не твоего детского ума дело! — выбранил меня Сэкинэ, хотя лицо его было не строгим.
К нам подошел уличный фотограф китаец, и мы окружили его. Пятерка, в которой был Хаясида, тоже присоединилась к нам.
— Ну как, господа солдаты, не угодно ли? — заговорил с нами фотограф на хорошем японском языке. Польщенные тем, что нас назвали «господами солдатами», мы оживились. Один из нас сказал:
— Нам хотелось бы сфотографироваться, но только мы не можем сказать вам, куда прислать фотокарточки.
— Да этого и не нужно. Я делаю моментальные снимки. Через пятнадцать минут они будут готовы.
С этими словами фотограф нацелился на нас большим фотоаппаратом и хотел снимать. Мы уже стали позировать, но тут Сэкинэ закричал:
— Эй, брось, такие снимки нельзя делать!
Фотограф ушел, кисло улыбаясь.
— Мне что-то совсем не хочется возвращаться в отряд, — неожиданно проговорил Хаясида, молча глядя на синее небо.
— Смотри, услышат! — предостерегающе сказал я, но товарищи из его группы поддержали Хаясида.
— При таком начальнике группы… и правда не захочешь! — недовольно проговорил один.
— В группе за тобой охотится начальник, а пойдешь в увольнение — за тобой охотятся шпионы… Разве этот фотограф не показался вам подозрительным? — заключил другой.
— Ладно, хватит, не стоит портить себе настроение, — пытался успокоить их я.
Но разговор в таком духе продолжался. Хаясида очень хотелось излить все то, что у него накипело в душе против Комия.
— Этот Комия любит давать волю рукам. Чуть что, сразу пускает в ход кулаки, — продолжал Хаясида и затем с горькой усмешкой добавил то, что было понятно только мне.
— После того раза мне все тяжелее приходится…
Дело в том, что однажды я надоумил его воспользоваться именем техника-лаборанта Сагава, чтобы избежать неприятностей. Может быть, из-за этого он и попал в еще более скверное положение… При мысли об этом я остро почувствовал свою вину перед Хаясида.
Около трех часов дня мы вернулись к харбинскому вокзалу в пункт связи с отрядом. Но здесь пришлось долго ждать. Пробило четыре часа, нас все еще не отправляли.
— Не вернулся Китадзима, — сообщил нам Хаманака, узнав, в чем дело.
К пяти часам весь пункт связи был охвачен тревогой. Начальники со злыми лицами озабоченно сновали взад и вперед, перешептывались друг с другом, звонили по телефону.
В конце концов мы вернулись в отряд без Китадзима. Он исчез, и больше его никто не видел. Хаманака, служивший в общем отделе, потом рассказал нам, что по одним слухам Китадзима захватила иностранная разведка, а по другим — он сам оказался шпионом.
Был день отдыха. Занимались стиркой белья. Каждый был обязан сам делать это для себя. Но так как мы мылись два раза в день и каждый раз непременно проводили дезинфекцию и отбеливание одежды, то стирка нас не слишком тяготила. Самым большим удовольствием в свободный день для нас было хорошо выспаться, ведь изо дня в день приходилось выполнять строгий распорядок: вставать в пять часов, работать весь день, а вечером до десяти часов сидеть на лекциях. В этот свободный день я собирался, как обычно после небольшой стирки, часов с двух улечься спать. Но на этот раз мне не удалось.
— Здесь Акияма-кун? — спросил кто-то, обращаясь к Морисима.
Я в это время был в комнате и, услышав из коридора этот вопрос, насторожился. Хотя в голосе спросившего слышались мягкие интонации, я испугался: не жандарм ли? Правда, я не чувствовал за собой никакой вины, но почему-то внутри у меня все похолодело. С трудом сдерживая волнение, я вышел в коридор и увидел незнакомого мне человека в штатском.
По голосу и движениям этот человек казался молодым, лет тридцати, но по лицу ему можно было дать все сорок.
— Ты на каком краю живешь в деревне С.? — спросил он, любезно улыбнувшись, и украдкой оглядел меня с головы до ног.
Когда я ответил, что живу у реки, он сообщил мне, что сам он из соседней деревни, и его полное лицо расплылось в широкой отеческой улыбке. Я тоже невольно улыбнулся и почувствовал облегчение: слава богу, страхи мои оказались напрасными.
Впервые со дня приезда в Маньчжурию у меня произошла такая неожиданная встреча. На меня сразу нахлынули милые сердцу воспоминания о родном доме. Хотя этот человек был из соседней деревни, наши дома находились как раз там, где деревни граничили друг с другом, и мы, оказывается, были близкими соседями.
Мой земляк немного знал нашу семью, но я его совершенно не помнил, может быть потому, что был значительно моложе его. Он хорошо знал знаменитые храмы в окрестностях нашей деревни, прекрасно помнил бытующие у нас сказки, например о принцессе, которая полюбила молодого самурая, околдованного злой ведьмой, и, опечаленная тем, что он не ответил на ее любовь, превратилась в камень. Я слушал его рассказы, и от этого на душе у меня становилось спокойно и легко.
Потеряв надежду вернуться домой, я уже смирился со своим безрадостным существованием, но рассказы этого человека о родных местах прозвучали как сладкая, щемящая душу мелодия, напомнившая о далеком прошлом, и вновь пробудили во мне тоску по дому.
Когда мы разговаривали, мимо нас прошел начальник учебного отдела. Он вежливо поздоровался с моим собеседником. Я решил, что гость, наверное, известный человек, и близость к нему наполнила мое сердце гордостью.
— Не пойти ли нам прогуляться, — сказал мой земляк.
И мы вышли на улицу, в небольшой садик, где росла одна сосна и несколько маньчжурских вишен. В Маньчжурии мало лесов и сосны встречаются очень редко. Сосна, росшая в этом саду, была, вероятно, одним из трех таких деревьев на всю провинцию Биньцзян. Сев рядышком на скамеечку, мы продолжили нашу беседу.
— Ты молодец, что приехал сюда… Хоть ты и молод, но правильно поступил… Ну как тут тебе, трудновато приходится? — начал земляк.
— Да нет, ничего, все хорошо, — невольно солгал я.
У меня как-то незаметно вошло в привычку давать всегда такой стереотипный ответ. Но к этому человеку я чувствовал доверие и поэтому добавил:
— Правда, иногда бывает скучно, ведь изо дня в день занимаешься одним и тем же — возишься с чумными бактериями, которые мы выращиваем.
— Перестань! — вдруг резко одернул он меня, И хотя он не повысил голоса, я почувствовал себя так, словно меня окатили холодной водой.
— Ты должен быть бдительным! Понимаешь… А если бы я оказался вражеским шпионом?
Тут только я хватился, что до сих пор не спросил его имени.
— Ну ладно, теперь будешь осторожнее. Из собственного опыта могу тебе сказать, что шпионы умеют раскрывать важные секреты, извлекая для себя пользу, казалось бы, из ничего.
Мой собеседник сообщил, что в Харбин сейчас съехались из разных стран чуть ли не три или четыре тысячи шпионов, пытающихся проникнуть в тайны нашего отряда. Сейчас Япония превосходит все страны в области подготовки бактериологической войны, поэтому их внимание приковано именно к нашему отряду. Вокруг Харбина развернулась тайная война, о которой знают только в узком кругу руководителей Квантунской армии и военного министерства, но ни народ, ни солдаты не имеют о ней ни малейшего представления.
— «731» — этот номер гораздо известнее за границей, чем в самой Японии, — заметил мой гость.
Из дальнейшей беседы я узнал, что моего гостя звали Акаси Ёситака. Он был кадровым разведчиком Квантунской армии, трижды тайно пробирался в Чунцин, и Чан Кай-ши даже назначил награду за его голову — сто тысяч долларов.
Акаси занимался вылавливанием вражеских шпионов, пытавшихся разведать секреты нашего отряда. По его словам, тех из них, кого не удавалось использовать как шпионов-двойннков, вместо расстрела отправляли в отряд для проведения на них опытов.
Я узнал, что люди, которых привозили к нам каждую субботу и помещали в тюрьму, — это вражеские шпионы, что уже около двух тысяч из них погибло в результате опытов на них и что сейчас во внутренней тюрьме заключено около пятисот человек.
«Опыты на людях!» — вырвалось у меня. Я смотрел на Акаси, задыхаясь от волнения, словно меня крепко схватили за шиворот. Акаси, вероятно, думал, что все это мне уже известно. Но я только теперь от него услышал об этих фактах и ни на секунду не сомневался, что он говорит правду.
В бактериологии важное место занимают опыты на животных. Я вспомнил, что в книгах по бактериологии, которые я просматривал в лаборатории в свободные минуты, было написано: «Следует помнить, что при одной и той же вирулентности возбудителя ход болезни у животного очень часто резко отличается от течения ее у человека». Естественно, что при опытах на человеке можно гораздо быстрее получить достоверные результаты, чем при работе, например, с мышами. Умерщвление в глубокой тайне шпионов поистине давало возможность сразу убить двух зайцев, если, конечно, отбросить в сторону соображения гуманности!
Теперь я с предельной ясностью понял, в чем заключался строго охраняемый секрет Отряда 731, разоблачения которого так боялись!
«А если бы я оказался вражеским шпионом?!» — эти недавние слова Акаси мне теперь хотелось повторить ему.
— Когда теперь удастся встретиться снова, не знаю… Если меня поймают, я буду убит так же, как эти люди… — Акаси кисло усмехнулся. — Что поделаешь: мы их, а они нас!
После этого разговора я не видел его больше месяца. Мои начальники, узнав о том, что я встречался с Акаси, стали относиться ко мне гораздо мягче.
— Значит, ты знаком с господином Акаси? — спрашивали они.
— Да, конечно, ведь он из соседней деревни, — отвечал я, умышленно напирая на слова «соседняя деревня», чтобы подчеркнуть нашу близость.
— Вот как?.. Это очень большой человек. Ведь он возглавляет всю службу разведки нашего отряда, — льстиво говорили некоторые, рассчитывая, вероятно, на то, что я когда-нибудь передам их слова Акаси.
В то время как моих товарищей, особенно Хаминака и Хаясида, за малейший пустяк избивали начальники, мне можно было теперь не бояться затрещин. Поэтому я почувствовал еще большее уважение к Акаси, и меня стала беспокоить его судьба.
Однажды мне приснилось, что Акаси убит. Впрочем, сон этот был вызван, вероятно, не столько моим беспокойством о нем, сколько сознанием того, что я сам в любой момент могу незаметно для себя заразиться и умереть.
После разговора с Акаси я, пользуясь каждой свободной минутой, стал читать толстые книги по бактериологии, стремясь убедиться, что опыты над людьми действительно практикуются.
Однако ни в одной из этих книг о таких опытах, конечно, не говорилось. Проведение экспериментов на людях, в особенности заражение такими болезнями, как чума и холера, дающими высокий процент смертности, считается преступлением и приравнивается к преднамеренному убийству. Поэтому наивно было ожидать, что о них будут писать открыто. Но когда я стал искать доказательства того, что такие эксперименты проводятся, в глаза мне бросилось то, на что раньше я как-то не обращал внимания.
Возле книжной полки в лаборатории я заметил шкаф с книгами, на котором было написано: «Выносить запрещается». Как-то во время обеденного перерыва я решил потихоньку заглянуть в него. Пользуясь тем, что все ушли в столовую, я зашел в комнату. Я свободно ходил в нее и раньше, и сейчас, конечно, не было оснований заподозрить меня в чем-либо предосудительном, но цель, с которой я пришел сюда на этот раз, заставила сердце колотиться в груди, словно я задумал какое-то преступное дело. Шкаф не запирался, открывать его никто не запрещал. Выносить книги было нельзя, но вряд ли запрещалось читать их тут же, на месте. Так я собирался оправдываться.
Однако в самый последний момент я заколебался. Ведь если неправильно истолкуют мой поступок или, больше того, припишут мне злой умысел, рассудил я, последствия будут ужасными. И я не стал трогать шкаф, но на следующий день, посоветовавшись с Хасака и Саса, обратился к технику-лаборанту Сагава:
— Нельзя ли нам посмотреть некоторые дополнительные материалы?
— Материалы? Какие материалы? — изумился он, наморщив лоб, и поднял глаза от стола.
— Некоторые вещи по одним лекциям трудно понять, и мы хотели бы посмотреть снимки больных, если они есть… Нам хочется лучше знать симптомы болезней.
— Вот как? Ну что ж, молодцы! Вы уже достаточно здесь работаете. Можете смотреть, сколько хотите, — удивительно просто сказал Сагава и кивком указал на шкаф, к которому накануне я боялся подойти.
— Нам можно открывать этот шкаф? — робко спросил я.
— Конечно. Занимайтесь усердней. Работы хватит. Научиться работать самостоятельно не так-то просто.
По-своему оценив наше рвение, Сагава пришел в хорошее настроение. Ему, нашему ближайшему начальнику, очевидно, было приятно, что с такой просьбой к нему обратился именно я, всегда добросовестно выполнявший работу и не имевший никаких замечаний по службе. Этим как будто лишний раз подтверждалось, что нас вполне можно использовать на серьезной работе, несмотря на все нелестные замечания майора Такаги по нашему адресу.
— Только из комнаты выносить эти книги нельзя, слышите? — строго предупредил нас Сагава.
С этого дня у нас появилось новое занятие. Многие материалы, просматриваемые нами, представляли собой, как мы и предполагали, свежие снимки, сделанные в процессе опытов, проводившихся над людьми.
Легочная чума, бубонная чума, глазная чума, кожная чума…
Один за другим бросались в глаза фотоснимки, сделанные на различных стадиях болезни, на некоторых сопоставлялись различные случаи заболеваний в зависимости от инфекционной силы бактерий, количества введенных возбудителей, фотографии, четко фиксировавшие расширение очага поражения. То были не обычные клинические снимки, и это придавало им особенно зловещий смысл. С затаенным дыханием мы переводили глаза с одной фотографии на другую.
Однажды мы натолкнулись на описание опытов, проведенных на полигоне в Анада. Питательной средой, в которой находились возбудители газовой гангрены и столбняка, начиняли бомбы и сбрасывали их с самолета. Опыты имели цель установить степень заражения в зависимости от радиуса разлета зараженных осколков бомбы. Для этого через каждые десять-двадцать метров от точки, где должна была упасть и взорваться бомба, врывали в землю столбы и привязывали к ним «бревна» (так почему-то называли заключенных). На этих «бревнах» и проверяли эффективность действия таких бомб в зависимости от расстояния до объекта, от количества бактерий, помещенных в бомбу, от температуры воздуха, плотности одежды, величины участка заражения на теле человека и т. п.
Сагава объяснил нам, что «бревна» с повязками на глазах привязывали к столбам либо в одних трусах, либо одетыми, оставляя открытыми только ягодицы или только лицо и руки. При этом старались одевать подопытных в одежду, которую обычно носит большинство населения.
Что должны были испытывать здоровые, в полном сознании люди, привязанные к столбам, слыша гул приближающихся самолетов, а затем взрывы бомб в непосредственной близости от себя! В их тела впивались осколки бомб, острые камешки и песчинки, зараженные смертоносными бактериями. Несчастные заболевали, затем над ними производили опыты по лечению ужасных болезней, хотя никакой надежды на спасение не было. Даже если случайно кто и выздоравливал, его все равно не оставляли в живых.
Однако опыты с обычными бомбами, по-видимому, не давали значительного эффекта, так как из-за высокой температуры и давления, возникающих при взрыве, большая часть бактерий погибала, а оставшиеся быстро утрачивали активность. Даже бактерии газовой гангрены и сибирской язвы, сравнительно более устойчивые к теплу, почти на семьдесят процентов погибали, а из бактерий, особенно плохо переносящих сухую среду, таких, как бактерии чумы, сохранялось не более десяти-двадцати процентов.
— Однако все это, можно сказать, позади. Нам удалось изготовить бактерии, хорошо сохраняющиеся в сухой среде. Разработаны методы разбрасывания бактерий без применения взрывчатых веществ. Уже почти открыты концентраты анаэробных бактерий… Ну, теперь вам все понятно! — сказал однажды Сагава в заключение своего пояснения, как бы желая подчеркнуть, что наши исследования имеют определенный смысл.
Очень скоро мне пришлось иметь дело с анаэробными бактериями, такими, как возбудители газовой гангрены, столбняка и ботулизма (спороносный возбудитель этой болезни, поражающий кишечник, иногда обнаруживали в самой Японии, в префектуре Акита, но я конкретно ничего не знал). В отряде в каждой секции был свой профиль работы, а нас по мере надобности то и дело перебрасывали из одной секции в другую для выполнения самых различных обязанностей. Однажды это привело к первому со дня нашего прибытия в отряд ужасному происшествию.
Как-то утром лаборант Сагава спросил нас:
— Вы слушали лекции по анаэробным бактериям?
Все стояли с растерянным видом. Тогда я, как-то незаметно принявший на себя роль представителя новичков, ответил:
— Да, нам рассказывали о них, хотя мы не особенно хорошо усвоили этот материал.
— Гм… Ну ничего, вы скоро все поймете, как только начнете работать в другой комнате.
Сагава отвел нас в комнату № 8 в нашей же секции и передал в распоряжение трех незнакомых лаборантов. На помощь к нам из других секций были переведены Абэ и Оцу, и мы впятером стали работать в одной комнате, в новой для нас обстановке.
Вольнонаемный Исидзука показал нам, что нужно делать. Он подошел к красному лабораторному столу, взял чистую пробирку, поместил в нее жидкую питательную среду цвета чая, куда был добавлен препарат из лошадиной печени, шесть-семь минут кипятил ее, затем быстро остудил и, произведя на среду посев бактерий газовой гангрены, закупорил. Свои действия он сопровождал пояснениями. Мы внимательно следили за каждым его движением.
Бактерии, посеянные в пробирке, были помещены в сосуд, где были созданы анаэробные условия. Потом он стал демонстрировать порядок переноса бактерий на новую питательную среду, и пробирка с выращенными в ней опаснейшими бактериями была извлечена из сосуда.
В этот момент находившийся за моей спиной лаборант что-то сказал, и я, подумав, что это какое-то приказание, оглянулся. Оцу тоже повернул голову.
В то же мгновение сидевшие напротив меня Саса и Абэ вдруг вскочили с воплем:
— Ай, больно! Печет!
— Стоять на месте! Не двигаться! — заорал один из лаборантов и стремглав выскочил в коридор. По-видимому, кто-то случайно уронил ванночку, и она разбила кипятившуюся пробирку.
Мы с Оцу сидели у противоположной стены стола, и для нас все обошлось благополучно, но у Абэ почти все лицо было в осколках, лаборанту осколки впились в подбородок и грудь, а Саса, который в этот момент отвернулся, осколки попали в спину. Пострадавшие сидели неподвижно, словно ожидая своего последнего часа, их мертвенно бледные от испуга лица исказил ужас. Мы с Ору были потрясены.
Прибежал техник-лаборант Сагава. Пострадавших уложили на носилки и тотчас отнесли в лазарет первого отдела, находившийся в главном здании на втором этаже. Оцу и я помогали нести носилки.
Газовая гангрена обычно развивается при заражении раны, полученной от осколка разорвавшегося снаряда, и в современной войне встречается часто. Очень легко она возникает даже в небольших ранах, когда они сильно загрязнены. Существует не один, а целая группа возбудителей этой болезни со сходным болезнетворным действием. Возбудители газовой гангрены широко распространены в почве, они вырабатывают сильные токсины.
При заражении края раны краснеют, распухают, быстро повышается температура, происходит распад мышечных тканей с образованием пузырьков газа. Инкубационный период длится всего пять-шесть часов, затем болезнь развивается угрожающе быстро, и поэтому лучшей мерой помощи пострадавшему является немедленная хирургическая операция.
У Саса, которому осколки пробирки впились в спину, хирург немедленно удалил пораженную кожу и мышцы. Так как дорога была каждая минута, оперировали без наркоза, и Саса весь дрожал от сильной боли, издавая глухие стоны. Хуже было положение лаборанта и Абэ — ведь удалить подбородок или половину лица невозможно. Пришлось только быстро протереть пораженные участки и наложить дезинфицирующее средство. После оказания первой помощи троих несчастных отвезли в госпиталь.
— Как вы думаете, они выживут? — наперебой спрашивали мы Сагава, вернувшись в лабораторию.
— Все будет хорошо, от этого здесь не умирают… У нас созданы превосходные лекарства, к тому же помощь была оказана достаточно быстро. Так что не волнуйтесь… Хотя, конечно, это большое несчастье! — Сагава чуть заметно вздохнул, постукивая пальцем по столу.
Однако последствия оказались совершенно неожиданными и потрясли нас до глубины души. В эту же ночь Абэ отравился сулемой.
— Экий глупец, надо же было ему совершить такой скандальный поступок… Мужчина, а испугался за свою внешность… — переговаривались лаборанты.
Их слова болью отзывались в моем сердце. Конечно, Абэ покончил с собой не просто из боязни стать некрасивым. Безрадостная жизнь в отряде создавала благоприятную почву для самоубийства в минуту отчаяния. Случившееся с Абэ несчастье было лишь последней каплей, переполнившей чашу его отчаяния и разочарования в жизни. А мы? Разве нас, кого он навсегда покинул, не подстерегала такая же беда? Мы чувствовали себя, как осужденные, медленно поднимающиеся по ступенькам лестницы на эшафот, и нас страшило грядущее будущее. Оставалось лишь утешаться тем, что нас будут чтить, как погибших в бою.
После смерти Абэ нас долго мучили сомнения. Действительно ли это было самоубийство? Почему он пошел на это? Может быть, его просто не стали лечить, чтобы в случае неудачи не подорвать репутацию врачей в отряде?
Нам очень хотелось узнать подробности, но расспрашивать мы не смели, и увидели Абэ только в гробу завернутым в белую простыню.
Усыпальница героев находилась как раз перед входом в общий отдел. Еще с того времени, когда наш отряд носил название Управления по водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии, там хранились таблички с именами более трехсот человек, погибших на фронте или в результате заражения в лабораториях. На возвышении, похожем на большую эстраду, площадью сто двадцать — сто пятьдесят квадратных метров тесными рядами стояли большие фотографии в черных рамках.
Вероятно, потому, что Абэ был самоубийцей, во время прощания с ним не читали молитв, не произносили траурных речей. Мы стояли с тлеющими палочками ладана в руках, притихшие и подавленные страхом смерти, словно она стояла рядом с нами в ожидании своей очередной жертвы. Однако то, что мы чувствовали, не совсем походило на печаль об ушедшем в другой мир — в глубине души мы сознавали неизбежность этого. Лица моих товарищей, отдавших умершему последний долг, были строгими и, казалось, больше ничего не выражали.
Около одиннадцати часов траурная церемония закончилась. Мы вышли в коридор. Даже здесь чувствовался противный запах мышей и крыс. В специальных помещениях для разведения грызунов места не хватало, поэтому клетки стояли под лестницей, ведущей в общий отдел. Правда, мы постепенно привыкли к этому запаху и почти не замечали его.
Занятия по случаю похорон начинались в час дня, и я решил воспользоваться оставшимся до обеда временем, чтобы навестить своего друга Саса. Я полагал, что меня привели в общий отдел в составе учебной группы, где я числился, только на время похорон, и решил, что теперь можно уходить.
Но тут Оми из учебного отдела (армейский чиновник, по рангу приравненный к фельдфебелю), под командой которого нас привели в усыпальницу героев, вдруг объявил:
— В оставшееся до обеда время проведем занятия!
Я расстроился и, когда мы вышли из помещения общего отдела, обратился к нему:
— Я хотел бы пойти в госпиталь навестить больного.
— Что, в госпиталь? А кто разрешил? — отрубил Оми, посмотрев на меня с явным неудовольствием.
— Господин техник-лаборант Сагава из нашей лаборатории, — ответил я.
— Скажи лучше, что хочешь увильнуть от занятий, вот и придумал пойти в больницу.
— Никак нет. На службе я всегда исполняю только указания господина Сагава, — спокойно продолжал я.
Оми явно искал предлога, чтобы придраться ко мне, и я сослался на техника-лаборанта Сагава. Дело в том, что работники учебного отдела не имели права распоряжаться теми из нас, кто уже перешел на работу в лабораторию. Но именно поэтому они и относились к нам недоброжелательно.
— Разве тебе не понятно, что я говорю? Заладил свое — служба, служба, а на учебный отдел тебе наплевать? — расходился Оми все больше и больше.
Мне показалось, что он собирается ударить меня, но проходивший в это время мимо один из младших вольнонаемных служащих Коэда спросил его:
— Что случилось?
Оми ответил, что ему не нравится мое поведение.
— Господин Оми, поручите это дело мне. Я приму меры, — подобострастно сказал Коэда.
У Оми не было оснований отказаться от предложения Коэда. Он нехотя кивнул в знак согласия и отправился восвояси.
Из-за этого непредвиденного происшествия время ушло, и занятия не могли состояться. Все ждали, когда нас распустят. Я стоял неподвижно и ждал, что будет дальше. Коэда не двигался.
— Стой смирно и молчи! — тихо приказал он мне. Я уже приготовился получить трепку. Еще в школе старшеклассники не раз расправлялись со мной, и оставалось лишь удивляться, что здесь, где все было, как в армии, меня пока ни разу не били.
Однако Коэда не стал меня бить. Он молчал. Наконец была подана команда, и все разошлись.
— Теперь можешь идти, — сказал Коэда, вероятно прочитав в моих глазах готовность быть побитым и как можно скорее.
— Пойди проведать Саса! — бросил он вдобавок и, не глядя на меня, с невозмутимым видом удалился.
Мне почему-то сделалось грустно, хотелось плакать. Молчаливое сочувствие Коэда, как ночная роса, освежило мою огрубевшую в безрадостной и однообразной жизни душу.
Я пошел в госпиталь. Кто-то окликнул меня. Я обернулся и увидел Хаясида.
— Я тоже пойду с тобой, — сказал он и тут же перевел разговор на другую тему.
Отношения между Хаясида и Саса ограничивались тем, что они некоторое время вместе разводили крыс. Я понял, что Хаясида догнал меня отнюдь не с целью вместе идти к больному.
— Хороший Коэда человек! Вот было бы здорово, если б таким же был мой начальник группы… А то он такая скотина…
Меня поразило, с какой злостью говорил Хаясида о своем начальнике группы Комия, сравнивая его с Коэда. Комия тиранил Хаясида даже после того, как тот начал работать в лаборатории. Он то и дело припоминал ему какие-нибудь прошлые проступки. Неприязнь Комия испытывал не только Хаясида. Поэтому такого начальника ненавидело большинство группы.
— Знаешь, мне ужасно хочется избить этого Комия. Наплевать, что он начальник группы. Я не успокоюсь, пока хоть разок не ударю его, — возбужденно говорил Хаясида.
Но я не верил, что он говорит это всерьез. Такое намерение мне казалось скорее безрассудством отчаявшегося человека. Ведь и в отряде действовал императорский указ о военнослужащих, гласивший: «Следует помнить, что приказ начальника для подчиненного равносилен приказу, отданному Нами».
Мы пришли в госпиталь. Саса, которому только что наложили компресс на рану после удаления зараженного участка, лежал на животе на белых простынях. Увидев нас, он еле удержался от слез.
— Было очень скверно, когда резали. Словно электрическим током ударило… Сразу помутилось в глазах, и я даже перестал потом понимать, больно мне или нет, — жаловался он, рассказывая нам, как его оперировали.
— А мы только что хоронили Абэ, — заговорил я, желая сообщить единственную новость, которую мы знали.
— Вот как, — Саса немного помолчал, а потом с кривой усмешкой добавил:
— Да я ведь тоже чуть было не решился последовать его примеру.
Опыты на людях — это чудовищно!
В этот день мы, как всегда, работали у культиваторов для выращивания бактерий чумы. Задание было небольшое, и, закончив работу к двум часам, мы стали дезинфицировать лабораторный стол и посуду.
— Может быть, хоть сегодня удастся уйти пораньше! — сказал мой сосед.
— Кто знает, могут перебросить на другую работу, — заметил я.
Мы говорили шепотом, боясь, как бы не услышало начальство. Нашим постоянным и сокровенным желанием было немного отдохнуть. Все думали об одном — поспать, как только выдастся свободная минута.
Вскоре в рабочую комнату вошел сотрудник службы связи.
— Одного человека быстро в подвал главного здания, на переноску!
Мы сразу прекратили работу, и каждый из нас был готов отправиться немедленно. Нас приучили автоматически исполнять любое приказание.
— Сегодня отправляйся ты, Акияма. Можно идти прямо так. Комната № 26, — сказал Сагава.
Я быстро вымыл руки и спустился в подвальное помещение. Мой путь лежал через мрачный коридор, которому придавала зловещий вид его необычная окраска. Для защиты от мух, комаров и других насекомых потолок и стены были выкрашены в красный цвет, который насекомые не выносят. Дневной свет сюда не проникал, и день здесь не отличался от ночи. Лишь кое-где под потолком висели лампочки без абажуров, и в коридоре постоянно царил полумрак. Поэтому он был похож на длинный и узкий туннель, стены которого будто бы кто залил темно-красной кровью. Я чувствовал себя так, словно иду навстречу большой опасности.
Вдруг до моих ушей донесся дикий вопль, похожий на рев раненого животного. Пронзительные звуки, отражаясь от красных стан, многократным эхом гулко разносились по коридору. Я испуганно огляделся и продолжал идти. Вскоре я увидел, как перед входом в лабораторию трое служащих отряда держали за руки «бревно». Крики этого несчастного я и слышал. Один из служащих толкнул его в спину, и жертву втащили в помещение. Я наблюдал эту картину не шелохнувшись. Давно мне хотелось собственными глазами увидеть и убедиться, что на живых людях действительно проводятся опыты. Но сейчас я не рад был тому, что спустился в этот подвал, так как с первых же шагов стал испытывать чувство, близкое к ужасу.
— Прибыл в ваше распоряжение! — отрапортовал я старшему лаборанту, вышедшему из комнаты № 26.
— Хорошо. Войди и надень спецодежду, — сказал он и с озабоченным видом вошел в соседнюю комнату.
По обеим сторонам от коридора, куда я пришел, расположились лаборатории. Из-за жары почти во всех комнатах были открыты окна, выходившие в коридор. Чувствовалось, что атмосфера здесь гораздо более напряженная, чем в лабораториях секции Такаги, где работали мы.
Открыв первую дверь, я очутился в помещении, где находился дезинфицирующий душ. Здесь я прошел обработку раствором карболовой кислоты, затем надел резиновую спецодежду, похожую на легкий водолазный костюм, и уже в ней снова прошел обработку дезинфицирующей жидкостью. Эта одежда почти не отличалась от той, которой мне приходилось пользоваться при проведении опытов на животных. Она плотно облегала все тело. За спиной находился маленький кислородный аппарат.
Открыв вторую дверь, я снова доложил, что готов приступить к работе.
Посредине комнаты к черной, словно вымазанной дегтем, железной койке привязывали человека («бревно»), который отчаянно бился в руках ассистентов. Люди в такой же, как и у меня, спецодежде держали жертву равнодушно, как автоматы. «Бревно» защищалось со страшной силой, хотя руки и ноги его уже были связаны. Это был здоровый человек нормальной упитанности. Человек, используемый для опыта, как и подопытное животное, должен быть здоровым, так как если он болен и ослаблен, результаты опыта не будут отражать картину течения болезни в обычных условиях. Поэтому в тюрьме нашего отряда особое внимание обращалось на питание и гигиену. В этом заключалось ее главное отличие от обычных тюрем.
Я подносил, как мне было приказано, медикаменты и инструменты и наблюдал, как военный врач делает инъекцию. Я не знал, с какой целью производится опыт, что вводят человеку в кровь, но, судя по тому, как хронометражист внимательно следил за течением болезни после инъекции, я понял, что проверяется скорость действия каких-то бактерий. Несчастный корчился в страшных муках, издавая душераздирающие вопли, но наконец затих, видимо силы его иссякли. Опыт продолжался два-три часа, показавшиеся мне вечностью.
Вечером мне приказали вывезти его труп. Он выглядел ужасно. Вся грудь и лицо подопытного приобрели темно-лиловый оттенок из-за подкожных кровоизлияний, лимфатические железы под мышками и в паху страшно вздулись, а кожа в этих местах стала темно-красной, как у спелого персика. Я уже видел на снимках «бревна», погибшие такой мучительной смертью, и поэтому имел некоторое представление о том, как они должны выглядеть в действительности. И тем не менее теперь, когда мне показали обезображенный болезнью до неузнаваемости труп, я, взглянув на него, чуть не упал в обморок. Я невольно отвел глаза, но передо мной по-прежнему стоял страшный образ мертвеца с искривившимися в муках губами и жутким блеском налившихся кровью белков полуоткрытых глаз, которые, казалось, с ненавистью смотрят на меня.
Тому, кто часто имеет дело с трупами, все равно. А что должен чувствовать врач, своими руками делавший инъекцию живому человеку, зная наперед, что тот погибнет. Вряд ли он мог быть спокойным после такого зверского убийства, совершенного собственными руками? Разве исследования должны быть сопряжены с такой жестокостью? Неужели обязательно проводить подобные опыты, чтобы создать новое оружие, добиться посредством его победы в войне и успокоить сердце императора? Такие мысли навязчиво лезли мне в голову. Конечно, эти мысли не были такими отчетливыми в тот момент, когда я, почти не помня себя от ужаса, отвозил труп, но позже они становились все яснее и постоянно терзали меня.
Труп окунули в крепкий раствор карболки, и я, взвалив мертвеца на тележку, повез его. Бесконечно длинным показался мне путь по зловещему подземному коридору от лаборатории до крематория. Потрясенный до глубины души, я шагал, как слепой, машинально толкая тележку, и постоянно натыкался на различные предметы. Каждый раз, когда тележка на что-нибудь наезжала и труп подпрыгивал на ней, мне казалось, что это страшное «бревно» вот-вот вскочит и бросится на меня, и тогда ужас охватывал все мое существо с такой силой, что у меня начинался озноб, хотя был разгар лета и в коридоре держалась высокая температура. К тому же тележка катилась с таким нудным скрипом и визгом, что порой казалось, будто вокруг меня мечутся и стонут все души замученных здесь раньше, оплакивая очередную жертву. Высокая труба, назначения которой я до сих пор не знал, оказалась трубой крематория. Туда был проведен электрический звонок, возвещавший об окончании опыта, поэтому когда я добрался до открытых дверей, меня уже ждали трое служащих.
Передав им тележку с трупом, я лишь мельком взглянул на печь и поспешил покинуть это страшное место. Но еще долго мне мерещился жуткий оскал зубов мертвеца и всюду преследовал тошнотворный трупный запах.
До сих пор я как-то не обращал внимания на дым из трубы, но теперь при одной мысли о том, что внизу, под этой трубой, которую видно и из лаборатории, сжигают трупы, меня пробирала дрожь и спазмы сжимали мне горло.
Правда, вокруг крематория никакого запаха от сжигаемых трупов не чувствовалось, повидимому именно с этой целью труба и была сделана такой высокой. Но что же все-таки впрыскивали «бревнам»?
Опыты в медицине, поставленные с ног на голову
Известно, что как ни опасны чумные бациллы, смерть не наступает через два-три часа после введения их в организм. Даже при заражении легочной формой чумы, при которой смертность достигает ста процентов, инкубационный период длится более суток, и больной умирает не раньше, чем через двое-трое суток. Если это так, то какой же опыт я наблюдал? Нет, вводили не обычные чумные микробы. При опытах с чумными микробами никогда не пользуются кислородными приборами: в этом нет нужды. Очевидно, это был какой-то исключительно опасный опыт.
«Был ли это токсин чумных бацилл?.. Не думаю. Мне не приходилось слышать о таких невероятных вещах. Не верю, чтобы смерть от чумы могла наступить через два-три часа», — так ответил мне один врач, к которому я обратился, уже вернувшись в Японию.
Так или иначе, в нашем отряде проводились исследования и опыты, которых, казалось бы, не должно быть с точки зрения обычных представлений о задачах медицины. Добиться успеха в размножении чумных бацилл искусственным путем было не легко. Вирулентность возбудителей чумы — самой страшной из всех инфекционных болезней, — выращенных искусственным путем, оказывалась низкой, а их хранение — делом сложным и хлопотливым. Для ведения бактериологической войны необходимо было найти надежный способ консервации, чтобы в течение долгого времени бактерии не теряли своей вирулентности, и вырастить такие бактерии, которые сохраняли бы жизнеспособность при высушивании. С этой целью искусственно выращенные бациллы чумы вводили в организм человека, используя селезенку и кровь подопытного как питательную среду. Затем эти микробы вновь вводили здоровым людям. Другими словами, путем многократного пассажа через живой организм выращивали жизнеспособные, вирулентные микробы. Для определения вирулентности и токсичности чумных бацилл, а также для приготовления сыворотки использовали мышей и морских свинок. В этих случаях опыты с учетом индивидуальных особенностей животных проводились по нескольку раз. После этого результаты их проверялись на людях и только тогда считались окончательными. Существовала точка зрения, что поскольку искусственное размножение чумных микробов и их распространение дело довольно сложное, то их эффективность может быть достигнута лишь при непосредственном введении в живой организм. Естественно, что с этой целью проводились многочисленные эксперименты.
Ставились и всевозможные другие опыты, о которых мы узнавали из учебных кинофильмов, а также по отрывочным сведениям из разговоров старших.
Некоторые опыты, например, сводились к тому, чтобы установить, сколько сыворотки, приготовленной из лошадиной крови, можно ввести в кровь человека или какое количество воздуха надо ввести в вену человека, чтобы наступила смерть. Говорили, что после введения в кровь свыше ста граммов лошадиной сыворотки человек начинает испытывать невыносимые страдания, а после введения примерно пятисот граммов в большинстве случаев наступает смерть.
Вслед за мной на уборку трупов был назначен Саса, а после Саса — Хосака. Оба они говорили, что вскоре у них, как и у меня, не осталось сил сопротивляться, и они чувствовали себя подобно «бревнам», которые несколько дней лежали связанными в лаборатории.
— Ну как, видели опыты с «бревнами»? Надеюсь, теперь вы стали смелее? — сказал нам как-то после этого обычно неразговорчивый, двуличный и коварный военный врач Цудзицука.
Я с отвращением подумал: «Вот оно что. Оказывается, нас заставляли выполнять эту ужасную работу, чтобы мы стали смелее».
И действительно, незаметно для самих себя мы постепенно привыкали ко всему и становились равнодушными к чужим страданиям.
Из секций, где проводились опыты с холерой, тифом и газовой гангреной, почти ежедневно поступали трупы, поэтому из высокой трубы крематория в небо непрерывно поднимался дым. Во время сжигания трупы несколько раз обливали бензином, чтобы они сгорали до полного превращения в пепел.
Сколько же людей было буквально превращено в дым, стерто с лица земли? Если принять, что в среднем ежегодно уничтожалось минимум по пятьсот человек, это число достигает трех тысяч.
Я отдыхал после позднего ужина, когда меня навестил Хаясида.
— Ты не можешь выйти на улицу? Поговорить надо, а здесь нельзя, — обратился он ко мне.
Вопреки обыкновению лицо его было серьезно. У меня мелькнула мысль, что случилось какое-то несчастье, и я вышел на улицу. Вероятно, было уже около девяти, но еще не стемнело. Лучи невидимого солнца окрашивали небо в бледно-розовый цвет. Это был момент, когда багровый шар солнца, о котором поется в песнях, уже скрылся за горизонтом, но ночь еще не успела прийти на смену дню. В этот час особенно усиливается тоска по родине. Мы уселись на бетонный барьер бассейна.
— Сегодня вечером мы проучим эту собаку Комия, — сказал Хаясида, царапая каблуком край барьера.
— Сколько же вас? — полюбопытствовал я, предполагая, что он решил это еще в тот день, когда мы ходили в госпиталь.
— Нас целая группа, мы уже обо всем договорились.
— Смотри, ведь это опасное дело.
Я считал намерения Хаясида безрассудными. Да и каждый из нас понимал, к чему может привести в армии избиение старшего по званию.
— Все это я отлично представляю себе, но терпеть больше нет сил. Пусть гауптвахта, пусть что угодно, все равно. Ведь каждый день сплошные издевательства, как в тюрьме. Что бы ни грозило нам, хуже не будет.
— Может быть, ты и прав, но подумай еще раз. А что если попадешь в трибунал? Тогда мы больше не увидимся.
Хаясида не ответил. Когда я припоминал все издевательства Комия над подчиненными, то и мне, разумеется, казалось, что Комия следовало отомстить. Но я не мог ни на минуту забыть о том, что если даже план мести удастся, все равно в конце концов Хаясида и его товарищи от этого только проиграют. И мне было жаль их. Я знал, что Хаясида больше двух месяцев терпел издевательства Комия, прежде чем решиться на отчаянный шаг, поэтому мне стоило большого труда заставить себя уговаривать его и укорять в нерассудительности и вспыльчивости. На словах я был против его замыслов, а в душе стыдился своей трусости.
— Эх, я думал ты одобришь, а ты… — вдруг сокрушенно проговорил Хаясида, с презрением посмотрев на меня.
— Называй это, как хочешь… трусостью, малодушием, но ведь я за тебя беспокоюсь, — пытался я оправдаться.
— Понимаю. Но…
Хаясида на секунду задумался, а потом махнул рукой и совсем другим тоном проговорил:
— Ну ладно. Видно, не стоило мне говорить с тобой об этом.
Воцарилось гнетущее молчание.
— Ну как, ты не раздумал? — через некоторое время спросил я еще раз.
— Если ты против, то мне не хотелось бы идти на это, но теперь все равно — будь что будет: раздумывать уже поздно.
Ночная тьма медленно окутывала городок. Она будто поднималась от земли, и потому высокий купол неба, все еще освещенный лучами закатившегося солнца, казался необычайно красивым.
Мы молча вернулись в казармы и холодно простились друг с другом.
В ту же ночь вскоре после отбоя на Комия было совершено нападение. Когда мы с Кусуно и Морисима, услышав шум, прибежали туда, там уже был дежурный офицер. Казарму оцепили солдаты охраны.
— Комия весь в крови убежал в кухню! — говорил кому-то офицер.
— Теперь попадет этим подлецам!
— Нахалы! — слышалось там и тут.
Но никто толком не знал, что же произошло.
Когда на следующий день я забежал в питомник и узнал, что Хаясида не вышел на службу, на душе у меня стало скверно. Я опасался, что вряд ли теперь удастся увидеться с ним, и думал, что, вероятно, в душе он ненавидит меня за то, что я не одобрил его поступка накануне.
Все в отделе думали, что раз Хаясида и его товарищи оскорбили старшего по званию, дело не ограничится гарнизонной гауптвахтой, что их непременно отошлют в Синьцзин и предадут суду военного трибунала.
Саса вернулся из госпиталя через десять дней.
— Как мы рады, что ты вернулся! — встретили его я и Хосака, пожимая ему руку.
— Что ни говори, а в лаборатории все-таки лучше, чем в госпитале, — ответил Саса, с мягким и каким-то изумленным выражением на бледном лице оглядывая комнату.
Иногда нам казалось, что лучше уж госпитальная койка, чем наша жуткая, опасная работа, но теперь, видя радость Саса, мы поняли, что, вероятно, все же лучше лаборатория, где у тебя есть друзья, чем борьба со смертью в одиночестве.
— Как твоя рана? Можно посмотреть? — спросил я.
— Совсем зажила? — подхватил Хосака.
— Не болит, но зудит, как после отморожения, — ответил Саса и стянул с себя рубашку.
Шрам был величиной с медный пятак. Рану ему просто зашили, не делая пересадки кожи, и сейчас она сморщилась и была похожа на горловину завязанного мешка.
— Ничего, в конце концов под рубахой не видно. Вот Абэ действительно жалко. Теперь нужно быть осторожнее, — серьезно продолжал Саса.
Но как знать, откуда может нагрянуть беда?
Примерно через полтора-два дня после переноса чумных бацилл на новую питательную среду они образуют ясно видимую колонию. Пробирки с «созревшими» микробами устанавливались в ящиках, устроенных так, чтобы их можно было укреплять неподвижно по одной в специальные гнезда. Ящики перевозились из лаборатории в хранилище на ручных тележках. Этим делом я и занимался каждый день. На первый взгляд работа простая, но опасная. Стоило споткнуться или наткнуться на что-нибудь, тележка могла опрокинуться, и тогда случай, от которого пострадал Абэ, мог повториться. Я уже знал, что такое чума, и смертельный страх перед этой болезнью заставлял меня быть предельно бдительным.
Однажды я, как обычно, отвез ящики, сдал их на хранение и, чтобы немного затянуть возвращение в лабораторию, решил пойти окольным путем. Толкая перед собой пустую тележку, я шел по длинному коридору, где еще ни разу не бывал. В коридор выходило множество окон и дверей каких-то лабораторий. Было жарко, некоторые окна в двери были открыты, и через них я видел, что делается внутри. Мое внимание привлекла странная застекленная комната. Лаборанты в белых халатах стояли вокруг этой комнаты и за чем-то внимательно наблюдали. Я присмотрелся и увидел, что в ней тряслись и корчились в судорогах голые связанные люди. Что это за опыт? Я не знал. На двери висела только табличка с надписью: «№ 5». Я стоял перед этой комнатой всего несколько секунд. Вдруг послышался чей-то низкий голос:
— Ты кто такой? Что ты здесь делаешь?
— Отвозил пробирки с культурой бактерий в хранилище и сейчас возвращаюсь в лабораторию, — без запинки ответил я подошедшему лаборанту.
— Здесь прохода нет, поворачивай обратно! — сказал он и кивнул в ту сторону, откуда я только что пришел. При этом у него было такое удивление на лице, как будто он хотел спросить: «Откуда здесь мог появиться подросток?»
А меня прошиб холодный пот: «Что теперь мне будет?» Не медля ни секунды, я повернул обратно и вернулся к себе в лабораторию.
— А что это за лаборатория № 5? — робко спросил я однажды Сагава.
— Там изучают влияние отморожения на организм человека. Что-нибудь случилось? — спросил Сагава и, видя, что я немного смутился, кратко рассказал об этой лаборатории. Вот что я узнал из его рассказа.
Отряд 731 занимался исследованиями в области бактериологии не для того, чтобы предупреждать распространение инфекционных заболеваний среди частей Квантунской армии, а для того, чтобы изучить возможности применения бактериологических бомб против противника. Кроме того, в отряде исследовали влияние отморожений на организм человека. Вначале эти исследования преследовали цель защиты солдат и офицеров Квантунской армии от отморожений, но затем эта работа приняла другое направление: стали проводить опыты по созданию «замораживающих» бомб.
Медицина различает три степени отморожения.
Первая степень — покраснение и припухлость ушей, кончика носа, конечностей, сопровождающиеся болью и зудом. Через два-три дня боль проходит. В Маньчжурии, где морозы достигают сорока градусов, такие отморожения могут происходить часто. При отморожениях второй степени страдают поверхностные кровеносные сосуды, появляются волдыри и начинается нагноение. В подобных случаях может наступить гангрена. В участках отморожения теряется чувствительность — не ощущается даже укол иглой, кожа темнеет и приобретает зеленоватый оттенок. Нарушение кровоснабжения приводит к влажной гангрене. Если происходит интенсивное испарение жидкости, гангрена переходит в сухую. Это уже третья степень отморожения. При третьей степени может начаться даже омертвение связок и костей, и тогда пальцы на руках и ногах гниют и отваливаются.
Чтобы найти способы эффективного лечения отморожений, в нашем отряде проводились различные опыты на людях. Застекленная комната в лаборатории № 5 и была одной из опытных камер. Обнаженных людей — «бревна» — помещали в такую камеру и, постепенно понижая в ней температуру, изучали действие холода на организм. Целью опытов было установить, через какое время и при какой температуре наступает смерть, а также нельзя ли оживить замерзшего человека.
Результаты таких опытов использовались для изучения возможности создания «замораживающих» бомб. Такая бомба по замыслу изобретателя должна была вызывать резкое понижение температуры воздуха при взрыве в расположении позиций противника и тем самым вызывать отморожения, выводя из строя живую силу. Радиус ее действия должен был достигать не менее пятисот метров, но радиус действия бомб, которые были созданы, не превышал и ста метров. Практическое применение таких бомб было неэкономично, поэтому проводились дальнейшие исследования по увеличению эффективности их действия.
Что же касается средства против отморожений, то оно так и не было создано. Было установлено, что повышение функциональной деятельности печени повышает сопротивляемость организма холоду и что при слабом отморожении некоторый эффект дает погружение отмороженной части тела в холодную ванну.
Однажды в казарму шумно ворвался Хаманака и, едва переступив порог, объявил:
— Эй, друзья! Помните, тогда избили Комия? Говорят, никому не попало. Как будто начальник отряда решил замять это дело.
— Неужели правда? — обрадованно переспросил я, предвкушая скорую встречу с Хаясида, и тут же почувствовал раскаяние за то, что тогда своими поучениями испортил ему настроение.
— Это здорово! Теперь всем вольнонаемным придется задуматься, — не без злорадства заключил Хаманака.
Он ненавидел начальство. После Хаясида ему доставалось от начальников больше всех. Работая в общем отделе, он раньше многих вольнонаемных узнавал все новости и передавал их нам. Поэтому подлый, мстительный Оми, его начальник, особенно жестоко обращался с ним. Кроме того, Хаманака был очень красивым, и это, вероятно, тоже раздражало безобразного Оми.
По рассказам Хаманака, Хаясида и его товарищей сначала должны были отправить в Синьцзин и там предать суду военного трибунала за избиение начальника. Но в тот злополучный вечер Комия, потеряв голову от бешенства из-за нападения на него подчиненных, схватил попавшуюся под руку пехотную винтовку и стал ею размахивать. От удара о что-то твердое на оружии оказался поврежденным государственный герб — хризантема, то есть совершилось новое преступление[11]. Поэтому на суде оно непременно всплыло бы, а это такое бесчестье для отряда, что начальник отряда решил сохранить всю эту историю в тайне.
В тот вечер все ходили с какими-то посветлевшими лицами. После ужина до отбоя кто писал письма на родину, кто записывал свои впечатления в дневник. Правда, мы сомневались, что все наши письма доставляются родным. Прошло уже два с половиной месяца с тех пор, как мы прибыли в отряд. За это время я написал домой около десяти писем, а от матери получил только одно. Мои сослуживцы за все время тоже получили самое большее по два письма. Но для всех нас утешением был сам процесс писания писем. Это как-то приближало нас к родителям и друзьям, оставшимся на родине, и поэтому все писали домой аккуратно и усердно. В дневниках не разрешалось писать о работе. Как и письма, они служили нам лишь для собственного утешения и не содержали ничего, кроме личных воспоминаний.
Как-то вечером, когда мы были заняты письмами, неожиданно открылась дверь и вошел Оми.
— Хаманака, что ты там рассматриваешь? — сразу же спросил он и, не взглянув на остальных и не ответив на приветствия, направился прямо к Хаманака, который что-то быстро спрятал под стол.
— Покажи! Чья фотография?
— У меня… ничего нет, — нерешительно ответил Хаманака, кончиками пальцев поправляя очки.
— Почему не выполняешь приказание? — Оми оттолкнул Хаманака и вынул из-под стола спрятанную там фотографию.
— Кто эта женщина? — злобно спросил он.
Мы смутно догадывались о том, что Хаманака дружит с дочерью врача — Имадо Мицуё, который также работал в общем отделе. Из разговоров вольнонаемных мы знали, что его дочь была очень красива. Разумеется, Оми не мог не узнать ее на фотографии.
— Это фотография девушки Имадо, — спокойно проговорил Хаманака.
— Что? Что это значит? Скотина! От нее получил?
— Нет, я нашел, — солгал Хаманака.
Я дрожал от страха за Хаманака. В его ответе и поведении был скрытый вызов, и это не могло не вывести из себя Оми.
— Нашел?.. Лжешь! Любуешься фотографией девчонки, ухмыляешься и, наверное, думаешь, скотина, что занимаешься нужным делом?.. Я тебя!..
Оми занес правую руку за спину. «Сейчас ударит», — подумал я.
Словно готовясь принять оплеуху, Хаманака снял очки и, едва сдерживая волнение, продолжал:
— Господин Оми, вы не верите мне? Я действительно нашел ее. Но если вы думаете, что я говорю неправду, пожалуйста, делайте со мной что угодно.
— Смотри у меня!
Оми выругался и, опустив руку, долго смотрел в лицо Хаманака, бледное, нервно подергивающееся.
— Если лжешь, то пощады не жди! Понял? Фотографию я сам передам господину Имадо.
С этими словами Оми, громко стуча сапогами, вышел из помещения. Ему пришлось признать, что на этот раз он потерпел поражение, но весь его зловещий вид как бы предупреждал, что при первом удобном случае он жестоко отомстит Хаманака.
Как только Оми скрылся за дверью, Хаманака вдруг разрыдался.
— Мерзавец! Какой мерзавец!..
И ему было от чего плакать. Безотчетная тоска, досада, стыд — все это вызвало в его душе бурю переживаний. И больше всего стыд. Ему было стыдно за себя, за то, что он солгал, будто нашел фотографию, которую на самом деле подарила ему любимая девушка. Ему было мучительно больно от того, что эта драгоценная для него вещь из-за собственного малодушия попала в руки чужого, грязного, жестокого человека.
Большим утешением для нас был просмотр кинофильмов по субботам. В большинстве случаев нам показывали узкопленочные фильмы о проводившихся в отряде опытах. Демонстрация таких фильмов была как бы продолжением занятий, и все же мы всегда ждали наступления субботы.
Однажды нам показали фильм, который несколько отличался от тех, которые демонстрировались прежде. Это был документальный фильм о практическом использовании чумных бацилл, которые мы сами выращивали. Он предназначался лишь для закрытого показа в отряде в качестве иллюстративного учебного материала для личного состава, работающего над культивированием чумных бацилл. В нем показывались действия диверсионной группы в одной из маньчжурских деревень, которая условно была принята за расположение главных сил противника.
Действие в фильме развертывается так. Переодетые диверсанты под покровом ночной темноты с корзинами, похожими на те, в которых обычно переносят голубей, проникают в деревню, находящуюся в «глубоком тылу противника». В корзинах зараженные чумой крысы с паразитирующими на них блохами. Укрываясь в тени построек и деревьев, диверсанты быстро открывают крышки корзин. Из корзины выпрыгивает одна крыса, за ней вторая, третья… Внутри корзина разделена на несколько отделений с таким расчетом, чтобы при каждом открывании крышки оттуда мог выскочить только один зверек. Зараженные чумой крысы очень худые, а глаза у них сверкают, как стеклянные бусинки. Выпущенные крысы прячутся в кладовых, за домашней утварью, в щелях стен и смешиваются с местными крысами. Блохи, паразитирующие на крысах, зараженных чумой, перескакивают на здоровых[12]. Вскоре среди крыс этой деревни вспыхивает чума. Многочисленные блохи, насосавшись крови больных крыс, а также мухи разносят инфекцию. Через два-три дня в деревне появляются первые больные чумой. На экране видны мухи, бесчисленные тучи мух… Они садятся на мокроту, слюну, выделения из носа и экскременты больных чумой, а затем перелетают на продукты и переносят на них бациллы чумы, которые содержатся в выделениях больных. Человек, употребляя эти продукты, заболевает легочной формой чумы.
Применялись и другие способы заражения населения. Чумные бациллы помещали в пробирки, которые затем бросали в колодцы и водоемы. На обочинах дорог «теряли» автоматические ручки, в колпачки которых были помещены возбудители чумы. Переодевшись в платье китайских крестьян, члены диверсионных групп ходили по деревням и раздавали детям сладкие пирожки с «начинкой», то есть зараженные чумой. Особенно страшным является заражение колодцев. В Маньчжурии колодцы являются основным источником снабжения водой. В некоторых ее районах лишить население колодцев — все равно, что вынести ему смертный приговор.
Если в кровь попадает большое количество вирулентных чумных бацилл, то возникает общее заражение крови и человек умирает. При заболевании чумой у человека возникает жар, чередующийся с сильным ознобом, начинается сильная рвота, глаза наливаются кровью, ноги заплетаются, как у пьяного, речь становится невразумительной. Происходит воспаление лимфатических узлов, а вследствие высокой температуры начинает сохнуть кожный покров. Затем в тканях, окружающих лимфатические узлы, развивается воспаление и из-за подкожных кровоизлияний кожа темнеет. Болезнь длится обычно не больше недели, затем, как правило, наступает смерть. Наблюдались случаи, когда старики и ослабленные болезнью умирали гораздо раньше, еще до воспаления лимфатических узлов.
Все деревни, где вспыхивала эпидемия чумы, обычно сжигались дотла. В некоторых случаях вирулентность чумных бацилл была слабой и болезнь принимала затяжной характер: опухоль лимфатических узлов опадала и наступало как бы полное выздоровление, но через двадцать с небольшим дней болезнь вспыхивала с новой силой.
Учитывая коварный характер чумных бацилл, все члены диверсионных групп, возвращавшиеся с задания, изолировались от окружающих. Они в течение нескольких дней проходили строгий карантин вне расположения отряда, а их одежда тщательно проверялась и подвергалась соответствующей обработке.
Хаясида вернулся с гауптвахты через десять дней. Он остановил меня, когда я выходил из столовой после ужина.
— Извини меня, я виноват перед тобой… Действительно, не стоило тогда связываться.
— О, как хорошо, что ты вернулся! Ведь я все время только и думал о том, что теперь с тобой будет.
— И я тоже много думал в тот вечер о том, как быть? Но, понимаешь, поступить иначе я не мог. Ведь я обещал, и мне было неприятно даже подумать, что меня могут посчитать трусом. Все уже было согласовано. Я должен был уронить учебную винтовку, это было сигналом.
Так начал свой рассказ Хаясида. Судя по его рассказу, дело было так.
В тот вечер Комия дежурил. Было решено, что, когда он будет делать обход, Хаясида подаст сигнал. Приближался решающий момент. В казарме царила мертвая тишина. Все, за исключением «заговорщиков», спали. Хаясида, притворяясь спящим, держал в руках один конец шнура. Другой конец был привязан к прикладу учебной деревянной винтовки, которая стояла в пирамиде. Замысел Хаясида был прост: он потянет за шнур, винтовка упадет, и это будет сигналом. Услышав шаги Комия, он несколько растерялся.
— Ишь, притворились, что спят, — насмешливо сказал Комия, поровнявшись с койкой Хаясида.
«Чего же я жду?» — мелькнула у Хаясида тревожная мысль, и он дернул шнурок. Винтовка с грохотом упала на пол.
— Что?.. Что такое? — закричал Комия, еще не понимая, что случилось.
Несколько человек, напряженно ожидавшие сигнала, вскочили с постелей и стали расхватывать из пирамиды учебные винтовки.
— Бей! — крикнул кто-то и ткнул прикладом в Комия.
— Мерзавцы! Вы что, бунтовать?! — дико заорал тот.
— Не шуми! Мы тебе сейчас не солдаты!
Обезумевший от ярости Комия, на которого со всех сторон сыпались удары, схватил одну из стоявших в углу боевых винтовок и стал неистово размахивать ею.
Караульные прибежали уже после того, как Комия, выплевывая выбитые зубы, с окровавленным лицом выскочил вон. Когда был наведен порядок, Хаясида и другие участники ночного происшествия, очутившись на гауптвахте, упали духом. Но случилось так, что в самом начале расследования на первый план неожиданно всплыл вопрос о пехотной винтовке образца 1905 года, которой потрясал Комия. На боевом оружии был поврежден государственный герб — хризантема. Вероятно, Комия в припадке ярости задел винтовкой за печку. О том, что произошло в отряде этой ночью, было известно только военному министерству и командованию Квантунской армии. От войсковых частей этот факт держали в строгой тайне. По указанию начальника отряда дело было прекращено, и все участники расправы с Комия вернулись в свою группу. Начальником группы вместо Комия был назначен наш бывший вербовщик Накано. Комия перевели в один из филиалов отряда.
Закончив свой рассказ, Хаясида на некоторое время задумался, а потом, как бы подводя итог, заключил:
— Да, но мы от этого ничего не выиграли, наоборот… За нами теперь будут следить. Что ни говори, но мне почему-то неловко перед товарищами. Они задумываются: не останется ли все по-старому? У меня тоже нет никаких надежд на будущее. Я уже примирился с мыслью, что всю жизнь придется возиться с крысами и мышами.
— Что делать? И я в таком же положении. Но не надо падать духом. Давай-ка прогуляемся лучше, забудем на время обо всем. Не хочешь пройтись к аэродрому? — предложил я, желая перевести разговор на другую тему.
Я не знал, как отвлечь Хаясида от грустных мыслей, и, словно автомат, то и дело повторял:
— Забудь, забудь, не думай ни о чем!
Мы не спеша направились в сторону аэродрома, но вдруг Хаясида остановился.
— Знаешь, вот я сейчас осмотрелся вокруг, и мне так захотелось бежать из этого ада. В душе я сознаю, что это невозможно, но у меня скверный характер: не успокоюсь, пока не выполню то, что задумал.
Я был поражен. Мысль о побеге не раз мелькала и у меня. Но каждый раз я убеждал себя, что нужно во что бы то ни стало преодолеть этот соблазн. И вот именно из-за того, что я все время старался избавиться от этого соблазна, меня неотступно мучила мысль, что когда-нибудь благоразумие изменит мне.
Мы с Хаясида до позднего вечера просидели в садике на скамье. С наступлением вечера на смену дневной жаре пришла вечерняя прохлада. Беседа наша шла вяло, но мы были только вдвоем, и одно это было для нас каким-то умиротворением. В расположении учебного отдела раздался сигнал отбоя. Мы встали и распрощались. Проводив взглядом Хаясида, я поспешил в свою казарму.
Остановившись у входа в комнату, я услышал язвительный голос Оми. Войдя в помещение, я увидел Морисима и Кусуно, которые стояли на коленях, почтительно слушая начальника. Хаманака еще не вернулся.
— Где был? — спросил меня Оми, презрительно осмотрев с головы до ног.
— Ходил на прогулку, — ответил я.
— Вероятно, берешь пример с Хаманака?
— А что такого сделал Хаманака?
— Да говорят, что он все время отирается у казенных квартир, где живут вольнонаемные и врачи.
Я замечал, что в последнее время Хаманака часто встречается с барышней Имадо. Оми, по-видимому, пришел специально, чтобы что-то сделать с Хаманака.
— А где Хаманака? — спросил он, хотя прекрасно догадывался об этом и сам.
— Я не знаю.
— Не знаешь?! Он не знает, куда пошел его товарищ по оружию! Не думаешь ли ты этим оправдаться? Я не допущу, чтобы ты строил невинную рожу! Видите ли, он был один, ходил на службу и ничего не знает… Я не погляжу, что ты земляк Акаси… Если ты думаешь, что из-за этого я, как другие, буду с тобой церемониться, то ты ошибаешься. Найти Хаманака! Живо!
Действительно, я привык к тому, что все вольнонаемные относились ко мне снисходительно. Дело в том, что мои сослуживцы уже не раз получали от начальства затрещины, и только меня никто еще ни разу не тронул и пальцем. Даже Оми, и тот до этого времени считался со мной. Поэтому все думали, что я нахожусь под покровительством Акаси. Именно об этом так злобно проговорился сейчас Оми. Меня охватило тяжелое предчувствие. Вот уже около месяца Акаси не показывался, и никто не знал, где он находится. Поведение Оми навело меня на грустные размышления о том, что Акаси, вероятно, уже нет на этом свете, или же с ним произошла какая-нибудь неприятность. Во всяком случае, мне казалось, что в отряд он уже больше не вернется.
Мы встретили Хаманака как раз в тот момент, когда выходили из казармы на его поиски. Оми, не ответив на приветствие Хаманака, цинично бросил ему:
— Ну что, натаскался? — и, не дожидаясь ответа, с яростью крикнул: — Марш в казарму! Живо!
Когда мы вошли в казарму, начался допрос:
— Хаманака! Ты тогда сказал, что нашел фотографию барышни Имадо?
— Так точно…
— И ты еще продолжаешь лгать мне?
Хаманака уныло опустил голову. Он понял, что Оми все известно. Возможно, он узнал о фотографии от самой Имадо или, может быть, выследил их сегодня вечером во время свидания. Готовый во всем признаться, Хаманака тихо проговорил:
— Простите, обманул. Карточку мне подарили.
— Я знаю об этом уже давно. Говори честно, почему ты сегодня опоздал к отбою?
— Я гулял с госпожой Имадо и немного задержался, — глядя в одну точку, сказал Хаманака с решимостью человека, припертого к стенке.
Я до глубины души был поражен его спокойным тоном. Нам все время твердили, что любовь — это преступление, и откровенное признание в ней мы восприняли как бесстыдство. Но Хаманака, видимо, это было совершенно безразлично. При свете электрической лампочки у него лишь сверкали глаза да слегка подергивались бледные щеки.
— И ты еще имеешь наглость так отвечать?! Неужели ты не считаешь свое поведение недопустимым? — несколько недоуменно спросил Оми, но Хаманака промолчал. Оми во второй, в третий раз повторил свой вопрос, но Хаманака словно воды в рот набрал.
— Акияма, а ты как думаешь? — внезапно обратился ко мне Оми.
— О чем? — с невинным видом спросил я.
Я прекрасно знал, что он спрашивает меня о любовных делах Хаманака, но притворился непонимающим.
— Ты, скотина, не слушаешь, о чем я говорю? Я тебя спрашиваю: что ты думаешь о Хаманака?
Я отлично знал, что если отвечу так, как угодно Оми, то буду прощен. Но внезапно я почувствовал, что не могу осудить Хаманака, и не потому, что я осознал неизбежность любви, а просто потому, что был подавлен необычайной серьезностью Хаманака. Во всем отряде, изолированном от мира глухой стеной, на которой с полным основанием можно было написать: «Оставь надежды всяк, сюда входящий», — только Хаманака сохранил вкус к жизни. Это было понятно даже мне. Хаманака, должно быть, тоже понимал, что если он с целью угодить старшему по званию скажет ни к чему не обязывающее: «Да, виноват», — то все закончится благополучно. Но он был не из тех, кто свое жизненное благополучие строит на таком, пусть безобидном, подобострастии перед начальством. Я отдавал себе отчет, что, если поступлю в угоду Оми и осужу Хаманака, мне будет обеспечена безопасность, зато я поставлю Хаманака в безвыходное положение. И я тихо ответил:
— Я в этом совсем не разбираюсь.
— Как и ты, скотина, заодно с ним?!
И Оми отвел правую руку назад. «Ну, дошла и до меня очередь, сейчас ударит», — подумал я и стиснул зубы. Оми ударил, и я пошатнулся. Мне стало жарко, вся кровь прилила к лицу. Новыми ударами кулака он сбил с ног Морисима и Кусуно.
— Поняли, за кого вам попало? Эй ты, Хаманака! Это из-за тебя попало сейчас твоим друзьям. И все-таки ты предпочитаешь молчать? Понимаю, тебе безразлично, лишь бы не было больно самому.
— Нате, бейте! — Хаманака с застывшим лицом вышел на полшага вперед.
— Эй, вы, слушайте мой приказ! Бейте его, да как следует!
«Так вот до какой отвратительной подлости и злобы дошел Оми!» — подумал я и решительно, изо всех сил ударил Хаманака по лицу. Я чувствовал себя виноватым перед ним, и то, что я ударил его только ладонью, а не кулаком, было единственной формой протеста против Оми. Морисима и Кусуно ударили Хаманака несильно, и Оми приказал им бить еще. Издевательство над нами и Хаманака продолжалось до рассвета, только тогда Оми ушел к себе. Потом он несколько дней подряд после отбоя непременно приходил проверить, в казарме ли Хаманака. Очевидно, Хаманака после того случая отказался от ночных свиданий, и теперь он каждый раз перед сном молча сидел на своей циновке. Когда я видел его неподвижную фигуру, мне становилось не по себе. Невыносимо тяжело было чувствовать, что в нашей комнате поселилась вражда.
— Мы перед тобой виноваты, но, пожалуйста, не думай о нас плохо. Ведь у нас не было другого выхода, — обратился я к Хаманака через два дня после той памятной ночи. Больше я был не в силах терпеть.
— Да я и не сержусь. То, что вы меня избили, вполне естественно, и это вовсе не причина для обиды на вас. Наоборот, мне было бы гораздо тяжелее, если бы вы поступили иначе.
Хаманака натянуто улыбнулся и окинул нас беглым взглядом. С этого времени он стал еще более замкнутым и как будто забыл про нас, но я не осуждал друга, а скорее искренне сочувствовал ему.
Наступило 1 июля 1945 года. Утро в этот день было свежее и ясное. Когда мы с Саса и Хосака собрались в прихожей помещения, где располагалась секция Такаги, чтобы переодеться в рабочее платье, вошел техник-лаборант Сагава.
— Сегодня можно не переодеваться. Будем развлекаться, пойдем на пикник.
Мы радостно, но изумленно переглянулись. Никому из нас еще не приходилось с такой целью покидать пределы городка. Правда, один раз мы выходили в поле, но на практические занятия. Заключенные в каменных стенах, отгороженных от всего мира колючей проволокой, мы вели смертельно опасную игру только с бактериями. Поэтому мы безумно обрадовались прогулке в поле, где гуляет свежий ветерок.
Мы вышли за ворота лаборатории, а немного погодя к нам с радостными возгласами подбежало со стороны казарм более десятка сослуживцев, работавших на огородах.
— На прогулку, на прогулку!..
— Куда пойдем? — слышались со всех сторон взволнованные голоса.
— Итак, я их у вас забираю, — обратился Сагава к вольнонаемному Осуми из учебного отдела.
— Пожалуйста, прошу, — ответил тот.
Пока варили рис, приготовляли походные завтраки и наполняли фляги водой, пробило девять часов. Наконец мы вышли из городка. За оградой, куда ни взглянешь, простиралась необъятная ровная степь, покрытая травой. Над землей поднимались потоки нагретого солнцем воздуха, и поэтому далекая линия горизонта непрерывно колебалась. Показывая на северо-запад, Сагава сказал:
— Цель нашего похода — маньчжурская деревня примерно в восьми километрах от нас. Еще немного пройдем и увидим ее.
Кругом зеленела трава, и только там, где со стороны железнодорожной станции Пинфань тянулась проселочная дорога, на зеленом ковре местами виднелись желтые плешины. Мы разбились на небольшие группы и, не торопясь, продвигались вперед. Захваченные массой новых впечатлений, мы даже не замечали, что там, где проходил наш путь, не было никакой дороги. Среди низких, но разнообразных полевых трав цвели фиолетовые, высотой до пятнадцати сантиметров ирисы, какие-то незнакомые мне цветы оранжевого цвета, а иногда попадались даже красные лилии.
— Кажется, у нее съедобные корни? — сказал как-то Хосака и дважды попытался вырвать с корнем лилию, но оба раза неудачно. Земля затвердела, и откопать корни растения руками было невозможно.
Вскоре показалась деревня. Я сказал, что кругом простиралась ровная степь. Но потом, внимательно присмотревшись, и заметил кое-где отлогие холмы и небольшие ложбины; казавшиеся игрушечными, домики крестьян то показывались, то скрывались из виду в складках местности. Нещадно палило солнце, и я чувствовал, как по телу ручейками струился пот. Только лишь слабый, порывистый сухой ветерок время от времени обдувал лицо и освежал разгоряченное тело. Самые нетерпеливые стали все чаще прикладываться к фляге с водой.
— Эй вы! Воду беречь. Дальше еще труднее придется. В деревне из колодцев пить нельзя, — предупредил Сагава.
Пришли в деревню около полудня. В ней насчитывалось не больше двадцати дворов. Низкие, с плоскими крышами домики, обмазанные глиной, стояли в один ряд. У дороги росли две-три небольшие, скрюченные, словно забывшие выпрямиться, ивы. С тех пор как я приехал в Маньчжурию, я почти не видел деревьев.
— Все жители этой деревни имеют специальное разрешение штаба армии на право проживания здесь. Ведь эта деревня находится в каких-то восьми-десяти километрах от нашего отряда, — объяснил Сагава тем, кто стоял неподалеку от него.
Старики, месившие под навесом глину, босоногие ребятишки, выглядывавшие из домов женщины — все с любопытством рассматривали нас. Когда мы расположились в тени и развернули свои завтраки, ребятишки, до сих пор застенчиво державшиеся поодаль, подошли ближе. Некоторые из нас пытались завязать беседу на их родном языке и писали китайские слова катаканой[13]. Сагава, как и следовало ожидать, покорил всех ребят знанием их родного языка. Достав из вещевого мешка сладкие пирожки с бобовой начинкой, он оделил ими каждого. Со стороны это выглядело бы довольно трогательно, если бы не странное выражение лица Сагава: оно выражало жестокость и какую-то напряженность. Но тогда я не придал этому почти никакого значения, хотя и должен был знать, что угощение ребят — один из приемов работы диверсионных групп, как это показывали нам в одном учебном кинофильме.
Зачерпнув из колодца прохладной воды, мы ополоснули разгоряченные лица, намочили полотенца, положили их под головные уборы и вскоре тронулись в обратный путь. Если в деревню мы шли не спеша, то возвращались куда быстрее. Солнце стояло еще высоко, и было очень жарко. Когда мы подходили к городку, Сагава затянул марш Квантунской армии, и мы с песней вошли в ворота на территории городка, откуда, быть может, опять долго не удастся выйти.
Прошло несколько дней. Однажды утром мы, придя на службу, заметили необычное оживление в секции. По коридору взад и вперед сновали озабоченные вольнонаемные. По отрывочным словам, доносившимся из лаборатории, я понял, что в деревне, где мы были, вспыхнула чума. С ужасом я вспомнил зловещую улыбку на лице Сагава в тот момент, когда он раздавал детям сладкие пирожки. Оказывается, наша прогулка также преследовала цель проверить эффективность одного из методов распространения инфекционных болезней. Работники лаборатории потом по очереди должны были ездить в эту деревню, чтобы наблюдать за тем, как протекает эпидемия, и на месте испытывать эффективность лечебных препаратов. На этот раз в качестве ассистента послали и меня. Одетые с целью самозащиты в специальные резиновые костюмы, мы под палящими лучами яркого солнца чувствовали себя словно в бане. На улице не было ни одного жителя. Деревня строго охранялась солдатами нашего отряда. Дома, где были больные чумой, с целью предупреждения распространения инфекции мухами были обнесены мелкой белой металлической сеткой, похожей на сетку от москитов.
Все дети, которых Сагава оделил сладкими пирожками, заболели легочной формой чумы, и некоторые уже умерли. Один за другим в деревне появлялись новые больные. Значит, тучи мух и полчища блох уже разнесли чумные бациллы по всей деревне. Когда я вместе с военным врачом Цудзицука вошел в один из домов, обнесенный металлической сеткой, перед нами открылась такая страшная картина, что даже я, видавший уже немало на многочисленных опытах и фотоснимках, от ужаса то и дело закрывал глаза. Когда мне казалось, что среди трупов я узнаю какого-нибудь мальчугана из тех, которые в тот день так беззаботно играли среди нас, я готов был громко разрыдаться.
Наш отряд готовил новое действенное оружие, чтобы применить его в целях завоевания окончательной победы, поэтому такие опыты были необходимы. Испытывая сострадание к жертвам этих опытов, я тем самым нарушал свой служебный долг. Я прекрасно понимал это и все же не мог спокойно смотреть на несчастных.
Моя обязанность заключалась в том, чтобы помогать при вскрытии трупов с целью извлечения легких, селезенки и других органов для изготовления препаратов, необходимых при проведении исследований. У меня не было никакого желания вникать в порученную мне работу, и я выполнял ее механически, по привычке. Сквозь стены до нас доносились жалобные стоны умирающих, а за проволочной сеткой слышалось громкое жужжание мух, привлеченных сюда запахом человеческих внутренностей.
В зачумленной деревне мы провели не более часа, но у меня от нервного напряжения кружилась голова и подкашивались ноги. Нервы мои были напряжены до предела, я чувствовал себя совершенно разбитым, когда вернулся в расположение отряда. Примерно через неделю деревня была сожжена. Возможно, не все жители умерли от чумы, но так как опыт следовало держать в строгой тайне, то говорили, что все оставшиеся в живых были расстреляны. Судя по кинофильму, о котором я уже упоминал, подобные жуткие опыты на людях в широких масштабах проводились несколько раз до и после этого случая.
С зимы 1942 года до весны 1943 года в Нунане свирепствовала эпидемия чумы, и из четырех-пяти тысяч крестьянских дворов больше половины было сожжено дотла. Видимо, и там дело не обошлось без диверсионных групп Отряда 731.
В Маньчжурии, как и в центральной Аравии, центральной Африке и других районах земного шара, есть места, где бывают вспышки чумы. Нунань является одним из таких районов, и нет ничего удивительного, что эпидемия чумы приняла здесь широкий размах. Но все диверсии планировались с таким расчетом, чтобы вспышки чумы выглядели естественно и чтобы ни у кого не возникло и мысли о возможности диверсии. Этим же, вероятно, можно объяснить и то, что операция в Нунане у жителей не вызвала подозрений. Более того, было распространено мнение, что только благодаря усилиям Отряда 731 число жертв удалось свести до минимума. Но вирулентность чумных бацилл в естественных условиях и в культуре различна, не одинакова и скорость их размножения. Между прочим, в отдельных случаях эти микробы могут отличаться и по своей форме. Что касается вспышки чумы в Нунане, то большинство специалистов пришло к выводу, что в данном случае возбудителем были искусственно выращенные чумные бациллы.
Не улеглось еще возбуждение, вызванное сожжением маньчжурской деревни, как мы получили печальное известие о падении острова Окинава. Из сообщений по радио, которое имелось в лабораториях, и из газеты «Мансю Ниппо», ежедневно вывешивавшейся на стене, мы; знали о переломе в ходе войны не в нашу пользу. После: известия о падении Окинавы мы остро почувствовали, что война вступает в решающую фазу. Не исключалась возможность, что вслед за этим противник высадится в Китае или на острова собственно Японии.
Но слово «поражение» еще не вошло в наш обиход.
Примерно в это время вернулся вылетавший в Японию командир нашего отряда Исии. Он собрал отряд и обратился к нам с проникновенной речью, в которой сквозила тревога. Ходили упорные слухи, что он в этот раз, как и летом 1944 года, после падения Сайпана, настаивал на применении бактериологической бомбы, утверждая, что это сразу же изменит обстановку на фронтах в нашу пользу. Он говорил о несокрушимости Японии — страны богов, о возросшей роли нашего отряда, призывал нас верить в окончательную победу и отдать свои силы выполнению служебного долга. Но его возбуждение и непрестанное подчеркивание нашего долга только взвинтило до предела наши и без того напряженные нервы.
И как бы подтверждая, что мы попали в тяжелое положение, — а это и без того было ясно из речи Исии, — на вечерней лекции один преподаватель, чтобы ободрить нас, сказал:
— Скоро мы создадим новое оружие, которое потрясет весь мир. Тогда мы сможем уничтожить сто миллионов человек.
На этой единственной надежде тогда строились все расчеты. «Раз так говорит высшее начальство, значит, это правда», — таково было общее мнение.
В июле начались тревожные дни. Рядом с аэродромом готовили капониры для самолетов. Для этого было мобилизовано около тысячи китайских кули, да и мы иногда целыми днями были заняты рытьем окопов и других укрытий.
Как-то я, Саса и Хосака вместе с вольнонаемным Коэда отправились к месту работ. Мы миновали котельную и пошли, направляясь ко второму аэродрому. Перед нами открылась картина, напомнившая почему-то далекие времена. Полуголые босые китайские кули, которые были похожи на первобытных людей, равнодушно, механически копали и переносили землю. Их было великое множество, однако не было слышно ни громких разговоров, ни шуток. Царила такая удручающая тишина, что казалось, будто это не люди работают, а копошатся шелковичные черви.
— Там бомбы сложены, — сказал, ни к кому не обращаясь, Хосака.
Внимательно присмотревшись, мы увидели, что действительно направо от нас, рядом с постройками, высились штабеля покрытых красной ржавчиной бомб. Каждая из них длиной была, наверное, в рост человека.
— Неужели мы стали изготавливать и бомбы? — спросил я Коэда.
— Гм… такие бомбы раньше применяли на фронте, а теперь их направили к нам. Ведь это обычные бомбы.
Мы закончили работу в пять часов и вернулись обратно, китайцы же работали почти всю ночь напролет и за два дня соорудили три укрытия. Транспортных самолетов в отряде было семь, но так как они непрерывно несли службу связи с филиалами отряда и выполняли другие задания командования, а следовательно, почти все время находились в воздухе, то достаточно было трех укрытий.
На южной стороне городка, недалеко от жилых домов, где проживали администрация и вольнонаемные, под землей в виде треугольника была выстроена казарма, где разместили до двух рот саперов и «оружейников» — специалистов по бомбам, прикомандированных к нашему отряду. В сущности, это были диверсионные группы. Говорили, что их прикомандировали к нашему отряду для обучения применению бактериологических бомб в тылу противника. Они должны были играть роль ударных отрядов, но, насколько они были подготовлены к этому, никто не знал. Личный состав этих рот состоял из довольно пожилых солдат, призванных из запаса, и потому никак нельзя было сказать, чтобы они отличались высоким боевым духом. Наоборот, чувствовалось, что они деморализованы. Судя по тому, как они ползали на плацу во время учений, можно было сказать, что солдаты совершенно не привыкли к военной службе. Чтобы поднять боевой дух, их каждый вечер заставляли распевать военные марши. Даже нам становилось невыносимо грустно смотреть, как они с песнями маршировали по плацу, освещенные багровыми лучами заходящего солнца.
Часть отряда переводят в Тунхуа[14]
В середине июля часть личного состава отряда, примерно одна десятая каждого отдела, во главе со вторым отделом переехала в Тунхуа. Ходили слухи, что и весь наш отряд вскоре передислоцируется туда же. К части отряда, переведенной в Тунхуа, были прикомандированы вольнонаемные Асабу из секции Такаги и Сато из учебного отдела. Причину передислокации нам объяснили тем, что скоро могут начаться военные действия, но тогда никто из нас еще не представлял, какая опасность нависла над Японией. Работы стало значительно больше, и все чаще приходилось работать в лабораториях всю ночь напролет. Из-за недосыпания и переутомления участились несчастные случаи при работе со смертоносными бактериями, и число инфекционных заболеваний среди личного состава возросло.
— Если дорожите жизнью, будьте внимательны, — почти каждый день предупреждал нас военный врач Цудзицука.
Случаев инфекционных заболеваний было много, и возникали они по самым различным причинам, но главной причиной были рассеянность и ослабление внимания.
При посеве бактерий работающему все время приходится прокаливать платиновую петлю. Техник-лаборант Сагава постоянно твердил нам:
— Осторожнее прокаливайте петлю.
Если ее очень резко вводить в пламя, то бактерии могут разлетаться и попадать на руки и другие части тела.
Такой несчастный случай произошел с моим земляком Кусуно, с которым мы жили в одной комнате. Кусуно положили в госпиталь, заподозрив у него чуму.
Возвращаясь однажды глубокой ночью с работы в казарму, я почувствовал в нашей комнате запах карболовой кислоты, — этот опостылевший мне запах, от которого я только что избавился, вырвавшись из лаборатории. В дверях комнаты я невольно остановился в предчувствии чего-то недоброго. Хаманака и Морисима лежали в постелях, но не спали.
— Что случилось?
— Кусуно взяли в госпиталь. Говорят, у него чума, — ответил Морисима.
Я был ошеломлен. У меня сложилась твердая уверенность, что раз Кусуно и Морисима работают в метеорологической секции второго отдела, то для них опасность заболеть чумой исключена. Затем я вспомнил: дня три назад Кусуно послали в помощь в питомник, где работал Хаясида, заниматься с крысами, которые за последнее время прибывали отовсюду.
— Это произошло недавно, в питомнике? — спросил я.
— Да, наверное, там. Когда его брали в госпиталь, он сказал, что ничего страшного нет, но нам тоже сделали уколы. Что ни говори, а все же страшно, — ответил Морисима.
За себя я не боялся, так как нам регулярно делали противочумные уколы, но несчастный случай с Кусуно меня обеспокоил. Было неизвестно, чем все это кончится. Он мог и умереть.
— Ну, я сбегаю в госпиталь, — сказал я.
— А может, лучше не ходить? Как-никак, а… — проворчал Морисима.
— Да, но ведь мы земляки.
И я отправился в госпиталь.
В коридоре госпиталя, освещенном желтоватым светом электрических ламп, стояла глубокая тишина, и я испугался звука собственных шагов.
Дежурный преградил мне путь и подозрительно спросил:
— Что надо? В такое время…
Я объяснил ему, что работаю в чумной секции, и спросил о состоянии Кусуно.
Как раз в это время начали бить стенные часы. Бом-бом-бом… Я насчитал двенадцать ударов. Дежурный задумался было, но потом небрежно ответил:
— Раз вы работаете в этой секции, то вам, возможно, разрешат свидание, но не сегодня. Сейчас уже поздно. Приходите, когда будет врач.
Когда я повернулся и пошел к выходу, он бросил мне вдогонку:
— Но оснований для беспокойства как будто нет. Говорят, что у него легкая форма.
Я было несколько успокоился, но потом вспомнил, что, когда я перед этим вернулся в казарму, товарищи не проронили ни слова. Чем же объяснить, что они и рта не раскрыли?
Когда я пришел в казарму, дежурный по блоку собирался уходить из нашей комнаты.
— В госпиталь ходил? — спросил он, хотя ему, вероятно, уже сказали об этом. — Немедленно ложись спать, а то завтра будешь носом клевать!
Затем он повернулся в сторону Хаманака, который сидел, понурив голову, и, усмехаясь, спросил:
— А барышня-то, наверное, заждалась, беспокоится. А?
Я сначала не понял, что он этим хотел сказать, но потом догадался, что речь шла, вероятно, о девушке Имадо.
Не успев обсохнуть после дезинфицирующего душа, я улегся в постель и невольно переглянулся с Морисима. Глазами и мимикой мы пытались поговорить о Хаманака, который лежал, свернувшись калачиком, под шерстяным одеялом. Наконец я тихо спросил:
— Куда-нибудь уехала?
— Говорят, в Тунхуа, но… — начал было Морисима, но тут из-под одеяла послышался раздраженный, приглушенный голос Хаманака:
— Замолчи!
Мы смолкли. Обидевшись, я хотел что-то возразить, но тут опять раздался голос Хаманака, в котором чувствовались слезы. Я представил себе его состояние и, проникнувшись чувством сострадания к несчастью влюбленных, страдающих в разлуке, решил оставить его в покое. Я тихонько встал и выключил свет.
Ложась спать, я собирался на следующее утро пораньше сходить в госпиталь, но так как, несмотря на усталость, я долго не мог заснуть после отбоя, то проснулся только по сигналу подъема. Я быстро вскочил с постели и только тогда вспомнил, что надо проведать Кусуно. Но у меня уже не было времени. Я тотчас же отправился в лабораторию, то и дело поглядывая в ту сторону, откуда должен был показаться Хаясида. Вот наконец и Хаясида.
— Большое несчастье! — крикнул я ему вместо приветствия.
— Что такое? — спросил он, глядя на меня широко раскрытыми глазами.
— Ты знаешь, что Кусуно заразился чумой?
— Неужели?! Как это случилось?
— На днях Кусуно был послан к вам на работу.
— А, это твой земляк.
— Да, он. Кажется, в тот же день он и заразился. Что там у вас произошло в тот день?..
Времени у меня уже не оставалось, я торопился.
— Не знаю. Я впервые слышу от тебя. Кажется, он пересаживал крыс и в это время что-то стряслось.
Хаясида как будто старался что-то вспомнить. В его взгляде видна была растерянность. Мне пора было уходить на работу.
— А. черт! Что же могло случиться? — силился припомнить Хаясида.
— Его положили в госпиталь, но я его не видел. В обеденный перерыв думаю сходить навестить, — уже на ходу крикнул я.
— Я тоже пойду с тобой…
Я обернулся на голос Хаясида и, кивнув ему, побежал на работу.
В этот день мы, как обычно, занимались пересевом чумных бацилл. За работой я спросил Коэда, как заражаются чумой, и о симптомах заболевания.
Мой вопрос был связан с болезнью Кусуно. Хотя я знал, что блохи являются переносчиками чумных бактерий, но отчетливо не представлял себе, как бактерии попадают в организм.
— Бывают случаи, когда никак нельзя утверждать, что заражение произошло только из-за неосторожности. Принято считать, что на трупах крыс, обработанных кипятком, уже не может быть блох, но на самом деле в отдельных случаях могут остаться живые блохи, а стало быть, и микробы, а раз так, то… — этим предисловием начал Коэда свой рассказ о том, каким образом может происходить заражение чумой. Из его рассказа мы узнали следующее.
До сих пор считалось, что заражение происходит вследствие того, что чумные бациллы, переполнившие преджелудок блохи, извергаются в ранку при укусе. Но сейчас некоторые ученые утверждают, что заражение человека чумой происходит несколько иначе. Укушенный начинает чесаться и ногтями повреждает кожу, при этом чумные бациллы, занесенные, на кожу блохой, проникают в организм. Кроме того, при почесывании бациллы могут прилипнуть к кончикам пальцев, а затем через рот и нос попасть в организм.
В обеденный перерыв мы с Хаясида, который ждал меня у столовой, пошли в госпиталь.
Нам сказали, что Кусуно по-прежнему лежит в изоляторе. По существу, все госпитальные помещения отряда представляли собой изоляторы, но для больных инфекционными болезнями изоляторы находились в самой глубине здания.
— Нельзя, опасно. Лучше, пожалуй, не ходить, — неожиданно заявил военный врач в ответ на мою просьбу.
— А что, он очень плох? — забеспокоился я, услышав слово «опасно».
— Нет, этого я бы не сказал. Но не исключена возможность, что вы можете заразиться, потому я и говорю вам, что сейчас посещение опасно. Если бы можно было поручиться, что никакой опасности нет, его выписали бы из госпиталя. Так что лучше вам не ходить.
С доводами врача трудно было согласиться, но нам пришлось послушаться. Врач был явно не в духе, но я все же спросил:
— В какой стадии находится болезнь?
— Стадия? Если я вам и скажу о стадии, то все равно вы вряд ли что-нибудь поймете… Да, так-то вот… Раз не умер, значит и беспокоиться нечего.
Насколько я разбирался в чуме, доктор, вероятно, говорил правду, но я почувствовал себя униженным. Ненавидя старших начальников, я не доверял им. Уходил я из госпиталя, беспокоясь за судьбу Кусуно.
— Может быть, обойдется? — уныло пробормотал Хаясида.
— Говорит, ничего страшного нет. Но сказать легко, а вот каково положение Кусуно на самом деле? — с раздражением заметил ему я, расстроенный неудавшимся посещением больного.
Как и Хаясида, я не мог избавиться от беспокойных мыслей, родившихся в моей голове. Мы чувствовали, что начальство скрывает от нас действительное положение вещей. Я вынул из кармана принесенные для Кусуно молочные конфеты.
— Давай съедим?
— Давай, — и Хаясида отправил в рот сразу две штуки. — Интересно, чем в госпитале кормят, — проговорил он, думая о Кусуно.
Наши самые мрачные предположения оправдались. Кусуно мы больше не увидели.
Отдельные кинофильмы, из тех, которые демонстрировали нам, были старые и потрепанные. Во время сеанса казалось, что на экране беспрерывно идет дождь. В тот день нам показывали фильм об условиях жизни микробов, заснятый на основе опытов, проводившихся в свое время в отряде. В частности, в нем рассказывалось о способности некоторых видов бактерий переносить замораживание и высушивание. Микробы особенно устойчивы к действию низких температур. Бациллы чумы, холеры, различные гноеродные кокки и ряд других бактерий при замораживании сохраняют жизнеспособность и после оттаивания вновь начинают размножаться. Сопротивляемость же бактерий к высушиванию очень низка. Некоторые из них погибают уже через несколько часов после высушивания. Особенно нестойки к высушиванию возбудители гриппа, чумы и холеры, сравнительно стойки — кокки или палочки тифа и дифтерии. Палочки Коха и стафилококки в высушенном виде не погибают довольно долго — от нескольких десятков дней до нескольких месяцев. Возбудители столбняка и сибирской язвы не погибают даже при кипячении. Все эти выводы были неоднократно проверены на практике.
Для ведения бактериологической войны необходимо знать климатические и метеорологические условия предполагаемого района военных действий и жизнеспособность бактерий в этих условиях, так как, сколько бы бактерий ни было выращено и как бы высока ни была их вирулентность, если игнорировать среду и условия их жизни, невозможно в полной мере использовать мощь этого нового страшного оружия.
В отряде существовала специальная секция, единственной задачей которой было непрерывное и тщательное наблюдение за влиянием метеорологических условий на деятельность болезнетворных бактерий.
Бактерии особенно чувствительны к колебаниям температуры. Большинство их живет и сохраняет вирулентность при температуре примерно от 25 до 42–43 градусов выше нуля. Наилучшая температура для них — около 37 градусов выше нуля. Бациллы чумы размножаются даже и при 5 градусах выше нуля.
— Вопрос о том, какие бактерии и в каких случаях лучше применять, в основном можно считать разрешенным… Как вы считаете?.. Теперь вам понятно, почему мы так интересуемся чумой? — то и дело шептал нам Сагава по ходу картины.
После окончания фильма мы вышли на улицу. Июльское солнце клонилось к западу, но воздух был так раскален, что дышалось с трудом. Ослепленный ярким солнечным светом, я зажмурился, так как глаза отвыкли от света. Вдруг кто-то обнял меня за плечи. Это был Акаси.
Я обрадовался и почувствовал, что покраснел.
«Значит, не умер, жив», — мелькнуло у меня, и я поспешил справиться о здоровье.
— Как ваше здоровье?
— Хорошо, — несколько сконфуженно ответил он. Как и раньше, Акаси был в гражданском костюме.
Мне было очень приятно и радостно видеть, что Сагава и Коэда тоже радушно приветствовали его.
— С вашего разрешения, я заберу его у вас на некоторое время, — тихо сказал Акаси, обращаясь к Сагава, и ласково, словно любящий отец, поглядел на меня.
— Пожалуйста, сегодня у нас больше занятий нет, — ответил Сагава.
И я, провожаемый взглядами всех присутствовавших, гордо отправился вместе с Акаси.
— Еще жарко. Куда бы нам пойти? У меня на квартире и угостить-то тебя нечем. Жену я отправил на родину.
— На родину? Вы считаете, что здесь уже опасно? — спросил я, имея в виду предполагаемый переезд в Тунхуа.
— Нет, об опасности вряд ли приходится говорить, но ведь здесь я бываю редко… После нашей встречи я вскоре уехал из отряда и вернулся только вчера.
— Вот и Окинава пала… В каком мы сейчас положении? Где наша армия? — засыпал я его вопросами.
Задавая их, я надеялся узнать, применим ли мы когда-нибудь новое оружие, которое призвано устрашить весь мир, или нет. Кроме того, я рассчитывал услышать от Акаси какие-нибудь оптимистические прогнозы, но он ограничился только ничего не значащим «гм», а затем все же сказал:
— Очевидно, эта осень будет решающей для исхода войны.
Я понял, что Акаси взял меня с собой, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей. Ноги сами понесли нас в лавку. Войдя в нее с черного хода, Акаси вместе со мной прошел в маленькую комнату, где никого не было. Очевидно, здесь его хорошо знали.
— Подайте нам чего-нибудь такого… если, конечно, у вас есть, — обратился он к вошедшему мужчине.
Скоро перед нами появились шоколадные конфеты с виски. Некоторое время мы говорили о родной стороне. Под конец Акаси, смакуя виски, проговорил:
— Да, возможно, именно сейчас наступают для Японии самые тяжелые дни.
— Вы опять куда-нибудь уезжаете? — спросил я его после небольшой паузы.
— Гм!.. В последнее время работы неожиданно прибавилось. В Харбине кругом наши враги.
— Наверное, там опасно?
— И здесь и там — везде одинаково опасно, — засмеялся Акаси.
Я до сих пор не знал точно, сколько ему лет. Все вольнонаемные, которые рассказывали мне о нем, тоже точно не знали. На первый взгляд Акаси можно было дать лет сорок, а присмотревшись внимательнее — не больше тридцати. Удивительно, как он мог сохранить простое и мягкое выражение лица. Ведь на нем лежала вся ответственность за работу контрразведки, которая вылавливала шпионов, стремившихся проникнуть в наш отряд. Он свободно владел пятью иностранными языками, но без надобности никогда не показывал этого. Вероятно, в этом и была одна из причин того, что я испытывал к нему безграничное уважение и смотрел на него, как на героя.
Это была моя последняя встреча с Акаси. С тех пор и до августа 1945 года я больше ничего не слышал о нем.
После того, как любимая девушка Хаманака вместе со своими родителями уехала в Тунхуа, он загрустил. По ночам он вдруг вскакивал с постели и как безумный выбегал на улицу. Возвращался обычно не скоро, несколько успокоившись.
Так шли дни.
Кусуно не стало, Хаманака сторонился нас, и мы с Морисима чувствовали себя одинокими и тосковали. Не зная, как успокоить Хаманака, мы решили оставить его в покое и ни о чем не спрашивать.
Однажды ночью после отбоя Хаманака, как обычно, выбежал из комнаты и долго не возвращался. Приближалась ночная проверка, которая проводилась ровно в полночь. Дежурным в этот день был добрый и тихий вольнонаемный Ногути.
— Где Хаманака? — спросил он.
— Только что вышел, — ответил я.
— Вечно он делает все, что захочет. Почему вы не смотрите за ним? — проворчал Ногути.
— У него опять плохое настроение, и мы не знаем, что делать. Как бы не вышло беды, — заметил я.
— Как только он вернется, немедленно доложить, — приказал Ногути.
Было уже час ночи, а Хаманака все не возвращался. Даже молчаливый Морисима наконец не выдержал и проговорил:
— Что же это с ним могло произойти?
Ему, наверное, казалось, что Хаманака или убежал, или покончил с собой.
Впрочем, если говорить прямо, мы тогда не очень беспокоились о нем. Однако на всякий случай я все же решил проверить полку с вещами Хаманака. Увидев его вещи, я понял всю серьезность случившегося.
Обмундирование было аккуратно сложено. Ни дневника, ни других записей не оказалось. Было ясно, что Хаманака ушел.
Морисима, подойдя ко мне, сказал:
— Ну что, будем докладывать? Или лучше поискать самим? Не знаю, что и делать.
Я побежал к Ногути.
Вероятно, у меня был встревоженный вид, так как Ногути, увидев меня, даже подскочил.
— Ну как?
— Хаманака не вернулся. Я просмотрел его вещи, но…
Глаза у Ногути округлились.
— Пошли быстрее, — сказал он и направился к выходу.
По дороге я объяснил ему положение.
— Быстрее, быстрее! Хорошенькое положеньице! И всегда так. Как только мое дежурство, обязательно что-нибудь случится, — досадовал расстроенный Ногути. Он тоже был уверен, что Хаманака сбежал или покончил с собой.
Мы разбудили всех из нашей группы и начали поиски.
Из городка Хаманака выйти не мог, поэтому мы решили прежде всего осмотреть территорию.
Так как наш городок в окружности имел около четырех километров, пришлось послать людей по одному в разные стороны. Ночь стояла темная, безлунная, и это усложняло поиски.
Имея в виду случай с Абэ, я и Морисима считали более вероятным, что Хаманака покончил с собой. Но где и как он мог это сделать? «Самоубийство!» У меня это слово вызывало ужас.
Прежде всего я подумал о бассейне. Мы иногда купались в нем, но я никогда не видел там Хаманака. Вероятно, он не умел плавать. Говорили, что он боится воды и не любит купаться.
— Посмотрим в бассейне, — сказал я, и Морисима молча последовал за мной.
Полный воды бассейн едва виднелся в слабых лучах света, которые доходили от главного здания.
Встав на бетонный край бассейна, я со страхом ждал, что сейчас в его глубине увижу труп Хаманака. Ноги у меня дрожали от волнения.
Тридцать человек бродили в поисках пропавшего по всей территории, но здесь, у бассейна, были только мы вдвоем. Морисима стоял рядом, вцепившись мне в плечо. «Сейчас увижу, сейчас увижу!» — мысленно твердил я, вглядываясь в воду. Раз мне даже показалось, что на неподвижной поверхности я увидел что-то похожее на труп. Легкое дуновение ветерка слегка всколыхнуло воду, и у меня пошли мурашки по спине.
— Нет, здесь не видно. Пойдем посмотрим у храма, — сказал я.
По дороге туда кое-где росла маньчжурская вишня и деревья местами образовывали небольшие заросли. Для самоубийства трудно было бы найти более подходящее место. Когда деревья слабо зашумели, я невольно вспомнил про одного повесившегося, которого когда-то видел в своей деревне. Он висел на дереве, как большая сосулька. Вспомнив эту страшную картину, я невольно вздрогнул.
Но и здесь мы ничего не нашли. Мы продолжали искать в тени зданий, на пустыре, однако нигде не было никаких признаков Хаманака.
— Там тоже нет? Как у вас? — раздавались кругом голоса.
Прошло больше часа, и люди начали выходить из себя. Теперь проснулся уже весь отряд — все пришло в движение. Из одного дома, к которому мы как раз подошли, вышел с электрическим фонариком вольнонаемный Оми.
— Ага, растерялись? Вот болваны! Нечего здесь искать, идите со мной. Вы все в этом виноваты, — угрожающе сказал он.
И действительно, если предположить, что Хаманака удалось бежать из расположения отряда, то это означало большую беду не только для охраны, но и для всего отряда. Все это чувствовали и старались искать как можно внимательнее.
Прошел еще час. Поиски продолжались в зданиях, у земляного вала и в поле.
Небо становилось светлее, и уже отчетливо была видна земля под ногами и лица людей.
У земляного вала встретились две группы, которые шли навстречу друг другу.
— Вот он! Сюда! Сюда! — вдруг раздались оттуда крики. Все бросились на эти голоса.
У самого вала, где росла густая трава, темнело что-то похожее на камень. Это был Хаманака. Увидев Хаманака, я почувствовал к нему острую жалость: уж лучше бы он был мертв! Я с горечью думал о том, какой невыносимой станет теперь его жизнь. Бегство считалось позором.
— Этот мерзавец всех переполошил! Бежать вздумал, негодяй! — ругались подходившие вольнонаемные и рабочие и со злобой пинали Хаманака ногами.
А он сидел, съежившись и не поднимал головы…
— Вставай, вставай! Проси прощения. Если попросишь прощения, тебя не будут наказывать, — сказал Оми и, взяв Хаманака за воротник, попытался поднять его на ноги. Хаманака весь был в пыли и грязи. Очки и фуражка его куда-то исчезли, лицо было искажено ужасом.
— Ты хотел бежать? Да что молчишь, говори! — раздраженно крикнул Оми, дернув Хаманака изо всей силы и поставив его на ноги. А он только бессмысленно озирался и не проронил ни слова.
— Говори! — дико заорал Оми и замахнулся. При этом он отпустил воротник, за который держал беглеца, и тот, потеряв опору, мешком упал на землю. Казалось, он не чувствовал ни пинков, ни боли. Его подняли и потащили, а мы с Морисима печально смотрели ему вслед.
Вероятно, пробравшись к валу, он в последний момент испугался и не решился бежать. Впрочем, это каждому показалось бы невозможным. Ведь чтобы убежать, надо было перебраться через семиметровую внутреннюю стену, а за ней была внешняя стена, поверх которой натянута колючая проволока.
Наверное, он все это понимал, но не видел для себя другого выхода, кроме бегства. Жизнь в отряде была настолько тяжела, что большинство уважающих себя людей мечтало о бегстве. Жестоким ударом обрушилась на него эта неудача, последствия которой пока еще нельзя было предугадать.
Хаманака посадили на гауптвахту на неопределенный срок. Всю его одежду и личные вещи забрали в учебный отдел.
Проверяя перед тревогой вещи Хаманака, я нашел у него бамбуковый веер, который он очень ценил. Я оставил этот веер у себя, не сказав об этом никому. На веере был вырезан марш Квантунской армии и песня Управления по водоснабжению и профилактике. Эти песни вырезал на веере сам Хаманака, когда, привыкнув к жизни в отряде, он бывал в хорошем настроении. Но потом он затосковал, и, не имея больше определенной цели в жизни, решил бежать.
Я по себе хорошо понимал его чувство. Оно знакомо каждому, когда все надежды лопаются, как мыльный пузырь.
— Теперь мы остались вдвоем, а со временем и нам придется расстаться и жить в одиночестве, — с тоской сказал Морисима.
Эти слова окончательно испортили мне настроение.
— Не каркай! — грубо ответил я.
Но что же будет с Хаманака? Увидим ли мы его когда-нибудь?
* * *
Наступил август 1945 года. Начальник учебного отдела Ниси уехал в филиал отряда в Хайларе. Вряд ли он тогда думал, что в последний раз видит штаб отряда.
Пятого августа положили в госпиталь на операцию Коэда. Накануне, рассказывая нам о бактериологической бомбе, он пожаловался на боли в желудке.
— Вы, наверное, тоже когда-нибудь увидите ее, — говорил он. — Сейчас испытывается новая бомба — фарфоровая. Длина ее около одного метра, диаметр — тридцать сантиметров. Производство ее недорогое. Так как эта бомба не взрывается в обычном нашем понимании, то и нет опасения в том, что находящиеся в ней бактерии погибнут. При падении такой бомбы на землю фарфоровая оболочка разрушается от удара и бактерии вместе с питательной средой разлетаются во все стороны.
Объясняя нам это, Коэда держался за живот и корчился от боли. Когда ему посоветовали лечь в госпиталь, он стал возражать:
— Если идти на операцию, проваляешься в постели не менее двух недель, а сейчас самое горячее время. Да, пожалуй, меньше двух недель не пролежишь. Из госпиталя быстро не выпустят.
— Но ведь если много работать, то и болезнь обострится, — убеждали его многие.
Но через несколько дней обстановка изменилась так, как никто этого не ожидал.
Девятого августа 1945 года я проснулся от звука, похожего на взрыв, и прислушался к необычному шуму.
Было еще рано, но всюду слышались беготня и крики: «Подъем! Подъем!» Вероятно, что-то произошло. Я вскочил с постели, быстро оделся в рабочую форму и вместе с Морисима вышел из помещения. Мимо нас пробежал один вольнонаемный и крикнул на ходу: «Советский Союз объявил нам войну!» Это было так неожиданно, что я на мгновение остолбенел, не смея поверить своим ушам. До сих пор у нас не было даже светомаскировки и только три раза проводились учения по ПВО. Никто и не предполагал, что этот зловещий момент наступит так скоро. Высыпавший на улицу персонал оживленно обсуждал только что полученное сообщение. На соседнем аэродроме был уже поднят красный флажок воздушной тревоги, ревела сирена.
Появился Осуми из учебного отдела и приказал всем немедленно собраться во дворе. Когда построились, нами занялся армейский чиновник Ото. С дрожью в голосе, столь необычной для него, он обратился к нам:
— Теперь, когда Советский Союз вступил в войну, мы должны немедленно принять меры к ликвидации отряда с целью сохранения тайны. Сейчас вы должны быстро позавтракать и ждать дальнейших указаний… Обслуживающий персонал также переходит в подчинение учебных групп.
Подгоняемые начальниками, мы быстро позавтракали. Затем из каждой группы было выделено по пять человек. Взглянув на Морисима и Хаясида, я вышел вперед. Они последовали за мной.
Утро было сырое, но дождя не было. Впрочем, едва мы приступили к работе, как стал накрапывать дождь, который постепенно превратился в настоящий ливень.
Разместившись на двух грузовиках, мы выехали за ворота и подъехали к складам производственного отдела, где, по словам вольнонаемного Коги, хранились фарфоровые бомбы. Часть их уже перевезли в котельную. Эти бомбы были заряжены бактериями и насекомыми, зараженными чумой. Когда мы прибыли, бомбы уже бросали в огонь. По указанию военного врача мы стали отвозить на грузовиках пустые корпуса бомб и разбивать их о каменную стену. Покончив с одной партией, мы возвращались за другой. Так мы сделали несколько рейсов. Каждая бомба весила около четырех килограммов. Работая под проливным дождем, мы промокли до нитки. Нам все время твердили: «Разбивайте тщательнее, чтобы не оставалось больших осколков». Поэтому мы старательно разбивали хрупкие корпуса бомб на мелкие кусочки. Обычно это удавалось с первого же удара. У стены вырастали холмики разбитого фарфора. Около полудня работа была закончена.
Вернувшись в казарму, мы никого там не застали. По-видимому, все остальные были посланы на другие работы. Мы разделись догола и, помогая друг другу, выжали промокшую насквозь одежду и развесили ее на просушку, а сами пошли обедать.
Дождь к этому времени несколько утих, и мы услышали далекий гул мотора советского самолета, по-видимому, разведчика. Из-за сплошной облачности самолета не было видно, и слышался только отдаленный назойливый гул мотора, похожий на писк комара. Нервы у нас были напряжены до предела.
Пришел начальник группы Осуми и приказал быстрее заканчивать обед и собираться во дворе казармы. Жуя на ходу, мы отправились одеваться и затем снова вышли под дождь.
Миновав ворота, мы увидели, как у главного здания стелется по земле огромными клубами густой дым с резким запахом, какой обычно бывает при сжигании трупов в крематории или когда горит нефть. От этого ужасно неприятного запаха меня чуть не стошнило. Хаясида не вынес, и его стало рвать.
Когда нам навстречу вышло начальство из главного корпуса, большинство из нас уже мучилось от тошноты и рвоты. Нам сообщили, что советские самолеты совершили налет на Сянфан, восточнее Харбина, и на железнодорожную станцию Ачен и что войска противника ведут наступление в нашем направлении, стремясь любой ценой захватить лаборатории и персонал отряда.
Из главного здания вышел один из вольнонаемных и, обратившись к нам, сказал:
— Идите сюда, помогите нам.
Его одежда была вся перепачкана нефтью.
Двери центрального коридора, обычно закрытые, на этот раз были распахнуты настежь, и из них клубами валил дым. Коридор вел в секретную тюрьму, в которой содержались «бревна». Сегодня впервые был открыт доступ туда такому большому количеству людей. Войдя во внутренний двор, мы увидели на южной стороне закрытую дверь, которую охраняло пять-шесть человек, вооруженных винтовками с примкнутыми штыками. Нас пропустили через эту дверь, и она снова захлопнулась.
Мы знали, что обстановка серьезная и что можно ожидать всего, но, войдя в помещение, остолбенели: «Что это — ад или бойня?» — мысленно спрашивал себя каждый при виде окровавленных трупов людей, наваленных в коридорах и в камерах. Перекошенные в конвульсиях лица говорили о том, что жертвы умирали страшной, мученической смертью.
В тюрьме кипела работа. Одни вытаскивали трупы за руки и за ноги из камер, другие подтаскивали их к ямам во внутреннем дворе. Дым с отвратительным запахом, который вызывал у нас тошноту, шел из больших ям, в которых пылал огонь. Одежда и лица работавших были перепачканы кровью и нефтью, а руки стали совершенно черными даже у тех, кто работал в перчатках.
Я знал, что месяц назад во внутреннем дворе было вырыто восемь больших ям, и я думал, что они предназначены под бомбоубежище. Может быть, так и планировалось, но обстоятельства заставили использовать их иначе…
Тюремное помещение делилось коридором на две части. Западная сторона называлась секцией «ро», а восточная — секцией «ха». «Бревнам», содержащимся в них, давали номер с соответствующей литерой «ха» или «ро»[15]. Я вошел в одну из камер секции «ро» на первом этаже.
Раздалась команда выносить трупы.
Часть рабочих работала в перчатках. У нас их не было. Приходилось за все браться голыми руками. При прикосновении к трупу у меня мурашки пробегали по телу.
Судя по внешнему виду упитанных тел, заключенные обладали крепким здоровьем и не были похожи на умерших от болезни. Порой мне казалось, что некоторые из них были еще живыми и могли схватить за руку. Картина была ужасная, но мне ничего не оставалось делать, как действовать решительно.
Я стал вытаскивать трупы во двор и складывать их у огня. Другие сбрасывали их в яму и обливали нефтью. Несколько десятков трупов, сваленных в кучу, горело, распространяя ужасный запах.
В этой кошмарной операции участвовало около двухсот человек. Все были одеты в рабочую форму цвета хаки, и я не знал, кто возглавлял нас. Да и выяснять было некогда.
Постепенно я почти успокоился и стал думать о том, как, бы облегчить свою работу. Я пробовал таскать тяжелые мертвые тела то за ноги, то за голову. Непривычное занятие скоро вымотало все силы. Промокший до нитки от дождя и пота, у огня я немного обсыхал и согревался, но стоило отойти, как начинался озноб.
Чтобы не оставалось живых свидетелей, которые могли бы рассказать о существовании необычной тюрьмы, заключенных умерщвляли цианистым калием, отравив им пищу. А тех, кто, предчувствуя беду, не принял в тот день пищи, расстреливали из пулеметов через окошки в дверях для передачи пищи. Раненых потом добивали из пистолетов.
Постепенно весь первый этаж был очищен от трупов. До подхода советских войск нам предстояло уничтожить трупы, разрушить тюрьму и укрыться в безопасном месте. Поэтому нас ни на минуту не покидала мысль о том, что мы не можем считать себя в безопасности, пока останется несожженным хоть один труп. Много трупов было еще на втором этаже. Вечером началась уборка второго этажа. Мы подносили трупы к лестничной клетке и сбрасывали вниз.
Скоро стало очевидным, что сжечь все трупы в восьми ямах невозможно. Не успевала сгореть одна партия трупов на дне ямы, как на нее сбрасывали другую. Если бы трупы сгорали полностью, то хватило бы места для всех, но нас торопили. К семи часам вечера все восемь ям были заполнены пеплом и костями с остатками несгоревшего мяса, но у ям оставались еще груды мертвых тел.
— Просчитались… Что же делать? Не вырыть ли ямы за оградой? Успеем ли? — переговаривалось между собой начальство. К командованию был направлен посыльный, чтобы доложить о возникшем затруднении. Некоторые предлагали на рытье ям использовать саперов. Но командование не хотело, чтобы саперы, которые жили в казармах по соседству с нами, знали о том, что произошло в тюрьме. Кроме того, трупы за оградой могли увидеть китайцы, использовавшиеся на тяжелых работах. Время шло, и нужно было что-то предпринять. Вскоре был отдан приказ носить воду, чтобы гасить огонь в ямах.
Мы начали по цепочке передавать ведра с водой и заливать пламя. Сначала горящая нефть вспыхнула еще сильнее, но затем огонь постепенно ослаб. Двор погрузился в полумрак. Когда огонь полностью погас, мы начали извлекать трупы из ям. Полностью сгоревшие трупы рассыпались, и мы выбрасывали пепел и кости лопатами и вилами. Но большинство трупов сгорело лишь частично. Обезображенные огнем, они до некоторой степени сохраняли форму: можно было различить туловище, голову, конечности. Мы пытались поддевать отдельные части вилами, но вилы не задерживались в сгоревшем мясе, и поддетые куски падали обратно в яму. Поэтому ничего не оставалось делать, как вытаскивать их руками. Но и руками было работать очень трудно. Вздувшееся и, казалось, упругое человеческое мясо в руках расползалось, как размокшее мыло, и проскальзывало между пальцев. Кроме того, поскольку трупы сжигались наваленными друг на друга как попало, их трудно было вытаскивать даже руками.
Ничего не оставалось, как, стиснув зубы, погружать руки в жирное месиво и выбрасывать наверх. Нам, привыкшим к трупам, уже не действовали на нервы ни вид обожженных костей, ни удручающий запах, однако полуобгоревшие части человеческих тел и внутренности то и дело заставляли содрогаться от ужаса. Особенно страшно было, когда попадались головы с частью сохранившегося лица. Нечаянно схватившись за такую голову, черную с одной стороны и как бы еще живую с другой, с которой смотрели еще не потерявшие своего блеска глаза, я чувствовал себя парализованным духом мести, веявшим от этих глаз.
Казалось, не будет конца изнурительной работе. На лицах людей, занятых ею, уже невозможно было прочесть обычного человеческого выражения. Я, совершенно обессилев, еле двигал руками и, подобно безумному, не чувствовал, как от жара у меня на голове иногда загорались волосы.
Дождь продолжал лить как из ведра. Скоро во двор въехало несколько грузовиков. Подвезли дробилки для измельчения костей. Теперь над извлеченными из ям остатками трупов стали проделывать новую операцию. Отдельные части с силой ударяли о землю, били по ним лопатами, чтобы отделить мясо от костей. Мясо снова бросали в ямы, обливали нефтью и поджигали. Кости закладывали в дробилку, где они размельчались, затем их насыпали в грузовики и вывозили за ограду. Уже темнело, но работы было очень много. Повсюду валялись кости и окровавленные куски мяса.
Скоро установили прожекторы, и работа продолжалась.
Когда один из грузовиков, возвращаясь из очередного рейса, проезжал мимо, из кузова выпрыгнул человек и хлопнул меня по плечу. Это был Хаясида. Мы молча посмотрели друг на друга. Хаясида кивком головы показал на автомашину, как бы спрашивая, не хочу ли я прокатиться с ним. Я согласился. Взявшись за лопаты, мы загрузили машину измельченными костями, похожими на мелкую угольную крошку, и сели в нее.
— Во всяком случае, эта работа лучше, — сказал Хаясида.
Размокшая от дождя земля превращалась под колесами в месиво, и из-под машины фонтаном вылетала жидкая грязь. Выехав за ворота, машина пошла по траве. Вокруг расстилалась ровная степь, и лишь местами попадались балочки, заполненные водой. Кости сбрасывали в эти балки. Но здесь могли их обнаружить. Чтобы не подумали потом, что это человеческие кости, их заваливали остатками сожженных трупов лошадей и других подопытных животных, поверху разбрасывали их головы, ноги и пр.
Работа закончилась глубокой ночью.
Мы вошли в опустевшую комнату, когда нас отпустили на полчаса для ужина. Несмотря на пустой желудок, из-за неприятного запаха, пропитавшего нас до самых костей, и пересохшего горла нам не удалось проглотить ни куска. В изнеможении мы бросились на койки. Никто не проронил ни слова. Каждому было выдано по бутылке кисловатого напитка, приготовленного из молока. Мы с жадностью выпили прохладную влагу и почувствовали некоторое облегчение.
После небольшого отдыха началось разрушение тюрьмы. Получив зубила и молотки, мы разошлись по камерам. Я направился в камеру секции «ро» на первом этаже. Камеры и коридоры были забрызганы кровью и перепачканы рвотой и испражнениями узников, еще утром бившихся здесь в агонии. Но я, не обращая на это внимания, смело садился на пол где придется, так как моя одежда и тело все равно были грязны от крови, мяса и сажи, и принимался за работу.
Камера площадью около десяти квадратных метров имела двойную железную дверь и одно окошко — длинную узкую щель с железной решеткой. Пол был земляной. На небольшом возвышении, почти у входа, лежала рогожа вместо постели, в углу виднелась параша. Стены серого цвета были ребристые, как меха растянутой гармони. На них пестрели многочисленные надписи на китайском и русском языках, которые мне с трудом перевел вольнонаемный из секции Такаги. Смысл надписей был примерно следующий: «Где я нахожусь: на земле или в аду?» — «Что намерены делать со мной?» — «Японская армия мучает невинных людей, мы ее проклинаем, она непременно будет уничтожена». На мой вопрос, чем сделаны надписи, вольнонаемный ответил, что они были нацарапаны, вероятно, ложками, так как другого орудия у заключенных быть не могло.
Я обратил внимание еще на одно странное обстоятельство — на пустые коробки от сигарет, которые были приклеены зернами риса к стене на уровне груди. Коробки хорошо держались и, видимо, использовались как вешалки для одежды.
Заключенному выдавалась одна пачка сигарет на три дня. Трудно себе представить, чтобы пустые коробки можно было использовать для такой цели. Я невольно подумал о жизни заключенных в заточении и о той изобретательности, которую они проявили в рамках дозволенного. Коробки держались настолько прочно, что мне с большим усилием удалось оторвать одну из них.
Стены камеры были сделаны из бетона повышенной прочности и с трудом поддавались зубилу. В течение часа я долбил одно и то же место, но выдолбил только ямку глубиной пять сантиметров. Я пытался применить электродрель, но от этого работа не ускорилась.
Всего на этой работе было занято около ста человек. Отовсюду слышались удары молотков, но работа почти не двигалась. И как предостережение время от времени через узкие окошки в камеры будто от молнии проникал лиловатый свет осветительных ракет.
Вероятно, в районе расположения нашего отряда происходил воздушный бой, а может быть, советский самолет-разведчик фотографировал местность.
Вскоре был доставлен динамит, который заложили в проделанные отверстия и подорвали. Результаты взрывов были малоутешительными: в стенах образовались проемы размером до одного квадратного метра. Поэтому операцию пришлось повторять многократно. Сделав новые отверстия, мы закладывали динамит, бежали к укрытию, после взрыва возвращались на место и продолжали работать молотками.
Измученные тяжелым трудом, лишенные сна люди, припав к земле в укрытии, дремали. Никому не хотелось вставать. И только страх смерти заставлял каждого подниматься и продолжать работу.
Так как разрушение здания продвигалось очень медленно, то возникла мысль прибегнуть к авиабомбам. Но в отряде под рукой их не было, а доставка со склада требовала значительного времени.
— Продолжать работу прежним порядком! Как-нибудь справимся, — распорядилось начальство.
У меня возникла мысль вырыть яму в земляном полу и заложить туда динамит. С этим мне удалось быстро справиться. Впрочем, получился незначительный эффект. Взрывом выворотило землю, но стену едва затронуло.
Летом в Маньчжурии рассветает рано. В три часа край неба на востоке начал светлеть. К этому времени дождь прекратился.
Стало известно, что бомбы уже в пути. Мы облегченно вздохнули и даже успели на ходу позавтракать наспех сваренным рисом. Вскоре на грузовиках прибыла большая партия пятидесятикилограммовых бомб.
В каждой камере заложили по одной бомбе. Все их соединили электропроводкой для запала. Закончив приготовления, люди ушли в укрытие.
Разрушение главного здания, лабораторий и других сооружений было поручено саперам. Если эти сооружения и не полностью разрушатся, одни каркасы не будут служить прямой уликой. Однако тюрьме уделялось особое внимание. Ее нужно было разрушить так, чтобы от нее ничего не осталось.
«Сейчас будет все кончено», — думали мы, лежа на мокрой траве в ожидании взрыва.
Минут через двадцать раздался оглушительный взрыв, и над главным зданием высоко в небо взметнулось пламя и обломки стен тюрьмы. В этот момент на лице каждого можно было прочесть удовлетворение: от арены вчерашней трагедии не осталось и следа. Было девять часов утра 10 августа 1945 года.
Работы еще не были закончены. Командование намеревалось эвакуировать личный состав только после того, как будут уничтожены все улики.
Прежде всего эвакуировали членов семей военнослужащих, и их багаж был доставлен на железнодорожную ветку.
В лабораториях мы уничтожали медицинское оборудование, сжигали документы. Металлическую аппаратуру разрезали автогеном до неузнаваемости. Особое внимание было уделено уничтожению специальной аппаратуры, которая не применяется в обычных целях. Пробирки и различные сосуды с микробами и средой, на которой они культивировались, бросали в пылающие печи. Оплавившуюся стеклянную посуду потом разбивали на мелкие части.
Из всех лабораторий было собрано в одну комнату около трех тысяч микроскопов. Мы неистовствовали, разбивая микроскопы, хотя и сознавали, что уничтожать дорогие приборы было совершенно бессмысленно и нелепо даже при этом положении. Оставшиеся пятьдесят автоцистерн для воды системы Исии вывезли в поле и сожгли. Как только в здании заканчивались основные работы по уничтожению приборов и материалов, его поджигали. Только в три часа дня нам разрешили отдохнуть.
Я проработал больше суток подряд без сна. От усталости я шатался как пьяный, ноги не слушались. У казармы мне на глаза попался Хаманака. Со вчерашнего дня я ни разу не вспомнил о нем.
Подсев к нему, я спросил:
— Когда вернулся? Ну как, слава богу, отделался?
— Ничего, — глухо ответил он и посмотрел на меня каким-то безразличным взглядом.
Приглядевшись к нему, я увидел, что он был без очков, хотя раньше носил их постоянно. По-видимому, очки были потеряны тогда, когда его избили после неудавшегося побега. Я хотел было спросить, что случилось с очками, но, разглядев на его лице шрамы от побоев, понял, что не следует лишний раз напоминать ему о неприятном. То, что Хаманака выпустили, было хорошо, однако мне казалось, что он нисколько этому не был рад. В суматохе, которая поднялась в отряде, пропали все его вещи, да и сослуживцы после того случая смотрели на него теперь с подозрением.
Я протянул Хаманака его веер, на котором был написан текст военной песни.
— Оставь у себя, — резко сказал он.
При этих словах я почему-то вдруг почувствовал прилив гнева и злости и уже хотел было переломить веер пополам, но, подумав, что нам, возможно, придется вместе умирать, тихо положил веер на пол и опустил глаза. Морисима внимательно посмотрел на нас, но ничего не сказал. Он сидел и клевал носом. Тут я вспомнил о Кусуно и решил навестить его. Когда я собрался встать, Морисима уже заснул. Хаманака сидел, не меняя положения, и смотрел в одну точку.
— Пойду в госпиталь, — сказал я ему и вышел.
В госпитале был такой же беспорядок, как и в казарме. Легкобольные, которые могли ходить, уже были эвакуированы. Кусуно оставался в госпитале, вероятно, у него была все-таки чума, хотя и в легкой форме. Я попросил дежурного санитара провести меня к другу.
— К нему нельзя. Вы можете заразиться, — сказал он, выпроваживая меня.
— Как он себя чувствует?
— Болеет, ничего не поделаешь. Вероятно, будет лежать.
Я хотел расспросить поподробнее, но вдруг в голове у меня мелькнула ужасная мысль: разве оставят так больных, которые могут оказаться живыми свидетелями?
Когда я проходил мимо палаты, где лежал вольнонаемный Коэда, у меня в памяти вдруг всплыл образ матери Кусуно. Я вспомнил ее беседу с моим отцом перед нашей отправкой. Она рассказывала ему о том, как потеряла мужа и как ей трудно было устроить своего младшего сына в школу…
Выйдя из госпиталя, я услышал голос Хаманака:
— Акияма, на построение!
При этих словах я сразу забыл и о Коэда и о Кусуно. Мне показалось, что отряд уже выступает. Охваченный страхом опоздать и остаться, я со всех ног бросился бежать к месту сбора.
Перед строем уже стоял начальник группы Осуми и объяснял обстановку:
— …Сейчас наша армия ведет упорные бои с противником в пограничных районах, сдерживая его натиск. Есть приказ нашему отряду временно оставить городок. Необходимо всему личному составу привести в порядок личные вещи и собраться перед штабом. Место назначения пока не известно. Вероятно, мы должны будем укрепиться на одном из рубежей у Хинганского хребта. Поскольку не исключена возможность стычек и смерти в бою, всем одеть лучшее обмундирование.
Мы запаслись печеньем, гаоляновым хлебом и другими продуктами, отпущенными лавкой.
— В расположение нашей группы больше не вернемся, поэтому не забудьте взять все необходимое. Не берите лишнее, чтобы не обременять себя, — наставлял Осуми.
— Что делать с вещами больного, который еще в госпитале? — спросил я.
— Чьи вещи?
— Кусуно.
— Пока не трогать. На это будет особое распоряжение, — ответил Осуми. Вероятно, он уже знал, какая судьба ожидает Кусуно.
Я вернулся в казарму вместе с Хаманака и Морисима. Кроме обмундирования, я взял с собой сберегательную книжку, дневник и две фотографии как память об отряде. Остальное я связал в пачку и бросил в корзину. На случай, если нас застанут холода, я захватил два одеяла, носки, нижнее белье и связал это в один узел.
Хаманака сидел со скучающим видом. Ему не во что было переодеться.
— Ты можешь взять обмундирование Кусуно, — предложил я ему, хотя и понимал, что неловко, удирая, снимать рубашку с больного.
— Разве хорошо брать чужое? — возразил он, по-видимому, думая так же, как и я. Однако положение его было незавидное. Если он один среди всех останется в своем рабочем обмундировании, в котором пришел с гауптвахты, то его внешний вид будет постоянно напоминать всякому о том, что человек отбывал наказание.
— Думаю, что здесь нет ничего плохого, так как Кусуно, возможно, не вернется, — ответил я после некоторой паузы.
— Как же так можно, ведь товарищ… — неуверенно возразил Хаманака.
— Я отлично понимаю твое положение, но ничего не поделаешь. Мы тоже не знаем, что с нами будет потом, — решительно сказал я, и на этом разговор окончился.
Вещи Кусуно поделили. Обмундирование взял себе Хаманака. Так как оружие было взято раньше, особо ценных вещей не оказалось. Осталась только тетрадь, в которую были вложены сберегательная книжка и почтовая открытка от матери.
— Дайте я хоть это отнесу ему, — предложил Хаманака.
— Ты не сможешь с ним увидеться, — грустно проговорил Морисима.
Саперы уже приступили к разрушению опустевших зданий. Скоро должны были поджечь и наше помещение. Я также сомневался, что оставшиеся вещи попадут в руки Кусуно, если их отнести сейчас в госпиталь. Никто из нас не думал, что мы поступаем дурно. Я успокаивал себя тем, что мы старались делать все возможное. Однако сберегательную книжку все же решили отнести.
— Я пойду в госпиталь, — снова вызвался Хаманака.
Этим он хотел как бы утешить себя. Я и Морисима хорошо понимали его. Я взял почтовую открытку матери Кусуно и положил в карман. Я чувствовал, что если он умрет, а я останусь в живых, то я обязан сообщить его старой матери о смерти сына. Мы были из одной префектуры, жили в одной казарме, поэтому, кроме меня, некому было сообщить матери о гибели сына.
Собравшись перед штабом отряда, мы двинулись к железнодорожной ветке, где стояли грузовые вагоны. Здесь повсюду валялись вещи, брошенные уехавшими раньше семьями специалистов. Людей было так много, что для багажа не осталось места. Разорванные в спешке багажные корзины, разинутые рты туго набитых чемоданов, из которых языками высовывались наспех уложенные носильные вещи, и т. п. — все это говорило о панике, которая творилась здесь перед отъездом.
Мы в новом обмундировании стояли около состава в ожидании отправки. Однако предстояло еще погрузить продовольствие. Все с интересом ждали официальных сообщений о ходе военных действий, но никаких сведений о продвижении противника не поступало. Все горели одним желанием — уехать как можно скорее. Стемнело. Последовал приказ грузить продовольствие.
Сбросив кители и оставив их у своих вещей, мы направились к складу с продовольствием. Оттуда мы начали выкатывать бочки с соей, выносить кули с солью и мешки с сахаром. Бочки в вагонах помещали в самый низ, а на них наваливали остальное. Темнота очень усложнила погрузку. На складе царил хаос. Шестидесятикилограммовые мешки с сахаром при погрузке рвались, а рогожные кули с солью расползались.
А в это время маньчжуры, работавшие в отряде, с нескрываемой радостью делили уцелевших лошадей, коров и брошенное продовольствие. С тех пор как я прибыл в отряд, мне впервые довелось увидеть радость на их лицах. А ведь раньше любому из них, кто случайно оказался бы в лаборатории, грозила неминуемая смерть. Эта картина вызвала в душе моей противоречивые чувства.
Загрузив свой вагон продовольствием, мы покрыли мешки циновками и сами уселись поверх груза, едва не подпирая головами крышу.
Этой ночью в окрестностях Харбина был сброшен советский парашютный десант. От осветительных бомб и ракет стало так светло, что мы ясно видели высокий памятник павшим воинам, который находился от нас более чем в двадцати километрах. Несмотря на моросивший дождь, были отчетливо видны спускавшиеся парашюты, напоминавшие падающие хлопья снега.
Воздушный бой становился все более ожесточенным. Голубоватый свет осветительных бомб и ракет придавал нашим лицам мертвенно-бледный оттенок.
Теперь уже ни у кого не было сомнения в том, что бежать невозможно. Нашлись горячие головы, которые заявляли, что нужно остаться на месте и сражаться до конца. Из-за этих разговоров на некоторое время забыли и о погрузке.
Во время этого замешательства я увидел, как один вольнонаемный, опираясь на саблю, взобрался на угольную кучу и замер на ней, как статуя. Внимательно приглядевшись к бросавшейся в глаза фигуре, мы увидели, что это женщина. Мы не знали, что в нашем отряде служили и вольнонаемные женщины. Мы обратились к Хаманака, который служил в общем отделе и должен был знать ее. Но и он ничего не мог сказать.
Через несколько часов поступило сообщение, что все парашютисты противника уничтожены танкистами, оборонявшими Харбин. Услышав об этом, все запрыгали от радости.
— Вот вам результат занятий по борьбе с парашютистами, которые регулярно проводились у нас несколько лет. Не зря, значит, на всех маневрах отрабатывались методы борьбы с парашютистами, — заметил один пожилой офицер.
Светало. Вскоре поезд должен был отправиться. Мы были распределены по двадцать пять человек в вагон. Я, Хаманака и Морисима ехали в вагоне, где старшим был вольнонаемный Офудзи. Хаясида попал во второй или третий вагон за нашим. Поезд состоял из тридцати восьми вагонов — значит, нас было около тысячи человек. Офудзи посоветовал ложиться спать, не дожидаясь, пока тронется поезд, но я вместе с четырьмя-пятью другими товарищами по вагону отошел в сторону подышать свежим воздухом.
Вдруг я увидел техника-лаборанта Сагава.
— Господин Сагава! — окликнул я его и спросил о Коэда.
— Он еще не уехал и с нами не едет. Не повезло ему… Но вы держитесь, у вас впереди еще много важных дел, — ответил он. Чувствовалось, что Сагава не хочет много говорить о Коэда.
Стало почти совсем светло. До отправления поезда оставалось еще два часа. Всем нам выдали маленькие ампулы с цианистым калием.
— Если будет угрожать плен, то в целях сохранения тайны отряда каждый должен принять этот яд, — сказал Офудзи и окинул всех нас пронзительным взглядом. Теперь, когда нам выдали яд, и я почувствовал, что смерти не избежать, от страха мурашки пошли по спине. Я сунул ампулу в нагрудный мешочек с амулетом. В крайнем случае этот новый амулет поможет сохранить мне честь и верность.
Спать? Но спать не хотелось.
От мысли повидать Кусуно пришлось отказаться, но до отхода поезда мне хотелось хоть ненадолго встретиться и поговорить с Коэда.
Я попытался разыскать Саса и Хосака, служивших вместе со мной в секции Такаги. Саса нашел быстро, а Хосака найти не смог. Саса не был уверен в том, что нам позволят отлучиться.
— Я уже думал об этом, да ведь не разрешат, наверное, — сказал он.
Но Офудзи сразу разрешил, хотя и приказал вернуться не позже чем через тридцать минут, так как поезд должен был вскоре отправиться.
— Хорошо, что вам пришла в голову мысль навестить боевого товарища, который должен остаться здесь, — сказал он нам вслед.
В госпитале повсюду слышались всхлипывания и рыдания больных. Они были сильно обеспокоены тем, что из-за болезни их никуда не перемещали. Особый характер нашего отряда заставлял их в таком положении предчувствовать недоброе.
Наконец мы увидели осунувшегося после операции Коэда. Он лежал задумавшись на белой больничной койке. Мы негромко окликнули его. Коэда повернул голову.
— Акияма, Саса! — радостно вскрикнул он, как будто не виделся с нами несколько лет, и глаза его слегка увлажнились.
Нам сказали, что операция прошла успешно, но от этого нам не стало легче. Сам случай, когда человеку в такое тревожное время пришлось оперировать слепую кишку, только подчеркивал несчастье этого и без того несчастного человека.
— Здравствуйте, господин Коэда. Давно мы с вами не виделись. Мы на минутку, сейчас уезжаем.
— Вот как?.. Все-таки уезжаете? — проговорил Коэда дрожащим голосом, и по щеке его покатилась крупная слеза.
Сделай он операцию неделей раньше… Мы окончательно приуныли. Заметив это, Коэда вдруг совершенно преобразился и с улыбкой на лице попытался развеселить нас.
— Бодрее держитесь, ребята! Пойдите в поле, запойте во все горло песню, и хандра сразу пройдет.
Но я уже не мог удержаться, чтобы не всхлипнуть, Саса тоже заплакал. Наверное, он, вспомнив о том, как самому недавно пришлось лежать в госпитале, теперь представил себя на его месте.
Мне хотелось от всего сердца выразить благодарность Коэда, которого, быть может, и не придется увидеть больше. Но, когда расстаешься с человеком надолго, сделать это бывает очень трудно.
— Господин Коэда! Мы везде и всегда будем помнить дни, проведенные с вами. От всей души желаем вам скорее поправиться и выйти из госпиталя.
Я говорил искренне, но мои пожелания в данном случае не вязались с действительностью.
— Поправляйтесь быстрее… — едва выдавил Саса. Голос у него дрожал.
— Друзья!.. Акияма! Вы, наверное, уже знаете… — и Коэда дрожащей рукой начал шарить под подушкой. В его худых пальцах я увидел ампулу с цианистым калием — такую же, какие выдали нам. Я был ошеломлен, и на ум мне не приходило ни одного утешительного слова. Еще раз простившись с Коэда, мы ушли. На сердце у нас было тяжело.
* * *
Та тысяча человек, которая отправлялась поездом, составляла основную часть отряда. Оставшиеся, обязанностью которых была ликвидация последних следов деятельности отряда, должны были потом улететь на транспортных самолетах. Около одиннадцати часов утра была подана команда садиться в вагоны.
Поезд долго не трогался, и я задремал. Меня разбудили глухой гудок паровоза и легкий толчок. Мы поехали. Было около трех часов дня. Моросил дождь, и через приоткрытую дверь мы в последний раз, как после долгого и тяжелого сна, смотрели на то, что осталось от нашего отряда.
Большая часть территории была охвачена огнем. Повсюду торчали обуглившиеся столбы. По-прежнему возвышалось только самое прочное главное здание. На месте кирпичного корпуса учебного отдела лежала груда развалин. От складов с продовольствием не осталось никаких следов. Лишь черный столб дыма указывал место, где раньше стояли склады. Последние автоцистерны для воды тоже горели.
И в эту минуту мне вдруг вспомнился всегда невозмутимо спокойный Акаси.
Где-то он сейчас?
Длинный состав бежал, извиваясь на поворотах, как раненая змея. В вагоне, в котором я ехал, были в основном мои сверстники. Только половина из нас имела оружие, да и то одни пистолеты и сабли. Старшие офицеры ехали в задних вагонах.
Покидая расположение отряда, мы все же не считали, что Япония потерпела поражение. Мы не знали, куда едем, и не могли получить ответа на этот вопрос от старшего по вагону Офудзи.
Вначале поговаривали, что наш поезд направляется в Тунхуа, но, когда проехали Пинфань и, вместо того чтобы повернуть на юг, направились на север, к Харбину, все окончательно перестали что-либо понимать.
Хаманака и Морисима, которые ехали вместе со мной, заснули, сильно утомившись во время погрузки. Меня тоже клонило ко сну, и я задремал. Когда я открыл глаза, было уже темно. Поезд стоял где-то в поле.
Морисима тоже проснулся, а Хаманака еще спал.
— Где мы?
— Может быть, это Харбин?
— Почему нет никаких сообщений? Вероятно, никто ничего не знает и мы едем вслепую, — неслось со всех сторон.
Привстав на колени, я спросил Ногути:
— Куда мы едем?
— Похоже, что в Тунхуа, — ответил он не совсем уверенно.
— А почему нам не ехать прямо на юг, через Лафу?
— Почему? Думаю, что на этой линии не совсем спокойно. В сопках около Учана действуют организованные еще во время маньчжурского конфликта сильные отряды партизан. Мы не смогли их уничтожить. Но если мы едем к Тунхуа, я не знаю, как мы поедем от Синьцзина — через Гирин или через Бзньсиху.
Похоже, что Ногути высказывал только свои предположения, но они казались мне основательными.
Мы немного успокоились, но тут снова послышался рокот моторов советских самолетов.
Вернулся Офудзи, который уходил, чтобы выяснить обстановку. Он сообщил, что у Муданцзяна наши войска успешно сдерживают продвижение противника, но его моторизованные части, наступающие из Монголии, продвигаются очень быстро. Если темп их наступления не замедлится, то к 14 августа они могут достигнуть Синьцзина. Поэтому нам нужно поскорее проскочить этот город.
— Так что же мы медлим?
— В чем дело, до каких пор мы будем стоять? — усиливался общий ропот.
— Пока еще ничего не известно. Ложитесь-ка лучше спать. Кто знает, когда нам теперь удастся выспаться, — сказал Офудзи. Последовав его совету, мы опять улеглись спать.
Глубокой ночью поезд прибыл в Харбин. Я помню эту остановку очень смутно. Через дверь, которую открыл Офудзи, отправляясь в разведку, я успел заметить только толпы беженцев, шумевших вокруг, да жандармов — они охраняли наш поезд. Обстановка была, по-видимому, не очень угрожающей.
Когда я окончательно проснулся, уже светало, а поезд весело бежал на юг, вероятно к Синьцзину.
Ночью шел дождь, и вся зеленая равнина была затянута густой пеленой тумана. Казалось, что наш длинный черный поезд с усилием раздвигает эту пелену и становится длиннее.
— Как будто наш состав стал больше? — обратился я с таким вопросом к старшему по вагону.
— В Харбине прицепили еще вагоны, в которых размещается часть какого-то завода, — был ответ.
«Может быть, это завод по изготовлению фильтров, где мы как-то были», — подумал я.
К вечеру офицеры высказали предположение, что советскими войсками разрушен железнодорожный мост через реку Лалиньхэ, которую называли еще второй Сунгари.
До сих пор нам непосредственно еще не угрожало нападение противника, но, когда мы проехали станцию Шуанчэн и поезд начал то и дело останавливаться, нас охватила тревога.
Все станции были забиты эшелонами с беженцами, и наш состав не мог двигаться вперед. Машинисты маньчжуры отказывались вести поезд дальше на юг.
Советская Армия продвигалась вперед по трем направлениям, стремясь перерезать основную транспортную артерию Маньчжурии — ЮМЖД. Харбинские машинисты не хотели ехать дальше Синьцзина, боясь, что им обратно уже не удастся вернуться.
Наш поезд двигался к югу медленно, много простаивал в пути. Все только и думали о том, как бы благополучно миновать мост через ту или иную реку, а поезд то и дело останавливался. Сколько он простоит — несколько минут или несколько часов, — никто не знал. Как только поезд останавливался, мы, убедившись, что опасности нет, выскакивали из вагонов, чтобы отдохнуть и размяться.
Если поезд стоял долго, около каждого вагона выставляли часовых на случай неожиданного нападения. Не разбирая дня и ночи, в вагонах ели и спали, когда кто хотел.
На второй вечер после выезда из отряда у нас кончился хлеб. Нужно было где-то доставать еду. Все громче раздавались требования организовать варку горячей пищи.
Проделав в лежащих под нами мешках дырки, мы наполнили рисом свои котелки. О дровах, разумеется, заранее никто не побеспокоился, пришлось ломать ящики. Из тендера паровоза достали воды, чтобы вымыть и сварить рис, а из камней соорудили что-то вроде очага. Только мы собрались развести в нем огонь, как был подан сигнал к отправлению. Раздался гудок паровоза. Ругаясь, люди бросились к поезду. Теперь нужно было думать не о пище, а как бы поскорее добежать до вагона. Все же мы захватили с собой котелки с рисом, уже налитые водой.
Когда поезд тронулся, один из вольнонаемных просунул в приоткрытую дверь голову и стал осматриваться.
— Сзади, в хвосте поезда, виден дым. В чем дело? — крикнул он.
К двери подошел Офудзи и тоже высунулся из вагона. Я, подумав, что горит поезд, тоже не усидел на месте и выглянул из двери.
Из пятого или шестого вагона от головы поезда шел дым, а иногда выбивалось пламя, да и в задних вагонах, казалось, тоже бушевал огонь. Всего два дня назад мы видели, как горели трупы, оборудование, здания и теперь не могли спокойно смотреть на огонь. Стоило закрыть глаза, как представлялся всепожирающий огонь, подобный морю красных лотосов. Во сне в нашем душном вагоне мне часто снилось, что меня окружает огонь и что я горю.
Естественно, что при виде дыма и огня в вагонах на ходу поезда мы испугались. Потом выяснилось, что в вагонах разложили костры для варки пищи.
На станцию Ицзяньпу, последнюю перед Синьцзином, мы прибыли около полудня 14 августа. Вдали виднелся Синьцзин, который мы собирались проехать еще до 14 августа. Город был затянут зловещим дымом.
К этому времени связь со штабом совсем прекратилась. Мы ничего не знали ни о продвижении противника, ни о намерениях командования.
Может быть, клубы дыма над Синьцзином означают, что горит город и что там идут бои? Во всяком случае, обстановка была тревожной. Передовые части Советской Армии, по-видимому, уже достигли города. Следовательно, наш отряд должен был действовать так, как это предусматривалось для самого крайнего случая.
В эту ночь все должно было решиться. Мы по очереди дежурили и сами варили себе пищу. Некоторые отправились на поиски овощей. Мы с Морисима на одном из ближайших огородов надергали целую охапку лука.
Вечером Офудзи передал приказ командования: «Сжечь все, что может послужить доказательством принадлежности к отряду. У личного состава остались самые ценные вещи. Однако мы не можем разменивать жизнь на эти вещи. Они представляют теперь самую последнюю опасность для отряда».
Нам стало страшно после этого приказа. Лучи багрового солнца, опускавшегося за линию горизонта, еще более подчеркивали ужас на наших лицах.
Выйдя из вагонов, мы начали бросать в костер, разведенный около железнодорожной насыпи, удостоверения личности, дневники, сберегательные книжки, фотографии. Мне пришлось сжечь и ту фотографию, на которой мы были запечатлены перед главным входом в расположение отряда в день нашего прибытия.
После этой операции мы почувствовали себя крайне жалкими. Когда у каждого на груди были спрятаны эти вещи, еще сохранялась какая-то надежда на то, что удастся выжить. Но теперь нам кaзaлocь, что дело дошло до крайней точки. Впрочем, нам как азартным игрокам приходилось теперь все ставить на последнюю карту. Вероятно, когда человеком овладевают такие чувства, ему нетрудно пожертвовать даже жизнью.
С апреля у меня накопилось на сберкнижке больше тысячи иен. И теперь все эти сбережения, которые хоть немного компенсировали проведенные в отряде тяжелые месяцы, на моих глазах превратились в пепел. Я долго колебался, когда пришла очередь открытки матери Кусуно. «Зараженный страшной болезнью, которую нельзя вылечить, умер ли он своей смертью или его вынудили совершить самоубийство, не имело значения. Одно оставалось непреложным: он уже не жилец на этом свете», — так рассуждал я.
Но как ни дорог был мне Кусуно, пришлось подчиниться приказу. К тому же не хотелось чувствовать ни малейшего раскаяния потом в отношении желания спасти собственную жизнь.
У костра я всюду видел грустные лица людей, которым не хотелось сжигать свои вещи. Над огнем поднимались клубы едкого дыма от сжигаемых бумаг. И как будто желая скрыть от окружающего мира неприятную картину, вскоре спустились сумерки позднего лета. Я долго с тоской смотрел на остатки обуглившихся страниц сберегательной книжки и открытки Кусуно.
Вольнонаемный Офудзи подошел к нам проверить, все ли мы сделали так, как требовалось.
— Помните, тайна отряда дороже наших жизней.
Он стал пояснять нам, что раскрытие тайны о подготовке к бактериологической войне может бросить тень на священные идеи этой войны. Он говорил, что японцы воевали ради мира для народов Востока, но ни словом не обмолвился о том, хотели они этой войны или нет.
Мы были очевидцами того произвола, какой допускала японская армия, сжигая целые маньчжурские деревни, и потому в глубине души усомнились в словах Офудзи.
Надвигалась ночь. Теперь над Синьцзином вместо дыма было видно огромное зарево.
* * *
15 августа 1945 года. Четыре часа дня. Пронесся слух, что Япония потерпела поражение. Но так как связь со штабом была прервана, мы не, могли проверить, насколько это соответствовало действительности.
К вечеру два военных врача решили съездить в Синьцзин, чтобы попытаться восстановить связь со штабом. Их должны были сопровождать десять человек из вольнонаемных из разных вагонов. Если Япония потерпела поражение, то после получения от штаба приказа о роспуске нашего отряда нам придется бежать. Наша часть была небоеспособна, и только бегство могло помочь сохранить ее тайну. Но вдруг Советская Армия уже захватила Синьцзин?
Если узнают, что мы Отряд 731, то нам не на что будет надеяться, и тогда придется сражаться до последнего человека.
На конфискованном у кого-то автомобиле группа связи отправилась наконец в Синьцзин. Возможно, мы никогда больше не увидим наших посланцев. Каждый из тысячи человек нашего отряда с надеждой проводил эту группу, молясь о том, чтобы она благополучно добралась и вернулась с добрыми вестями и приказом штаба о дальнейших действиях.
У поезда выставили часовых. Когда машина с группой связи скрылась из виду, мы получили приказ проверить и привести в боевую готовность все оружие. Но какое там оружие! У нас были только сабли, пистолеты, два ручных пулемета да несколько гранат.
Построившись вдоль длинного состава, мы по команде «сабли вон!» обнажили сабли и подняли их над головой.
Лес сверкающих клинков кровавыми отблесками засверкал в лучах заходящего солнца, и это зрелище заставило нас еще острее почувствовать приближение неотвратимой опасности.
Старший по вагону Офудзи отдал нам свой приказ: «Сегодня ночью мы будем прорываться к станции Синьцзин. Если противник атакует нас, мы должны пробиться силой. Чтобы сохранить военную тайну, в крайнем случае каждый из нас должен покончить с собой».
Я взглянул на товарищей. Лица у всех вытянулись и побледнели. Мы были готовы сражаться, но вряд ли могли рассчитывать нa успех. Ведь наша часть состояла из военных врачей, военных чиновников и вольнонаемных служащих, не имевших ровно никакого боевого опыта. И я невольно ощупал рукой висевшую у меня под рубашкой сумочку с ампулой цианистого калия.
— Хорошо. Приказ есть приказ, а сейчас неплохо было бы подзакусить. Придет время умирать — умрем не хуже других, — бодро заявил вольнонаемный Ито, который пользовался среди товарищей большим влиянием. Успокаивая нас, он, вероятно, хотел подбодрить и себя.
И все, словно забыв о своих страхах, занялись приготовлением пищи. Одни отправились в поле за овощами, другие собирали дрова для костра.
— Эх, раздобыть бы что-нибудь получше нашей сакэ, — начал опять Ито. — Вон у врачей и начальников выпивка первый класс. Господин Осуми, может быть, вы постараетесь для нас? — обратился он к вольнонаемному Осуми.
— Смотря на кого попадешь, — ответил Осуми и ушел. Вскоре он вернулся с бутылкой виски в руках.
— Вот молодец! — воскликнул Ито. — Впрочем, сегодня такой дорогой напиток потреблять не следует. Сегодня и сакэ хороша будет. Все равно его сейчас не раскушаешь: случай не тот, — заключил Ито и достал сакэ.
— Выпьем пока сакэ, а виски оставим до лучших времен. Вот приедем в Японию, там и разопьем. Можно и раньше. Если русские заняли Синьцзин, тогда конец. Если же их там нет, можно считать, что мы спасены. Тогда не грех и виски выпить. Ну как, согласны? — спросил Ито и, прикоснувшись щекой к бутылке с виски, осторожно завернул ее в одеяло.
И мы выпили перед едой по чашечке сакэ.
Поздно ночью поезд тронулся. Приближалось время, когда мы должны были прорваться в Синьцзин. Двери вагона были плотно закрыты. Сжимая в руках сабли и пистолеты, мы напряженно вглядывались в темноту. Все молчали, и в темном вагоне отчетливо слышался стук колес.
По мере того как наш эшелон подъезжал к станции Синьцзин, мы все отчетливее слышали какой-то неясный шум. Нам, сидевшим за плотно закрытыми дверями вагона, он напоминал рокот морских волн во время прилива. Мы поняли, что это шумели собравшиеся на станции беженцы. Всех охватило беспокойство: занята станция противником или еще нет? Поезд остановился, но мы боялись открыть двери вагона. Люди забарабанили в двери с такой силой, что казалось, будто они швыряли в вагон булыжники. На всех это подействовало, как удар электрического тока, и в вагоне тоже поднялся шум.
— Молчать! — раздался решительный окрик Офудзи. Он отрезвил нас.
— Открывай, открывай! — все настойчивее кричали снаружи.
Мы наконец поняли, что кричат японцы, и, несколько успокоившись, открыли дверь.
У вагона стояли жандармы. Вокзал, платформы, пути были забиты людьми, кишевшими всюду, как муравьи.
Несколько товарных поездов было буквально облеплено обезумевшими людьми. Наш поезд оказался зажатым толпами людей, которые бросились к нему со всех сторон.
— Какая часть? Где командир? Старший, выходи! — решительно крикнул один из жандармов, подойдя к двери нашего вагона.
На все эти вопросы отвечал Офудзи. Когда он назвал цифру 731, жандарм как будто что-то припомнил. Впрочем, и сами жандармы, очевидно, стремились как можно скорее уехать отсюда.
Мы узнали от жандармов, что слушатели офицерской школы армии Маньчжоу-Го взбунтовались и стали убивать японцев. Машинисты сбежали, и все движение на дороге приостановилось. Нашему поезду, по-видимому, тоже не так-то легко удастся выбраться отсюда. Иногда жандармы на время восстанавливали порядок, но беженцы снова и снова протискивались к вагонам.
— Солдатики, дорогие, разрешите доехать с вами!.. Где угодно, хоть на крыше, хоть на подножке… — неслось со всех сторон.
Трудно было оставаться равнодушным, слушая отчаянные мольбы соотечественников.
— Ведь есть же место, посадите. Посадите! — кричали люди, пытаясь заглянуть в вагон.
Даже наши вольнонаемные служащие, которые всего понавидались, и те чувствовали себя скверно, глядя на плачущих женщин, стариков и больных.
— Приказ командования! Ничем не можем помочь, — решительно заявил Офудзи. Он. даже вспотел от волнения.
Однако беженцы не сдавались.
— А кто может разрешить! Где начальник?
Естественно, они не понимали, почему нельзя ехать со своими соотечественниками, если в вагоне свободно. К тому же армия была разбита, и военные приказы казались им утратившими всякую силу.
Офудзи ничего не оставалось делать, как закрыть дверь. Он так и сделал.
— С ними все равно не сговоришься. Так будет спокойнее, — объяснил он и уже тоном приказа добавил:
— А вы все ложитесь-ка спать!
За дверями долго еще раздавалась ругань, слышались мольбы. Они могли вызвать сочувствие у кого угодно, но сохранение тайны Отряда 731 было превыше всякого сочувствия.
В закрытом вагоне было жарко и душно, как в конюшне, но нас это мало беспокоило. Главное заключалось в том, что мы почувствовали себя в безопасности, так как Советская Армия еще не дошла сюда. Все так устали и переволновались, что, почувствовав некоторое облегчение, заснули. Но сон был неглубоким и тревожным.
Когда я проснулся на рассвете, стояла удивительная тишина. Шумные толпы беженцев находились на значительном расстоянии от вагонов. Чтобы выяснить, в чем дело, мы открыли дверь и выглянули наружу. Большой отряд жандармов плотной цепью окружил наш поезд. Скоро мы узнали, что вернулась наша группа связи, посланная со станции Идзяньпу.
Командующего армией группа не застала, поэтому официального приказа получить было нельзя. Правда, на месте оказался один из адъютантов командующего в высоком чине, и он якобы заявил, что будут приняты все меры, чтобы нас как можно скорее отправить в Японию.
Появление у нашего поезда отрядов жандармов и было, вероятно, одной из таких мер.
Некоторый порядок на вокзале помогло установить и радио. До нас донеслись слова диктора: «…мы потерпели поражение, но наше государство и честь нашего народа сохранены. Не забывайте, что мы — японцы, и поддерживайте полный порядок…»
«Удастся ли живым вернуться на родину? Что там происходит?» — такие вопросы задавал себе каждый. Охваченные беспокойством и страхом, беженцы, казалось, не обращали внимания на призывы диктора. Сейчас, когда решался вопрос жизни и смерти, для каждого из них в отдельности не существовало ни государства, ни нации.
Мы тоже не знали, что будет с нами и когда отправится отряд. Близился полдень. Впереди стояли поезда, с которых сбежали маньчжурские машинисты, и теперь повсюду искали людей, которые могли бы их заменить.
Одолевал голод. Рис у нас был, Но мы не могли придумать, как его сварить. И вот я и Морисима, пробираясь с котелком через железнодорожные пути и толпы людей, отправились на вокзал в поисках какой-нибудь столовой или кухни.
Внутри вокзала царил беспорядок, как после пожара На кухне мы нашли разрушенный очаг. Морисима подобрал несколько кирпичей, поставил на них котелок и развел огонь. Я собирал обломки досок и обрывки бумаги.
В обеденном зале, носившем следы разгрома, не осталось, конечно, ничего, что бы могло нам пригодиться. Правда, среди обрывков бумаги и черепков посуды я нашел соль и баночку с перцем. Не хватало только мисо[16], которого, к сожалению, не нашлось. Баночка с перцем лишь раздразнила наш аппетит. Когда котелки закипели, вдруг, запыхавшись, прибежал Хаманака.
— Отправляемся! Скорее! Если опоздаем, плохо будет! — закричал он.
Мы растерялись. Что делать? Бросить все и бежать? Пустые желудки быстро подсказали решение. Пустив в ход головные уборы, чтобы не обжечься, мы схватили кипящий котелок и побежали к поезду. Около вокзала мы увидели женщину, которая стонала и молила о помощи. Одежда и лицо ее почернели от пыли и грязи. Мы сначала даже не могли разобрать, японка ли это. Но нам было не до нее, так как мы спешили к вагону. Я до сих пор не могу забыть ее истошные крики: «Помогите! Помогите!»
Когда мы садились в вагон, то товарищи, увидев дымящийся котелок с рисом, в один голос заговорили:
— Вот молодцы! Постарались!
Мы разложили полусварившийся рис по крышкам от котелков и в другую посуду, какая нашлась, и, дуя на него, принялись жадно есть. В этот момент поезд тихо тронулся.
Наступающая с запада Советская Армия преодолела Хинганский хребет и стремительно продвигалась вперед. Было получено сообщение, что некоторые части противника отрезали путь нашим войскам, отступающим с фронта в Жэхэ.
К югу от Синьцзина нам попадались санитарные поезда с ранеными. Изредка встречались даже воинские эшелоны, идущие на север. Мы отчаянно махали солдатам руками. Значит, есть еще войска, которые двигаются на север! Впрочем, как я потом узнал, в одном ехали саперы из Мукдена, чтобы уничтожить основное здание в расположении нашего отряда. Саперы, оставшиеся для этой цели в городке, не могли своими силами полностью разрушить крупное здание, которое по своим размерам было больше здания Марубиру в Токио. Временами поезд останавливался. К нему подходили местные жители, которые предлагали купить белые дыни, но они отказывались брать наши военные боны[17]. Снова мы чувствовали горечь поражения. Нам очень хотелось пить, и мы выменивали дыни на одеяла и одежду. Я тоже отдал одно одеяло за три десятка небольших дынь.
За Синьцзином в поезде восстановился относительный порядок, изредка даже выдавали пищу, хоть и очень мало. Поезд останавливался ненадолго, и сварить пищу на остановках мы не успевали, боясь отстать. Пришлось заняться приготовлением обеда прямо в вагоне. В нашем товарном вагоне не было груза в проходе между дверями. Там мы положили лист цинка, на котором стали разводить огонь, не обращая внимания на духоту и дым.
Почти у самого Мукдена поезд снова остановился. Мы выскочили из вагона и побежали к паровозу, чтобы набрать воды. Бежать пришлось довольно далеко, и те, кто ехал в первых вагонах, оказались в более выгодном положении. Тут я увидел, что на паровозе позади машиниста-китайца стоят два жандарма с обнаженными саблями. Они-то и заставляли вести поезд машиниста, который ненавидел нас.
В Мукден наш поезд прибыл утром 17 августа.
Мы пошли посмотреть вокзал. К нашему удивлению, он был пуст. По-видимому, поток беженцев прекратился. Но, может быть, это было результатом приближения Советской Армии. Стояла такая тишина, что мы забеспокоились.
Здесь, в Мукдене, нас ждала приятная неожиданность. На соседнем пути оказался товарный поезд с сухарями. Теперь эти сухари никому не принадлежали, а нам нужно было чем-то питаться. И вот, взломав дверь одного из вагонов, мы начали перетаскивать их к себе. Почти каждый из нас принес по полному мешку. Кстати сказать, сухари скоро отчаянно надоели нам.
Скоро наш поезд двинулся дальше. Дорога постепенно сворачивала на восток и от станции Синдзятунь шла к Корее. Еще раньше был получен приказ о том, чтобы, прибыв на станцию Бэньсиху, мы выслали группу связи в Тунхуа. Из нашего вагона в эту группу нужно было выделить только одного человека.
Этой группе предстояло связаться с передовыми частями нашей армии и, если возможно, получить официальный приказ штаба о расформировании.
— Кто пойдет? — тихо спросил Офудзи и печальным взглядом обвел всех нас.
Наступила тяжелая пауза.
Чтобы попасть из Бэньсиху в Тунхуа, нужно было проделать более чем двухсоткилометровый путь по бездорожью, пробираясь через горы. Это путешествие было связано с риском для жизни.
Когда было произнесено слово «Тунхуа», я невольно обратил внимание на Хаманака. Его глаза на мгновение загорелись. Видно, в его душе что-то проснулось. Вероятно, он вспомнил свою девушку — Имадо Мицуё. Но вот он снова опустил голову, видимо, не надеясь встретить ее в Тунхуа, даже если удастся добраться туда. Я внимательно наблюдал за Хаманака. Кто-то из нас должен был пойти, и у всех нас тревожно забилось сердце.
Наконец молча поднялся вольнонаемный Ито. Все повернулись в его сторону.
— Ты пойдешь? — тихо спросил Офудзи, взглянув на него потеплевшими глазами.
— Кому-то надо идти, — ответил тот. Всегда скромный и незаметный, Ито привлек всеобщее внимание.
— Вверяю свою судьбу небу, — сказал он, но его широкие плечи опустились, как у тяжелобольного. О чем думал Ито?
Но тут неожиданно для всех Ито дернул за угол свернутого одеяла, и из него выкатилась та самая бутылка виски, которую он хранил, собираясь распить в Японии. Ито подхватил ее и зубами вытащил пробку. Никто не удивился и не возразил ему. Сделав всего один глоток, Ито поставил бутылку на циновку.
— Ничего, пей еще, если хочешь, — сказал Осуми.
— Ерунда, не стоит отчаиваться! В дураках останусь только я, — вдруг проговорил Ито.
Он мог упрекать себя за то, что поддался внезапно охватившему его побуждению. Ведь ему предстояло расстаться с нами, и я понимал его тоску.
В Бэньсиху прибыли вечером. Когда поезд остановился, почти из каждого вагона вышло по одному человеку. Все они должны были отправиться в составе группы связи.
И вот группа собралась на платформе. «Для них это словно прощание с жизнью», — подумал каждый из нас.
— Не знаю, чем все это кончится, но желаю вам полного благополучия, — говорил Ито с натянутой улыбкой, обходя всех и каждому пожимая руку.
Поезд стоял всего десять минут. Вот он медленно тронулся, оставляя на платформе группу людей. Красноватый свет фонарей упал на их лица, и у нас тоскливо сжалось сердце. Из нашего вагона ушел один Ито, и нам была так грустно, словно мы сами обрекли его на смерть. От всего сердца каждый желал ему благополучного возвращения.
Все молчали, и каждый думал о том, как бы самому добраться благополучно до дому.
Наконец мы прибыли в Корею. Опасность осталась далеко позади, но тем дороже ценил каждый из нас сейчас свою жизнь.
Что же стало с группой связи? О ней до сих пор ничего не известно. Из этой группы не вернулся никто.
Ранним утром 19 августа наш поезд, пробивая густой утренний туман, шел по мосту через реку Ялуцзян. В эту реку с поезда побросали оставшиеся у нас медицинские препараты и оборудование.
Итак, мы благополучно бежали из Маньчжурии. Однако беспокойство в дороге было не напрасным. Едва наш поезд выехал из Мукдена, как туда вступили советские войска. Мост через реку Ялуцзян был взорван через три часа после того, как мы проехали по нему. Сделала ли это Советская Армия или мятежники, которые воспользовались паникой, а может быть, и сами местные жители, не известно до сих пор.
Наш поезд прибыл в Хэйдзё[18]. На платформах теснились сотни военных и вольнонаемных. Среди них были и те, кто выехал из отряда в Тунхуа раньше нас. Повсюду люди собирались группами и рассказывали друг другу, что с ними произошло с тех пор, как они расстались в расположении отряда. Я увидел беседовавших между собой Асабу из секции чумы и Сато из учебного отдела.
На самой дальней платформе стоял начальник отряда Исии в полной военной форме с орденскими ленточками на кителе. Он обменивался рукопожатиями с офицерами, прибывшими из Тунхуа.
Передовой отряд из Тунхуа, так же как и мы, с большим трудом бежал из Маньчжурии, бросив там всех больных. Штабные офицеры, которые оставались для окончательной ликвидации следов деятельности отряда, прибыли сюда самолетами раньше других.
Таким образом, почти всему составу Отряда 731, кроме филиалов, удалось бежать.
В вагонах начались новые разговоры. Говорили о том, что здесь, в Корее, в горах, у маньчжурской границы, находится японский научно-исследовательский институт, который работал над созданием атомной бомбы, и что только поражение в войне не позволило закончить эту работу. Рассказывали даже, что в водах в рaйоне Гэнзана[19], где были собраны старые корабли, 16 августа якобы произвели испытательный взрыв и что результаты его превзошли все ожидания. Говорили, также, что Япония будто бы проявила в этом деле излишнюю осторожность и медлительность и дала опередить себя Америке. Впрочем, те, кто распускал эти слухи, видимо, стремились как-то оправдать наше поражение.
Особенно заинтересовали меня разговоры о господине Акаси. О нем рассказывали люди, которые летели вместе с ним на самолете.
Ночью 13 августа специальная группа, закончив ликвидацию отряда, собралась отправиться с последним транспортным самолетом. Проходя мимо штаба, превращенного в развалины, один из членов этой группы вспомнил про Акаси, который тоже должен был лететь вместе с ними. Его стали искать, но безрезультатно. Наконец искавшие решили заглянуть в одну из казарм, которая сгорела только наполовину. Войдя в полуразрушенное помещение, они на полу увидели капли крови. Кровавый след тянулся к шкафу в стене. Все подумали, что Акаси совершил самоубийство, и, со страхом подойдя к шкафу, открыли дверцу. Там сидел Акаси.
— Кто это? А, это вы? — без всякого смущения спросил он. — Я и то подумал, что для русских еще рановато. Хотите выпить со мной?
В такой момент, когда надо было как можно скорее бежать, Акаси спокойно потягивал сакэ из банки, которая раньше стояла в клетке с курами. От удивления перед безрассудной храбростью Акаси у всех словно язык прилип к гортани. Вероятно, Акаси решил, что, если ему и удастся благополучно бежать из отряда и вернуться в Японию, его все равно предадут суду как военного преступника.
Однако до Хэйдзё Акаси все-таки летел с ними на самолете, но здесь он исчез неизвестно куда.
«Ну, вряд ли этого человека теперь удастся кому-либо поймать», — подумал я и мысленно помолился за его благополучие.
Чтобы проехать весь Корейский полуостров, нам потребовалось два дня. Этот путь можно считать идеально спокойным по сравнению с уже проделанным нами. Я запомнил только, что один раз над нами пролетали самолеты В-29 и сбросили листовки. А в другой раз ночью, когда несколько человек из отряда пошли за водой, на них напало несколько десятков корейцев. Нашим удалось убежать, отстреливаясь из пистолетов. С тех пор мы перестали ходить ночью небольшими группами.
21 августа в десять часов утра мы прибыли в Пусан. Здесь мы выгрузили привезенное нами продовольствие. И здесь же с большим трудом удалось обменять на иены свои маньчжурские деньги, правда всего только по 30 иен на человека. Все мечтали только об одном — скорее попасть в Японию. В Пусане мы провели два дня, развлекаясь ловлей устриц у портового причала.
Судов, отправляющихся в Японию, не было, и мы сначала не надеялись скоро попасть домой. Но даже и после поражения командование армии принимало все меры, чтобы сохранить тайну отряда.
23 августа около полудня нам неожиданно было приказано собраться. Началась спешная погрузка на десантные суда, которые направлялись в Японию. Большая часть личного состава отряда отплыла в Японию раньше. Но несколько сот человек, в том числе и я, остались в Корее. Оставшиеся были уверены, что если уж добрались до Пусана, то теперь они легко доберутся и до Японии.
Однако только тогда, когда вдали показались родные берега, мы окончательно поверили, что остались живы. И слезы невольно стали жечь глаза.
Не заходя в порт, наше судно пристало прямо к берегу в тихой гавани города Хаги префектуры Ямагути. Недалеко от берега стояла школа, от которой было рукой подать и до вокзала.
Одну ночь мы переночевали в храме. Вечером помылись в бане, девушки пригласили нас на вечеринку. Горячая вода и танцы словно очистили наши души, которые, казалось, почернели за войну.
Прибывшие до нас также располагались по храмам. Здесь для отправки по домам комплектовались эшелоны с учетом места жительства отправляющихся. Мы не видели больше ни начальника, ни старших офицеров. Поэтому не состоялась ни церемония расформирования отряда, ни церемония сдачи оружия[20]. Но каждый из нас мысленно поклялся, что ничего не будет рассказывать о виденном ни родным, ни знакомым. Как я уже говорил, наших начальников мы в последний раз видели в Хэйдзе. Очевидно, оттуда они улетели на самолетах.
На вокзале в Хаги я почтительно, как со старшими, распрощался с Хаясида, Хаманака, Морисимо, Саса, Хосака и другими товарищами и сердечно поблагодарил их за все хорошее, что они для меня сделали. При этом я расчувствовался до слез.
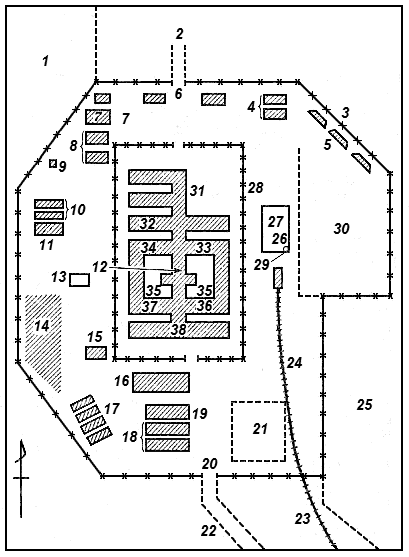
1 — аэродром; 2 — дорога на Харбин; 3 — земляной вал; 4 — 2-й отдел; 5 — крытые ангары; 6 — ворота; 7 — скотный двор; 8 — 3-й отдел; 9 — храм; 10 — изолятор; 11 — госпиталь; 12 — коридор, ведущий в центральную тюрьму; 13 — бассейн; 14 — жилые дома командного состава; 15 — лавка; 16 — лекционный зал; 17 — казармы инженерных подразделений отряда; 18 — казармы; 19 — столовая; 20 — ворота; 21 — огороды; 22 — дорога на Пинфань; 23 — ж. д. ветка на ст. Пинфань; 24 — ж.-д. ветка; 25 — аэродром; 26 — котельная; 27 — электростанция; 28 — кирпичная стена; 29 — труба котельной; 30 — аэродром 2-го отдела; 31 — 1-й отдел; 32 — крематорий; 33 — лаборатория холеры; 34 — лаборатория чумы; 35 — внутренний двор; 36 — лаборатория тифа; 37 — другие лаборатории; 38 — общий отдел.
Примечание. План расположения Особого отряда 731 составлен мною по памяти и воспоминаниям товарищей. Если среди читателей окажутся лица, которым пришлось бывать в отряде, прошу для уточнения прислать свои замечания.
О достоверности книги
1
Сейчас в Японии в моде различные военные записки. Судя по заголовку, могут подумать, что и «Особый отряд 731» относится к их числу.
Материалом для подобных военных записок обычно служат факты, выхваченные из самой гущи военных событий. Но иногда бывает и иначе. На военные темы созданы произведения, которые признаны шедеврами мировой литературы, например знаменитая книга Ремарка «На западном фронте без перемен». Такие книги нельзя назвать военными записками.
Особенностью военных записок, выходящих в Японии, можно считать полное безразличие к жизни людей. Для них характерна пропаганда феодальных взглядов о том, что «смерть легка», — взглядов, убивающих мысль о ценности человеческой жизни. Из них трудно понять, где правда, и где ложь, что хорошо и что плохо, — над этим авторы не задумываются. Они как бы отделяют войну от самого хода истории. Причина и следствие рассматриваются ими не с социальной, не с исторической, а только с чисто военной точки зрения. Совсем не учитываются взгляды индивидуума. Выходит, что целое существует независимо от частного, и последнее целиком ставится в зависимость от первого. Проводится мысль о том, что власть всегда и везде справедлива. Считается, что психология человека наиболее ярко проявляется в момент, когда решается вопрос о его жизни и смерти, что только этот момент велик и важен.
В подобных записках война рассматривается в какой-то степени объективно, и в них всегда есть элемент оправдания войн.
При этом самое бесчеловечное обычно смешивается авторами с самым человечным. Психология людей, попавших в безвыходное положение и находящихся на грани жизни и смерти, рассматривается как концентрированное выражение здоровой психологии. Самое плохое становится самым прекрасным. Стираются грани между реальным и иллюзорным.
Я считаю, что книга «Особый отряд 731» не относится к числу такого рода военных записок. Хотя в книге и показана бесчеловечная деятельность Особого отряда, но вся она проникнута здоровым духом. Вот почему издательство выпустило эту книгу. Теперь о ее достоверности.
2
В сокращенном виде это произведение было опубликовано в журнале «Бунгэй Сюндзю» в августе 1955 года. Редакция журнала провела большую работу для того, чтобы убедиться в достоверности фактов, изложенных автором. Наше издательство, учитывая особый характер произведения и настороженное отношение к нему, тоже провело тщательную проверку фактов.
Эта книга касается японцев. Опубликовать ложь явилось бы неслыханным кощунством, предательством по отношению к японскому народу. Редакция рассуждала так. Если все, изложенное в книге, — правда, нужно смело и решительно показать эту горькую правду народу, чтобы навсегда был положен конец неслыханным зверствам. Будь произведение построено на лжи, это привело бы к серьезным последствиям. К сожалению, все, о чем говорится в этой книге, истинная правда.
Хироси Акияма — не настоящее имя автора, который пожелал выступить под псевдонимом. Автор является одним из тех, кто служил в Особом отряде 731. Многие факты он сообщает со слов других очевидцев.
В течение трех-четырех лет после поражения Японии автор жил в постоянном страхе: он боялся, что его привлекут к суду как военного преступника. Он строго хранил тайну отряда, но не только из опасения нарушить приказ. Его удерживало сознание, что он сам участвовал в ужасных опытах над людьми и в сжигании трупов. В его ушах звучали предсмертные крики «бревен», ему мерещились груды человеческих костей. Он испытывал также страдания оттого, что, зная страшную тайну, должен был ее скрывать. Спустя десять лет он наизусть помнил присягу, данную им в отряде, куда он прибыл семнадцатилетним юношей.
Автор готов был открыть свое настоящее имя, но его беспокоило, как отнесутся к этому его бывшие товарищи. Поэтому он и решил выступить под псевдонимом. По этим же причинам издательство не может указать его настоящее имя.
Автор родился в феврале 1928 года в префектуре Акита. Учился в средней школе. 31 марта 1945 года, по окончании четырех классов этой школы, он завербовался и в апреле прибыл в Пинфань. После поражения Японии в войне он вернулся на родину вместе с другими оставшимися в живых сотрудниками Отряда 731. Они прибыли в город Хаги префектуры Ямагути 23 августа 1945 года. Там отряд был расформирован. После демобилизации автор жил и служил в разных местах, а в настоящее время проживает в Токио.
Уже на следующий месяц после прибытия в Японию автору напомнили, чтобы он строго хранил тайну Отряда 731. В начале апреля 1948 года к нему на работу пришел местный полицейский и стал расспрашивать о службе в медицинской части Квантунской армии. Полицейский допытывался, не сохранился ли у него цианистый калий. Автор догадался ответить, что где-то давно потерял выданную ему маленькую ампулу.
Этот ответ, по-видимому, не удовлетворил полицейского. Он стал расспрашивать об авторе людей, работавших вместе с ним, и проверил книгу учета явки на работу. Убедившись, что в течение года автор не выезжал в Токио, полицейский объяснил, что он интересуется всем этим потому, что ведется следствие по делу об ограблении отделения Токийского банка, где преступники применили цианистый калий. Полиция предполагала, что цианистый калий был получен через людей, имевших отношение к армии. Чтобы не вызывать подозрений, автор никому не говорил о своей службе в Отряде 731. Поэтому никто не понимал, почему полиция проявила к нему повышенный интерес. Окружающие стали думать, что раньше он сидел в тюрьме. Это и другие подозрения в конце концов вынудили автора уйти с работы. Больше всего он боялся, что о его тайне узнает местная полиция. Позднее некоторые его товарищи по отряду говорили ему, что их тоже проверяли.
Наверное, думал автор, бывший начальник Отряда 731 Исии Сиро сообщил полицейскому управлению имена начальников отделов, через которых могли узнать имена всех служивших в отряде. Мысль об этом сильно беспокоила его. Да и все оставшиеся в живых из Отряда 731 были подавлены и угнетены и старались держаться в тени. Им больше всего на свете хотелось как можно скорее освободиться от тайны, причинявшей столько забот.
Согласившись пойти в армию, каждый из них был обязан выполнять все, что приказывали. Не по своей воле они, семнадцатилетние юноши, проводили опыты над живыми людьми, не по своему желанию культивировали бактерии чумы. Мне кажется, поэтому их нельзя строго осуждать.
Подлинные имена в книге автор оставил только высшим начальникам, имена всех низших служащих вымышленные.
В отряде автор был совсем юным и относился к разряду рядовых. Он пробыл в нем около пяти месяцев. Его записи не дают, конечно, полной картины деятельности Особого отряда 731. Работая над книгой, автор ставил перед собой ограниченную цель — описать лишь то, что он сам видел, слышал, чувствовал. Но именно поэтому данная книга должна вызвать у читателей еще больший ужас. Она не построена на фантазии автора, в ней не преувеличиваются цифры и факты в расчете на то, чтобы поразить читателя. Тем более далек автор от пропаганды или провокации.
Я уверен, что каждый, кто прочтет эту книгу, согласится со мной.
3
О том, что в действительности представлял собой Особый отряд 731, мы попытаемся рассказать ниже, приведя в подтверждение ряд отрывков из официальных документов.
Отряд, проводивший подготовку к бактериологической войне, был создан в Маньчжурии летом 1935 года. Возглавлял его генерал-лейтенант (тогда еще только полковник) Исии Сиро.
В целях сохранения тайны отряд назывался сначала Управлением по водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии. 2 декабря 1939 года он получил благодарность от командующего 6-й армии генерал-лейтенанта Огису Татэхэй.
«Благодарность
Временному управлению по водоснабжению и профилактике 6-й армии.
Временному управлению по водоснабжению и профилактике 23-й дивизии.
Вышеуказанные управления под руководством полковника медицинской службы Исии Сиро участвовали в событиях у реки Халхин-Гол и в течение всего инцидента обеспечивали профилактику и водоснабжение… (пропуск).
…Эти управления особенно отличались во время наступления противника в последней декаде августа, когда они собственными силами упорно обороняли источники водоснабжения в районе реки Хайлостын-Гол, выслав к колодцам группу под командованием капитана медицинской службы. Эта группа продолжала выполнять свою задачу, несмотря на потерю оборудования и артиллерийский обстрел… (пропуск). В первой декаде сентября управления провели большие работы в интересах всей армии и в течение ряда дней успешно выполняли медико-санитарные задачи, чем обеспечивали постоянную боеготовность армии (далее опущено)».
23 мая 1940 года эта благодарность была опубликована верховной ставкой во всех газетах. Однако почему она была опубликована с опозданием на полгода, остается неясным до сих пор.
Примечательно, что в сообщении по поводу этого документа, опубликованном в газетах в тот же день, были опущены название района боевых действий — река Хайлостын-Гол — и само название отряда — Временное управление по водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии.
В утренних газетах за то же число вместе с вышеуказанным сообщением ставки была помещена запись беседы с генерал-лейтенантом медицинской службы Мицуги Есихидэ, во время которой он заявил:
«О трудной и почетной деятельности этого медико-санитарного отряда раньше официально не сообщалось.
Я уверен, что опубликованная сегодня благодарность встретит глубокое понимание у всех семей погибших солдат и офицеров, которые сложили головы при выполнении важной задачи».
В своей книге Акияма пишет, что он «слышал об участии отряда в событиях у реки Халхин-Гол».
Организатор и создатель отряда по подготовке бактериологической войны генерал-лейтенант Исии Сиро в 1920 году окончил медицинский факультет Токийского университета. Затем был прикомандирован в качестве офицера-стажера к 3-му гвардейскому полку, после чего служил в 1-ом военном госпитале токийского гарнизона. В 1927 году он вел научную работу в клинике медицинского факультета Токийского университета, где получил степень доктора медицинских наук. С 1928 по 1930 год Исии учился в Германии, по возвращении оттуда в 1931 году вел научно-исследовательскую работу в военно-медицинской академии.
Как пишет автор, он слышал в отряде, что начальник отряда имел ученые степени «доктора медицины, доктора технических наук, доктора естественных наук». Это не соответствует действительности. Генерал-лейтенант Исии Сиро имел только степень доктора медицинских наук. Вероятно, подобные слухи распространялись сознательно, чтобы поднять авторитет этого генерала и возвысить его заслуги. Таким образом, здесь автор допустил неточность, но это, пожалуй, единственная ошибка в книге. Все остальное мне представляется абсолютной правдой.
Упоминающийся в книге начальник учебного отдела подполковник медицинской службы Ниси Тосихидэ действительно был назначен начальником учебного отдела Особого отряда 731 в январе 1943 года. Он ведал подготовкой специалистов по ведению бактериологической войны в специальном подразделении отряда, укомплектованном в основном вольнонаемными служащими. Это он в августе 1945 года в связи с приближением Советской Армии отдал приказ об убийстве еще остававшихся в живых «бревен», о сожжении их трупов и об уничтожении всех построек, оборудования и документов, чтобы скрыть следы чудовищных преступлений.
Подполковник медицинской службы Ниси Тосихидэ на основании статьи 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года был приговорен Военным трибуналом Приморского военного округа в 1949 году к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на 18 лет. 11 июня 1956 года он был освобожден из лагеря и вернулся в Японию. Вернулся на родину и бывший главнокомандующий Квантунской армией генерал Ямада Отодзоо, с которым Ниси провел в заключении десять лет.
Главнокомандующий Квантунской армией генерал Ямада Отодзоо, который осуществлял общее руководство деятельностью Особого отряда 731, также был осужден[21]. На судебном процессе в Хабаровске он показал:
«…я как командующий через подчиненные мне отделы и управления штаба в соответствии с указаниями военного министерства и генштаба Японии осуществлял руководство деятельностью бактериологических отрядов № 731 и № 100 по изысканию и производству бактериологического оружия. Моя роль как командующего Квантунской армией заключалась также и в том, что я должен был в военное время осуществлять общее руководство по применению средств бактериологической войны. В этом смысле в случае возникновения военных действий я должен был определить, какими соединениями и на каких направлениях должно было быть применено бактериологическое оружие»[22].
После вероломного нападения Германии на Советский Союз деятельность управления еще более активизировалась.
В 1941 году было начато строительство большого военного городка в районе станции Пинфань, которое было закончено в 1942 году. В том же году Управление по водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии было реорганизовано в Особый отряд 731, который и разместился в городке.
Кроме этого отряда, был еще Отряд 100, который также занимал видное место в планах создания бактериологического оружия. Этот отряд располагался недалеко от Мынцзятуня, находящегося в десяти километрах южнее Синьцзина. Отряду 100 было присвоено условное название «Иппо эпизоотическое управление Квантунской армии». Бывший начальник ветеринарной службы Квантунской армии генерал-лейтенант ветеринарной службы Такахаси Такаацу во время допроса показал, что на Отряд 100, в противоположность Отряду 731 возлагалась задача по проведению диверсионных мероприятий — заражению эпидемическими бактериями пастбищ скота и водоемов.
Таким образом, основной задачей Отряда 100 было проведение опытов по уничтожению домашнего скота. Опыты над людьми проводились там в меньших масштабах, чем в Отряде 731.
Отряд 731 имел следующее специальное бактериологическое оборудование и производственные возможности:
«Для приготовления питательной среды для бактерий имелись 4 котла емкостью по 1 тонне каждый, для стерилизации питательной среды применялось 14 автоклавов длиной 3 метра и диаметром 1,5 метра каждый. В таком автоклаве помещалось до 30 культиваторов, изобретенных начальником Отряда 731 Исии.
Были оборудованы два хранилища для культивируемых бактерий. В каждом из них можно было одновременно поместить до 100 культиваторов. Имелось также 5 термостатов, вмещавших 620 культиваторов системы Исии»[23].
Это оборудование могло обеспечить за один производственный цикл, длившийся всего несколько дней, выход не менее 30 000 000 миллиардов микробов. Это число настолько велико, что его невозможно представить.
В Отряде 731, конечно, не могли считать микробы, поэтому за единицу расчета был принят килограмм.
Бывший начальник производственного отдела Отряда 731 доктор медицинских наук генерал-майор Кавасима Киоси на суде показал, что его отдел имел возможность «производить 300 килограммов бактерий чумы в месяц»[24].
Это количество бактерий снималось непосредственно с питательной среды, которая представляла собой густую, сметанообразную массу. Автор подробно описывает процесс выращивания бактерий чумы на питательной среде из агар-агара.
Основными разрабатывавшимися способами боевого применения бактерий были: 1) распыление бактерий с самолетов; 2) сбрасывание бактериологических бомб; 3) бактериологическая диверсия. В последнем случае бактериями заражались пища, различные предметы, колодцы. Для этих целей использовались бактерии чумы, холеры, тифа и других заразных болезней.
В тех случаях, когда, например, по тактическим соображениям требовалось сжечь какую-либо маньчжурскую деревню, в ней обычно распространялись бактерии чумы, холеры или тифа. В деревне вспыхивала эпидемия, и тогда ее сжигали под предлогом необходимости уничтожить очаг заразы, а население при этом принудительно выселяли. Врачи воинских частей самоотверженно боролись с эпидемиями, работая день и ночь. Они, вероятно, не раз задумывались над тем, почему так часто возникали эпидемические заболевания.
Ямада Киёдзабуро в своем рассказе «После всякой ночи наступает рассвет» (напечатан издательством «Риронся») подробно описал один из таких случаев, причем он только после узнал, что это была диверсия бактериологического отряда. Она, по-видимому, была осуществлена Отрядом 100, находившимся в окрестностях Синьцзина.
Опыты по распространению бактерий путем рассеивания с самолетов и сбрасывания бактериологических бомб не давали удовлетворительных результатов, поэтому на практике они почти не применялись, однако исследования в этом направлении не прекращались. Продлись война еще два-три года, эти опыты, несомненно, были бы доведены до конца.
В практическом применении вышеупомянутых методов экспериментаторы сталкивались с различными трудностями. Оказалось, что при рассеивании бактерий с самолета и заражении ими местности при помощи обычных бомб вирулентность бактерий сильно ослабевала. При взрыве бомбы большая часть бактерий гибла из-за высокой температуры, а оставшиеся быстро теряли свою эффективность.
Распыление с высоты 200 метров жидкостей, содержащих бактерии чумы или холеры, при помощи специальных распылителей системы Исии, установленных на самолетах, также не давало эффекта. Бактерии быстро гибнут под лучами солнца. Кроме того, они не могут развиваться, если почва и воздух сухие. К тому же выяснилось, что бактерии, культивируемые в лабораториях, по своей вирулентности слабее бактерий, размножающихся в естественных условиях. Необходимо было также добиться, чтобы бактерии не погибали в холодной почве и воде и сохраняли вирулентность, достаточную для заражения людей. При неблагоприятных условиях влажности и температуры воздуха большая часть бактерий погибала, если их плотность на почве была недостаточной.
Надо почитать за счастье, что первые два способа массового уничтожения людей с помощью бактерий не были разработаны. Основным способом заражения населения была преимущественно бактериологическая диверсия.
Однако все же необходимо отметить и некоторые сдвиги в совершенствовании первых двух способов распространения болезнетворных бактерий. Бактерии стали помещать в специальные фарфоровые темно-коричневые цилиндрические сосуды длиной один метр и диаметром тридцать сантиметров. Чтобы они сохраняли устойчивость в полете после сбрасывания с самолетов, на корпусе имелись глубокие продольные канавки. Эти так называемые фарфоровые бомбы наполнялись бактериями вместе с питательной средой из агар-агара. При падении на землю такая бомба разбивалась на мелкие части, и бактерии вместе с питательной средой разлетались во все стороны. По некоторым сведениям, определенные успехи были достигнуты и в обеспечении достаточной вирулентности бактерий при низких и высоких температурах. Так, одного кубического сантиметра жидкости, содержащей стойких к высушиванию бактерий газовой гангрены, столбняка, сибирской язвы или других заразных болезней, достаточно, чтобы заразить десятки тысяч человек.
4
Для лучшего уяснения вопроса об опытах над людьми вернемся к материалам Хабаровского судебного процесса. Генерал-майор медицинской службы Кавасима Киоси на суде показал, что для содержания в строгой изоляции подопытных людей Отряд 731 имел специальную тюрьму и что в целях секретности сотрудники отряда обычно называли этих людей «бревнами».
Подполковник медицинской службы Ниси Тосихидэ показал:
«В январе 1945 года в моем присутствии на полигоне Отряда 731 в районе станции Аньда начальником второго отдела отряда подполковником Икари и лаборантом Футаки был проведен опыт по заражению десяти военнопленных китайцев газовой гангреной. Китайские военнопленные были привязаны к столбам на расстоянии десяти-двадцати метров друг от друга. Затем с помощью электрического тока была взорвана осколочная бомба. В результате взрыва все десять военнопленных были ранены осколками, зараженными газовой гангреной, и через неделю умерли».
«В отряде было несколько лабораторий и других помещений, в том числе тюрьма, где содержались заключенные — „бревна“. Над этими „бревнами“ проводились опыты по заражению их бактериями, а также опыты по обмораживанию живых людей»[25].
В материалах судебного процесса, изданных на японском языке в Москве в 1950 году, слово «марута», которым назывались подопытные люди, передано иероглифами, которые в переводе на русский язык означают «бревно». Видимо, в издательстве это слово было понято действительно как «бревно», которое распиливают, строгают и т. п. Подлинность слова «марута» не известна. Оставшиеся в живых члены отряда также не знают его происхождения. Если судить по произношению, то это слово восходит к иностранному, так как последний слог «та» в японском слове «марута», означающем «бревно», произносится иначе.
Генерал-майор Кавасима на процессе показал:
«Если заключенный, несмотря на заражение его смертоносными бактериями, выздоравливал, то это не спасало его от повторных опытов, которые продолжались до тех пор, пока не наступала смерть от заражения. Лиц, подвергавшихся заражению, лечили, исследуя различные методы, нормально питали, и после того, как они окончательно поправлялись, их использовали для следующего эксперимента, заражая другими видами бактерий. Во всяком случае, живым из этой фабрики смерти никто и никогда не выходил»[26].
Автор также говорит о том, что заключенных хорошо кормили, чтобы они были достаточно упитанными и здоровыми. Они получали питание по нормам, установленным для военнослужащих и вольнонаемных японской армии. Те заключенные, которые после тяжких мучений выздоравливали, снова подвергались опытам. Таким образом, «бревна» подвергались опытам до самой смерти, так что «счастливцами» оказывались умиравшие после первого же опыта. Я твердо убежден в том, что это было именно так.
Это были люди, попавшие в руки жандармерии или японских военных миссий[27] в Маньчжурии и содержавшиеся в заключении.
Что же это были за люди, над которыми проводились опыты?
Отряду 731 поставляла заключенных главным образом японская жандармерия из Харбина. Среди захваченных советскими войсками в Маньчжурии документов были официальные документы штаба японской жандармерии. В этих документах транспортировка таких заключенных условно называлась «специальными перевозками». Среди документов оказались приказ № 224 начальника жандармерии Квантунской армии генерал-майора Сирокура и приказ № 1 жандармского отряда Хирано. Эти приказы с небольшими сокращениями приводятся ниже[28].
Оперативный приказ жандармерии Квантунской армии
№ 224
Приказ Квантунской жандармерии
Штаб Квантунской жандармерии
8 августа, 16.00
1. Во второй партии «специальных перевозок», проводимой на основании оперативного приказа № 222 Квантунской жандармерии, отправляется около 90 человек. Партия прибывает на станцию Шаньхайгуань 9 августа, откуда следует в одном пассажирском вагоне. Отправление со станции Шаньхайгуань — 10 августа в 11 час. 15 мин., прибытие на станцию Суньу — 10 августа в 0 час. 13 мин.
2. Конвоирование вышеозначенной партии от Шаньхайгуань до Суньу возлагается на начальника цзиньчжоуского жандармского отряда.
Из общего числа этапируемых до конца следует 60 человек, остальные на станции Харбин передаются начальнику отряда Исии. Для этого заранее отделить группу людей, предназначенных для передачи начальнику отряда Исии, чтобы во время передачи не было никаких осложнений.
Для конвоирования означенной партии из жандармского отряда в Чэндэ выделяется один офицер, из отряда Хирано — 25 унтер-офицеров и солдат и из учебного отряда Квантунской жандармерии — один унтер-офицер медицинской службы. Цзиньчжоуский жандармский отряд выделяет одного переводчика.
3. (Пункт опущен автором.)
4. Начальнику харбинского отряда жандармерии установить тесную связь с начальником отряда Исии и обеспечить на станции Харбин и в дальнейшем пути следования все меры предосторожности против деятельности агентов иностранных разведок.
(5 и 6 пункты опущены автором.)
Начальник Квантунской жандармерии генерал-майор Сирокура.
Оперативный приказ № 1 жандармского отряда Хирано
Приказ по отряду Хирано
Учебный отряд Квантунской жандармерии
8 августа, 17.00
1. (Пункт опущен автором.)
2. Отряд Хирано частью своих сил обеспечивает вторую «специальную перевозку».
3. Фельдфебелю Инамура во главе 24 жандармов (поименованных в приложении) и одного унтер-офицера медицинской службы немедленно выехать из Синьцзина и по прибытии в Шанхайгуань поступить в распоряжение начальника цзиньчжоуского жандармского отряда.
До отправления в Шанхайгуань получить из штаба Квантунской жандармерии ножных кандалов — 81 пару, ручных кандалов — 52 пары, веревок для связывания при задержании — 40 штук, веревок для связывания при конвоировании — 25 штук и из мукденского отряда — ручных кандалов 30 пар и веревок для связывания арестованных при конвоировании — 40 штук.
4. Снабжение в пути с 50-процентной надбавкой, на основании таблицы 5 временных правил довольствия в Маньчжурии, производится за счет штаба Квантунской жандармерии.
5. (Пункт опущен автором.)
Начальник отряда капитан Хирано.
Эти приказы приводятся по записям в оперативном журнале жандармского отряда Хирано.
Среди заключенных, которых направляли в Отряд 731 под условным наименованием «бревен», были захваченные партизаны, китайцы и русские военнопленные, которые отказывались давать показания.
В Отряде 731 объяснили, что присылаемые к ним заключенные приговорены судом к смертной казни, но на самом деле они без всякого суда направлялись туда жандармскими отрядами и японскими «военными миссиями». Число убитых «бревен», по материалам суда, составляло ежегодно 500–600 человек, а всего за период с 1940 по 1945 год в Отряде 731 умерщвлено не менее 3000 человек.
5
Есть много других материалов, подтверждающих правдивость этой книги, но нам кажется, что читателю достаточно уже приведенных выше.
Советский военный трибунал приговорил заключить в исправительно-трудовой лагерь:
генерала Ямада Отодзоо, бывшего главнокомандующего Квантунской армией — на 25 лет;
генерал-лейтенанта медицинской службы Кадзицука Рюдзи, бывшего начальника санитарного управления Квантунской армии — на 25 лет;
генерал-майора медицинской службы Кавасима Киоси, бывшего начальника производственного отдела Отряда 731 — на 25 лет;
подполковника медицинской службы Ниси Тосихидэ, бывшего начальника учебного отдела Отряда 731 — на 18 лет;
майора медицинской службы Карасава Томио, бывшего начальника отделения производственного отдела Отряда 731 — на 20 лет;
майора медицинской службы Оноуэ Macao, бывшего начальника филиала Отряда 731 — на 12 лет;
генерал-майора медицинской службы Сато Сюндзи, бывшего начальника санитарной службы 5-й армии Квантунской армии — на 20 лет;
генерал-лейтенанта ветеринарной службы Такахаси Такаацу, бывшего начальника ветеринарной службы Квантунской армии — на 25 лет;
поручика ветеринарной службы Хирадзакура Дзенсаку, бывшего научного сотрудника Отряда 100 — на 10 лет;
старшего унтер-офицера Митомо Кадзуо, бывшего сотрудника Отряда 100 — на 15 лет;
ефрейтора Кикути Нориимицу, бывшего санитара-лаборанта Отряда 731 — на 2 года;
Курусима Юдзи, бывшего лаборанта Отряда 731 — на 3 года.
Ни один человек не был приговорен к смертной казни, хотя их преступления, связанные с подготовкой бактериологической войны, никак не могут быть оправданы с точки зрения гуманности.
Все двенадцать осужденных глубоко осознали свою вину и на судебном процессе полностью раскрыли тайну подготовки к бактериологической войне и проведения опытов над людьми.
Нам кажется необходимым привести некоторые выдержки из последнего слова подсудимых, переданного по московскому радио 2 января 1951 года, чтобы иметь полное представление о сути вопроса, затронутого в данной книге.
Генерал-майор Кавасима:
«Должны быть полностью разоблачены все преступления Японии против человечества».
Поручик Хирадзакура:
«Я надеюсь, что будут сурово наказаны также император Японии и Исии Сиро, которых нет на скамье подсудимых, хотя прежде всего они виноваты в подготовке бактериологической войны».
Ефрейтор Кикути:
«К сожалению, здесь на скамье подсудимых нет главных военных преступников, ответственных за подготовку бактериологической войны».
Подсудимый Курусима:
«Я безгранично ненавижу военщину, которая втянула меня в подготовку бактериологической войны».
Следует заметить, что советские военные органы, гарантировав сохранение жизни обвиняемым, в обмен на это добились откровенных признаний от всех двенадцати подсудимых и таким образом сумели полностью раскрыть ужасную картину подготовки бактериологической войны.
Думаем, что к данному послесловию нет необходимости что-либо добавлять. Пусть сам читатель решит, допустимы ли такие чудовищные преступления при любых условиях, пусть даже в военное время.
Добавление. Ограниченные объемом книги, мы не могли привести здесь многочисленные документы, касающиеся применения американской армией бактериологических бомб во время войны в Корее, а также деятельности генерал-лейтенанта Исии Сиро после его возвращения в Японию.
В заключение, идя навстречу пожеланиям редакции «Бунгэй Сюндзю», еще раз отмечаю, что данная книга в сокращенном виде была помещена в журнале «Бунгэй Сюндзю».
Ити Такэмура.
1
СМЖД — Североманьчжурская железная дорога. Так японцы называли КВЖД. — Прим. перев.
2
На службе в японской армии, кроме военнослужащих, имелось большое количество так называемых военных чиновников, т. е. лиц, поступивших на службу в армию по вольному найму. Они носили форму с погонами и даже имели оружие. Эти военные чиновники делились на три категории: «тёкунинкан» — высшие чиновники, по своему положению соответствующие генералам; «сонинкан» — чиновники, соответствующие офицерам, и «ханнинкан» — младшие чиновники, соответствующие унтер-офицерам. Каждая из этих трех категорий чиновников делилась на соответствующие ранги. Далее мы будем почти во всех случаях называть этих «армейских чиновников» просто вольнонаемными. — Прим. перев.
3
Теперь Пусан. — Прим ред.
4
Синьцзин — бывшая столица марионеточного государства Маньчжоу-Го. В настоящее время городу возвращено старое китайское название Чанчунь. — Прим. перев.
5
Вареный рис, приправленный пряностями. — Прим. ред.
6
Сакэ — рисовая водка. — Прим. ред.
7
Здесь и далее автор называет так местное население, то есть китайцев. — Прим. ред.
8
Пептон — промежуточный продукт распада белков. Примеряется в бактериологии как составная часть питательных средств; агар-агар — продукт, получаемый из некоторых морских водорослей, при добавлении 1–2 % к питательной жидкости образует твердую среду для выращивания микроорганизмов. — Прим перев.
9
Так вначале официально назывался Особый отряд 731. — Прим. ред.
10
В опубликованных у нас документах приводится несколько иная организация отряда. См. «Материалы судебного процесса по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия», Госполитиздат, М., 1950, стр. 527. — Прим. ред.
11
Хризантема одновременно являлась гербом императорской фамилии. В данном случае автор хочет сказать, что повреждение герба означало неуважение особы императора. — Прим. ред.
12
Чумные бациллы размножаются в преджелудке блохи, паразитирующей на зараженной чумой крысе, в такой степени, что насекомое теряет способность нормально питаться. Поэтому ослабленная голодом блоха ищет себе нового хозяина. — Прим. ред.
13
Катакана — один из видов слоговой азбуки японского языка. — Прим. ред.
14
Город в северо-западной части Китая, у границы с Корейской Народно-Демократической Республикой. — Прим. ред.
15
Знаки японской азбуки. — Прим. ред.
16
Мисо — специально приготовленные соевые бобы, которые служат приправой к различным блюдам. — Прим. перев.
17
Временные бумажные деньги. — Прим. ред.
18
Так назывался при японцах город Пхеньян. — Прим. ред.
19
Так назывался при японцах город Вансон. — Прим. ред.
20
В японской армии существовал обычай при демобилизации солдат или расформировании части проводить торжественную церемонию прощания с частью и сдачи оружия, во время которой солдаты давали торжественную клятву соблюдать военную тайну и сохранять преданность императору. — Прим. перев.
21
Ямала Огодзоо был приговорен к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на двадцать пять лет. — Прим. ред.
22
«Материалы судебного процесса по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия», Госполитиздат, М., 1950, стр. 94. — Прим. ред.
23
Автор ссылается на материалы Хабаровского судебного процесса, однако его данные несколько отличаются от опубликованных у нас. См. «Материалы судебного процесса по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия», Госполитиздат, М., 1950, стр. 263. — Прим. ред.
24
Там же, стр. 250. — Прим. ред.
25
Здесь, как и в предыдущем случае, автор, ссылаясь на материалы Хабаровского судебного процесса, допускает неточное цитирование документов. См. «Материалы судебного процесса по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия», Госполитиздат, М., 1950, стр. 287, 288. — Прим. ред.
26
Здесь, как и в предыдущем случае, автор, ссылаясь на материалы Хабаровского судебного процесса, допускает неточное цитирование документов. См. «Материалы судебного процесса по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия», Госполитиздат, М., 1950, стр. 114. — Прим. ред.
27
Военными миссиями японцы называли свои разведывательные органы в Маньчжурии. — Прим. перев.
28
Полный текст приказов см. в «Материалах судебного процесса по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия», Госполитиздат, М., 1950, стр. 179–182. — Прим перев.