Книга: Оставаться живым
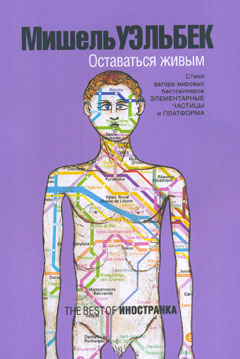
Оставаться живым
Ouvrage publié avec le concours du Ministère français chargé de la culture — Centre National du Livre[1]
Мироздание кричит. Бетон чувствует силу ударов, когда по нему бьют, ломая стену. Бетон кричит. Трава стонет на зубах животных. А человек? Что ж говорить о человеке?
Мир - это страдание в действии. В основе мира - ядро страдания. Всякое существование есть разрастание и сжатие. Вещи страдают, пока не начинают быть. Небытие, прежде чем стать бытием, содрогается от боли - в отвратительных пароксизмах.
Живые организмы развиваются, усложняются, делаются разнообразнее, но их основа остается неизменной. Когда достигается определенный уровень сознания, раздается крик. С него начинается поэзия. Членораздельная речь также.
Первый поэтический импульс - обратиться к началу начал. То есть - к страданию. Разновидности страдания, разумеется, заслуживают интереса, но это не главное. Всякое страдание годится, всякое страдание хорошо, всякое страдание приносит плоды, всякое страдание есть мир.
Годовалый Анри лежит на полу в грязном подгузнике; он орет. Мать, постукивая каблуками по плиткам пола, ходит мимо в поисках лифчика и юбки. Ей некогда, она опаздывает на свидание. Это маленькое создание, копошащееся на полу в собственном дерьме, выводит ее из себя. Она тоже начинает орать. Анри закатывается еще пуще. Она уходит.
У Анри отличный шанс стать поэтом.
Марку десять лет. Его отец умирает в больнице от рака. Этот полутруп, опутанный резиновыми трубками,- его отец. Только взгляд еще жив, он выражает страдание и страх. Марк тоже страдает. И ему тоже страшно. Он любит отца. Но ему уже хочется, чтобы отец поскорее умер, и он винит себя за это.
Марку следует потрудиться. Он должен развить в себе особый и весьма плодотворный вид страдания: Священное Чувство Вины.
Мишелю пятнадцать. Он ни разу не целовался с девочкой. Ему хочется танцевать с Сильви. Но Сильви танцует с Патрисом, и ей это явно нравится. Мишель застывает: музыка проникает в самую глубь его существа. Это великолепный медленный фокстрот, красоты необычайной. Он и не знал, что можно так сильно страдать. Его детство до сих пор было счастливым. Мишелю никогда не забыть этот контраст между тем, что творится в его душе, окаменевшей от страдания, и потрясающей красотой музыки. Мальчик развивается в правильном направлении.
Мир состоит из страдания потому, что он в основе своей свободен. Страдание есть необходимое следствие свободного взаимодействия частей системы. Вам надлежит это знать и говорить об этом.
Вам не грозит счесть страдание целью, к которой надо стремиться. Страдание есть - следовательно, быть целью не может.
Нанося нам рану за раной, жизнь чередует коварство с открытой жестокостью. Их надо уметь распознавать. Поупражняйтесь. Изучите эти формы досконально на собственном опыте. Разберитесь, в чем их различие и что между ними общего. Тогда многие противоречия разрешатся сами собой. Это добавит вашим словам силы и проникновенности.
Из-за специфики современной эпохи проявления любви сегодня практически сведены к нулю. Но идеал любви остается прежним. Пребывая, как всякий идеал, вне времени, он не может ни измениться, ни исчезнуть.
Отсюда несоответствие между идеалом и реальностью, вопиющий разлад, богатейший источник страдания.
Все решается в период отрочества. Если у вас сложилось представление о любви хоть сколько-нибудь близкое к идеальному, хоть сколько-нибудь благородное и возвышенное, вы пропали. Вас уже ничто не спасет, вам всегда будет мало того, что есть.
Если вы не встречаетесь с женщинами (оттого что вы застенчивы, некрасивы или по какой-либо иной причине), читайте женские журналы. Это обеспечит вам почти такой же накал страдания.
Прочувствовать до конца всю беспредельность отсутствия любви. Культивировать ненависть к самому себе. Ненависть к себе, презрение к другим. Ненависть к другим, презрение к себе. Все перемешать. Обобщить. В любых ситуациях заранее считать себя проигравшим. Мир как дискотека. Накапливать разочарования - чем больше, тем лучше. Научиться быть поэтом значит разучиться жить.
Можете любить свое прошлое, можете его ненавидеть, но оно всегда должно стоять у вас перед глазами. Надо достичь полного знания о самом себе. Тогда, постепенно, ваше глубинное «я» отделится и выскользнет к солнцу; а тело останется: распухшее, отечное, раздраженное - готовое к новым страданиям.
Жизнь - серия испытаний на прочность. Выдержать первые, срезаться на последних. Погубить свою жизнь, но не до конца. И страдать, всегда страдать. Научиться чувствовать боль всеми клетками своего тела. Каждый осколок мира должен ранить вас лично. Но вы обязаны оставаться живым - во всяком случае, какое-то время.
Не пренебрегайте застенчивостью. Кое-кто даже считал ее единственным источником внутреннего богатства, и доля истины в этом есть. Потому что в момент расхождения между намерением и поступком происходят интереснейшие психологические явления. Человек, у которого это расхождение отсутствует, недалеко ушел от животного. Так что застенчивость - превосходный стартовый толчок для поэзии.
Развивайте в себе чувство обиды на жизнь. Горечь - необходимая составляющая всякого настоящего творчества.
Конечно, в какие-то минуты жизнь может вам показаться просто бестолково устроенной. Но горечь всегда должна быть под рукой, наготове - даже если вы предпочтете ее не выражать. И постоянно возвращайтесь к истокам, которые суть страдание.
Когда вы почувствуете, что вызываете у окружающих испуганную жалость, смешанную с презрением, знайте: вы на верном пути. Можете начинать писать.
Использовать членораздельную речь
Сила становится движением, когда она приходит в действие и это действие разворачивается во времени.
Если вам не удастся выразить свое страдание во вполне определенной, четко структурированной форме, вам крышка. Страдание сожрет вас живьем изнутри раньше, чем вы успеете что-либо написать.
Структура - единственное спасение от самоубийства. К тому же самоубийство не решит ваших проблем. Представьте себе на минутку, что Бодлеру в двадцать пять лет удалась попытка самоубийства.
Верьте в структуру. Верьте в древние законы метрики. Версификация - мощный инструмент внутреннего освобождения.
Не считайте своим долгом изобретать новые формы. Новая форма - большая редкость. Одна на столетие - уже хорошо. И ее совсем не обязательно создает великий поэт. Поэзия не есть работа над языком, это не главная ее задача. Слова находятся в юрисдикции общества в целом.
Новые формы в большинстве своем создаются не на пустом месте, а отпочковываются со временем от старых. Инструмент подгоняется, прилаживается, претерпевает какие-то мелкие изменения. И новизна становится очевидна не сразу, а лишь на последнем этапе, когда произведение закончено. Этот процесс вполне сопоставим с эволюцией в животном мире.
Вначале вы будете испускать нечленораздельные крики. Потом у вас не раз возникнет искушение к ним вернуться. Это нормально. Поэзия слегка опережает членораздельную речь. Давайте волю крику всякий раз, когда чувствуете, что вас распирает. Это освежает, как купание в реке молодости. Но имейте в виду: если вы не научитесь хоть иногда выныривать из нее, вы погибнете. Запас прочности в нашем организме не беспределен.
В пароксизме боли вы не сможете писать. Но если чувствуете в себе силы, то все-таки попытайтесь. Результат, скорее всего, будет жалким. Скорее всего - но не обязательно.
Никогда не «работайте». Писать стихи - это не работа, это назначение.
Если какая-то конкретная форма (к примеру, александрийский стих) требует от вас чрезмерных усилий, откажитесь от нее. Такие усилия никогда себя не оправдывают. Но нельзя отказываться от усилия главного, постоянного, состоящего в том, чтобы не поддаваться апатии. Это усилие совершать необходимо.
В вопросах формы не стесняйтесь противоречить себе. Отклоняйтесь от избранного направления сколько угодно. Не слишком заботьтесь о том, чтобы иметь цельную «творческую индивидуальность»: она и так у вас есть, хотите вы того или нет.
Не пренебрегайте ничем, что может дать вам хоть чуточку душевного равновесия. Счастье не для вас, это ясно, и ясно давно. Однако, если вам вдруг подвернется какое-нибудь из его подобий, ловите его. Не раздумывая.
Все равно это ненадолго.
Ваша жизнь - сплошное страдание. Вы вознамерились выразить его в упорядоченной словесной форме. На этом этапе ваша задача - обеспечить себе достаточную продолжительность жизни.
Выжить
Литература все-таки единственный вид деятельности, позволяющий не зарабатывать ни гроша, не рискуя стать посмешищем.
Жюль Ренар
Мертвый поэт писать не может. Отсюда необходимость оставаться живым.
Это довольно простое соображение, но следовать ему бывает порой нелегко. Особенно в периоды затянувшегося творческого бесплодия. Поддержание собственной жизни вдруг покажется вам мучительно бессмысленным - все равно уже ничего не написать. Возразить тут можно только одно: вам не дано этого знать. И если вы трезво посмотрите правде в глаза, то вынуждены будете согласиться. Потому что истории известны самые невероятные случаи.
Если вам не пишется, это может быть предвестием перемены формы. Или темы. Или и того, и другого. Или действительно предвестием вашей творческой смерти. Но вам это неведомо. Вам никогда не будет по-настоящему понятна та часть вас самих, которая побуждает вас писать. Она проявляет себя в неясных и весьма противоречивых формах. Эгоизм или самоотверженность? Черствость или сострадание? Все объяснения выглядят на свой лад убедительно. И это лишний раз доказывает, что вы ничего не знаете. А раз не знаете, то и не ведите себя так, будто знаете. Перед вашим неведением, перед этой таинственной частью вашего существа, будьте честны и смиренны.
И дело не только в том, что поэты, которые живут долго, больше успевают написать. Старость - время совершенно особых физических и психологических процессов, и обидно было бы это упустить.
Вместе с тем надо признать: выжить необычайно трудно. Теоретически можно избрать стратегию Пессоа: найти какую-нибудь скромную службу, ничего не публиковать и тихо ждать смерти.
Однако на деле это таит серьезные трудности: ощущение, что время уходит впустую, что вы не на своем месте, что вас недооценивают… Все это очень скоро станет невыносимо. Пьянство практически неизбежно. В итоге вас ждет желчность и озлобление, а за ними неминуемая апатия и полное творческое бесплодие. Как видите, этот путь имеет свои минусы, но в принципе он единственный. Не забывайте о психиатрах - они выписывают больничные листы. Однако длительное пребывание в психушке следует исключить: слишком вредно. Это средство крайнее, и к нему можно прибегать лишь как к альтернативе жизни под мостом.
Формы социальной помощи (пособие по безработице и т.п.) надо использовать в полной мере, равно как и финансовую поддержку более состоятельных друзей. И пусть вас не слишком мучают угрызения совести. Поэт - это священный паразит.
Поэт - священный паразит; подобно скарабеям в Древнем Египте, он может благоденствовать на теле богатого развращенного общества. Но есть для него место и в сердце общества сильного и аскетичного.
Вам не надо бороться. Борются борцы на ковре, а поэты - нет. Но все-таки надо хоть изредка публиковаться: это необходимо, чтобы могло иметь место посмертное признание. Если вы не опубликуете некий минимум (пусть всего лишь несколько стихотворений в малоизвестном журнале), потомки вас не заметят, точно так же как не замечают современники. Будь вы хоть гений из гениев, но должны оставить зримый след. А дальше положитесь на литературных археологов: они откопают остальное.
Не исключено, что из этого ничего не выйдет, так часто бывает. Но нужно по крайней мере раз в день повторять себе, что главное - сделать все, что в ваших силах.
Полезно изучать биографии любимых поэтов: это поможет избежать некоторых ошибок. Следует усвоить, что проблема материального выживания не имеет хорошего решения. Зато плохих имеет очень много.
Вопрос, где лучше жить, как правило, не стоит: будете жить там, где получится. Старайтесь лишь избегать слишком шумных соседей, которые сами по себе способны довести кого угодно до полной интеллектуальной смерти. Временное трудоустройство может дать некоторые познания относительно функционирования общества, небесполезные в принципе для какой-нибудь будущей книги. Жизнь на дне в качестве маргинала приносит знания другого рода. В идеале, следует чередовать. Другие виды жизненного опыта - такие, как гармоничная сексуальная жизнь, брак, дети,- тоже весьма полезны и плодотворны. Но они почти недостижимы. В плане художественном это области, по сути, неосвоенные.
Жизнь ваша будет делиться, как правило, между горечью и тревогой. В обоих случаях может помочь алкоголь. Главное - заполучить передышку, чтобы писать. Передышки будут краткими, постарайтесь ими воспользоваться.
Счастья бояться не надо: его нет.
Бить по болевым точкам
Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины.
Второе послание к Тимофею, 2:15
Не ищите знания ради знания. Все, что не проистекает непосредственно от чувства, в поэзии имеет нулевую ценность.
(Надо, разумеется, понимать слово чувство в широком смысле: некоторые чувства ни приятны, ни неприятны - таково, например, ощущение странности.)
Чувство упраздняет причинно-следственные связи; только через него можно воспринять вещь в себе. Передать это восприятие и есть задача поэзии.
Сходство целей философии и поэзии - источник их скрытого союзничества. Оно не обязательно должно выразиться в сочинении философских стихов - поэзии надлежит открывать мир собственными путями, чисто интуитивными, минуя фильтр умственной реконструкции мира. И уж тем более надо избегать изложения философии в стихах, что чаще всего имеет результатом жалкий суррогат. Тем не менее именно среди поэтов новая современная философия обретает самых серьезных своих читателей, самых внимательных и восприимчивых. Точно так же только философы, точнее некоторые из них, в состоянии воспринять, вытянуть на свет и осмыслить истины, таящиеся в поэзии. Поэзия способна почти так же, как непосредственное созерцание,- и в гораздо большей степени, нежели старая философия,- дать им материал для обновления представлений о мире.
Чтите философов, но не подражайте им; ваш путь, увы, иной. Он неотделим от невроза. Пути поэзии и невроза пересекаются и чаще всего на последнем этапе сливаются - поэтическая струя почти неминуемо растворяется в кровавом потоке невроза. Но выбора у вас нет. Другой дороги тоже.
Постоянная работа со своими навязчивыми идеями и состояниями в конце концов доконает вас, превратит в недееспособную развалину, снедаемую тревогой или опустошенную апатией. Но, повторяю, другой дороги нет. Вы должны достичь критической точки. Войти в смертельный вираж. И создать несколько стихотворений, прежде чем разобьетесь о землю. На миг вам откроются необозримые дали. Всякая великая страсть ведет в бесконечность.
Как любовь разрешает все проблемы, так великая страсть в конце концов выводит в пространства истины. В пространства совершенно иные, где находиться мучительно, но где взгляд обретает зоркость и ясность. Где вещи предстают в первозданной чистоте, в прозрачности истины.
Верьте в тождество Истины, Красоты и Добра.
Общество, в котором вы живете, стремится вас уничтожить. Вы готовы с ним сразиться. В качестве оружия оно использует равнодушие. Вы не можете позволить себе того же. Следовательно, нападайте!
У любого общества есть свои уязвимые места, свои болевые точки. Найдите их и нажмите как можно сильнее.
Углубляйтесь в темы, о которых люди не хотят слышать. Показывайте изнанку жизни. Напирайте на болезнь, агонию, уродство. Настойчиво говорите о смерти, о забвении. О ревности, равнодушии, фрустрации, отсутствии любви. Будьте гнусны, и вы будете правдивы.
Никуда не вступайте. Или вступайте, а потом сразу же выходите. Никакая общественная идея не должна привлекать вас надолго. Борьба бок о бок с единомышленниками делает человека счастливым, вам это не нужно. Ваша стезя - несчастье. Ваша сторона жизни - темная.
Ваше призвание не в том, чтобы предлагать какие-то пути, строить теории. Если можете это делать, делайте. Но, если приходите к неразрешимым противоречиям, скажите об этом. Потому что ваше главное назначение - докапываться до истины. Вы могильщик и одновременно покойник. Вы тело общества. И вы же в ответе за тело общества. Все ответите как один. Землю будете жрать, сволочи!
Вы должны установить параметры вины и невиновности. Сначала для себя, это даст ориентиры. Но и для других тоже. Изучите их поступки и смягчающие обстоятельства, потом судите, совершенно беспристрастно. Но не щадите и себя, не щадите никого.
Вы богаты. Вы знаете, что есть Добро и что есть Зло. Не смешивайте их никогда; не дайте себе увязнуть в толерантности - это печальный признак старости. Поэзия в силах установить непреходящие моральные истины. И свободу от них вы должны ненавидеть всей душой.
Истина скандальна. Но без нее ничего не выйдет. Наивная и честная картина мира - уже шедевр. В свете этого требования оригинальность мало что значит. Не заботьтесь о ней. В любом случае оригинальность неизбежно проявится через сумму ваших недостатков. А ваше дело - просто говорить правду, вот и все.
Невозможно любить одновременно правду и наш мир. Но вы уже сделали выбор. Теперь проблема в том, чтобы от него не отступать. Призываю вас не сдаваться. Не потому, что вам есть на что надеяться, нет. Наоборот, предупреждаю: вы будете очень одиноки. Люди, как правило, приспосабливаются к жизни, иначе они умирают. Вы - живые самоубийцы.
По мере приближения к истине ваше одиночество будет все более и более полным. Прекрасный, но безлюдный дворец. Вы ходите по пустым залам, где эхом отдаются ваши шаги. Воздух чист и неподвижен, все вещи словно окаменели. Временами вы начинаете плакать, настолько четкость очертаний невыносима для глаз. Вам хотелось бы вернуться назад, в туман неведения, но в глубине души вы знаете, что уже поздно.
Продолжайте. Не бойтесь. Худшее позади. Конечно, жизнь еще потерзает вас, но вас с ней уже мало что связывает. Помните: вы, в сущности, уже умерли. Теперь вы один на один с вечностью.
Гипермаркет, ноябрь
Я плюхнулся сперва в прилавок морозильный;
Расплакался, струхнул, конечно, но не сильно.
Мне кто-то пробурчал, что от меня разит;
Я двинулся вперед, приняв нормальный вид.
Весь пригородный люд, разряженный и злой,
Сновал туда-сюда вдоль стеллажей с водой.
Плыл над рядами гул арен и мрачных оргий;
Я мирно брел себе походкою нетвердой.
Потом я вдруг упал у сырного отдела;
Купившие сардин две женщины в летах
Шли мимо, и одна другой сказала: «Ах,
Такой молоденький, ну разве это дело?»
Две грозные ступни мне заслонили зал:
Явился продавец блюсти порядок купли.
Людей смущал мой вид и дорогие туфли;
Последний раз я вел себя как маргинал.
Непримиримый
Мой отец, неотесанный злой идиот,
Пьяно грезил, уставившись в телеэкран,
С торжеством наблюдая, как прахом идет
За несбыточным планом несбыточный план.
Обращался он с сыном, как с крысой чумной;
Я ему никогда не умел угодить:
Он хотя бы за то недоволен был мной,
Что имел я все шансы его пережить.
Умирал он в апреле, метался, стонал,
Взглядом бешеным гневно пространство сверлил,
Был весной недоволен, похабно шутил,
Три минуты дерьмом мою мать поливал.
Перед самым концом, одинокий как волк,
На мгновение вдруг перестал он стонать.
Улыбнувшись, сказал: «Я наделал в кровать».
А потом захрипел и навеки умолк.
* * *
Я умников боюсь и их дрянных затей,
Лишающих меня моих амфетаминов.
Зачем же отнимать единственных друзей?
Я так устал, я - прах, и жизнь распалась, минув.
Все эти лекари, подобно гнойникам,
Мой иссосали мозг - кто их нудить заставил?
Но я-то жил и жив помимо норм и правил.
Плевать! Такую жизнь задаром вам отдам.
Порою по утрам от ломки так корячит,
Что впору завопить. Но боль пройдет. Плевать!
А уж на здравоохранение тем паче.
По вечерам, один, я падаю в кровать,
Я Канта перечту, а день свой вспоминать -
Как вскрыть нарыв. Плевать! И не могу иначе.
* * *
Мое тело - наполненный кровью мешок.
Чуть глаза приоткрыв, я лежу в темноте.
Я боюсь приподняться - в моем животе
Что-то гнусное булькает между кишок.
Будь ты проклята, плоть, что взяла меня в плен
Беспокойства и боли. Постель вся в поту.
Между ног бесполезно торчит в пустоту,
Словно губка набрякшая, вздувшийся член.
Будь ты проклят, Христос, для чего, мне ответь,
Ты нам тело непрочное это даешь?
Все уходит в трубу, ничего не вернешь.
Мне не хочется жить, я боюсь умереть.
* * *
Люблю лечебницы, вместилища мученья,
Где чахнут старики, студентам напоказ,
Бездушным циникам, исполненным презренья,
Жующим свой банан с тупым прищуром глаз.
В палатах чистых, но привычных к вечной драме,
Их ждет небытие, несчастных стариков,
Когда, синюшные, они встают утрами,
И каждый все отдать за курево готов.
Они встречают день почти беззвучным охом,
Забыв, что значит мысль, забыв, что значит смех,
Их ожидает то, что ожидает всех
В конце последних дней, перед последним вздохом,-
Слова, знакомые уже наперечет:
Я сыт… Спасибо… Сын придет в конце недели…
Как все внутри горит… Мой сын еще придет…
А сын все не идет. А пальцы побелели.
* * *
Какое множество сердец на свете билось!
В обшарпанных шкафах шушукаются вещи,
И так печальны их рассказы и зловещи
О людях, чья любовь разбилась и забылась.
Там холостяцкая посуда притулилась,
Здесь наводящие невольную унылость
Осколки юности вдовиц и старых дев -
То, чем живут шкафы, минувшим завладев.
Пожитки прибраны, и жизнь подобна спячке:
Прогулки, магазин - все та же череда,
Ни телевизор не утешит, ни еда.
А старость все гнусней, и все тошней болячки -
И вот уже с землей смешался прах случайный,
Любовью преданный и обойденный тайной.
* * *
В свои семнадцать лет была моя сестрица
Дурнушкой, и ее прозвали в школе Будкой.
Однажды в ноябре она пошла топиться.
Ее спасли; вода была гнилой и мутной.
Как крыса жирная под жаркою периной,
Она свернулась и мечтала о бесплотной,
О беззаботной, целомудренной, невинной,
О тихой жизни, о почти что мимолетной.
Наутро тень она увидела - то ближе,
То дальше на стене, и, как во сне, в тревоге
Пробормотала мне: побудь со мной, я вижу
Исуса, он идет, он стер, бедняга, ноги.
Шепнула: я боюсь, побудь со мной, присядь.
Ведь это вправду он? Дай мне скорей одеться.
Взгляни-ка, там дома… Народ… Как бьется сердце!
Там так красиво. Для чего же мне страдать?
* * *
С нелегким сердцем мрут богатые старухи.
«Ах, мамочка!..» Снуют невестки, точно мухи,
Батистовым платком с ресниц слезу смахнув,
Оценивают стол, и шкаф, и модный пуф.
По мне, милее смерть в обычном «ашелеме», [2]
Где верят старики, что так любимы всеми,
Что будут близкие по ним рыдать взахлеб
И что приедет сын и купит крепкий гроб.
На тихом кладбище окончат жизнь богачки,
Там, где гуляют старички и их собачки,
Меж кипарисами и кустиками, там,
Где воздух чист и нет раздолья комарам.
Ждет крематорий стариков из «ашелема»,
А в колумбарии и тихо все, и немо:
По воскресеньям здесь, как в будни, тишь да гладь,
И спит охранник-негр, всем старикам под стать.
* * *
Я легкость потерял. Я кожей чую мглу,
От вспышек и зарниц ночами сводит скулы.
И город всаживает в вену мне иглу
Вплывающего в дом бессмысленного гула.
Отсюда завтра я спущусь, помятый, на
Безжизненный бульвар, где снова повторятся
И эти женщины, и эта их весна
Среди оскомину набивших декораций.
В наполненных кафе опять пойдут молоть
Салат и чепуху - соль этой жизни скудной.
Сегодня выходной. Хвала тебе, Господь!
Я коротаю ночь с пластмассового куклой.
Кровавый звездный дождь горит огнем, летя,
И взгляды мертвецов скользят ему навстречу.
Мать Богородица, храни мое дитя!
Ночь, как порочный зверь, мне бросилась на плечи.
* * *
На углу, у «Фнака»[3], бурлила толпа. То и дело
Кого-то пихали, ругались и сатанели.
Нерасторопного голубя пес терзал без затей.
За углом, на панели,
Старая нищенка у стены молчаливо сидела,
Съежившись под плевками орущих детей.
Я шел по улице Ренн. Вывески и рекламы
Манили туда, где таких, как я, поджидают дамы:
- Привет, меня зовут Амандина.-
Однако мой член совершенно не трогала эта картина.
Толпились какие-то отморозки, листая страницы
Порножурналов, и с угрозой следили, как мимо идут порядочные девицы.
Функционеры обедали. И с каким аппетитом, взгляни-ка!
Но тебя там не было. Я люблю тебя, Вероника!
* * *
I
Я катил на «пежо», на своем сто четвертом
(Двести пятый, конечно, машина покруче).
Капал дождь. Я не стану бороться, всё к черту!
А в кармане три франка и мелочи куча.
Я не знал, как мне быть: скоро съезд на Кольмар, [4]
Но разумно ли будет съезжать с автострады?
Пишешь ты: «Надоело. Ты псих и фигляр.
Всё, конец! Я по горло сыта этим адом».
В отношеньях, короче, возник холодок -
Да, проходит любовь, это старая тема.
Но я духом не пал и, проверив гудок,
Затянул потихоньку мотив из «Богемы».
II
Немцы - свиньи, но асы по части дорог,
Так мой дед говорил, человек очень тонкий.
Я был близок к истерике, гнал на восток
И приветствовал гладкость германской бетонки.
Это было как бегство, я больше не мог,
Нервы сдали совсем от бессмысленной гонки.
Бак пустел, но до Франкфурта хватит и трети,
Там друзей заведу, и, сосиски жуя,
Будем с ними шутить и смеяться над смертью,
Обсуждать судьбы мира и смысл бытия.
Обогнав два фургона, везущие мясо,
Я запел, водворясь на своей полосе.
Ничему не конец! Замаячил над трассой
Образ радостей жизни в их зыбкой красе.
Природа
Я не завидую восторженным кретинам,
В экстазе млеющим над норками зверей.
Природа сумрачна, скучна и нелюдима,
Ни символ, ни намек не зашифрован в ней.
Приятно за рулем, катя на «мерседесе»,
Пейзажи созерцать и смену панорам,
И скорости менять, и ощущать в процессе,
Что реки, горы - всё, весь мир подвластен вам.
Скользит под солнцем лес, он тянется в ущелье,
В нем древних знаний свод как будто заключен,
В нем чары тайные как будто уцелели,
Проходит час-другой - и разум усыплен.
И вы выходите. Прощай покой. Еще бы!
Вы спотыкаетесь, кругом полно корней,
Какой-то дряни, мух и гнусная чащоба,
Абсурдный, чуждый мир колючек, змей, камней.
Вам хочется туда, где выхлопные газы,
Заправки, паркинги и барной стойки блеск.
Но поздно. Холодно. Стемнело как-то сразу.
Вас в свой жестокий сон затягивает лес.
В отпуске
Время замерло. Жизнь обернулась пробелом.
Плитки всюду размечены солнцем, как мелом.
Все уснуло, и в послеполуденной дреме
Только блики играют при каждом изломе.
Воздух давит на плечи, как влажная бездна,
Насекомые бьются о стекла дремоты.
То ли с жизнью свести окончательно счеты,
То ли в секту податься… Да все бесполезно!
Как всегда, здесь темнеет примерно с пяти;
Доживу до рассвета, без смысла и цели.
Сотни ротиков тьмы задрожат еле-еле;
День придет, но надежде уже не прийти.
* * *
Чистейший первозданный свет
Зажегся в море, как пожар.
Жизнь - бремя бесполезных лет,
Земля - подумать только! - шар.
На пляже некая семья неторопливо
Возилась с барбекю. Они с негромким смехом
Готовили еду и открывали пиво.
Чтобы попасть на пляж, я ланды все проехал.
Легла на водоросли мгла,
Урчало море, точно зверь;
В душе такая сушь теперь,
Ослабло притяженье зла.
А те, на берегу, и впрямь знакомы вроде
И что-то говорят, друг к другу обратясь.
И я принадлежать хотел бы к их породе…
Помехи, сбой волны, и резко рвется связь.
* * *
Мягкое подпрыгиванье гор,
Трактора урчанье в дымке зыбкой.
На руинах развели костер;
Жизнь, похоже, все-таки ошибка.
Выживать мне стало всё трудней
В гуще этих странных организмов:
Ходят в сандалетах, ржут,- ей-ей,
Скопище нехитрых механизмов.
Как запрограммирован уклад -
Навсегда - в провинциальных семьях!
Круг судьбы до скудости ужат,
Счастье в малых дозах, жизнь по схеме.
А на кухне блеск и чистота.
Что за страсть к вылизыванью кухонь!
Пуст и скуп словообмен: нет, да.
Мнения соседки ловит ухо.
* * *
Девять вечера, тьма наплывает в окно,
Я не в силах кричать, обрывается голос.
Начинается отпуск, за окнами морось,
Я пытаюсь представить, что мне все равно.
Раз в двадцатый опять подхожу к телефону,
Не найду, что сказать, но услышать готов,
Что мне скажут, и вместо сочувственных слов
Раз в двадцатый я слышу гудок монотонный.
Я сегодня купил себе хлеба и сыра,
Всё в нарезке - случайно не выколешь глаз,
И голодную плоть усмиряю тотчас.
Воскресенье, свобода, прохладно и сыро.
Если кто-нибудь есть на Земле или выше,
Тот, кто любит меня,- пусть пришлет мне ответ.
А иначе - конец, я уже его вижу,
Бритва в воздухе чертит светящийся след.
Ощущение холода
Утро было светлым, чистым, как кристалл.
Ты терять свою свободу не хотела.
Ждал тебя, на птиц смотрел и знал:
Предстоит страданье, что бы я ни сделал.
* * *
Фальшивой радости прибой,
Под вечерок, хотя б на час.
Ты не со мной, я не с тобой,
Забылся сговор наших глаз.
Смерть, разделение - удел
Уже ступивших за порог.
Неспешное разъятье тел
В прекрасный летний вечерок.
* * *
Как перевод небытия,
Вокруг меня предметы быта.
Никчемным, им под стать и я -
Ты не идешь, и жизнь разбита.
С самим собой, как с тенью тень,
Как с девкой уличной в кровати,
Я коротаю ночь и день
И так люблю тебя некстати.
Субботним днем бреду пешком
В толпе, снующей деловито,
И все шепчу себе о том,
Что жизнь разбита, жизнь разбита.
* * *
Почему никогда нам не быть,
Не быть
Такими, чтоб нас любить?
* * *
Нить забвения тянется, ткется и ткется
Без конца, без начала. Хоть плачь, хоть моли.
Жизнь, как белый корабль, закрывающий солнце,
Уплывает, скользя в недоступной дали.
Внешний мир
Я смерть внутри себя сквозь эту жизнь пронес,
Мне радость подменил невидимый некроз.
Частица холода всегда, везде со мной -
Живу отшельником в толкучке городской.
Порой спущусь купить то пива, то газету
И в супермаркете брожу со старичьем,
Их взгляд невидящий не скажет ни о чем,
Да и с кассиршами калякать - мочи нету!
Пусть так, пускай меня считают нездоровым,
Мне выпал редкий дар веселье разрушать,
Зато могу в тоске, в унынье поддержать
И просто в мрачный день - таким же мрачным словом.
Мне заменяет одинокая мечта
Проигранную жизнь, не ставшую судьбою.
Врачи накаркали все то, чего я стою,
И то, что стою я, не стоит ни черта!
Часы, за мигом миг, пусты, как дырки в сыре,
Покуда времена идут во внешнем мире.
* * *
Бесприютная ночь, я бегу от тоски,
Не питая надежды дожить до утра.
Плотным саваном душит и вяжет жара,
И в пустынном подъезде звенят каблуки.
На диванчик привычный в квартире ложусь,
На подушках лежу, только сон не идет.
Грязноватое солнце лениво встает,
Поднимаюсь как робот и снова тружусь.
Утомительный день, яркий солнечный свет,
Кофе чашка за чашкой, до боли в висках,
Телу мерзко в рубашке, штанах и носках,
Застревают в мозгах заголовки газет;
Вот и Дом Инвалидов. У входа в метро
Телеса секретарш, инженеров смешки,
Словно лай кобелей. Под глазами - мешки.
Мы несемся по кругу, где в центре - ничто.
* * *
Желание больше ничего не делать и, главное, не чувствовать ничего,
Внезапная потребность умолкнуть, отстраниться ото всего,
И, созерцая мирный, красивый Люксембургский сад,
Быть старым сенатором, одряхлевшим под грузом наград.
И больше ничто - ни дети, ни их кораблики, ни музыка главное,-
Не нарушит мою отрешенность, почти атараксию, такую славную,
Ни любовь - это главное,- ни страх, ни сердца сжатие…
Ах, больше никогда не вспоминать объятия!
Возможный конец пути
Что душу теребить? Я все же твердо знаю,
Что жил и видел жизнь людей и диких трав.
Я не участвовал, но все же твердо знаю -
Особенно сейчас, на склоне дня,- что прав.
Вокруг со всех сторон такой знакомый сад -
Теперь я искушен в своем надежном знанье
И этих ближних троп, и дальних эстакад,
И скуки отпусков, и скуки мирозданья.
Да, здесь-то я и жил, жил на излете века,
Неплохо жил, при всех уходах и растравах
(Ожоги бытия - от солнца и от ветра);
Теперь покоиться хочу вот в этих травах.
Подобно им, я стар. Я юн, подобно им,
И полон шороха весеннего природы,
И прожил, как они, смят, но невозмутим,
Цивилизации оставшиеся годы.
* * *
Рассвет стремительного солнца -
Вот так бы в смерти преуспеть!
А людям - лишь бы все стерпеть:
Мой бог, да что им остается?
Нам не по силам, не с руки
Сносить тоски осенней стоны,
Мой бог, а жизнь так монотонна
И горизонты - далеки.
Зима - ни звука, ни следа:
Стою один во всей вселенной;
Как голубой кристаллик льда,
Мечта чиста и совершенна.
* * *
Ностальгия мне незнакома,
Но завидую я старикам,
Их холодным как смерть рукам
И глазам, нездешним как кома.
Незнакома мне жажда признанья,
Но завидую я нахалам
И ревущим детишкам малым,
Что умеют быть в центре вниманья.
И опять, свалившись в кровать,
До утра, как всегда, буду ждать я
Стука в дверь, ледяного объятья;
По ночам я учусь умирать.
* * *
В Венеции, у парапета,
Я думал о тебе, Лизетта:
В той базилике золотой
Ты стать могла бы мне женой.
Вокруг толпа спешит, пестрея,
И хочет жить еще быстрее.
А я старик - внутри и вне:
Одна любовь осталась мне.
Последние времена
Ожидают тяжелые нас времена,
Ожидают нас ночи немыслимой боли.
Будем сглатывать слезы, пьянея от соли.
Жизни нашей вот-вот оборвется струна.
Где любовь? Заблудилась в потемках она.
Будем рвать торопливо письмо за письмом,
Лучший друг обернется заклятым врагом,
Будет путь в никуда, и дороги без цели,
И пески раскаленные вместо постели,
Будет страх, что таится за каждым углом,
Он крадется, как память, по следу за мной
И безмолвно смеется у меня за спиной;
Его цепкие пальцы крепки словно сталь,
И хрустальны глаза, устремленные вдаль,
Он над миром висит, будто нимб ледяной.
Ожидает нас смерть. Это факт, милый друг.
Время выпустим мы из слабеющих рук.
Все, что знали и прожили я или ты,
Проплывет перед взглядом у смертной черты,
Сожаленье мелькнет - и все кончится вдруг.
* * *
Народ, который любит жизнь,
Познать Создателя стремись.
Но снова только ночь вокруг
Да сердца стук.
* * *
Вот фотографии детей,
Вот безусловная любовь.
Но нам не избежать смертей,
На небе встретимся мы вновь.
* * *
Да правда ли, что есть там кто-то в самом деле,
Кто после смерти нас с любовью примет всех?
Я холод сотен глаз встречаю с дрожью в теле;
Я к людям ключ ищу - нет, это просто смех.
Да правда ль, что помочь друг другу могут люди,
Что можно счастья ждать и не в тринадцать лет?
Есть одиночество, где шанс на помощь скуден;
Твержу я про любовь, которой, знаю, нет.
Я в центр выхожу под вечер, к ночи ближе,
В моих глазах мольба, иду на зов огня.
Бульвары золотом струятся по Парижу;
Как сговорились все не замечать меня.
А ночью я звоню, приникнув к телефону:
Набрать, один гудок, и трубку положить.
Тень прячется в углу, вблизи магнитофона,
Беззубый скаля рот,- ей некуда спешить.
* * *
Чудовищная смесь бесчисленных прохожих
Плывет по улицам. Свод неба извращен.
Зеленые тона - всё новые, еще -
Я создаю. Вот пудель рядом ожил.
О Шопенгауэр, я мысленно с тобой.
Тебя люблю и различаю в бликах окон:
Сей мир безвыходен. Я старый шут с пороком.
Здесь очень холодно. Прощай, Земля. Отбой.
В конце концов все разойдутся по домам,
Формулировка ироничная весьма.
Откуда знать мне, кто успел тут поселиться?
Здесь есть и санитар, и должностные лица.
И есть друзья у них - я думаю, немало.
Я подошел к стене. Я размышляю вяло,
Пока галдят они, как полчище горилл;
Я видел клетки их, когда глаза закрыл.
Я в восемь по утрам иду вдоль стен церквей,
Я вижу в транспорте старушек умиранье;
И скоро свет дневной замрет, замрет за гранью.
И тут встает вопрос о смысле всех Церквей.
* * *
Ты что-то говорила о сексе, об отношениях между людьми. Говорила ли ты вообще? Вокруг было шумно; казалось, с губ твоих слетают слова. Поезд въезжал в туннель. С легким потрескиванием, с легким запозданием загорелись лампы в купе. Я ненавидел твою плиссированную юбку, твой макияж. Ты была скучна, как сама жизнь.
Среда. Майнц-Рейнская долина-Кобленц
Очевидная двойственность одиночества. Я смотрю на стариков, сидящих за столиком, их минимум десять. Можно от нечего делать их сосчитать, но я уверен, что их минимум десять. Ох! Если б только я мог улететь на небо, улететь на небо сию же минуту!
Они говорят все сразу, производя какофонию непонятных звуков, где можно различить лишь отдельные жеваные слоги, словно выгрызаемые зубами. Господи! Как же трудно примириться с миром!..
Я сосчитал. Их двенадцать. Как апостолов. А официант, надо думать, Христос?
Не купить ли мне футболку «Jesus»?
* * *
Бывают мгновения, когда буквально слышишь насмешливое шуршание времени, ускользающего среди тишины и уюта, И смерть опережает нас по очкам. Становится скучно, и соглашаешься ненадолго отвлечься от главного, сделать какое-то нудное, но необходимое дело, считая, что оно займет три минуты,
А после с тоской замечаешь, что два часа улетучились почему-то.
Время безжалостно к нам.
Иногда вечерами кажется, будто день пролетел за четверть часа, и, естественно, начинаешь думать о возрасте, торопиться, Пытаешься блефовать, чтобы разом наверстать полгода, и не находишь ничего лучше, как опять исписать страницу,
Потому что - за вычетом редких моментов истории и нескольких личностей, чьи имена нам известны из книг,-
Лучший способ обыгрывать время - не пытаться прожить в нем сполна, ловя каждый миг.
Место, где наши поступки вписываются в гармонию мира, где они волшебно последовательны и свободны от противоречий, Где все наши «я» дружно шествуют рядом без раздоров и драм,
Где правит абсолют, где идеалы вечны,
Походка - танец, а слова - псалом, Не существует на земле.
Но мы туда идем.
Точка абсолютной идентичности
Дом Бога похож на взрытый кротом бугорок,
Там много ходов,
Галерей, куда телу протиснуться трудно;
Но внутри этот дом безнадежно пустой.
Небесный Иерусалим существует и здесь, на земле,
В глазах некоторых женщин;
Сперва происходит отладка, что-то вроде синхронизации приемных устройств и установки соединения,
Потом взгляды тонут и отражаются в чем-то невероятно чудесном, несущем спасение,
Которое есть Другой и Единый,
Пространство и неподвижная точка.
Отринув время, мы оказываемся в царстве идентичности - путь как будто недлинный.
В центре Господнего Храма есть комната с побеленными стенами и низеньким потолком;
Посредине стоит алтарь.
Те, кто сюда попадает, бывают сначала удивлены атмосферой пустоты и безмолвия, которыми проникаешься понемногу;
Почему пуст алтарь? Разве так надлежит являть себя Богу?
И лишь после многих дней, после многих ночей бдения и созерцания
В центре пространства вдруг проступает нечто, подобное солнцу, обретающему очертания,
Нечто такое, что стягивает пространство и организует его, как ядро,
Центральная точка, вокруг которой формируется мир и воплощает себя в потрясающем топологическом переплетении,
Точка, продолжительное созерцание которой готовит душу к скачку в абсолютную идентичность, недосягаемую для изменения.
Названия для этой точки нет ни в одном языке, но она источает радость, свет и добро.
* * *
Мир выглядит, как никогда, однородным и прочным. Девятичасовое солнце медленно и полого струится по улице; старинные и современные здания соседствуют довольно беззлобно. Я, частица человечества, сижу на скамейке. Парк совсем недавно обновили; фонтан вот установили. На этой скамейке сидя, я думаю о человеческом виде и ощущаю себя гуманным: сижу гуманно напротив фонтана.
Фонтан современный: вода течет между серыми полусферами, падает медленно с одной на другую. Между ними она могла бы только сочиться, но архитектор придумал хитрей: сначала вода заполняет неторопливо верхние полусферы; когда они переполняются, она тихонько капает в нижние; через какое-то время - его промежутки кажутся мне неравными - все разом опустошается. Потом вода наливается снова, и процесс повторяется.
Может быть, перед нами метафора жизни? Сомневаюсь. Скорей, архитектор хотел инсценировать свое представление о вечном движении. Не он первый, не он последний.
Пятница, 11 марта. 18 час. 15 мин. Саорж
Лежу в гостинице; мышцы мои отдыхают после ходьбы; они слегка горят, но это приятно. Не могу я, как человек западный, сентиментальный, спонтанный, по-настоящему принять для себя буддизм (со всем, что буддизм включает в себя: с этим упорным исследованием тела, направляемым разумом; упорным, почти научным исследованием тела, его реакций и использованием этих реакций в мистическом поиске и в быту).
Иначе говоря, я остаюсь романтиком, зачарованным идеей полета (полета чистого, духовного, с телом никак не связанного). Я чту целомудрие, святость, невинность; верю в слезный дар и молитву сердца. В буддизме все более разумно, более целесообразно; однако я не в состоянии проникнуться им.
Я лежу на кровати, мышцы мои отдыхают; и я чувствую, что готов, как в юные годы, изливать душу до бесконечности.
* * *
Я как мальчик без права на слезы и ласки,
Уведи меня в царство хороших людей,
Уведи меня в ночь, покажи мне, как в сказке,
Мир с другими созданьями, чудо содей.
Я надеждой живу, вековой, первобытной,
Как те старые негры, что дома - князья:
Подметают метро с непонятной улыбкой -
Одиноки, как я, безмятежны, как я.
* * *
И правда, этот мир, где дышим тяжело,
Внушает нам лишь злость, до дрожи отвращенья,
Желание сбежать, без права возвращенья.
Нас больше не прельстит букет газетных слов.
Нам вновь бы обрести исконный отчий дом,
Крылом архангела заботливо укрытый,
И жить моралью странной, позабытой,
Что освящала жизнь - до смерти, день за днем.
Нам нужно что-нибудь, что нежность утолит,
Нам нужно что-нибудь, похожее на верность,
Что сможет превзойти собою эфемерность.
Нам больше не прожить от вечности вдали.
Бульвар Пастера. Вторая половина дня
Голубые глаза, туристический вид.
Это немцы об обществе спорят за пивом.
Их «Ach so» с разных столиков сразу летит
В теплый воздух живой со словесным приливом.
Слева химики дружно воркуют за пищей:
«Технологии новые синтез продвинут!»
Всем от химии радостно, грустно от виршей.
Хорошо бы прийти нам к науке единой.
Эти цепи молекул, философия «я»
И абсурдная жизнь архитекторов модных…
Разлагается общество, секты свободны.
Может, лучше восславим монарха, друзья?
* * *
Сгусток крови, злобы сгусток,
Это люди, говоришь?
Это люди, кроме шуток.
Ночь упала на Париж.
А в обманчивой лазури
Две ракеты повстречались.
Старичок, слегка прищурясь,
Древний коготь изучает.
Динозавры, динозавры
С неразумными глазами,
Тоже бились вы бесславно,
По болотам замерзая?
Было ль время добрых истин,
Был ли гармоничный век?
Отчего, скажите, в жизни
Так страдает человек?
* * *
В Мохаве [5], выжженной, безбрежной,
Рос двухтысячелетний кактус,
Как бог-хранитель безмятежный;
Сквозь лаву он пробился как-то.
В день равноденствия, весной,
В канун глобальных потрясений,
Идут индейцы в час ночной
Пред кактусом склонить колени.
И ночь горит от их заклятий,
Дрожащих, как язык змеи,-
Всё, чтобы Время в результате
Желаньям подчинить своим,
Чтоб убедить его свернуть
С пути, замкнуть свои извивы.
Настанет день когда-нибудь,
Когда над Временем красиво
Захлопнет крепкие замки
Архитектура их стенаний.
И станем мы легки, легки…
И Вечность снова будет с нами.
Вариация 49: Последнее путешествие
Треугольник стальной режет воздух над миром;
Самолет застывает. О странный десант!
Высота восемь тысяч. Встают пассажиры
И выходят. Под ними безмолвие Анд.
А в разреженном воздухе видно, как смерчи,
Завиваясь в спираль,
Поднимаются снизу предвестием смерти,
И туманится даль.
Наши взгляды встречаются, ищут ответа,
Но молчит пустота.
Неживой белизной наши руки одеты
И сверканием льда.
Сантьяго (Чили), 11 декабря
Взаимодействующие операторы
А когда-нибудь, в час окончания ночи,
Когда ширится небо лазурью проточин,
Я уйду, я безмолвно тогда удалюсь,
Я с полярным сияньем привычно сольюсь,
Я исчезну без ведома прочих.
Проскользит моя поступь путем потайным
Обычным на первый взгляд.
Лабиринты и петли. Они не страшны.
Припомню свой путь наугад.
Это тихое утро наполнит покой.
Без веселья и скорби пойду я легко.
Каждый шаг нежным светом окутан
Зимних зорь, их улыбкой, уютом.
В это тихое утро уйду далеко.
В окруженье нельзя ничего разузнать.
«Он в отъезде»,- распустят слушок.
Через несколько дней разразится война,
И конфликт поползет на Восток.
* * *
Деревья словно ткали облака,
Ажурность придавая без конца им;
Вдруг, как перед грозой, все расплылось слегка,
И стал, как мрамор, небосвод непроницаем.
* * *
Дворец небес, мираж. Мы плыли наугад
В омытые слезой просторы.
Лазурь скользила ввысь - точь-в-точь аэростат.
И клацали затворы.
Переход
I
Облака и дожди шаткий воздух полощут.
Серо. Зелено. Ветер с небес до земли.
Растворяется мир. Остальное - на ощупь.
И дрожит на пруду отражение лип.
Чтобы к смерти морской подобраться неспешно,
Нам пришлось пересечь жар белесых пустынь.
Мы зловещих пучин избежали, конечно,
А оттуда, из тьмы, улыбались коты.
Но желанья отнюдь умирать не хотели.
А те двое из Бирмы, что были средь нас,
По орбите под знак Скорпиона летели,
Исказили их лица оскалы гримас.
Мы в пути по суровым горам Козерога,
В нашей памяти пляшут ушедших тела;
Через темный Фангорн пролегала дорога.
Наважденье лесная лепнина сняла.
И немногие все же достигли порога…
II
Это плоскость наклонная в зыбком тумане;
Солнце косо лучи раскидало вокруг.
Всё в асфальте, в бетоне, как будто на плане,
Но не властны здесь больше законы наук.
Это крайняя точка пути индивида;
Единицы прошли сквозь Врата Облаков.
И, в момент перехода страданий не выдав,
Улыбались спокойно и будто легко.
Прах земной облучают астральные токи
Из массива волений - алхимии плод -
И струятся послушным теченьем широким
В океанскую тайну Чернеющих Вод.
Дымка тонкая мягко, беззвучно клубится
В глубине мирозданья.
Миллиард становлений, стремящихся слиться.
Моря дыханье.
В конце белизны
I
В конце наступит снежное утро:
Вокзальчик, горстка народа.
Коричневый труп собачонки - будто
Метафора: нет исхода.
В конце белизны откроется смерть,
Исчезновенье тел.
Я завершаю свою круговерть,
Рассвет безжизнен и бел.
Почва - как каменный рот: ни слова.
Я завершаю путь.
Черные губы земли готовы
Меня, как слюну, втянуть.
II
Рассвет возвращается, почва дымит.
Я умер - итог таков.
Солнце сквозит, и туман размыт,
И светел край облаков.
Родится снова то, что светло,
И то, чья сущность темна.
И все опять возродится сполна,
Включая добро и зло.
И возвестит живым тишина,
Что стадо скотов пришло.
Умеют друг друга терзать скоты
И собираться в орды,
Скоты, у которых не пасти и морды,
А руки, лица и рты,
И дорого все, что воняет кровью,
Их клыкастому поголовью;
Кровь в их венах кипит впотьмах,
Кровь, несущая страх и крах.
И рассыпаются камни в прах.
* * *
И смысл вещей подрастворен
В послеполуденной субботе.
Ты к сладостной, густой дремоте
Своим артрозом пригвожден.
Тогда исчезновенье шпал
Осуществится между рельсов,
Опередив дождливый шквал;
Воспоминания воскреснут.
Я думаю о позывных
У пруда. Помню мутновато:
В реальном мире, не в иных,
Я жил давным-давно. Когда-то.
* * *
О отупенье, милосердная завеса!
Я вижу зданья в синеватой оболочке,
Лужайки зыбкие, стерильные цветочки
Я псина раненая, я уборщик леса.
Я круг спасательный, держащий на воде
Ребенка мертвого, я продранный башмак,
Я черная дыра, миг пробужденья, знак
Сиюминутного, я ветер, я - везде.
Всему есть место, все свою имеет цену,
Но нет надежных и просчитанных путей,
Чтоб просветления достичь в душе своей;
А белый занавес уже скользит на сцену.
Дорога
Ряд мачт четвертовал небесный свод наклонно,
К шоссе тянулся свет фонарного стекла.
На женщин я смотрел и каждую желал,
Их приоткрытых губ темнели полигоны.
Нет, мне не обрести уверенности сонной,
Что я любим навек, что не поставлен срок.
Мой краток будет путь, неверен и жесток,
От безразличия и счастья удаленный…
Тропических цветов на окнах одеянья,
Фемины мимо шли, не заходили в бар.
В тоннеле всех ночей надежда так груба,
А между женских ног все залито сияньем.
Вероника
Весь дом был розовый, а ставни голубые,
Я видел в темноте тебя, твое лицо,
Я нервно ждал зари, как будто бы впервые;
Луна скользила вниз, в туманное кольцо.
Чертила ты рукой в пространстве круг незримый,
Где мог я двигаться и жизнь вершить свою;
Я шел, я полз к тебе, такой недостижимой,
Как умирающий ползет к небытию.
Внезапный белый взрыв все изменил в мгновенье,
Над новым царством встал диск солнца, спала тьма;
Повеяло теплом, а день был воскресенье,
И в воздухе плыла гармония псалма.
Был странно ласковым твой взгляд, в ответ на это
От счастья в конуре я завилял хвостом.
Какой чудесный сон, и вправду полный света:
Хозяйкой ты была, а я послушным псом.
Первобытный сад
Мы покинули сад через заросли влажных хвощей,
И предстала нам светлой и радостной сущность вещей.
По пустынной дороге шагали мы в мир наугад,
И цедило нам солнце лучи сквозь решетки оград.
Молчаливые змейки скользили у нас из-под ног,
Был печален твой взгляд предвкушением новых дорог,
Первобытный растительный хаос охватывал нас,
И цветы выставляли свои лепестки напоказ.
Беспокойные твари, мы бродим в эдемском саду,
И страдаем, и мучимся болью у всех на виду,
О единстве, утраченном нами, не в силах забыть.
Мы живем, существуем, нам вечными хочется быть.
Но однажды и нас вместе с гнусною этой травой
Смерть, настигнув коварно, накроет навек с головой.
Среди райского сада мы падалью ляжем в кустах,
И распустятся розы на наших истлевших костях.
* * *
Свекольные поля, по склонам восходя,
Мерцали. Мы себе казались чужаками.
Как подаяние был тихий шум дождя,
И пар дыхания плыл поутру над нами
Неясным символом…
Был темен наш удел,
Предвестье застилало дали.
Цивилизация дымилась грудой тел.
Мы это знали.
* * *
Дорога под гору вела -
Большие ящерицы рядом
Своим отсутствующим взглядом
Просвечивали нам тела.
Жила под нашей мертвой кожей
Сеть нервов, как клубок корней.
Я вверился судьбе своей,
В Благую Весть я верил тоже.
И в размышленье одиноком
Терял спасительную нить -
Так суждено ль в бессмертье быть
И мне монархом или богом?
* * *
Спокойно ждали мы, одни на белой трассе;
Малиец прихватил в дорогу скудный скарб,
За счастьем ехал он, подальше от песка
Пустынь. А я вдруг счел, что мой реванш напрасен.
От облаков и их бесстрастья
Лишь одиночество и думы.
Теряем возраст в одночасье
И набираем высоту мы.
Когда исчезнет плен тактильных ощущений,
Мы будем сведены к самим себе, друг мой.
К пределу мы пойдем. И тяжкий страх немой
Недвижностью скует и руки, и колени.
А море плоское. И тает
Навек желанье жить любое.
Вдали от солнца и от тайн
Я устремляюсь за тобою.
* * *
День ширится, растет, на город пав лавиной,
Мы пережили ночь, но легче нам не стало.
Я слышу шорох шин и шум неуловимый
Общественной возни. И мне здесь быть пристало.
День состоится все ж. С безумной быстротою
Границы обведет воздушное лекало:
Тут бытие, там боль - твердеющей чертою.
Но плоть, однако, плоть, как банный лист, пристала.
Мы пережили страх, желанья, цепь ошибок,
Но детская мечта светить нам перестала.
И мало что стоит за широтой улыбок -
Мы пленники своей прозрачности усталой.
* * *
Те дни, когда гнетет нас плоть, пугая бездной,
Когда весь мир застыл, как тот цементный блок,
Дни без любви, без мук, где страсти - под замок,
Почти божественны, настолько бесполезны.
На пастбищах глухих, среди лесных полян,
И в городских домах, и под огнем рекламы -
Везде мы познаем суть истины упрямой:
Мир существует, он нам в ощущеньях дан.
У особей людских есть внутренности, члены,
Единство же частей недолговечно тут,
И люди взаперти в своих ячейках ждут
Немой команды «взлет», чтоб вырваться из плена.
Их сторож в сумерках предпочитает жить,
И у него с собой есть все ключи на случай.
Вмиг пепел пленников рассеется летучий,
И хватит двух минут, чтоб камеру помыть.
Вечер
Что ни начни - тупик. Буксуешь то и дело.
Вернуться хочется обратно с полпути,
Лежать не двигаясь, лишь в боль свою вползти -
Так о себе теперь напоминает тело.
Снаружи - день, теплынь, все небо ярко-сине,
И юность крутится, словить свой шанс должна.
На праздники ее всегда зовет весна,
А ты не приглашен. Вокруг тебя - пустыня.
Плоть одинокая - мучительное бремя;
Земная жизнь свое исчерпывает время.
Стучит с отчаянной натугой твой мотор,
Но не справляется с густой тяжелой кровью;
Как занимаются, ты позабыл, любовью.
И ночь обрушилась, как смертный приговор.
* * *
Он бредет через город, возвращаясь в свой дом;
Холодает, и ветер лезет за воротник.
Он от женского тела почти что отвык.
Мимо люди проходят, обдавая теплом.
Он бредет через город, равнодушный мертвец,
Изучает прохожих, как читает роман,
Где интрига скрывает очевидный обман -
Что любого ждет, в сущности, тот же конец.
Вот он код свой набрал, дверь подъезда открыл
И холодные пальцы положил на виски.
Очевидно, спасенья не найти от тоски,
Даже радио слушать - и то нету сил.
Он один в этом мире, как ты или я.
Ночь - бездушных вещей позаброшенный склад,
Под холодной поверхностью прячется ад.
Он бредет через ночь, ищет смысл бытия.
Донорский пункт
Я знаю, где мой кабинет,
Я знаю свои права,
И уже не болит голова
От злобы на весь белый свет.
В каморке тесной моей
На службе у мира людей
Сижу за рабочим столом,
Гляжу на ночь за стеклом.
Я больше не верю в богов,
Или - скажем так - не во всех;
Под окном слышен женский смех
Или, может, ангельский зов.
Я сижу за своим столом,
Ну а в городе гаснет свет;
Ночь, жестокая, словно смерть,
Поджидает за каждым углом.
Интенсивная, словно страх,
Ночь живет в больших городах;
В облаках, что клубятся как пар,
Зарождается новый кошмар,
Он ужасен и красен на вид,
Он как студень кровавый дрожит.
На службе у крови людской
Сижу, сражаясь с тоской.
Обрывки случайных снов,
Недопетая песня без слов -
Зачем это всё и к чему?
Бессмысленно отвращенье.
Реальности нет прощенья,
Ведь мир объявил нам войну:
Калечит людскую плоть
И рвет ее на куски,
И, корчась от смертной тоски,
Плоть мучается, но живет.
У ненависти в плену
Я моралям всем вопреки
В ответ на эту войну
Сжимаю сильней кулаки.
Как ни пестуй свой организм,
Все равно повстречаешься с адом.
Мне твердят, что это цинизм,
Но я знаю, что гнев мой оправдан
Всем страданием рода людского,
Нашим преданным, отнятым раем
И бессмысленной суетной ролью,
Которую все мы играем.
Я понял все это давно,
Я знаю, где мой кабинет.
Ангелы смотрят в окно,
За стеклами гаснет свет.
* * *
Минутная слабость - я ничком валюсь на банкетку. Между тем шестеренки привычки продолжают вращаться. Еще один вечер насмарку - а может, неделя, а может, вся жизнь; тем не менее я должен снова выйти из дома, чтобы купить бутылку.
Юные буржуазки фланируют между стеллажами супермаркета, элегантные и сексуальные, как гусыни. Наверное, здесь есть и мужчины, но на них мне глубоко наплевать. Единственное отверстие, через которое возможно общение между тобой и другими - это влагалище.
Я поднимаюсь по лестнице, литр рома плещется внутри пластикового пакета. Я отдаю себе отчет в том, что гублю себя этим: вот уже зубы начинают крошиться. Почему, ну почему женщины шарахаются в сторону, встречая мой взгляд? Неужели он кажется им взглядом неудачника, фанатика, ревнивца или маньяка? Я не знаю и, вероятно, никогда не узнаю, но именно в этом - корень всех моих несчастий.
Конец вечера
Приступ тошноты в конце вечера - неизбежный феномен. Нечто вроде заранее запланированного кошмара. Наконец я перестаю знать и начинаю мыслить.
Пустота внутри разрастается. Вот оно. Полный отрыв от реальности. Словно висишь посреди пустоты в точке, равноудаленной от всего, что творится вокруг, под воздействием магнитного поля чудовищной силы.
В этом состоянии, когда отсутствует контакт с окружающим миром, ночь может показаться тебе очень долгой. Такой она и кажется. Не исключено, что именно в этом залог твоей безопасности, но сейчас ты не способен прочувствовать это. Ты поймешь это позже, когда вновь выйдешь на улицу, когда вновь наступит день, когда ты вернешься в мир.
К девяти часам он уже наберет обороты. Вращение мира изящно, оно сопровождается легким гулом. Мир втянет тебя в свою круговерть, заставит спешить - так прыгают на подножку тронувшегося от платформы поезда.
Но догнать его невозможно. И снова ты будешь ждать ночи, которая, однако, как обычно, принесет с собой беспомощность, неуверенность и ужас.
И так будет продолжаться день за днем - до самого конца мира.
* * *
От зубов и до самой глотки мое нёбо покрыто сплетением коричневых отвердевших наростов, похожих на мертвые ветви, но внутри каждого из них скрыт живой нерв, способный чувствовать боль. Их извивы и развилки напоминают крону густого кустарника и прощупываются, словно твердые валики под тонким слоем плоти; хрупкие стволики с трудом поддерживают венчающую их массу мертвых ветвей. Почва вокруг стволов усеяна мусором, комьями грязи, пустыми бутылками и пузырьками, которые катаются по земле, задевая стволы, от чего весь куст сотрясает болезненная дрожь. Есть там даже панцирь каракатицы; ветви, обвив его со всех сторон, затвердели и окаменели.
Я боюсь, что кто-нибудь явится с металлическими граблями и начнет орудовать ими под этим кустом. Раздастся хруст, и вся масса, выкорчеванная из земли, брызнет немым фонтаном внутри моего рта вместе с корнями зубов, а затем вывалится наружу и повиснет кровоточащим клубком нитевидной плоти.
* * *
Мочка моего правого уха вздулась от гноя и крови. Сидя перед красной пластмассовой белочкой, символом какой-то благотворительной акции в пользу слепых, я размышляю о неминуемом распаде, ждущем мое тело. Еще одно мучение, о котором мне известно так мало и которое мне предстоит сполна испытать. Одновременно и параллельно, хотя и поверхностно, я размышляю о распаде и упадке Европы.
Тело, истерзанное болезнью, уже потеряло надежду испытать облегчение. Прикосновение женских рук лишено всякого смысла. Однако по-прежнему желанно.
* * *
С полуоткрытыми ртами, словно карпы в бассейне, мы рыгаем смертью. Чтобы скрыть запах смерти, исходящий из наших глоток, неумолимый запах смерти, мы извергаем потоки слов.
Известняк, из которого сложены наши дома, состоит из мертвых животных. Из четвертованных, раздробленных, высохших мертвых животных, из выпотрошенных ракушек. Из разбитых, размолотых, размельченных в беспощадной утробе земли ракушек, пропеченных жутким жаром земных кишок. Из слипшихся мертвых животных.
Сутки вместе с ней
Она глядит на меня, и взгляд ее полон крови. Ее набухшая плоть - лишь сосуд, полный крови. Я вижу кровь, что течет внутри ее рассеченных грудей. Я вижу кровь.
Она со мной. Все утро. Весь вечер. Я просыпаюсь в восемь часов, и мне кажется, что все еще утро. Но это вечер. Это вечный вечер. И это ночь. Ночь, что настала. Беспокойная ночь кровавых марионеток на нитках жил, что видны сквозь желтизну тонкой кожи. Марионетки похожи на женщин, в жилах которых струится кровь - кровь марионеток.
Заря. Словно взрыв. Все кругом в синеве. Синева, синева; великолепно! Новый день, как всегда, непреклонен. Когда же наступит покой? Когда же наступит смерть?
Дифференцирование на улице Аврон
Осколки дней твоих на стол кладу я с краю:
Полпачки носовых платков, горсть мелочей:
Чуть-чуть отчаянья и дубликат ключей…
Как соблазнительна была ты, вспоминаю.
Дымок чуть липкий плыл над всем воскресным днем:
Где негры - там бистро, где чад - ларьки с фритюром.
Почти что бодрым шли мы пять минут аллюром,
Но, резко повернув, заторопились в дом:
Не видеть никого, смотреть лишь друг на друга.
Ты в ванной догола разделась, как всегда,-
Лицом осунулась, но телом молода.
«Смотри,- сказала ты,- я все еще упруга,
Я сильная ещё, не сладит смерть со мной,
Как с братом сладила, и жизнь моя продлится.
С тобой я поняла, о чём и как молиться.
Смотри же на меня. Не дай мне быть одной».
Прозрачность атмосферы
Кое-кто утверждает: стоит лишь заглянуть за кулисы этого мира, и вы поймете, как он прекрасен, вместе со всей своей безупречной механикой, со всеми своими ограничениями и фантазмами. Со всеми своими страстями, каждая из которых имеет свою историю. Со всей технологией взаимного влечения. Как он прекрасен! Увы, я, несмотря ни на что, пылко влюблен именно в те моменты бытия мира, когда все в нем идет вкривь и вкось, в состояние разлада в устройстве вселенной, потому что оно заставляет больше думать об общей участи, чем о частном, и заглянуть в вечность, иначе не доказуемую. Но такие озарения быстротечны.
Я отчетливо осознаю невозможность построения этической системы на столь шатком и ненадежном основании. Но мы здесь именно для того, чтобы ставить перед собой неразрешимые задачи. В настоящее время мы живем словно на вершинах калифорнийских столовых гор, на утесах-останцах, разделенных пропастями каньонов; до ближайшего соседа несколько сотен метров, но все же - благодаря прозрачности атмосферы - его видно как на ладони (невозможность вновь стать единым целым читается на лице каждого). Мы в настоящее время, словно обезьяны в оперном театре, верещим и гримасничаем в такт музыке. А где-то высоко над нами звучит быстротечная мелодия.
Истории
Истории, ясное дело… Все люди друг на друга похожи. Зачем же мы нудно рассказываем всё новые и новые истории? Полная бесполезность романа. Поучительных смертей более не существует: солнце померкло. Нам требуются небывалые метафоры, нечто вроде религии, принимающей во внимание существование подземных автостоянок. Разумеется, это невозможно. Впрочем, многое на свете невозможно. Индивидуальность, в сущности, это синоним поражения. Сознание собственного «я» - машина для производства чувства поражения. Комплекс вины может оказаться выходом из этого тупика-при хорошем раскладе. Но развить его в себе почти невозможно. В любом случае, здесь требуется что-то изощренное и небывалое. Сверхобъективность.
* * *
Стон муки или наслажденья -
Один и тот же стон.
Все что угодно - боль или сношенье,
Но только бы не сон.
По правде говоря, я всегда знал, что ты меня выносливее: последние события - яркое тому подтверждение. В конце концов, самая вульгарная твоя черта - это твой смех. Именно этой последней детали мне недоставало, чтобы осознать всю твою низость, жалкая дрянь.
«Просто мы разучились любить»,-
написала твоя сестра, сделав третий по счету аборт.
Очевидно, порвалась какая-то нить.
Между тем точно так же, как и вчера,
Утром снова солнце взойдет.
По прошествии нескольких недель мне стало очевидно, что опыт не делает человека сильнее: напротив, он его умаляет, а точней - разрушает. Люди размышляют, ищут золотую середину: нетрудно догадаться, что результат этого поиска сводится к нулю, причем происходит это довольно скоро. В конце концов, наибольшим достижением моего земного существования является вывод о том, что жизнь никогда и ничему не может научить.
* * *
В любом сплетении ветвей с ужасающей ясностью видится человеческое лицо (человекам повсюду мерещатся человеки; любой хаос очеловечивается под нашим взглядом).
Если чудится нам человеческий лик
Даже там, где он, в сущности, невозможен,
Если в хаосе он возникает на миг,
Только хаос рукой мы слегка потревожим,
Откуда оставленность? Откуда надлом?
И откуда в груди ледяная змея?
По ночам в темноте, сражаясь со сном,
Чую я, как микробы сжирают меня.
Схожие друг с другом и такие разные, наши тела наводнены микроскопическими организмами. Схожие друг с другом и такие разные, эти организмы - причина нашего гниения, источник нашего отчаянья. На самом деле они, а не мы - реальность в последней инстанции.
* * *
Долгое единение с природой не в моей натуре - Слишком много беспорядка и всяческих зарослей, шмыгают какие-то существа. Я люблю цитадели, построенные в лазури, Мне нужна вечность - или уверенность в ней сперва.
Внимательный осмотр земляного покрова в сосновом бору позволяет выявить глубокую дисгармонию среди образующих его веточек, иголок и сучьев. Эта дисгармония, как показывает наблюдение, порождает целый особый мир, она же определяет судьбу насекомых. Насекомые спариваются, озабоченные выживанием, полностью зависящим от случайностей. Их общественная жизнь представляется ограниченной.
Я так и не смог принять до конца кантаты
Иоганна Себастьяна Баха -
Слишком правильное в них соотношение
звучанья и тишины,
А мне нужен вопль, поток разъедающей магмы,
ощущение натиска и размаха,
Чтобы пробить безмолвие тьмы.
Мое поколение, похоже, открыло заново секрет музыки идеально ритмичной и, следовательно, идеально скучной. От музыки до жизни - один шаг. Не по заказу и не корысти ради, просто служа человечеству, я одну за другой зажигаю упрямо спички поэзии. К счастью, вирус СПИДа не дремлет.
* * *
Поворошим-ка сено тут:
Коровы стали слишком нервны.
В автобус, как в загон, войдут -
Тоска и боль в глазах безмерны.
Я уважаю всех коров,
Но от кобылок юных в трансе.
Я стать апачем был готов,
Да жаль, работаю в Дефансе. [6]
Кто видел башню ГАН [7] хоть раз,
Тот знает дней моих теченье,
По форме черепа тотчас
Поймет он все мои мученья.
Я в прерии хотел бы жить
Бескрайней, с легкой дымкой серой,
И эту родину любить
Уж точно мог бы полной мерой.
Кобылки скачут взад-вперед,
С оглядкою, боясь ошибки.
Торгующие - сущий сброд,
Но до ушей у них улыбки.
* * *
Вся напряглась она, меня заметив рядом,
С иронией сказав: «Как мило, что вы здесь…»
Округлости ее ощупав беглым взглядом,
Я вышел. Стол мой пуст был непривычно. Весь.
Бумаги я на нем бросал в конце недели,
Чтоб в понедельник вновь найти их на местах.
Мне нравилась она. За трепетность и страх,
За порчу тайную, скрывавшуюся в теле.
Она жила вдали от центра, в Шептенвиле.
Ребенок рыженький, видак… И что еще там?
Без шума лишнего и без столичной пыли…
Да, порнофильмы плюс. Но дома, по субботам.
Как секретарь она возилась с почтой срочной,
Старалась исполнять приказы непреложно.
Ей было тридцать пять, и пятьдесят возможно…
Для смерти, думаю, не важен возраст точный.
Полдень
Улица Сюркуф блестит, как склянка,
В сетке ливня магазин колбас,
А влюбленная американка
Пишет другу сердца в Арканзас.
Жизнь струится за глотком глоток;
Под зонтами прячась близоруко,
Ищут выход - непростая штука -
Смертные меж паникой и скукой
(Выброшен окурок в водосток).
Жизнь на малой высоте. Безлюдье.
Вялый темп бульдозера в траве.
Кончилась одна из интерлюдий -
Час сидения в пустом кафе.
Убийственное возвращение мини-юбок
Девушки в метро, легко ступая,
Порождают стресс и волны хмеля,
Адски соблазнительные в мае.
Я ушел на службу без портфеля.
Поискать любви в толпе вокзальной?
Или сексуальных приключений?
Нет, на вещи я смотрю реально,
Только временами столбенею.
Пломбы на вагонах, знаки «стоп»
Вдоль путей (маршрут «Балар-Кретей»).
Тут я попросту упал как сноп.
Был один из лучших майских дней.
Так весны открытье состоялось -
Юбок сногсшибательный балет.
Времени почти не оставалось
(Но я знал: покоя плоти нет).
* * *
Жизнь как вечность с полным пансионом
Диско-вечеринка, да, точь-в-точь.
С распродажей тел по всем шаблонам
На одну, без рекламаций, ночь.
Чувствую себя заблудшим волком
Я в плену у либеральных благ:
И боюсь дать повод кривотолкам,
И не адаптируюсь никак.
Все ж мечту лелею я подспудно:
Где-то есть и у меня друзья,
Хоть поверить в крепость уз мне трудно,
Да и поздновато, знаю я.
Но, как тот актер без режиссера,
Я скучаю в отпуске давно.
А другие пляшут до упора
И снимают видеокино.
* * *
Установление дистанций -
Лишь повод их преодолеть.
А значит, дискотеки, танцы -
Потеть, сближаться, сожалеть.
Как пригвожден, сижу на стуле -
Личинка жирная жука.
Но женский дух кругом - пачули,
Клубника, резеда слегка.
Я ерзаю, но вижу зорко:
Пощечины судьбы подряд…
Пес, за своей спешащий коркой,-
Я чую женский аромат…
Однако вечер на исходе.
К снотворному прибегнем мы:
Сны будут при любой погоде.
Ночь. Вырываюсь из тюрьмы.
Клубный отель
Поэт не может ждать бессмертья поздних масок,
Он маслом бронзовым намажет сам себя.
Вчерашний день был тих, податлив, полон красок,
Дул легкий бриз морской, чуть пальмы теребя.
И, стоя на земле, парил я выше тучи,
Все направленья знал - юг и другие три.
Я самолета след разглядывал летучий
И всех отпускников, сидящих там, внутри.
Чем отличаюсь я от них? Все так похоже:
Шерсть на ногах, мораль и сари у подруг…
Поэт - такой, как все, кто рядом и вокруг,
В компании собак хвостом виляет тоже.
Но у бассейна я годами бы сидел,
Купающихся в нем почти не узнавая,
Как будто мимо глаз пошло движенье тел,
Желания во мне уже не вызывая.
* * *
Почти в объемные свет вылился детали;
Я на полу всегда стелил себе, как страж;
Я мог бы умереть или рвануть на пляж;
Семь на часах, все спят. А может, рано встали.
Я знал, что там они, где были в прошлый раз,
Я знал, что в светлые они одеты шорты…
На схему сердца глянь - там клапаны, аорта.
Полкруга кровь прошла. И лучший день - для нас.
Млекопитающих под зонтиками тени;
Одно - на поводке, стоит, хвостом вертя…
На снимке видно: я - счастливый как дитя.
О, если бы заснуть средь зонтичных растений!
* * *
Молчание теней. И небо безответно.
И даун-девочка в футболке «Предатор»
С кошмарным бульканьем слова выводит тщетно,
Ей вторят мать с отцом сквозь звуковой затор.
Почтовый служащий в трусах для велогонки
В гимнастике себе не даст сегодня спуску:
Он «держит свой живот». А девушка по кромке
Вдоль берега бредет печально в юбке узкой.
Бесшумен горизонт; нет птиц средь облаков.
День строит сам себя, привычно, без огласки.
Ракушки ищет здесь кой-кто из стариков;
Все дышит белизной и близостью развязки.
Алжирец пол метет в гостинице «Даллас»,
Блестит стекло дверей, но он глядит тоскливо.
На пляже найдено два-три презерватива;
Еще одну зарю встречает Палавас.
Сексуальная система Мартиники
Обои могут быть просты и бледноваты -
Не стоит отвлекать приезжих от утех.
Во время отпуска о смерти думать грех:
Кругом либерализм и сплошь одни мулаты.
Под казуариной[8] шибает липкий пот;
День слишком ярок, кожа масляниста.
Ждет целый ворох игр послушного туриста,
И мясо черепах на ужин тоже ждет.
Осталось подыскать обменник для оргазма,
Чтоб каждый счастлив был и легкий фильм снимал
Про игрища любви, парео, танцы, бал…
Ночь конвульсивна, и финал - как спазма.
Что ж, слизистыми вы произвели обмен,
И можно собирать спокойно чемоданы.
Свободный статус свой вы подтверждали рьяно
И гуманизм пустой, легко дающий крен.
* * *
Как в матке рак, как роды или
Как уик-энд в автомобиле,
Любых событий череда -
Всё планом задано всегда.
Но куча полотенец влажных
В бассейнах скучных и вальяжных
Непротивленья стерла воск,
Заставив поработать мозг.
Клубок последствий видя внове
Всех этих отпускных любовей,
Сбежал бы сразу, если б мог,
Из этой черепушки мозг.
Всю кухню можно вымыть чинно,
Заснуть, глотнув мепронизина…
Но так темно не может быть,
Чтобы Историю забыть.
Распределение - потребление
I
Скрипит протез при шаге резком:
Калеку погулять ведут.
Сообщники консьержки с блеском
Все вычистят за пять минут.
На кровь зарезанных соседок
Они прольют ведро воды.
И спор о правде напоследок,
Слова любви и их следы.
Соседка, применив уловку, Ушла.
Пришла кухарка в дом.
Когда б сменил я обстановку,
Быть может, миновал нас гром.
Но что-то же должно случаться:
Глаза у кошки вырвал Жан;
Монады в пустоте лучатся…
Распределенье и канкан.
II
Среди микроволновой новых
Судьба решиться может вмиг
Всех потребителей здоровых,
И риск ошибки невелик.
Мне жидкость для мытья посуды
(Я это записал) нужна.
Но как противиться я буду?
На соль для ванны спеццена!
Опять меня бросает ловко
Жизнь в гипермаркет «Континент».
Обманут яркой упаковкой,
Сдаюсь я, соблазнен в момент.
Мясник усат и необъятен,
С улыбкой хищной, хищник сам.
Его лицо красно от пятен…
Я падаю к его ногам!
III
Я встретил взгляд дворовой кошки,
И он меня заворожил;
Она валялась на дорожке,
Полк насекомых там кружил.
Твои колени юной пумы
В чулках, которых как бы нет,
Сгибаясь, движутся без шума…
Мерцает нам ушедших свет.
Мне повстречался пролетарий,
Чей сын пропал среди огней
Той башни ГАН, где колумбарий
Всех бунтовщических идей.
Твои глаза, как пушка танка,
Скользят неспешно меж столов;
Хотя и хороша приманка,
Мне скучно. Я не твой улов.
* * *
Я шагал всю вторую половину дня;
Это была «физическая активность в контакте с природой»;
Тем не менее меня снова охватила тоска.
Отель комфортабелен;
К нему нельзя предъявить никаких претензий.
Дело просто в ощущении жизни, давящей на меня так,
Что вечера становятся практически невыносимыми.
Дело в наличии или отсутствии смысла,
От которого зависит наше счастье.
Я хорошо упражнял свои мускулы всю вторую половину дня,
Но с приближением вечера в воздухе опять что-то повисло,
Сдавив мне сердце.
На вокзале в Фантон-Саорж
(Заброшенном, замкнутом, с разбитым кафелем и засоренными туалетами)
Должен был пройти последний дневной поезд.
Я достал из рюкзака журнал для свингеров
(Какие там требуются половые партнеры?)
И, разорвав его пополам,
Бросил возле примитивных сортиров на кучу дерьма и сора.
Женщинам всегда будут нужны искусственные члены и большие черные пенисы -
Едва ли к восторгу пенсионера итальянских железных дорог,
Которого ноги сами привели на вокзал, где он делал свою карьеру,
Воспитывая детей обоего пола,
Пока не закрылась школа
.
* * *
Насекомые снуют среди камней,
Пленники своих метаморфоз.
Пленники и мы во многом сами.
Иногда вечерними часами
Видим жизнь как вещевой обоз.
Вещи, может быть, всего точней
Выражают наш упадок, нашу суть,
Неизменные ее границы, ход истории, смысл и путь.
Как, например, эта посудомоечная машина, которая помнит твой первый брак
И развод,
Как этот плюшевый мишка, который помнит все твои приступы гнева
И все отступления… Ну вот.
Общественные животные нуждаются в некотором количестве связей (их бывает немало),
В этой системе рождаются их желания, растут, достигая порой большого накала.
И умирают - раз, и не стало.
Умирают иногда в один миг,
Будто проходят мимо.
Только что существовала куча привычек, на которых строилась жизнь, и вот уже ничего нет, полный тупик.
Небо, которое казалось вполне сносным, становится в один миг
Черным невыносимо.
Боль, которая казалась терпимой, становится в один миг
Острейшей.
Ничего не осталось, кроме предметов, предметов, среди которых ты сам участи ждешь дальнейшей.
Вещь среди вещей. Голая проза.
Вещь, более хрупкая, чем другие вещи,
Несчастная вещь,
Всегда ожидающая любви,
Любви или метаморфозы.
* * *
В метро, в районе окружной,
Стал слышен этот грозный звук,
Как будто механизм взрывной
Под городом включился вдруг,
Как в сердце, где растет изъян
И разрываются края.
Вдали я видел башню ГАН,
И там решалась жизнь моя.
К своей голгофе персонал
В кабинах лифтовых спешил.
Рой секретарш внутри сновал
И макияжем дорожил.
Внизу ползла через туннель
Махина движущихся масс,
Ища неназванную цель,-
И шанса не было у нас.
* * *
Человек на другой платформе близок к концу пути. Это заметно.
Я и сам уже не в начале.
Почему мне жалко его?
Почему конкретно?
На платформе рядом со мной двое влюбленных,
Они не смотрят на человека
(Псевдовлюбленных, потому что он давно облысел)
И продолжают целоваться,
Двое влюбленных, искренне убежденных,
Что один мир существует для них, другой - для этого человека,
Человека напротив,
Который встает и собирает свои пакеты из «Призюника»,
Теперь уж точно приближаясь к концу пути.
Знает ли он, что Иисус Христос умер ради него?
Он встает, собирает свои пакеты,
Плетется в конец платформы, где турникеты,
И там, за лестничным поворотом,
Исчезает.
Последний рубеж обороны против либерализма
Мы отрекаемся от идеологии либерализма, ибо она не способна наполнить нашу жизнь смыслом, указать нам путь к мирному сосуществованию индивида с себе подобными в обществе, заслуживающем называться человеческим.
Впрочем, она таких задач и не ставит - ее цели совсем иные.
Мы отрекаемся от идеологии либерализма во имя энциклики Льва XIII - той, где о социальной миссии Евангелия,- руководствуясь теми же мотивами, по которым библейские пророки проклинали Иерусалим и призывали погибель на его голову;
И пал Иерусалим, и, чтобы восстать из праха, ему потребовалось четыре тысячелетия.
Доказано и не подлежит сомнению: любое человеческое деяние все в большей и большей степени оценивается исходя из критериев чисто экономических, из показателей математических, которые можно представить в виде импульсов электрических.
Это неприемлемо для нас, и мы будем бороться за то, чтобы взять экономику под контроль и подчинить ее иным критериям, которые я не побоюсь назвать моральными.
Ибо, когда увольняют три тысячи человек и я слышу при этом болтовню о социальной цене реформ, меня охватывает бешеное желание задушить собственными руками пяток-другой аудиторов -
По мне, так это и будет настоящей реформой,
Практической мерой, согласной с натурой
И сходной с гигиенической процедурой.
«Доверяйте частной инициативе!» - талдычат они на каждом углу, словно заведенные, словно старинные механические будильники, однообразный лязг которых приводит нас в состояние бессонницы, изматывающей и повсеместной.
На это мне нечего им сказать, кроме того, что по своему опыту, удручающе часто повторяющемуся, мне известно:
Частное лицо (я имею в виду, разумеется, человеческого индивида) - это, как правило, животное, иногда жестокое, иногда жалкое, доверять инициативе которого можно лишь в том случае, если сдерживать и направлять ее жесткими и непререкаемыми моральными принципами, словно палкою. А как раз этого и не предусмотрено.
Идеологией либерализма, понятное дело.
* * *
«Смысл жизни - это любовь»,-
Повторяют нам вновь и вновь,
Но слова не заменят дело,
Если тело не чувствует тело.
Смысл жизни, видать, не для нас.
Над Парижем «Тур Монпарнас»
Зажигает огни этажей,
И мы мчимся на зов миражей.
Наша жизнь - рекламный клип,
Гипермаркетов круговерть,
Где и думать забудешь про смерть
И о том, что ты снова влип.
Обожженной сетчаткой глаз -
В паутину ярких огней.
Город вскармливает палачей,
Отвращением потчуя нас.
Сам не зная, чего хочу,
Покупаю порножурнал.
В нем жестокий разврат правит бал:
Может, вечером подрочу.
А потом, отбросив журнал,
На матрасе засну, как скот.
Я ребенком по дюнам гулял,
Собирая цветочки, и вот
Где мечты мои, где цветы?
Я ребенком по дюнам гулял,
На песке оставляя следы.
* * *
Заметив, что заря обернулась своей противоположностью, Аннабель увидела, как тени ее юности колышут портьеры. Ей захотелось окончательно и навсегда распрощаться с любовью. К этому ее подталкивало буквально все: потока воспоминаний, сказала она себе, ей должно теперь быть достаточно. Ее ждала ночь и больные органы. Еще один опыт, еще одна жизнь: не такая приятная, как предыдущая, но зато и не такая долгая. Соседка завела себе пуделя: почему бы и ей не завести? Пудель не способен никого защитить от хулиганов, но он постоянно пребывает в детстве, и это радует глаз. Пудель тоже замечает, что портьеры колышутся, и тихо поскуливает, увидев солнце. Он признаёт свой поводок и ошейник. Как и человек, пудель может заболеть раком. Но он не боится смерти. Оглядевшись вокруг, пудель тявкает и кидается в водоворот.
* * *
Безмятежная, в коме глубокой,
Она знала, что шла на существенный риск
(Так порою мы терпим пылающий солнечный диск,
Несмотря на покрывшие кожу бугры волдырей),
Полагая, что мир полон добрых людей,
Но она заблуждалась жестоко.
Она могла бы жить, не ведая горя,
В компании маленьких деток и четвероногих,
Но она предпочла окунуться в людское море:
В девятнадцать лет она была красивее многих.
Ее волосы - тонкие, белые -
Придавали ей сходство с неземным видением,
Чем-то средним между привидением
И Офелией.
Безмятежная, навеки красивая,
Едва колышет дыханием ткань простыней.
Со стороны кажется, что она такая счастливая,
Но кто знает, что снится ей в мире теней?
* * *
Сначала была любовь или намек на любовь,
Были анекдоты, двусмысленности, недоговорки;
Затем был первый поход
В одно тихое заведение,
Где время почти не идет
И все дни как один - нежно-кремовые.
Было забытье, полузабытье и бегство
Или намек на бегство.
Ты лежал ночами в постели, как в детстве,
И не мог заснуть:
В ночной темноте
Ты часто слышал, как стучат твои зубы
В полной тишине.
Стал бредить уроками танцев,
Чтобы потом,
В жизни другой,
Танцевать под луной,
Всегда под луной,
Всегда с кем-то.
Но все прошло,
Ты уже неживой,
Теперь ты совсем неживой,
И ночь навсегда с тобой -
Засохли твои глаза.
И с тобой навсегда тишина -
У тебя больше нет ушей.
И ты навсегда одинок -
Никогда еще ты не был так одинок.
Ты лежишь, ты дрожишь и задаешься вопросом,
Прислушиваешься к телу и задаешься вопросом:
Что тебя ждет
После?
* * *
Величественное игнорирование пейзажа.
Куртене - Осер-Нор.
Мы приближаемся к отрогам Морвана. Внутри кабины ощущение абсолютной неподвижности. Беатрис сидит рядом со мной. «Хорошая машина»,- говорит она мне.
Фонари склонились в какой-то странной позе - можно сказать, что они молятся. Как бы там ни было, они начинают излучать слабый желто-оранжевый свет. «Желтая линия в спектре натрия»,- заявляет Беатрис.
Впереди уже маячит Аваллон.
* * *
Была ясная погода, я шел по склону холма, высохшего и желтого.
Сухое и прерывистое дыхание растений в летний зной… которые как будто при смерти. Насекомые трещат, насквозь просверливая угрожающий и неподвижный свод белого неба.
Когда идешь под палящим солнцем, через какое-то время возникает ощущение абсурда, оно растет, навязывает себя, заполняет пространство, оказывается повсюду. Даже если в начале пути вы точно знали направление своего движения (что, к сожалению, бывает крайне редко… обычно речь идет о «простой прогулке»), то вскоре представление о цели исчезает; кажется, что оно испаряется в раскаленном воздухе, который обжигает вас маленькими короткими волнами, по мере того как вы продвигаетесь вперед под безжалостным и неподвижным солнцем при тайном сговоре высохших трав, готовых мгновенно вас ужалить.
В ту минуту, когда липкая жара начинает склеивать ваши нервы, уже слишком поздно. Поздно пытаться, встряхнув головой, отогнать бредовые порождения ослепшего пленного разума, и медленно, очень медленно отвращение бесчисленными кольцами сворачивается в спираль и укрепляет свою позицию в центре трона, трона властей небесных.
* * *
Сверхскоростной поезд «Атлантика» пронизывал ночь с чудовищной быстротой. Освещение было скудным. Между перегородками из пластика средне-серого цвета расположились в эргономических креслах человеческие существа. На их лицах нельзя было разглядеть никаких эмоций. Смотреть в окно не имело смысла: непрозрачность тьмы была полной. К тому же некоторые занавески были задернуты, их ядовитая зелень составляла слегка унылую гармонию с темно-серым ковровым покрытием пола. Тишину, почти абсолютную, нарушало лишь тихое покрякивание плееров. Мой ближайший сосед, с закрытыми глазами, погрузился в глубокое небытие. Лишь освещенное табло с пиктограммами - туалеты, телефон, бар «Сербер» - выдавало присутствие жизни в вагоне. Шестидесяти человек, находившихся в нем.
Длинный и обтекаемый, цвета стали с неброским вкраплением красок, сверхскоростной поезд «Атлантика» №6557 состоял из двадцати трех вагонов, в которых разместилось от полутора до двух тысяч человек. Мы мчались со скоростью 300 км/ч на самый край западного мира. У меня вдруг появилось ощущение (мы преодолевали ночь в глухой тишине, ничто не позволяло угадать нашу невероятную скорость, неоновые лампы давали скупой свет, бледный и траурный), у меня вдруг появилось ощущение, что эта длинная стальная капсула несет нас (незаметно, стремительно, плавно) в Царство Тьмы, в Долину Теней и Смерти.
Спустя десять минут мы прибыли в Оре.
* * *
В далекие века здесь люди жили тоже;
Чтоб дать отпор волкам, вставали в круг не раз,
Звериный чуя жар; они исчезли позже,
Похожие на нас.
Мы собрались опять. Слова затихли, звуки.
От моря только след.
С любовью обнялись, прощально сжали руки -
И пуст пейзаж: нас нет.
Витки радиоволн, над миром рея,
Заполнили пробел.
Сердца у нас как лед, пусть смерть придет скорее,
Чей сон глубок и бел.
Все человечество покинет свой придел.
И диалог машин тогда начнется сразу.
Божественной структуры в трупе нет,
Но, информацией набитый до отказа,
Работать будет до скончанья лет.
* * *
В тетради старые я заглянул сейчас.
Там - дифференциал, а здесь - про жизнь моллюсков.
Развернутый конспект. Из прозы десять фраз -
Не больше смысла в них, чем в черепках этрусков.
Все понедельники я вспомнил. Лед. Вокзал.
Я опоздал к семи, на поезд свой всегдашний.
Я бегал взад-вперед, но все же замерзал
И на руки дышал. А мир такой был страшный.
Вначале встречей с ним мы так увлечены,
Что верим: все вокруг всему живому радо,
У каждого есть шанс, и шансы все равны.
Но в ночь субботнюю жить и бороться надо.
Причалы детства, вы уже нам не видны.
Наивность взгляда мы теряем слишком скоро.
Всему своя цена, как скажет продавец.
Жизнь всех нас в плен берет без всякого разбора,
Засасывает нас и не дает опоры;
И быстро гаснет свет. И детству здесь конец
.
* * *
Я больше не вернусь, не трону травы эти,
Наполовину пруд закрывшие уже.
Что полдень наступил, я осознал в душе,
Увидев этот мир в невероятном свете.
Наверно, я здесь жил, с соседями знаком,
Как все - в сети времен, всегда спешащих мимо.
«Шанти шанталайя. Ом мани падме ом.» [9]
Но солнце на ущерб идет неотвратимо.
Как этот вечер тих, вода стоит в огне,
Дух вечности над ней парит в преддверье мрака.
Мне нечего терять. Я одинок. Однако
Закат такого дня наносит рану мне.
Серый дом
Мой поезд путь держал в открытый мир от дома.
Я у окна сидел, безмерно одинок,
Постройки и цветы снаружи видеть мог,
А поезд плавно шел сквозь воздух незнакомый.
Луга среди домов ловил я беглым взглядом,
Нормальным было все, что было вне меня.
Я радость потерял, забыл, с какого дня;
Живу в безмолвии, одни пустоты рядом.
Светло еще вверху, но тень к земле приникла,
И трещина во мне проснулась и растет.
Так вечером, в пути, нормандский небосвод
Дышал итогами и завершеньем цикла.
* * *
Матрас как принадлежность тела.
Два метра, ровно два длиной.
Смешно, как будто в этом дело,
Бывает же расчет иной.
Случались радости. Немного.
Миг примиренья с миром был,
Я был неотделим от Бога
Давным-давно. Когда - забыл.
Взрывается в потемках тела
Не сразу лампочка. Но вот
Я вижу: нить перегорела.
Живой ли? Мертвый? Кто поймет?
* * *
Воздействие телеантенн
С укусом насекомых схоже:
Рецепторы цепляя кожи,
Они домой нас гонят, в плен.
Счастливым стать вдруг пожелав,
Я бы учился бальным танцам
Или купил бы мячик с глянцем,
Как аутисты, для забав.
И в шестьдесят их радость ждет.
Им, в упоенье настоящем
С резиновой игрушкой спящим,
Часов совсем не слышен ход.
А этот телеромантизм -
Мир в социуме, секс и «мыло» -
Почти что жизнь, где все так мило,
Но, в сущности, обман, цинизм.
* * *
Цветочных чашечек дыханье.
Опасны бабочки в ночи.
Бесшумных крыльев колыханье,
Стальные лунные лучи.
Я опыт не забыл жестокий
Подростка, прячущего стыд.
Всех поражений все уроки
Мальчишка выросший хранит.
Термитам дышится отменно,
Была бы пища да жилье.
Но это напряженье члена
Ослабнет, только взяв свое.
И будет аппетит отличный,
Сознанья поле расцветет.
Благопристойной и приличной
Жизнь станет, сладостной как мед.
* * *
Я тут, я на матрасе весь,
И наша тяга обоюдна,
Но часть меня уже не здесь,
И ей вернуться будет трудно.
Мы в шкуре собственной дрожим,
Кровь заставляя суетиться.
Как по субботам мы спешим,
Принарядясь, совокупиться!
Я взглядом упираюсь в дверь,
В нее был вложен труд немалый.
Мы кончили. И я теперь
Пойду на кухню спать, пожалуй.
Я вновь дыханье обрету
На кафельном нестрашном льду.
Ребенком я любил конфеты,
Теперь мне все равно и это.
* * *
К Дурдану рвется поезд скорый.
С кроссвордом девушка. Одна.
Не завожу с ней разговора,
Пусть время так убьет она.
Как монолит на ровном месте,
Рабочих движется орда.
Все независимы, но вместе;
Пробили воздух без следа…
Как плавны рельсов повороты,
Вот пригородов первых свет.
Час пик. Народ спешит с работы.
Ни времени, ни места нет.
* * *
В метро, уже полупустом,
Народ почти что ирреальный.
Игру затеял я притом,
Опасную потенциально.
Догадкой поражен, что вкус
Свободы без последствий сладок,
Я тут же свой теряю курс,
И обхожусь без пересадок.
Проснувшись, вижу: Монпарнас,
Здесь сауна для натуристов…
Весь мир на место встал тотчас.
Но грустно мне среди туристов.
* * *
Миг простодушья или транса,
Абсурдность встречи с кенгуру.
Спастись нет никакого шанса:
Я окружен толпой гуру.
Как средство лучшее от боли
Мне смерть свою хотят продать.
Они лишь призраки, не боле,
Но могут телом управлять.
Вся флора бешено плодится
И этим нагоняет грусть,
А светлячку дано светиться
Одну лишь ночь, и всё. И пусть.
Мы смысл существованья новый
Опять находим без труда.
Шумим, шумим, круша основы,
А гусь - он лапчатый всегда.
* * *
Душа под солнцем распростерта
На грозном берегу морском.
Разбужена волной, не стерта
Боль, скопленная в нас тайком.
Без солнца что бы с нами было?
Отчаянье, унынье, страх,
Вся жизнь - бессмыслица и прах.
Мир солнце умиротворило.
Расплавленный полудня жар.
И в неподвижности, в истоме
Смерть телу видится как дар:
Забыться, быть в тактильной коме.
Вот потянулся океан -
Проснувшись, зверь скребет когтями.
Закон вселенной не был дан.
Что стало бы без солнца с нами?
* * *
Их на песке сложили в ряд
Под светом, яростным, как стронций.
Тела ждет медленный распад;
Дробятся камни здесь от солнца.
Валы лениво в берег бьют,
И свет, скорбя, меняет лики.
Бакланы здесь еще живут,
И в небе жалобны их крики.
Такая жизнь на вкус во рту
Как лимонад, где газа нету.
Под солнцем жизнь и на свету,
Под солнцем и в разгаре лета.
* * *
Самоанализа урок,
К сочувствию привычка впрок,
Прогорклый привкус давней злобы,
Вербеновый экстракт особый.
Приют «Аркадия». А там
Пустые стулья, мертвый хлам.
Жизнь, разбиваясь о колонны,
Рекою растеклась бездонной.
Утопленники. Груда тел.
Над ними свод остекленел.
Река весь город затопила,
В погасших взглядах злая сила.
* * *
Вокруг горы стоял туман густой;
Я двигатель проверил - все в порядке.
Дождь был тягучий и как будто сладкий
(Я понял, что не справлюсь с тошнотой).
Вдруг вспыхивали яркие зарницы,
В картине мира высветив одно:
Здесь страх и голод царствуют давно.
Хотел бы я бесчувственным родиться.
Голодных нищих муравьиный рой
Метался под дождем и тек рядами
С открытыми, как для охоты, ртами,
Дорогу всю заполонив собой.
День убывал, но медля, неохотно,
Как сон дурной, как грязная вода.
Здесь примирения не будет никогда.
День кончился. Совсем. Бесповоротно.
* * *
Я над рекой, впадавшей в море, плыл.
Рой плотоядных итальянцев рядом.
И запах трав так свеж под утро был,
Что я к добру поплыл с открытым взглядом.
Кровь мелкой живности (ей счета нет)
Поддерживает весь баланс природный.
Их кровь, и внутренности, и скелет
Нужны, чтоб чья-то жизнь была свободной.
Среди травы их отыскать легко,
Лишь стоит кожу почесать несильно.
Растительность взметнулась высоко:
Могильщица, она растет обильно.
Я в сини плыл, объятый тишиной,
В отчаянье почти нечеловечьем.
Плыл между облаками и войной,
Меж низостью и этим небом вечным.
* * *
Предмет, способный удержать границы,
Хоть кожа не совсем предмет, но все же.
Ночами только трупам сладко спится,
Живая плоть не тосковать не может.
Вот сердце стукнуло. Один удар -
И крови начинается броженье.
В лице, в коленях, в пальцах - легкий жар,
Все тело целиком пришло в движенье.
Но кровь, токсинами отягчена,
По капиллярам пробегать устала,
Божественной субстанции полна.
Остановилась вдруг - все ясным стало.
Миг осознанья полного настал
И радости: ушли страданья сами.
Миг чистого присутствия. Финал,
Когда весь мир встает перед глазами.
* * *
Для паузы есть время. Помолчи,
Покуда лампа вполнакала светит.
Агония в саду деревья метит.
Смерть голубая в розовой ночи.
Расписана программа наперед,
На три ближайшие недели смело:
Сначала гнить мое здесь будет тело,
А после бесконечность прах сотрет.
Но бесконечность - в нас. Таков закон.
Я представляю атомов круженье,
Молекул презабавные движенья
Внутри у трупа. Все оценит он.
* * *
Мы должны выработать в себе установку на непротивление миру.
Негативное негативно,
Позитивное позитивно.
Реалии существуют.
Они появляются, трансформируются,
Потом просто исчезают.
Внешний мир, в некотором роде,- данность.
Бытие как объект восприятия похоже на водоросль,
Вещь отвратительную и чересчур аморфную,
В сущности женственную.
И это то, до чего мы должны добраться,
Если хотим говорить о мире,
Просто говорить о мире.
Мы не должны походить на тех, кто пытается подмять мир
Под свои желания
И свои убеждения.
В то же время у нас есть право
На ограниченное количество желаний
И даже убеждений.
В конце концов, мы представляем собой часть феномена
И в этом смысле заслуживаем самого большого уважения.
Как, например, ящерицы.
Как ящерицы, мы греемся под солнцем феномена
В ожидании ночи.
Но мы не будем сражаться,
Мы не должны сражаться,
Мы вечно находимся в положении побежденного.
* * *
Ласточки взлетают, медленно чиркая по волнам, поднимаются по спирали в тепло атмосферы. Они не говорят с людьми, ибо люди всегда остаются привязанными к земле. Ласточки тоже не свободны. Они зависят от необходимости повторять свои геометрические орбиты. Они легко изменяют угол атаки своих крыльев, чтобы описывать спирали, все более и более удаленные от поверхности земли. В общем, никакого урока ласточки нам преподать не могут.
Иногда мы возвращались вместе на машине. Над бескрайней равниной закатное солнце было огромным и красным. Вдруг стремительный полет ласточек начинал разлиновывать его поверхность. Ты вздрагивала тогда. Твои руки сжимались на обтянутом кожей руле. Сколько вещей в то время могло встать между нами.
Переигровка
Мишелю Бюльто
Мы подошли, не успев и охнуть,
К такому моменту в жизни, когда чувствуешь острую необходимость потребовать переигровки
Или попросту сдохнуть.
Когда мы оказывались лицом к лицу с самими собой на заднем сиденье в глубине гаража, там больше не было ни души.
Мы искали себя, от нетерпенья почти дрожа.
Пол, слегка маслянистый, по которому мы скользили, сжимая бутылку пива в руках, как в объятье,
Твое атласное платье,
Мой ангел, и твоя лента…
Странные нам пришлось переживать моменты,
Когда друзья исчезали один за другим, когда самые милые становились самыми страшными, застревая в щели между бесконечными белыми стенами лекарственной зависимости,
Они становились марионетками,
Пафосными или чересчур ироничными, едкими.
Страсть и восторг - мы узнали их лучше, чем кто бы то ни было,
Гораздо лучше, чем кто бы то ни было.
Ибо мы докапывались до самых глубин своих органов, пытаясь трансформировать их изнутри,
Чтобы, раздвинув легкие, найти путь или дверцу
К самому сердцу.
Но мы проиграли, заблудившись меж ними.
Наши тела были такими нагими.
Череда смертей и прощаний, и самые чистые из нас поднялись на свою голгофу.
Я вспоминаю то утро, тот самый час, когда твой кузен выкрасил волосы в зеленый цвет, прежде чем прыгнуть в реку,
К полету уже готовый.
Его жизнь была такой новой.
Мы не любим теперь тех, кто приходит критиковать наши мечты, наше парение,
Позволяем медленно окружать себя атмосферой зыбкого примирения.
Мы сторонимся теперь всех этих шуток о космическом разуме,
Твердо зная, что где-то в нас есть пространство свободы,
Куда наши жалобы
Доносятся уже приглушенные,
Пространство объятий,
Тело преображенное.
* * *
Когда холодно,
Вернее, когда замерзаешь,
Когда полюс холода одним мягким движением
Перемещается в глубь грудной клетки
И, как большое глупое животное,
Тяжело прыгает там между обоими легкими;
Когда руки и ноги слабо дрожат,
Все более и более слабо,
Перед тем как замереть на диване,
По-видимому, навсегда;
Когда, искрясь и мерцая,
годы возвращаются назад,
В атмосфере дыма и чада
Думать о благоуханной реке не надо,
О реке раннего детства, полной наивности,
Которую я по старой традиции
Называю рекой невинности.
Теперь, когда мы живем на территории света,
Теперь, когда мы живем в непосредственной близости света,
В неисчерпаемости зенита,
Теперь, когда свет, вокруг наших тел разлитый, стал осязаемым,
Мы можем сказать, что прошли предначертанный путь,
И звезды, придя в движение,
Собираются каждую ночь, чтобы прославить
Наши страдания и их преображение
В бесконечные образы тайны.
И та ночь, когда мы пришли сюда, в череде всех других ночей остается для нас драгоценной и необычайной.
So long [10]
Всегда есть город тот, где притяженья сила
Спешит свести пути поэтов, судьбы их.
Вода течет везде. И память накопила
Названья, имена и много ям глухих.
У этой повести есть к повторенью средства:
Разбитый горизонт, салон массажный тут,
Страх одиночества, приличное соседство…
Другие между тем танцуют и живут.
Быть может, люди мы совсем другой породы,
Мы любим танцевать, хоть танец и жесток.
Друзей у нас - два-три, но много небосвода:
Хранит пространство нас - и запад, и восток.
Но время, обветшав, нам отомстить готово.
С неясным шорохом куда-то жизнь идет,
Под вздохи ветра дождь накрапывает снова,
И в желтой комнате смерть, приближаясь, ждет.
Память о море
Смеркается уже. День темнотой распорот.
И сделать ставки нам пора.
Движение стихает наконец. Все замерло.
Спокоен город.
В тумане, сером, как свинец,
Поглубже страх упрятав до утра,
Мы входим в город,
Мы идем сквозь город.
Среди бронемашин орава нищих,
Как лужица застывшая. Но вот
Она уже извилисто течет,
В руинах роется, добычу ищет.
Твой брат, он тоже из когорты нищих,
Бродяжничает в холод и жару.
Мне не забыть о нем, другими позабытом,
Я помню про игру.
Мы покупаем рис в проходе крытом,
И ненависть вокруг сжимается в кольцо.
У ночи ненадежное лицо,
Она кроваво-красной станет вскоре.
Сквозь толщу лет со дна моей души
Всплывает память
О соленом море.
Лето в Дёй-ла-Баре
Поклоны веток там, где замерли цветы,
Скольженье облаков и привкус пустоты.
Шум времени растет. В ладу душа и тело
Воскресным днем у нас. И я в ветровке белой
Как рухнул на скамью в саду, где больше тени,-
Заснул и два часа проспал без сновидений.
Очнулся - колокол звонит давно,
Жар в воздухе и подают вино.
Шум времени уже всю жизнь заполнил,
И вечером успел смениться полдень.
* * *
Огни рассветные чуть зыбки,
Но стоит пламени дохнуть -
Вскипает молоко на плитке,
Как женская тугая грудь.
Кофейник фыркает негромко
В тиши дремотной городской.
Лишь с юга гул мотора ломкий.
Пять на часах. Все спят. Покой.
* * *
Мне всегда казалось, что мы с тобой близки, как два плода, выросшие на одной ветке. Сейчас, когда я пишу тебе, светает, мягко рокочет гром; день будет дождливым. Я представляю себе, как ты приподнимаешься на кровати. И твоя тревога передается мне, я тоже ее ощущаю.
Ночь уходит прочь от нас,
Свет границы ставить будет,
Снова будет много глаз -
Всюду маленькие люди.
Лежа на полу, я смиренно слежу за восходом солнца. Я вижу волосы на паласе. Эти волосы не твои. Одинокое насекомое карабкается по шерстяному стеблю. Моя голова падает, поднимается. Мне хочется по-настоящему закрыть глаза. Я не сплю уже трое суток; я не работаю три месяца. Я думаю о тебе.
* * *
Когда на маленький наш дом
Дождь с ветром налетали разом,
Прибежищем в борьбе со злом
Для нас мог быть один лишь разум.
И разум - добрый сильный пес -
Давал отпор любым ударам.
Теперь, что б день нам ни принес,
Смиренье стало нашим даром.
Пошли мне счастье и покой,
Избавь от лютой злобы века,
Страх отведи своей рукой,
Дай меру жизни человека.
* * *
Есть некий край, предел, верней, граница где-то -
Там свет от собственной твердеет густоты,
Там люди, подарив друг другу сколок света,
Утрачивают страх и чувство пустоты.
Парабола влеченья р'уки
Нам тишиной наполнила меж тем.
Дрожали мы с тобой в разлуке
И погибали без тебя совсем.
Все меловые мы пересекли границы.
Когда приблизилось назавтра солнце к нам
И что-то в облаках вдруг стало шевелиться,
Вибрация пошла по скалам и камням.
И свет потек, как ливень млечный,
На наши изможденные тела,
Как будто мать-богиня с лаской вечной -
Материя сама - нас приняла.
* * *
Оттенки безрассудства и фасоны,
Как идол, многие черты тая,
Определяют новые сезоны
И вносят в лето дух небытия.
Там солнце Будды - как невозмутимо
Оно в прогале облаков скользит!
Из города сбежав, мы едем мимо,
Нам непогода больше не грозит.
Путь на зарю машина держит смело,
И дворники дрожат, как провода.
Еще хоть раз твое нагое тело
Увидеть - и уехать навсегда.
* * *
Снаружи ночь. И за окном
Резня и рвутся мины.
Стань рядом, загляни в проем:
Там зыбкие картины
Сменяются.
Их контуры темны совсем
В дрожащем свете жутком.
Но взгляд мой зорче стал меж тем,
И в ожиданье чутком
Спокоен я.
Смотри, что пережили мы:
Гнет ненависти вечной,
Века раздоров, тьмы,
Тьмы античеловечной.
И появился он,
Свои он принял формы,
Мир, слаб и обнажен,
Мир.
Долгая дорога в Клифден
Мыс к западу от Клифдена [11], гряда,
Где небо целиком уходит в воду,
Где памятью становится вода,-
Граница мира с выходом в свободу.
У клифденских холмов протяжна даль,
Холмов зеленых клифденская даль,
Где я оставлю боль и всю печаль…
Что нужно, чтоб со смертью примириться?
Чтоб светом становилась смерть всегда,
Чтоб этот свет мог в воду перелиться
И чтобы стала памятью вода.
На западном краю земного шара
Из Клифдена идет дорога вдаль,
Такая долгая дорога вдаль,
Где люди оставляют боль, печаль,
Где волны света и волны удары.
* * *
Покажись, мой друг, двойник мой вечный,
У тебя в руках судьба моя.
Что-то есть во мне нечеловечье:
Только зыбкой жизни жажду я,
Зыбкой, словно море под ветрами,
Где есть водоросли и коралл,
Где несет над горькими мирами
Все надежды налетевший шквал.
Пусть, как позабытую комету,
Вынесет волна мой труп потом…
Наконец найду я гавань где-то,
Сумрачный и защищенный дом.
Видишь: ложных доводов потоки
Во вселенной моего ума.
Вечера тревожны и жестоки,
И на всем - упадок или тьма.
Я, как выпотрошенная рыба,
Отдал все нутро на корм скоту.
Вздернуты мои кишки на дыбу,
Но не ощущаю пустоту,
Потому что плоть кишит мечтами,
Как бифштекс - червями, сгнивший тут.
Наступают времена метаний -
Навязать не могут мне маршрут.
Я свободен так, как без шофера
Грузовик свободен - к черту в пасть
Мчит он территорией террора.
Я свободен, как свободна страсть.
Стихи для Мари-Пьер
Очевидность порой опасна.
Женщины редко беспокоятся
По поводу совершенства
собственных гениталий,
Что и понятно.
Есть свое преимущество в том,
что половой орган не торчит наружу,-
Я четко читаю это в твоем взгляде,
Впрочем, почти невинном.
Ты ждешь или провоцируешь,
Но в глубине души всегда ждешь
Как бы знака внимания,
Либо оно будет тебе оказано,
либо в нем тебе будет отказано.
Твоя первая и последняя возможность,
в сущности, ожидание.
И это восхищает меня невероятно.
И в то же время ты такая слабая, такая зависимая,
Ты знаешь, что избыток пота уменьшает желание,
Которое я один могу подарить тебе,
Потому что ты не хочешь другого
И нуждаешься именно в моем желании.
И это тоже восхищает меня невероятно.
Но есть в тебе в то же время эта страшная сила
Тех, кто наделен властью говорить «да» или «нет»,
Эта сила дана тебе изначально;
Многие могут искать тебя, немногие могут найти.
Твой взгляд - ключ к разным вариантам существования,
К разному структурированию мира.
Ты сама - ключик, подаренный жизнью нескольким людям,
И рядом с тобой я постепенно становлюсь лучше.
И я восхищаюсь еще и твоей силой.
Вот он я перед тобой,
Перед входом в новый мир.
Вглубь иду почти слепой,
Слыша лишь секунд пунктир.
Есть другой, есть новый мир.
Акватическое рождение человека
Все начинается с этого акта, к которому наименование «плотский» пристало,
Поскольку лучший термин подобрать сложно.
Акта, в котором мы используем, однако, немалую часть нашего духовного потенциала
И нашей веры,
Ибо создаем условия не только для одного существа, но для целого мира, для нового рождения, новой меры.
Мы фиксируем его начало, а также конец, возможно.
Нечто животное присутствует в нем подспудно,
Что с женщиной соотнести весьма трудно,
Я имею в виду - с женщиной наших дней,
Такой, какой мы ее знаем,
Входящей в метро,
Потерявшей способность к любви, забывшей о ней.
Есть также это движение - поцелуй, который так естественно устремлен к рукам, губам или векам
При виде появившегося сморщенного предмета,
Который был хорошо защищен, пока не случилось это,
Но теперь грубо выброшен в мир и становится человеком.
Его паденье необратимо,
И мы оплакиваем это паденье.
Но есть еще эта вера - в мир, свободный от зла,
От стонов, страданий, мир, прозрачней стекла,
Где ужас рождения, сам его факт
Воспринимается как дружественный акт.
Я имею в виду такой мир, где можно было бы жить
От самого первого мига
И до конца, до кончины, естественной и нормальной,
Мир, о котором не говорит ни одна наша книга.
Но он существует - потенциально.
* * *
Это как вена, убегающая под кожей, когда ее ищет игла,
Это как пламя, такое красивое, что его не хочется погасить, лучше сгореть дотла.
Задубевшая кожа, местами почти что синяя,
Но это похоже на бодрящий холодный душ - момент, когда игла впрыскивает свой яд.
Мы уходим в ночь, наши руки слегка дрожат, но наши пальцы ищут друг друга, и наши глаза горят.
Это утро на кухне; все вещи стоят на своих привычных местах покуда.
В окне - развалины, в засорившейся мойке - невымытая посуда.
Однако все, абсолютно все изменилось; новизна ситуации неисчерпаемая и безбрежная.
Вчера вечером, ты это знаешь, мы круто свернули в сторону неизбежного.
В то мгновение, когда твои мягкие пальцы, крохотные зверьки, вцепились в мои, сжав их нежно и так внезапно,
Я понял, что совершенно не важно, когда я стану твоим любовником - сегодня или же завтра.
Я видел: нечто уже рождается, и это нечто нельзя осознать в обыденных категориях.
После некоторых биологических революций действительно появляются новое небо, земля, новая территория.
Еще ничего не случилось, но мы не можем уже избавиться от этого головокружения.
Такие силы пришли в движение, с которыми не заключишь мировую.
Как морфинисты или погибшие за Христа, жертвы любви были жертвами счастья вначале.
И жизнь, которой мы прежде не замечали, растет нынче утром в колоссальных пропорциях в нас.
Странно, это обычный рассвет, день только начат,
Но мир, когда мы вдвоем, воспринимается совершенно иначе.
Я не знаю, что творится сейчас - между нами любовь?
Или произошла революция?
Начинается новая эра?
После нашего разговора ты пошла и купила биографию Робеспьера.
Знаю только, что покорность судьбе улетучилась с легкостью шелушащейся кожи,
И это меня наполняет неистовой радостью, ни на что не похожей.
Я знаю, что сейчас открывается новый срез истории, для которого ещё не найдено слово.
Сегодня и на неопределенное время мы входим в другой мир, и я знаю, что в нем все разрушенное можно построить снова.
Смысл борьбы
Были ночи, когда мы забывали о смысле борьбы, о цели.
Мы дрожали от страха, на огромной равнине одни.
Наши руки болели.
Были робкие ночи и ночи смелее, чем дни.
Как кувыркается в воздухе сбитая пулей птица,
Перед тем как упасть и разбиться о камни дорог,
Ты шатался, о чем-то простом говоря, не чувствуя ног,
Прежде чем рухнуть на землю и в пыль повалиться.
Я держал твою руку и отпустить не мог.
Нужно было найти новый угол атаки,
Выйти из боя, пойти в направленье Добра.
Я помню наши дешевые пистолеты из Чехословакии,
Это было почти вчера.
Свободны и крепко связаны общей болью старинной,
Шли мы голой равниной.
От каждого шага звенела, растрескавшись, вся земля.
А до войны, товарищ, здесь были поля.
И, точно крест, стоящий в земле, превращенной в камень,
Я держался, брат, до конца,
Держался, как крест железный с раскинутыми руками.
Сегодня я возвращаюсь в дом своего Отца.
* * *
Вид из окна поезда: поля.
Пюре из зелени. Зеленый суп.
Такие бесполезные детали (деревья и пр.) плавают, словно комки в супе.
Может стошнить.
Как далеко восторг детских лет! Восторг при виде проплывающего в окне пейзажа…
Корова лезет на другую… Этим тварям решительно ни до чего нет дела!
Соседка напротив смешна.
Линия ее бровей образует причудливую дугу, как и линия рта со зло опущенными углами. Уверен, что она с наслаждением выцарапала бы мне глаза.
Больше не смотреть на нее. Что, если она опасна?..
Лампочки
Лампочки расположены по центру потолка скоростного поезда, словно отпечатки шагов геометрического животного - животного, созданного, чтобы освещать человека. Лапы животного - прямоугольники со слегка закругленными углами, равно отстоящие друг от друга, как если б то были следы. Время от времени между ними появляется кружок, как будто животное, словно гигантская муха, то там, то тут прикладывало к потолку свой хобот.
От всего этого, надо признаться, веяло весьма тревожной жизнью.
* * *
Станция «Бусико». Жидкий свет на сводах, выложенных белой плиткой, казалось,- жуткий парадокс,- струился вверх.
Едва заняв место в вагоне, я, как по команде, уставился на ковер - серый резиновый ковер, усеянный кружками. Кружки были слегка выпуклыми. Вдруг мне почудилось, что они дышат. Я снова сделал усилие, чтобы себя урезонить.
* * *
Новости, словно сухую хвою,
Комментатор слепой рукой
Обрушивает на миллионы голов.
Мне страшно, я уши заткнуть готов.
Восемь часов я слышу радиовой
Агрессивных жестоких слов;
Солнце в зените, как за глухой стеною.
Зеленоватое небо имеет вид
Воды в бассейне при легкой подсветке.
В горле от кофе саднит.
Стреляют. Снайперы метки.
Подсветка руин и могильных плит.
* * *
Я по дому крутился юлой:
В памяти трупы за место под солнцем сражались,
Не оставляя надежде ни пяди;
За окнами женщины громко ругались, глядя
На «Монопри»[12], закрытый еще зимой.
В тот день наступил столбняк.
Пригород, отданный бандам, лежал мертвецом.
Я чувствовал, как
Пахнет напалмом; мир наливался свинцом.
Новости прекратились часам к шести;
Я чувствовал сердце, стучащее взаперти.
Мир становился как камень.
Я чувствовал смерть: шагами
Она измеряла пустые кварталы, замершие с утра.
В тот день на улице лило как из ведра.
* * *
Просыпаюсь, и мир на меня обрушивается, как скала,
Забивает гортань мою, как песок.
На лестницу падает солнце; начинаю свой монолог,
Диалог ненависти и зла.
И впрямь, себе говорит Мишель, жизнь должна быть разнообразной,
Должна быть более цельной и более праздной;
И вовсе не обязательно видеть и те, и эти
Обстоятельства в желаемом свете.
Пробивается солнце сквозь тучи на улицы городские,
И в резких его лучах,
В мощных лучах его видно, как немощны судьбы людские.
Приближается полдень, и воцаряется страх.
* * *
Иного не дано:
Себя беззубым вижу,
Скисает жизни жижа,
И я иду на дно.
На несколько секунд избавиться от боли…
В толпе нам кажется, что застывает миг.
Мир переделывать желанья нету боле
В толпе, где все пути - ловушка и тупик.
Крах подтвердится скорый
Среди потуг ненужных.
Я, глядя на недужных,
Теряю все опоры.
Мы так хотели жить, от счастья замирая,
Той жизнью, где б тела цвели и раскрывались.
Но нам не повезло. Конец. Мы проигрались.
Моя рука дрожит, медяшки собирая.
* * *
Состав, что в облака летел неудержимо,
К чему-то лучшему нас мог бы привезти.
Напрасно верили мы в счастье на пути.
Но смерти не хочу. Ее наличье мнимо.
От холода немеют руки,
Просвета впереди не видно.
Да, времена не безобидны.
Мой брат хрипит в предсмертной муке.
А люди силятся урвать побольше срок,
И неотвязный треск я слышу автомата.
Вагоны трупов - вот за все усилья плата
Убитых родина - и Запад, и Восток.
Тела жестокость единит,
Все та же жажда разрушенья.
Но время принесет забвенье.
Вторая смерть нам предстоит.
* * *
Во славу человечьих дел
Так много сказано и спето.
А их всего двенадцать.
Это Немногих избранных удел.
Латали драную одежку,
Горшки лепили для питья,
Суровой нитью бытия
Сшивали судьбы понемножку.
Застрельщики грядущих рас,
Лет по сто жили, но не боле,-
Зато писали до мозолей
И верой вскармливали нас.
И мир кроили ежечасно,
И горе мыкали сполна,
И так их жизнь была скудна,
Темна, представьте, и опасна!
* * *
Рассветные часы. В Париже самый смог,
И в Боснии война вот-вот возобновится.
Но вот что хорошо: такси найти ты смог.
Потянет ветерком, и ночь посторонится,
Увидишь солнца свет.
Да, лето длится, без обмана.
И скажешь ты «привет»
Привычной губке в ванной.
Взяв отпуск в сентябре,
Ты поступил мудрей,
Чем я, не будь детей, я б сделал то же.
Порою в сентябре не меньше дней погожих.
Субботний вечер уж погас,
Ты бросишь пить, но не сейчас,
Жара и духота. Темнеет
Так быстро. Вот и бар пустеет.
Прошло полночи, может статься,
Пора бы на покой убраться.
Тебя на завтрак ждет
С лососем бутерброд
На улице Шуазеля.
Неплохо. Кстати зелень.
* * *
Кругом стекло. Без перебоя
Возможно любоваться мной.
По вечерам я просто вою,
Мой пес уже не молодой,
Соседка за стеной гостей
Встречает, гордая собою.
Я страшно одинок порою,
Я не зову к себе гостей.
Шум за стеною все сильней.
Ну как привыкнешь тут к покою?
Покамест я чего-то стою.
Передо мной вопрос такой:
И вправду я не молодой?
Иль из себя все что-то строю?
* * *
Прощаясь с уходящим годом,
Неплохо было б кое с кем
Расстаться, получить свободу
От всех иллюзий и проблем.
Вот в новой книжке телефоны
Тех, кому незачем звонить.
Как глупо. Было бы резонно
Им умереть иль их убить.
Тревога глухо нарастает.
Забытой спичкой пальцы жжет
Ушедший год. Опять светает,
Холодный день известье шлет,
Что лето благости Господней -
Еще не обретенный клад.
Без изменений все сегодня:
Во мне, вокруг меня - распад.
* * *
Так светел Люксембургский сад,
Что просто не к чему придраться,
И, как ни странно, был бы рад
Любовью я сейчас заняться.
Зачем нам золотой настил,
Весь этот блеск в тиши осенней?
Ты должен верить, что ты жил
И что уйдешь без сожалений,
Достойно. Нет, все ложь, и в счастье
Я не поверю все равно.
Сияет небо, но ненастье
В душе. Мне тошно и темно.
* * *
Раскрыл газету «Монд»: статья
«Работы по благоустройству…»
И зубы ломит. Беспокойство
Все больше ощущаю я.
Цветы всю землю украшают,
Так их наивность велика.
Растительности не мешает
Эффект известный парника.
Меняет велосипедист
Очки на въезде. Обустроен
Сей город, очень даже чист,
И велосипедист спокоен.
Штейн-на-Рейне, 22 мая
* * *
Жизнь начинается опять,
Когда с утра стоишь под душем,
А ночь не хочет отступать,
Дыша в затылок равнодушьем.
Ну что ж, начну - начав с нуля,
Ужав себя почти до точки -
Искать, по мусору снуя,
Подобия и оболочки.
Как лужица небытия,
Свет растечется, пропуская
Ту жизнь, где, может быть, и я -
Лишь видимость полупустая.
* * *
Стандартная тоска и гниль,
Где б ни был ты. На Елисейских
Полях вовсю клубится пыль.
Ход изменить бы дел житейских.
Опять купил порножурналы
В киоске авеню Ваграм.
Я как в плену у ритуала.
Так, близясь к рельсовым путям,
Незрячий палкой землю бьет.
Так лодочник гребет в тумане,
В такой же западне растет
Цветок, оставленный в чулане.
Ночь, и под сеткой дождевой
Движенье стихло постепенно.
Пуст город, улицы его
Теперь напоминают вены.
* * *
Спокойствие вещей не просто, и, похоже,
В нем дружелюбья нет;
Ничто их не берет, ничто их не корежит,
Как нас - теченье лет.
Они - свидетели горчайших тайных крахов,
Изъянов, скрытых в нас;
Они приобрели всех наших болей, страхов
И тусклых душ окрас.
Нам искупленья нет: с вещами слишком сходны,
Плывем, куда несет.
Ничто не облегчит нам маеты бесплодной,
Ничто нас не спасет.
По их подобию творимые вещами,
Чрез них мы и живем -
Но где-то все же спит в нас память о начале
Божественном своем.
* * *
Легкие изнутри
К горлу всплывают, будто
К свету дня пузыри:
Боль уходит под утро.
Слышу воющий страх
Там, под кожей, ночами:
Это сердце впотьмах
Рвется к солнцу толчками.
* * *
Проходит ночь по мне чудовищным катком,
И беспросветных утр мне тусклый свет знаком,
Я знаю, как врасплох нас немощь застает,
Редеет круг друзей и жизнь все карты бьет.
Погибнуть от своей руки придет пора.
«В сраженье изнемог»,- так скажут доктора.
* * *
Нет, не то. Стараюсь быть в форме на все сто. Я умер, может быть, но этого не ведает никто. Наверно, что-то надо делать, не знаю только что. Никто совета мне не дал. В этом году я сильно сдал. Я выкурил восемь тысяч сигарет. Головная боль - вот для беспокойства предмет. Ответ на вопрос «как жить?» что-то сложен слишком. Об этом ничего не отыскал я в книжках. Есть люди, а порой - лишь персонажей вереница. С годами и тех, и других я забываю лица.
Как человека уважать? Завидую ему я все же.
* * *
Это было в Альпах, на туристической базе; она
Оказалась грустна и гнусна.
Мы там проводили каникулы - я и сын,
Которому стукнуло десять лет.
Дождь все капал и капал вдоль мокрых стен.
Внизу молодежь затевала любовные игры.
Мне не хотелось жить, я все думал о самом последнем миге,
О том, что нечего больше искать,
О том, что хватит придумывать книги
И вообще пора завязать.
Дождь все падал и падал, как занавес после спектакля,
За окнами - сырость и муть.
С чем здесь бороться? Такое чувство, будто просачиваешься, за каплей капля,
Прямо в могилу: здесь пахнет смертью и на сердце - жуть.
Вот и зубы мои так же выпадут, ибо судьба -
Есть судьба, и худшее только еще примеривается, выбирает.
Подхожу к стеклу, вытираю капли со лба.
За окном темнеет, и мир вокруг вымирает.
Квинтэссенция тоски
Белая комната, слишком натопленная, со множеством батарей (немного похожая на аудиторию в техническом лицее).
В окнах вид на современный пригород, панельные дома, полуиндустриальный район.
Нет никакого желания выходить, но сидеть в комнате - смертельная скука.
(Партия давно сыграна, и если еще тянется, то по привычке.)
Транспозиция, контроль
Общество - это то, что устанавливает различья
И систему контроля.
Я в супермаркете в нужном отделе имеюсь в наличье
И соответствую роли.
Демонстрирую свои стати,
Не высовываюсь некстати,
Открою рот - чем богаты:
Зубы, видите, плоховаты.
Для всех существ и предметов есть четкая формула определенья цены,
И в ней учтены
Зубы, органы чувств, пищеваренья, дыханья,
Красота, подверженная увяданью.
Кое-какая продукция, содержащая глицерин,
Может порой привести к завышенью оценки частной,
К словам «Вы прекрасны».
Тут опасайтесь мин.
Цена существ и предметов есть абсолютная величина, итог, закрывающий тему,
И сказать «я тебя люблю» - значит взять под сомненье систему
Ценностей как таковую:
Это на квантовый уровень выход вслепую,
Это поэма.
Дижон
Обычно, добравшись до вокзала в Дижоне, я впадал в совершенное отчаяние. Между тем еще ничего не произошло; казалось, в воздухе вокруг строений растворена онтологическая неопределенность. Неуверенное движение мира могло разом остановиться. Я тоже мог остановиться; мог повернуть назад. Или же заболеть, да мне и было нехорошо. В понедельник утром, идя по обычно туманным улицам этого города, в остальном, впрочем, приятного, я мог еще верить, что очередная неделя не наступит.
Где-то без десяти восемь я шел мимо церкви Сен-Мишель. Мне оставалось еще пройти несколько сот метров, когда я был, в общем, уверен, что никого не встречу. Я пользовался этой возможностью, не превращая ее, впрочем, в возможность прогуляться. Я шел медленно, но никуда не сворачивая, ко все более тесному пространству, где каждый понедельник вновь начинался для меня все тот же ад борьбы за выживание.
Пишущая машинка весила больше двадцати кило,
Большая клавиша в форме эклера служила для возврата каретки.
Перенести ее помог мне Жан-Люк Фор;
«Будешь писать мемуары»,- шутил он незло.
Париж-Дурдан
В Дурдане люди дохнут, как крысы. Во всяком случае, так говорит Дидье, секретарь в конторе, где я работаю. Мне захотелось помечтать, и я купил расписание пригородных скоростных поездов по линии С. Я представил себе дом, бультерьера и кусты петуний. Однако, судя по описанию Дидье, жизнь в Дурдане была далека от этой идиллии: люди возвращаются домой в восемь вечера, когда все магазины уже закрыты, никто никогда не приходит к вам в гости, по выходным все тупо слоняются между холодильником и гаражом. Свою обвинительную антидурданскую речь Дидье закончил такой недвусмысленной фразой: «В Дурдане ты подохнешь, как крыса!»
Все же я рассказал о Дурдане Сильви, правда, в общих чертах и с долей иронии. Эта девица, говорил я себе, расхаживая после обеда с сигаретой в руке между кофейным автоматом и автоматом с газированной водой, как раз относится к тому типу людей, кто хотел бы жить в Дурдане; из всех знакомых мне девушек у нее у одной могло бы возникнуть желание там жить; она даже похожа на довольную патриотку Дурдана. Конечно, это всего лишь попытка первого шага, вялый рефлекс, подталкивающий меня в направлении Дурдана. Возможно, понадобятся годы, прежде чем из этой попытки что-то выйдет, вероятно даже, что не выйдет ничего, что поток повседневности, вечное давление обстоятельств возьмут верх. Не особенно рискуя ошибиться, можно предположить, что я никогда не доеду до Дурдана; наверное, я взвою, даже не добравшись до Бретиньи. Ну что же, у каждого человека должна быть какая-то перспектива, мечта, некий якорь спасения. Просто чтобы выжить.
* * *
Кафе. Но здесь не место мне,
Хотя сошлось под вечер столько
Людей, судачащих у стойки,
И все довольные вполне.
Я кофе взял и сам не рад -
Да, здесь тебе не «Вудсток», брат.
Допив мартини, старожилы
Уже уходят. Вот и мило!
Пока! Пока!
Ницца
Английская набережная заполнена американскими неграми,
Вовсе не похожими на баскетболистов;
Вперемежку с ними - японцы, приверженцы «пути меча»,
И бегуны трусцой в калифорнийском стиле.
И все это в четыре часа пополудни,
В меркнущем свете дня.
Современное искусство
Во дворе все как будто тихо и мирно.
Видеоинсталляция на тему войны в Ливане.
И пять самцов-европейцев
Рассуждают о гуманитарных науках.
* * *
Тоска по церемониалу
В растрепанной душе живет…
Нас тягостная смерть пожнет,
Но лица опадут сначала.
Да, в нас с годами образ Божий
Все более неразличим.
А мы пустую жизнь итожим,
Стареем, невпопад острим.
Благотворительные марафоны
По спутнику передают.
Есть повод для эмоций тут,
Но не нарушен наш уют.
А после - порнофильм. Законно.
* * *
Туристки датские по рю Мартир проходят,
Глазами козьими кося;
Консьержка пуделей выводит;
Ночь обещает чудеса.
Сдуревший голубь озарится
Лучами фар - и гибнет в них
Безвольно. Варваров своих
Выблевывает в ночь столица.
А ночь тепла, и есть желанье
Гулять, кутнуть на всю катушку,
Как вдруг потребностью в молчанье
Вы скручены. И жизнь-ловушка
Берет свое. Я - всё, я пас.
Как их-то не сшибает с ног -
Всех этих, встреченных сейчас?
Растерян я и одинок.
* * *
Четыре девочки в соку
Сверкали в сквере голой грудью.
Их наставлять на добрый путь я
Не стал - куда мне, срамнику.
Норвежские, должно быть, штучки -
В Латинском их полно сейчас.
Их груди радовали глаз.
Невдалеке три смирных сучки
Расположились отдыхать.
(Вне течки сукам, мне сдается,
И жить-то нечем - остается
Светло и кротко прозябать.)
Все путем!
Пойти назад? Я что, дурак?
Я в их толпе дошел до точки.
К чему мне столько передряг?
Отлить могу и на песочке.
Я холодок тебе припас,
Мой бедный хрен, на той полянке,
Где полюбуются на нас,
Устав от пьянки, иностранки.
Как нить в игольное ушко,
Вползаю в похоть суицида,
Я всех оттрахаю легко,
Коль поведет меня либидо.
Да я бы отдал черт-те что
Хотя б за ночь совокуплений,
Но радость, как сквозь решето,
Проходит сквозь пустые тени.
Мой бедный, ты всегда со мной,
Там, под одеждой, без опаски,
Как старый пес сторожевой,
Ты просыпаешься от ласки.
Тебя ль не знать моей руке?
Вы с ней уже давно знакомцы,
Она уводит налегке
Меня в последний путь под солнцем.
Покуда пьяного меня
Сметают волны мастурбаций,
Как смерти, жду начала дня
И не могу никак дождаться.
Когда пирует естество,
Когда любви и ласки хочется,
Куда мне преклонить того,
Кто не спасет от одиночества?
* * *
Милое созданье с таким ласковым ртом,
Сидящее напротив меня в метро,
Не смотри столь равнодушной недотрогой.
Разве бывает любви слишком много?
* * *
В городе, среди стен, которые что ни миг
Расписывает беда,
Я навсегда один; город - это рудник:
Я податлив. Копаю. Порода тверда.
* * *
Неплохо в день воскресный
С тобою переспать,
Но ты с улыбкой пресной
Уселась на кровать
Химерой бестелесной.
А все же запах плоти
Мою подгонит прыть:
Тебя прижму - и в поте
Лица пойду отлить,
Весь в сперме, как в блевоте.
В субботу - веселей,
И, подпирая стены,
Все обсуждают цены,
Собачек и детей.
В субботу - веселей.
А нынче - день воскресный,
Сплошная скукота,
То злобой бессловесной,
То страхом налита.
Сегодня - день воскресный…
Смолкаю, неуместный.
* * *
Свобода - миф, я полагаю,
А может, пустоты синоним;
Свобода злит меня - я знаю,
Как быстро в серой скуке тонем.
Имел сказать я то и это
Еще чуть свет, часу в шестом;
Я был на грани бреда где-то;
Я пылесос включил потом.
Вокруг парит небытие
И липнет к нашей влажной коже.
То секс, то лень берут свое.
Мы пусты. Небо пусто тоже.
* * *
Когда поймешь, что представляет жизнь собой,
Рассмотришь так и сяк, одно на ум приходит:
Что есть - разрушить в прах; но все так прочно вроде,
А человеческих существ аморфный рой
Меж тем любой ценой,
Хоть не расти трава, себя воспроизводит.
Лишь смутно видится мне утро дней моих,
Когда сижу вот так, весь скручен в рог бараний:
Уходит все в песок - ни форм, ни очертаний,
Уходит без следа и утро дней моих.
* * *
Что истина? Она как лужа
Вокруг прилавка мясника.
Любовь Всевышнего к тому же
Обманчива и далека.
У псов озноб бежит по коже
От потрохов слюна течет,
И мы с тобой на них похожи,
Нас тоже идол наш влечет.
Для черной мессы тело самки
Слилось со спермою самца;
Страсть, выходящая за рамки,
Мне изменяет без конца.
Где истина? Она в крови,
Как в венах наша кровь живая.
И я зверею от любви,
В тебя, как в суку, проникая.
* * *
Волна дразнящим языком
Лизнет песок и схлынет снова.
Ракушки собирая, ждем
Спасителя (уже второго).
Умрем - останется скелет,
Чтоб белизны достичь с годами.
У рыбы есть внутри хребет.
Ждет рыба рыбака с сетями.
Внутри у человека скот
Заложен в качестве основы;
Но век свой зряшный напролет
Он ждет Спасителя второго.
* * *
В уклончивом вечернем свете
Все больше равнодушье скал.
Наш муравейник незаметен,
Ведь человек так мал, так мал.
Когда на эти изваянья,
Работу волн, взираем мы,
В нас пустоты растет желанье
И нескончаемой зимы.
Как сделать так, чтоб человечность
Взять верх могла в роду людском
И жизнь переходила в вечность,
В цепочке становясь звеном?
Утробная тоска тупая
В тебе, сестра моя, во мне,
И ты кричишь, изнемогая
От этой мудрости камней.
* * *
Чем ярче свет, тем мир темнее:
Я становлюсь меланхоличным.
Бесшумны меж камнями змеи,
А шимпанзе - те истеричны.
Мы ж подаем друг другу знаки.
Вот водосбор уже увялый.
Не различить пути во мраке,
Мне неизвестны ритуалы,
Что воздвигают огражденье
От отупляющей текучки.
Здесь происходят только случки,
И здесь не место возрожденью.
Зажмурь глаза, поставь заслон
Меж плотским миром и тобой.
Словно кольцом, я окружен
Реальностью, но ей чужой.
* * *
Раз надо, чтобы разрезали
Стрекозы воздух у реки,
Чтоб лопались и исчезали
На водной глади пузырьки,
Раз у всего один финал
И наподобие гангрены
Мох разрушает минерал,
Раз мы должны сойти со сцены
И под землею лечь на ложе,
Как в продолженье сна дурного,
Раз впереди одно и то же
И каждый новый день нам снова
Так отвратителен и труден,
Природе ж дела нет до нас,
Что ж, мы ласкать друг друга будем,
Найдем блаженство, и не раз.
Невыносим без интерлюдий
Мир безучастный, без прикрас.
* * *
Плайя-Бланка. Словно точки
Ласточки на небе чистом.
Млеют от жары туристы
Парами, поодиночке.
Плайя-Бланка. Лампионы
На сухом горят стволе
Пальмы. Вечер. Отдаленный
Говор немок в полумгле.
Плайя-Бланка, род анклава
В мире горя и страданий,
Словно остров в океане,
Малая любви держава.
С рюмкою аперитива
Вот курортницы сидят,
Обратив друг к другу взгляд
Нежный и красноречивый.
Утром все они покров
Снять спешат, что глазу любо.
Я ж один брести готов
Прямо к парусному клубу.
Плайя-Бланка. Небосвод
В ласточках. Прозрачен воздух.
Вот и все. Короткий роздых.
На «Люфтганза» перелет
Нас в действительность вернет.
* * *
Мы в безопасности; мы едем вдоль холмов;
Над нами ровный свет; наш мир цивилизован;
Удобен наш вагон, а поезд - быстр и нов:
На полной скорости уже лететь готов он.
И в геометрии наделов за окном,
И под охраною надежных переборок
Мы в безопасности и грезим об одном,
Мир, ставший пустотой, понятен нам и дорог.
У каждого полным-полно своих забот,
И все же общим мы дыханием едины,
И зверь, живущий в нас, уже готов вот-вот
От человеческой избавиться личины.
Мы в безопасности; мы едем по Земле;
В скорлупах пустоты мы сбиты в кучу тягой;
Путь сочленяет нас в уюте и тепле,
И ты меня своей интересуешь влагой.
Уже пошли дома; там - улицы; на них
То редкий пешеход, то грузовик случайный.
Вот-вот и встретимся мы с продуктивной тайной
Больших заводов, одиноких и пустых.
* * *
Нужно сказать, что я был не один в машине,
Еще умершая была;
Бесшумная ночь плыла
И отворяла свои ворота.
Приближалось солнцестоянье,
Бедное тело
Тряслось и потело.
Ночь серебром отливала,
Верткую рыбу напоминала.
Всюду проникла ночная мгла,
Ты к безумью близка была.
Все предметы обволокла
Эта ночная мгла.
Виденья в ночи онемелой -
Словно рисунки мелом.
Той ночью нам открылся лик иной.
Колодец
Ребенок-робот ведет за собой
Цивилизацию, как поводырь - слепого,
К обрыву смерти, словно на берег морской:
Стонет слепой, не в силах сказать ни слова.
Это не берег морской, это колодец в такой
Космос, где разлита
Бездонная пустота,
В которой частицы плоти вращаются в круговороте,
Идет ребенок-гонец,
На выбирая дорог,
Он предвещает конец,
Прошлому вышел срок.
Вот так же и мы умрем,
Вот так же исчезнем в том
Колодце, где меркнет свет
Настолько, что тени нет,
Где пустота разделяет частицы
Тел, разъятых впотьмах,
Где в пустоте продолжает кружиться
Неуловимый прах.
Он парит в тишине,
Не ведая, где черта,
Пока с пустотою не
Сольется вновь пустота.
* * *
Дети Ночи - звёзды…
Круглые и тяжелые утренние звезды;
Словно капельки, полные мудрости, они медленно кружатся вокруг собственной оси, издавая легкий, вибрирующий звук.
Они никогда не любили.
* * *
В первый день второй недели на горизонте появилась пирамида. Ее черная базальтовая поверхность поначалу показалась нам совершенно гладкой; но после нескольких часов ходьбы мы стали различать тонкие, закругленные прожилки, напоминающие мозговые извилины. Мы остановились передохнуть в тени фикусовой рощи. Жеффрие медленно поводил плечами, словно сгоняя насекомых. Его удлиненное, нервное лицо каждый день все больше покрывалось морщинами; теперь оно постоянно выражало тревогу. Жара становилась нестерпимой.
* * *
Однорукий или одноглазый калека с кровоточащей раной,
Напудрен и в парике, как положено при дворе Людовика XIV.
На войне он бесстрашен.
А господин Виллькье продолжает свои маленькие опыты на насекомых.
* * *
Быть может, я сам проводник Бога,
Но это не вполне осознаю
И пишу эту фразу «в качестве эксперимента».
Кто я?
Похоже на игру в угадайку.
* * *
Убираю свой карандаш.
Получилась ли фраза?
Карандаш мой, напрасно ты входишь в раж -
Мне куда милее табула раза.
Поглядеть на меня - вот писатель сидит за столом:
Зрелище малоприятное, говоря между нами.
Непонятно, чего сидеть за столом, если все перевернуто кверху дном,
Нечисть воет, поклацывая зубами.
И ты, карандаш, предашь?
Карандаш, извергающий рвоту
Полуправд, негодяй и шут,
Сам теперь отвечай за эту блевоту:
«Я ищу, где люди живут».
* * *
Писать:
Как людей ни зови -
Все в таком далеке!
Себя ублажать
(И опять не забыть о руке):
Запах яблока и чуть-чуть любви.
Уезжать
(Далеко-далеко. Оказаться совсем вдалеке).
Есть то пространство, где все цельно, все - весна,
Где и несходство не испортит нам соседства;
Есть то пространство, где покой и тишина,-
Потустороннее: вне и помимо детства.
Ночь, облака
В испарине я пробудился,
Толпа видений все мелькала
Под веками. Свет чуть струился,
Тяжелым было одеяло.
Конечно, надо жизнь свою
Переменить, как ни крути.
Уже два года, как я пью,
Да и любовник - не ахти.
Должны мы ночи напролет
Ждать, словно в глубине колодца,
Когда неслышно подойдет
К нам смерть и наших глаз коснется
Тяжелых век нам не поднять,
Ведь смерть сама взялась за дело.
Тогда пора богов искать
Утраченных. Ликует тело.
* * *
Между собой не параллель - диагональ
Мы провели меж зыбких в сумерках берез,
В чьем круге тишины порочной вертикаль
Крещенскою водой стояла, слёз
Прозрачней.
Желанье облекло нас, пламени подобно.
Две жизни мы свои швырнули в это пламя;
Я и не знал, какой быть женщина способна.
Рот делался сухим с твоими врозь устами
И мертвым.
Лежу один без сна, ночь давит, как оковы.
Мне кажется, теперь темней, чем прежде, ночи.
Я спичкой чиркаю: дрожащий огонечек
Приводит тень в углах и образы былого
В движенье.
И зыбь берез - среди
Других картин.
Пью воду. Ком в груди.
Темно, и я один.
Парад
Заложник твоих слов,
Я шел наобум поневоле.
Небеса разверзлись; я был готов
К неведомой роли.
На случайной площади мертвый каскад
Рассыпал ледяную крошку,
Забивая аорту мою наугад,
Пока я дышал понемножку.
Пока я дышал, от натуги сипя,
От слов, ненужных и тленных,
Мир, убивающий сам себя,
В моих просыпался венах.
Легко в этом мире прожить без забот,
Не ведая смысла и сути.
Самое главное слово придет
На самой последней минуте
И явит во всей подноготной судьбу
В последнем спокойствии плоти,
Когда возлежишь в деревянном гробу
На бархате и позолоте.
Бархат шуршит, как шуршит вода
По коже, изрытой годами,
Покуда кочующие года
Срывают ее лоскутами.
Идет во всей красоте
Прекраснодушных слов,
Идет во всей красоте
Пышный парад лоскутов.
Паскаль
Она дрожала напротив меня, и мне казалось, что дрожит весь мир.
(Эмоциональная фикция, еще одна.)
* * *
Жизнь без роду подобна исходу,
С каждым днем все прозрачнее дни.
Я один: ни друзей, ни родни -
Ухожу, словно остров под воду.
* * *
Нам жить, любимая, осталось
Чуть-чуть всего.
Так выключь радио совсем,
А ну его.
От жизни ты всегда умела увильнуть,
Как шелк скользнуть
Из рук умела,
А жизнь уходит, и соскальзывает тело
В безвестность - вот
И весь исход.
Попробуем забыть нам вбитую в умы
Отживших формул опись;
Жизнь недостаточно изучена, и мы
Лишь пленники гипотез.
* * *
Туч над Венецией гряда.
Ты что-то нервная, не стоит,
Любовь моя. Иди сюда,
Тебя язык мой успокоит.
Давай мы паиньками будем,
Чтоб вместе жизнь прожить большую.
Про книжки мы не позабудем.
Любовь моя, гроза бушует.
Люблю я влагу пить твою,
На вкус соленую слегка.
Себе я волю вновь даю.
Любовь моя, как смерть близка…
Сумерки
Дубы давали тень, от ветра не спасая.
И, словно бы дитя на свет производя,
Дышала женщина и, вся в песке, нагая,
Опять звала меня, колени разведя.
На влажной полосе, надеждами богатой,
В часы, когда отлив являет суть земного,
Я все рассвета ждал, чудес и тайн возврата,
С моих открытых губ срывался крик немого.
И ты одна в ночи была мне маяком.
В нас память утренней зари неистребима.
Тела сливая, мы пересекли тишком
Края, где божество присутствует незримо.
А после вышли на бескрайнюю равнину,
Где коченели позабытые тела.
С тобой мы рядом шли дорогой узкой, длинной,
Нас беспричинная любовь на миг свела.
* * *
Да сгинет все, что свет.
Живущие на солнце созерцают нас безучастно:
Мы у земли в плену, на всех земная мета.
И наши мертвые тела истлеют, это ясно.
Мы никогда, любовь моя, не станем светом.
* * *
За наш людской удел несладкий
Нам не на ком искать вины;
Есть план, в который включены
Года младенчества, прогулки под каштанами, тетрадки.
Во мне сломалось что-то вдруг
В кафе от разговора двух
Существ кило по сто на темы
Пищеваренья и рентгена.
Он ей пенял: «Помру ведь, злыдня;
Дай хоть порадую себя, коли на то пошло».
Но тело дряхлое изведать радость не могло,
Ему могло быть только стыдно,
И шевелиться неохота и невмочь,
И от одышки муторно всю ночь.
Так эти двое, жизнь прожив,
Дав жизнь кому-то, может статься,
Пристыженно сходили с круга.
Не знал я, что и думать. Может, жить не надо б вовсе.
Про поиск радостей написано давно все,
Вовек он ни к чему
Хорошему не вел.
Но вот они ведь жили, эти двое.
Он говорил: «Могу я в жизни радости иметь?»
И всякий, поглядев на телеса его супруги,
Признал бы за его увядшим членом право
На девок и массаж:
«Чего там, ведь ему недолго уж осталось».
Ничто не одухотворяло пару эту;
Не научась нести с достоинством старенье,
Стерпеться с немощами в кротком примиренье,
Они влачили дни,
Прося не света,
Но передышки, хоть какого-то просвета
Телам изношенным своим.
Но в передышке ночь отказывала им.
«Джерба Ла-Дус»
Площадка: мини-гольф. Гоняет мяч старик.
Выводит птичий хор без повода рулады.
Или мне нравилось быть в кемпинге в тот миг?
Иль в воздухе была какая-то услада?
Купаясь в солнечных лучах, сродни растенью,
На вскопанной земле я видел тень мою.
Мы знакам прошлого должны дать объясненье
И красоте цветов, похожих на змею.
Другой старик следил безмолвно за скольженьем
Волн, разбивавшихся о берег второпях:
Так дерево глядит без гнева на движенье
Рук лесоруба, что его повергли в прах.
Проворно муравьи цепочкою занятной
Ползли на тень мою, мне не вредя нимало.
Вдруг захотелось жить спокойно и приятно,
Так, чтоб ничто следов на мне не оставляло.
Вечер без дымки
Бродя по улицам без цели, поневоле
Всех предстоящих жертв я предаюсь обзору;
Мне хоть искусственную точку бы опоры -
Покупкой мебели взбодрить надежды, что ли;
А то принять ислам и сладость подчиненья,
Чтоб дал мне добрый Бог в стране каникул место.
Я не могу забыть сквозняк с душком отъезда
В расколах наших слов и жизней расплетенье.
Процесс заката дня пошел часы считать;
Для наших жалоб адресата больше нету.
По мере тленья каждой новой сигареты
Процесс забвенья оттесняет счастье вспять.
Вот шторы - кто-то их придумал как соткать,
А кто-то в серый цвет окрасил одеяло,
В котором угнездясь, я вытянусь устало.
Покой могилы мне не суждено узнать.
Постижение-пищеварение
Когда устанет жизнь и перестанет нас
Как прежде удивлять, когда, неторопливы,
Нас будут окружать потоки стертых фраз,
Когда иссякнут дни, когда замрут приливы,
Среди оскомину набившего добра,
На миг расправившись, наш орган постиженья
Как шарик сдуется - ему придет пора
Вслед легким совершать ритмичные движенья.
И вдруг окажется, что мудрость - это блеф,
Что пустотою мы дышали, как в колодце,
И наши косточки сгниют, заплесневев,
Пищеварением надежда обернется.
Пищеварением, предложенным взамен
Минувшей жизни,- жизнь червей и их личинок.
И что теперь страдать, когда забьет суглинок
Хоть и не сдавшийся, но усмиренный член?
Старый придурок
И все-таки любил я этот мир порою,
Дурацкий солнца свет, что, не жалея сил,
С утра меня согреть в постели норовил,
Мгновенья сладкие знакомы мне, не скрою,
Объятья жаркие и пальцев робких, белых
Прикосновения, их нежность и тепло.
Я знаю, как стучит кровь и ликует плоть,
Блаженство ширится и заливает тело.
В шезлонге в сумерках я грезил о слиянье
Двух тел, все думая о том, как смерть близка
В тот миг, когда в нас жизнь, казалось бы, крепка,
Об угасающем в закатный час желанье…
* * *
Жизнь отвращала: не скрывал
Язв перевязочный пакет.
Мне страшно было, я страдал,
Закат встречая и рассвет.
Все листья растерял каштан,
Отцвел иллюзий пустоцвет;
Какой-то траурный дурман.
Я зубы сжал - вот мой ответ.
Мне нужно было нож купить
Еще тогда, в пятнадцать лет.
Хотел бы я красавцем быть -
Само собой, сомнений нет.
* * *
Вокзал притягивал юнца:
К тебе я ехал вновь и вновь.
Я был настроен на любовь:
На вопрошанье без конца.
Такому ритму поезда
Меня сумели подчинить.
Вспять двигался я иногда:
В тринадцать лет куда спешить?
Нам жить и жить.
* * *
Впервые с женщиною переспал я где-то в Греции, на пляже;
Ночное море
Во тьме дышало рядом.
Уж больно романтично,
Сам знаю, не дурак,
Но было правда так.
И набегали волны,
Шептали волны,
И, как они, зыбка
Судьба была пока.
Я накануне вплавь отправился на остров,
Такой, казалось, близкий.
А там теченье, что ли,-
Я так и не доплыл,
Едва назад вернулся.
Я еле выгреб, чуть живой,
Уж думал - все, конец.
Мне было страшно грустно,
Что так сейчас и утону.
Жизнь виделась безбрежной
И солнечной насквозь,
И умереть в семнадцать лет,
Ни с кем не переспав,
Казалось так обидно.
Иль смерть задеть должна,
Чтоб жизнь узнать могли мы?
У всех нас плоть жадна,
Затем что уязвима.
* * *
На пляже казино - как рубка,
И все темнее синева
Небесная. Твои едва
Прикрыты бедра мини-юбкой.
Густа украшенная белой
Камелией волос копна.
От ласк твое трепещет тело,
И с нами заодно луна.
* * *
Распущены волосы,
Платье с глубоким вырезом -
Она глядит на меня доверчиво.
Постель не убрана,
Птицы ходят меж кедрами,
Сегодня у нас воскресенье.
Глянул в зеркало,
Надо приготовить кофе,
Мусорное ведро полно.
Ее взгляд стал жестким,
Она хватает чемодан;
Все - по моей вине.
Нищего рвет в метро,
Пассажиры отходят подальше.
Прибывает поезд.
* * *
Заря - сама альтернатива,
Так часто Аннабель твердила.
День дрейфом был без перерыва,
Безжалостная ночь давила.
Вокруг пластмассовых сплетений
Ее сандалий всё кружили
Эгоцентрические тени.
А органы свое отжили.
Заря была еще одним
С далекой юностью прощаньем.
Давно все стало ей чужим,
И жизнь ее была скитаньем.
Салат готовя, то и дело
Она тихонько напевала.
Уж полдень! Умирало тело.
Смирясь, она себя ласкала.
* * *
Она жила, как в бонбоньерке,
В мирке салфеток, кукол, пялец;
Шел дождь и проходил, и солнце проходило
Над домиком ее,
Где лишь часы на стенке били, да скоплялось
Все больше вышитых вещиц
Для ребятишек трех сестер ее замужних.
Детишки у сестер,
А у нее самой
Роман был роковой -
И никого с тех пор.
Осталось шить да грезить,
Потупя в пяльцы взор.
За домиком в полях трава была пышна,
Цвел дикий мак местами;
Там иногда часами
Могла ходить, ходить без устали она.
* * *
Уходит солнце,
И меркнет свет,
Но не сдается -
Живет поэт!
Луна мертвее,
Чем лед и прах,
Но и под нею
Поэт - монарх!
А день манящий
Встает вдали,
Как шар, летящий
За край земли,
Где пылью пухнет
И меркнет свет…
А я - на кухне.
Прощай, поэт!
* * *
Как выпуклые стекла - волны.
Застыли в ледяной броне
Поля, пространны и безмолвны,
Угасла ненависть во мне.
Под снежным, гибельным покровом
Круглится линия ветвей:
Кольцо сжимается. Вот снова
Воспоминание о ней.
* * *
Ты помнишь озеро, малыш? Глядели вдаль мы.
Твоих улыбок свет мне сердце согревал.
Ты мне показывал на лебедя, на пальмы,
В твоих больших глазах о счастье я читал.
* * *
Ты помнишь наши пробужденья ранней ранью,
Когда еще луна, и море так высоко:
Мы убегали, как на тайное свиданье,
Смотреть, как из-за дюн светлеет край востока.
Росло, как дерево, и ширилось сиянье,
Шли к морю рыбаки, а больше ни души
На спящих улицах, белеющих в тиши;
Причастие зари, простое, как дыханье;
Мурашки счастья вдоль затекших ног и рук,
И сердца твоего в ладонь мне тихий стук.
* * *
Торжественный закат. Потом
Созвездье Лебедя, и снова
Ты отозваться не готова,
Душа. Мы песнь не воспоем.
Твой взор вбирает мирозданье,
Мария, страждущих хвала.
Тобой одной Земля кругла
И живо всякое созданье.
Нет больше области забвенья,
Где воет страх, клокочет мгла.
Притихли кроткие мгновенья
В пространстве твоего тепла,
Ты их в сиянье облекла.
И ритуальное служенье
В том мире, что не знает зла,
Смиряет времени теченье.
Покрыла риза нас, бела,
И наши губы в песнопенье
Немом сливаются. Созвучий
Гармония нежна, светла.
Лад, совершенный и могучий,
Боль наших душ произвела.
* * *
Пространство, сосны, облака
Как отразятся, так к истокам
Вернутся, встретясь ненароком
В подвижном фокусе зрачка.
Поверхность луга, золотясь,
Пушку на шее подражает.
День, повозившись, затихает,
Раскинувшись. Воздушных масс
Перетекание по всхолмьям
Дурманит радужной игрою
Все чувства, в том числе шестое.
Любовная истома полдня.
На задних лапках выступают
Узлы вселенского сознанья
Меж глубью космоса и гранью;
Земля кругла, как всякий знает.
Кругом же - космос, без сомненья,
С которым плоскость разделенья
Лежит у нас в глазах, похожа
На нас (на мозг наш, я б сказал),
Как на портрет - оригинал.
Мы вздрогнем - космос дрогнет тоже.
* * *
Желаний наших круг
Смыкается незримо.
Подобный вздоху звук
Дал знать, что не одни мы.
Когда мы страх насквозь пройдем,
Откроется нам новый мир,
Иные краски будут в нем,
И новых ароматов пир
Душой распахнутой вдохнем.
* * *
Путь есть. Существует возможность пути.
И некоторым он указан.
Но недостойным не идти
Путем, что им заказан.
В цветах обивка на диване
Была у взора на пути.
Я грешен зреньем, осязаньем,
Мне оправданья не найти.
Возможность чуда, возрожденья
Подарит нам лишь взор другого.
Очищенный от заблуждений,
В твоих глазах тону я снова.
Я чувствую освобожденье,
Но вольной жизни где приметы?
Минуты есть тепла и света,
И я невинен, нет сомненья.
17.23
Помню, как девушки к нам в купе приходили -
Их зазывал Патрик Халлал'и,
Блеск в глазах они скрыть не могли,
Мы тогда так молоды были.
А теперь заговорить с кем-нибудь,
К другому человеку обратиться
Значит принимать муки, трудиться,
Быть в тесноте, как в старых книгах говорится,
В ложбине горной
Луч одинокий блуждает.
Холод веки смежает,
Все тонет в пучине черной.
Что ж, никто не сможет помочь
И все будет так до нашей смерти?
Постаревшее тело, когда наступает ночь,
Желает все так же, поверьте.
Одинокому телу в ночи
Без нежности просто голодно.
В нем, простертом, сломленном почти,
Мучительно воскресает молодость.
Вопреки мышцам натруженным
И всех мыслимых сил отливу,
Вопреки обильному ужину
И выпитым литрам пива.
Тело жаждет ласк и улыбок
И все так же вздрагивает в утренних лучах,
В вечных, волшебных утренних лучах,
Озаряющих горы.
Здесь воздух чабрецом пропах,
И будто слышен счастья зов.
Мой взор скользит за грань хребтов,
И я прогнать стараюсь страх.
Я знаю, корень зла во мне.
Что делать, если я таков?
В прозрачной, легкой тишине
Мне страха не разбить оков.
Но все же, глядя, как отлого
Спускаются все эти склоны,
Я оживаю понемногу,
И с сердца падает засов.
Свободный, к миру благосклонный,
Я счастью «да» сказать готов.
* * *
Голубизне небес самих
Густая синь идет на смену,
Все зыбко, кроме глаз твоих,
Зеленых глаз - зеркал вселенной.
Есть, повторяю, идеальные мгновенья. Это не просто моменты отсутствия пошлости; не просто согласье без слов в бесхитростных действах любви, домашних хлопот, купанья ребенка. Это когда понимаешь, что такое согласье может быть постоянным и нет никаких разумных причин ему не быть постоянным. Это когда понимаешь, что родился новый уклад, новая общность, где движенья, как в танце, подчинены стройному ритму; новый уклад, в котором мы можем жить прямо с этой минуты.
Все ближе ночь и солнца крах
За темных сосен частоколом,
Но сам покой в твоих глазах,
День прибран, завершен и полон.
1
Издание осуществлено при поддержке Национального центра книги Министерства культуры Франции
2
«Ашелем» - от франц. HLM (habitation #224; loyer mod #233;r #233;) - муниципальный дом с умеренной квартирной платой. (Здесь и далее - прим.перев.)
3
«Фнак» - сеть магазинов, специализирующихся на торговле книгами, видео- и музыкальными записями.
4
Кольмар - город на западе Франции, недалеко от границы с Германией.
5
Мохаве - пустыня в США.
6
Дефанс - район с ультрасовременной архитектурой на окраине Парижа.
7
Башня ГАН - один из небоскребов Дефанса, штаб-квартира страховой компании GAN.
8
Казуарина - род деревьев и кустарников семейства казуариновых.
9
От санскр. Šanti šāntālaya. Om mani padme om — одна из наиболее известных буддийских мантр, означающая: «Покой… обитель покоя. Драгоценный камень в цветке лотоса».
10
Пока! (англ.)
11
Клифден - город на западе Ирландии.
12
«Монопри» - сеть недорогих супермаркетов во Франции.