Книга: Неадекват. Сборник
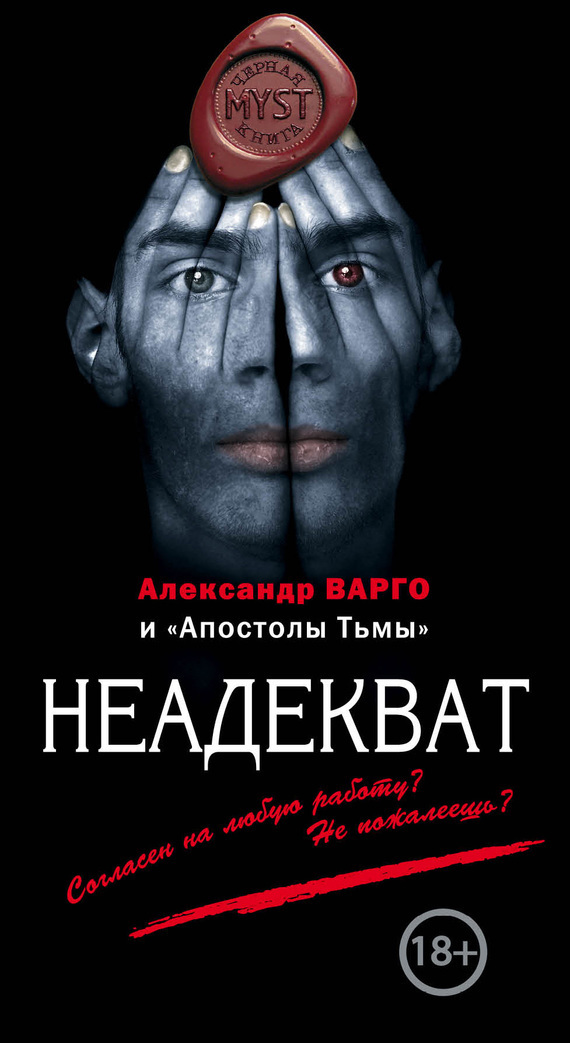
© Варго А., 2014
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)
* * *
Неадекват
2031 год.
Территория Московской провинции.
64-й район
Мако вышел из машины. Его невысокий рост компенсировался крепким телосложением, а глубокие залысины – длинной косичкой, как у шотландских воинов Средневековья.
К нему тут же метнулась нищенка. В худых, закопченных руках она держала укутанного в рванину ребенка.
– Эй, парень! Привет, парень! Как дела?
– Было все охрененно. Пока не увидел тебя, – бросил он, шагая по обочине. Попрошайка с младенцем в руках двинулась за ним.
На раскаленной от жары трассе полыхали сваленные в кучу покрышки. Мужчина внимательно смотрел вперед – сквозь черный вонючий дым просвечивалась убогая заправочная станция.
– Она пустая. Там нет ни хера, Мясники высосали все до капли, – сообщила неряшливо одетая женщина, проследив за взглядом мужчины. – Подкинь деньжат, а? Я куплю своему внуку молоко.
Она шагнула вперед, и Мако обдало вонью разложения. Он глянул на рыхлые черты лица ребенка, неестественную бледность кожи, и сплюнул.
– Ему не молоко, а гроб нужен. Купи себе нового.
– Парень, дай закинуться, – клянчила пожилая женщина, укутывая трупик мальчика грязным одеялом. – Бун-бун есть? Или чейси?[1] Хочешь, я у тебя отсосу? У тебя есть вода? Я подыхаю от жажды.
– Мне нужна женщина. Ее зовут Аделия. Она шлюха. Знаешь ее?
– Аделия, – пробубнила старуха, поджав губы. – Да х… ее знает. Сегодня Аделия, завтра еще какая-нибудь хуе… ля. Так что насчет воды? Я могу не только отсосать. Я еще…
– Заткнись, – оборвал ее Мако. Потеряв интерес к побирушке, он зашагал к заправке. Он верил, что удача должна повернуться к нему своим лицом (может, не слишком привлекательным) именно здесь.
– Я тебя раньше не видела тут, – продолжала бубнить нищенка, волочась за ним. – Лучше уходи. Этот район держат Мясники, если они увидят тебя, то убьют, а твои почки и сердце обменяют на бун-бун. У тебя хорошее сердце?
Мако не обратил внимания на слова старухи, которая по привычке продолжала укачивать разлагающегося ребенка.
Если что, он сможет дать отпор. Хоть мясникам, хоть вегетарианцам.
Как он и предполагал, заправка давно не работала. Шланги были вырваны с корнем и дохлыми черными змеями валялись у проржавевших колонок. Мако усмехнулся. Пережиток прошлого. Лет пятнадцать назад, перед тем как он сел в тюрьму, в этой стране только такие заправки и были.
Теперь действующие станции (которых можно сосчитать по пальцам) охраняются похлеще военных баз, на которых хранится ядерное оружие. С тех пор, как Россию расколола междоусобица, и она была разделена на провинции, превратившись в КРП[2], нефтяные запасы почти исчерпали себя.
Грызня велась и за питьевую воду, поскольку цены за этот необходимый для выживания человечества продукт, простой оксид водорода, достигли заоблачных высот. Мако еще помнил то время, когда он, будучи сопливым мальчишкой, мог спокойно включить кран, и оттуда лилась прекрасная, свежая вода. Теперь же вся вода, содержащаяся в водоемах, была непригодна для питья – от одного глотка можно было склеить ласты. Дожди в связи с резким изменением климата шли редко, но и эту воду пить тоже было невозможно.
Наступило время, о котором в прошлом веке писали пессимистически настроенные фантасты. Когда за небольшую бутылочку питьевой воды (или канистру бензина) резали глотки, а новорожденными детьми торговали прямо на улице. Единой централизованной власти в некогда громадном государстве не было – каждая провинция была поделена на районы, в которых бесчинствовали вооруженные группировки.
Неподалеку от заправки угрюмо чернел остов сожженной полицейской машины. Тут же, на усохшем дереве, было распято полуистлевшее тело комиссара полиции.
Он не случайно оказался в одном из самый опасных районов, территория которого контролировалась враждующими мотобандами. Мако была нужна эта шлюха Аделия, и, судя по добытой информации, она могла обитать тут.
Главное, чтобы она была жива. Потому что у него есть к ней пара вопросов.
Ему почудилось какое-то движение за спиной, и он резко обернулся. В заброшенном магазинчике, что стоял рядом с заправкой, кто-то был. Ступая тяжелыми ботинками по осколкам стекла, мужчина направился туда.
– Уходи отсюда! – надрывно прокричала ему вслед старуха. Мако не обернулся.
Старуха выматерилась. Посмотрев в раздутое лицо гниющего ребенка, она покачала головой – с таким «товаром» она ничего не заработает. Тем более здесь. Нищенка опустила руку, и тряпье развернулось зловонной простыней. Крошечный трупик беспомощно шлепнулся на грязный асфальт, напоминая сломанную куклу.
– Купи… – пробурчала старуха, аккуратно сворачивая тряпки. – Где я куплю свежего внучка? Разве что украсть?
Мако вошел в магазин. Там пахло мочой и чем-то горелым.
– Я видел тебя, – громко сказал он. – Если ты не выйдешь через пять секунд, я спалю этот отстойник вместе с тобой.
Из-под стойки вылезла чумазая женщина со спутанными волосами в мешковатом ветхом платье. На вид ей можно было дать и тридцать пять, и все шестьдесят.
– Не жгите меня, – хрипло проговорила она.
Мако вплотную приблизился к ней.
– Ты знаешь Аделию? Она шлюха. У нее татуировка на шее в виде ящерицы.
– Кто вы?
Мако, не меняя выражения лица, ударил ее по щеке. Грязнуля вскрикнула, отпрянув назад.
– Ты ее знаешь, – в его голосе послышалось удовлетворение.
– Мы не виделись много лет. Она… она не занимается больше этим.
– Если женщина шлюха, то, даже прекратив раздвигать ноги за деньги, она не перестанет быть ею. Внутри она останется обычной потаскухой, – сказал Мако. – Где она?
– Я не знаю, – пробормотала женщина, и Мако отвесил ей еще одну пощечину. На потрескавшихся губах бродяжки показалась кровь.
– Не бейте, – сказала она, из ее глаз потекли слезы, оставляя белые дорожки на давно не мытом лице.
– Отвечай.
Проститутка всхлипнула.
– Кто-то говорил, что она завязала. Кажется, она переехала в 9-й район.
Мако понимающе кивнул. 9-й район – почти что элита, что-то сродни ранее существовавшей Рублевке. В 2021 году в ходе государственного переворота действующая власть была свергнута, а коттеджи на Рублевке, принадлежащие чиновникам и прочим приближенным к ним толстосумам, разнесли по кирпичику, а многих из них, не успевших вылететь из тогдашней России на своих частных самолетах, повесили на фонарных столбах. А некоторых сожгли, как ведьм во времена инквизиции. В назидание остальным ненасытным коррупционерам. Правда, ожидаемой пользы это не принесло.
– Что еще знаешь о ней?
Запинаясь, женщина начала говорить, а Мако, проворно достав телефон, включил функцию диктофона.
– Ты убьешь ее? – спросила она, когда закончила говорить. Он смерил ее ничего не значащим взглядом.
– Я убью тебя, – мягко сказал он. – Терпеть не могу шлюх. Но прежде ты отсосешь у меня. Трахаться с тобой не буду – это все равно, что валяться в дерьме.
– Не надо, – замотала головой женщина, пятясь назад. – Пожалуйста. У меня есть вода. Ее можно пить, целая банка. Я отдам вам ее. Только не трогайте меня. Прошу.
Мако расстегнул ширинку.
– Воду я найду и без тебя. Иди сюда.
– Нет.
Он вынул из кармана просторных черных штанов кусачки.
– Я коллекционирую зубы шлюх. Знаешь, сколько я уже накопил? У меня с собой уже вторая коробочка. В каждую из них вмещается примерно шестьдесят штук.
– Я отдам вам зуб. Только не убивайте! – выкрикнула она.
Мако ухмыльнулся.
Позади раздался звон стекла. Ухмылка моментально испарилась с его щетинистого лица. Он отреагировал мгновенно, упав на пол. Тут же прозвучала короткая автоматная очередь, тело женщины надломилось, прошитое насквозь стальными жалами пуль. Нелепо взмахнув руками, проститутка отлетела к стойке и сползла на пол.
Мако достал нож, отползая в сторону. Через минуту в разграбленном магазинчике появился сутулый мужчина в длинном кожаном плаще, густо забрызганном грязью, полы которого были разлохмачены, словно его в последний момент вытащили из мясорубки. В его руках был пистолет-пулемет. Плечи, предплечья, грудь были покрыты пуленепробиваемыми пластинами. На голове красовался исцарапанный шлем, шею украшал серебряный кулон в форме двух скрещенных скальпелей.
Шаркая ногами, Мясник приблизился к лежащей женщине.
– Ого. Вроде не в нее целился, – с изумлением протянул он. Сзади бесшумно возник Мако. Бандит почувствовал неладное, но было уже поздно – лезвие ножа прошло точно сквозь пластины. Еще один точный удар. Мужчина захрипел, пистолет упал на изгаженный пол.
– Она…
Мако поднял голову. Шлюха была все еще жива.
– Не ходи к Аделии. Она убьет тебя.
– Пока, – бросил он с сожалением. Эх, а мог бы еще пару зубов в копилку положить. Но у него было негласное правило. Он забирал зубы только в том случае, если у него был физический контакт с проституткой. И он соблюдал правила этой игры. Собственно, можно было трахнуть и мертвую (замарашка уже закатила глаза, перестав дышать) но он не был некрофилом.
Мако обыскал мертвеца. Присвистнул, обнаружив в его кармане гранату.
Он вышел на улицу и замер.
Трое Мясников разделывались с его стареньким «Ягуаром». Один проколол все четыре колеса машины, второй крушил молотком стекла. Третий, всунув шланг в горловину бака, сливал бензин в канистру. Бандиты были одеты в точно такие же грязные плащи, в который был облачен убитый в магазине.
На дороге были беспорядочно припаркованы самодельные квадроциклы, четыре гибридно-ржавых мутанта, покрытых толстым слоем пыли. На одном из них на руле был установлен крупнокалиберный пулемет.
Увидев, во что превращается его машина, Мако сморщил лоб. Злобно ухнув, он метнул гранату, укрывшись за стеной магазина.
Взрыв расплескал знойный воздух, озарив на мгновенье все вокруг белой вспышкой. Когда Мако выглянул, сквозь рваные клочья дыма было видно, что двое из Мясников лежат, распластав конечности.
Третий, расколотивший окна его автомобиля, был ранен в плечо и ногу – он успел прыгнуть за «Ягуар», что и спасло ему жизнь. Замерев, Мясник присел на колено, пальцы потянулись к арбалету, висевшему на боку. Его лицо было замотано пропитавшимися гноем бинтами, сквозь узкую щель тлели прищуренные глаза. Парень гнил заживо. На впалой груди мерцал точно такой же кулон в виде скальпелей.
Мако подошел вплотную. Забинтованный поднял заряженный арбалет, и они одновременно выстрелили. Стрела прошила бицепс Мако. Бандита откинуло на асфальт, голова развалилась надвое, как тухлый кабачок.
– Ты все равно сдохнешь, – сварливо сказала нищенка. Все это время она пряталась за покореженной колонкой, с безумной улыбкой наблюдая за бойней. Когда все было закончено, она коршуном кинулась к трупам бандитов, выворачивая наружу карманы.
Мако подошел к машине, хмуря брови. Он вырвал из раны гарпун, словно это была незначительная заноза. По руке заструилась кровь.
Перевел взгляд на квадроциклы Мясников. До отсидки он имел опыт езды на чем-то подобном. Наверное, у него получится.
Мако сел на ближайший аппарат. Его взгляд случайно упал на мертвого мальчика, которого выбросила нищенка прямо на дорогу. К нему уже торопливо спешили облезлые крысы.
Конфедерация, лопни мои глаза. Несколько десятков независимых регионов, постоянно враждующих друг с другом, вот что представляет собой эта долбаная Конфедерация. При этом твари, влачащие свое жалкое существование в Провинциях, брызжа пеной, называли себя гражданами. Хотя сами давно превратились в безжалостных, смердящих крыс, как вот эти, рвущие на части мертвого ребенка, и готовы убить друг друга за глоток воды.
Дерьмо.
Он завел квадроцикл.
– Ты сдохнешь! – закудахтала нищенка, выгребая из карманов плаща забинтованного Мясника мелочь и упаковку бун-буна.
Вдали послышался гул. Он вибрировал, становясь громче с каждой секундой, словно зарождающийся ураган.
Мясники.
Эта встреча ему ни к чему. Ему нужна Аделия.
Четырехколесная переделка, подскакивая на обломках асфальта, унеслась прочь.
Квадроцикл пришлось бросить задолго до цели – иначе это вызвало бы подозрения. Мако было не привыкать. Закинув на спину спортивную сумку, он шел пешком.
– Коленька… Все будет хорошо, – шептал он.
Он быстро нашел обнесенный высоким забором участок, где должна была проживать интересующая его женщина.
У ворот было небольшое столпотворение – оказалось, кто-то застрелил секьюрити, следящего за объектовым режимом. Заметив, что с трассы выруливает бронированный полицейский автобус, Мако быстро скользнул внутрь. На полноватого мужчину с обширной лысиной и косичкой, облаченного в черную рубашку, никто не обратил внимания.
(Аделия).
Ади.
Она любила, когда он ее так называл.
И ему нравилось ее так называть. Крича, она извивалась под ним, требуя еще и еще, и Мако, измотанный до полуобморочного состояния, в эти секунды думал, что это не женщина, а самый настоящий дьявол, который каким-то образом исхитрился влезть в телесную оболочку Аделии.
Вскоре он стоял перед ее домом.
«Именно так я и представлял твое гнездышко».
Он внимательно посмотрел на ворота. Нынешние технологии позволяли встраивать камеры слежения так, что они были невидимы для человеческих глаз. Наверняка Аделия уже знает, что к ней пришел гость. Интересно, узнает ли она его спустя столько лет? Должна. Хотя годы, проведенные за решеткой, сильно изменили его.
Мако шагнул к воротам. На его лице отразилось недоумение – они были открыты. Ха! Даже в таких небедных районах каждый был сам за себя. Каждый жил так, словно этот день – последний, каждый был готов к внезапному нападению или шальной пуле. Так что открытые ворота при отсутствии хозяина – это сигнал.
Что-то не так.
(Он здесь. Тот, кто убил охранника на въезде).
От этой мысли Мако почему-то испытал приступ странного возбуждения.
Он бесшумно вошел в дом, окунувшись в приятную прохладу. На первом этаже с тихим шипением ездил автоматический уборщик, тщательно пылесося коврик у дивана. Со второго этажа доносилась какая-то возня.
– Ади… – прошептал Мако. Он расстегнул «молнию» сумки. На него слепо скалилась мумифицированная голова с дырой вместо носа.
– Вот мы и у цели, Коленька.
Полюбовавшись на высохшее лицо, он аккуратно закрыл сумку.
Наверху кто-то закричал. Мако узнал этот голос. Он узнал бы его из тысячи.
Надо спешить. Иначе все сделают за него.
По лестнице вниз важно прошествовал крупный пушистый кот, мазнув хвостом по его ноге.
Оказавшись наверху, Мако двинулся к спальне – звуки доносились оттуда. Он осторожно вошел внутрь, и сердце его подпрыгнуло, как мячик на резинке.
– Отойди, – скомандовал он толстяку с потной лысиной, который обрывал зубами липкую ленту. Ади, совершенно голая и такая божественно-прекрасная, была намертво прикручена скотчем к кровати. Ноги бесстыдно раздвинуты, и Мако стоило немалых усилий не смотреть туда.
(Всему свое время).
– Не лезь! – зарычал толстяк. – Ты не знаешь, что сделала эта тварь!!
– Догадываюсь, – спокойно кивнул Мако, вынимая нож. – Ади, она ведь такая. Никогда не знаешь, чего от нее ожидать.
Женщина вздрогнула, услышав свое уменьшительно-ласкательное имя. Ее заплаканные глаза округлились.
(Узнала!)
– Она кинула меня. Я разорен, – тяжело задышал толстяк. – Банк забрал мой дом и бизнес. Я потерял все. И все из-за нее. Ты слышишь?!
– Ну да. Тебе просто не нужно было связываться с ней, – обронил Мако.
Взгляд чрезмерно располневшего мужчины метнулся к дробовику, прислоненному к шкафу. Слишком далеко. Он снова посмотрел на Мако, сжавшись от страха, – глаза надвигавшегося на него незнакомца в черной рубашке предрекали смерть.
– Не надо, – пролепетал он. Он засеменил к окну, но споткнулся о сваленное одеяло, и, взвизгнув, упал. Мако прыгнул на него.
Толстяк успел взвизгнуть еще один раз, но после третьего взмаха умолк.
В комнату вошел кот. Животное с интересом уставилось на дробовик, явно не понимая, как и для чего этот странный предмет оказался в его доме.
– Боже мой, Ади, – вздохнул Мако, поднимаясь на ноги. – Стоит тебя оставить на некоторое время, ты обязательно в говно влипнешь.
Женщина умоляюще глядела на него, нечленораздельно мыча.
– А, ну да.
Мако вытащил мокрый от слюны кляп из ее рта.
– Костя…
Он ухмыльнулся, демонстрируя отсутствие некоторых зубов:
– Я уже давно не Костя. Костя умер тогда, Ади. Когда я благодаря тебе оказался в тюрячке. И сидеть бы мне еще пять лет, если бы не бунт. Мне пришлось вырезать чип, который установили в моем теле для слежки за мной – так делают со всеми заключенными. Было очень больно, Ади, потому что чип был вживлен в шейный позвонок.
– Мне очень жаль.
Мако провел указательным пальцем по голому животу женщины. Он был упругим, без единой складочки жира, как у гимнастки.
– Ты почти не изменилась, Ади. И, наверное, не изменишься.
– Костя…
– Такие, как ты, не стареют.
Глаза Мако блеснули странным огоньком.
– У вас, шлюх, внутри какой-то волшебный тумблер. Он, наверное, регулирует время в ваших блядских телах, переключаясь туда-сюда. Вон, смотри на меня. Лысый, как этот жирдяй, зубов нет, пузо растет. А ведь мне всего сорок два.
Кот отошел от ружья, и, мягко ступая лапками, приблизился к кровати.
– Костя, освободи меня.
– Освобожу, – улыбнулся Мако. – Только чуть позже.
Не удержавшись, он добавил:
– Ты прекрасна. Как всегда.
Аделия всхлипнула.
– Ты меня пугаешь.
– Не надо меня бояться. У меня мало волос на башке и растет брюхо, но с моим дружочком, к счастью, все отлично.
Мако наклонился к ней и нежно поцеловал в мягкие губы.
– У тебя кровь на руке, – заторможенно сказала Аделия.
– Я знаю. Ничего страшного. У тебя есть вода?
– Да. На кухне, на столе целая упаковка.
Мако вышел из комнаты.
Она закусила губу. Похоже, ее бывший ухажер даже не собирается ее развязывать.
Аделия выдавила из себя жалкую улыбку, когда Мако вернулся, вытирая губы.
Он медленно снял рубашку, и она побледнела.
– Ты что собрался делать?
Рубашка полетела на пол, за ней последовала не слишком чистая майка. Глаза женщины завороженно остановились на мощной грудной клетке Мако. В самом центре, поблескивая, щерилась челюсть, украшенная гротескно-кинжальными зубами. Рисунок искрился, словно был нарисован ртутью.
– Это серебряная нить, – пояснил Мако, заметив, что женщина не отрывает взгляда от экзотической татуировки. – Специальная прошивка. Круто, да?
Он начал стаскивать с себя военные ботинки, потом брюки. По телу Аделии пробежала мелкая дрожь.
– Зачем ты пришел? – вырвалось у нее.
– Ты еще спрашиваешь? – удивился Мако. На нем остались только трусы, которые он, чуть помедлив, тоже снял. Затем подвинул к кровати свою сумку.
– Я скучал по тебе, – признался он, грузно плюхаясь рядом с женщиной. Понюхал ее взмокший от пота локон волос. – Всегда любил натуральный запах женщины.
Он начал ласково поглаживать все еще красивую, крепкую грудь Аделии.
– А ты молодец. Подтяжек не делала?
– Делала.
Рука Мако постепенно сместилась вниз, ласково гладя бархатистую кожу.
– Тебе нравится?
Аделия глубоко выдохнула.
– Знаю, нравится, – хрипло прошептал Мако, прижавшись к ее разгоряченному телу. – Ты ведь рада, что я тебя спас от этого толстяка?
– Да.
– Что ты ему сделала? – Мако навис над ней. – Обокрала? Хотя нет, это слишком мелко для тебя. Уговорила перевести на себя все счета?
Он вошел в нее, как торпеда, и Аделия вскрикнула от неожиданности.
– Не бойся меня, – услышала она сквозь серую пелену его хрипловатый голос. – Я не причиню тебе боли… Пока.
Он кончил очень быстро, и лицо Аделии исказила гримаса.
– Ты так ничему и не научился, – фыркнула она, отворачиваясь. – Я не успела.
– Дорогая, меня все устраивает. Не успела сейчас – успеешь потом, – философски заметил Мако. – Но зато я быстро восстанавливаюсь.
– Развяжи меня, – раздраженно потребовала Аделия.
– У тебя есть выпить? – осведомился мужчина.
– Нет. Я не пью алкоголь. Есть чейси и туту-лайт.
– Я не люблю ваши гребаные колеса, – скривился Мако. – Куда катится этот трижды трахнутый мир?
Он снова начал гладить женщину. Краем глаза Аделия видела, что «орудие» ее бывшего кавалера снова приведено в боевую готовность.
– Ты псих, – она тихонько застонала, когда он снова лег на нее. – Но я тебя хочу, сволочь.
– Я всегда вспоминал тебя, – пыхтел Мако, начиная ритмично двигать бедрами. На кровать тихо запрыгнул кот, и он заметил его.
– Что, извращенец, нравится подсматривать?
Кот молча изучал Мако, и тому показалось, что круглые глазища животного излучают неподдельное презрение.
– Пошел отсюда, – бросил он, и кот, фыркнув, тихонько отступил назад. Некоторое время он, замерев, наблюдал за яичками Мако, которые вздрагивали в такт движениям, потом, присев, неожиданно прыгнул, вытягивая вперед лапы.
Мако заорал. Опустив голову, он посмотрел между ног, и, к своему ужасу, увидел проклятого кота, который с азартом пытался поймать растопыренными когтями его яйца.
– Пошел! Пошел на хер отсюда! – бешено сверкая глазами, рявкнул Мако. – Твою мать, Ади!
Он спрыгнул с кровати и уже хотел схватить за шкирку животное, но кот ловко отпрянул и, зашипев, ринулся к двери.
Аделия засмеялась.
Мако с ненавистью посмотрел на нее.
– В вашем доме все психи, – процедил он. – И люди, и коты. И, уверен, даже тараканы.
Он пощупал свою мошонку. Вроде все на месте.
– О, черт, – на глазах Аделии выступили слезы. – У меня есть игрушка с шариками… Тпруся, наверное, решил, что твои яички очень похожи на них… Ха-ха-ха! И у меня нет тараканов! Черт, черт!
– Перестань ржать, шлюха, – побагровел Мако, но Аделия не могла остановиться. У нее началась самая настоящая истерика, и оборвалась она только тогда, когда Мако ударил ее в лицо. Массивный перстень рассек губу женщины, выбив ей зуб. Аделия закашлялась, потрясенно глядя на него.
– Выплевывай. Ну, давай, – сказал он, подставляя мозолистую ладонь. – Я коллекционирую зубы шлюх. Ну?
– Я… гык… проглоти… ла, – поперхнувшись, едва выговорила она.
– Тогда придется выбить еще. Я не собираюсь ждать, когда тебе захочется освободить кишечник, – сказал Мако. Он снова уселся на Аделию. – Тебе очень идет, когда на тебе кровь. А еще я люблю читать на ваших блядских лицах панику. Мне нравится, когда вы боитесь. Я давно искал тебя. Параллельно охотясь на шлюх.
– Кост…
– Я Мако! – зарычал он. – Видела?
Он с силой ткнул толстым пальцем в свою массивную грудь. – И сегодня я сожру тебя!
Аделия застыла в ужасе. Целую минуту они смотрели друг на друга.
– Но прежде я хочу поговорить о своем брате.
Она испуганно моргнула.
– Ты ведь знала его? Когда я сел в тюрячку, ты стала шлюхой. Мой брат помогал тебе, как мог. И однажды ты переспала с ним. Так?
– Кос…
– Не Костя, сука. Нет тут Кости.
– Мако. Да, Мако. Ты все не так поня… – сбивчиво начала говорить Аделия, но он ее перебил:
– Не нужно ничего объяснять. Ты трахнулась с ним и потребовала денег. Он не дал – откуда они у него? Нищий студент, которого выгнали за плохие оценки. Он влюбился в тебя и написал мне об этом. А твои сутенеры отмудохали его до полусмерти за долги. Он умер в нашей квартире. Понимаешь, Ади? И никто о нем не вспомнил. Он умирал. И, наверное, звал тебя. И никто за ним не пришел. Он умер от голода и жажды! Бутылка воды уже тогда стоила как телевизор или ноутбук! Мой дом разграбили, а тело брата даже не похоронили! Ты меня слышишь? Я пришел домой и увидел на кухне его труп!! Он сдох, и крысы сожрали его нос!
Мако вдруг наклонился, раздалось резкое «вжжжиг!», после чего он навис над ней, держа в руках нечто яйцеобразное, дурно пахнущее, и с этого коричневатого предмета что-то сыпалось, как труха с прогнившего дерева.
– Скажи привет Коленьке, – прошипел он.
Аделия завизжала, чувствуя, что безумец снова внутри нее. Мертвое лицо, болтающееся перед ней, буравило ее своими пустыми глазницами.
– Как тебе это?! – кричал Мако. Он сжал шею Аделии, тыча другой рукой ей в лицо оторванной головой брата. – Он был единственный, кто у меня остался! И он полюбил тебя! Проси у него прощения! Ну же! Целуй его!
Размахнувшись, он с силой впечатал голову в лицо Аделии, и та истошно закричала. Ее тело конвульсивно затрепетало.
Внезапно она крепко зажмурилась, ее окровавленные губы сжались.
Мако непонимающе смотрел на низ живота. Туда, где постепенно, словно росток, зрела боль. Чудовищная боль, стальным кольцом все плотнее и плотнее сдавливая его «младшего брата».
– Ади?
Голос прозвучал робко и едва слышно.
(Она сдохла).
– Ади.
Пальцы разжались, и голова Коленьки, которому на момент смерти только исполнилось двадцать один, покатилась по полу.
– Мне больно, – выдохнул он.
Кровь продолжала поступать в набухший член, но он не мог сделать ни единого движения. Ни вперед, ни назад. Он застрял. Намертво, как в тисках.
Упершись в плечо неподвижно лежащей женщины, он осторожно потянулся назад. Ему показалось, что в его гениталии вонзились сотни игл, боль была настолько ослепляющей, что он чуть не потерял сознание.
Аделия открыла глаза.
– Мне тоже больно, – прошептала она. Ее изящные пальчики сжались в кулаки.
– Что ты сделала? – взвыл Мако. Его лицо стало багроветь, висок вспучила толстая жила, похожая на фиолетовую пиявку. – Что ты со мной сделала?!!
Все так же тихо она ответила:
– Ты просто напугал меня, Костя. Это всего лишь мышцы. Спазмы. Так бывает.
– Ооооххх, – застонал Мако. Он попытался просунуть пальцы во влагалище, надеясь хоть как-то расширить отверстие, но все было тщетно – с таким же успехом он мог бы пытаться увеличить диаметр металлической трубы.
– Мне нужно успокоиться.
– Я убью тебя, – прохрипел Мако. Он снова ударил ее.
– Ты только хуже сделаешь, – спокойно сказала она. – Нам может помочь теплая вода.
Ее лицо в отличие от багровеющего Мако покрылось мертвенной бледностью, словно вся ее кровь перекачивалась в охотника за проститутками.
Мако чувствовал, как мозг застилает губчато-розовый кисель – сейчас он просто лопнет от давления, разлетевшись на сотни кровавых ошметков. Его мутный взгляд упал на нож, которым он убил толстяка. Он положил его на крошечный журнальный столик, но этот чертов столик стоял как минимум в трех метрах от кровати. Как он доберется до него?
– Я все равно… вскрою тебя, Ади, – проскрежетал Мако. – Как… консервную банку.
Тускнеющий взгляд выхватил лежащую на подоконнике раскрытую косметичку. Там наверняка должны быть ножницы. Он попытается до них дотянуться.
Скрипя зубами от раздирающей боли, он, приподнимаясь на одной руке, стал понемногу подтаскивать тело к краю кровати, одновременно другой рукой поддерживая обмякшую Аделию. Главное, чтобы они не грохнулись с кровати. Его «дружок» не выдержит этих приключений, он и так распух внутри этой пугливой дуры, как надувной матрас.
– Ади… не сопротивляйся.
– Ты хочешь вырезать его из меня?
Качаясь от слабости, Мако всматривался в черты ее лица.
– У меня нет другого выхода.
Он продолжил двигаться к краю кровати. Вскоре их тела почти наполовину свисали над полом. Трясущаяся рука Мако тянулась к косметичке.
Еще сантиметр.
Есть.
Пальцы мертвой хваткой сжали глянцевый чехольчик. Там точно есть пилочка для ногтей. Или ножнички для обрезания кутикул.
Позади раздались чьи-то мягкие шаги.
– Привет, Ади, с тобой все в порядке? – раздался где-то сверху писклявый голос.
«У меня глюки», – промелькнуло у теряющего от боли сознание Мако. Или в воду, которую он выпил здесь, был подмешан чейси.
– Сними с меня эту блевотину, – криво улыбнулась Аделия, глядя куда-то поверх головы Мако.
– Что, опять? – нахмурилась вошедшая женщина. У нее были длинные волосы апельсинового цвета, в носу, бровях и нижней губе поблескивал многочисленный пирсинг. Ее лицо было в глубоких морщинах, что никак не вязалось с великолепно сложенной фигурой. – Тебя на пару часов оставить даже нельзя.
– Кто это? – Мако с трудом слышал собственный голос. Он никак не мог расстегнуть идиотский чехольчик с маникюрным набором.
– Я купила перепелиных яичек. Уверяли, что они свежие, – говорила женщина, словно ничего не происходило. Будто на обнаженном теле ее подруги не распластался какой-то мужик, с тупым упорством пытающийся зубами разорвать косметичку. Будто у кровати не остывал труп лысого толстяка, а у окна не валялась чья-то мумифицированная голова.
– Отлично, – напряженно улыбнулась Аделия. – Обожаю яичницу из перепелиных яичек, Лапка. Поторопись.
Женщина с оранжевыми волосами вернулась, держа в руках громадные, почти черные от времени ножницы.
– Видишь, как пригодились… Это еще от моей бабушки осталось. Прикинь, Ади, они в те времена сами себе одежду шили! Ну что я тебе рассказываю, ты сто раз слышала про мою бабушку.
Лапка щелкнула в воздухе ножницами. От мрачного лязга Мако вздрогнул, будто очнувшись от наркоза. Он облизал губы, вмиг ставшие сухими и шершавыми.
– Ади, нет.
– Не называй меня Ади. Для тебя я Аделия.
– Не подходи! – завопил Мако. Лапка, снисходительно кивнув, словно имея дело с капризным ребенком, обошла кровать, после чего схватила мужчину за седеющую косичку.
– Отпусти, сука!!!
– Держи его руки. Этот болван мне мешает, – деловито сказала она, и Аделия, вытянув руки, словно клещами вцепилась в кисти Мако.
– Нет. Нет, нет, – захрипел он, дергая конечностями.
Лапка ловко просунула руку с ножницами к паху мужчины.
– Не волнуйся, это быстро.
– Осторожнее, – обеспокоенно сказала Аделия. – Не поцарапай меня.
Накрашенные черной помадой губы Лапки раздвинулись в ухмылке. Стальные лезвия ножниц соединились, с легкостью перерезав плоть.
Глаза Мако вылезли наружу. Рот раскрылся, как дыра в высохшем колодце, легкие раздулись, но крик все не шел, застряв где-то в глотке. Аделия с отвращением спихнула его на пол. Из раны между его раскоряченных ног стала толчками выплескиваться кровь.
– Сама вытащишь? Или помочь? – участливо поинтересовалась Лапка, освобождая с помощью тех же ножниц руки Аделии от липкой ленты.
– Сама.
Женщина слезла с кровати, массируя себе мышцы бедер.
Наконец легкие прорвало, и Мако закричал. Аделии показалось, что от его звериного вопля колыхнулась искусственная роза в стеклянной вазе.
Лапка, удивленно хлопая кукольными ресницами, закрыла уши.
– Заткнись! – возмущенно крикнула она.
Аделия освободилась от инородного предмета в теле после четвертого приседания.
– Как же ты так, Ади? Ты была на грани фола.
Лапка шагнула к окровавленной кровати и, нагнувшись, приподняла матрас. Нож с узким лезвием был на месте. Проверила изголовье – там был спрятан точно такой же, запасной. – Почему ты не воспользовалась ими? Ведь всегда прокатывало.
– Потому что меня связали, – ответила Аделия, растирая покрасневшие запястья.
– Он? Или вот этот милый, толстый дурачок? – Женщина указала на труп у кровати. – Кто он, кстати?
– Да хрен его знает, – пожала плечами Аделия. – Лапка, я что, должна помнить всех своих старых клиентов? Ему удалось застать меня врасплох, когда я садилась в машину. Охранник на воротах что-то заподозрил, и он разнес ему голову. Он связал меня, поэтому я так облажалась. И… Если бы не этот, – она вытянула красивый пальчик, указывая на катающегося на полу Мако, – наверное, меня бы прикончили.
– О, так это твой спаситель? – просюсюкала Лапка, ее старушечье лицо растянулось, словно растресканная резина. – Спаситель-мучитель? Дрочитель-членовредитель?
Женщины захихикали, страстно прижавшись друг к дружке и целуясь. На щеке Аделии остался след помады.
– Что у тебя с губой?
– Урод выбил мне зуб. Кстати, проверь его сумку.
– Ади, – Мако с трудом поднялся на колени, зажимая ладонями кровоточащую рану. – Дай полотенце. Или сделай мне укол.
– Ага. Может, тебе еще ногти на ногах постричь?
– Я СДОХНУ! Пожалуйста, помоги!
– О, нет, – возразила Аделия, запахиваясь в цветастый халат. – Часа полтора ты протянешь.
– Ади, смотри, что у него тут, – Лапка кинула подруге пластиковую коробочку, в которой гремели желто-бежевые камешки одинакового размера.
– Красивые зубки, – оценила Аделия. Сняв с коробочки крышку, она высыпала на ладонь горсть.
– Давай, жри свою коллекцию, акуленок[3].
Мако вертел головой, кашляя. Его рот наполнился зубами тех, над которыми он еще сам совсем недавно имел неограниченную власть.
– Ладно, что будем с ним делать?
– Можно продать его одному арабу, – предложила Лапка. – Он из Саудовской Аравии, Сейфул, ты его знаешь. Ему как раз для коллекции не хватает еще одной куколки, мы вчера с ним переписывались. Он любит товар из Конфедерации. Говорит, наши – самые выносливые. Кстати, он зовет нас в гости.
Ади внимательно смотрела на Мако. Часть зубов он все-таки проглотил, и теперь с мольбой смотрел на нее. Весь пол под ним был темно-красным, словно он перевернул ведро томатного сока и сел в самую середину густой жижи.
– Он плохой малыш. Но он спас меня, – сказала она, и по лицу женщины скользнула едва уловимая тень воспоминаний. – Приготовь обезболивающее. Нужно прижечь рану.
Лапка понятливо кивнула:
– Твоя доброта когда-нибудь тебя погубит. Тебе, кстати, все тут убирать. Я драила дом в прошлый раз, теперь твоя очередь.
В комнату вошел Тпруся. Увидев на полу кусок члена, он принялся возить его лапой из стороны в сторону. Лапка отняла «игрушку» у кота, на что Тпруся недовольно фыркнул.
– Это который уже? – полюбопытствовала Лапка, подбрасывая отрезанный член в воздух.
– Не помню. Кажется, восемнадцатый, – ответила Аделия.
– Пора вести учет. Все хотела спросить… Ты себя можешь контролировать? Боже, иногда я думаю, а что будет, если это произойдет, когда мы будем вместе, – с беспокойством сказала Лапка. – Представляешь, я даже как-то видела сон, как ты поймала мой палец.
Она озабоченно посмотрела на свой указательный палец с длинным ногтем. – Знаешь, Ади, на ночь я буду убирать ножи. Так мне будет спокойно.
– Не переживай, – нежно поцеловала ее Аделия. – Я ведь люблю тебя. И никогда не сделаю тебе плохого. Тем более палец проще вытащить.
Они снова обнялись.
– Ты хочешь оставить его у нас? – спросила Лапка, ласково кусая Аделию за мочку уха.
– Почему бы нет. У нас в подвале уже есть двое. Они уже наскучили друг другу, поэтому он внесет разнообразие. Вместе будет веселее. Вот только лишнее обрежем.
– Хорошо, я принесу все необходимое.
Мако, ослабев от кровопотери, растянулся на полу. Ему почему-то захотелось уснуть. Наверное, это просто сон. Да, надо поспать, и весь этот кошмар исчезнет.
– Я не виновна в смерти твоего брата, – сказала Аделия, подойдя к высохшей голове. Толкнула ее босой ступней, как футбольный мяч. – Он стал наркоманом. Клянчил у меня деньги. Потом заразился сифилисом.
Она усмехнулась.
– У него нос провалился задолго до того, как в твой дом пришли крысы, Мако. Понял теперь?
(Не ходи к ней).
Она убьет тебя.
Холодея, Мако вспомнил слова опустившейся проститутки.
(Вот только лишнее обрежем…)
Из глотки вырвался сиплый свист.
Через несколько минут в комнату вошла Лапка, держа в руках странное продолговатое приспособление вроде паяльника, на кончике которого плясало миниатюрное пламя. В другой руке была эмалированная миска со шприцем и ампулой.
– Добро пожаловать в новую жизнь, малыш, – засмеялась Аделия.
Слухи
Месяц назад Инна переехала в Москву. Вернее, в Подмосковье, но для девушки, всю жизнь мечтавшей вырваться из оков родного индустриального гиганта, разница была несущественная. Час на электричке, и ты уже в столице. Час обратно – и ты в сером уродливом городишке, куда люди приезжают поспать, чтобы утром вновь окунуться в сияние заветной Москвы.
Инне везло. Накопленные деньги еще не закончились, а она уже нашла работу. Супермаркет в центре столицы, недалеко от Пушкинского музея и храма Христа Спасителя. Неплохой старт, считала она.
Впрочем, засиживаться слишком долго за кассовым аппаратом Инна не планировала. Как и миллионы других девочек из провинции, она надеялась встретить того самого москвича, который заберет ее из супермаркета, из съемной квартиры и под марш Мендельсона поселит в черте МКАД.
Задача, конечно, не из легких. Сегодня Инна отработала свой первый день в новой смене: до 22.00. Прибавьте час на дорогу и попытайтесь найти время на поиски жениха.
«Ничего, – думала девушка, выходя из междугородной электрички. – Главное, я освоила московский акцент».
Вместе с небольшой группой людей она спустилась с вокзальной платформы и оказалась на ночной улице. Пассажиры, что ехали с ней, быстро рассеялись по сторонам, оставив ее одну.
Непривычная после столичного шума тишина зазвенела в ушах. Инне и днем не очень нравилось в этом захолустье: провинциалка, она все же выросла в городе-миллионнике. Ночью же Подмосковье и вовсе выглядело угрожающе. Угрюмые пятиэтажки тонули в безмолвии, изредка нарушаемом пьяными вскриками или тоскливыми песнями. Горящие окна были такой же редкостью, как горящие фонари.
Пока она работает в этой смене, ей каждый день предстоит возвращаться домой в темноте и одиночестве.
«Это временно», – подбодрила она себя и пошла к пятиэтажкам. Каблучки громко застучали по асфальту. Словно азбука Морзе, призывающая случайных маньяков познакомиться с беззащитной жертвой.
«А тот Емельянинов, консультант из отдела электроники, не так плох», – подумала Инна, опасливо косясь на обрамляющую аллеи сирень. В воздухе пахло цветами и мочой.
Вдалеке залаяли собаки – эти одичавшие стаи были бичом провинции. Из окон выплеснулись аккорды бытовой ссоры.
– Придушу, сука! – сказал невидимый голос кому-то, а потом включился Высоцкий. Достаточно громко, чтобы под песню о волках можно было неслышно душить.
Инна ускорила шаг. Впереди замаячила хрущевка, в которой она снимала квартиру. Девушка миновала ряд гаражей-ракушек, доминошный столик и электрическую будку. Пересекла детскую площадку с врытыми в землю автомобильными покрышками. Она никогда не видела здесь детей, да и с соседями сталкивалась редко. С работы ее встречал лишь похожий на языческого идола деревянный чебурашка. Но в этот стремящийся к полуночи вечер во дворе было людно.
Инна заметила их издалека. На лавочке у подъезда, освещенные светом из единственного горящего окна, сидели три фигуры. Невероятная массовость для здешних мест.
Тревожные мысли заполнили голову девушки. Вдруг это наркоманы? Вдруг они захотят ее ограбить или изнасиловать? Откликнется ли кто-нибудь, если она начнет кричать? Придут к ней на помощь или безразлично отвернутся к настенному ковру?
«Нужно было купить газовый баллончик, как советовала мама».
Но в следующую секунду от сердца девушки отлегло. Правду говорят, что у страха глаза велики. Никакие это не наркоманы, а всего-навсего три засидевшиеся допоздна старухи.
Инна, незадолго до переезда похоронившая бабушку, испытывала к пожилым людям трогательные чувства.
Упрекнув себя в малодушии, она пошла к подъезду.
Раньше девушка не замечала, чтобы на местных лавочках кто-то сидел. Наличие дворовых бабуль вдруг сделало подмосковный городок милее. Более живым, что ли.
До Инны донеслись обрывки беседы:
– А я вам говорю, тлен. Не было там жидкости, как труха все. Берешь, оно ломается, сухенькое. Ни крови, ни лимфы. Только пыль…
Говорившая старушка – Инна хорошо видела всех троих – была грузной женщиной с коротко подстриженными волосами и орлиным носом. Одетая не по погоде тепло, в мужской свитер с американским кондором, она обмахивала себя каштановой веткой.
– Чушь! Там брызгало все. А где от газов треснуло, там сочилось. Густо сочилось, с запахом. В ней мотыльки выросли и вылетали потом, жались к полиэтилену изнутри. Красиво…
Возражавшая женщина была маленькой и округлой, в толстых очках с роговой оправой. Она вязала, используя необычайно длинные и неровные спицы. Спицы стучали друг о друга, ковыряя траурно-черную пряжу.
– Добрый вечер! – сказала Инна, поравнявшись с лавочкой.
Маленькая старушка подняла на нее комично увеличенные диоптриями зрачки и дважды моргнула. Не удостоив новую соседку приветствием, она вернулась к вязанию. Старушка в свитере окинула Инну мрачным взглядом и едва слышно фыркнула. Третья же, та, что молча сидела посредине, даже не посмотрела в ее сторону.
Самая худая и, должно быть, самая старая из женщин третья старуха была одета в дюжину одежек и держала на коленях картонную коробку с семечками. Высушенное временем лицо было опущено вниз, изуродованные артритом пальцы безучастно перебирали содержимое коробки.
Инне стало обидно за то, что с ней не поздоровались, но она вспомнила: это Москва (ну, почти Москва), и здесь свои понятия о вежливости.
Демонстративно повернувшись, она пошла в подъезд.
– Слыхали, опять в метро рвануло, – сказала старуха с кондором.
– Еще бы, – отозвалась старуха со спицами. – Тринадцать жертв!
– Четырнадцать. Безруконький в больнице помер.
– Кишки, говорят, на поручнях висели.
– Мясорубка… а террористов не найдут.
– Никогда не найдут.
«Какой ужас», – Инну передернуло. «Терроризм», слово из телевизора, с переездом в Москву обрело реальные угрожающие формы.
Железные двери подъезда уже закрывались за ней, когда старуха с кондором сказала старухе со спицами:
– Инка.
И та ответила:
– Шалава.
На следующий день про теракт заговорили все: и работники супермаркета, и посетители. Люди взволнованно звонили близким, перешептывались, горестно вопрошали, чем занимаются милиция и правительство. Плазменные телевизоры в отделе электроники говорили голосом Арины Шараповой:
– Тринадцать человек погибло, около тридцати доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. По предварительным заключениям, бомба была оставлена под сиденьем в задней части вагона…
– Когда это произошло? – спросила изумленная Инна у Вовы Емельянинова.
– Полтора часа назад.
– Не может быть!.. Я же вчера об этом слышала…
– Ты что-то путаешь. Наверное, ты слышала о каком-то другом взрыве. Эй, с тобой все в порядке?
– Да-да… – пробормотала девушка, хотя никакого порядка в ее душе не было. И лишь фляга с коньяком, любезно предложенная Емельяниновым, успокоила ее.
Начальство объявило короткий день. Инна вернулась в Подмосковье засветло и занялась домашними делами. Около одиннадцати вечера она решила посмотреть телевизор, о чем немедленно пожалела.
– Мальчик, которому во время сегодняшнего теракта оторвало обе руки, умер в больнице, не приходя в сознание. Таким образом, он стал четырнадцатой жертвой потрясшей мир бойни. Напомним, что…
Инна выключила телевизор и подошла к окну. С высоты четвертого этажа она видела ночной двор, петельки врытых в землю покрышек, деревянного чебурашку. Она открыла окно и посмотрела вниз.
На лавочке сидели три темные фигуры. Бабушки, которые гуляют по ночам.
Грузная старуха обмахивала себя веткой каштана, старуха в очках дергала спицами узлы пряжи, старуха в центре молча перебирала семечки.
«Грымзы, – зло подумала Инна, вспомнив, как вчера ее ни за что обозвали «шалавой». – Облить их, что ли, холодной водой?»
Представив результат такого хулиганства, девушка захихикала. На самом деле она никогда не осмелилась бы на подобный поступок.
– Слыхали, – неожиданно отчетливо произнесла старуха с кондором. – Лешку Талого подрезали.
– А-то! – подтвердил чавкающий вставной челюстью голос старухи со спицами. – Дружки же его и подрезали. Восемь ножевых.
– В селезенку, в почки, в печень-печенюшку прямо…
Казалось, женщины наслаждаются, перечисляя кошмарные подробности чужого несчастья. В голосе звучало нескрываемое удовольствие, будто утоленный голод.
– Умер, как пес, в подъезде, – приговаривала старуха с кондором. – Кровушкой истек, холодненький, покойничек теперь, совсем покойничек…
Инна резко захлопнула створки. И вновь в последний момент услышала:
– Шалава!
Настали долгожданные выходные. Погода стояла прекрасная, в окна лился запах цветущих растений. Инна выпорхнула из съемной квартиры, напевая под нос незатейливую песенку. С утра ей позвонил Емельянинов, предложил показать Москву. Самое время выгулять шикарное синее платьице, привезенное с малой родины. Оно отлично сидело на ней, подчеркивая достоинства фигуры. А как соблазнительно обтягивало попку!
Крайне довольная собой, Инна стучала каблучками о ступеньки подъезда. Между вторым и третьим этажами цокающий ритм сбился. Она остановилась перед группой парней, рассевшихся на перилах и преградивших ей путь. Типичные завсегдатаи обгаженных постсоветских подъездов, коротко стриженные, худые, с криминальной мглой в глазах. С передающимися от старшего к младшему брату замашками завсегдатаев российских тюрем.
Сердце Инны застучало быстрее. Она ощутила на себе насмешливые, оценивающие и одновременно презрительные взгляды. Пожалела, что у платья такой глубокий вырез.
«Это просто малолетки, – подумала девушка. – Они ничего мне не сделают».
– Пропустите, – потребовала она.
Самый старший из парней, лет девятнадцати, ощерился желтозубой улыбкой. Он был по-своему красив, с нервными чертами лица и повадками волчонка. Их зрачки встретились. Глаза парня были задумчивыми и даже печальными, что контрастировало с его ухмылкой.
– Пропусти, – повторила она твердо.
– Никто не держит, – сказал он и махнул рукой, вали, мол.
На предплечье парня она разглядела синюю наколку: «Талый».
В памяти всплыли слова старух: «Лешка Талый кровушкой истек, покойничек теперь, совсем покойничек»…
Инна прошла сквозь строй парней. Они проводили ее улюлюканьем и свистом. Только красивый мальчик с наколкой не свистел.
Выходные удались на славу, Вова Емельянинов оказался очень веселым и остроумным собеседником, к тому же, судя по всему, отнюдь не бедным женихом. Для консультанта из супермаркета – очень небедным. Жаль, домой не позвал, да и она, вернувшись в Подмосковье, пожалела, что не пригласила его к себе. В чужой квартире, в чужом городе ей жутко захотелось ощутить на себе сильные мужские руки.
Всю ночь во дворе кто-то хрипло смеялся.
Началась рабочая неделя. Ежедневно ее встречали во дворе деревянный чебурашка и три неизменные фигуры на лавочке.
Она старалась пройти мимо них быстро, но обрывки фраз все равно доносились до ее ушей. Это были всегда какие-нибудь гадости, мерзкие факты из чьих-то биографий, истории смертей.
– Маринка-то с пятого залетела от дагестанца…
– Он в своем Дагестане человека сбил, слыхали? В 99-м сбил девочку и с места аварии сбежал, так его и не поймали. Долго ж она умирала, девочка эта, раздавленная по асфальту…
Ключи, как назло, выскальзывали из пальцев Инны, никак не попадая в кружок магнитного замка.
– Маринка не дура, инженерику сказала, что от него беременна, а он и клюнул.
И тут же совершенно новая информация:
– Умерла Маринка во время родов, слыхали? Порвалась вся…
И хотя Инна понимала, что все это только сплетни отвратительных старух, возвращаться в съемную квартиру становилось еще невыносимее.
«Это временно», – как мантру, повторяла она и по ночам, проснувшись, подходила к окнам: сидят ли? Сидят. При свете луны, втроем.
Она не встречалась с троицей в дневное время. Даже когда в их дворе проходили похороны и собралось столько народа, сколько Инна не встречала во всем городке прежде, старух среди них не было.
«Почему же вы не явились на похороны? – подумала Инна, скользнув глазами по процессии. – Вы же так любите мертвецов…»
В гроб она посмотрела не из любопытства, а втайне надеясь, что увидит в нем одну из старух.
Но в гробу лежал парень, с которым она столкнулась в подъезде неделю назад. Волчонок. Лешка Талый.
По рукам девушки побежали мурашки.
«Это совпадение, – подумала она. – Так бывает. Парень вертелся в маргинальной среде, нет ничего удивительного, что он погиб, как старухи и предсказывали»…
Предсказывали…
«Нет ничего странного в том, что они говорили о теракте за день до теракта – в мире происходит столько взрывов»…
Инна нервно потерла лицо рукой.
Она подумала, что нужно спросить, как именно погиб Талый, убедиться, что подробности смерти не совпадают с опередившими их сплетнями…
Спросить хотя бы у той девушки, что стоит в обнимку с мужчиной кавказской национальности…
Но она не спросила. Она пошла в квартиру, надеясь, что горячая ванна избавит ее от дурных мыслей.
В следующую субботу они с Вовой целовались в арке перед нехорошей квартирой Булгакова, он мял ее груди и жарко сопел в шею.
– Ко мне нельзя, – сказал он. – У меня ремонт, живу у друга.
– Поехали ко мне, – тяжело дыша, произнесла она.
Этим вечером городок не показался ей ни опасным, ни зловещим. Всего-то надо было чувствовать мужское плечо, мужские губы под каждым неработающим фонарем.
– Вот там я живу.
Старух она увидела издалека. Горделиво выпрямила спину, подхватила спутника под локоть.
Старуха с кондором и старуха со спицами повернули к ним головы, лишь та, что сидела в центре осталась привычно безучастной.
– Не здоровайся, – шепотом предупредила Инна.
– С кем? – уточнил Вова, и тут же старуха с кондором сказала, обращаясь к своим товаркам:
– А это Вова Емеля в Москве без году неделя, врет, что коренной москвич, а у самого долги и ВИЧ.
Слова прозвучали совершенно четко в абсолютной тишине.
Инна ошарашенно посмотрела на старух.
Те были заняты своими делами. Спицы подбирали черную пряжу, пальцы двигались в семечках, широкие каштановые листья хлопали в воздухе.
– Ты… ты слышал?
– Что, куколка?
Инна подняла глаза на Емельянинова.
Он спокойно улыбался ей. Нет, он не слышал. А может быть, и нечего было слышать…
– Мне… наверное, показалось… та ужасная старуха прочитала стишок, и мне послышалось…
В горле Инны запершило, она не смогла договорить. Не смогла сказать: «Мне послышалось, что он про тебя».
Ведь в этом не было никакой логики. Бред. Безумие.
Он подтолкнул ее к подъезду и полез целоваться на лестничной клетке. Она стояла, опустив руки по швам, плотно сжав губы.
– В чем дело, куколка?
Она попросила, чтобы он ушел. Он хлопал ресницами и все еще улыбался. Она настаивала и расплакалась.
– Куда мне уходить? – спросил он.
Она лишь трясла головой и повторяла:
– Уходи, я хочу побыть одна.
– Сука, – сказал он на прощание.
Она проснулась ночью от странного звука. Хлопанье – так хлопает по воздуху веер или что-то подобное. И еще шорох, будто истерзанные артритом пальцы перебирают семечки, цепляя длинными ногтями дно коробки. И еще легкое позвякивание, какое бывает, когда искривленные спицы стучат друг о друга.
Инна распахнула глаза.
Они были здесь, в ее комнате.
Они сидели прямо на изножье дивана, цепляясь задними лапами за поверхность, как могут сидеть лишь животные.
Старуха со спицами посмотрела на девушку хищно, из-за диоптрий казалось, что у нее восемь глаз разного размера. Обрамляющие ее рот отростки-хелицеры зашевелились. С них капала густая ядовитая смола.
– Слыхали, – проворковала старуха. – Инка-шалава в Москву переехала. С тремя мужиками крутила, всех троих бросила.
– А то! – сказала, щелкая изогнутым клювом, старуха с кондором. – Три аборта, а ей все мало, ничему не учится.
Средняя молчала, низко опустив голову, лишь шуршали в семечках ее лапки.
– У отца ее рак, отец гниет, – продолжала первая старуха, поглаживая ногощупальцами свое покрытое бородавками брюшко. – Она отца бросила, она на похороны к нему не приедет.
– Никого не любит, кроме себя, – подтвердила старуха с кондором. – Шалава…
– Ложь, ложь! – закричала Инна что было сил.
И проснулась.
По дороге на работу она сделала две покупки: дешевенький MP-3 плеер и газету с объявлениями. Квартира в Раменском стоила намного дороже той, что она снимала сейчас, но решение уже было принято. Она съедет отсюда, пока окончательно не сошла с ума. Здесь творится что-то странное, что-то, в чем не нужно разбираться, от чего следует просто бежать.
– Емельянинов про тебя слухи распускает, – сообщила ей напарница. – Что, мол, ты того, с приветом.
– Мне плевать, – отрезала она.
– Смотри, до начальства дойдет, могут и уволить.
Инна задумалась и произнесла:
– А ты знала, что у него ВИЧ?
Три поп-хита сменились в ее ушах, пока она шла от вокзала к своему двору.
«Он больше не мой, – напомнила она себе. – Это последняя ночь здесь, завтра я буду жить в новом месте».
Она включила звук в плеере на полную громкость. Музыкальный блок сменила радиопередача.
– Привет, привет, привет! – загрохотал голосистый диджей. – Сегодня в студию мы пригласили троих прекрасных гостей. Вернее гостий! Кто может знать о ситуации в России больше, чем те, кто старше самой России! Да что там России, они ровесницы планеты Цереры, а это, на секундочку, старше Аллы Пугачевой и даже Луны! Поверьте, они лишились девственности, когда древние платформы еще только собирались объединяться в материк Лавразию! Шучу-шучу, они до сих пор девственницы!
Не обращая внимания на словесный понос ведущего, Инна шагала по двору. Деревянный чебурашка проводил ее безжизненным взглядом.
«Не смотреть в их сторону, – прошептала она про себя. – Ни за что не смотреть…»
И тут она услышала их голоса. Прямо из наушников, из радио, четкие, перебивающие друг друга:
– Мор… Чума… Язвы на трупиках, язвы и волдыри…
– Война, они опробовали новое оружие, которое мгновенно убивает яичники…
– А Алик из пятого задавил жену… расчленил в ванной… на глазах детей лобзиком… Соленья делал…
– Привез жене шубу из заграницы… Паук отложил яйца в ее ушах…
– Автомобильная катастрофа… Весь класс как один…
– Заживо сгорел при запуске ракеты…
– В брачную ночь отравились газом…
– Рак…
– Саркома…
– Смерть…
Инна завизжала и сорвала с себя наушники. Они полетели на асфальт, словно свившиеся гадюки с двумя капельками крови на динамиках.
Инна подняла полный ужаса взгляд.
Лавочка стояла возле подъездных дверей, преграждая путь.
И они, конечно, они были там: звенящие спицы, хлопающее опахало из каштановых листьев, шорох семечек. Глаза, которые срывают с тебя одежду, проникают под кожу извивающимися червями, смотрят, что у тебя там. И видят все.
Инна бросилась прочь, не задумываясь, теряя туфли, во тьму, назад, подальше от них, на последнюю электричку, успеть, успеть, успеть…
Старуха с кондором и старуха со спицами смотрели ей вслед, обвиняюще хмурясь.
А та, что сидела посредине, ее звали Мать Крыса, открыла беззубый рот, и из него потоком хлынули косточки. В основном мелкие, но были и крупнее: осколки ключиц, кусочки черепов. Кости падали в картонную коробку, отскакивали на асфальт со стуком. Наконец поток иссяк.
Старуха поднесла к лицу скрюченную руку и засунула пальцы себе в рот. Так глубоко, словно хотела пощупать желудок. Ее тощее гусиное горло вспухло, кисть полностью исчезла за впавшими губами. Отыскав что-то внутри, женщина вытащила руку. Нити слюны тянулись за ней, в пальцах была зажата крошечная белая косточка.
Две другие старухи уважительно молчали, ожидая.
Некоторое время Мать Крыса обнюхивала находку. Ее лицо, черное, как обгоревшая древесная кора, поднялось к ночному небу. Веки разлепились, и укутанные в бельма глаза посмотрели в пустоту.
– Слышали, – сказала старуха, – Инку-шалаву собаки загрызли. Три черных суки. Изорвали в клочья и лицо ей поели, а внутренности по всему пустырю разнесли. А у одной суки детки родились, и у щенка на боку пятно в виде крестика.
На том старуха устало уронила голову на грудь и зашелестела пальцами в коробке.
Старуха со спицами многозначительно фыркнула и вернулась к вязанию, а та, что обмахивала себя веткой, задумчиво поглядела на небо.
Голая луна мерцала над крышами пятиэтажек. Ветер увел стадо туч на север, в сторону Москвы.
Яма на дне колодца
Не нужно эпитафий. Я уйду так, словно меня никогда и не было на этом свете. Без почестей и ружейных залпов. Кричать не стану, хотя те, кто выжил, наверняка попытаются меня заставить.
Ворошу угли штакетиной.
Они едва теплые, умирающие.
Только в самых крупных из них, будто в драгоценностях, светится внутри что-то алое, летне-закатное. Пройдет еще полчаса, и вставшее солнце не позволит разглядеть их пульсирующую начинку.
Я ворошу воспоминания. Столь же стремительно холодеющие, но еще не потерявшие былого жара.
Костюм насквозь пропитан дымом. Он въелся в мои волосы, кожу, налип на слизистую глаз, забился под ногти, застрял меж зубов, клещом забрался в царапины. Втягивая противоречивые запахи сгоревшей древесины и ядовитого пластика, я вспоминаю.
Стена отчужденности, хранившая дом на протяжении черт знает скольких лет, улетучивается. Едва заметной перламутровой спиралью ввинчивается в дымные столбы. Впитывается в красные пористые кирпичи замкового забора. Трескается со звоном колокольчиков. Тает.
Значит, скоро приедут пожарные расчеты. Полиция. Машины «Скорой помощи». К тому времени, надеюсь, я потеряю последние силы и уже буду мертв.
Бреду по пожарищу. Ощущаю себя дрезденцем, выжившим после сокрушительно-затяжной бомбежки союзников. Пейзаж располагает к такого рода сравнениям. Не хватает лишь угольных, оплавленных по краям воронок. Но что-то подсказывает мне, что скоро здесь будет одна большая воронка.
Потому что сибирская земля обязательно разверзнется. Как в рассказе Эдгара По. Как с оранжевой цистерной. Заглотит протухший кусок реальности, как сом набрасывается на мясную приманку. И отныне городу будет нечего бояться.
Колосс разрушен. Значит, иммунная система привычного мира наверняка постарается как можно скорее избавиться от опухоли.
Утянет ли она выживших, если таковые есть?
Сарай, в котором мы хранили садовый инвентарь, а я нашел свою «золотую дозу», еще пышет сухим и обжигающим. Здесь воняет кипящим маслом для газонокосилок. С протяжным ревом догорают мешки удобрений. Обхожу сарай по широкой дуге, чувствуя на лице злые прикосновения огня.
Пиджак, рваный и изъязвленный в сотне мест, нагревается так, словно вот-вот вспыхнет древним пергаментом. Улыбаюсь и возвращаюсь к парадному крыльцу. Опираюсь на занозистую штакетину, словно сказочный странник.
Ощущаю себя архитектором деструкции. Высшим чином тайного незримого ордена, о котором мне рассказал старший лакей.
Я – не способный разглядеть очарование парящего орла или обнаженного девичьего бедра – в кои-то веки вижу настоящую красоту. Вижу. Впитываю, словно моя заскорузлая окровавленная рубаха, дым. Стараюсь зафиксировать мгновение, не упускать его.
Красота повсюду. В черных обколотых колоннах каминных труб, сиротливо оставшихся без стен. В спекшихся бесформенных комках, еще вечером бывших домашней электроникой, игрушками, одеждой и стеновыми панелями. В обвалившихся кухонных столах, чьи тяжелые каменные плиты треснули причудливым узором. Из подвала все еще тянет горелым мясом, и я понимаю, что это отнюдь не испорченный ростбиф…
Возбуждение уходит. Я остаюсь наедине со страхом, ошалелым осознанием сделанного и медно-кислым предчувствием конца. Неизбежного. Так и не уверовав, что работа исполнена и все позади.
Вдруг лишаюсь контроля над ногами и тяжело опускаюсь на колени. Прямо в черную, еще теплую массу, грязную и болотно-липкую. Поднимаю исчерченное сажей лицо к рассветному небу, словно жду, что оно заговорит со мной. Понимаю, сколь глупы и безосновательны подобные ожидания, и снова улыбаюсь…
Человек на руинах. Одиночка на пепелище. Невидимка среди двухмиллионного города.
Кто я такой? Четыре с половиной месяца назад, когда все началось, я не мог ответить на этот вопрос.
Не могу и сейчас…
Меня зовут Никто.
Подобно Одиссею, я вошел в пещеру к циклопам. И проиграл.
Жизнь – с большой вероятностью. Душу – почти наверняка.
Искупления не случилось. Груз ужасного пожара не смог утяжелить перо богини Маат, и будущее по-прежнему туманно. Еще час назад, глядя на прожорливый огонь – своего сумасбродного, капризного и жадного ребенка, – я предполагал, что этот мужской поступок хоть как-то искупит все недоброе, что я сделал в жизни.
Теперь, глядя на смерть зверя с тысячами багряных плавников, я уже не уверен в этом.
Я всегда был никем.
Мне никогда не хватало смелости, подобно одноглазому Одину, признать, что я бросал руны раздора меж мужами и соблазнял чужих жен. Обманывал, воровал и втирался в доверие. Крал, избивал, угрожал, ходил по лезвию ножа и отплясывал на игле шприца. Льстил, трусливо заискивал и прелюбодействовал без оглядки.
Наблюдая, как в восточном крыле перекрытия подвала проседают на минус второй этаж, я отдаю себе отчет, что хорошим человеком меня могла назвать только мама…
Жду, что небо подаст мне знак. Сообщит, что миссия выполнена. Попытка зачлась. Начинание замечено, и отныне судьба станет благосклонна.
Небо молчит, и лишь трещат в сердцевине пожара раскалывающиеся балки и каминные трубы великолепного дома. Лишь долетают издали, будто бы с другой планеты, сирены пожарных экипажей. Стонут зубастые стены, перемоловшие не одну невинную жизнь. Невинную? А поглощал ли особняк невинных?
В пачкающемся месиве я замечаю что-то блестящее. Перехватываю посох-штакетину, с чавканьем вгоняю в грязь, замешенную на золе, пепле и крови. Подцепляю и выдергиваю под око рассвета жестяной портсигар Чумакова. Смятый, пустой, раскрытый, словно рот умирающего в агонии.
Жалею ли я этого ублюдка? Достоин ли он ужасной участи хозяев? Пожалуй, достоин.
Мои губы кривятся, когда я представляю, как огонь заживо пожирал Чуму.
Не судите, да не судимы будете? Теперь это определенно не про меня…
Воспоминания тлеют, обжигая сознание.
Смотрю на кованые ворота, запертые изнутри. И снова проживаю события последних месяцев. Надлом в душе начинает кровоточить, как свежий. По моей черно-серой щеке бежит слеза.
Если бы я мог что-то изменить, пошел бы на это?
Земля под ногами вздрагивает, напоминая о городе вокруг. Напоминая о лошадях, карликах, исчезнувших казахах, отражениях в зеркале и игрушках без батареек, ротвейлерах и энтропии. И я понимаю, что нет…
Асфальт дает мне силы.
Шкура большого города. Топать по ней – будто взбираться на спину поверженного Левиафана. Приятно и волнительно. Каждый шаг отдается в теле новым импульсом, заставляя, умоляя, подталкивая сделать следующий.
Проверял не раз: двадцать минут прогулки по земле, траве или щебневой обочине автотрассы, и я устаю, словно столетний старик. По асфальту же могу проткнуть мегаполис от корки до корки. Буду идти, пока не сносятся бронзовые башмаки. Пульс города дает мне силы.
Я иду. Возвращаюсь в место, с которого все началось. В родные пенаты. В свою персональную Итаку, в Шир, в Амбер – средоточие воспоминаний и клыкастых демонов Мнемозины. В колыбель, выплюнувшую меня в лицо злому миру с его вселенской несправедливостью, фобиями, вредными привычками, опасностями и маленькими радостями.
Слева, до сих пор скованное коркой льда, раскинулось море. Сверкает на солнце гигантской фарфоровой тарелкой. Острова вдали похожи на заплесневелые остатки великанской трапезы. Конечно, любой краснодарец в лицо плюнет при такой оценке водохранилища, пусть даже столь большого. Но для новосибирцев Обское всегда было морем. Своим, карманным, затхлым и загаженным. Но морем.
На улице теплеет с каждым днем.
Мне, собственно, все равно. Но возможность уже завтра снять насквозь пропотевший шарф греет душу. Греет приближением лета? Нет, вряд ли. Я давно не умею радоваться смене сезонов.
Обочина дороги хлюпает в такт моим шагам. От пролетающих мимо машин летят комки склизкой слякоти. Левая штанина до бедра покрыта шрапнелью грязевых брызг. Иду не по встречке, бессовестно нарушая правила пешеходов, но все еще надеясь, что меня подберут и добросят до Речного…
Раздается рев мотора, затем по серой ленте ускользает капсула зализанного седана. Новый взрыв грязи, новая порция клякс на потертой джинсовой ткани. Надежда тает. Замухрышек не подбирают, можно испачкать салон.
Ничего. Я дойду. Асфальт придает мне сил.
Когда чувствую, что начинаю сдавать, смещаюсь чуть левее. Пренебрегая правилами элементарной безопасности, шагаю по трассе. За спиной рычат машины вечно недовольных своей жизнью россиян.
Дорога змеей, апрельское солнце в лицо.
Скоро вечер, а я еще не решил, где ночевать.
Вхожу на Шлюз. Не по дуге, следуя автомобильной дорогой – напрямик, через дворы. Давно тут не был. Почти ничего не поменялось, только наверняка исчезли утки и виднеются ближе к волноломам кресты крохотной церквушки.
Нестерпимо пахнет весной, талым снегом и бензином.
Там, где сугробы эволюционировали в лужи, плавает веселенькая пленка всех цветов радуги. Забрызгав ботинки и штанину, напиваюсь из колонки. Та скрипит, стонет, вопит на весь двор, но напор дает. Удивлен, что их еще не посносили. Удивлен, что именно эта действует и не замерзла.
Наполняю невыносимо ледяной водой «полторашку» из-под «Касмалинской».
Скидываю рюкзак, сажусь передохнуть на прохладный бетонный блок – импровизированную баррикаду от негодяев, намеревающихся проникнуть во двор многоэтажки и бросить там машину на ночь. Со смаком закуриваю одну из трех оставшихся сигарет. Дымлю не часто, но в удовольствие.
Голову кружит, я голоден, устал и почти счастлив. В такие моменты начинает казаться, что я не совсем пропащий человек. Есть и хуже.
Тут-то на бетонную чушку и подсаживается паренек.
Такой же горемыка, как и я. Лет тринадцати на вид. Но это только на вид, если в глаза не заглядывать. А там… Я отвожу взгляд. Вспоминаю, как лет шесть назад подрабатывал в больнице Горно-Алтайска. Был там один дед, ветеран Великой Отечественной. Матерый, иссеченный морщинами, суровый и крепкий, но уже подкошенный близкой смертью. Многое повидал дед этот. Рассказывать не любил. Но уж если и вспоминал войну, то только кровь и жестокость. Без соплей и сантиментов.
Кошусь на парнишку, сидящего рядом. И понимаю, что у него точно такие же глаза. Глаза человека, научившегося смотреть сквозь грани мультивселенной. Увидевшего нечто, не доступное описанию.
Он просит сигарету. Я делюсь, несмотря на скудность запасов.
В нашей доле нельзя не поделиться.
Рассматриваю его поношенные тряпки, дырявую лыжную шапку. Даю прикурить и не спешу донимать расспросами. Он запанибратски благодарит и сообщает, что у него есть история, от которой в Голливуде точно свихнутся.
Пожимаю плечами, готовясь выслушать. Невольно вспоминаю Форреста Гампа. Не фильм, хоть и тот неплох, но исходную книгу Уинстона Грума, где обдолбанный Форрест травит свои занятные байки…
Да, я читаю. Много и разное. Сержант Пэ – отмороженный барнаулец, в свое время научивший меня делать уколы между пальцами ног, – пафосно называл наш круг общения «прогрессивными психонавтами». Хиппи XXI века, пытающимися расширить границы сознания и избежать тисков системы. Конечно, это были пустые оправдания собственных слабостей. Но какое-то время я тоже считал себя «прогрессивным». А потому читал.
Именно это удержало меня от передоза и вечного забвения. От тюрьмы, из которой не возвращаются. От нашествия легионов душевных мук. Сейчас это удерживает от падения. Не знаю, куда… да и есть ли куда дальше? Но ощущаю – есть.
И потому держусь за книги.
Обыватель подавится утренней кашей, если выяснит, как много их можно найти на свалках и дворовых мусорках возле подъездов. Старые издания, новые издания. С вырванными страницами, следами от подошв на обложках, рваными переплетами. Люди больше не берегут книги. Выбрасывают, будто фантики от съеденных конфет. Платон, Джеймс, Кант, Толкиен, Хокинг, Кристи, Дюма и Леонард. Многие другие. Я искренне радуюсь новому знакомству. Искренне огорчаюсь расставанию: с моим образом жизни большой багаж – недопустимая обуза.
Сейчас в рюкзаке «Волшебник Земноморья». Издание старое, отвратительного перевода, но, слушая шлюзовского парнишку, я отчего-то сразу вспоминаю про настоящую магию и природу вещей. И солнечный свет становится бледнее. Стараюсь не подавать виду, курю и слушаю.
Он говорит без умолку минут двадцать. Кругом ходят люди, у которых один наш облик вызывает приступы брезгливости и тошноты. Нам плевать. Мы мерзнем, но делаем вид, что обоим хорошо.
Паренек говорит. В его истории есть существа, пьющие кровь. Есть существа, один взгляд которых может довести до безумия. Есть смельчаки, охотящиеся на этих существ. И есть любовь, от которой стекленеют вены. Есть измены, предательства и разбросанные по снегу кишки. По словам парнишки, события произошли здесь, на Шлюзе, несколько лет назад. Действительно произошли.
Вежливо киваю.
Нельзя понять, поверил ли я, или просто соглашаюсь с его точкой зрения.
Такие, как мы с этим подростком, крайне непредсказуемы. Можем обидеться в мгновение ока. Достать заточку. Или кастет. Никто не станет оплакивать меня, подрезанного за неуважение к рассказчику. О том, что во дворе валяется жмурик, в полиции узнают только утром…
Парнишку мой жест удовлетворяет.
Внутренне я соглашаюсь, что на одной из граней необъятного количества реальностей такое действительно могло произойти. Отдаю ему пачку с последней сигаретой. Местный бродяжка не благодарит, лишь чуть склоняет голову.
– Если что и очищает, то это огонь, – говорит он и растворяется в наступающем вечере. – Но его жар не всегда достаточно силен…
Вспоминаю эту фразу позже. Значительно позже. Стоя на коленях посреди адского костровища на месте дома, в котором прожил до конца лета.
Я захочу быть прощен. Но о прощении – не сейчас.
Найти временную подработку все труднее.
Устроиться помогает умение разумно излагать свои мысли и отсутствие тяги к бутылке. Мешают гастарбайтеры. Не знаю уж, легальные или нет, но они сейчас везде. А если казахам, узбекам или таджикам перебежать дорогу, то можно проснуться в канаве с отверткой в боку.
Теперь это их город. Город анаши и насвая.
Город азиатского рокотания, все чаще заглушающего русскую речь. Теперь это их подряды на чистку улиц, строительство домов, работу грузчиком, ассенизатором, курьером, кондуктором или водителем троллейбуса.
В свары не лезу. Если вижу, что теплое место занято, просто ухожу искать другое.
Рук не опускаю, пояс подтягиваю все туже.
Тем не менее на Шлюзе я провожу две ночи.
Сначала подменяю заболевшего грузчика в крупном продуктовом магазине. Некстати заболевшего, с точки зрения директора магазина, и совсем кстати – с моей. Работаю быстро и исполнительно, на брань не реагирую, ничего не ворую, стараюсь поменьше говорить.
Постоянный персонал косится, шепчется, сплетничает. Познавшие жизнь пухлотелые кассирши обсуждают, как тридцатилетнего парня угораздило упасть так низко. Но не гонят и даже угощают домашними пирожками.
Сплю в конуре, где хранятся разобранные картонные коробки, сложенные неустойчивыми стопками. Почти не мерзну и даже немного читаю при слабом свете из дверей.
На вторую ночь остаюсь в частном доме на самом выезде из микрорайона.
Бабка и дед иссушены так, что их может запросто снести сильным порывом ветра. Но упорно лезут в огород, разбрасывая лопатами непрошибаемо-лежалые сугробы и собирая ветвистый мусор.
Предлагаю помочь.
Сначала меня пытаются прогнать. Затем просто ворчат. Я не отступаю.
– Раскидаю снег, соберу мусор и сожгу, – предлагаю я. – Дадите, сколько сможете.
– Нисколько не сможем, – отвечают мне. – У самих денег нет.
Все равно помогаю, сам не особенно понимая, почему. Просто беру грабли и начинаю работать, а дед не спешит поднимать чужака на вилы. За помощь меня кормят макаронами с тушенкой. В консервах почти нет мяса – одна соя, комковатый жир и говяжья шкура, но я ем с аппетитом. Потом моюсь в старой, рассохшейся и покосившейся баньке без электричества. Чищу джинсы и куртку.
Частный сектор окружают многоэтажки. Тесно, кольцом, нависая. Старые панельки и новые кирпичные с просторными квартирами, позволить которую себе может только избранный.
Стоя на крыльце умирающего дома, я смотрю на россыпи ярких окон и мечтаю о собственном жилье. Чувствую себя обнаженным, чувствую себя под прицелом снайпера. Два десятка дворов отлично просматриваются с верхних этажей. В считаных метрах шумит автомобильная дорога.
В очередной раз поражаюсь упорству людей, держащихся за свою землю. Пусть даже насквозь пропитанную выхлопными газами, с тоннами канцерогенов, оседающих в побегах картошки и моркови. Точно знаю, что ядовитый урожай старики сами есть не станут. Продадут на микрорынке доверчивым горожанам, а сами купят нормальных овощей. Впрочем, нормальных ли? Китайским фермерам в новосибирских теплицах плевать, чем будут травиться их покупатели, лишь бы огурец набирал размер…
Утром помогаю поправить стену заваливающегося набок сарая.
За это со мной расплачиваются двумя жареными яйцами и ломтем черного хлеба. Еще суровые и неприветливые вчера, сегодня старики провожают меня едва ли не со слезами. Настойчиво и трогательно пытаются всучить сто рублей. Я наотрез отказываюсь и ухожу.
До города добираюсь долго.
В маршрутку к частным перевозчикам без денег не сядешь, их алчность жалостью не пробить. Да и просить не люблю. Заработанное в магазине берегу на продукты.
Жду муниципальный транспорт, а ходит он нечасто. Сажусь. Честно говорю кондуктору, что денег нет, извиняюсь. Она дородная женщина с бородавкой на щеке. В ее рыбьих глазах – рост цен на тарифы ЖКХ, скорый выпускной у сына и жалость по ушедшему к молодухе мужу. С полным отсутствием эмоций тетка высаживает меня на следующей остановке. Следующая – добрее. Вздыхает, машет рукой. Придирчиво осматривает одежду, не испачкаю ли пассажиров.
– Совести у вас нет, – тихо говорит она.
Качает головой и уходит обслуживать клиентов, потеряв ко мне всякий интерес.
Речной встречает суетой, от которой я отвык.
Окунаюсь в нее, как пересекший пустыню бросается в оазис. Рассматриваю прохожих, восхищаюсь красивыми дорогими машинами, старательно огибаю ленивые полицейские патрули.
Солнца почти нет, сегодня его укутали облака. Лужи схватились хрустким льдом. Я радуюсь вылетающему изо рта пару, словно ребенок. Пытаюсь выдувать колечки. Ухожу вверх по Восходу, никуда не спеша и предаваясь воспоминаниям.
Асфальт дает силы идти без оглядки.
Впав в пешеходный транс, я оставляю за спиной один район за другим. Любуюсь яркими витринами бутиков и кофейнями, куда мне вход заказан. Примечаю местных бездомных, попрошаек, деловых на тонированных «девятках», цыган и мусорки. Резиновые молотки подошв вбивают в плоть Новосибирска гвозди моей судьбы. Я не верю в предназначение, но слепо подчиняюсь силе, влекущей меня вперед.
Миную «Глобус» со стеклянным шариком-кофейней по соседству. Светло-серый дом-парусник смотрит на прохожих знакомыми круглыми окнами-иллюминаторами. Когда-то они оставили у маленького Дениски впечатление куда более яркое, чем спектакли, идущие на сценах театра.
Площадь Ленина обхожу дворами и закоулками, там слишком много патрулей. Возле одной из кофеен замечаю девушку с бумажным стаканом. Она садится в дорогую иномарку, одновременно тараторя по телефону, и оставляет напиток на бетонном парапете. Дождавшись, пока забывчивая уедет, наслаждаюсь настоящим капучино с корицей.
Затем греюсь в павильонах Центрального рынка.
Умудряюсь стащить с прилавков несколько яблок, безвкусных и надраенных парафином. Подработку никто не предлагает. Местные бомжи косятся злобно, почуяв возможного конкурента. Напитавшись запахами сухофруктов, специй, орехов и заветренного сырого мяса, покидаю торговые ряды.
Бреду на восток.
Выхожу на Ипподромскую, шокированный тем, как все изменилось за время моего отсутствия.
Прорываясь сквозь весеннюю слякоть, город рычит и барахтается, решая повседневные проблемы. Ему кажется, что в их решении кроется тайна настоящей жизни. Смысл существования. Бытие.
Бездумно, пытаясь интуитивно определить место ночевки, сворачиваю на север.
В районе Плехановского жилмассива бродягу пытаются остановить двое «четких пацанчиков». Моложе меня, сильнее меня. Но столь же опустошенных наркотиками и бухлом. Может, для того, чтобы ограбить. Может, просто хотят поиздеваться.
Я почти не умею драться. Но если приходится, делаю это с обреченностью загнанного животного. Спросите у шрамов на моем боку. Спросите у пулевого отверстия в плече. Спросите у левой руки, покрытой сеткой ножевых отметин.
Гопники что-то понимают. Может быть, расшифровывают в глазах.
Инстинкты этих зверей развиты необычайно остро. Парочка сдвигает кепки, напяленные не по сезону, на бритые затылки. Презрительно сплевывает на грязный тротуар под мои ноги, но отстает.
– Человеческая гниль, мля, – бормочет тот, что повыше. – Давить таких надо…
Уходят быстро, и я знаю, что если задержусь на их территории, избиения не миновать. Слышал немало историй, когда нашего брата запинывали до смерти просто забавы ради. И даже заживо сжигали…
Сворачиваю в частный сектор.
Где-то на его дальнем конце район должен быть отсечен Ельцовкой. Осталось ли от речки хоть что-то?
Как и все вокруг, «нахаловка» изменилась – почти не сохранилось стареньких бревенчатых домов, больше напоминающих советские дачи. На их месте встали кирпичные домики, напрочь лишенные вкуса. На первых этажах многих построек – шиномонтажки; где-то заметны объявления о саунах и даже гостиницах. Примерно в таком районе я впервые попробовал жареху. Нюхнул клея. Неумело, сонно и болезненно стащил девичьи трусики.
До Гусинобродской барахолки далеко, но я рассчитываю найти цыган и здесь.
Если повезет, получу временную работу. Бегунки зарабатывают немало, вполне сопоставимо с риском. На него я готов.
Сердце все еще стучит после встречи с дворовой шпаной. Улицы, никогда не видевшие асфальта, изгибаются. Грязевыми каньонами заманивают меня все глубже и глубже. Отсекают шум машин, погружают в атмосферу уединения и микромира.
Я в глухой деревне самого сердца сибирской столицы.
Сюда с трудом пробираются врачи. Сюда почти не заглядывают участковые. Депутаты не заходят в эти края даже во время избирательных кампаний.
За заборами надрываются разномастные псы. Апрель напоминает, что он отнюдь не летний месяц, ударив шквальным ветром. На столбах и крышах пророчествуют пепельные вороны. Я вспоминаю недавнюю жизнь на Алтае, где мне приходилось рогаткой бить этих дурных птиц, чтобы сварить себе котелок похлебки. Я вспоминаю Алену, и мне вдруг становится очень плохо.
Нет, не от потерянной любви. Такие, как я, в полной мере отдают себе отчет, что любовь – удел сытых. Но что-то накатывает, вгрызаясь в душу. На фоне усталости я не замечаю, что это было предчувствие…
Останавливаюсь, перебирая месяцы ушедшей зимы, словно четки.
Мысли похожи на камни, покрытые болотной тиной. Тяжелые, дурно пахнущие, покрытые скользкой пленкой – выскальзывают из рук, не дают себя рассмотреть. Закуриваю, пряча пачку в желудке старого рюкзака. Прислоняюсь к щербатому бетонному столбу и смотрю на скособоченные хибары.
В этот момент я и замечаю дом. Нет, не так… Я замечаю Дом.
Разворачиваюсь и ухожу дальше, выискивая притон или брошенный сруб, в котором можно переночевать. Но так я поступаю в иной истории. Более счастливой и легкой…
Курю крепкий «ЛД» и смотрю на Дом. Он выделяется среди остальных построек примерно так же, как дирижер Оперного театра среди плехановских пацанчиков. Стройный, четырехэтажный, он отчетливо напоминает средневековый замок.
Башенки увенчаны острыми зелеными черепичными крышами. Бельмами слепых глаз в низкое весеннее небо таращатся диски спутниковых антенн. Темно-оранжевые кирпичные стены покрыты сухими плетями плюща. Окна узки и зарешечены даже на самых верхних этажах. Территория обнесена багровым забором – неприступным, метра четыре ввысь, да еще и с крохотными железными пиками поверху. Перед воротами пятак заасфальтированного подъезда. На створках кованые завитки и цветочки.
Подворье огромно, это заметно по длиннющему забору, квадратом опоясывающему минимум сорок соток земли. Наверняка за ним расположены гаражи, сараи, летние беседки и постройки для прислуги. Да, у такого дома просто обязана быть прислуга. Силами одной семьи, даже цыганской, столь масштабное хозяйство не вытянуть.
Словно супергерой из комикса, я смотрю сквозь камни ограды. Вижу щебневую подъездную аллею, живые изгороди, еще мерзлые и покрытые шапками снега. Фонарные столбы, перила балконов, уютный сад на южной стороне поместья.
Особняк отличает вкус, изысканный и тонко-выверенный.
Человек, построивший такое, не пожалел ни времени, ни сил, ни денег. Вот только место выбрал странное. Столь царственные коттеджи привычнее видеть в новых поселках, где сосед зарабатывает как минимум не меньше тебя. Там, где живут чиновники, бизнесмены и другие бонзы, привыкшие распоряжаться жизнью, словно она создана только в их усладу. Возможно, тут действительно обитает цыганская семья. А может, и не одна. Торгует наркотой, «держит» округу. Хотя бароны обычно склонны к вычурной лепнине, богатой безвкусной роскоши, аляповатости и китчу. Этого о Доме сказать никак нельзя…
Странное дело… Я вдруг замечаю, что особняк ничем не выделяется на фоне неказистого окружения. Он будто теряется среди развалюх. Невидимый великан среди уродливых карликов. Позволяющий обратить на себя внимание, только когда сам этого пожелает. Кажется, что его тут и вовсе нет…
Догоревшая сигарета начинает вонять паленым фильтром, обжигает пальцы. Бросаю ее в комья закостеневшей грязи, привычно растаптывая. Я удивлен собственным чувствам. Удивлен тому, как сильно дом приковал мое внимание.
Обыкновенно я не такой. Не умею различать красоту, стиль или очарование.
Смотрю на людей, но вижу лишь старение и болезни, дурновкусие в одежде. Смотрю на машины, но вижу только грязь на колесах и ржавчину кузовов. Смотрю на самолет и завороженно подсчитываю его шансы упасть на город. В картинах древних художников вижу только растрескавшуюся краску, пыль и разложение. В любых постройках – трещины, рассохшуюся штукатурку и кривизну стен. В образах еды мне приходят лишние углеводы, холестерин и калории, полное отсутствие вкуса. Я всю сознательную жизнь бегу от красоты…
Но особняк иной. Он заставляет увидеть. Он позволяет увидеть.
Совсем не сразу я замечаю человека у ворот. Это парнишка лет на десять моложе меня. Курит, с хозяйским видом привалившись к калитке в массивной железной створке. Впрочем, одного взгляда на него хватает, чтобы понять – сигареты, наркотики и алкоголь перекроили лицо, лишив настоящего возраста.
– Эй, бродяга, работа нужна? – спрашивает напрямую.
Я соображаю, что последние пять минут он изучает меня с противоположной стороны улицы.
– Что делать? – интересуюсь в ответ.
Ветер забирается под воротник, колет и кусает.
Не спешу двигаться с места. У богатых людей, живущих за высокими каменными стенами, бывают весьма своеобразные причуды. Задумываюсь. На органы я давно не годен. Но проституткой не стану, даже если начну подыхать от голода…
Парнишка отлепляется от створки, и я сразу замечаю, какой он угловатый и дерганый. Словно под одежду напихали металлической стружки. Или натерли кожу строительной стекловатой.
Смотрю, присматриваюсь. Нос ломаный, глаза бегают, лицо бледное, и это не от мороза. Тут не обошлось без коктейля. «Винт», курительные смеси, химический пластилин. Ломки, как таковой, уже нет. Но эфедриновый кукловод продолжает дергать за ниточки, управляя телом парня.
– Поденная работа, – сообщает тот с гордым видом, и я понимаю, что он такой же наемник. – Уборка мусора, строительные работы, ремонт, рытье канав. Бассейн, нах, вычистить нужно. Тут делов хватает, не сомневайся. В садовничестве смыслишь?
– Доводилось. – Я чувствую, что настроение улучшается. Дом за оградой всем своим видом намекает, что платить здесь будут больше, чем на Хилокском рынке.
– Бухаешь? Тут запрещено…
– В завязке.
– Красава, нах. Употребляешь.
Это даже не вопрос, это констатация, требующая официального подтверждения.
– Сейчас – нет. Ты здесь за прораба?
Вопрос вызывает у паренька приступ невольного смеха. Колкого, неровного, ребристого смеха.
Качает головой в сторону особняка.
– Не-е, нах такое счастье, – тянет вяло, скрывая злость, – за старшего у нас Эдик. Меня узнать послал.
Осматриваю дом в поисках видеокамер. Они скрыты, я не обнаруживаю ни одной.
– Давно тут? – Прощупываю скрытые рифы фарватера.
– Второй месяц, – сообщает дерганый, с гордостью улыбаясь. – Сорок дней, как «сухой». В тепле и сытый. Платят норм. Так что, нах, будешь харю кривить или согласен?
Я согласен. Конечно, согласен. В моих условиях не «кривят, нах, харю». В моих условиях сами умоляют о поденной работе, способной наполнить карман хотя бы парой сотен рублей.
Пересекаю улицу, отмечая ее полную безлюдность.
– Пашок, – представляется парнишка, открывая калитку.
Жму его слабую тощую кисть. Прохожу в ворота, не замечая, что кованые цветки и завиточки на их поверхности в действительности – эмоциональные греческие маскароны и переплетения змей.
Отрабатываю предстоящий ужин.
Разбираю немыслимую гору досок, дверей и старых оконных рам, сортируя мусор в три разные кучи. Темнеет. Двор наполнен абсолютной, нереально-вязкой тишиной, в которой стесняется подвывать даже ветер. На четвертом этаже, под одной из островерхих крыш, зажигаются два окна.
Я вспотел, утомлен, хочу есть и курить. Но доволен.
Поверх синтепоновой ветровки, приросшей к моему телу за половину ушедшей зимы, – рабочая куртка-спецовка с капюшоном. Совершенно новая, плотная, но не жаркая. Со светоотражающими полосами на спине и рукавах. Как у настоящего рабочего в настоящей бригаде. Задумываюсь, позволят ли мне оставить одежду себе?
Такую же куртку носит и Пашок, набрасывая ее на крючок у калитки, когда выходит наружу. После облачения он запирает ворота на висячий замок, отводит меня на задний двор и без лишних прелюдий определяет фронт работ.
– Отработаешь на ужин, – говорит тощий, великодушно протягивает мне сигарету. Глаза сверкают в лихорадке мучительной завязки, но пальцы почти не дрожат. – А там поглядим…
Уходит, снабдив краткими инструкциями и необходимым инвентарем.
Я бросаю прелые доски в растущую кучу, чувствуя гнутые гвозди через плотную ткань строительных перчаток. Перекладываю битое стекло в другую. Ворочаю гниющие двери, стараясь не напороться на ржавый саморез.
Работа кажется довольно нелепой, и какое-то время я трачу на то, чтобы понять, какое именно строение было разобрано. Не нахожу ответа и продолжаю следовать распоряжениям дерганого. При этом постоянно оглядываясь на особняк. Не могу не смотреть. Он потрясает. Изгибами, очертаниями, томным прищуром бойниц. Приковывает взгляд с первой секунды знакомства…
Шаг назад…
Я внутри двора, оставляя «нахаловку» где-то в ином мире. Едва успевший осознать, какой прекрасный шанс заработать выпал мне совершенно случайно. Ошалелый, иду за Пашком от ворот. Чуть не сворачиваю шею, когда плитчатая дорожка изгибается и протыкает голую яблоневую рощу. Не могу наглядеться.
При внимательном изучении домище оказывается не цельнокаменным.
Часть башен, гармонично вплетенных в блоки трех казематов, действительно собраны из кирпича. Кирпичными же являются несколько каминных труб, прицелившихся в нависающий над городом апрель. Но хватает и бревен, и пенобетонных блоков, и дощатой облицовки. Из чего я делаю вывод, что строили не за один присест.
В доме не меньше двадцати комнат. Не меньше двух кухонь. Трех каминных залов. Пяти балконов. О том, что скрывает подвал, мне не хочется и думать.
Крыши одинакового изумрудного цвета, но черепица отличается по материалу и фактуре. Окна не пластиковые, как сейчас популярно, – использовано только настоящее дерево. Богатое и темное настолько, что кажется камнем. Проемы надежно охраняют витые железные решетки. Кое-где заметны витражи. Настоящие, ручной работы, такое можно определить даже снаружи.
Водосточные трубы жестяные, оцинкованные, пластиковые и даже латунные. На одном из коньков восседает крохотная гранитная горгулья, и я уверен, что найду в убранстве дома еще не одно аналогичное украшение. Заметен пандус на нулевой этаж и двойные гаражные ворота. Заметны запасные входы, их не менее двух. Архитектура центрального подъезда поражает изяществом и простотой, невольно напоминая особняки XIX века.
Вокруг замка сад. Яблони, клены, вишни.
Понурые, окоченевшие, еще не оттаявшие, но любовно закутанные в утепляющую ткань. Невысокие живые изгороди, сейчас похожие на валы из колючей проволоки. Они разгораживают пространство с лаконичностью и мастерством японского созерцателя, расчертившего сад камней.
Виднеется пустой бассейн под открытым небом. Беседка, наличие которой я подозревал. Сарай, грубый и крепкий. Одноэтажный дом, с равным успехом способный оказаться и летней кухней, и бараком для поденщиков…
Гора мусора, сортируемого мной, на фоне всего этого благолепия смотрится уродливой язвой. Артефактом иного, менее благополучного мирка. Пришельцем, которому тут не место. Искусственной инсталляцией, памятником бардаку среди умиротворения и достатка.
Продолжаю недоумевать, откуда она взялась. Продолжаю исправно откидывать доски и рамы, стараясь не пораниться. Не выходит – тонкий искривленный гвоздь впивается в мизинец правой руки, заставляя уронить груз. Тот грохочет, чуть не угодив по колену. Отскакиваю.
Ругаюсь, сдергиваю перчатку и присасываюсь к ране. Сплевываю. Бледно-розовая слюна пачкает грязно-серый снег газонов. Снова тяну кровь губами. Плюю. За время странствий мне довелось повидать немало людей, склеивших ласты от столбняка. Войти в их сонм я не желаю.
Словно реагируя на мою оплошность, из-за юго-западной башни появляется Пашок. Походка вороватого жигана. Из-под темно-синей вязаной шапочки выбился каштановый чуб. У него привычка облизывать десны, не разжимая губ, будто постоянно проверять, не застряло ли чего меж зубов. От этого и без того подвижное лицо ходит ходуном, строит гримасы, которых сам парнишка даже не замечает.
– Хорош на сегодня… – Оценивает рассортированный хлам с видом человека, мечтающего спалить всю эту гору к чертовой матери. – Пошли, нах, жрать… Кстати, тебя как звать-то?
– Денис, – отвечаю послушно, но для традиционного рукопожатия протягиваю левую ладонь – мизинец правой все еще на языке. – Кормежка за счет хозяев?
– А то, – ухмыляется Пашок и удаляется.
Иду за ним.
Он плут и наверняка преступник, но тут – почти старший, подаривший мне заработок. Вдруг осознаю, что на дворе уже стемнело, причем окончательно. На подъездной аллее зажглись сказочно-желтые фонари. Особняк вспыхнул десятком окон, изнутри доносилась едва слышная музыка.
Уютный одноэтажный дом – не барак для временных работников, скорее амбар.
Понимаю это, когда парнишка ныряет на неприметную лестницу главного строения, летом до абсолюта замаскированную свисающими косами плюща. Спускается по короткой лестнице, отпирает тяжелую подвальную дверь, пропускает внутрь. Понимаю, что провонял потом, отчего вдруг становится неуютно. Стены из светло-серых бетонных блоков принимают в свою утробу. Ведут коридором, ответвления которого прячутся в полумраке.
Во мне играет оркестр безразличия.
Душа, как намокший барабан, стучит гулко и пусто. Нервы – провисшие струны контрабаса. Сердце стало фаготом, исполняя вспомогательную партию. Где-то вдали жалобно пиликает скрипка предчувствия и тревоги. Ее перебивают саксофонные трели легкой поживы.
Мой мир – пустыня прозеванных возможностей. В полной тишине по ней караваном бредут перекати-поле упущенных моментов, нереализованных желаний и профуканных шансов.
Жалеть себя погано, но иногда я зацикливаюсь на этом. Моделирую, как могла бы повернуться моя жизнь, поступи я так, а не иначе. Не разругайся с любимой. Не пробуй наркотики. Не укради свою первую коробку обуви из магазина в соседнем дворе. Вовремя скажи «не уходи» вместо того, чтобы озлобленно замкнуться в себе и нервно курить одну за другой. Заметить взгляд человека, действительно нуждавшегося во мне.
Эту возможность я упускать не намерен. И сам загоняю себя в ловушку.
Вдруг понимаю, что работал без перерыва несколько часов.
Башмаки превратились в свинцовые гири, голова наполнилась жидким чугуном. Пять часов без перерывов и вопросов. Я послушен и исполнителен, как микроволновая печь.
Оба разуваемся у порога.
– Твоя койка, – говорит Пашок, и я возвращаюсь в собственное тело. – Пожри и спи.
Он стоит над простой и крепкой кроватью в темной просторной комнате. Тепло, немного душно. Лежак застелен старым, но недавно выстиранным бельем. Под ногами светло-зеленый ковролин, затертый, но чистый.
Чувствую, что, кроме меня, здесь есть кто-то еще. Не один – во мраке угадываются очертания других кроватей. Выставленных рядами, как в казарме. Слышу запахи человеческих тел, слышу шорохи, дыхание и пердеж. На нескольких койках неподвижные тюки из плоти и крови. Минимум четверо. Спят. Или делают вид, что спят.
Пашок зажигает крохотный ночник в изголовье.
Свет тусклый. По сравнению с ним индивидуальные светильники в вагонных купе – хирургические лампы. Вижу тумбочку, узкий жестяной шкафчик для одежды. За пределами светового круга, четко отсекающего койко-место, злая древняя тьма. В ней могут водиться саблезубые тигры. И даже кое-что пострашнее…
– Держи, братюня, заработал. – Он сует мне в руку купюру. – Эдик сказал, аванс. Останешься, получишь больше.
Уходит в дальний конец помещения. Во мглу.
Скрипит кровать, когда парнишка садится и начинает расшнуровывать ботинки.
На моей тумбе поднос. На подносе дымящаяся тарелка. В ней паста. Не лапша по-флотски, а настоящая паста – с пузатыми макаронными трубочками из лучшей пшеницы, нафаршированными рубленым мясом и овощами. Соус. Чеснок и тмин. Я едва успеваю бросить спецовку и куртку в шкаф, волком набрасываюсь на еду. Вилка пластиковая, но меня это не останавливает.
Спустя три минуты тарелка пуста. Через край, стараясь не хлюпать, допиваю соус.
Только теперь соображаю, что в левой руке все еще зажаты деньги. Недоверчиво разжимаю кулак, рассматриваю красную бумажку. Пятихатка. Аванс.
С трудом удерживаю торжествующий вопль. Привычно прячу деньги в трусы. Вечер бесполезной работы приносит хороший куш, ужин, ночлег и кров. Что рассмотрел во мне прораб, по-человечески приняв в свою команду поденщиков?
Приказываю себе успокоиться и не спешить. Если за пятисотенную в день мне предстоит до лета перекладывать хлам с одной лужайки на другую – я за.
Сбросив армейские ботинки и избавившись от одежды, торопливо лезу под одеяло.
Еще не успеваю коснуться подушки, как сплю.
Утро растерзано сигналом будильника.
Это настолько непривычно, что я подскакиваю, машинально нащупывая в кармане импровизированный кастет. Вспоминаю, что оружие давно отобрали менты, а одежда скомканным пуком покоится под кроватью.
Трель из-под потолка перестает казаться будильником. Теперь напоминает сирену или заводской гудок. Понимаю, что льется она из небольших колонок, развешанных по углам. Сажусь на жестком, продирая глаза и осматриваясь. Тело ломит, но я гоню боль. Казавшееся сном – работа, деньги, ужин, – вдруг щелкает в мозгах осознанием, внезапно оборачивается реальностью.
Помещение просторнее, чем казалось в полутьме.
Шесть на десять метров, если не больше. И вправду заставлено койками, по-армейски одинаковыми и простыми. Рядом с каждой тумба и шкафчик. Пять кроватей не застелены, сиротливо белея запятнанными матрасами. Еще две аккуратно заправлены, в том числе и та, на которой спал Пашок. Одна выделяется – стоит в отдельном закутке, отгороженном плотной шторой до пола. Еще на трех ворочаются, неохотно пробуждаясь, люди. Горемыки, подобные мне. Наемные работники одноразового использования, выбросить которых проще, чем перевоспитать или отмыть.
Стены грубые, из бетонных блоков, на один слой выкрашенные в бледно-голубой цвет. Верхний свет общий, зажигается одновременно с сигналом побудки. Трубки под потолком щелкают, гудят, набирают накал. В динамиках начинает играть радио, и по словам диджея я понимаю, что сейчас семь утра…
Рослый молодой человек встает с лежанки одним рывком. Сдергивает зеленую майку, в которой спал, остается в одних семейных трусах. Удаляется в соседнюю комнату, не позволив рассмотреть лица, только мелькает бритый затылок. Из помещения, где он скрылся, тянет влагой и мочевиной. Шумит душ.
Через две пустые койки от меня кряхтит женщина.
Нет, не так. К ее возрасту уже не применимо понятие «женщина», сколь бы цинично это ни звучало. Старуха, причем древняя. Сколько ей лет? Сто? Больше? Сухое морщинистое лицо неподвижно, как у индианки из вестерна. Кажется, что худая бабка даже не сможет выбраться из-под одеяла.
Но впечатление обманчиво, и вот она уже бодро набрасывает халат поверх ночнушки. Отправляется следом за мужчиной. На меня не смотрит, будто мы проснулись не в общей спальне, а случайно встретились на этаже огромного корпоративного здания. Поденщик-планктон. Звучит оригинально.
Из противоположного угла комнаты меня изучают. Цепко, пристально, оценивая вес, рост, возраст и предположительную угрозу.
Щуплый мужичок в годах, одетый в застиранную майку-алкоголичку и вытянутые трико, угрем выскальзывает из-под одеяла. Потягивается, шурша по ковролину босыми ногами. На плечах, перечеркнутые бретельками, убогие зоновские татуировки. Буквы, надписи, паутина, фигуры людей, узоры, холодное оружие и звездочки. Они же украшают пальцы, кисти, запястья. Наверняка не меньше партаков и на спине уркагана.
Приближается, садится на соседнюю кровать.
На вид ему лет шестьдесят, но по глазам понимаю, что в действительности значительно меньше. Что поделать, жизнь не щадит такого сорта людей, высушивает изюмом и лишает природной легкости.
– Валентин Дмитриевич Чумаков, – представляется он, протягивая жилистую руку. Руку человека, с одинаковой легкостью способного подтасовать колоду или воткнуть в пузо нож. – Для друзей – Валька или Чума.
Манера речи не совсем вяжется с приблатненным образом, но я не позволяю себе расслабиться. Вспоминаю про мимикрию и яркий фонарик во лбу глубоководного морского черта. Этот черт из породы «сухопарая тюремная борзая». На лбу редеющие волосы прикрывают лысину тонкими смешными прядями, в кармане трико – очки.
В конце концов, я тоже бомж, читающий Кафку.
– Денис, – отвечаю кратко, изучая смуглое морщинистое лицо. – Для друзей – Диська.
– Диська, – подытоживает Чума, улыбаясь без эмоций. – Новенький. Вчера пожаловал?
Молчу, все понятно и так.
– Не тушуйся, – слышу следом. – Помощь понадобится, обращайся. Мы тут стараемся вместе держаться.
Я безволен, как выпотрошенный кролик. С тринадцати лет все мои попытки удержать подле себя близких людей заканчивались титаническими провалами. Я мог биться в кровь, расшибаться в лепешку. Умолять и опускаться очень низко. Терять самоуважение и почитание посторонних. Цепляться из последних сил.
Это ни к чему не приводило – люди покидали меня. Бросали.
Оставляли одного. В итоге пришло понимание, что это мой фатум. Что любые усилия ни к чему не приводят. Последнее слово не за мной, и я плыву дальше на утлой одноместной лодчонке. Куда заносит течение, там и бросаю якорь. Уже семнадцать лет я безволен, как мертвый еж на обочине трассы.
– Мы, это кто? – спрашиваю невольно, не удержав слов за зубами.
Чумаков с пониманием кивает.
Вынимает из кармана трико старенький серебристый портсигар.
– Работнички, кто ж еще… – Вставляет в зубы папиросу, но прикуривать не спешит, катает в сухих губах. Взгляда не спускает, словно я не в общей комнате, а на знакомстве со смотрящим тюремной камеры. – Тот, что в душевой, это Санжар.
У меня дергается веко, что не укрывается от Чумы.
– Я тоже черненьких не балую. Но Санжар – нормальный мужик. Увидишь. Бабка эта, – короткий кивок на пустую койку за моей спиной, – Виталина Степановна. Совсем старая, девяносто лет. Держат тут за «зеленый палец», по саду хлопочет. Пашка́ ты уже знаешь, а Эдик тебя сам найдет.
Знакомые имена подстегивают меня.
Вспоминаю про работу, приличный заработок и задумываюсь над возможными санкциями за опоздание. Отбрасываю одеяло, нащупываю под кроватью мятую одежду.
– Параша там. – Новый кивок на дверь, где скрылись казах и старуха. Папироса пляшет в зубах, покачиваясь вверх-вниз. – Там же раковины и душ. Курить только на улице. Раз в три дня посменно драим пол и протираем пыль. Твоя смена будет завтра.
Я запоминаю. Не уверенный, что задержусь до завтра.
Но якорь уже зацепился за подводную корягу. Ветер стих. Пятисотенная купюра в трусах щекочет кожу. Валек продолжает, словно мое пребывание здесь уже решено на многие недели вперед.
Он говорит:
– Завтрак в восемь, готовит у нас Маринка. Потом Эдик определяет объем работ. Обед в час. С двух до четырех – личное время. – Вынимает картонный цилиндрик из губ, задумчиво вертит в татуированных пальцах. – Делай, что хочешь, но за ограду не ходи. Если что-то нужно – курево, соки, шоколад или чтиво – заказывай через Эдика. С четырех тебя снова нагружают. В восемь ты сам по себе, в десять отбой, во двор спускают собак.
Не часто встречаешь расписание поденных работ сродни армейскому.
Удивлен и впечатлен одновременно. Из разнорабочего перепрыгнуть в постоянную прислугу, конечно, почетно. Но готов ли я?
Вяло благодарю. Встаю и одеваюсь.
Чума смотрит снизу вверх, внимательно читая мое лицо.
Заправляю кровать, пытаясь вспомнить детали процедуры и сделать все аккуратно. Иду в сантехнический блок. Вспоминаю женщин, бросавших меня на протяжении детской и взрослой жизней. Вспоминаю призрачные семьи, которые мог бы строить. Славных детей, которых мог бы воспитывать. Объятья, которых никогда не испытаю.
Якорь брошен. Сердце болит.
Из душевых загородок валит пар, и в его жаре самоуничижительные грезы стремительно тают.
Я раскрываю розы.
Не отламываю примерзшие лепестки, но осторожно разматываю теплосберегающую пленку, которой укутаны кусты. Сытно, чисто, почти не морозно, я даже начинаю получать от непривычной работы неподдельное удовольствие. Пальцы колются о шипы, но по сравнению со вчерашним гвоздем это сущие мелочи.
Виталина Степановна рядом.
Не отходит, следит за каждым жестом.
Закуталась в серую шерстяную шаль. Нахохлившаяся ворона, немногословная и угрюмая. Дает указания, шикает, когда делаешь что-то не так. Указывает, подсказывает, направляет. Мне действительно начинает нравиться…
Розовых кустов девятнадцать. Шесть ярко-алых, это я узнаю только от старухи, разлапистые кусачие веники не подписаны. Еще шесть белых. Шесть розовых, «нежных, как бархат». И один черный, очень редкий, над которым хозяева трясутся, что собачка в сумке блондинки.
Скоро май, и Ворона решилась открыть кусты.
Я не спорю – все одно, ничего не смыслю в садоводстве – и подчиняюсь. Подчиняюсь Пашку и угрюмой бабке, Эдик так и не появился. Как и мои наниматели. Время от времени мне вообще начинает казаться, что мы – наемники – работаем тут сами по себе. А Эдика вообще не существует. Может быть, торчок Паша и компания захватили брошенный особняк и старательно ухаживают за садом в ожидании будущего поощрения?
Собак не видно, как и будок. Если они и лаяли ночью, я все равно не слышал. Подвал гасит звуки, да и спал я, будто убитый.
Чума тоже тут.
Бормочет под нос, но с разговорами не пристает. Курит папиросы, пару раз предлагает, протягивает портсигар. Отказываюсь. Даже рад, что окружение столь немногословно. Отрабатываю, вспоминая недурственный завтрак. И предвкушаю вечерние пять сотен, которые ждет нычка в трусах.
Валентин Дмитриевич счищает последний снег с веток и кустов шиповника.
Обвязки уже убраны, и я доверяю чутью старухи больше, чем прогнозам по телевизору, – скоро будет тепло. Чума откидал тощие оладушки лежалого снега от яблоневых стволов и начинает граблями сгребать павшие листья. Высушенные, промокшие, гниющие и забытые. Как все мы, трудящиеся тут, в хозяйском саду.
Пашка и Санжара не видно, ушли из подвала сразу после завтрака. Молча вычистили тарелки прямо на спальных местах и ушли, не обменявшись ни словом. Я не настаиваю. Вспоминаю про деньги. Вспоминаю про якорь. Он дорог мне отныне.
Чумаков счищает старую кору со штамбов и ветвистых побегов. Складывает аккуратно, будто коллекционирует мусор для авторской инсталляции. Где-то на южном дворе, где вчера трудился я, грохочут доски и трещит стекло. Вероятно, казах завершает мою работу. Размышляю, сколь надолго можно затянуть постройку сарая. День – пятихатка. Неделя – три с половиной косаря. Недурно.
Может быть, уйду в Кемерово.
Может быть, в Томск.
Подальше от нее. Подальше от воспоминаний.
Испартаченный Валек бредет в дом. Через небольшую подсобную дверь в восточном блоке, тоже обрамленную плющом. Возвращается с ведерком извести и начинает марать свежепосаженные кусты. Виталина Степановна ворчит, постоянно поправляет его, шипит. Тот огрызается, беззлобно и находчиво, скалится и уворачивается от тумаков.
Кусты белеют, пахнет известкой.
Тепло. Весна.
Я улыбаюсь, но так, чтобы не видели другие. Оборачиваюсь к особняку, и тут замечаю ее.
Она говорит:
– Здравствуйте. – Опирается на перила балкона, нависая. Он на третьем этаже, но мне кажется, что в настоящем поднебесье. – Кажется, вас зовут Денис?
Что-то мычу. Вроде бы соглашаясь.
Я потрясен ее очарованием и грацией. Даже с такого расстояния вижу лучики морщинок от глаз, задорные и сексуальные. Вижу стареющую кожу шеи, едва заметные складки на ней, усталость взгляда, тяжесть жестов. Но не могу оторваться. Она совершенство. Старше меня лет на десять минимум. Но я бы продал душу, чтобы стать мужем такой потрясающей женщины.
– Эдуард еще не успел нас представить, – продолжает она, и я с удивлением понимаю, что ни Чума, ни Виталина Вороновна не обращают на разговор никакого внимания, – но я Жанна. Родственница хозяев, если так можно сказать.
Она легко и выученно смеется, и от звенящих звуков тает снег самых темных прогалин.
Точеная талия, высокая небольшая грудь. Темно-русые волосы волнистыми каскадами на плечи. Огромные глаза. Тонкие губы и пальцы. Обручального кольца нет. Одета в штаны мужского покроя и кожаную куртку на молнии, застегнутую до кремового шарфа. Сияет, хоть понимаю я это значительно позже.
– На кого вы учились? – продолжает она, и я с удивлением осознаю, что весь день ждал этой беседы. Может быть, видел ее во сне. Но происходящее не кажется мне неестественным. – У вас ведь высшее образование, да? Я сразу вижу.
Отвечаю, что неоконченное. Педагогическое. Мог бы стать историком. Или географом.
– Это не страшно, что неоконченное. Может быть, Алиса попросит вас порепетиторствовать Колюнечке? – продолжает она. С удивлением понимаю, что таким мог быть голос сирен, заманивавших моряков на скалы. – К сожалению, мальчик так мало читает…
При воспоминаниях об институте мне становится неловко.
Дурно. Словно получил открытку от человека, которого уже много лет считал умершим.
– Надеюсь, вам у нас понравится, – ослепительно улыбается Жанна, отлипая от кованых перил.
Мое сердце похоже на кусок подгоревшего слоеного теста. Шершавое, осыпающееся черными пластинками тончайшего пергамента. Только встряхни, как старый пустой улей, и рассыплется в прах.
Я смотрю на Жанну. Эффектную, элегантную и легкую.
Заглядываю в себя. Вижу чей-то язык, огромный, острый, нечеловеческий. Он пробует мое сердце на вкус. Скользит по нему, висящему в черном «нигде». Снизу вверх, снизу вверх, отшелушивая слой за слоем и будоража запах гари. Хрустит отмирающей плотью, хочет добраться до начинки. Каким бы пригорелым ни был мой мотор, оно жаждет отведать его без остатка, словно желанный деликатес.
Жанна уходит в дом, еще раз улыбнувшись на прощание.
Замираю зайцем в свете автомобильных фар. Обалделым, чувствующим приближение четырехколесной смерти, но не способным ничего с этим поделать. Встряхиваюсь и продолжаю работать.
Чтобы земля быстрее прогрелась, я сгребаю снег.
Отбрасываю в сторону, дробя совковой лопатой. Будто сею снежные семена. Грязно-белые драконьи зубы, ломкие и пористые. Работа непыльная, как и до обеда, к тому же совершенно не требует спешки. Я уже давно не чувствовал себя настолько нужным. Отдохнувшим и вымотанным одновременно.
Словно попавшим на планету с атмосферой, схожей, но чуть отличающейся от земной.
Дышится легко, но непривычно. Весенний воздух тяготит. Он будто не желает покидать легких, надолго оседая в них облаками неизвестных испарений. Обед покоится во мне увесистым грузом. Скорее всего днем мы доедали остатки хозяйской трапезы, но я не в претензии. Мясо по-французски было изумительным, и мне не ясна причина дискомфорта. Начинаю искать ее вовне…
И тогда меня посещает первая мысль, что якорь стоит втянуть обратно на борт.
За прозрачной шторой на втором этаже силуэт. Судя по всему – мужской. Черт лица не разглядеть, но мне кажется, что это хозяин усадьбы. Стоит неподвижно, уже четверть часа наблюдая, как я разбрасываю снег в северо-восточном углу двора. Пытаюсь найти собачьи следы, чтобы хотя бы примерно определить породу четвероногих сторожей. Не нахожу.
Солнце скрывается за драным навесом облаков асфальтового цвета.
Мужчина отходит от окна.
Санжар снова грохочет досками. Что-то напевает на родном языке, и я решаюсь подойти.
Оставляю лопату, воровато оглянувшись на особняк, неспешно огибаю крыло.
Замираю, не совсем доверяя глазам.
Гора мусора, рассортированного мной вчера, снова срастается в угловатую бесформенную пирамиду. Усилиями Санжара. Крепкого высокого казаха, без суеты сбрасывающего доски и рамы в одну кучу. Солнце, только что висевшее над высоким замковым забором, внезапно проваливается за горизонт. Над домом звенит мелодичная трель, отмечающая конец рабочего дня.
Санжар опускает на землю оконную раму, которую собирался перекладывать. Оборачивается, замечает меня и приветливо машет рукой.
– Привет, – говорит он, будто при случайной встрече двух старых знакомцев. – Я Тюрякулов.
– Зачем? – выдавливаю вопрос, словно остатки зубной пасты из тощего тюбика.
– Проверка, – отвечает казах, недоумевая. – Ты справился. Готовлю для других.
Мне становится не по себе.
Мясо по-французски вдруг превращается в тягучие капли ожившей ртути, делает первый рывок вверх. Подавляю тошноту, непослушными ногами бросаю себя мимо Тюрякулова. Лопата забыта у забора.
Спускаюсь в подвал, едва найдя силы отворить тяжеленную дверь.
Иду коридором, который успел выучить. Сердце щекочет иззубренным острием предчувствия. Улыбка Жанны кажется искусственной, вылепленной из глины, неживой. Перед глазами плывет.
В жилой комнате людно.
На большом столе в дальнем углу, накрытые хромированными колпаками, тарелки с ужином. Пышут жаром водопроводные трубы, протянутые под потолком. Виталина Степановна что-то вяжет, постукивают спицы. Пашок валяется на койке, задрав ноги на высокую спинку. В ушах белеют пуговицы наушников.
На одной из заправленных кроватей сидит Марина. Догадываюсь, что это именно она, весь день проработавшая наверху, в доме. Спокойная, деревенская, с правильным, но некрасивым лицом. Вся серая, будто тень. Так людей перекрашивают наркотики. Или горе.
Еще здесь Эдик, и я впервые смотрю в лицо человека, которому доверяют ключи от хозяйских спален. Высокий, статный, с осанкой театрального актера. Седые волосы аккуратно острижены и зачесаны.
Ожидая увидеть энергичного менеджера-управленца средних лет, я вдруг понимаю, что тону в темно-пепельных глазах вышколенного семейного лакея. Ему определенно за шестьдесят, но выглядит Эдик значительно моложе Чумакова. Одет в отутюженные серые штаны, белую рубашку и пиджак цвета грязного апрельского неба. С необъяснимой уверенностью понимаю, что он педераст.
– Здравствуй, Денис, – говорит Эдик, не спеша протягивать руку.
– Мне нужно идти, – бормочу я, стягивая рабочую куртку. – Только рюкзак заберу, ладно?
Взгляды троих сходятся на мне, словно лазерные прицелы.
– Если за сегодняшний день заплатите, хорошо, – продолжаю лепетать, вынимая рюкзак из-под кровати. – Если считаете, что не отработал…
Пячусь в гробовом молчании.
Потолок становится ниже, температура падает градусов на десять. Эдик молчит, в глазах неодобрение, но он не спешит комментировать. Виталина Вороновна протяжно вздыхает, возвращаясь к вязанию.
Говорит негромко:
– Зайку за лапку да подвесить над лавкой.
Пашок вынимает один наушник, поглядывает лукаво.
Выхожу в коридор. Там Санжар и Чума. Стоят плечом к плечу, перегораживая проход.
– Не ходи на улицу, – предупреждает Чумаков, пряча в карман рабочие перчатки и вынимая портсигар. – Себастиан уже спустил собак.
Казах кивает. Затем медленно качает головой, будто действительно волнуется за меня.
Он ведь хороший парень, не так ли? Поворачиваюсь и углубляюсь в глухие бетонные коридоры, в которых еще не был. Эдик глядит мне вслед с порога общей комнаты. Санжар и Валентин Дмитриевич не пытаются остановить.
Мне плохо. Меня начинает трясти. Причина остается неясна, отчего делается еще страшнее. Наверное, так начинаются приступы клаустрофобии.
Нахожу лестницу вниз. Нахожу дверь в гараж. Нахожу лестницу наверх. Поднимаюсь, отдавая себе отчет, что вторгаюсь в неприкосновенные хозяйские владения. Плевать. Застегиваю ветровку, запоздало спохватившись, что забыл книгу на тумбе. Вбрасываю руки в обе рюкзачные лямки. Открываю дверь и впервые попадаю в жилое пространство особняка…
Как и предполагалось, тут все стильно и богато.
Мебель старая, подобранная со вкусом и тактом. Обои тяжелые, на тканевой основе, шепчут о будуарах серебряного века. На изящных столиках тяжелые бронзовые подсвечники. Повсюду картины. Люди и боги смотрят на меня с невероятно-качественных репродукций. С интересом, с осуждением. Вижу Дега, Рубенса, Боттичелли. Возможно. От того, что я не разбираюсь в живописи, картины на стенах не становятся хуже или менее почитаемыми.
Шаги по паркету разлетаются по полутемным комнатам. Безлюдным, тихим, брошенным комнатам. Оставляю грязные следы, испытывая совершенно неуместный стыд. Сворачиваю, сворачиваю, открываю створки. Нахожу парадную дверь. Тяну на себя.
За ней стоит мужчина.
Я точно знаю, что Себастиан – именно он. Черные штаны и черная водолазка. Черные ботинки, сверкающие и холеные. На руках черные перчатки с обрезанными пальцами. Он выше меня на голову и шире в полтора раза.
Себастиан похож на Элайджу Вуда, три месяца не покидавшего качалку. На бледном лице ноль процентов эмоций. Смотрит прямо перед собой, руки висят вдоль тела. За его спиной в сгустившейся весенней ночи виднеются силуэты сторожевых псов. Их драконьи глаза сверкают в свете, льющемся из открытого проема.
Я в беде. Еще не знаю, насколько серьезной, но теперь это осознается совершенно отчетливо.
В полнейшей тишине закрываю дверь на крыльцо, отсекая морозный воздух.
Разворачиваюсь и по собственным грязевым следам возвращаюсь к подвальной лестнице.
Я в беде…
Происходящее внезапно отбрасывает меня назад, в прошлое. В детство, прошедшее под дребезжание трамвая. Неожиданно вспоминаю, как с друзьями, тайком от родителей, катался на нем через весь город. Не помню номер, но это и не важно. Сейчас вообще никто не поверит, что трамвай ходил через Старый мост. А он ходил… И многим дальше – на Левый берег, в самую его глубину. И через добрую половину Правого. А мы – мальчишки с одного двора, сбежавшие в поисках приключений – все ехали, ехали и ехали, прилипнув к окнам, и это путешествие казалось упоительно-бесконечным.
Происходящее отбрасывает меня в прошлое. Туда, где родилась игра в «Цветовой код». Не «Семицветик» или «Угадай-цвет», а именно «Код». Мы все пытались подтянуть под космическую фантастику и ее чарующие термины. Вспоминаю простейшую суть забавы, и сердце отчего-то щемит…
Штурман экипажа задает цвет. Остальные, пялясь в окна, лихорадочно ищут нечто указанное. Вариантов может быть много. Командир – он же начальник экспедиции – определяет, какой из вариантов интереснее. Я почти всегда проигрываю, потому что «белая волга» куда скучнее «дохлого белого голубя»…
Сейчас, встретившись с черным Себастианом, обреченно понимаю, что снова в игре.
Я черный плащ опереточного злодея, бесстыдно манящий подкладом, словно приоткрытое женское естество. Я смерть, каковой ее воспринимает большинство людей.
Спускаюсь в подвал.
Санжар, Эдик, Чума, Пашок, Марина и старуха сидят на своих койках, глядя на меня с молчаливым укором. Затем старший слуга говорит:
– Больше так не делай. – Встает, покидает закуток и подходит к столу с едой. – Давайте ужинать.
Удивляюсь сам себе, но сплю крепко, без сновидений.
В голове и душе пусто, будто прошел ураган. На тумбочке – аккуратно сложенная стопка одежды из секонд-хенда. Футболки, домашние штаны, шарф, кепка и вязаная шапка, носки. В запечатанной упаковке новые трусы, пар десять. Рядом полотенце, зубная щетка и паста, бритвенный станок, мыло и упаковка туалетной бумаги.
Сигнал побудки еще звучит. Но Санжар уже сидит на соседней – пустой – кровати, наблюдая за моим пробуждением.
Словно ничего не произошло.
А что, собственно, произошло?
– Сегодня работаем по дому, – говорит он, поверх моего плеча посматривая на занавеску Эдика. – Чистим паркет и сжигаем мусор.
Я не отвечаю. Отправляюсь умываться.
Долго, с чуждым медлительным упоением скребу лицо бритвой. Размышляю.
Мне никто не угрожал. Никто не приковывал цепью к батарее центрального отопления. Не вырывал ногти и не отбирал паспорт. Меня готовы кормить, поить и обеспечивать работой. Почему же тогда звук захлопнувшейся ловушки до сих пор стоит у меня в ушах?
Чищу зубы, умываюсь. Рядом шумит водой Пашок. Даже не пытается начать разговор, что совершенно устраивает обоих. Из кабинки унитаза слышно смешливое бормотание Чумы – он читает анекдоты на последней странице газеты. Когда возвращаюсь в жилой блок, казах все еще на прежнем месте.
– Кто такой Себастиан? – спрашиваю я, словно возобновляю прерванный разговор.
– Гитлер-то? Друг семьи, – отвечает тот. С места не сдвигается, смотрит снизу вверх. – Немец вроде. По-нашему почти не понимает, даже не пытайся. Он тут вроде как за телохранителя.
– И сторожа, – добавляет Чумаков из-за моей спины. На нем спортивные штаны и знакомая майка, под мышкой зажата газета, зачесанные волосы растрепались. – Лучше не зли…
Мы с Чумой начинаем одеваться. Санжар все еще неподвижен.
– Знаешь, – вдруг выдает он, будто только этого и ждал, – у меня в Алматы друг жил, Казтуган. Химик от рождения. Варил все подряд, хорошие деньги заколачивал. Работал на фабрике «Джапан Тобако Инкорпорейтед». Хорошо там платили, да. Хрен устроишься. А еще ему хорошо платили уважаемые люди из одной медицинской корпорации. И по их заказам Казтуган украдкой, так и не попавшись, подсыпа́л в одну из сотен тысяч сигарет на конвейере очень сильный, но медленно действующий яд.
– Чтобы сигареты убивали. – Не спрашиваю, а уточняю.
История кажется нереальной, но отчего-то очень жуткой. Стану ли я теперь обнюхивать все сигареты, вынимаемые из пачки?
Санжар кивает.
– Рожденный судьей – вот как его имя переводится. – Он встает и наконец-то идет одеваться. Пашок и Чума слушают с интересом, но заметно, что не в первый раз. Виталины Степановны и Марины в комнате уже нет. – И в какой-то момент он взаправду уверовал, что может судить людей. Избирательно, непредсказуемо, как в рулетке. Тогда он сошел с ума.
Я не успеваю переварить рассказ, из-за занавески появляется Эдик. Одет как вчерашним вечером, с точностью до складки на рукаве пиджака. Сосредоточен, спокоен и неулыбчив. Раздает задания.
Вычистить ванную на третьем этаже западного крыла. Вычистить камин в главной гостиной. Натереть паркет в столовой. Натереть подсвечники в коридоре второго этажа. Сжечь мусор. Помыть машину жены хозяина. Закончить восстановление мусорной горы. Принять продукты, заказанные по Интернету. Починить водосток, поврежденный сходом снега. Починить перегоревшую розетку в игровой комнате. Заменить лампы в люстре центральной прихожей.
Я думаю про человека, подмешивающего яд в сигареты. Про его предназначение. Про свое тоже думаю. Может быть так, чтобы высшие силы оставили меня в живых только для того, чтобы насладиться моим медленным угасанием в застенках этого странного особняка?
Да, мне уже приходилось бывать в переплетах.
Серьезных, с риском для здоровья и жизни. Доводилось лежать в овраге под трупами подельников, не успевших первыми выхватить стволы. До сих пор не знаю, какой от меня был толк в той дикой разборке. Наверное, прихватили для массовки, в толпе единомышленников кореша готовы на многое. Массовка. Как на съемках фильма. Да вот только с той съемочной площадки сумел вернуться лишь я…
Надраиваю паркет, ползая на четвереньках, разряженный в специальный комбинезон, сродни медицинскому. Эдик не хочет, чтобы на пол сыпались волосы, поэтому заставил даже натянуть капюшон. Вокруг такая тишина, что кажется, будто во всем огромном доме никого нет. Я блестящая гладь нежно-коричневого паркета, по которому в танце скользят изящные легкие люди.
Вспоминаю овраг. Сырость и страх.
Пистолетная пуля задевает легкое, выкрасив меня малиновым. Вероятно, это и обманывает уркаганов из вражеской группировки. Лихие девяностые называются так не по прихоти журналистов. Еще почти полгода после той бойни я лежу в больнице и отвечаю на вопросы следователей. То еще времяпровождение. Остальным повезло меньше…
Пол блестит. В нем, будто под водой, шевелится размытое отражение. Словно тень смерти, которую уже на протяжении тридцати лет я вижу поодаль, неспешно бредущую в размышлении – забрать или оставить?
Вероятно, таких называют фаталистами. Идиотами, не видящими дальше своего носа. Однодневками, не способными к взрослым отношениям и созданию семьи. Вечными детьми, боящимися задуматься о завтрашнем дне.
Моей вины тут нет. Аргументов поведению – хоть отбавляй.
С какого-то момента я вообще перестаю планировать. Потому что в моей жизни все идет наперекосяк. Говорят: хочешь рассмешить Господа, расскажи ему о своих планах. Предпочитаю смотреть на проблему с иной точки зрения. Хочешь накормить Дьявола – начинай планировать жизнь на ближайшие месяцы или годы.
Переползаю, давлю мастику на тряпицу, натираю доску за доской.
Какой смысл городить прожекты, если утром она собирается покупать билет к тебе в Барнаул, а уже вечером сообщает, что возвращается к мужу, и это ваш последний разговор? Какой смысл выстраивать график накоплений на отпуск, если уже завтра отложенные деньги требуются, чтобы оплатить операцию отца? Какой смысл мысленно настраивать себя, привыкая к новому человеку и вписывая, вколачивая, вталкивая его в картину твоего мира, если ближайшей ночью Алена не вернется в квартиру, исчезнув навсегда? Какой смысл подсчитывать предположительный недельный заработок, если уже на следующий день ты заперт за четырехметровым забором и не можешь потратить ни рубля?
Моя жизнь – сплошной форс-мажор. Полное отсутствие уверенности в чем бы то ни было.
Коричневый: легкие умирающего, изгрызенные раком в последней стадии.
Так было, и так будет.
Замечаю, что не один.
– Не отвлекайтесь, – говорит она. – У вас хорошо получается, – добавляет она. – Жанна сказала, вы историк.
Я распрямляюсь.
Стою на коленях, разряженный в белый полупрозрачный комбинезон, будто астронавт, оплакивающий гибель остального экипажа.
Женщина в дверном проеме отчасти похожа на Жанну. Но ярче. Плотояднее. Юбка от Mexx. Пиджачок от Bazaar. Похожа на деловую леди. Похожа на хищницу из небоскребов, безжалостно обваливающую котировки вражеских компаний. Похожа на заточенный напильник, способный проткнуть насквозь сантиметровую доску. Похожа на ядовитый цветок в прекрасном букете.
Моя ровесница. Может быть, чуть старше. Элегантна и стройна. Косметика нанесена столь безупречно, что заставляет задуматься о профессиональном перманентном татуаже.
Чувствую себя ребенком, застуканным за рукоблудием.
Считается, что, по данным ООН, в мире на положении невольников трудятся почти 12 миллионов человек. По отчетам отечественных спецов, в России эта цифра достигает 600 тысяч человек. МВД срезает эту цифру на две трети.
Затем:
– Можете называть меня Алиса. Надеюсь, вам у нас понравится.
Пощелкивает пальцами, будто подбирая нужное слово.
Блестит шикарное золотое кольцо. Bulgari. Или Chopard. Обручальное кольцо. Эксклюзивное персонифицированное клеймо. Проклятье для мужчины, к трем десяткам лет не создавшего семью. Знак чужой собственности, колкое напоминание собственной никчемности. Краткая история чужой жизни, прожитой в любви и кухонных ссорах, пока ты упиваешься свободой беспорядочного одиночества. Символ и напоминание о том, что ты безнадежно опоздал и весь качественный товар твоего года выпуска уже разобран покупателями магазина. Не создавая паники, направляйтесь к запасным выходам, персонал вас проводит…
Я бродяга, затем наемный рабочий, в будущем – репетитор. Хочешь узнать, как сделать карьеру за 36 часов? Спроси меня. С полнейшей апатией смотрю Алисе в лицо, размышляя, что за успокоительное нам подсыпают в еду.
– Ты симпатичный. – Палец с идеальным маникюром тычет в меня, будто ружейный ствол.
– Когда я смогу уйти? – спрашиваю без надежды, чтобы поддержать разговор.
Смеется.
Она смеется. Затем делает несколько звонких шагов, вышибая из паркета деревянную дробь, и исчезает за краем дверной арки. Растворяется в недрах дома, и дальше я не слышу даже эха. Тюбик мастики с фырканьем кончает на тряпку в моей руке; продолжаю натирать полы.
Неужели судьба оставила меня в живых в тех далеких 90-х только для того, чтобы я драил паркет и учил географии отпрыска богатых безумцев? Заслуживаю ли этого я, за два дня до перестрелки бейсбольной битой избивавший парнишку, имени которого даже не узнал? Поджигавший ларьки? Прокалывавший шины и подсыпавший сахар в бензобаки? Преисполненный собственной важности от сопричастности к настоящей братве?
Спросите у грозовой тучи, нависшей над домом.
Если сможете расшифровать ответ грома, ударившего в ответ, обязательно сообщите.
Хозяина я встречаю через два дня.
Два дня, проведенных в работе, чередуемой сном, душем и жратвой. Никакой дедовщины или влияния зоны, которого я опасался от Чумакова. Никакого давления и унижений, все равноправны и ответственны, как жители кампуса.
Кормят, нужно заметить, добротно. Продукты только самые лучшие и дорогие. Кухней заведует Марина. Почти не узнаю ее за это время. В часы отдыха молча гладит белье, дремлет или читает «Унесенных ветром», потертую до дыр и рассыпающуюся на страницы.
Мужчины подвала говорят, что она окончила кулинарный техникум. До того, как потеряла детей в аварии, а после этого убила соседей. Как бы то ни было, кашеварит она хорошо.
Почти всегда ей помогает Эдик.
Для особенно важных пиршеств к производству допускают кого-то из нас. Чаще всего – Пашка. Остатки завтраков, ленчей, обедов и ужинов на небольшом встроенном в стену лифте спускают в казарму. Вкусно.
Мы едим, спим, читаем и снова возвращаемся к работе. Телевизор нам положен в крайне ограниченных дозах, а раз в неделю можно коллегиально выбрать для просмотра фильм. Их, кстати, тут предпочитают не качать с Интернета, а покупать лицензионные версии. Упиваюсь сарказмом, поглощая очередную порцию ленивых голубцов. Мне будет их не хватать.
О побеге стараюсь не думать.
Мысли – такая подлая субстанция, что иногда ей хватает наглости материализоваться на лице. А взгляд Эдика похож на луч сканера. Да и Чума набивается в дружки, не отлипая ни на минуту свободного времени.
– Рубанем в нарды, Диська? – спрашивает он.
– Сигаретку? – спрашивает он.
– Дети есть? – спрашивает он. – У меня вот наверняка.
Барахтаясь в ржавых оковах повседневных забот, откладываю деньги. Незаметно. Их выдавали еще один раз, почти перед отбоем. Хорошие деньги, на них можно заказать книг или шоколада. Фруктов. Порнографический журнал. Банку энергетического напитка. Гель для волос. Тапочки или халат.
Демонстративно убираю большую часть заработка в тумбу, остальное украдкой проталкивая в подорванный подклад куртки. О том, что побег может состояться, когда на улице уже будет ликовать лето, я не думаю.
– Давай купим Санжару таблетки от храпа? – спрашивает Чумаков.
– У тебя родители живы? – спрашивает Чумаков.
– Ты когда-нибудь убивал человека? – спрашивает Чумаков. – Мне вот довелось.
Татуировки на его плечах бледные, словно выцветшие под южным солнцем. В одной из надписей на левом плече орфографическая ошибка. Стараюсь не смеяться. Стараюсь забиться под одеяло. Коплю злость и силы, которые исчезают, стоит коснуться подушки щекой.
Особняк необычайно молчалив.
Тихий, будто мавзолей. И это при том, что я уже видел троих его обитателей и наслышан о четвертом. Санжар вслух читает дурацкие анекдоты из журнала, который выписывает. Виталина Степановна стучит спицами. Пашок говорит, она вяжет детские свитера. Которые потом украдкой бросает в мусоросжигатель. Раз за разом покупает пряжу и снова стучит.
Погружаюсь в молчание, в котором меня топит этот странный дом. Полирую, подстригаю, проверяю резервный генератор, чиню дугообразные настенные подъемники для инвалидной коляски, подметаю и отвечаю на вопросы сокамерников с простотой и оцепенением банковского терминала.
Хозяина я встречаю через два дня.
– Константин, – говорит он.
Или не говорит, я тут же забываю. Но точно знаю, что обращаться к нему нужно именно так.
– Еще можешь называть меня «хозяин», – говорит или не говорит он.
Пожалуй, Константин лет на десять старше меня. Обычный мужик, каких сотнями встречаешь в метро или на остановках среди тех, кто из кожи вон вылезет, но выделится из серой массы. Кажется, он блондин. Или шатен. Некрасивым назвать нельзя, но и привлекательным – тоже. В его глаза я загляну позже, а пока понимаю одно: отведя взгляд, уже через две секунды забываю, как выглядит мой хозяин…
Где-то за высокой оградой Особняка снова грохочет апрельская гроза.
Древние Боги небес сражаются с чудовищами, лязгая волшебным оружием и на время забыв о ничтожестве людишек. Защищают Землю от Зла. Мне кажется, это похоже на установку противомоскитной сетки, когда дом уже забит колониями кровососущих.
Константин неподвижен. Одет в добротную неброскую одежду, и отчего-то мне кажется, что на ней спороты ярлыки производителей. Метр восемьдесят ростом. А может – метр и семьдесят сотых. Мне кажется, он тяжелее меня на пару десятков килограммов. В следующий момент я понимаю, что он худ, будто недоедает. Стоит на балконе – там же, где я видел Жанну.
За его спиной, будто тень, еще один мужчина.
Гитлер. С лицом романтичного убийцы. В неизменно отглаженных полуспортивных брюках и перчатках без пальцев.
Хозяин рассматривает меня без интереса.
Идеальный преступник. Таких никогда не запомнишь в толпе. На фотороботе, срисованном с Константина, будет красоваться смайлик. На всех семейных фото его лицо отчего-то не в фокусе. Через минуту ты вообще забываешь, что с кем-то разговаривал. Хозяин не хочет, чтобы этот мир его запомнил.
– Надеюсь, тебе у нас понравится, – говорит он.
Он искренен, это слышно. Неприметное, совершенно обыкновенное лицо не выражает ничего. Когда Константин говорит, то делает это вальяжно и неспешно, будто ленится. Он говорит скулами, а не губами. Едва ворочая ими, проталкивает скомканные в пучки слова, заставляя напрягать слух. Перед белоснежными зубами, на едва разлепленных губах образуются тонкие ниточки белой слюны. Именно они, а не его глаза или выбритый подбородок, притягивают взгляд.
Мерзкие белые ниточки.
– Я могу позвонить родным? – спрашиваю без надежды на ответ.
– У тебя нет родных, – отвечает Константин и уходит с балкона.
Возвращаюсь к работе.
Если мое пребывание здесь затянется, будет иметь смысл купить плеер. Музыка иногда помогает справляться с жизненными неурядицами. Доказано всеми неудачниками, брошенными возлюбленными, банкротами и алкоголиками мира.
Мне нужно нечто из моей прошлой жизни. Мелодия, под которую я лишился девственности. Выкурил первую сигарету. Украл коробку вина из ларька на остановке. Поругался с отцом и со всей подростковой дури зарядил ему в глаз.
Уже много лет, как музыка получила собственный, дополнительный слой реальности. Обросла артефактами памяти, от которых не убежать. Она, льющаяся из компьютеров, телевизоров, радиоприемников и телефонов, слишком тесно связана с образами и событиями человеческой жизни. Больше не существует «просто музыки», произведений в себе. Есть минуты, часы, дни, недели и годы, прожитые под аккомпанемент той или иной композиции.
Музыка стала пластом коллективного сознания. Единым банком памяти, из которого время от времени всплывают воспоминания: поцелуй под дождем, ссора, автомобильная авария, прощальная СМС, судьбоносная поездка в метро…
Мне нужно нечто мелодичное из моей прошлой жизни. Пока у меня нет плеера, я предаюсь медитации. Стараюсь не отхватить палец секатором, погружая разум в трансовое состояние безразличия и нейтрального настроения. Представляю себя тяжелым бомбардировщиком времен Второй мировой, вышедшим на боевой курс.
Аутотренинг примитивен, но неоднократно помогал.
Под днищем машины лежат объекты моего «не повезло».
Город «Нищета», мост «Нервный тик и психосоматическая чесотка», железная дорога «Лишение свободы». Поселок «Голод» и перевалочная база «Несчастная любовь». Целый мир негатива, который я сжигаю дотла бомбами своего внутреннего я.
Самовнушение – великая сила.
Именно она удерживает нас в лодке, не позволяя броситься за борт и отдать свою душу на растерзание акулам неурядиц.
С маленьким говнюком я знакомлюсь еще через три дня, когда апрель угасает, становясь прошлым. Знакомлюсь с прыщавым пухлощеким выродком и его дядей, замкнувшими кольцо безумия, висящее над хозяевами Особняка. С этой капризной и вечно перемазанной шоколадом пародией на человека.
Семейство устраивает праздник.
Или что-то вроде праздника, но всем холопам дают выходной. Нам не позволено выходить на центральную подъездную аллею. Там ставят столы и натягивают тент, там будут жарить мясо. Чужое счастье похоже на музейный экспонат – смотреть можно, дотрагиваться нельзя.
– Не нервируйте Себастиана, – говорит Эдик, осматривая одного обитателя подвала за другим.
– Если хозяева заметят кого-то из вас, – предупреждает он и в первую очередь меня, – вам не поздоровится.
Пашок подмигивает мне из своего угла, восседая на скрипучей койке. Он в шортах, отчего заметно гадкое родимое пятно на левом колене. Торчок щурится, лижет зубы, кривит лицо в гримасе до тех пор, пока я не понимаю, что именно он хочет донести:
– Мы все равно пойдем и посмотрим, – намекает его дергающийся глаз.
Так я и знакомлюсь с мелким ублюдком, вокруг которого пляшет вся семейка.
Впрочем, знакомство – громкое слово. Просто вижу его издали и обретаю понимание. Я далай-лама новосибирского розлива. Я постигающий жизнь в самой неприглядной ее форме и ничего не могу с этим поделать. Б-52 моего воображения пытается утюжить мост «Отвратительная человеческая натура», но для уничтожения объекта не хватает даже тройного запаса бомб…
Весь день мы перекладываем с места на место пенопластовые булыжники мелких повседневных хлопот. Делаем вид, что живем нормальной жизнью, даже несмотря на тяжелые бетонные своды над головой. Вяжем детские свитера, дремлем, читаем журналы и бреемся. Зашиваем прорехи в одежде, перестилаем кровати, подстригаем ногти.
Чума и Санжар садятся смотреть фильм. Со всем космическим сарказмом понимаю, что это «Отверженные». Новинка, только-только вышедшая на DVD.
Время капает с потолка, покрывая меня липкой пленкой безделья.
Едва ли не впервые обращаю внимание, что в подвале ничем не пахнет. Во всем доме ничем не пахнет. Стерильно, будто в больнице. Мертво. Даже когда снимаешь крышку с подноса, на котором стоят тарелки с ужином. Сначала ловишь запах куриных отбивных, а потом – ничего.
Смотрю в бетонный потолок.
Крашенные бледно-зеленым трубы под ним похожи на притаившихся змей. Зеленый… Я школьная доска, на которой пишет имя-отчество первая классная преподавательница. Я ядовитый газ, украдкой вползающий в окопы и щипцами вырывающий внутренности еще живых солдатиков.
Пашок зовет меня за собой.
Валек и казах, поглощенные мюзиклом, делают вид, что не замечают. Марина спит, Виталина Степановна читает. Эдик, хозяйский пес-содомит, где-то наверху. Он действительно считает, что мы не пойдем смотреть…
Мышами выскальзываем из подвала. Мы лишь тени в сгущающихся сумерках. Вокруг тента натянуты нитки гирлянд, контраст светового круга с обступающей мглой так резок, что нас не заметил бы и ночной зверь. Выглядываем из-за невысокой кирпичной ограды, скрывающей спуск в подземные этажи.
– Братюня, – спрашивает торчок шепотом, прижимается ко мне и благоухает отвратительным одеколоном, – хотел бы жить, как они?
С этих пор вид крови будет ассоциироваться у меня именно с запахом его парфюма. Тяжелым, маслянистым, дешевым. Стараюсь не отодвигаться. Под бедром хрустит отмерший побег плюща.
Хотел бы я? Конечно, да. А кто бы не хотел стать хозяином своей жизни? Иметь кучу бабла, шикарный дом, шмотки и машины? Отвечаю, что «пожалуй». Пашок скалится, кивая.
– Ух, нах, я бы тогда развернулся. – Его многозначительность говорит: наркотики, телки, трэш нон-стоп, вечеринки до утра, передоз, ранняя смерть. – Как же я завидую богатым. – Его сожаление говорит: я бы тоже набрал себе рабов. Может быть, даже порол бы, нах, провинившихся.
Спрашиваю:
– Почему ты заманил меня в этот дом?
Пашок каменеет.
Его плечо, прижимающееся к моему, становится непробиваемым. Скулы твердеют, неподвижный взгляд бьет сквозь ночь – в кольцо желтого света, внутри которого разместились тент, столы, здоровенный гриль и автомобильный прицеп.
– Это поощряется, братюня, – говорит он негромко. – Поймешь.
Я очень хочу ударить его в ухо. Хочу зубами впиться в шею, вырвав добротный кусок. Хочу воткнуть в глаз шариковую ручку. Но даже не шевелюсь, вдыхая миазмы копеечной туалетной воды.
Вижу Алису, Жанну и Константина. Даже странно, что для подготовки они не призвали слуг. Сами разжигают угли, сами расставляют посуду, наливают напитки. До нас доносятся их негромкие голоса и смешки. Время от времени кто-то поглядывает на небо, будто проверяя погоду.
Себастиан тоже неподалеку. Нет-нет да и мелькнет на границе светового круга.
Так я впервые встречаю еще двоих участников представления. Один из них – неохватный толстяк с пышной светловолосой шевелюрой, восседающий в просторном инвалидном кресле. Агрегат современный, на четырех равноразмерных колесах, больше похожий на люксовый квадроцикл для неспешных прогулок. С удобной высокой спинкой и пультами управления, встроенными в подлокотники. Именно его настенные рельсы я чинил намедни. Несмотря на недуг, жирдяй катается тут и там, рифлеными покрышками перемалывая мелкий щебень аллеи и жухлую траву газонов. Разговаривает с Алисой – жена хозяина лениво прислонилась к столбу тента, острыми коготками обрывая этикетку с пивной бутылки. Болтают, иногда смеются.
– Это Петя, – шепотом сообщает торчок, заманивший меня в западню. – Брат Константина.
– Шикарная вечеринка, – сообщает он, трясясь от зависти. – Может, сегодня и нам пивка перепадет…
Петя спокоен, улыбчив и неспешен в действиях.
Он с удовольствием поглощает сочный салат из великанской миски, время от времени прикладывается к бокалу с коньяком. В каждом жесте старательно отмеренные расчетливость и скупость. Реплики его, чего бы они там ни касались, веселят и злят Алису в равной степени.
Перевожу взгляд и наконец-то замечаю малолетнего выродка.
Колюнечка одет, как маленький моряк. Шортики не по погоде, сине-белая блузка с отложным воротничком. На голове – беретка с помпоном. Издали ребенок похож на миниатюрную куклу компании «Мишлен», собранную из автомобильных покрышек. Аккуратненький и пухленький. Пережравшийся кусок избалованности и родительского внимания. Я скорее назову его отцом Петю, чем неприметного худого Константина.
Алиса продолжает обдирать этикетки с пивных бутылок, то и дело покрикивает на отпрыска. В голосе ни грамма материнской заботы – скорее усталость и безразличие.
Затем Себастиан выкатывает на освещенное пространство прицеп, до этого стоявший в тени. Легко, будто в ходовую встроены вспомогательные моторчики. Одной рукой втягивает конструкцию в круг ослепительного света, и я вдруг понимаю, что это коневозка.
– Ого, братюня, – шепчет Пашок. – Нам теперь еще и за лошадью говно выносить?
Собравшиеся на центральной лужайке перед Особняком оживляются.
Константин смотрит на наручные часы, легко стучит вилкой по бокалу с шампанским. Говорит тост, улыбаясь домочадцам. Все, кроме неподвижного Гитлера, салютуют в ответ. Колюнечка, припрыгивая от нетерпения, носится вокруг коневозки. Я слышу шумное дыхание животного, запертого в прицепе.
Себастиан открывает аппарель. Ныряет внутрь, бренчит упряжью, выводит под уздцы упитанного серого пони. Пашок над моим ухом захлебывается слюной. Колюнечка верещит, подскакивая на месте и хлопая. Взрослые смеются и пьют алкоголь.
Смотрю на серую шкуру лошадки. Машинально выдаю информацию капитану корабля, сообщая: я – армейская шинель, которой солдат укрывает заблудившегося в лесу школьника. Я старая паутина в углу заброшенного дома.
В свете ламповых гирлянд пони кажется слепленным из гипса.
Мудак Пашок вцепляется в мое предплечье с такой силой, будто реально переживает за мальчика. Осторожно расцепляю его пальцы, отодвигаюсь. Хочу вернуться в подвал, где ничто не напоминает мне о чужом счастье. О том, что в этом мире вообще возможно быть счастливым и получать подарки, от которых удавятся даже самые богатенькие детишки.
Но я остаюсь.
Потому что в следующее мгновение Коленька нежно целует пони в лохматую морду, а Себастиан увлекает животное прочь от коневозки. О чем-то спрашивает ребенка, на лице ни одной эмоции. Дитя радостно кивает, звонко бьет в ладоши, оборачивается к маме. Алиса тоже кивает, с упоительным хрустом отрывая от этикетки тонкую полоску бумаги.
В руке Себастиана сверкает сталь.
Он делает легкое и плавное движение, на миг прикасаясь к лошадиной шее. Зверюга даже не успевает отшатнуться. Фыркает, пытается заржать, но срывается на хрип и бульканье.
Из раны лупит тугая струя крови. В ярком освещении пикника она кажется черной.
Поток заливает Колюнечку, пачкая безупречную одежонку. Попадает на лицо, шею, пальцы, голые коленки. Мальчик оборачивается, и я вижу его счастливую улыбку. С уголков рта стекают кровавые ручейки.
Пони валится на колени.
Хрипит, яростно вращает глазами, смотрит на обступивших его людей с надеждой на сострадание. Сострадание, которого не получит. Под его шеей образуется угольная лужа, от которой в холодный апрельский воздух валит пар. Колюнечка падает на колени, начиная зачерпывать кровь обеими руками. Плещется в ней, будто на мелководье городского пляжа. Полощет рот. Блузка и шортики меняют цвет.
Я красный – бархатная коробочка, хранящая заветное кольцо для той единственной во всей Вселенной. Я искореженный корпус скоростной «Ламборджини», ранним утром влетевшей в полную народа остановку…
Вцепляюсь в кирпичную ограду, отгораживающую лестницу в подвал.
Пашок наконец умолкает, тяжело вздыхает. Кажется, он не удивлен, что поражает меня еще сильнее. Ментальный бомбардировщик получает цель, отправляясь на боевой вылет. Его метко сбивают при наборе высоты…
Все улыбаются.
Петр подкатывает чуть ближе, Себастиан отходит в тень, пряча складной нож в карман штанов. Константин берет со стола огромный мясницкий тесак. Алиса, пачкая дорогой элегантный костюм от Salvatore Ferragamo, ласково, но решительно оттаскивает мальчишку от трупа. Облизывает пальцы, ненароком перемазанные в лошадиной крови.
Я делаю шаг по ступеням.
Мир за стенами Особняка молчит. Или не замечает происходящего, или умело делает вид.
Константин склоняется над убитым пони, начинает сноровисто свежевать. Петя подхватывает пустую тарелку, в нетерпении направляет свою механизированную коляску к месту жарки.
Жанна звонко смеется, запрокидывая голову. Проверяет, готовы ли угли гриля, открывает крышку. Поворачивается ко мне вполоборота, улыбаясь и щурясь в темноту. По моей спине бегут мурашки, одежда взмокла от пота, и я внезапно ощущаю лютый и непрошеный, едва ли не чугунный стояк.
Спускаюсь в подвал, забыв про Пашка. Настает май.
Колюнечка относится к числу людей такого рода, что умеют одновременно вызвать и презрение, и искреннюю жалость. Усидчивости – ноль. Восприятия информации – ноль. Капризов – полный вагон. Ерзает за удобной, по заказу изготовленной партой, собранной то ли из бука, то ли из ясеня. Что-то бубнит. Один за другим, словно фокусник, вынимает из выдвижного ящика шоколадные батончики.
Я отнимаю один за другим, стараясь делать это мягко и беззлобно.
Складываю на «учительский» стол, благодаря чему под глобусом через какое-то время образуется внушительная пирамида. Будто кто-то всесильный вытряс все дерьмо изо всех людей на планете, отправив храниться в Антарктиду.
Колюнечка елозит и капризничает.
– Ты дурной, – говорит он, обиженно кривя губы. – Отдай шоколадку.
– Я пожалуюсь маме, – угрожает он. – Тебя поколотят.
– Ненавижу уроки, – злится он, чуть раньше с той же экспрессией сообщивший о своей ненависти к единорогам, желтым цветам, ранней укладке спать, молоку и зубным врачам. – Ненавижу учиться.
Аккуратно заворачиваю батончик в надорванный фантик и укладываю в общую кучу.
Он безобразно мил, этот маленький засранец с синдромом дефицита внимания. Он отвратителен. Но я отбираю его сладости нежно и услужливо. Где-то неподалеку, слушая нас и бесшумно передвигаясь по коридорам, бродит Себастиан.
Кабинета мне не выделяют.
Ставят посреди огромной гостиной шкаф с учебниками, стол с компьютером, принтер и две парты – ученику и учителю. Вокруг нас акры темно-коричневого паркета, надраенного Санжаром. Картины на стенах. Подсвечники и хрустальные люстры. По плинтусам рассыпалась позолота.
Запах полироли почти выветрился. Теперь я слышу только глюкозный сироп, пальмовое масло, соевый лецитин, ячменный экстракт и сухой яичный белок. Так пахнут экскременты, вытрясенные всемогущим существом со всех уродов пластмассового мира и складированные на Южном полюсе.
За окном бушует май. Через две недели дети средних новосибирских школ сломя голову бросятся на каникулы. Колюнечку это не касается.
– Он уникальный и не может учиться в общей школе, – сообщает Алиса, рассматривая мой список запрошенных учебников.
– Он непросто сходится с людьми, – говорит Жанна, раздевая меня взглядом и постукивая ногтями по картонной упаковке, в которой были доставлены разобранные парты. – К такому мальчику нужен индивидуальный подход.
– В обычной школе ему и дня не протянуть, – многозначительно резюмирует Санжар, помогая мне перетаскивать шкаф из музыкального салона. – Членососа сразу загасят…
История, география, немного литературы. Семейство расстроено отсутствием у меня каких-либо склонностей к точным наукам. Биология на уровне начальной школы. Химия на уровне дворовых познаний. Правописание.
Спрашиваю:
– Сколько ему лет? На какой класс уже имеет подготовку?
– Просто расскажи ему все, что знаешь сам, – говорит Алиса, изгибая красивую бровь. – Систематизируй и расскажи.
Пытаюсь.
Выхода в Сеть, конечно же, нет. Впрочем, этому я даже рад – позвать на помощь мне бы все равно не позволили. Сам же по себе Интернет затягивает. Заражает, как болезнь. Уютненько устраивается в твоей нервной системе и через несколько лет, не успеешь оглянуться – уже не мыслишь своего существования без этого невидимого паразита.
Всемирная Сеть вызывает у меня чувство гадливости. Тошноты. Как банка с куском свинины, три дня простоявшая на палящем солнце.
Так вышло, что отныне Интернет состоит из психов… Из людей, принимающих на веру все, что угодно. Из анонимусов, с болезненно-недооцененной важностью защищающих свои, единственно верные точки зрения. Из умников, раздувающих дискуссии такого рода, что если бы посты из соцсетей были пламенем, оно бы давно достигло врат Рая…
Из торговцев крадеными шмотками и наркотиками. Из безумцев, торгующих детьми-проститутами под видом продажи детской одежды. Он наполнен распространителями разнокалиберного порно и спама. Создателями вирусов, как зарабатывающими на этом, так и просто маньяков-мизантропов, «бунтарей» против системы. Дрочилами, игроманами, бесталанными журналистами, горе-фотографами, оппозиционерами и извращенцами.
Все они досыта упиваются виртуальными заботами. Продолжают обогащать штамм безумия, мутировавшего на почве компьютеризации. Закрывая глаза на то, что настоящая гниль живет в мире реальном. С его раздолбанными дорогами, растущими тарифами, расцветом неофашизма, поднебесными ценами на жилье и высоким уровнем криминала. И поселилась эта дрянь тут далеко не в конце XX века, а задолго, задолго до первого модемного соединения…
Смотрю на Колюнечку, вертящего в руках пульт от электронной игрушки. Вспоминаю пони, подаренного ему в последний апрельский вечер. И понимаю, что с безумствами реального мира не сравнится ни один идиотизм и ненормальность анонимной Сети, где желаемое повседневно выдается за действительное.
Я спокоен. Сказал бы – умиротворен. Но в мои обязанности входит и обучение русскому языку, а это не совсем верный термин. Чувствую Себастиана, пребывающего где-то близко-близко.
Рассказываю про Гибралтар.
Рассказываю про пустыню Гоби.
Рассказываю про тропические леса и великую Амазонку.
Рассказываю про вымирающие виды животных.
Глобус, водруженный на горку надкушенных говешек в разноцветных обертках, сияет синевой океанов. Земля – красивая планета, если не учитывать тех, кем она населена. Командир, слева по курсу – синий!
Я бездонное майское небо, заполненное тысячными стаями грачей.
Я натянутая кожа мертвеца, задушенного рояльной струной.
Колюнечка не слушает. Но зона моей ответственности ограничена проведением уроков, а не концентрацией его внимания. Экзаменов не будет. Поэтому терпеливо продолжаю доклад, подготовленный вчера вечером. Мне плевать, какая часть лекции осядет в пухлощекой головке избалованного огрызка.
Рассказываю про меридианы. Рассказываю про Васко да Гаму и «Кон-Тики». Рассказываю про вымирающих амурских тигров. Рассказываю про стратосферу. С таким же успехом я мог бы поведать Колюнечке историю, позавчера услышанную от Чумы…
– Год назад, – скажу я щенку, мысленно представляя, как Себастиан раскрывает свой верный складной нож, – в одной деревушке, что под Тверью, дагестанец зарезал русского. Насмерть и жестоко.
Гитлер подойдет ко мне со спины, внимательно впитывая каждое слово.
– Может, русский был по зенки залит горькой, – продолжу я, глядя на Колюнечку, которому нет дела до официальной общеобразовательной программы, – но суть не в этом. Суть в натуре человеческой, а она иногда, старичок, исполняет такое… В общем, тема тогда актуальной была…
Доверительно, как Чумаков всем нам, – расскажу я мальчишке:
– Деревня сразу поднялась. Кавказцев бить начали, ларьки жечь. До пальбы дошло. Ввели, как нынче полагается, спецназ и усиленные отряды ментов. И вот тогда-то детдом и вспыхнул.
Страж дома нависнет над моим плечом, а глуповатый Колюнечка даже заинтересуется. Оторвется от игрушки и вперится в репетитора блескучими глазенками, наконец-то слушая по-настоящему.
– Старый детдом был. Ветхий и аварийный, – продолжу я, чувствуя шеей холод клинка, – из областного центра туда детей свозили, а денег на ремонт не давали. Вот и полыхнул. Да только не сам по себе. Мужик, предварительно замуровавший двери, находился там все время. Пока не рухнула кровля. Местный он был, диковатый, но тихий. Никто бы и подумать не мог… Некоторые говорят, во время пожара он себе болт полировал. Некоторые, что кайф по вене пускал. Были даже те, кто про игру на скрипке заикались, но это уж точно бред. В общем, прогорел детдом. И никто даже не дернулся – все были заняты подавлением волнений. А мужик этот, сорок двух ребятишек и семерых взрослых на тот свет отравив, отправился дальше по земле русской…
Я могу рассказать это. Но не стану.
Колюнечка играет с пультом. Мальчик совсем отвлекся от историй про ЮАР и колонизацию Исландии. Яростно накручивает джойстики. Язык высунут изо рта, тянется ниточка слюны, глазки горят. В просторную комнату с мелодичным жужжанием влетает игрушечный вертолетик. Мощная машинка, недешевая.
Рассказываю про Марианскую впадину.
Рассказываю про отмену рабства в США.
Вертолет кружит под потолком и медленно опускается ко мне.
Почти на голову, обдувая мягкими прохладными волнами. Протягиваю руку и беру радиоуправляемую модель, будто снимаю с магазинной полки. Глаза Колюнечки сразу тускнеют, он обиженно кривит губы. Покачав головой, я демонстративно и очень медленно открываю отсек для батареек. Чувствую запах свежего пластика, тут же улетучивающийся, жадно поглощаемый пространством Особняка…
– Не ломай, – вдруг говорит мне маленький «Мишлен», улыбаясь беззаботно и тепло. – Ты хороший, – добавляет он своим хрупким юным голоском, заставив вздрогнуть. – Ты будешь моим другом. И тогда я не дам тебя в обиду.
Мальчик улыбается.
Его губы красного цвета, и я сразу вспоминаю густую лошадиную кровь.
Еще раз смотрю в пустой отсек для батареек и медленно кладу игрушку на стол. Как очередное жертвоприношение голубому шарику, на котором нарисованы континенты.
С лежачей философией Пети я знакомлюсь еще через девять дней.
Проведенных, нужно признать, довольно недурно. Преподавать, даже прикованным за ногу невидимой цепью, не самое последнее занятие. Это лучше, чем рыхлить землю, жечь мусор или таскать доски.
Санжар и Чумаков строят новый сарай. Или огромную собачью будку. Или гараж для катера.
Не знаю, что они там строят, но уже неделю с южного двора доносятся стук молотков и визг ручной пилы. Мужчины возвращаются в подвал потными, усталыми и с сорванными на ладонях мозолями. На меня поглядывают неодобрительно.
Мне плевать.
Я рассказываю про лесные пожары в Сибири. Рассказываю про загрязнение озонового слоя. Про нефтяные пятна, убивающие китов, тоже рассказываю. С каждым днем Колюнечка слушает все внимательнее.
– Вы ему понравились, – сообщает как-то Жанна, надкусывая банан.
– Наконец-то у мальчика появился хороший учитель, – говорит как-то Алиса, улыбаясь, как самая счастливая мать на свете.
– Продолжай в том же духе, – как-то советует Константин, и я вижу клейкие полоски слюны, скрепляющие его губы подобием решетки средневекового замка.
Я продолжаю. Рассказываю про катастрофу в Чернобыле. Рассказываю про открытие Америки. Рассказываю про русские полярные экспедиции и производство каучука.
Колюнечка слушает, иногда награждая меня репликами невпопад вроде:
– А ты станешь моим другом?
Или:
– А правда, что кровь грешника слаще, чем у праведного человека?
А может быть:
– Когда Себастиан захочет причинить тебе боль, я ему не позволю. Сломаю каменный круг.
Мне плевать, и я рассказываю про фотосинтез. И про дельфинов я ему тоже рассказываю. Про Стоунхендж и красноярские Столбы. Про каннибалов, пиратов и золотодобытчиков.
Каждый раз, вне зависимости от заинтересованности щенка, тот срывается с места, стоит прозвенеть «звонку». Время мы засекаем по старому кухонному таймеру, купленному в «Икее». Зеленое металлическое яблоко мерно дребезжит, отмерив положенные минуты. Колюнечка тут же исчезает в анфиладах коридоров. Его башмачки грохочут по начищенному паркету.
В один из таких дней я и встречаю Петю.
По полу мягко шуршат плотные шины. Приближается саркофаг для поверженного, но еще функционирующего вождя. Спасательная капсула для выжившего в крушении. Коляска все больше напоминает мне облегченный квадроцикл, но я привык воспринимать Петра инвалидом, и мозг услужливо подсказывает ассоциации.
Складываю учебники в шкаф. Заслышав шелест, оборачиваюсь и замираю. В прошлый раз, когда я не заметил присутствия за спиной хозяина, Себастиан не больно, но обидно ударил меня по щеке.
Закрываю дверцу, вежливо глядя на толстяка.
Его пышные волосы колышутся, будто под водой. Он вальяжен и миролюбив. Говорит:
– Ты присел бы, Денисонька… – Каталка въезжает в комнату, огибая парту моего единственного ученика. – В ногах-то правды нет, уж поверь.
Безумие делает первый шаг к моему сознанию, протягивая жадные руки. Не замечаю.
– Постою.
– Большая ошибка, – ласково говорит он. Кажется, имей хоть малейшую возможность, Петя бы меня ударил. Избил с безжалостной улыбкой. Но он – слабак, и я позволяю себе лишь одно короткое слово отказа.
Он понимающе кривится, будто старый приятель.
– Ничего ты в жизни не смыслишь, дурачок.
Говорит медленно. Но хотя бы внятно, без ненавистной манеры жевать слова, присущей его брату. Пухлая рука описывает полукруг. Говорит:
– Понимаешь, друг мой, природой в нас заложено стремление к горизонтали.
Я фантазирую, как мог бы опрокинуть его уютное ложе на колесах. Как сплясал бы на шее, как бил бы в лицо до тех пор, пока не заболит плечо. Как вырвал бы его пушистую шевелюру, облизывая красные пальцы, как это делала Алиса той далекой ночью.
Петя говорит:
– Горизонтальное проявление себя является сутью мирозданья. Вселенской модой. Если у тебя нет возможности прилечь, то хотя бы сядь.
Сажусь. Не то чтобы против собственной воли, но опускаюсь на стул, еще хранящий тепло учительского зада. Петр подкатывает поближе, и я чувствую запахи клубники и свежих сливок, исходящие от его тела.
– Природе противна сама мысль о вертикальных конструкциях, – говорит он. Руки безумия ласкают мою шею, и я не могу понять, отчего так готов блевануть прямо ему на колени. – Позвоночник человека страдает, таская такую тяжесть, – говорит он, – потому что мать-природа отвергает даже самую незначительную мысль обо всем, что тянется к небу.
Я смотрю на черные покрышки его каталки. Мысленно зову капитана, сообщая, что обнаружил новый неопознанный объект. Черный: приятная на ощупь плоть рояля. Разбитое, выгоревшее дотла сердце.
Слушаю, машинально кивая.
– Дерево в итоге ложится на землю и гниет, – продолжает он, и я не могу понять, какого цвета у него глаза. – Горы опадают, сдуваются и превращаются в равнины, которые потом заливает вода. Прямоходящие умирают, растекаясь лужицами гноя, – монотонно бормочет толстяк, не отводя взгляда.
Если бы я мог, то подумал, что Петя пытается меня соблазнить. Неспешно, издали, завораживая одной лишь интонацией.
– Дома ветшают и рушатся, – доверительно сообщает он. – Все живое и неживое стремится к обращению в прах – финальную стадию любого существования. Наш удел – стать слоем пыли, ровным слоем пыли, покрывающей горизонтальную поверхность. Потому возлежание – культ, которому я поклоняюсь. И призываю тебя присоединиться.
Киваю и киваю, как фарфоровый китайский болванчик.
Перебираю учебники, стараясь не смотреть на часы. Сумасшествие – верная подруга всех живущих в этом доме – кружит по комнате, напевая беззаботную песенку. Петя был одним из первых, кто захотел отведать ломоть убитого пони.
– Когда я смогу отсюда уйти? – спрашиваю вежливо и мягко, чтобы не вызвали Себастиана.
Какое-то время он смотрит на меня. Будто оценивает, какую часть тела попросить приготовить на ужин. Клыкастые стены холла смыкаются вокруг нас, тягостно и неотвратимо.
Говорит:
– А оно тебе точно нужно, Денисонька?
И еще:
– Чего тебе не хватает? Мы ведь можем дать все – деньги, еду, одежду. Заботу и сопричастность к семье. Те, кто ругает золотые клетки, глупы и недальновидны – в них столько прелести…
И еще:
– Разве не сюда ты стремился всю свою жизнь? – Двигает пальцем по трекболу, отчего каталка сдает на метр назад. – Загляни в свою душу. Загляни в себя.
Затем уезжает, оставляя на надраенном паркете широкие полосы от шин.
Встаю, укладывая книги и распечатки в шкаф. Выключаю компьютер, сваливая в ящик стола шоколадки, отобранные у Колюнечки на последнем уроке. Заглядываю в себя, опасливо и тревожно.
Страха нет. Любой из живущих в усадьбе может отнять мою жизнь с той же легкостью, с какой Гитлер убил маленькую лошадку. Но страха нет. Есть лишь чуть заметная пульсация, которая бьется в такт с дыханием Особняка. Он манит. Он привязывает к себе навеки.
Но я все равно попробую сбежать.
Конец весны настоятельно намекает, что я должен готовиться к смерти.
Об этом шепчут яблони, чьи ветки отягощены бременем набухших почек. Об этом напевает ветер, врывающийся к нам за островерхую ограду из свободного мира, где асфальтовые дороги раскинулись на все стороны света. Об этом монотонно бубнит тяжелый майский дождь. Барабанит по жестяным подоконникам, наблюдая за тем, как я волочу по комнатам Особняка тяжелый профессиональный пылесос.
И говорит:
– Ты здесь умрешь.
Даже если и так.
Я никогда не боялся отправиться на тот свет. Вернее, не боюсь уже давно.
При моем-то образе жизни? Ха!
Мы всю жизнь ходим по краю. С самого детства, с первого гвоздя, впившегося в пятку, с первого пореза бутылочным стеклом на берегу речки. С дебютной самостоятельной вылазки во двор многоэтажки от смерти нас отделяет лишь случайность, именуемая удачей или благоприятным стечением обстоятельств. Отделяет тех, кто выжил, остальные не в счет.
Все детство мы забавляемся с Костлявой.
Бросаем в костер патроны от мелкокалиберной винтовки, наворованные в тире ДОСААФ. Разговариваем с незнакомцами. Доверяем взрослым в милицейской форме. Открываем двери, не спросив «кто там?». Лазаем на руках по краю девятиэтажки, бахвалясь перед девчонками. С тройным сальто сигаем в глубину карьера, где мутная холодная вода прячет острые бетонные сваи. Швыряем с обрыва старые кинескопы прямо под колеса проезжающих машин. Воруем малину с окрестных дач, даже не подозревая, что добрый дедушка-сосед спрятал в траве несколько медвежьих капканов. Пробуем незнакомые таблетки. Катаемся на сцепках поездов и трамваев. Смешиваем химикаты. Пьем технический спирт. Шаримся по брошенным стройкам.
Что меняется, когда человек взрослеет? Ничего.
Разве что риск становится более взвешенным. И то лишь у тех, кто намеренно собрался повзрослеть, отяжелеть, прижаться к земле. Остальные продолжают буйный танец, каждую секунду способный вытряхнуть душу из омертвевшего тела. Бухими купаются или садятся за руль. Пробуют наркотики. Прыгают с крыш, привязанные жалкой резинкой. Дерутся с дагестанцами в ночных клубах. Перебегают дорогу в неположенных местах. Грубят незнакомцам. Летают на несертифицированных дельтапланах. Катаются на крышах электричек.
Вся наша жизнь – поиск адреналина.
Который не что иное, как химический эквивалент желания поскорее сдохнуть.
Спасибо, мистер Фрейд, теперь я могу идти?..
Я не боюсь умереть в этом доме. Так почему в свои тридцать с хвостиком должен волноваться о смерти больше, чем тогда – пацаном, взрывающим самопальные бомбы из селитры и натертого напильником магния? В конце концов, от страшного финала не сберегают и самые внимательные ангелы-хранители…
В подвал входит Эдик.
Откладываю книгу, вбрасываю ноги в новенькие тапочки и решительно иду наперерез. Он останавливается, глядя на меня, будто на дохлого енота в мусорном баке.
Мерзкий оценивающий взгляд, очки поблескивают.
– Вчера вертолет мальчика летал без батареек, – тихо говорю я ему, подойдя так близко, насколько позволяет брезгливость. – Это нормально?
Протягивает мне дорогую сигарету. Жест великодушный и высокомерный в равной степени.
– Понятие нормы растяжимо, – отвечает он, и кожа на скулах натягивается, выдавая замешательство.
Манит за собой.
В молчании выходим из общей комнаты в коридор. Приоткрываем внешнюю подвальную дверь, впуская в бетонную кишку прохладный весенний воздух. Нас провожают сразу несколько взглядов, заинтересованных, настороженных. Чума, читающий коммунистическую газету, приспускает очки на кончик острого носа и смотрит так, будто мы со старшим слугой отправились жарить друг друга в подсобке.
– Кто-то считает нормой воображаемого друга, – говорит Эдик, потирая гладкий подбородок. Удивлен, что он вообще решился продолжать разговор. Но терпеливо жду объяснений. – Например, говорящего кота, прибывшего из волшебной страны в полосатом колпаке.
Вспоминаю нестареющую историю доктора Сьюза.
Вспоминаю, как взрослые не верили в россказни Малыша про летающего обжору.
Такое бывает только в сказках.
Такое бывает только в сказках?
Выдыхаю терпкий и легкий сигаретный дым.
На его полупрозрачный столб натыкается ошалелая весенняя бабочка. Дергается, взмывает вверх. Размышляю о том, как только что не впустил ее в дом. Уберег от смерти, монотонной долбежки в окно, сам факт существования которого она не воспринимает. Спас от отчаянья – видеть мир за границей, но не иметь возможности выйти в него.
Я, намеренно губящий себя никотином, этим самым сохранил чью-то крохотную короткую жизнь. Вспоминаю, что еще не так давно сам был такой же бабочкой. И начинаю жалеть, что не позволил крылатой красавице влететь внутрь…
Эдик морщится, словно ему наступили на яйцо.
Ни он, ни я восторга от беседы не испытываем. Но продолжаем курить на пороге, как два старых приятеля. Обычно старший слуга немногословен и держится так, будто остальные обитатели подвала – люди низкого сорта. Но если уж открывает рот, слушать обязаны все. И ведь, черт побери, именно я задал вопрос…
– Я знаю историю про двух подростков, которым повезло знать такого воображаемого друга, – говорит он в своей привычной неспешной манере. – Судя по найденной после шерсти, вроде как кота, как в той американской сказке. Когда кот появился в квартире, дети даже смогли немного с ним поиграть. Построили домик из стульев, одеял и подушек, посмотрели диафильмы, пощелкали пистоны…
Вспоминаю тяжелые шаги по коридору.
Вспоминаю страх и мочевой пузырь четвероклассника, ужавшийся до размеров спичечной головки; схлопнувшийся сам в себя, будто черная дыра или как-там-это-называется у астрофизиков. Сведенный судорогой жуткой боли, не дающей дышать.
Я не хочу возвращаться в свое детство. В мир, где все кажется простым и прекрасным. Не хочу. Даже несмотря на то, что крохотный Денис не мог даже предположить, что в городе существуют места вроде Особняка…
– Но совсем скоро, еще до прихода родителей, – продолжает Эдик, глядя в майское небо, – обоим предстояло убедиться, что из страны сказок к малышам приходят не только добрые шалуны, наводящие беспорядок и исчезающие до возвращения взрослых с работы.
Он замолкает, гася сигарету о шершавую серость бетонной стенки. Заворачивает окурок в белоснежную бумажную салфетку и прячет в карман штанов. Хочет уйти, но я останавливаю его взглядом. Мы слышим, как внутри Чумаков шутливо спорит с Виталиной Степановной.
Спрашиваю:
– Ты веришь, что детей убил воображаемый кот?
Отвечает:
– А кто сказал, что их убили? Он их забрал. – Глядя сквозь маску Эдика, можно заметить, что это очень усталый, я бы даже сказал – изможденный человек. Интересно, мы тоже выглядим такими в его глазах? – Забрал из наглухо запертой квартиры. А теперь вспомни про батарейки. И подумай, где пролегает твоя призрачная граница нормальности…
Спрашиваю:
– Почему ты им служишь?
Но Эдик больше не отвечает. Уходит прочь, причем мимо жилой комнаты – наверх, в недра Особняка. Тушу сигарету, щелчком отправляю бумажные останки в угол коридора и возвращаюсь в казарму.
На меня снова косятся.
Есть за что. Хоть Эдик и обещал не рассказывать, что теперь хозяин приплачивает мне за репетиторство, догадаться об этом не составляет труда. Я купил себе новую толстовку и кроссовки. Пью только соки, которые заказываю чуть ли не ежедневно. Перестал курить дешевые сигареты. Конечно, они знают.
Санжар уже обулся, готовый заступать на вторую часть дневной вахты. Пашок дремлет, он приболел; Виталина Степановна шумит водой в санузле.
Зато, пока мы курили, в подвал спустилась Марина. Время на отдых ей часто выделяют мимо общего графика. Вот и теперь – остальные готовы вернуться на рабочие места, а она переодевается в «домашнее», чтобы выкроить часок дремы.
Не стесняясь, стаскивает строгую белую блузку. Демонстративно оборачивается, смотрит на меня через плечо. На ней светло-сиреневый бюстгальтер, который она тоже снимает. Санжар испаряется из подвала, Чумаков закрывается газетой.
Марина хочет, я чувствую.
Пытаюсь найти в ее неказистом лице хоть что-то красивое и не могу. Бедра еще крепкие, но поплывшие. Грудь маленькая и дряблая, ноги короткие, нос большой и курносый. По сравнению с женщинами из дома над нашими головами, она даже не серая мышь – полнейшее ничтожество. Тень на водной глади вечером сумеречного дня…
Выдерживаю взгляд, и повариха отворачивается первой. Набрасывает на острые плечи пижамную куртку, стягивает желтые волосы в пучок. Тяжко падает на застеленную койку и тут же закрывает глаза.
Сажусь на свою кровать, сбрасываю тапки и натягиваю носки. Меня ждет работа на свежем воздухе, верная тяпка и пара часов одиночества. Чума, уже успевший переодеться в рабочку, тут же оказывается рядом.
Устраивается напротив на пустой лежанке, где когда-то сидел задумчивый Тюрякулов, поведавший про «судью». Выжидает.
Как и остальные, Валентин Дмитриевич посматривает на меня, точно на предателя. Догадывается о повышении зарплаты, но в чужое дело не лезет и в долг не просит.
– Значит, Диська, на клумбы нынче отправили? – спрашивает, будто бы не зная ответа.
Киваю. Попытку завязать разговор расцениваю, как первый шаг к топке льда, вставшего между мной и коллективом после начала частных уроков. Уже через пару минут понимаю, как жестоко ошибался…
– А вот ты, Диська, когда-нибудь думал, – продолжает он, понизив голос, чтобы не услышала Марина, – что мы тут оказались не просто так?
Иногда человеку просто жизненно необходимо исповедаться. Если прижмет, то кому угодно – попутчику в поезде, таксисту, соседу по очереди в ЖЭУ, продавцу в магазине. Соратнику по неволе, запертому в Особняке. Это закон нашей природы, мнительной и болтливой.
Исподлобья смотрю на Чуму, завязываю шнурки кроссовок. Говорю:
– Сейчас не время.
Игнорируя, поднимает взгляд к потолку и продолжает:
– Ты ж, Диська, тоже немало грешков за спиной оставил?
Молчу. Люди часто рассказывают свои истории не для того, чтобы их услышали, а чтобы излить душу. Отодвигаю деревянную заслонку воображаемого конфессионала. Давно ли ты исповедовался, сын мой?
– Я вот думаю иногда… – Крутит в пальцах папиросу, ломая и просыпая на затянутый ковром пол темно-коричневые крошки табака. – Что местечко это почище любой тюрьмы. Такие штуки вспомнить заставляет, братишка, что аж дурно…
Шаги по коридору. Потная мальчишеская ладошка на ручке туалета, вцепившаяся так, что потом еще неделю будет болеть. Задержанное дыхание и страх, сковавший мышцы. Если он дернет дверь на себя, я не удержу. И драться сил не найду…
Чума прав, но я не спешу подтверждать.
– Знаешь, случилась у меня как-то одна история… – Чумаков шевелит сухими губами, с головой погрузившись в воспоминания. – Молодой был, дурной. Забыл уже. А недавно вспомнил и места не нахожу. Хочешь послушать?
Мне плевать.
Десять раз «Славься, Мария» и еще двадцать «Отче наш», и можешь проваливать на все четыре стороны. Он все равно втюхает свою уникальную историю, так почему бы не мне? Пожимаю плечом, но снимаю с кроватной спинки ветровку – демонстративно, намекая, что скоро уйду на работу.
– Не знаю, что накатило тогда, – урка криво улыбается, не заметив моего жеста. Погружен в себя, воспроизводя слова с монотонностью магнитофона. – Увидел мальчишку этого на улице и подломилось что-то внутри. Лет девять, может чуть меньше. Он такой… такой светлый и счастливый был… Не подумай, чтобы я в мальчиках красоту видел, но тут прямо не сдержался. Мне наверное…
Он подбирает нужное слово.
А я вдруг замираю, чувствуя под футболкой на левом боку струйку ледяного пота.
– Наверное, мне ему эту счастливость сломать захотелось, – спокойно говорит Валентин Дмитриевич Чумаков, глядя в низкий потолок. – Грех, конечно. Да и отмотал я свое за дурость молодую. О многом не жалею, Диська! А пацан тот до сих пор из головы не идет. Душу бы отдал, чтобы вернуться и исправить…
Лед подбирается к моим кишкам. Кровь стучит в висках. Я боюсь пошевелиться, потому что кости стали стеклянными и могут растрескаться под давлением скрученных мышц.
– Пошел за ним от школы, – равнодушно продолжает Валентин Дмитриевич Чумаков. – Он в лифт, я аккуратно по лестнице. Сам не знаю, что делать хотел. Этаж вычислил, поднялся. Обошел все четыре квартиры, прислушался. А затем аккуратненько так на одну ручку дверную надавил, а она возьми – да откройся.
Третий раз за последние полчаса вспоминаю шаги по зеленому линолеуму коридора. Вспоминаю охваченный огнем мочевой пузырь, к счастью, только что опустошенный, или бы его содержимое затопило Вселенную…
Мне жутко и мерзко, хочется кричать. Чума продолжает:
– Постоял малеха. Мало ли кто двери в дом не запирает? Может, хозяева алабая держат, так зачем рисковать? Да и время не такое дикое было… В общем, догадался я, что пацан этот именно тут живет. Ранец на полу, ботинки разбросаны, крохотные такие. И что никого в квартире больше нет, я тоже понял. Не знаю как, но понял. Ну, тогда сам-то и вошел. Дверь закрыл на задвижку и только тогда догнал, что хочу с этим мальчонкой сделать. Аж затрясло всего, не поверишь…
Я смотрю на Валька Чумакова, и наконец понимаю, о чем именно он спрашивал, когда подсел на свободную кровать. Чудовище, выглядящее человеком, действительно наказано. Причем не строгачом, на котором уже отсидело, и не черными укусами игл по исколотым венам, где много лет кипел паленый герыч. Оно наказано попаданием сюда – в этот огромный тихий дом, откуда нет выхода.
Говорю:
– Мне пора.
Кровь отливает от лица. Бледнею. Я белый, как молоко матери. Я подвенечное платье и японский погребальный саван. Я смирительная рубашка, не позволяющая ни шевелиться, ни дышать полной грудью.
Встаю, комкая куртку в ладони. На негнущихся ногах направляюсь к выходу.
Марина смотрит мне вслед из-под полуопущенных век.
Пытаюсь понять, в чем я провинился.
Где нагрешил так сильно, что дорога моей жизни изогнулась, забросив в частный сектор к порогу необычного дома с необычной семьей. Разравниваю бледно-серый гравий подъездной дорожки, стараясь не оглядываться на окна. На меня внимательно смотрит Жанна.
Размышляю.
Уже не ставлю вопроса, стоит ли побег риска. Вспоминаю мертвого пони, счастливые окровавленные лица. Присматриваюсь к булыжникам багряного забора и пытаюсь проанализировать график Себастиана. Но пока возможностей нет, я извожу себя пустыми размышлениями. Мы все так делаем, когда не в силах контролировать ситуацию…
В небе – огромная стая голубей. Шумная, шуршащая. Заходит по дуге, будто собирается атаковать. Опираюсь на специальные длиннопалые грабли, с тоской уставившись вверх. Когда стая достигает воздушного пространства над Особняком, ее словно сдувает ветром.
Я уже видел подобное – охотящийся коршун, величественный и грозный, несколько дней назад наткнулся на стеклянную стену, окружающую дом. Птица вздрогнула, будто в нее попала пуля. Обронила пару перьев, а затем кинулась наутек со скоростью, которой я даже не предполагал…
Голубей уносит прочь – нечто невидимое, но надежно охраняющее усадьбу от всего внешнего мира. В чем я провинился, попав сюда?
Иногда ночами я слышу скрежетание каменных жерновов. Сквозь неспокойный сон. Откуда-то снизу, из подвального подвала, если таковая острота будет дозволена. Это моя память перетирает воспоминания в муку, пытаясь просеять бесцельно прожитые дни и найти окаменевшее зерно. Пытаясь найти причину, по которой я здесь.
Открываю глаза и вижу Эдика, тихонько возвращающегося в общую комнату. Примерно раз в неделю, среди ночи, под скрежетание каменных плит. Его колени, обыкновенно безупречно чистые, выпачканы белым. Ладони тоже. Он и есть мельник, заставляющий мысли скакать по кругу, доводя меня до изнеможения. Прячется за занавеской и чистит брюки икеевской липучкой…
Главный ужас ситуации заключается в том, что мне нужно бежать.
Но я не хочу.
Какая-то моя часть, пусть даже обкормленная транквилизаторами, совершенно не боится происходящего. Более того – происходящее ее устраивает…
На вчерашнем уроке Колюнечка в первый раз пытается меня укусить. Дожидается, пока отвернусь, чтобы написать на доске. Подползает под партой и с заливистым детским смехом пробует тяпнуть в левую лодыжку. Обслюнявливает штанину.
Вместо того чтобы ударить, пнуть или отшатнуться, я нагибаюсь. С усилием поднимаю щенка подмышки, усаживаю на прежнее место. Даже пальцем не грожу.
– Ты будешь моим другом, – говорит мне тогда мелкая тварь, клацнув белыми зубками. – Ведь правда?
Возвращаюсь к доске, скриплю маркером по ее гладкой серой поверхности. Понимаю, насколько соскучился по старым добрым звукам скребущего мела, и спокойно продолжаю урок. Из соседней комнаты раздается негромкий и чарующий смех Алисы…
Все же поворачиваю голову и вижу в окне Жанну.
Стоит за шторой, но так, чтобы было заметно. Улыбается, рассматривая, как я ровняю дорожку. Ее левую руку скрывает тень, но мне откуда-то известно, что Жанна ласкает себя. Продолжаю работать, позволяя мыслям перестукиваться, будто светлым гладким камешкам под моими граблями…
Если бы человеку дали возможность выбрать одно-единственное слово, характеризующее его жизнь… отношения, друзей, любовь, родных, работу, увлечения, цели, приоритеты, привычки… одно слово, обрисовывавшее жизнь… у меня это было бы слово «прощай». Как же часто я слышал его на своем коротком веку? Как часто заставлял себя верить, что еще не все потеряно. Что в будущем все будет совсем иначе, и я обрету… А потом снова – прощай, как удар в пах.
Одно-единственное слово, характеризующее мою жизнь.
Именно поэтому я попадаюсь в ловушку Особняка – я слишком к ней готов. Стремился и стремлюсь до сих пор. Отдаюсь без сомнений.
Может оказаться, что я не бегу, потому что наконец-то обрел настоящий дом? Отца, которого у меня никогда не было? Мать? Настоящую мать, а не ту тихую алкоголичку, спивавшуюся в одиночестве в перерывах между рабочими сменами, пока маленький Дениска был предоставлен сам себе.
Образы родителей меркнут, подменяясь ликами Константина и Алисы. Фрейд упивается, Юнг ликует. Я нашел их. С равной возможностью могу получить поощрение и наказание за провинность, сексуальное подкрепление и самореализацию в работе. Я нашел дом, против моей собственной воли включивший меня в свою семью.
Можно ли нагрешить так, что Бог пошлет тебя обрести духовную родню?
Чем провинился я, чтобы оттирать детскую слюну от джинсовой брючины?
Вспоминаю недавний рассказ Пашка. Про нелегальный кемеровский клуб, где тусовались местные бандосы. Ни лицензии на торговлю бухлом, ни рекламы, ни соблюдения санитарных норм. Место для своих, где суровые кемеровские мужики глушат водку в полумраке подвала, а на скользком танцполе извиваются их смазливые девчонки.
Пашок не рассказывает, что именно не поделили бандиты. Они всегда что-то делят и не делят. Но заканчивается все тем, что одна группировка находит человека. Аптекаря, как это называется в узких кругах. Достаточно умелого и безбашенного в равных пропорциях. И тогда он изготавливает химическую смесь. Что-то вроде домашнего напалма, какую и огнетушителем не взять…
Подвал выгорает за считаные минуты.
– Меньше получаса, – мямлит Пашок, краснея от смущения.
Восемнадцать трупов, еще четыре десятка обожженных разной степени тяжести. Излишне уточнять, что во время возгорания двери клуба оказываются заблокированы. Не «Хромая лошадь», конечно, да и резонанса было меньше… Но трагедию город переживает долго.
Смесь распыляют через систему пожаротушения. По трубам, призванным спасать жизни, а не отнимать. Попав на сигареты, она сразу воспламеняется. И тогда сексуальные тела на танцполе начинают извиваться совсем в другом ритме…
Пашок недоговаривает. Но все отлично понимают, что смесь изготовил именно он. Обеспечив себе билет в Особняк, кем бы там наверху эти купоны ни выдавались. Не знаю, обнюхался ли выродок клея или вмазался, но теперь смотрю на него брезгливо, как на жирного таракана. Уже раздавленного, но еще живого.
Начинаю понимать. И по-прежнему нащупываю ответ на вопрос – что тут делаю я? Среди таких, как Чума или малолетний нарколыга-поджигатель…
– Почему они убили лошадь? – спрашиваю его, когда история окончена и остальные разбрелись по койкам.
– Какую, нах, лошадь, братюня? – отвечает он. Его язык снова ощупывает десны, скользит под кожей подвижным бугорком. По глазам парнишки я вижу, что тот действительно забывает. Будто не было кровавого пруда, в котором плескался мальчишка в форме морячка. – Ты про фильм вчерашний?
Нет, я не про фильм Стивена Спилберга. Даже в самом жутком и вымораживающем кино не бывает того, что мы с Павлом видели месяц назад, скрывшись за кирпичной стенкой, прикрывающей спуск в подвал. Он врет мне. Врет сам себе. Потому что так проще и легче. Я не настаиваю. Но сам забыть не в силах.
У моих граблей темно-желтая, отполированная ладонями ручка. Как золотистая жареная картошечка, поданная с салом и лучком. Или кожа больного гепатитом, заживо съедаемого изнутри, худого, изъязвленного и донельзя изможденного…
Этот дом перемалывает без остатка. Как один большой желудок, переваривающий людей. Огромный цветок-мухоед, из которого не выбраться.
Смотрю в северо-восточный угол двора. Там из стены торчит, почти выпав, массивный кирпич, превратившийся в ступеньку. Если на него удастся взобраться, один рывок позволит ухватиться за край и короткие пики наверху. Я попробую сделать это, когда смолкнет гул каменных жерновов.
– Иди за мной, – говорит Жанна за моей спиной.
Вздрагиваю, роняя грабли на щебень дорожки. Оборачиваюсь, готовый поразиться, до чего бесшумно она подкралась.
Женщина стоит на балконе третьего этажа, улыбаясь и поманивая пальчиком.
Этот дом читает мысли…
Иду к подъезду, оставив инструмент там, где тот упал. Снимаю перчатки, машинально засовывая в карманы рабочей куртки.
Иду на ее зов.
Конечно, иду. Чего бы не пойти? И не потому, что она сплела в моем сознании призрачный узор, вызвавший массу ассоциаций. Узел, надавивший на болевые точки треснувшей психики. Просто я действительно хочу.
Последний раз был с женщиной давно. Ровно год назад. И совсем не с такой привлекательной, как Жанна…
Дорога на Алтай, начало лета. Придорожное кафе «У Остапа», в котором я подвизался подработать. Один из четырех поденщиков, таких же щепок в океане жизни, как я сам.
Ее звали Юлька. Симпатичная, но поношенная. Закурила вонючий «Пэл Мэл» еще до того, как я выдавил последние капли на ее дряблую жопу, сотрясаясь всем телом. Вспоминая это, понимаю, что сейчас принял правильное решение. А потому иду на призыв Жанны. Откуда-то зная, что она – это мама Алисы и бабушка Колюнечки. Вечно молодая и раскаленная, как доменная печь.
Плевать, я разучился удивляться. Я желтый пенный лимонад, в жаркий день спасающий от жажды. Я поблескивающие глаза хищника, подступающего во мгле…
Настоящее примирение с самим собой происходит, когда понимаешь – в кино о собственной жизни ты играешь далеко не главную роль. Ты на втором плане, твое имя в титрах покажут шестым или десятым, и бесполезно что-то менять.
Нельзя переспать с режиссером, дать взятку, блеснуть талантом и угодить на лучшую роль – ты всегда останешься наблюдателем второго плана. Несуразным, некрасивым, милым и очень преданным спутником главного героя. Мужем героини. Твои внуки спасут человечество вместе с соседскими внуками, а ты будешь наблюдать с покосившейся веранды. Твой напарник вытащит ребенка из горящего дома, пока ты будешь удерживать колотящуюся в истерике мать. Твой отец улетит взрывать астероид, а тебе останется лишь эффектно замереть на фоне серого экрана. Спасибо, что хоть не статистом сделали…
Этот дом перемалывает меня заживо.
Значит, пора обрастать панцирем.
Мы прислуживаем на званом вечере.
Точнее, вечер мог бы называться таковым, если бы кроме семейства за столом находились гости. Но их нет.
Прислуживаем вшестером. Недостает только Виталины Степановны, ей многочасовое стояние за хозяйским стулом не всегда по силам. Огромная столешница заставлена едой, которой хватило бы на двадцать человек. Марина постаралась, с утра строгать начала. Но к ужину приступают лишь пятеро, Гитлер еще минут тридцать назад застыл над пустой тарелкой, уставившись на колени под белоснежной салфеткой.
И еще я не уверен, что эти пятеро – люди. Дальнейшее лишь усугубляет опасения…
По такому случаю холопов причесали и переодели в черные костюмы-двойки. Не смокинги, конечно, но весьма помпезно, однообразно и строго. В одинаковых пиджаках и галстуках мы выглядим по-идиотски; исключением является разве что Эдик, чья одежда подогнана по фигуре и сидит очень ладно.
Когда мажордом дает знак, мы цепочкой утягиваемся в соседний кабинет. Там Марина торопливо указывает, что из блюд брать на этот раз и куда составлять грязные тарелки. Пустой зал с картинами на стенах забит столиками на колесах – тут печи для кейтеринга и холодильники; шкафчики с посудой, столовыми приборами и полотенцами. Мы устали, в животах урчит, от запахов кружится голова. Но все предвкушают собственный пир из объедков, потому на лицах даже мелькают улыбки.
– Пусть солнце уйдет на убыль, – многозначительно говорит Петр, салютуя бокалом, – и навсегда сгинет за горизонтом.
Ему отвечают все, и даже Колюнечка – поднимает морс. Хозяин дома делает крохотный глоток, закусывая фисташкой. Берет ее золочеными щипчиками из специальной пиалы, отправляя в рот прямо в скорлупе. Мы слышим, как та хрустит, раздробленная челюстью Константина.
Я стараюсь отвлечься.
От надменного жеманства Петра, от любопытных взглядов мальчика. От игривого прищура Жанны, взявшей за правило раз в два дня вытягивать из меня все жилы – на кровати, на диване, на кресле и просто у окна. От сосредоточенной обнуленности Себастиана, похожего на отключенного робота. От Чумы, на которого теперь не могу смотреть без содрогания. От улыбки Пашка, заискивающей и едва читаемой.
Мой внутренний мир – страна упущенных возможностей.
В ней нет гор и ущелий – только пустыня. Скорость ветра сожалений иногда достигает показателей урагана. Воспоминания не стоят и выеденного яйца, они способны принести лишь боль и уныние. Даже самые радостные. Дом это знает, а потому заставляет круг за кругом по спирали восстанавливать в памяти собственную жизнь, давая оценки и развешивая ярлыки.
В таком состоянии люди любят перебирать старые фотографии.
Вынимают из книжных шкафов альбомы, разлепляют слипшиеся от времени страницы, заглядывают во вчерашний день, поражаясь, кто потолстел, а кому лысина «очень даже идет». Иногда для этих целей служит социальная сеть, залежи никому не интересных картинок с поездки в Египет или Хорватию.
У меня нет альбомов. Единственная фотография вклеена в паспорт. И аккаунта тоже нет.
Никогда не имел собственного компьютера. Не считая «Спектрума», собранного на коленке инженером – другом отца – из сворованных с завода деталей. Помню, друг продал его бате за большие по тем временам бабки…
Что такое Интернет? Название зубной пасты? Поза из «Камасутры»? Болезнь?
Ставлю перед Жанной стальную мисочку с жюльеном. Подливаю вина, к которому она почти не притронулась. Пытается ущипнуть меня за зад, терплю и с приклеенной улыбкой несу пустую бутылку в соседний зал. Петр потягивает медовый отвар, стекающий из уголка рта. Лениво роняет в воздух, продолжая прерванный разговор:
– Обычному человеку никогда не понять существ высшего порядка. – Говорит медленно, в свойственной ему манере пережравшего сметаны кота. На лоб падает русая челка, и я как никогда хочу ударить по ней ножом. – Существ, еще сохранивших человеческие черты, но уже возвысившихся.
Остальные внимательно смотрят на него – туша в инвалидной коляске, медузообразный окорок, облаченный в просторный костюм цвета «мокрый асфальт». Алиса отпивает вина и поправляет бретельку алого вечернего платья. Коленька болтает ногами, перемешивая жюльен вилкой и наматывая на зубья резиновые хвостики топленого сыра.
– Генералы, приходящие к власти в странах третьего мира, – продолжает Петя, вещая сразу и для господ, и для слуг.
В первую очередь, конечно же, для холопов. Холопы молчат, истуканами застыв за высокими спинками темно-коричневых стульев. Горят свечи, залу наполняет влажная пульсирующая нега.
– Премьер-министры, монархи и олигархия. Персоны, обладающие безраздельной властью, имеющие горы денег, позволяющие себе все, чего может пожелать смертный…
Я листаю странички мысленного твиттера. Рассматриваю альбомы «ВКонтакте». Перебираю архивные завалы «Одноклассников». Моя Сеть остается невообразимо личной и защищенной от просмотров извне…
Просматриваю новости и ленты друзей. Их немного, они выцветают. В голове проносятся фотографии, видео, музыка, события и статусы. Особенно ярки именно последние. Например: Юсуп Назарбеков «помолвился» с портвейном.
– И в один ожидаемый момент, – продолжает Петр, пухлыми пальцами поглаживая джойстик на левом подлокотнике коляски, – такие, как мы, пересекают орбиту. Выходят в атмосферу, совершают рывок.
Инна «отмечена» на фотографии ДТП, где смятая в хлам «девятка» на полной скорости нашла японца…
Жирный продолжает разглагольствовать, на него с ленивым интересом смотрит лишь Жанна. Алиса доедает кусочек фаршированного баклажана. Константин подцепляет щипцами еще одну фисташку, пережевывая вместе со скорлупой. Чумаков, замерший за коляской сибарита, уставился в одну точку, будто на самом деле решил вникнуть в суть катящихся над столом слов.
– Потому что человек не может стоять на месте, – словно переубеждая кого-то, изрекает Петр. – Он обязан развиваться, становиться высшим существом. И когда базовые инстинкты удовлетворены… когда есть все, мы познаем новые грани таких понятий, как честь, мораль, этика, вера и так далее.
Киря Мокрый сменил статус на «зажмурился».
Невидимые пальцы кликают по невидимым кнопкам, перебирая новостные ленты и записи на выдуманных «стенах». Петя смотрит на меня, улыбается и кивает.
– Всесилие развращает? – внезапно спрашивает Алиса.
– Всесилие переносит категории на иной уровень, – отвечает Жанна.
Петр снова кивает, мерзкая прядь закрывает его левый глаз. Говорит:
– Именно. Новый уровень, новая система. И после преодоления рубежа мы становимся ее гармоничными элементами.
Вадик «в активном поиске» дозы.
Андрей считает, что «главное в людях» – умение крышевать рынки.
Толстяк откидывается на ортопедическую спинку кресла, невероятно слоистый и самодовольный. Облизывает губу, подтирая языком медовую дорожку.
– Если, скажем, более сильный игрок твоего уровня предложит – подпиши бумагу, отныне подданные станут жить хуже, но ты обогатишься еще на порядок. – Он говорит и говорит, по очереди посматривая на каждого из слуг. – По правилам нашей игры ты подписываешь, даже если тебе не нужны эти деньги. Потому что если вдруг опустишься на прежний уровень… дашь слабину и откажешь, пожалев подвластных… если вдруг в тебе взыграют благородство и сострадание на том примитивном уровне, как их понимает девяносто пять процентов населения планеты… тебя устранят и на твое место придет другой – более сильный, крепкий и безжалостный.
У Олега «все непросто» с наркотиками.
– Мы не ищем оправданий, – негромко и невнятно произносит Константин, и я вижу ниточки слюны, скрепляющие его губы. На одной из них висит крохотный обломок фисташковой скорлупки.
Петр игнорирует реплику. Подносит ко рту бокал с отваром и делает глоток.
– Обвинять нас в том, что мы бесчеловечны и жестокосердны, – говорит он, – бессмысленно и глупо. Это все равно, что обвинять в жестокости снегопад или торнадо. Нужно найти крайнего, чтобы обвинить в ярости Божество? Тогда вините систему, превратившую нас в чудовищ. Вините заговоры и кукловодов, но нас – молодых Богов, населяющих планету, вы винить не вправе.
Перебираю статусы и фото. Стукачка Алена сменила отношение к милиции с «резко негативное» на «компромиссное». Меня тошнит и уже совсем не хочется есть. Болит живот. Жанна смотрит так, словно прямо сейчас готова сорвать мои штаны.
– Все свободны, – вдруг говорит хозяин дома, отодвигая мисочку с недоеденным жюльеном. – Денис, останься.
Колени превращаются в желе.
Чума, пряча улыбку, первым направляется к дверям. Остальные, похожие на коллектив оркестра, послушно топают следом. Моя шея холодеет, рубаха так стискивает грудную клетку, что еще чуть-чуть, и я потеряю сознание. Хочется сорвать ее, разбросав пуговицы по блестящему паркету, сегодня утром надраенному Тюрякуловым.
Воздух сгущается. Кажется, я дышу водой, до того тяжко пробивается в легкие каждый последующий вдох. Колюнечка улыбается. Его нижняя челюсть отвисает и отвисает, почти касаясь тарелки, улыбка пытается достать до ушей. Нереальность происходящего настолько выбивает почву из-под моих ног, что у меня даже нет сил протестовать.
– Денис, встаньте на колени, – говорит Константин, золотыми щипчиками указывая на пустое место позади Петра.
Я не шевелюсь.
Хочу позвать на помощь, но не могу. Не знаю, что они удумали – эти сидящие за столом «молодые боги». Но кислое предчувствие окутывает меня все сильнее и сильнее. Протухший насквозь дом наблюдает, портреты на стенах ехидно улыбаются. Свечи меркнут, словно теперь они производят антисвет, тьму в самом чистом ее виде.
Нужно дышать, но я не умею.
Нужно бежать, но в этот момент Себастиан оживает, вонзив в меня один-единственный взгляд.
Покорно, будто овца, огибаю застолье, остановившись в указанной части комнаты. Гитлер, не моргая, наблюдает, и я тяжко опускаюсь на колени. Один молчаливый приказ, и он окажется рядом со мной в мгновение ока. Вынудит силой, через боль. Ее я не желаю.
Неужели никто из слуг не поможет мне избежать унижения?
Колюнечка стекает со стула. Как пропитанная водой тряпка, что совсем не вяжется с его мишленовской комплекцией. Петя чуть трогает джойстик, разворачивая самокатное кресло так, чтобы лучше видеть происходящее. Алиса оборачивается, изящно и легко забрасывая ногу на ногу, и внимательно смотрит на наручные часы от Patek Philippe.
Мальчик появляется из-под стола.
На четвереньках, будто звереныш. Скатерть – та самая тяжелая парчовая скатерть, белая в желтых цветах, что я стелил еще пару часов назад, – ласково треплет его по макушке. Обвивает волшебным плащом и, наконец, выпускает. В движениях Колюнечки неестественная, нечеловеческая гибкость, от которой пышет безумием и чужеродностью. Успеваю подумать, что людские суставы не умеют так изгибаться, и в этот момент мелкий ублюдок оказывается совсем рядом…
Его нижняя челюсть все еще отвисает, демонстрируя бледно-розовый язык и мелкие крохотные зубки, часть которых недавно досталась Зубной Фее. Глаза сверкают, будто надраенные фосфором монетки.
– Можно, – тихо говорит Алиса, пристукнув по циферблату безупречным ногтем. – Денис, пожалуйста, постарайтесь не двигаться…
Розовый язык ребенка приближается. Краснеет, багровеет. Я чувствую жаркий запах жюльена. Колюнечка приподнимается на цыпочках и слюняво кусает меня за левую щеку.
– Ниже, малыш, – вежливо и с искренней заботой поправляет его Жанна. – Не обглодай лицо…
Не могу пошевелиться. Мир становится красным. Как капоте матадора, под гром оваций скользящий по рогам здоровенного израненного быка. Как бесконечное ожидание, тревожное и пульсирующее. Петр заливисто и гулко смеется.
Я жалок и слаб.
Иначе бы уже давно попробовал выдавить мелкому засранцу глаза.
На шее вспухает лиловый синяк.
Неровный и объемный, с ядовито-желтыми прожилками, словно кольцевая язва или клеймо бубонной чумы. Горячий, дышащий собственной жизнью прерывистый круг, составленный из рельефных пунктирных линий. Кожа не прокушена, но боль такова, что иногда я невольно ощупываю шею, просто чтобы убедиться, что нарыв не лопнул.
НТПЧЯНСБЖД. Волшебная аббревиатура, позволяющая существовать даже после самых жестоких ударов судьбы. Ничего Такого, После Чего Я Не Смог Бы Жить Дальше.
Обряд, запланированный семейством, не удался.
Или что это вообще было? Ритуал, жертвоприношение, месса. Мне все равно. Во всяком случае, я демонстративно не подаю вида. Хотя тело до сих пор трясется, а сознание отказывается верить в реальность случившегося. Начинаю догадываться, почему время от времени кто-то из подвальных носит водолазки с высокими воротниками. Или рубахи с длинным рукавом, несмотря на летнюю жару. Пожалуй, дело не совсем в подземных сквозняках…
Наверное, первым делом стоит задуматься о вампирах.
Вспомнить все, что читал, смотрел или слышал. Сам же презрительно кривлю нос, когда современник из романа или боевика сталкивается с кровососами, якобы ровным счетом ничего о них не зная.
Я про кровососов слышал немало. Но мысль о том, что семейство – вампиры, приходит отнюдь не в зале ужина, когда Колюнечке так и не удается прокусить мою шею. Позже – когда Эдик и Пашок отнесли мое безвольное тело в подвал и бережно уложили в постель. Когда проснулся, вспомнил и чуть не закричал.
Это не вампиры…
Или не такие, к каким я привык благодаря Райс, Кингу и Стокеру. Несмотря на то что в доме почти нет зеркал, я видел их отражения. Они выходят на улицу днем. Жанна не спит в гробу – я уже не раз бывал в ее постели и могу подтвердить это под присягой. Марина добавляет в еду немало чеснока. Не удивлюсь, если христианские кресты тоже не возымеют силы.
Обстоятельства, с которыми я столкнулся по эту сторону высокого кирпичного забора, настолько необычны и странны, что не укладываются в привычные каноны и рамки.
Я познаю страх.
Не литературный, который в нас пытаются заложить-внедрить писатели. Но реалистично-жизненный, какой подкатывает, когда подруга гнется от передоза… или приятеля надели на нож, а ты упорот настолько, что не можешь даже набрать «03». Страх высшего порядка, иррациональный, не поддающийся измерению и оценке. Бороться с ним помогает сон – почти сутки я не выбираюсь из кровати, и только Марина время от времени приносит мне чашку бульона.
В последнее время она немного отстранилась – некоторые женщины умеют на расстоянии чувствовать, когда желанный мужчина стал принадлежать другой. Но все равно льнет, как влажная рубашка на ветру. Постоянно сбегает с кухни, чтобы напоить горячим или подоткнуть одеяло.
– Тебе нужно отдыхать, – говорит она. – Набирайся сил, – советует она. – Ты сильный, ты через это пройдешь… – И словно невзначай демонстрирует левое запястье, на котором белеют едва заметные застарелые шрамы.
Остальные ко мне не лезут совсем – ни с расспросами, ни с соболезнованиями. Вероятно, как и сортировка мусорной кучи, покусы их тоже не миновали.
Меня отсутствие интереса устраивает, как нельзя больше. Сплю без снов, хоть и тревожно. Стараюсь не расчесывать зудящий синяк. Дважды плачу. Жду…
Окончательно в себя прихожу только на следующее утро.
НТПЧЯНСБЖД.
Кровоподтек на шее заживет, как и багровый рубец ужаса, перечеркнувший душу. А упасть ниже, чем я уже опустился, просто невозможно. Дно этой душевной ямы обито мягкой резиной, разрешая отдохнуть и пожалеть себя. А еще из колодца видны звезды…
Я позволяю Жанне использовать себя. И Колюнечке позволяю, и Константину, и всему Особняку. Уставившись в низкий потолок и бережно ощупывая шею, начинаю анализировать, как могу использовать его в ответ.
Познания по химии ограничены, я всегда был склонен к гуманитарным наукам. Но все равно перебираю в памяти разноцветные бутылки, забившие хозяйственный склад и многочисленные кладовки, – средства для прочистки труб и унитазов, раковин, фаянса и паркета. Записываю на обрывках мыслей чернилами надежды пропорции содержания диметилкетона, гидроксида метила, этилового эфира и терпентинного масла. Средства для чистки ванн и писсуаров – настоящий рай для толкового алхимика.
Надеюсь, Особняк этого не понимает…
А еще надеюсь, что до этого не дойдет, и выпавший из кладки кирпич поможет мне…
– Выпей, – говорит Марина, присаживаясь на край кровати и распугивая опасные мысли. – Я добавила в чай немного коньяку, тебе станет легче.
Первое время из дома меня не выпускают. Да и работой особенно не загружают. Эдик прохладно-обходителен и в меру заботлив. Уроки отменены, я совсем не вижу мальчишку. Это к лучшему – иногда мне кажется, что я настолько преисполнен затаенной ненависти и негодования, что наброшусь на Колюнечку и со всей дури влуплю по маленькому пухлому личику…
Когда Феклистова передает мне шоколадный батончик – подарок щенка, робко оставленный для меня на кухне, – я едва удерживаюсь, чтобы не запустить в нее упаковкой. Благодарю, прячу в карман и продолжаю полировать тяжелые подсвечники.
Дом пахнет затхлостью и запустением, будто фанерная дачная будка, в которой уже лет двадцать не было хозяина. Единственным ярким пятном, как прочерченная по воздуху люминесцентная лента, остается шлейф духов Жанны. Скользит где-то рядом, наблюдая из гулких анфилад и не приближаясь.
День прекрасен.
Он по-бунински упоителен и по-чеховски размерен.
Так и требует воспевать себя в акварели и стихах.
На небе ни облачка. Июньское солнце переплескивает через забор и бьет в домину таким мощным потоком, что делает его удивительно красивым. Металлические трубы, флюгера, водостоки, перила, решетки и оконные задвижки сверкают; стекла плюются солнечными зайчиками, прогретые каменные стены начинают дышать. На какое-то время Особняк втягивает зубы и когти, притворяясь самой обычной усадьбой.
После обеда Эдик приносит благую весть – в честь хорошей погоды все дальнейшие работы по дому отменяются. Желающие могут позагорать за сараем, откуда не видны шезлонги хозяев, бассейн и натянутый над столами тент. Вечером, намекает холеный домоправитель, если настроение Константина не ухудшится, нам позволят допить только что вскрытый пивной кег.
Мы маринуемся за углом сарая всю вторую половину дня, слышим несмолкаемый смех Колюнечки. Санжар и Пашок рубятся в карты, потом в нарды, потом в домино, и компанию им составляет Чумаков. Я вроде как вместе со всеми и одновременно особняком.
– Братюня, партейку? – тасуя колоду, интересуется торчок.
– Позже, – отвечаю я, прикрывая глаза.
Только Феклистова все старается быть поближе, но ее я игнорирую. Подставляю солнцу рубцы на шее и сжимаю в кармане нож из нержавеющей стали. Столовый, но с острым кончиком, предназначенный для стейков. Сворованный позавчера после помывки хозяйской посуды и до сих пор не обнаруженный. Мое единственное и крайне ненадежное оружие.
Виталина Степановна спит в раскладном кресле, безвольно раскинув руки. Пашок, заботливый ублюдок, даже поставил над ней зонт, чтобы не обгорела на жарком и лучистом солнце.
Эдика, конечно же, с нами нет. Прислуживает баринам на коктейльной вечеринке заднего двора. Еще утром бассейн промыт, прочищен и наполнен, в нем с визгом резвится мелкий кусака.
Солнце клонится к забору. Цепляется за фонарный столб, срывается и продолжает падение.
Появляется Эдик. Делает многозначительный жест, Валек и Санжар уходят. Уходят, чтобы через несколько минут притащить полупустой серебристый кег, большая часть которого, я уверен, перекочевала в желудок Петра. В пластиковые стаканы бьет пенное.
Темнеет поздно, и каждая минута ожидания превращается в час.
Почти не прикасаюсь к пиву. Наблюдаю за медленным опьянением обитателей подвала. Свой стаканчик пропустила даже старуха. Марина так и вовсе налегает, почти не оставляя сомнений, что уже этим вечером попробует штурмовать мою постель. Улыбается. Даже подмигивает.
Я словно удав на охоте, замерший до срока. Неподвижен, неразговорчив, ленив с виду и расслаблен. Зеленый, как настоящая змеиная кожа. Как сухая трава, забиваемая в сигарету с забвением. Как статус «В СЕТИ», загоревшийся на ее имени шесть часов назад, пролетевший без единого сообщения, даже короткого «привет»…
Наконец Эдик отдает распоряжение сворачивать вечеринку.
Мы собираем кресла и раскладной столик. Бросаем перепачканную одноразовую посуду в черные полиэтиленовые мешки для мусора. Пашок выдавливает из крана последние капли, натыкается на осуждающий взгляд старшего слуги и виновато уносит пустой кег в сарай.
Тащим пикниковое добро в подвал. Я стараюсь двигаться нарочито медленно, отставая и все выискивая в аккуратно стриженной траве мусор, пластмассовые вилки и окурки.
– Идите, я догоню, – говорю остальным, демонстративно кивнув на стол и два туристических стула, упакованные в чехлы и прислоненные к дощатой стене.
– Не задерживайся, – отвечает Эдик, назидательно блеснув в мою сторону циферблатом на запястье.
И они уходят, оставляя меня одного.
Больше не слышен детский визг. Бассейн, тент и шезлонги брошены в наступающих сумерках, как амуниция отступившей вражеской армии. Хозяева опять в доме, холодном и невзрачном, выделяющемся на фоне летнего неба, будто гигантское и нелепое надгробие. Ветерок прохладен и несвеж.
Проверяю шнурки кроссовок. Проверяю толстый цилиндрик из купюр, спрятанный в кармане джинсов. Проверяю нож, ради которого мне пришлось прорезать передний карман.
Зажимаю под мышкой оставленные вещи. Выхожу из-за сарая – заботливый слуга, твердо решивший ничего не забыть, потому что пообещали дождь. Еще раз осматриваюсь, украдкой покосившись на окна. Ни одна штора не шевелится…
Огибаю домину с запада, привычно направляясь к спуску в подвал. Но вместо того, чтобы свернуть на ступени, ускоряю шаг. Лезвие царапает правое бедро, холодя кожу так, что я предполагаю морозный ожог.
Стулья и пакет с уцелевшей пластиковой посудой опускаю за занавеску темно-изумрудного плюща, набравшего цвет и тягучую силу. Тонкие змееподобные лианы шуршат, предупреждают, колышутся.
Поудобнее перехватываю столик, чью прочность ненароком проверил еще пару часов назад. И припускаю в угол ограды, стараясь не лязгать зубами.
Страшно так, что хочется выть.
Столик неожиданно тяжелеет, словно изготовлен не из пластика и алюминия, а из чугуна и оргстекла. Чуть не выскальзывает, и я издаю стон, ободрав костяшки пальцев.
Лишь единожды приземляясь на середине, перепрыгиваю дорожку из гравия. Шлифованный щебень предательски шумит и перестукивается, будто подает дому зашифрованные сигналы тревоги. Форсировав дорогу, перехожу на бег, стараясь не упасть и не споткнуться о декоративные менгиры, творчески расставленные по переднему двору. Темнеет стремительно, будто территорию усадьбы накрывают черным покрывалом. Теперь со дна моего колодца не видно даже звезд…
Возле стены я срываю чехол.
Руки дрожат, как и колени. Раскрываю ножки, зафиксировав крепления далеко не с первой попытки. Шарниры скрипят так, что способны перебудить весь квартал. Затравленно оборачиваюсь, бросая на Особняк взгляд. Надеюсь, что последний…
Дом спокоен и тих. В спальне Жанны горит ночник, неярко пульсируют фонари по краям крыльца, весь первый этаж погружен во мрак. На какое-то мгновение мне кажется, что из подвального спуска бьет тонкая струя света. Но я убеждаю себя, что это лишь игра воображения.
Двор пуст, совершенно пуст.
На том месте, где почти два месяца назад лежал убитый пони, растет яркая зеленая трава. Белеет камешками подъездная дорога. Декоративные валуны по ее краям похожи на притаившихся гномов-людоедов. Меня снова охватывает такой дикий страх, что я роняю стол и тот заваливается на бок.
Вскидываю, прижимая к стене. Проклиная скрежет пластика, карабкаюсь на него. Чувствую, как столешница прогибается под моим весом, как стонет и готова вот-вот сломаться. Впервые за долгое время начинаю молиться. Не Богу или Небесам – я молюсь всему хорошему, что еще осталось в мире, где маленькие мальчики купаются в лошадиной крови, а ночные клубы горят напалмовым огнем.
Видимо, у этого нечто на меня иные планы…
Осторожно, как цирковой акробат на шаткую конструкцию из труб и перевернутых стульев, встаю в полный рост. Чувствую – одно неловкое или резкое движение, и столик подо мной схлопнется мышеловкой. Тянусь вверх, словно росток, цепляюсь за едва ощутимые выступы на гладкой стене.
Поднимаю правую ногу, чуть не воткнув нож в бедро, слепо шарю ступней в поисках дефектного кирпича. Нащупываю, упираюсь подошвой и готовлюсь перенести вес.
– Слезай, – негромко, но отчетливо произносит Себастиан из-за моей спины.
Я замираю.
Как хамелеон, пытающийся слиться с терракотовой поверхностью кладки. Чувствую каждую трещинку. По запястью ползет паучок. Пахнет паленой пластмассой. Во рту горечь. В глазах неожиданно щиплет, и к горлу снова подступает тошнота.
– Слезай, – повторяет Гитлер, и я слышу в недрах двора мелодичный перезвон строгих собачьих ошейников.
Поворачиваюсь.
Особняк похож на глыбу угля. Нет, не так – дом похож на черный айсберг, блестящий и без единого огонька в толщине. Когда погасли окна и фонари, я не понимаю, но вселенная вдруг погрузилась в первобытную темень, из которой нет выхода.
Не слышу, не вижу, но чувствую, как охранник семейства делает шаг к моей хлипкой конструкции. Разворачиваюсь всем телом, нащупывая в кармане рукоятку ножа. Ладони скользкие от пота, но я даже не успеваю их обтереть.
Мне уже приходилось вонзать клинки в человеческое тело. Равно как и получать удары. Что бы ни произошло, сегодня ночью я покину это место…
– Не нужно, – предупреждает силуэт Себастиана. Странный «немецкий» акцент настолько неуместен в этой нелепой ситуации, что меня чуть не пробирает смех. – Просто слезай.
Прыгаю на него, выхватывая нож. Столик для пикников, наконец-то сложившись, со скрипом и хрустом заваливается следом.
Целю в левую половину груди, выше сердца. Наугад, в темноту, не слыша ни дыхания, ни шуршания одежды.
Приземляюсь в траву, чуть не споткнувшись, но удерживаюсь на ногах. Лезвие, преодолев сопротивление, засело в чем-то податливом, но упругом, словно шмат подмерзшего теста. Не издав ни звука, Себастиан хватает меня за левую кисть и выворачивает одним уверенным движением. Его пальцы холодны, как родники Исландии, это ощущается даже сквозь телячью кожу обрезанных перчаток.
Захлебываюсь всхлипом, но выпускаю рукоятку.
А затем в темноте вспыхивают два сапфировых фонарика. Маленькие, на уровне головы, словно кто-то одновременно раскурил пару электронных сигарет. Уже через секунду понимаю, что это блестят глаза Гитлера, нависающего надо мной слепком сгустившейся тьмы.
Отблеск падает на стальную рукоять кухонного ножа, торчащего из его груди. Кости моей руки хрустят, и я заваливаюсь на колени.
В нескольких шагах за спиной Себастиана, побрякивая ошейниками и тяжело дыша, три приземистых силуэта. Собаки молча обступают, не спеша бросаться на выручку. На их мордах мерцают ярко-алые маячки.
– Не нужно, – как заведенный, говорит мне страж Особняка, свободной рукой вынимая из себя нож. Лезвие покрыто серой пленкой, даже отдаленно не напоминающей кровь.
Вывернув кисть так, что я не в силах даже связно думать, он тащит меня к дому.
Снова горят фонари, в которых Гитлер похож на самого обычного человека – крепкого, тренированного, в одежде предпочитающего смешение строгого и спортивного стилей, но человека.
Скулю, подвываю и плачу, уже не скрывая слез. В моем правом предплечье завелся рой безумных ос, жалящих руку изнутри. Ярко представляю себе, как лучевая и локтевая кости скручиваются резиновыми трубками, грозя вот-вот лопнуть и пробить мышцы.
– Пожалуйста, отпустите, – хриплю и плююсь, не разбирая слов.
Охранник беспристрастен и молчалив. Будто тащит на заломе не нарушителя, а пустой костюм или манекен. Его одежда пахнет, как старый театральный реквизит, годами не вынимаемый из сундуков…
Площадка перед домом пуста – если собаки и помогали задержать беглого слугу, они уже ретировались. Чуть ослабив захват, чтобы не сломать запястье, Себастиан направляет меня к спуску в подвал. Заставляет скатиться по ступеням, играючи открывает тяжелую дверь.
Но вместо того чтобы зашвырнуть в коридор, ведущий к общей казарме, уводит меня в полумрак технических лабиринтов. В жилой комнате тихо, но я точно знаю – другие невольники не спят. Забились под кровати и напряженно вслушиваются в звуки моего плача?
– Пожалуйста… – молю машинально и бессвязно. Только для того, чтобы избежать новой волны боли, позволить ей покинуть тело через приоткрытый рот.
Изворачиваюсь, заглядывая в изящное и архетипично-ранимое лицо существа, с легкостью перенесшего удар ножом. На ровном лбу Себастиана лежит витая каштановая прядка. В синих глазах ни тени сочувствия, лишь гнездится сосредоточенное спокойствие. От мужчины пахнет дорогим парфюмом, но я вдруг понимаю, что это маскировка, чтобы скрыть запах сухого гипса… нет – глины.
Выкрутив руку так, чтобы оказаться ровно за моей спиной, выродок молча ведет меня по коридорам, о самом существовании которых я даже не подозревал. Над головами притаились крохотные шарики светильников с датчиками движения, едва позволяющие рассмотреть очертания предметов и стен. Вдруг понимаю, что живодер совсем не сбил дыхалку. Сказать точнее – он не дышит совсем.
Прижимает лицом к шершавой бетонной стене. Отпирает железную дверь, чьи массивные петли не издают ни звука. В комнате, где мне предстоит провести ближайшие сутки, темно.
Когда зажигается свет, я замечаю нечто, напоминающее средневековую дыбу. Гитлер усиливает залом. Одновременно давит в ключицу, в моей голове взрывается фиолетовый шар боли, отнимающий сознание и страх. Я глубина космоса, каким его рисуют фантасты и романтики… Я пролежень на отмершей ноге старика, забытого в больничном коридоре…
Шепчу:
– Не нужно…
И тут же понимаю, что дословно повторил сказанное Себастианом.
Сказанное когда? Час назад? Или, может быть, сутки? Ощущения времени нет. Ощущения пространства тоже – я растянут в полный рост за руки и ноги. На запястьях и лодыжках сомкнулись тугие петли колючей пеньковой веревки. Нет, не веревки. Каната.
Правую кисть ломит, словно она побывала под заводским прессом.
Волосы спутались и лезут в глаза.
Член стал таким маленьким, что больше похож на третье яйцо.
Мне холодно, но это вовсе не от полного отсутствия одежды. Трясет от того, что я не могу покрутить головой и как следует рассмотреть Гитлера. Затекшая шея и прижатые к ушам плечи не позволяют оглянуться, а потому я пялюсь в стену. Не бетонную, как в других частях подвала. Каменную, словно мы оба по мановению волшебной палочки перенеслись в рыцарский замок.
По зеленоватым щелям кладки крадутся тонкие струйки воды. Где-то слева вверху есть лампа, но тусклая, постоянно теряющая накал. Влажно, холодно. И страшно.
Себастиан тут, за спиной. Я не слышу дыхания, но ощущаю присутствие.
А еще иногда слышу, как он начинает что-то напевать. Гортанно, глухо, как алтайский шаман, почти не разжимая губ. От звуков мелодии меня колотит все сильнее.
Силясь изгнать предательское оцепенение, вспоминаю… Мысленный твиттер, бомбардировщики проблем, цветовую игру… Бесполезно – в голове лишь дробный перестук, клацающий ритм, треск и скрежет. Это пытается возродиться из пепла страх перед смертью. Это уже расправляет крылья страх перед болью. Которую, в чем я не сомневаюсь, мне придется понести за неповиновение…
Скорее всего, будут пороть. Возможно, кнутом, как в старые добрые времена.
Может быть, прижигать железом. Совсем не удивлюсь, если Себастиан соберется оставить на моем бедре клеймо. Как скотине…
В сознание врывается мысль о сущности мужчины, подвесившего меня на веревках. Но я отбрасываю ее – во-первых, потому что догадки ничего не изменят. В ночной мгле могло и вовсе показаться, что я попал в него ножом… А во-вторых, потому что если уверую в собственную меткость и серый след на клинке – рискую сойти с ума.
Прозрачный металлический перезвон говорит:
– Так звучат хирургические инструменты, разложенные на специальной подстилке.
Глотаю ледяные соленые слезы, стараюсь не всхлипывать. Я уже признал свою ошибку. Готов раскаяться. Но раскаянье в стенах этого дома – атавизм души. Рано или поздно приходит ко всем, но ни черта не меняет в судьбе…
На какое-то время в комнате поселяется тишина, нарушаемая лишь моим прерывистым лепетом. А затем к спине прикасается что-то холодное, пронзительно-холодное. Ледяное настолько, что покрывает инеем ребра.
Боли я почти не чувствую. Сначала.
А затем она приходит – тонкая линия, начинающаяся в верхней части левой лопатки, и скользящая все ниже и ниже. Я начинаю кричать. Мой палач снова заводит горловое пение, неразборчивое и мрачное.
У боли оранжевый цвет.
Как неестественно яркий желток куриного яйца, что бабушка разбивает в сковороду ранним деревенским утром. Как таблетка, купленная на танцполе ночного клуба, веселая и смертоносная одновременно…
Завершив надрез, Себастиан переносит скальпель чуть правее. Снова ведет вниз, и я чувствую обжигающие капли крови, текущие по спине. Захлебываюсь собственным криком, рвусь в веревках, сдирая запястья.
Гитлер мелодично мычит. Придерживает за плечо, его рука не дрожит. Третьим горизонтальным надрезом он соединяет два предыдущих. Откладывает скальпель на столик, которого я видеть не могу. А затем одним неспешным движением отдирает от меня пласт шкуры, оставив его болтаться растрепанной манишкой.
На какое-то время теряю сознание.
Кислотные волны, колотящие в мою лопатку, нестерпимы. Я тону в кошмарах и снах наяву.
Умоляю, угрожаю, наивно торгуюсь. Забываюсь на секунду и снова бьюсь в путах, похожий на распятую марионетку. Себастиан промокает спину чем-то влажным и прохладным. Рану начинает щипать, но на фоне оранжевого цунами это даже кажется приятным.
Язык прикушен, рот наполняется кислым. Слез не осталось, лицо горит.
Слышу шуршащий звук. Ломкий и негромкий, словно кто-то перетирает в пальцах кристаллики соли или сухую траву. Чувства обостряются настолько, что я различаю стук падающих на каменный пол зернышек.
Себастиан подходит, и мир тонет в новой оранжевой волне – он начинает что-то втирать мне в спину, прямо в распластанный наживую кусок мяса. Слышу пряный запах травы. Вою, рычу, дергаюсь, призываю на помощь Бога. Тело сковывает судорога. Сквозь ее удары я чувствую жар и раскаленные прутья, вонзающиеся в распахнутую плоть.
Мои крики превращаются в стон и скулеж. Обвисаю, уже не в силах бороться.
Дом перемалывает мою боль и ужас. Упивается ими, глотает не жуя.
Словно отклеившуюся полосу обоев, Себастиан возвращает на место прямоугольник срезанной кожи. Тревожно вздрагиваю, но сил на сопротивление не осталось.
Сперва ничего не ощущаю. Затем начинаю распознавать морозные поцелуйчики иглы, которой страж дома зашивает нанесенную рану. Под кожей что-то копошится, что-то мелкое и зубастое, словно блошиный рой. Зуд передается всему телу. Люто, безумно обдирает изнутри, но я не могу ничего поделать. Болтаюсь на растяжках, сотрясаясь, подвывая и терпя.
Как заправский хирург или портной, Себастиан завершает шов. Еще раз аккуратно промокает кровь медицинским тампоном.
Цветом боль похожа на спелый абрикос, пузатый и сочный настолько, что брызжет.
Когда тело пронзает в разных местах, я стараюсь не дергаться.
И все равно вздрагиваю, содрогаюсь, трясусь, едва удерживаясь, чтобы не сорвать повязку. Лежу в основном на правом боку, спиной к койкам остальных невольников. Это даже к лучшему – их сострадательные взгляды мне сейчас совсем ни к чему…
Меня не трогают уже второй день.
Марина исправно приносит еду, пытается кормить с ложечки. Ем сам, неловко садясь в постели. Санжар приносит сигареты. Пашок подкладывает на тумбочку журналы и газеты. Чумаков отирается поодаль, еще не решившись начать разговор. Когда остаюсь в комнате один – плачу. Горько и бесшумно, проклиная себя за решительность. И за нерешительность тоже проклиная…
Люди, окружающие меня, ужасны. Нелюди, переловившие этих чудовищ, еще страшнее. Место, в котором я оказался, вытягивает последние силы. Золотая клетка неожиданно ударила током, преподнеся доступный и внятный урок. На уровне тех, что я сам еще недавно преподносил Колюнечке.
Амурские тигры вымирают, и охота на них запрещена с 1947 года.
Любая попытка побега будет караться существом с лицом Элайджи Вуда, втирающим в раны сухую горсть неизвестных семян.
Длина Амазонки составляет почти семь тысяч километров.
Мне дают кров, еду, деньги и секс в обмен на покорность и беспрекословное послушание.
– Держись, братюня. Такое, нах, бывает, – в голосе Пашка искреннее сочувствие. Но и порицание там тоже есть.
– Зря ты это затеял, Денис, – Санжар качает головой, невольно поглаживая левое бедро.
– Не сиделось тебе, дураку, – ворчит Виталина Степановна. – И чего тебе не сиделось?
– Еще ложечку, Денисонька, – причитает Марина, поглаживая по руке и раздевая плотоядными взглядами.
– Неужто не понял еще ничего? – роняет Валентин Дмитриевич, щелкая портсигаром.
Затем они уходят работать, а я лежу неподвижно, уставившись в одну точку, стараясь не рыдать. Под кроватью медицинская утка, но я ей не пользуюсь. Встаю со стоном, опираясь на голубые стены, спинки коек и двери, бреду в туалет. Боль стала верным спутником. По сравнению с ней зудящая шея после детского укуса – сущий пустяк, о котором я даже начинаю забывать.
Боль напоминает мне, чего делать нельзя.
Но еще она напоминает мне, что я жив.
Чумаков набирается решительности к вечеру второго дня, проведенного мной в кроватной норе из одеял и подушек.
Вечером, когда ужин еще не готов, но свободное время уже началось. Дожидается, пока старуха уйдет в санузел, а Пашок завалится на койку, заткнув уши шнурками плеера. Подходит робко и по дуге, как нашкодивший, вымаливающий прощение пес.
После всего, что произошло со мной в последнее время, я даже не нахожу сил, чтобы прогнать его или вызвать в душе новую волну ненависти. Прикрываю ее огонек воображаемыми ладонями, не позволяя ни угаснуть, ни набрать силу. Замираю.
Валентин Дмитриевич с кряхтением опускается на свободную кровать. На то же самое место, где сидел вечность дней назад, рассказывая про счастливого мальчика. Очки на носу, но газеты в руках нет. Выглядит рассеянным и одиноким – худосочный старик, половину жизни отмотавший по зонам.
Говорит:
– Как ты тут, Диська?
А еще:
– Если чего нужно, ты скажи, я с кухни принесу…
И еще:
– Понимаешь ведь, что это все не просто так?
Молчу, демонстративно закрывая глаза. С виду сплю. Но на деле не спускаю с Чумакова внимательного взгляда из-под прикрытых век.
– Всему время свое, Диська, – бормочет тот, покачивая головой и переминая в пальцах папиросу. – Отпустят нас, как пить дать. Только в свой час. Когда искупим, так сказать. – Нервный смешок. – Кому-то больше, кому-то меньше. А в самоволку ты зря. У нас на зоне в девяносто седьмом так троих корешей положили, а ведь тянуть не больше двушки оставалось…
Стараюсь не слушать. Пытаюсь забить его монолог чем угодно – даже воспоминаниями о недавней пытке. И не могу.
Перед глазами появляется лицо Жанны, строгое и улыбчивое одновременно. Колюнечка, пауком подбирающийся ко мне из-под стола. Воображение рисует, что в камере пыток над моей головой висела вовсе не лампа, а самый настоящий факел. Грани реального и вымышленного стираются, наполняя разум самым обыденным ужасом…
– Я ведь не стал в кучу стрелять, – завершает Чума, наконец-то сфокусировав взгляд на мне.
Вероятно, дрогнувшие веки выдают мой интерес. Валентин Дмитриевич приосанивается, воодушевляется и тут же поясняет:
– Лихие годы были, Диська… Многих не пощадили. Кто-то сторчался, кто-то спился, кого-то в зоне вальнули, кто-то ментовскую пулю словил. Я не оправдываюсь, нет. Заставила жизнь. За это и страдаю.
Чудом удерживаюсь, чтобы не рассмеяться. На моей спине под пластом заново пришитой кожи сотня блох устраивает пир, отчего колкие судороги разбегаются даже по бедрам и икроножным.
– Так ведь и доброе бывало, – продолжает Валек, пряча сломанную папиросу в карман стареньких спортивных штанов. – Не стал я в ту кучу стрелять, не стал. А ведь начиналось как! Резко, нахрапом. Уж не помню, кто первый за волыну схватился, наши или ихние… Да и не важно это, все равно бы миром не поделили.
Меня потряхивает, словно в тридцатиградусный мороз. Не от холода.
– Наших тогда троих положили… «Восьмерку» Серегину так потом завести и не смогли: сжигать пришлось – двигло, что решето твое стало. Ну, бригадиры и озверели вконец. Сотни три патронов выпустили, верно говорю.
И продолжает, глядя в потолок:
– Семеро их было… Ага, точно, семеро. Или восемь. Щенки совсем, берега попутали, тявкалки свои на старшаков пооткрывали… Всех зажмурили. Кого на месте, двоих в затылок контрольными. Давай тела к канаве таскать. Потом бульдозер подогнать хотели, сам понимаешь, время какое было. Половина наших под «винтом», сам тоже вмазанный, сил – хоть отбавляй. Не помню, как заметил или почуял, но точно знаю – был среди холодных тех живой один.
Перестаю дышать, даже не пытаясь просчитать вероятность совпадения.
Это невозможно.
Говорит:
– Мне старшие «калаш» дают. Мол, причеши кучку, чтобы на верняк. А я встал на краю оврага и замер. Лежат они, жмурики твои, под ногами, кто как изогнувшийся, а я фотки с войны вспоминаю. Про фашистов и расстрелы. Думать, конечно, времени не было. Время такое было, Диська, понимаешь? Не берегло времечко никого. Кто прокрутился, тот и на коне. Если бы не наркота, будь она неладна…
Мои губы издают свистящий звук. Словно закипает чайник.
Мимо проходит Виталина Степановна, вытирая мокрые волосы ярко-розовым полотенцем. Такой же цвет имеет мое удивление. Неверие в только что услышанное от Чумакова. С хлопком закрывается раковина, в которой прячется моллюск моего здравого смысла.
Продолжает:
– Очередь я, конечно, дал. Нельзя было не дать, время такое было. Покажешь слабину, самого сожрут и в овраге спать оставят. А от машин уже торопят, кричат. Ну и пальнул я. От щедрот так, не экономя. Но не в кучу, а мимо, по кустам. Все, говорю, нашпиговал, что твою утку. И смеюсь, как сейчас помню, задорно так, громко. Винтовые – они смешливые…
Открывает портсигар, вынимая новую папиросу. Я неподвижен, как тектоническая плита.
Говорит:
– Был там живой, точно знаю. Он, конечно, кончился наверняка. На дворе-то весна едва-едва, а стрелка верстах в двадцати от города. Но не от моей руки он кончился, Диська, вот что важно. – Вдруг подается вперед, глядя прямо в глаза. – Как думаешь, зачтется мне?
Оледеневший, не отвечаю и не шевелюсь.
Выдерживаю паучий взгляд, а затем опускаю веки. По-настоящему, без прищуров и подглядываний. Мне хочется перегрызть Чумакову горло. Впиться зубами в щеку, как это сделал со мной Колюнечка, и оторвать смачный, брызжущий алым кусок. Выплюнуть его в лицо Валентина Дмитриевича и впиться снова.
– Эх, Диська, – говорит тот, тяжело поднимаясь на ноги. – Если б ты понимал…
Я могу попробовать убить Чумакова.
Как только наберусь сил и залечу обе раны. Если не получу новых. Если за мной не усилят контроль. Могу попробовать убить его вилкой. Или задушить. Или утопить в унитазе. Но что-то внутри – там, где подкожные блохи заживо жрут мою плоть, – подсказывает, что Себастиан не позволит совершить возмездие.
Потому что карать или миловать в Особняке могут только его хозяева…
Чума уходит, так и не дождавшись ответа. Какое-то время лежу без сна, а затем проваливаюсь в голубую океанскую бездну, лишенную даже намеков на сновидения. Голубую, как жеманный мальчик, взасос целующий своего друга прямо на главной площади города. Как цвет липкого стикера на зеркале в прихожей с короткой надписью «не ищи меня».
Просыпаюсь среди ночи, невольно перевалившись на раненый бок.
И замечаю Константина.
Вздрагиваю, машинально чуть не поздоровавшись. Но вовремя оставляю рот на замке. Остальные храпят и попердывают, наполняя казарму знакомыми звуками коллективных ночевок. Константин, как обычно безликий и не имеющий возраста, стоит возле кровати Санжара. Руки вдоль тела, губы едва заметно и беззвучно шевелятся. Он молча наблюдает, как Тюрякулов натягивает кроссовки. Тишина и гробовое молчание, сопровождающие сцену, заставляют меня оцепенеть.
Константин отходит от кровати. На казаха больше не смотрит. А тот, будто загипнотизированный, мягко ступает следом за хозяином дома.
Не открывая глаз…
Только наутро я узнаю, что летний день пошел на убыль – об этом нам торжественно объявляет Виталина Степановна, листающая очередной календарь садовода. Только утром задумываюсь, а существовал ли вообще на белом свете человек по имени Санжар Тюрякулов?
Кроме него, внизу сейчас все – даже Эдик и Марина, по какой-то причине не заступившая на кухню. Подвальники угрюмы и молчаливы. Каждый замкнулся в себе, отгородившись газетой или наушниками. Мы похожи на потерпевших кораблекрушение, озлобленных друг на друга настолько, что не готовы даже помышлять о совместном выживании.
Кровать Санжара пуста. Как и тумбочка, как и шкаф для одежды. Бесстыдно белеет матрас, лишенный постельного белья. В отсеке для умывания нет ни бритвы, ни полотенца. Диски, книги, настольные игры и прочая мелочовка, принадлежавшая казаху, тоже исчезли.
Эдик говорит:
– Сегодня у хозяев праздник, у нас выходной.
И добавляет:
– Но подвал покидать нельзя.
И еще, откровенно оправдываясь:
– Я знаю адрес. Все сбережения будут отправлены его жене. Как он и хотел.
Затем нам присылают завтрак. Это определенно не Феклистова – кто-то из членов семьи.
От звуков заработавшего подъемника вздрагивают все, даже старший слуга.
На двухэтажном подносе шесть тарелок, накрытых блестящими куполами ресторанных крышек. Эдик машинально выгружает провиант, расставляя по столу. Марина подходит ближе. Снимает купол, выпуская на волю пьянящий аромат жареного мяса.
Кривится. Аккуратно, но быстро накрывает тарелку. Эдик скрывается за занавеской.
Больше к еде не подходит никто. Когда я, преодолев боль в плече и спине, совершаю очередную экспедицию в туалет, то все же заставляю себя подхромать к столу. Будто ненароком и не совсем понимая, что происходит…
Чувствую осуждающие взгляды остальных. И все равно осторожно приподнимаю металлическую полусферу. Сразу – иррационально, необъяснимо и четко – понимаю, что сочные остывающие куски, нарезанные щедро и с умением, не похожи ни на свинину, ни на говядину.
Стараясь не звякнуть металлом о фарфор, закрываю блюдо.
Мне дурно, и я не разрешаю догадке даже на секунду угнездиться в сознании.
Красное мясо. Красные мысли. Как жаркие угли в камине, перед которым лежат двое, слившиеся воедино.
Много дней я остаюсь бесплотной тенью.
Именно это позволяет невидимкой пройти сквозь клыкастые стены и увидеть то, что определит нашу дальнейшую судьбу…
Меня не привлекают к работе, не нагружают рутинными обязанностями.
Опекают и откармливают.
Это называется «реабилитация». На фоне мучений, перенесенных в комнате с каменными стенами, она кажется извращенной и циничной.
По словам Феклистовой, Колюнечка скучает по своему репетитору и хочет вернуться к урокам. В ответ едва не рычу диким зверем. Марина все так же бросает на меня полные вожделения взгляды, но я встречаю их с прохладой и невозмутимым упорством импотента.
Окружающие снова начинают завидовать – теперь по причине того, что я отлыниваю от тяжелых работ. С исчезновением Санжара нагрузка на Пашка и Чуму возросла, и я ничем не могу им помочь. Чтобы хоть как-то снизить градус напряжения, стараюсь меньше попадаться другим на глаза. Во время дневных перерывов ухожу гулять по дому или во двор. Возвращаюсь в подвал, когда мужчины и женщины заняты по саду или кухне…
Брожу по этажам и анфиладам, словно призрак старого замка.
Несколько раз встречаю Константина. Молчаливого, равнодушного, грызущего фисташки вместе со скорлупой. Он бесшумен, задумчив и отстранен.
Вижу в окне второго этажа Петю, пожирающего фиолетовые ягоды из глубокой стеклянной миски. В этот день к нему – уже второй раз на моей памяти – привозят проституток. Совсем юных еще девчонок, чьи глаза знакомо замутнены.
Сутенеров на территорию не пускают, всеми расчетами занимается Эдик. Он же затем провожает девчонок, измотанных и едва держащихся на ногах. Гоню из головы картину – юные обкуренные куртизанки ублажают толстозадого сибарита, даже не пытаясь вынуть его тушу из коляски. Давлю толчок тошноты и шагаю к яблоневой аллее.
Жанна приветливо машет с балкона, но я делаю вид, что не заметил.
А еще за несколько суток «реабилитации» встречаю Себастиана.
Тело отказывается подчиняться, и я чуть не обгаживаю штаны. Гитлер, взглянув на меня, как на пустое место, спокойно проходит мимо, скрывшись в коридорах усадьбы. Мигом теряю интерес к изучению репродукций, спешно возвращаюсь в подвал и еще пару часов не могу прийти в себя. Блохи под кожей, успокоившиеся было в последнее время, снова начинают бешеный танец. Урок усвоен, и одна мысль о побеге вызывает у меня зубовную дробь…
От того, что я много сплю днем, ночи проходят тяжело и потно.
Подолгу ворочаюсь в кровати под храп соседей. До рассвета читаю с фонариком. Осторожно, куда дотягивается рука, ощупываю рану на спине. Шрамы от укуса в шею почти зажили, оставив после себя тонкий желтоватый пунктир.
Почти каждую ночь, едва начиная соскальзывать в тревожную дрему, я вздрагиваю и открываю глаза. Боюсь увидеть в изножье молчаливого Константина, спустившегося в подвал за очередным слугой. Вспоминаю день, проведенный всей бригадой натощак. Вспоминаю Эдика, брезгливо сложившего жареное мясо в целлофановый мешок и ушедшего к печи для мусора.
Константин не появляется.
Однако бессонница позволяет мне узнать, куда время от времени наведывается домоуправляющий…
Вероятно, он просто привык, что желание проследить за ним в принципе неспособно родиться в бетонных застенках подвала. Особенно в голове того, кто перенес бесчеловечное и весьма болезненное наказание. А потому по коридорам нулевого этажа старший лакей идет без оглядки, даже не пытаясь скрываться или высматривать хвост.
Крадусь за ним. Бесшумно, осторожно.
Кроме любопытства, в голове бьется мысль, пока не способная окончательно сформироваться. Я точно знаю, что слуга-надзиратель причастен к тайнам дома. И вдруг ловлю себя на том, что до предательской дрожи в руках хочу выяснить, каким образом…
Сначала мне кажется, что содомит направляется в пыточную. Кажется настолько ярко, что чуть не разворачивает на месте, заставив с воем бежать. Но затем иллюзия проходит – ведь я совершенно не помню дорогу до комнаты с дыбой…
Дороги Особняка странны и неподвластны пониманию. Словно тот постоянно перетекает из формы в форму, меняя местами дверные проемы и площади комнат. Например, зал, в котором я веду уроки, на первом занятии был вдвое больше последующих. На паркет балетного, куда я дважды втирал целую банку мастики, в третий раз ушла лишь половина заготовленной мази.
Одно время я даже пытаюсь набросать на салфетке некий план. Но вскоре оставляю это бесплодное занятие. Неоднократно выяснив, что в корне неверно помечаю расположение комнат и лестниц второго и третьего этажей…
Узким душным коридором Эдик огибает просторный гараж на семь машин.
Лазейка напоминает проходы в дворцовых стенах, в которых классики литературы обыкновенно прячут шпионов и соглядатаев. Каждые пять-шесть шагов над головой загораются маленькие энергосберегающие лампы, реагирующие на движение.
По винтовой лестнице объект моего внимания спускается на еще один уровень. Двойное дно подвала, о существовании которого я даже не подозревал. Минует еще один короткий отрезок бетонного лабиринта, идущий слегка под уклон, достигает тупика с дверью. Сует руку за отворот рубахи, вынимая увесистый серебристый ключ на цепочке. Мы примерно под южной частью гаражного зала. А может, под казармой, где сейчас спят и ничего не подозревают остальные крепостные…
В полумраке щелкает замок, скрипят петли. Прикрыв за собой дверь, мажордом исчезает в комнате. Сквозь щель у порога бьет яркий луч света.
Подхожу, прислушиваюсь.
Шуршание одежды и шаги кажутся вероломно-оглушительными. Встревоженно озираюсь, в красках представляя Себастиана, притаившегося за углом. Но коридор пуст, как и моя душа. Ворот майки становится нестерпимо узок и натирает кожу. Слипшиеся от пота волосы лезут в глаза. Здесь прохладно, и пробивающий взмокшую спину сквозняк намекает на застуженные мышцы.
Что я вообще делаю здесь, глубоко под тем местом, где мы спим, гадим и едим? Еще глубже того места, где едят, гадят и спят наши хозяева?
Много читал о неких силах, заставляющих людей совершать поступки, за которые они не готовы нести ответственность. Но все еще не могу поверить, что эта же сила взялась за меня…
Осознаю неразумность слежки. Риски и последствия. Но продолжаю таиться в тени. Стараюсь не попадать в зону действия световых датчиков. В конце концов, старший слуга – не Гитлер. Что он сможет сделать? Наорать? Нажаловаться Константину? Последнее пугает чуть больше, но я не двигаюсь с места. Более того – даже подаюсь вперед, заглядываю в комнату через приоткрытую дверь.
Помещение – точная копия пыточной. Эта ассоциация сразу лишает меня половины уверенности, с которой я отправился за Эдиком. Уже через мгновение понимаю – оно лишь похоже на палаческие застенки: здесь нет ни дыбы, ни хирургического столика.
Также понимаю: самый нижний уровень под усадьбой и полым бетонным фундаментом очень стар. Понимаю: беда, в которую мы все угодили, куда страшнее, чем могло показаться сначала. Понимаю: мне сюда нельзя. Понимаю: сюда нельзя никому, кроме хозяйского прихвостня-педераста, невесть чем заслужившего доверие семьи…
Несмотря на примитивизм каменной кладки и плесневелую пещерную сырость, вдоль стен проложены кабель-каналы современных электрических проводов. В углу подвешена лампа дневного света. Она превращает предметы в двухмерные отпечатки самих себя – набросок объемного стола, схемы офисной техники на нем, эскиз клавиатуры и джойстика. Три широкоформатных монитора накрыты тонкими полиэтиленовыми кожухами. В такую же шуршащую паутину укутан системный блок.
Два монитора темны, но один работает. На его экране – комната Особняка, в которой я никогда не был. Картинка темная и зеленоватая, будто снятая через прибор ночного видения. Мебели нет, в центре неподвижно стоит человек. С легким запозданием узнаю в нем Себастиана, повернувшегося к камере наблюдения спиной.
Если бы тот стоял к объективу лицом… если бы его бездонные холодные глаза показались хоть мельком… пусть даже почти неразличимые сквозь тонкую пленку чехла… я бы развернулся и убежал.
Происходящее перестает нравиться мне настолько, что я с трудом удерживаю всхлип…
Эдик, внимательно изучив работающий экран, мягкой походкой минует стол с электроникой. Отодвигает продавленное офисное кресло на колесиках. Внезапно опускается на колени. Только теперь я замечаю на полу необычную конструкцию, занимающую бо́льшую часть помещения.
В центре комнаты покоится полутораметровый каменный круг.
Точнее – несколько каменных шайб разного диаметра, без зазоров вставленных одна в другую и составляющих серый шероховатый диск. Диск утоплен в гладкой поверхности пола, выступая из него на несколько сантиметров. Его кольца – их, кажется, шесть – темны и щедро блестят вкраплениями серебристых украшений.
По периметру каждого из кругов успеваю заметить рисунки и узор – волнистые линии, травяной орнамент, примитивные фигурки животных. Там, где на часовом циферблате располагаются 12, 9, 3 и 6, одно из колец носит условные изображения лунных фаз. На сердцевинной части – монолитной, даже с виду нереально тяжелой – крупная объемная лепнина, украшенная витым проволочным кантом.
Смотрю на нее, невольно чувствуя шевеление волосков на шее.
Существо, высеченное из камня, имеет две ноги и четыре руки. А еще три крыла за спиной и три рога, растущие из лица. Барельеф прост и схематичен, но от одного взгляда на него мне становится не по себе. Пульс учащается, в легких резь, ладони потеют, а дыхание перехватывает невидимым резиновым жгутом.
Я уже видел похожие узоры…
Так гордый родитель узнает рисунок дочурки среди десятка других каракуль, развешанных по стенам детсадовской группы… Это происходит в Ханхаринских пещерах Алтая, куда мы отправляемся дикарями по следам Кастанеды. Почти неделю компания сковородками ест жареху и ведрами пьет манагу, молоко на которую добывает в соседней деревне. А еще мы, удолбившись в котлету и невменоз, ходим по местным таинственным пещерам…
Там я и встречаю рисунки, о которых мне сейчас напоминает серый каменный диск. Изображения людей и животных, оленей, лошадей, медведей и орлов, шаманов и уровней загробного мира. Пугающие в своей простоте наскальные росписи, оставленные сибиряками, жившими задолго до появления лазерной хирургии и беспроводного Интернета. Тогда мне, угашенному и условно прозревшему, становится интересно и чудно́. Сейчас мне – сухому уже не первый месяц, втоптанному в грязь и порвавшему спину – становится страшно.
Загораживая узоры, Эдик склоняется. Упирается руками в пол и начинает вращать каменные диски. Цепляется пальцами, насколько заметно, за серебристые выступы орнамента; вертит неторопливо и вдумчиво, будто настраивает сложный астрономический прибор. Совмещает символы. Выставляет, придирчиво осматривает и крутит снова.
От звуков трущегося камня у меня трещат зубы.
Спина холодеет, и на этот раз отнюдь не от сквозняка.
Себастиан на экране монитора приходит в движение. Поднимает руку, поднося к лицу. Вертит головой. Поднимает вторую руку. Делает шаг, неловкий и пьяный настолько, словно Гитлер никогда и не умел ходить. А затем поворачивается к камере и застывает, глядя с экрана в сторону приоткрытой двери.
Я не успеваю отшатнуться в тень…
Эдик замечает движение цербера и направление его взгляда. Поднимается на ноги плавно и быстро. Разворачивается. Не успеваю хоть что-то сказать или сделать, он приближается к двери и толкает створку.
В его правой руке пистолет. Компактный, черный, такой непросто заметить даже под обтягивающим брючным костюмом. Не спец в оружии, но понимаю – это не обычный ствол, каким вооружают ментов или чоповцев.
Глаза мажордома распахнуты, он определенно не может поверить в мое присутствие.
За его спиной Себастиан покачивается на пятках. Будто раздумывает – уйти из кадра или еще какое-то время понаблюдать за камерой…
Считается, что человеческий мозг развивается лишь до 27 лет. Затем он становится все менее чувствителен к впитыванию нового; связи рушатся, ум теряет гибкость и начинает костенеть. Доказано, что в наших головах хранятся и функционируют миллиарды нейронов. От обозначенного умниками «предела 27 лет» они принимаются отмирать. Незаметно, как пересыпаются песчинки в песочных часах. Монотонно, тихо – ведь что такое песчинка на огромном пляже? А потом вдруг «бац!», и критическая масса достигнута, добро пожаловать в гроб. Считается, что 27 лет можно маркировать началом конца – нарушить порядок деструкции, заданный самой природой, способны лишь уникумы. Я – не уникум. Уже несколько лет мой мозг тихо и незаметно умирает. Причем сам по себе, не принимая в расчет наркотики, употребленные задолго до наступления переломного момента. Так чего ж тянуть?..
Говорю:
– Стреляй или убери.
Добавляю:
– Мне в ствол заглядывать не впервой…
Он какое-то время молчит. По негромкому скрежетанию из-за спины Эдика я понимаю, что каменные шайбы, составляющие диск, медленно проворачиваются внутри друг друга. С едва различимым, но характерным звуком трущихся жерновов.
– Зря ты сюда зашел, Диська, – говорит дворецкий, и я вижу в его глазах почти искреннее разочарование. – Зря.
– Что это за место? – спрашиваю с демонстративным спокойствием, которого не испытываю. Все еще пялюсь в бездонное жерло пистолетного ствола.
– Ты неплохой человек, Диська. И мне симпатичен. – Эдик смотрит на меня, как на умственно отсталого ребенка. – Поэтому я сохраню эту ошибку в тайне.
Качает пистолетом, наконец, пряча его в потайную кобуру под мышкой.
– Никогда сюда не ходи. Забудь о существовании этой комнаты… и всего этажа. – Старший слуга говорит негромко. Его едва слышно сквозь мерное каменное поскребывание. – Иначе твое прежнее наказание покажется сущим пустяком. Занозой. Царапиной. Выдавленным прыщом. Веришь?
Я киваю, как будто понял.
Но говорю другое. Снова задаю вопрос, на который никто из населяющих Особняк существ так и не смог дать ответа. Спрашиваю:
– Почему они позволяют себе такое? Все это… Ты тут давно, тебе доверяют. Ты должен знать – почему?
Несколько мгновений он неподвижен. В какой-то момент мне кажется, что сейчас его рука метнется обратно к кобуре. Полагаю, Эдик действительно имеет право убить любого, чье поведение посчитает недопустимым или нарушающим запреты дома.
Но мужчина лишь сухо улыбается и поправляет элегантные очки.
Из-за его плеча я вижу неподвижного Себастиана. Тот по-прежнему смотрит в объектив камеры ночного видения посреди пустой незнакомой комнаты.
– Потому что могут, – наконец отвечает Эдик.
Сразу становится заметно, что он чертовски устал. А еще он старый. Из тех, кто еще отчаянно молодится, но в один прекрасный день сообщает: «Я познакомился с девушкой, а потом узнал, что ее мама моложе меня». Правда, в случае с мажордомом знакомство происходит с молодыми мальчиками…
Он замер в шаге от меня, и прямо в эту секунду в его мозгу тоже умирают сотни нейронов. Два умирающих человека стоят напротив друг друга, переплетая слова в необычном диалоге.
– Иногда мне кажется, – вдруг добавляет Эдик, невесело вздыхая, – что плохие люди, портящие жизнь другим, вовсе не разрозненные осколки дурного. Знаешь, так иногда может почудиться – мол, высшие силы намеренно разбросали их по миру, чтобы уравновесить поток буддистского добра и тошнотной мимимишной патоки.
– Иногда мне кажется, – повторяет он, – что все плохие люди на планете, это члены тайного ордена. Паладины энтропии, если угодно. Слуги хаоса, в котором видят суть мироздания. Любой поступок такого существа всегда строится только на одном утверждении – потому что я могу. Потому что такова их натура. И не пытайся искать в этом скрытый смысл…
Мне не по себе. И от полной неподвижности Гитлера на зеленоватом экране монитора, и от усталой исповеди обмякшего в своем костюме Эдика, застигнутого врасплох. От монотонного скрежета, наполняющего кости едва ощутимой вибрацией.
– А какой грех твой? – спрашиваю, стараясь не дрожать. Откровений не жду, но сам разговор заставляет ожидать подвоха. Как в кино, когда злодей выкладывает герою коварный план, а потом стреляет в голову. – За какие заслуги дом сожрал заживо тебя, Эдуард?
Тот отшатывается, словно разоблаченный шпион, чье настоящее имя внезапно произнес шеф вражеской контрразведки. Сухие тонкие губы снова расходятся в неприязненной улыбке. На лицо возвращается маска отстраненности и невозмутимости.
– Грех? – переспрашивает он. – Ты, Диська, всерьез считаешь, что все это… – Он обводит рукой комнату с каменными кольцами и современными системами наблюдения. Но я понимаю, что в виду имеется весь Особняк. – Все это дано нам как наказание?
Теперь его улыбка почти настоящая. Да что там – Эдик едва удерживается, чтобы не рассмеяться. От этого мне становится еще гаже. Кружится голова. Я чувствую запах его пота – чужой, едкий, словно инородный, пробивающийся через заслоны туалетной воды, нанесенной на домоправителя так, словно он принимал из нее душ.
Мы глубоко под землей.
Глубоко настолько, что городским властям не стоит даже помышлять о строительстве метро в этом районе.
Похоронены заживо.
Эдик переспрашивает:
– Грех? – И не дает отреагировать, возвращая мне собственные сомнения, так и не воплощенные в ответ Чумакову. – Ты на самом деле считаешь, что наше пребывание здесь обусловлено наличием грехов или испорченной кармой? – Качает головой, в которой каждый миг отмирают новые сотни нейронных сцепок. – Судьба слепа, Диська, – говорит он. – Искать взаимосвязи между событиями своей жизни и неким влиянием свыше – до ужаса неразумно. Не существует причин. Не существует следствий.
Он недоговаривает. Или выдает желаемое за действительное. Но я молчу, сотрясаясь от мелкой морозной дрожи и скрежета жерновов, проникшего в кровь.
Монолитные стены вокруг нас похожи на утробу гигантского чудовища, болезненно-серые и равномерно-шершавые. Серые, словно хрустящая кожа дорогих перчаток аристократа. Будто блеклая шкура оголодавшего волка, подкрадывающегося к детскому лесному лагерю. Как тлен, опутывающий наши жизни…
– Отправляйся в кровать, – с сочувствием говорит Эдик. – И забудь о том, что видел.
Спорить я не намерен. Оставляю комнату с диском. Не разбираю дороги, иду наугад. Но Особняк услужливо подсказывает повороты коридоров, не позволяя заблудиться.
Забираюсь под одеяло, даже не раздевшись. Кутаюсь, безуспешно пытаясь согреться. Кажется, что холод подземелья впитался в тело, словно крем в тортовый корж; пронзил, стал неотъемлемой частью. Ворочаюсь и скриплю зубами, сражаясь с нестерпимым зудом под кожей спины. Слуги рыцарей энтропии вокруг меня покорно спят, наполняя общую комнату стонами и неразборчивым бормотанием.
Эдик возвращается в подвал через несколько минут.
Усталой походкой, похожий на древнего старика, бредущего к собственной могиле. Скрывается за занавеской, шуршит плотной черной шторой, включает ночник. Раздевается неспешно и с привычной аккуратностью, стараясь не шуметь. Слышу скрип матраца, слышу кряхтение, с которым старший прислужник забирается в постель…
Пытаюсь заснуть. Изгоняю из сознания образы комнаты с каменными дисками на полу.
Вспоминаю монолог Эдика. Неужели он прав, и мир никогда не имел причинно-следственных связей? Зло хаотично и бессистемно? Не подчиняется логике и не имеет причин? Что, если природу его происхождения на Земле систематизируют лишь в книгах, и то лишь для того, чтобы не свести читателя с ума?..
Переворачиваюсь с боку на бок, в полумраке разглядев остроносый профиль Чумакова. Своего старого знакомца. Ублюдка, не имеющего права дышать моим воздухом. Неожиданно вспоминаю историю, рассказанную малознакомыми автостопщиками по дороге из Новокузнецка в Томск. Когда-то она казалась мне байкой, колоритным фольклором трассы. Сейчас я уже не уверен в ее неправдоподобности…
Речь шла о смертях на федеральной магистрали. Конкретнее: на куске трассы Кемерово – Новосибирск, официально признанном крайне аварийным. Где из года в год великое количество перевертышей, гармошек и лобовых, в том числе и со смертельным исходом. Чаще всего происходивших после плановых ремонтов полотна. С учетом обстоятельства, что дороги в стране ремонтируются с завидной регулярностью…
Парень хипповатого вида и его прыщавая подруга-швабра рассказывают то, что считают истинной правдой. Передавая по кругу папиросу с анашой, они доверительно говорят мне, что хозяин местной шиномонтажки приплачивает ДРСП. Платит, чтобы работники при ремонте вмуровывали в обочину железные штыри, изготовленные из старых автомобильных рессор. Почти незаметные, любовно подточенные и замаскированные в асфальте.
Именно на них, особенно по ночам или в ненастную погоду, люди прокалывают себе шины. Выжившие не понимают причин, недоумевают, проклинают несуществующую судьбу и вполне объективное невезение. А затем возвращаются в придорожную монтажку, чтобы заплатить за ремонт…
Подлечивая косяк слюной, парнишка с длинными немытыми волосами шепчет, что за период с 2007 по 2012 год на этом участке погибло 18 человек…
Эдик выключает ночник.
Ничего такого, после чего я не смог бы жить дальше…
Я засыпаю, уже не уверенный, что проснусь поутру.
Все устаканивается.
Все всегда приходит в норму, каким бы растяжимым ни было это понятие. Для кого-то нормой считаются семейные поездки в Болгарию или Крым; для кого-то новая доза на продавленном матрасе притона. Для кого-то – заточение в платиновой клетке, где можно все и нельзя ничего…
Я возвращаюсь к работе.
Меня снова принимают в коллектив, если такое циничное определение дозволено к применению. Спина почти не зудит, и только иногда почесывается, стоит воспоминаниям свернуть на тропу, где я так и не смог перебраться через красный забор. Лето жарит город совсем не по-сибирски, и нам иногда дают понежиться под горячими солнечными лучами. Разумеется, в перерывах между хлопотами по дому.
Мы таскаем мебель, когда Жанна или Алиса затевают очередную перестановку. Драим фарфор, фаянс, чугун, стекло, медь и хром, плинтуса из бука и дубовый паркет. Удобряем деревья и кусты, хотя этот фронт работ почти полностью лежит на Виталине Вороновне. Убираем мусор, сжигаем мусор, чистим камины и колем дрова. Подметаем крыльцо и подкрашиваем водосточные трубы.
Еще мы обязательно ловили бы подвальных крыс и мышей, вечного врага продуктовых кладовых. Но дело в том, что в доме не водится ни одной мыши. Хотя никто из нас не видел ни рассыпанной по углам отравы, ни механических ловушек.
Прочищаем канализацию. Устраняем утечки в трубах, подкачиваем колеса дорогих машин в гараже и следим за исправностью генераторов. Сортируем покупки, раскладывая все по кладовкам, где Эдик подписал каждую полку стеллажей своим витиеватым аристократическим почерком. Смазываем и настраиваем коляску Петра, стараясь не задыхаться от удушливой вони, исторгаемой пористым сиденьем.
Делаем то, что делают сотни, тысячи и миллионы людей каждый день по всему земному шару. Мы дружны и исполнительны. Хозяева добры и не требуют больше, чем мы способны дать. Во всяком случае, пока…
Народ слушает музыку. Бабка Виталина чаще всего включает себе записи Кобзона или Магомаева; с радиоприемником ей помогает совладать Пашок. Сам он, насколько позволяют различить бьющие из-под наушников звуки, балдеет по Кендре, АК-47 и подобному русскому рэпу. Валентин Дмитриевич, что удивительно, совсем не слушает шансона, предпочитая Высоцкого, Окуджаву или вообще классические концерты. Марина, что как раз не удивительно, сидит на Стасе Михайлове, Пугачевой и Ваенге. Санжар… что когда-то слушал Тюрякулов, сейчас не помнит никто.
Я музыки не включаю, потому что больно. И о плеере больше не мечтаю.
Зацикливаюсь на том, что все песни на свете что-то означают. Так же, как и фильмы, просмотренные в определенный момент жизни. Сейчас в моей голове все чаще играет песня «Синий бархат» из одноименного американского фильма. Милая, ласковая, даже излишне слащавая, романтичная композиция. Но у меня она ассоциируется с определенным фрагментом существования. С моментом, когда все катилось вниз, а чашка кофе прикасалась к губам куда реже, чем игла к вене.
Пытаюсь вспомнить, чем был так страшен для меня тот фильм Линча. И не могу. Помню лишь атмосферу неотвратимости и вовлеченности в процесс. Процесс, остановить который был не в силах ни я, ни герой картины. С тех пор, едва слышу ее первые аккорды в рекламе, кино или по радио, меня охватывает настоящий ужас. Сегодня он – мой постоянный спутник, и я ничего не могу поделать, чтобы изгнать «Бархат» из головы…
Вот она, сила современного массмедиа. Очередное подтверждение, что музыка может быть опасна…
Жизнь идет своим чередом. Мы едим, курим, мастурбируем, спим, испражняемся, смотрим кино. Занимаемся спортом в специальном закутке, если кто желает. Гуляем по двору, обмениваясь пустыми, ничего не значащими репликами. Мы напоминаем попутчиков, до сих пор не осознавших, что с этого поезда не сойти ни одному из нас…
Однако умиротворяющая, болотная, гудронная рутина делает свое дело. В какой-то момент может даже показаться, что Особняк – вовсе не тюрьма, а его обитатели живут одной дружной трудолюбивой коммуной. Подвальные даже шутят, хотя бы на время забывая, что почва под ногами может разверзнуться в любой момент.
– Как вы назовете пятьдесят дагестанцев на дне океана? – спрашивает Пашок, перетягивая обивку тяжелого трехногого табурета из музыкальной комнаты. – Правильно, хорошее начало!
– В чем разница между евреями и пионерами? – с ехидной ухмылкой интересуется он. Щелкает промышленным степлером, посматривая на меня и Марину, протирающих пыль с рояля и подоконников. – Да просто пионеры возвращаются из своих лагерей.
– В машине едут узбек, казах и таджик. Кто за рулем? Верный ответ – участковый, – не унимается торчок, и мы невольно смеемся расистскому юмору, на несколько минут позабыв, где находимся и как сюда попали…
Раз в три недели хозяева добры к нам настолько, что позволяют провести вечер у камина. В одной из так называемых гостевых комнат, где никогда не бывает гостей. В такие дни ужин мы получаем не на подъемнике; его на многоэтажном столике вкатывает из кухни Марина. Едим. Пьем чай, слабое подогретое вино или морс. Пытаемся насладиться неестественной естественностью момента и любуемся на живой огонь.
Где-то в анфиладах скрывается Себастиан. Приглядывает, словно взрослый за детьми, чтобы не натворили глупостей или случайно не залезли в родительский шкаф с порнографией.
Никому не нравятся эти посиделки. Но Эдик раз за разом настаивает на их проведении, полагая это незаменимым инструментом выстраивания корпоративного духа. В такие моменты мы почти не разговариваем. Тянем лямку, пусть и более приятную, чем прополка сорняков. Но скопившееся все же рвется наружу, и тогда…
– У меня была внучка, – говорит Виталина Степановна.
Старуха сидит ближе всех к огню, несмотря на теплый июльский вечер закутав ноги в шерстяной плед. В ее руках спицы, но они давно не стучат, вязание отложено. Взгляд женщины утонул в языках пламени, прогрызающих ходы в плотных березовых полешках. Чума, уткнувшийся в газету, приподнимает брови, посматривает поверх очков.
– Она была неспокойной девочкой, – продолжает старуха, даже не поинтересовавшись, слушают ли ее.
Марина, с ногами забравшаяся в кресло, отставляет в сторону бокал с глинтвейном. Пашок, развалившийся на медвежьей шкуре в паре шагов от камина, выныривает из полудремы. Эдик, стоящий у окна, поправляет штору, но оборачиваться не спешит.
– Все время кричала, болела много, – говорит Виталина Степановна, и мне заранее становится не по себе. – Дочка моя, Любаша, никак на нее управы найти не могла. И коньяком теплым поила, и таблетки давала, и не спала ночами, баюкая. Но та не успокаивалась никак…
Портреты на стенах хитро щурятся, наблюдая за нашей реакцией. Теперь я точно знаю, что часть их написана Жанной – однажды прибирался в ее мастерской, невольно отметив, каким потрясающим талантом копировальщика она обладает.
Себастиан рядом, совсем рядом, присматривает из тени. А может, это сама усадьба следит за нами, плотоядно облизываясь и наслаждаясь бездной пропащих душ. Виталина Степановна ерзает в кресле, словно очнувшись, но бормотать не перестает.
– Однажды мы остались с Анечкой вдвоем, – говорит она, шевеля сухими морщинистыми губами. – Родные надолго уехали, отдохнуть хотели. Да и дочке выспаться нужно было. А Аня все кричала. Кричала и кричала, спасу от нее никакого не было…
Чумаков откладывает газету, подаваясь вперед так, словно хочет остановить старуху. Эдик поворачивается к окну спиной, и Валентин Дмитриевич замирает. Пашок морщится, зная окончание истории. Но монолог, больше похожий на ритуальную исповедь, не прерывает даже жестом.
– Очнулась я над кроваткой, – говорит Виталина Степановна, чье умение выращивать уникальные розы в прихотливой сибирской земле высоко ценится нашими хозяевами, – от тишины очнулась.
Мне тоскливо и тошно, и я уже жалею, что так плотно поужинал. Хочу уйти. Но точно знаю, что в дверях встречу Гитлера, одним взглядом способного вернуть меня на место. Сажусь на диван так, будто проглотил палку, и стараюсь удержать рвотные позывы.
– Думала, молочком сцеженным пою, – совсем тихо добавляет бабка, глядя на вязальные спицы, словно видит их впервые. – А оказалось, «Кротом» для прочистки труб. Почти чашку влила в нее, нос пальцами зажимала. Но замолчать заставила. Потом как в тумане все… бутылку под раковину на кухне убрала и спать пошла. Долго проспала, часов двенадцать. Проснулась от крика дочкиного. И чтобы встать да проверить, лишь одеяло повыше натянула и глаза не открыла. Тесть меня тогда чуть не задушил. А может, лучше бы и задушил…
Смотрю на Эдика. Этот взгляд с интересом перехватывает Пашок, но мне наплевать, что там малолетний говнюк может себе придумать. Мажордом со мной глазами не встречается, но вся его поза говорит: «Это ничего не значит. Причин и следствий по-прежнему не существует».
Молчу. Мне очень хочется высказаться. Исповедаться вслед за старухой, ведь именно этого дом требует от каждой из своих жертв. Но я молчу. Вместо этого приходят воспоминания. Яркие, как летний день. И столь же размытые, погруженные в знойное марево, не позволяющее разглядеть деталей.
Эдик что-то говорит, предлагает потихоньку собираться и тушить камин. Виталина Степановна сгребает вязание и уходит вниз, даже не подумав помочь Марине с уборкой грязной посуды. Чумаков медленно и важно, будто от этого зависит его жизнь или репутация, сворачивает газету…
Помню страх. Ни одно иное возвращение с уроков не было наполнено таким ужасом, даже когда в семье происходили действительно неприятные вещи. Помню запах чужого человека в квартире. Шаги, дыхание запыхавшегося взрослого мужчины. Помню его пульсирующее, волнами расходящееся желание сделать мне больно. Заставить меня страдать. Просто так, без особенных причин. Помню, как открывается дверь туалета…
И вместо того, чтобы обрушить волну злости на Валентина Дмитриевича, бросаю ее на окружающий Особняк. Потому что если бы не он, я бы продолжал плыть по ручью своей жизни, даже не пытаясь оглянуться на скалы, когда-то оцарапавшие дно моей лодки…
Смотрю на силуэт Себастиана в дверях. Смотрю на Эдика. Смотрю на стены и потолок, из которых торчат белые, чуть изогнутые зубы, словно вся комната внезапно провалилась в пасть взрослого Шаи-Хулуда…
У меня никогда не было твиттера, но это не означает, что я не в курсе принципов его работы. И сейчас мой взбудораженный мозг начинает сыпать хэштегами, один за другим бросая их на багровое покрывало сознания.
#Ненависть. А еще #ЖизньИдетВпередИЯВместеСНей. Или #Месть. Особенно яркими выглядят #Свобода и #ПроклятыеДуши.
– Ты сиди, братюня, не помогай, – насмешливо говорит мне Пашок. Он составляет заляпанные стаканы на нижний ярус столика. – Мы и сами управимся.
Замечаю, что пальцы сцеплены так, будто я хочу их себе переломать, до белизны и ломоты. Встаю, пропуская колкость мимо ушей, шагаю к камину. Пламя, как живое существо, узревшее своего палача, выбрасывает в мою сторону длинный хищный язык.
Открываю нагретую решетку, сотканную из гибких чешуйчатых тел. Я до сих пор не научился видеть красоту в простых вещах, иначе оковка камина показалась бы мне очень изящной. Даже несмотря на мерзость химер, покрывающих ее.
Беру увесистую кочергу и начинаю растаскивать в стороны почти прогоревшие дрова.
Марина, Эдик и Чумаков, загрузив стол грудой грязной посуды, направляются к дверям.
– Помоги мне с этим, – говорю Пашку, якобы не заметив искреннего удивления на лице бывшего наркота. – Как тут заслонка закрывается, напомни?
Эдик награждает нас подозрительным взглядом, но покидает гостиную. Пашок же, недоверчиво щурясь, замирает рядом. Понижаю голос так, что он почти не слышен сквозь потрескивание углей.
– Их можно убить? – спрашиваю без надежды на ответ, каждый миг ожидая появления Себастиана. Но его нет.
Пашок бледнеет, отшатывается, затравленно озирается.
– Даже не думай, нах, – шепчет одними губами, разом потеряв самоуверенность человека, не раз смотревшего смерти в глаза. – Молчи…
В комнате слабо пахнет едой и паленым деревом. Еще витают ароматы сигарет Эдика, едкой папиросы Чумакова, едва различимый след от духов Марины. Несмотря на то что ни одна комната Особняка не оборудована кондиционерами, запахи испаряются очень быстро, будто по углам установлены современные вытяжки. Они впитываются стенами.
– Убить можно любого, – говорю я.
Нет, не говорю – выдыхаю. Но точно знаю, что парнишка меня слышит.
– Как?
– Ты себе, братюня, могилу роешь, нах…
Пашок обреченно качает головой и приседает на «пацанские» корточки. Зачерпывает воды из кованого ведерка, стоящего рядом с камином. Осторожно, тонкой струйкой, чтобы не поднимать облака пепла, заливает огонь из ковшика с медным змеиным узором.
Пламя недовольно, яростно шипит и плюется искрами. Торчок, заманивший меня в этот дом, косится по сторонам и снова мотает стриженой башкой, будто прогоняя наваждение. На его левом виске яркая и блестящая капля пота.
– Даже если тебе удастся навредить одному из них, – едва шевелясь, артикулируют его губы, и я жадно всматриваюсь в них, боясь что-то упустить. – Себастиан не позволит довести дело до конца…
Себастиан. Наш незримый страж и судья для провинившихся. Голубоглазое порождение преисподней, оказавшееся в нашем мире вопреки законам сохранения границ. Человек, каким-то образом связанный с каменными кольцами в подвале. Он не позволит довести дело до конца…
Окончательно взбешенный… взведенный, как пружина… раздосадованный и потерянный, спрашиваю Пашка:
– Почему вы не бунтуете? Почему не пробуете наброситься все разом – сначала на Гитлера, потом на Константина? Ведь тогда у нас могут появиться ша…
– Шутишь, нах? – совершенно спокойно и серьезно перебивает меня парнишка, вешая ковшик на край ведра. Поднимается на ноги. Аккуратно, словно могу неосознанно причинить ему вред, забирает у меня еще теплую кочергу. Ставит на положенное место в стойке, закрывает решетку камина. – Ты действительно считаешь, что наших хозяев можно поднять на топоры и вилы?
– Да, – хочу ответить я.
– Отчего ты так веришь в их всесилие, если ни разу не пытался? – хочу возразить я.
– Они обманом убедили тебя в своей мощи, заставив опустить руки! – хочу упрекнуть я.
Но вместо этого молчу и вспоминаю нож для стейков, вонзенный в грудь Себастиана.
За нашими спинами, настороженный и бесшумный, появляется Эдик.
– Хватит болтать. Спускайтесь в подвал, – твердо приказывает он. – Время, отведенное нам на пребывание в доме, истекает через семь минут. А затем семейство покинет свои комнаты…
Мы спешим вниз, делая вид, что никакого разговора не было в помине.
#ВажныеМыслиНаБудущее.
Я на самом деле помню, как открылась дверь туалета?
Ведь именно это определило мою дальнейшую жизнь и угол падения?
Ведь правда?
Я выжат, словно лимон, каким бы банальным ни казалось сравнение.
Баки пусты. Сеть обесточена. Топка прогорела дотла.
Я полностью обессилен. Несмотря на то что сух с момента заточения, почти не курю, правильно питаюсь и при первой же возможности делаю зарядку и занимаюсь на примитивных подвальных тренажерах…
За окнами – влажный июльский вечер, почти ночь. Лежу в полудреме, пытаясь прийти в себя, и перевожу дух перед новым раундом. А уж он-то наверняка будет: за минувшие недели я достаточно хорошо узнал Жанну, свернувшуюся калачиком на расстоянии вытянутой руки.
Простыни прохладны и гладки, но меня жжет изнутри.
В комнате душно и стоит запах разгоряченных плотскими утехами тел.
Мне мерещатся муравьи, вылезающие из-под ногтей. Рыжие, почти красные, они совсем маленькие, но кусают больно. Я пытаюсь закричать, но вместо этого у меня во рту раскрывается пышный цветок – фиолетовая бархатная роза.
Судорожно вздрагиваю. Открываю глаза, уставившись на собственное отражение…
Над огромной, излишне вычурной кроватью Жанны зеркальный потолок. Не одно большое отражающее полотно, а целый десяток разновеликих зеркал, установленных каждое под небольшим углом. Словно приклеенных небрежно и второпях. Но я знаю, что это сделано намеренно и с четким расчетом. От того, что потолок неоднороден и ступенчат, создается иллюзия искривленного, нещадно изломанного пространства. Если долго смотреть в него, кружится голова…
Жанна совсем рядом, но ее отражения почти не видно. Сколько бы ни пытался – даже распластанный под наездницей, я ни разу не замечал ее отраженной полностью. Лишь мелькнет в куске зеркала обнаженное бедро. Или плечо. Или светлая прядь. Смотрю на себя – мокрого от пота, прикрытого лишь краем перламутрово-серой простыни; смотрю на себя, падающего вверх, навстречу самому себе. И снова закрываю глаза, чтобы не застонать.
Секс с Жанной мог бы показаться сказочным и желанным для любого мужчины. Жарким, чуть более жестким, чем хотелось бы большинству. Мог бы. Где-то в другой Вселенной. Где для того, чтобы стать любовником, не нужно становиться рабом…
Приподнимаюсь на локте, поворачиваюсь и смотрю на нее.
Такому профану в этом вопросе, как я, сложно сказать, красива ли она. Скорее симметрична и проста. Причем искусственно симметрична, ведь природа не любит этого понятия. Лет сорок на вид, но вид этот еще стопроцентно товарный. Пытаюсь углядеть в ней что-то привычное, бренное, деструктивное – некрасивую родинку, волоски над верхней губой, морщины на шее. И не нахожу.
В отличие от Алисы, похожей на прямоходящую голодную пантеру, красота Жанны легка и утонченна. Чем-то она напоминает Марлен Дитрих: тот же высокий лоб, тонкие черты лица, острые скулы, вьющиеся волосы. И ледяной взгляд, передать который не способна ни одна фотография.
В условиях выбора я бы остановился на Алисе – ее тип классической роковой женщины с роскошной темно-каштановой гривой мне более по вкусу. Но выбирать не дают, и вот я здесь, в одной из спален четвертого этажа…
Честно стараюсь получать удовольствие. Но если первый час у меня выходит более-менее сносно, затем начинается форменное насилие. Не знаю, какой именно силой обладает Жанна, заставляя подниматься даже самого измученного меня… но на четвертый или шестой раз я ощущаю себя не мужчиной, а ожившим фаллоимитатором…
Она потягивается и стонет, настраиваясь на продолжение. И тогда я спрашиваю, пытаясь выиграть еще хоть пару минут покоя:
– Алиса действительно твоя дочь?
Вопрос, похоже, попадает в цель. Жанна сонно садится рядом со мной. Скрещивает ноги и откидывает со лба прядь, даже не пытается прикрыть холодную бесстыжую наготу. Вдыхаю ее запах и ощущаю шевеление между ног, там, где прикорнул смятый угол простыни.
Говорит:
– С чего ты взял, Дисечка? – Ласково, негромко, но я научился распознавать подкрадывающееся недовольство.
– Наши говорят…
– Они говорят разное, – Жанна улыбается тонкими губами.
Если бы улыбки могли замораживать, вода в стакане на тумбе уже превратилась бы в лед.
– Значит, это правда, – констатирую, не испытывая ни намека на удивление.
– Тебя это заводит? – все же интересуется она, пальцами левой руки накручивая свой острый сосок. Несмотря на холод дыхания, я снова начинаю пылать.
– Вы ведь очень старые, да? Наверное, даже древние?
Смеется, обнажая мелкие белоснежные зубки.
– Никогда не спрашивай женщину о ее возрасте, дурачок, – облизывает губы змеиным язычком. – Особенно ту, с которой делишь ложе.
Постель не зря называют самой откровенной из исповедален. Поэтому я задаю еще один вопрос – из сонма тех, что мучают меня ночами, когда я вспоминаю зарезанного пони и молчаливого Константина, стоящего возле кровати Тюрякулова.
– Вы продали души, верно? – говорю я.
Готовлюсь к тому, что сейчас она вспыхнет, ударит меня и прогонит, избавив от дальнейших сладких мучений. Ее реакция удивляет, и я даже не успеваю удержать брови, полезшие на лоб.
Она опять смеется. Причем искренне и заливисто, словно девчонка.
– Ты смешной мальчик, Дисечка, – говорит, отсмеявшись и продолжая ласкать свою грудь. И произносит, отчего у меня окончательно падает член, а позвоночник пробирает январской стужей: – Знаешь, любопытный мой, если речь заходит о торговле душами, то мы – ломбард.
Лежу молча и неподвижно, уставившись в зеркальный потолок. Вижу ее локоть, двигающийся мерно и неспешно, вижу плечо и волосы. Наверное, так ощущают себя суши-девушки, с обнаженных тел которых ужинают высокопоставленные якудза.
Смысл произнесенных слов медленно доходит до сознания, заставляет цепенеть все сильнее. Такое чувство, что меня душат кожаным ремнем…
– Вы… – давлю слова жалобно и неохотно, проклиная себя за слабость, но ничего не могу с этим поделать, – отпустите меня?
– Отпустить? – Жанна неподдельно удивлена. Так бы удивился любой, услышавший несусветную глупость. – Почему? Неужели тебе плохо?
Подается вперед, всматриваясь в мое лицо. Чувствую это, даже сомкнув веки.
– Неужели тебе чего-то не хватает в этих стенах? – спрашивает она. – Просто исполняй правила, Денис. А если что-то не так, я помогу…
Вдруг протягивает руку и кладет ладонь на мой лоб. Холодную ладонь, узкую и гладкую, словно провела хирургическую операцию по удалению всех линий судьбы, жизни и прочей чепухи.
– О, смешной истерзанный мальчик, – шепчет она, и в голосе Жанны сочувствие сражается с насмешкой. – Ты страдал, это правда. Но в вопросах любви я – специалист высшего класса. Эксперт, как сказали бы журналисты.
Молчу, вжавшись в подушку и не в силах возразить. Мне кажется, что из-под моих ногтей снова исторгаются сотни крохотных алых муравьев. Жанна чуть сжимает ладонь, и я чувствую, как мозг схватывает ледяным обручем.
Моя жестокая любовница и хозяйка говорит:
– Это приходит вечерами, не так ли? – Ее рука все еще на моем лбу, отчасти закрывая глаза. Вторая рука, я это точно знаю, по-прежнему теребит сосок. – О, вечер – коварный мистический подельник любви и союзник боли, их верный миньон. Стоит солнцу зайти за горизонт, и ты мигом забываешь, как дышать, верно? Умираешь без нее, задыхаешься и таешь майским сугробом.
Ее пальцы скользят по моему лицу, гладят щеку и шею, но я не открываю глаза. От прикосновений морозит, но в груди начинает разгораться пламя. Ладонь все ниже, на моей груди, затем на животе.
– Ты не находишь себе места. В прямом смысле слова, – говорит Жанна, и ее шепот пробирается прямиком в душу. – Тебя трясет. Физиологи бы сказали, что дело в скопившемся за день напряжении. Но я-то точно знаю, что это не так.
Дыхание ее учащается. Шепот становится жарким, и температура в комнате, кажется, поднимается градусов на десять. Ладонь продолжает путешествие, сквозь край простыни теперь поглаживая мое бедро.
– Ты пытаешься честно уснуть, да? Ложишься в кровать и мнешь подушку, верно? – Она уже не шепчет, скорее мешает слова со стонами, срывающимися и влажными. – Комкаешь одеяло, вспоминаешь, мечтаешь, проклинаешь и грезишь наяву… Засыпаешь, с невероятным трудом вырываясь из объятий сумеречного злодея.
Теперь рука под простыней. Я не хочу возбуждаться, но сила Жанны куда больше моей. Ее это провоцирует, движения становятся все настойчивее и резче.
– А утром твоя голова чиста. – Она продолжает бить в одну точку, заставляя меня внутреннего страдать и меня внешнего готовиться к новому раунду. – Все идеи написать письмо, обновить статус в социальной сети, запостить фото или опубликовать стихи – лишь бы она услышала, уловила сигнал, прочитала послание и убедилась, как ты страдаешь, – кажутся наивной чушью. Кажутся нелепицей, детскими забавами, недостойными настоящего мужчины…
Теперь я по-настоящему, железно готов, да так, что могу проткнуть гипсокартонную стену. Но все еще стискиваю зубы, надеясь на скорое окончание пытки. Не хочу, чтобы госпожа победила, но ничего не могу поделать.
Спина взмокла, пальцы хватают простыню. Чувствую запах ее пота – дразнящий, пробивающий насквозь, словно град пуль. Голову кружит, будто я закинулся новым типом колес. Потолок раскалывается на сотни осколков, превращаясь в калейдоскоп.
Жанна опускается еще ниже, отбрасывает тряпку и нежно охватывает меня губами. При этом я все равно слышу ее голос, звучащий в голове.
– Хочешь, Дисечка, – спрашивает она без слов, заставляя меня трястись, словно зверька, угодившего на высоковольтный провод, – я сотру эти воспоминания?
– Нет! – Вскидываюсь так резко, что она сильно сжимает зубы, заставляет почувствовать жгучую боль в низу живота. – Нет… – Не могу понять, говорю ли это вслух или громко думаю, каким-то образом заставляя ее слышать. – Прошлое и так оставило мне слишком мало, чтобы лишать себя и этой его части…
Она утомленно вздыхает.
Отстраняется, оставляя меня на холодном ветру. Брезгливо вытирает губы и пальцы уголком простыни, бросая меня в двух шагах от финиша. Глаза ее холодны и безжизненны, словно остывшие угли.
– Глупо, – сообщает Жанна, перебрасывая ноги через край кровати. – Инфантильно, безответственно и глупо. Тягостные воспоминания, сколь важными они бы ни казались, остаются балластом, не имеющим никакой фактической ценности…
Идет через комнату, грациозная, молочная и сверкающе-голая. Склоняется над креслом, поднимая красно-синий китайский халат из шелка, запахивается. На блестящем паркетном полу коричневого дерева я вижу ее влажные следы – тонкие, изогнутые, совсем не похожие на отпечатки человеческих ступней. Вынимая из кармана пачку сигарет и тонкую зажигалку, Жанна прикуривает. Вскидывает острый подбородок к зеркальному потолку.
Говорит со стальной прохладцей:
– Возвращайся в подвал.
И еще:
– С завтрашнего дня занятия с Колюнечкой продолжатся. Малыш соскучился по своему репетитору…
Мой мир – империя упущенных возможностей.
#НеЗвониМнеБольше, #ТыЧто-тоЕщеХотелСказать? #ВиноватСам…
Кажется, я только что лишил себя возможности стать легче.
Выскальзываю из кровати и начинаю торопливо одеваться.
Изломанный, побитый на разноразмерные осколки потолок наблюдает за мной. В точности копирует движения, но делает их неровными и дергаными. Где-то там, в волшебной стране Льюиса Кэрролла, мое отражение все-таки соглашается на предложение Жанны. И Особняк одерживает еще одну крохотную победу…
Меня разрывает между двумя возможными решениями.
Оба они по-своему трусливы, и оба по-своему равноотважны. Обдумывая, обсасывая, обмусоливая в уме каждое, я никак не могу выбрать. Не могу определить, какое подходит мне больше. К какому из двух я морально и физически готов. И что должно произойти, чтобы решимость окончательно окрепла…
Монотонные занятия с Колюнечкой продолжаются. Кроме географии, я преподаю ему основы арифметики и геометрии. Выдаю все, что помню с института, какими сумбурными ни получались бы занятия.
Рассказываю про сложение и вычитание, равнобедренные треугольники и системы координат. Совершенно не представляю, какого уровня знания положены ребенку его возраста. Совершенно не представляю, сколько лет существу, которого здесь считают ребенком.
Мои бесцветные дни снова наполнены скрипом маркера по светлому пластику доски. Ерзаньем маленького кровососа за крохотной партой. Незримым присутствием Себастиана и скупыми похвалами Константина.
Время от времени тот появляется в «классе», слушая лекции и изредка комментируя сквозь слюнявую пленку на губах. Хрустит фисташками, глядит в пустоту и заставляет мысли путаться. Уходит так же незаметно и бесшумно, как появляется. Его визиты уже не вызывают прежнего ужаса – только опустошение и ожидание неизбежного. Оно обязательно случится, хотя я уже не очень помню, почему…
Память пытается подсказать, что когда-то с нами жил еще один работник.
Казах вроде. Или узбек. Кажется, его отпустили на свободу, но при одной мысли об этом сердце сжимается. Словно подсказывает, что не все так просто. Что все куда сложнее…
Если измерять вселенную с точки зрения материального благополучия, то я процветаю. Деньги, заплаченные хозяевами за уроки, больше некуда прятать. Заначка уже не вмещается в потолок шкафчика, и я начинаю толкать купюры в матрас. Затем и вовсе оставляю в тумбе или карманах одежды, даже не беспокоясь, что их могут украсть.
Другие рабы и без того знают, что я получаю больше их.
– Наша маленькая Катя завела себе дружка, – как-то вечером говорит Феклистова будто бы в никуда, нараспев. Штопает колготки и игриво улыбается. – Пухлый беленький барашек, рожки – будто два кружка. Порезвилась, поиграла, а потом на стол подала, – напевает она, многозначительно подмигивая каждый раз, когда остальные отворачиваются или выходят из подвала.
Я не реагирую.
Очевидно, что мы давно живем в мире глобальной трансформации устоявшихся понятий и привычных когда-то ценностей. В мире, где остроты и меткие высказывания принято именовать под**бками, а попадают они не в сборники афоризмов, а в демотиваторы и мемы. А на такое не реагируют…
– Займи косарь до зарплаты, – просит Пашок, мечтающий хотя бы в рассрочку купить портативный Bluе-ray-проигрыватель. – Немного не хватает. Я отдам, братюня, ты ж меня знаешь, нах…
Я одалживаю ему денег. И даже Чумакову одалживаю, когда тому не хватает на одежду или новую подушку. Даже не интересуюсь, когда собратья по несчастью собираются возвращать займы. Виталина Степановна, поклянчив украдкой, сразу тратит все на бесчисленные журналы со сканвордами, гороскопами и пособиями по садоводству. Марина не просит совсем.
Пашок покупает свою долгожданную электронную игрушку, с помощью Эдика оформив кредит, заказ через Интернет и экспресс-доставку. В тот же вечер, невесть как раздобыв еще и запись с воли, он смотрит ролик. Ролик, одно существование которого вызывает у меня отвращение, печаль и злость.
#ПаладиныЭнтропии. #ОтсутствиеПричинИСледствий.
Чаша моих моральных весов все активнее склоняется к первому, наиболее трусливому решению…
Такого добра полно на Youtube. Сегодня я искренне рад, что никогда не интересовался подобного рода видео. Снимают с руки, бездарно и дергано. Скорее всего, на мобильный телефон. Но суть ролика не в некачественной режиссуре или отвратительном звуке, а в происходящем на экране новенького – торчок еще даже не снял защитную пленку с дисплея – проигрывателя.
Крепкие, мускулистые и наголо обритые парни врываются на вещевой рынок. Судя по тому, что я успеваю рассмотреть – рынок Хилокский, местный, что расположен на юго-западе города. Дружной толпой вбегают прямо в глубь торговых рядов, где в норах контейнеров и тенях навесов притаились продавцы самого низкопробного товара. Продавцы, процентов на девяносто состоящие из гостей азиатских республик.
В воздух летят перевернутые столики, с грохотом падают проволочные сетки с развешанными на них блузками, трусами и свитерами. Хрустят пластиковые плечики. Опрокидываются тележки с пирожками и чаем. Крики жертв перемежаются боевыми воплями скинов, совершающих налет оперативно и отработанно. В ход идут цепи, бейсбольные биты и обрезки труб.
– Ты смотри, братюня, до чего же, нах, ловко! – комментирует Пашок, не обращаясь ни к кому конкретно.
Камера телефона бесстрастно фиксирует, как молодому таджику разбивают голову. Как валят на землю пожилую цыганку, пиная ее в бедро. Как летят в грязь стопки дешевых носков и кухонных полотенец. Двое пожилых китайцев пытаются дать погромщикам отпор. На них наваливаются сразу пятеро бритоголовых, втаптывая, вминая, ломая и давя.
– Молодцы, парни, так их, сучар! – причмокивает Пашок, не отрываясь от просмотра. – Поднялась Россия-матушка!
Бита с хрустом вминается в лицо парнишки с миндалевидными глазами. Труба с пронзительным «помм!» обрушивается на тонкую мусульманскую тюбетейку чернобородого мужчины. Кастет вышибает зубы кавказцу, посмевшему табуретом ударить одного из налетчиков.
– Давно пора, нах, – согласно кивает Пашок, дрожа от возбуждения.
Мне хочется воткнуть ему в ухо одну из спиц Виталины Степановны, но я держу себя в руках.
Рынок охватывает паника, за кадром воет сирена. Мо́лодцы, атаковавшие приезжих, что-то кричат про засилье наркотиков, работорговлю, черномазых ублюдков и власть русского духа. Вопли «убирайтесь с нашей земли!» звучат все чаще. Затем колонна боевиков, замыкаемая оператором, вытягивается с рынка. Запись прекращается.
Я почти уверен, что никого из бритоголовых в тот день задержать не удалось…
Потираю лицо, пытаясь разобраться в себе.
И понимаю, что не испытываю жалости. Нет, не так… Мне действительно жаль этих несчастных, забитых и испуганных, имевших неосторожность покинуть свои жаркие феодальные царства в поисках лучшей жизни. В полной мере отдаю себе отчет, что в Сибирь они приезжают с полным незнанием местных законов и правил. Предполагаю, что с ростом числа мигрантов растет процент этнических преступлений, и русских девушек все чаще насилуют убившиеся насваем ублюдки…
Но так же хорошо я представляю, что еще больше насилий совершают свои – русские, сибиряки, отмороженные или залившиеся водкой. Еще больше грабежей, убийств, поджогов и краж. А потому я все-таки испытываю жалость – к несчастным туркменам, узбекам и китайцам; а еще к скинхедам, пытающимся установить кровавую справедливость таковой, какой ее понимают; и к государству, не способному удержать контроль над границей и законами.
Однако жалость эта отстраненная. И через две минуты просмотра видео я ловлю себя на том, что пялюсь в экран Blu-ray-проигрывателя, словно там крутят обычный голливудский фильм…
Все люди живут в субъективных галактиках с жестко персонифицированными степенями радости и горя. Самые любознательные иногда заглядывают в соседские, но большинство предпочитает личные эгоцентричные мирки. Именно такое самооправдание я нащупываю, стоя над койкой Пашка и глядя на дисплейчик проигрывателя.
Я больше не страдаю. Ни за 11 сентября, ни за Хиросиму, ни за Беслан. Это, безусловно, глобальные трагедии. Но напрямую они коснулись лишь тех, кого коснулись в прямом смысле слова. Сочувствую пострадавшим, но никогда не смогу осознать настоящую глубину ужаса. А значит, нечего и пытаться. Точно так же никто из тех, кто не бывал в Особняке, никогда не испытает безнадеги, пропитавшей его стены. Это исключительно моя Вселенная, и остальному миру на нее смачно наплевать…
– Матерь Божья! – Пашок вдруг вскидывается. Закрывает крышку проигрывателя и садится на кровати, сбрасывая ноги. – Сейчас же, нах, продукты привезут!
Затравленно смотрит на настенные часы, и мы оба понимаем, что он чуть не сорвал установленный Эдиком график. Лихорадочно ищет штаны, рубашку, кеды.
– Давай я приму, – предлагаю спокойно, хотя смотреть торчку в лицо нет никаких сил. – Мне нетрудно.
Пашок замирает, будто наступил на противопехотную мину.
Изучает меня из подкроватных недр, и в крысиных глазах сомнение сражается с надеждой. Он все еще разгорячен просмотром, а потому соображает не очень четко. Затуманенно соображает. Впрочем, очевидно не доверяет. Хотя и хочет.
Но я одет и по благоприятному стечению обстоятельств обут. Он еще нет, а доставка уже пару минут названивает в домофон у ворот.
Спрашивает:
– Без глупостей?
– Без глупостей, – признаю я.
Настолько честно, как могу. А могу, как выясняется, многое…
– Диська, если подведешь, Эдик с меня нах шкуру спустит…
– С меня уже спускали, – отвечаю негромко, хотя в комнате, кроме нас, никого. – Не подведу.
– Черт… Твою мать… – Пашок колеблется, но я уже протягиваю руку. Требовательно и уверенно. – Вот, держи. – В ладонь опускается длинный металлический ключ. – За все уплочено, только распишись и внутрь занеси. Я оденусь и сразу к тебе. На кухню таскать будем. И во двор никого не пускай, нах!
– Знаю, – отвечаю, смыкая пальцы вокруг ледяной железки. – Не раз видел, как вы с Чумой посылки принимали. Во двор никого. Распишусь и занесу коробки.
И ухожу еще до того, как он успевает передумать…
Сердце стучит, как неисправный автомобильный движок.
На улице на голову обрушивается июльская нега, совершенно несопоставимая с охватившим меня ознобом. Стараюсь не оглядываться на окна, хотя меня ежесекундно подмывает убедиться, что хозяева наблюдают.
К воротам иду быстрым, непринужденным шагом. Так, пожалуй, оно должно выглядеть со стороны. Изнутри же мне кажется, что тело корежит и трясет, словно нарика на третий день ломки.
Я не собираюсь бежать. Лишь хочу выяснить степень доверия. И впервые за несколько месяцев хоть одним глазком выглянуть вовне. В мир, который потерял.
С каждым шагом ключ в ладони становится все тяжелее, но я не позволяю себе раскисать. Слышу шуршание камешков под подошвами кроссовок, слышу беспрерывную трель домофона, слышу недовольное бормотание курьера. Если он продолжит жать кнопку коммутатора еще хотя бы несколько секунд, на шум выбежит Эдик, и тогда…
– Иду-иду! – говорю громко, чтобы услышали за воротами, но без надрыва или истерики. Во всяком случае, мне так кажется.
С той стороны мирозданья спрашивают:
– Уснули вы там, что ли? Я тут торчать не нанимался…
Вставляю ключ в замочную скважину. В прошлый раз я видел этот тяжелый висячий замок так близко, когда дружелюбного вида парнишка по имени Павел предложил мне закурить и подработать.
В какой-то момент кажется, что ключ не подойдет… или за моей спиной появится Эдик, кипящий от ярости и нарушения субординации… или Пашок успеет выскочить из подвала, торопливо выплевывая на бегу:
– Все, дальше я сам, спасибо, братюня…
Но замок щелкает, открываясь; Эдик по-прежнему в глубинах дома; торчок так и не успел одеться. Снимаю дужку с петель, вешаю замок на специальный крюк и толкаю калитку. Толкаю и впервые за бесконечность делаю шаг наружу.
Дом за моей спиной выдыхает и задерживает дыхание. Как снайпер, изготовившийся тянуть спусковой крючок.
Я осторожен и неспешен, как строитель карточного небоскреба.
– Побыстрее нельзя? – вместо приветствия спрашивает меня восемнадцатилетний щенок в форменной куртке и кепке службы доставки. – У меня еще семеро клиентов…
– Извините… – сдавленно говорю, впившись взглядом в его изъеденное оспинами лицо. Новое лицо – не одного из хозяев, не одного из коллег по несчастью. – Где расписаться?
Он протягивает мне пластиковый планшет со стопкой отрывных корешков. Копирка, которой проложены плотные листки бумаги, по-школьному шуршит на летнем ветру. Не глядя ставлю автограф, зачарованно рассматриваю улицу частного сектора. Улицу, по которой пришел примерно вечность назад…
Не успеваю среагировать, что-то спросить или попрощаться – паренек-курьер запрыгивает на водительское сиденье желтого микроавтобуса. Разворачивается поперек улицы, чуть не своротив соседский палисадник. И укатывает прочь.
Смотрю на десяток картонных коробок, составленных возле окованных маскаронами ворот.
И только теперь понимаю, что я снаружи. Один.
Не разверзаются небеса.
Жанна не прилетает по мою душу на черных кожаных крыльях. Не бросается диким волком Константин, чьи челюсти способны перемолоть кость. Эдик не бежит через двор, размахивая пистолетом. Адские гончие, скрывавшиеся во тьме за спиной Гитлера, не восстают из-под земли, хватая за ноги. Самого Себастиана тоже не видно…
Дом, как и окружающий его огромный двор и сад, словно вымерли. Притихли, наблюдая за моей реакцией. Выжидают, как умелый охотник – звонкого капканного щелчка.
Улица частного сектора – Славянская, только теперь читаю ее название на табличке ближайшего сруба, – пуста, как и в прошлый раз. Будто вымерла, хотя ставни на многих домах открыты, а над трубами вьются дымки.
Здесь, за пределами Особняка, жужжат шмели и проносятся мимо лица голодные комары. Пахнет полынью и скошенной травой. Слышно карканье вороны, гудят на столбах электрические провода. Мир набирает сочность, расцвечивается новыми, почти забытыми красками.
Наклоняюсь, подхватываю первую коробку и заношу ее внутрь.
Дом-невидимка облегченно вздыхает, расплывается в знойном летнем мареве желеобразными очертаниями. Ставлю коробку на газон слева от подъездной дороги и возвращаюсь за следующей.
Замечаю Пашка, застывшего на подъеме с подвальной лестницы. Торчок, судя по всему, не может поверить глазам. Остолбенел в побегах вьюна и не в силах пошевелиться.
Надлом в моей душе становится шире, и его заполняет густая темно-розовая жижа.
#Смирение. #Покорность. #Судьба.
Желтый фургон доставки давно скрылся за поворотом. Но я все еще вспоминаю его лимонный борт. Вспоминаю, снова и снова жалея об упущенной возможности…
Заношу еще одну коробку. Затем еще одну.
Замороженные стейки. Помидоры и морковь. Горы шоколадных батончиков для Колюнечки. Табак для кальянов Петра. Тонны фисташек. Дыни и персики, картонки с молоком и кефиром. Специи и макароны. Оливковое масло, пирожные коржи, пластинки для лазаньи, сыры в вакуумной упаковке. Фарш, куриное филе, колбасы. Я таскаю продукты внутрь двора, словно заботливый отец семейства, вернувшийся из «Ашана» или «Ленты».
А затем замечаю грузовик.
Точнее – ассенизаторскую машину с цистерной, выворачивающую на нашу улицу со стороны Кропоткина. Самый обычный грузовой «ГАЗ», в кабине которого теснятся трое рабочих. Чуть сплюснутый цилиндр для дерьма выкрашен в оранжевый цвет. Яркий, словно пушистые плюшевые пуговицы на несуразном костюме зубастого клоуна. Словно полосы георгиевской ленточки, святые по сути и опошленные быдлом, на потеху моде вяжущим ее на антенны машин…
Машина, окутанная клубами светло-серой пыли, приближается, переваливаясь на ухабах того, что здесь принято считать дорогой.
Сначала мне кажется, что она направляется прямо ко мне. Замираю, не чувствуя веса холодной коробки в руках. Но цистерна тормозит в паре домов к востоку. Только теперь я вижу возле ее заднего колеса канализационный люк и край бетонного колодца, выпирающего из травы.
Хлопают дверцы – работники в апельсиновых спецовках и неизменных кирзовых сапогах выпрыгивают из кабины. Один сразу начинает поддевать крышку люка ломом. Второй разматывает грязный хобот насосного шланга. Водитель, отступив в сторонку, закуривает, повернувшись ко мне спиной.
#Надежда. #Опасность.
Ищите по хэштегам в твиттере того, кто уже не жилец…
Заношу коробку с едой через порог калитки.
Пашок на прежнем месте. Быстрый взгляд по окнам – за ними не колышется ни одна штора. Внутри двора тихо так, что хруст камней под ногами рвет барабанные перепонки. Нарочито медленно складываю свою ношу на уже составленные картонные кубы. Возвращаюсь вовне.
Мужики, приехавшие прочищать канализацию, отнюдь не прыщавые курьеры из числа тех, кому рот дерьмом забьешь, а он и плюнуть побоится. Матерые, крепкие, хоть и выпивающие – сразу видно. У таких под сиденьем и длинная отвертка найдется, и монтировка заветная…
Белизна в моем сознании сменяется багровым покрывалом, не позволив даже на секунду пропитаться надеждой. Словно во сне, я огибаю оставшиеся несколько коробок, в которых медленно подтаивают замороженные индюшачьи окорока. В которых нагревается дорогое вино, заказанное в лучших магазинах города. В котором набирают летний жар и с каждой секундой скукоживаются спелые заморские киви.
Иду к ассенизаторам медленно.
Будто надеюсь, что сейчас меня остановит гневный окрик Эдика.
Вот-вот, вот прямо сейчас…
– Мне нужна помощь, – говорю я, останавливаясь за спиной водителя.
– Чего? – тот вздрагивает, словно я подкрался к нему из таежных кустов, а не прошел пару десятков шагов по безлюдной улице. – Ох, бляха-муха, напугал… Чего ты, паря, там бормочешь?
– Помогите, – повторяю, еще не до конца осознав, что творю. Больше не слышу дыхания Особняка. Но знаю, что тот наблюдает даже сквозь высокие кирпичные стены. – Пожалуйста, заберите меня отсюда. Меня удерживают силой…
– Ух-ты, мать твою!
Водитель улыбается, будто услышал что-то забавное. Глубоко затягивается сигаретой, склоняя голову набок.
– Василич! Глянь сюда. Еще одного травокура принесло… Что ж вас в жару-то так накрывает, бедолаги?.. А может новое что вырастили? Отсыплешь на вечерок?
Коренастый морщинистый Василич перестает разматывать ребристый шланг. Недовольно выглядывает из-за цистерны. Хмурится, щурится, сплевывает в траву.
– Да ну тебя, Леха! Нашел, мать твою, забаву… Щелкни в тыкву разок, сразу полегчает…
И добавляет несколько матов, не обидных, просто для связки слов. Но водитель Леха смотрит на меня так, словно размышляет, а не щелкнуть ли действительно в тыкву. Отступаю на полшага, поднимая перед собой раскрытые ладони. Шепчу:
– Я не наркоман! То есть давно уже не наркоман… клянусь! Мне помощь нужна… понимаете?
Не знаю, что именно понимает из моего лепетания работник сферы ЖКХ, беззаботно дымящий самой вкусной в жизни сигаретой. Но вместо ответа или удара он вдруг свободной рукой вынимает из кармана штанов простенький дешевый смартфон. Поднимает на уровень лица и привычным скольжением пальца включает камеру.
– Вот ржака будет, когда парням на участке покажу… – Наводит объектив на меня. Зажимает сигарету зубами и прихватывает аппарат обеими ладонями, чтобы не прыгала картинка. – Ну-ка, болезный, что за херню ты ща нес? Повторишь?
– Вы не понимаете… – говорю, задыхаясь от бессилья.
Когда в прочитанных книгах или просмотренных фильмах главные герои вдруг начинают бессовестно тупить, я испытываю откровенную злость. Сейчас, впервые за четверть года добравшись до тех, кто может помочь, я не способен связать и двух слов…
Проклиная себя за непослушный язык, мотаю головой. Согнутым пальцем указываю на телефон. Мычу:
– Полицию вызывайте…
И тут же кривлюсь от беспомощности собственной просьбы.
Леха хохочет. Василич остервенело тащит рифленый хобот к люку, наблюдает хмуро и неодобрительно. Где-то за краем машины третий член бригады звонко громыхает крышкой канализационного люка. Наконец отваливает чугунный кругляш в крапиву и одуванчики.
Добавляю, больше не надеясь на чудо:
– Мы же все в опасности…
И тут она приходит.
Серая, как пепельная февральская поземка. Гибкая и длинная, как южноамериканская змея, невесть как попавшая в наши широты. Колкая, как стрекотание швейной машинки. Опасность по имени Себастиан.
Он не пробегает мимо меня. Он будто протекает, похожий на пыльный вихрь. Оказывается за спиной Лехи еще до того, как тот что-то заметил. Нависает над плечом. Словно тоже хочет полюбопытствовать, что такого забавного водила собрался записывать на телефон. И когда тот все же ощущает чье-то присутствие за спиной, кладет ладонь на его кадык.
Я знаю, что сейчас произойдет.
Но все равно не готов и едва не срываюсь на обидный детский плач.
Леха успевает открыть рот, чтобы выругаться. Но выругаться уже не успевает.
Пальцы Гитлера смыкаются на его трахее, одним рывком выхватывая огромный кусок плоти. Водитель ассенизаторской цистерны хрипит, охает. Его голова безжизненно запрокидывается. Телефон выскальзывает из рук, за ним падает последняя выкуренная сигарета…
Как при замедленной съемке, прямо в меня летят крупные и сочные кровавые кляксы. Но не долетают. Потому что Себастиан вдруг открывает рот, делая громкий, судорожный глоток. И все красное, бесформенное и жидкое, что мокрым облаком висело в воздухе и было готово вот-вот раскрасить мою одежду алыми потеками, вдруг меняет направление. Управляемой струей всасывается в глотку голубоглазого демона, как в промышленный пылесос. Исчезает.
Кажется, я издаю стон и едва не падаю на спину.
Затравленно осматриваю себя, не запятнанного ни единой каплей крови. Смотрю на траву и пыль под ногами, тоже не залитые ничем. А Себастиан бережно, как уснувшего ребенка, опускает Леху вниз. Прислоняет к переднему колесу «ГАЗа» и пыльным смерчем перетекает за край цистерны.
Василич, заподозрив неладное, торопится навстречу. Навстречу шуму, Себастиану, собственной смерти. Одной рукой охранник Особняка хватает рабочего за грудки, второй – за левое бедро. И прямо на бегу, не сбавляя скорости, рвет пополам, словно лист бумаги.
Я хочу кричать, но лишь открываю рот и сдавленно сиплю, не в силах издать ни звука.
Из Василича вываливается гора влажных внутренностей, похожих на смятое тряпье, вынутое из стиральной машины. Но и в этот раз ни одна красная капля не достигает земли – Гитлер издает еще один ухающий вздох, и алое облако исчезает в его пасти, как будто его и не существовало…
Что происходит с третьим, безымянным золотарем, я не вижу – скоротечная схватка протекает за краем машины. Впрочем, и не хочу видеть. Но уже через мгновение слышу удар, затем на отброшенную крышку люка с оглушительным «дзамм!» падает лом. Потом что-то рвется, будто трещат нитки плохонького шва; и Себастиан в третий раз издает хлюпающий звук ртом.
В эту секунду я полностью уверен, что умру. Возможно, прямо тут, рядом с говенной цистерной, как трое ни в чем не повинных работников какой-то управляющей компании. Потому что такого Особняк мне не простит.
Хочу помолиться перед концом, но не помню слов. Хочу вспомнить что-то хорошее, что было со мной в жизни: красивых и ласковых женщин, самые мягкие приходы, веселые пирушки, путешествия автостопом – и не могу. Случившееся настолько подавляет, что я вообще забываю, как мыслить и вспоминать…
Подкашиваются ноги, я едва не падаю на землю рядом с Лехой. Не падаю, потому что под локоть меня вдруг поддерживает сильная, словно выкованная из железа рука. Скашиваю глаза и замечаю Алису, стоящую справа.
Каштановую гриву треплет ветер. Глаза горят, она внимательно смотрит на меня сверху вниз. Говорит:
– Больше никогда так не делай.
Таким тоном, будто я – нашкодивший малыш, случайно опрокинувший вазу с цветами. Спокойно говорит, что совсем не сочетается с полыхающим во взгляде гневом. Я не верю ей. Так фашисты в старых фильмах сначала отпускали пленных партизан, а потом стреляли в спину…
Алиса заставляет меня встать ровно, локоть не отпускает.
– Мы умеем решать проблемы, но это потребует усилий, – делится она. Как будто я лишь поцарапал соседскую машину. Или случайно разбил окно. Или отдал деньги на школьный обед уличному попрошайке.
– Я не умру? – спрашиваю, не открывая рта.
Говорить вслух сил нет. Слова вспыхивают в голове, жалкие, рахитные, как заболевшие птенцы, не способные покинуть гнезда. Но Алиса каким-то образом слышит. Смотрит на меня, огненная и опасная настолько, что едва не протыкает ногтями кожу на руке.
Отвечает:
– Нет, – и добавляет: – Ты уже почти наш, Денисонька. А ошибается каждый. Так зачем причинять тебе лишнюю боль?
От этого мне еще страшнее.
Теперь я молю небеса, чтобы меня убили. Прямо тут, на месте. Так же жестоко и сухо, как троих мужиков в апельсиновых спецовках. Но смерть не спешит. Во всяком случае, за мной…
Из-за цистерны появляется Себастиан.
На его лице несколько красных капель, ими же испачканы ворот черной водолазки и перчатки без пальцев. На одном плече он несет перекрученный розовый тюк, еще минуту назад бывший человеком. Свободной рукой волочит за волосы верхнюю половину Василича, обескровленную и сухую, будто мумия.
Алиса, наконец, отпустив меня, с недовольным стоном вскидывает на плечо труп Лехи. Его голова запрокидывается, едва не оторвавшись с разодранной шеи.
Приказывает:
– Прихвати, что осталось.
И идет к кованым воротам вместе с Гитлером, даже не обернувшись. Жадно глотаю воздух и ищу в себе хоть малейшие признаки сострадания. Затем брезгливо цепляюсь пальцами за кирзовый сапог Василича. Тяну за собой, поражаясь легкости высосанной половины…
Остаток этого и весь следующий день я провожу в подвале. Кутаюсь в одеяло и забиваюсь в угол кровати. Не хожу даже в туалет. Не сплю, но и не бодрствую.
Особняк, наблюдая за мной, сдержанно посмеивается. Чума ходит на цыпочках, будто боится разбудить или разозлить присутствием. Пашок замкнут и ждет наказания за то, что отдал ключ. Марина время от времени пробует поить меня бульоном, но я не замечаю никого и ничего…
Расспросами не донимают, а Эдик даже не думает ругаться.
Сквозь пелену оцепенелого забытья слышу, как слуги обсуждают ассенизационную машину, припаркованную во дворе среди яблоневых деревьев. Без единого следа колес на аккуратно стриженных Чумаковым газонах. Без малейшего повреждения грядок и сада, над которыми искренне трясется бабка Виталина.
Когда через день я поднимаюсь наверх, чтобы глотнуть чистого воздуха, машины нет…
Лишь внушительный прямоугольник перекопанного чернозема намекает, где мог стоять «ГАЗ» с оранжевой цистерной. Грузовик, однажды ночью утонувший в земле Особняка.
Смирение приходит неожиданно.
Внезапно: разбитым хрустальным бокалом, штормовой волной, уколом в сердце, проколотой покрышкой. Так супруги в один миг понимают, что любви между ними больше нет. Так я осознаю, что смирился и нахожусь на полпути к варианту номер один.
Снова тянутся дни, наполненные привычными хлопотами по дому и бессмысленными занятиями с Колюнечкой. Наполненные рутиной, мелочными повседневными заботами, которые ничем не отличаются от застенных, ежедневно нагружающих людей по ту сторону нашей реальности…
Пашок косится на меня виновато и с сочувствием. Будто человек, который «предупреждал, а его не слушали». Валентин Дмитриевич с разговорами не пристает, хотя я и вижу, что он копит силы и слова. В поведении Марины добавляется больше легкости, походка становится плавной, напряжение уходит из плеч и шеи. Она неожиданно осознала, что теперь объект вожделения этого дома не покинет. А значит, покорение строптивой вершины – лишь вопрос времени.
Виталина Степановна мой душевный надлом воспринимает спокойно и заботливо. Сижу на кровати, задумавшись и уставившись в блекло-синюю стену. Она вдруг подходит, на секунду присаживается рядом и заботливо гладит мою руку своей шершавой, морщинистой ладонью.
Шепчет:
– Никакой разницы, Дениска… Никакой.
Не скажу, что в этот миг испытываю благодарность или умиротворение. Но даже от такого странного проявления сочувствия становится чуточку теплей…
Как это ни удивительно, но после убийства бригады мне начинают доверять чуть больше.
Без присмотра Эдика пускают прибраться в художественной мастерской и винном погребе. Меньше чем через неделю после происшествия с ассенизаторами я даже отряжен получить очередную посылку. Какую-то новую игровую приставку, если не ошибаюсь, заказанную для малыша.
Я потерян, до икоты напуган, лихорадочно и безуспешно ищу подвох. Но распоряжение мажордома исполняю. За получение коробки расписываюсь через порог калитки, даже не помышляя выйти наружу. Не этого ли добивался Особняк?..
Заперев замок, послушно возвращаю ключ Пашку. Тот удовлетворенно кивает в ответ.
Даже если мы выберемся из этих стен, где нас кормят, поят и трахают с регулярностью элитного курорта, красным зубастым стенам никогда не выбраться из нас. Я больше не желаю физической свободы. Потому что она – лишь иллюзия, подвергающая опасности совершенно посторонних людей, вроде Лехи или Василича…
– Ты стал моим самым настоящим другом, – доверительно сообщает Колюнечка на одном из занятий.
– Теперь мы всегда будем вместе-привместе, – говорит он, отламывая мне половину химозной американской конфеты.
– Я тебя люблю и никогда-никогда не брошу, – добавляет мальчик, старательно рисуя в тетради непостижимые цветные каракули.
Переступив грань, я начинаю испытывать к маленькому обжоре нечто вроде любви.
Нет, не любви… Скорее – жалости, помешанной на теплоте и привязанности. Что-то сродни обреченному взаимопониманию, в основе которого неизбежность совместного существования.
Вскоре он еще несколько раз пытается меня укусить. Другие – нет. У них, судя по всему, иные жертвы. Иные «друзья на всю жизнь». Этот – пытается. Ведь он никогда меня не бросит…
Сначала в виде игры, свинцовой чушкой просясь на ручки и выискивая подходящий момент. Затем все более требовательно и плаксиво, настаивая и принуждая. После уроков заставляет сидеть на полу среди разбросанных игрушек. Сидеть смирно, пока сам крутится за спиной, клацая зубами и пытаясь то ли поцеловать в шею, то ли прокусить…
Людей не пугает описание вампирского укуса.
Одно дело рассказать: «И тут меня по ладони резанули скальпелем». Собеседник сразу вообразит взмах стали, жгучую боль; расползающуюся в зловещей улыбке рану и поток горячей крови. Он будет сопереживать, ведь подобное может произойти с каждым.
Когда же некто читает про укус вампира или видит его по телеку, эмоции совсем другие. Его не берет. «Ну да, – думает человек. – Это, наверное, больно, ведь даже кровь пошла». Неприятно уж точно.
Но зритель не готов даже на секунду представить, каково это – почувствовать на своей шее нежеланные губы, горячие и липкие, будто плоть древнего моллюска. Каково это – когда под поцелуем податливо приподнимается кожа, словно под нагретой лечебной «банкой»; как по позвоночнику разбегается гадкая чесотка, темно-фиолетовое предвкушение беды. Когда клык – длинный и чуть изогнутый, с неровной и колкой бороздкой-канальчиком на внутренней стороне – протыкает плоть. Не вспарывает отточенным ударом, а протыкает со статическим усилием. И есть в этом действе что-то безысходное. Наводящее на мысли об изнасилованных девственницах и навеки потерянной чистоте…
А потом жертва слышит всхлип, сочный и жадный, от которого начинает тошнить. Но она держится, чтобы не разозлить кусающего. Сжимает кулаки. Чувствует тянущую боль, когда густая энергия красного цвета несколькими рывками покидает тело, а содержащиеся в слюне гада токсины парализуют и медленно анестезируют место укуса…
На мое счастье, у Колюнечки пока не получается.
Он все так же капризно накидывается со спины. Я как будто бы не замечаю. И даже заблаговременно расстегиваю воротник рубахи, чтобы не испачкать одежду в шоколаде. Мальчишка обвивает мою шею ручонками, почти минуту мусолит кожу. Царапает, сученыш, да так, что ранки потом нагнивают и сочатся вонючей сукровицей.
Как бы то ни было, затем отпрыск Особняка уходит ни с чем. Так и не научившись, разуверившись в своих силах, обиженный на весь белый свет и горько рыдающий. Провожаю его взглядом, в котором смешаны сострадание и ненависть. Потому что даже после пережитого здесь мой примитивный человеческий мозг отказывается видеть в Колюнечке тварь. Убеждает, что это лишь глупый испорченный ребенок.
В такие моменты я скрещиваю пальцы и призываю на голову мальчишки самые страшные проклятья, какие только могу выдумать. Потому что знаю – рано или поздно настанет ночь, когда ублюдок вырастет и сумеет…
Мать выродка, Петр и Жанна, глядя на наши забавы, умиляются и продолжают баловать меня своим вниманием.
– Денисонька, у тебя все в порядке? – заботливо спрашивает Алиса, следом интересуясь, не нужно ли поменять нам матрасы или перекрасить стены.
– Я вижу, ты близок к просветлению, мой мальчик, – с довольной улыбкой на щекастом лице признает Петя, встречая меня в одном из коридоров. Он улыбчив и непрозрачен, как свежий, еще не закостеневший янтарь.
– Если чего-то захочется, проси, – деловито кивает Константин, все реже посещающий наши занятия с его сыном.
– Ты ведь останешься на Ирлик-Кара-Байрам? – требовательно спрашивает Колюнечка, хватая мою ладонь своей пухлой и неестественно ледяной. – Праздник Перевернутого Солнышка? Это в августе, совсем скоро, я уже так его жду-жду…
От одного названия мне становится дурно. Будто поднес к губам бутылку с минеральной водой, а глотнуть довелось керосина. Веет чем-то древним, алтайским, неожиданно напряженным. Мысли ломаются пополам хрупким ноябрьским льдом. И не от того, что я услышал из уст ребенка непривычное слово. А от внезапного осознания, что до августа я могу покинуть дом…
Опека, окружающая меня, становится липкой патокой, в которой невероятно легко увязнуть. Поступки существ, населяющих усадьбу, отныне выходят за границы привычного понимания и устоявшихся оценок. Наполняют душу мазохистической покорностью, за которой виднеется нирвана.
– Успокойся, – миролюбиво предлагает Жанна. – Ты осознал, что окружающему миру плевать на твои любовные переживания или жизненные проблемы? – спрашивает она, ласково ведя ладонью по моей щеке. И констатирует: – Так смирись. Здесь ты нужен.
Я – будто перепрограммированный робот. Теперь точно знаю, что моя госпожа говорит правду.
За стенами этого дома до меня уже давно никому нет дела. За тридцать лет жизни некоего Дениса окружающие люди так и не научились видеть его уникальных душевных терзаний, пока он сам не давал о них знать. Пока не напрашивался…
Теперь я белый. Как сияние в конце тоннеля, ведущего на другой берег мирозданья. Как марлевые шторы старинного лепрозория.
Смиренно отстраняюсь.
Этому приему я обучился не в Особняке – гораздо раньше. За годы бродячей жизни привык вести себя правильно. Говорить с людьми, мутить делишки, гнить на временной работе. Научился замыкаться в себе. Как садиться внутрь человекообразного робота с собственным именем в паспорте. Пока он функционирует за меня, я нахожусь где-то на нижних палубах, подальше от всего мира. Сжигаю себя терзаниями и сожалениями, не имеющими никакой ценности для остальных.
Когда-то я был готов впустить в этот бункер одного-единственного человека. Да только одному туда было нельзя. Второму было плевать. А третьего так и не нашлось на моем пути.
Нет, такому поведению я научился отнюдь не в Особняке…
Но тут довел это искусство до совершенства.
Это сродни гипнозу, погружению в транс. Отчетливо понимаю, что происходит со мной, остальными подвальщиками или хозяевами. При этом превращаюсь в капитана корабля, ведомого сломавшимся автопилотом – сколько бы я ни жал на кнопки, ничего не происходит, управление перехватили. Больше не испытываю апатии. Почти естественно бодр и исполнителен, член встает по установленному Жанной расписанию.
Осознаю, что мной пользуются.
Но при определенных условиях учусь получать от этого удовольствие…
Даже погрузившись на самое дно себя, не оставляю наблюдений. Может, по привычке, может – с надеждой на окончательное прозрение. Старательно фиксирую любой уход Эдика в подвал, отмечаю каждую знаменательную ночь и ищу закономерности. Все больше сопоставляю. Пусть и сонно, но все чаще вслушиваюсь в скрежетание каменных жерновов. В их ритм и темп. Веду персональный мысленный календарь, как первокурсница, чутко следящая за графиком месячных.
Кажется, я не ошибся в догадках.
Впрочем, пока это не так важно…
Однажды вечером Чума все же решается снова заговорить со мной.
Не просто обменяться ничего не значащими фразами или попросить денег. Как и прежде, усаживается на пустую соседнюю кровать, вертя в пальцах старенький портсигар.
Он догадывается. Скорее всего. Или Особняк намекает ему. Но Чумаков уже почти разгадал загадку и потому старается быть ближе.
– Я ведь не побоялся тогда стрелять в овраг, – говорит он тихо, чтобы не расслышали другие. – Храбрости было на семерых, Диська. А все равно не выстрелил…
Зажимаю пальцем страницы в новеньком томике Джорджа Мартина, доставленном на прошлой неделе. Подтягиваю подушку, сажусь на кровати чуть выше, чтобы наши лица были почти на одном уровне. Что именно подсказывает Чуме сердце? Что именно нашептывает ему дом?
– Знаешь, я тогда это за приход принял, – говорит он, изучая свое исцарапанное отражение в серебристой крышке портсигара. – Мысли словно белилами обрызгало, только недавно вспомнил. Мозговой известкой, так я тогда это назвал… Глупо звучит, да? Но кровь с мозгов как будто смыло, клянусь тебе! Потому стрелять и не стал. Сохранил жизнь, понимаешь?
Говорю:
– Зачем ты мне это снова рассказываешь?
Он вздрагивает. Поднимает голову и какое-то время не может сфокусировать взгляд. Смотрит на книгу в моих руках, синяки на шее, кровоподтек на локте, где хваталась Алиса. Пожимает плечами.
– Ты должен знать ответ, Диська, – беспомощно отвечает Валентин Дмитриевич, и его тощая грудь поднимается в слабом вздохе. – Ты ж верующий, Диська, да? Книги умные читаешь, верно? Что скажешь, простят меня на том свете?
Откладываю книгу на тумбу. Медленно, как готовящийся к операции хирург, стараясь не совершать ни одного лишнего движения. На какое-то короткое мгновение кажется, что я действительно могу освободить его душу, если заставлю уверовать в прощение. В отстирывание грехов.
Он добавляет, словно оправдываясь:
– Ты чистый, Диська.
– Ты многого обо мне не знаешь…
– Да кому ты лечишь? – Валек морщится. Отмахивается портсигаром, бросив на стену яркий блик от прикроватного светильника. – Думаешь, я грязи человечьей не видел? Чистый ты, дурень. Ломаный, изуродованный внутри, но чистый…
– Поэтому ты и выбрал меня в качестве исповедника?
– Наверное… – Старик – а теперь он выглядит именно стариком – вздыхает, его плечи поникают. – Тянет меня к тебе, Диська. Словно судьбой нам было предначертано. Ничего поделать не могу с этим…
Отвечаю спокойно и размеренно, стараясь не выдать бушующих внутри эмоций:
– Глупо. Судьбы не существует. Не существует ни причин, ни следствий.
Он не слышит. Вскидывается, что-то вспомнив, и снова открывает рот:
– А еще я мальчишку того не тронул! Помнишь, рассказывал?
Я замираю. Каменею. Сливаюсь цветом с простыней и пододеяльником, на которых полулежу. В моих венах лед. В моей голове пустота, в которую можно кричать, будто в бездну.
Чума проводит пятерней по редким волосам.
– Немного дел хороших в жизни совершил. Но может хоть эти зачтутся? – Его глаз дергается в нервном тике, лицо бледнеет, на нем выступают порезы от бритья и сыпь на шее. – Не знаю, что было это – сострадание или белила все те же… Побродил по квартире его, перед дверью туалетной постоял. А потом развернулся и ушел. Не смог. Жалел сначала, за слабость себя упрекал. А теперь горжусь…
Влажными воловьими глазами он смотрит в мои – сухие, словно чилийская пустыня Атакама. Стискиваю зубы, чтобы не застонать. Левой рукой впиваюсь в собственное бедро, чтобы болью щипка изгнать неудержимое желание броситься на Чумакова и превратить его лицо в пурпурную кашу.
– Как думаешь, Диська? – похожий на заводную механическую шкатулку, повторяет Валентин Дмитриевич. – Зачтется мне? Смогу хоть часть грехов искупить? Ну, если вдруг доведется… как Санжару…
Я подаюсь вперед. Преодолеваю отвращение. Собираю в кулак всю силу воли, всю ярость и злость, все осознание его только что произнесенных слов. И говорю:
– Ты верующий, значит?
От неожиданности Чумаков снова вздрагивает. И даже тянется под майку, чтобы показать алюминиевый крестик на льняном шнурке. Замирает, вдруг увидев что-то в моих глазах, а я продолжаю:
– Тогда тебе будет интересно кое-что узнать.
И добавляю весомо, размеренно, не позволяя ни отвести взгляда, ни перебить себя:
– Самая коварная ловушка христианской религии состоит в том, что она декларирует возможность прощения. Как высшего, небесного, так и вполне обыденного, земного. Эта приманка, словно мираж в пустыне, манит к себе слабых. Всех тех, кто готов поверить, – вот сейчас я совершу грех… совершу самое страшное преступление в своей и чьей-то жизни. А потом покаюсь, и меня простят.
Глаза Чумакова стекленеют. Он замирает, как бандерлог под гипнотическим взором сказочного удава.
– Это – чудовищное заблуждение, – шиплю я, уже не заботясь, что разговор могут услышать Пашок или Виталина Степановна. – Никакого прощения нет. До самого конца – каким бы он ни оказался, физическим или духовным, – ты будешь нести груз совершенных поступков. Нести, пока он не раздавит тебя в лепешку. Эхо свершений и достижений будет отдаваться в твоем сердце и в этой жизни, и в последующих, если таковые возможны. И может быть, когда-нибудь ты поймешь, как жестоко был обманут, а прощения – не существует.
Кажется, Валентин Дмитриевич седеет. Как на ускоренной перемотке в будущее.
Словно духовные белила, о которых он только что распинался, вдруг стали просачиваться сквозь кожу его головы, от корней подкрашивая редкие пшеничные волосенки. Челюсть опускается, но изо рта не вырывается ни звука.
Я безжалостно улыбаюсь.
Не могу избавиться от ощущения гадливости собственного поступка. Но и с улыбкой ничего поделать не могу. Лыблюсь все шире и шире, не спуская с него взгляда. Торжествую и презираю одновременно. И потому, упивающийся запретным, совершенно не замечаю, что надлом в моей душе становится все шире…
– Вот значит как? – хрипит Чумаков.
Поверил! Пусть на миг, пусть на долю мига, но он поверил мне. Поверил в то, что не найдет прощения – ни в этом мире, ни в каком-либо другом. От ужаса, охватившего Чуму в этот мимолетный момент, я испытываю множественный тантрический оргазм.
Лицо Валентина начинает менять гримасы.
Вот на нем застывает одно выражение, но уже через миллисекунду оно сменяется совершенно иным, чтобы уступить третьему. И сколько бы их ни было, я даже мельком не вижу раскаявшегося и потерянного старика, стоящего на грани полноценного искупления.
Сквозь тонкую желтоватую кожу я ухватываю только истинные обличья этого человека. Самые разные, но все они – плоть от плоти Валентина Чумакова: хладнокровный убийца, насильник, бандит, наркоман, матерый уголовник и жулик, человек без принципов, волк в человеческой маске, пиявка, безмерно затянувший существование ленточный червь…
Он ужасен. Многократно ужаснее существ, притаившихся в недрах дома над нашими головами. Многократно ужаснее диктаторов, преследующих некие общие, признаваемые объективными цели. Многократно ужаснее испытаний нового оружия, способного сохранять жизни целых народов…
Паладин энтропии скалится, вдруг потеряв последнее, что связывает его с человеческим родом. Рывком встает и уходит прочь.
Тяжело откидываюсь на подушку.
Сил нет, будто пробежал марш-бросок. Эмоций нет. Чувств нет.
Я отмщен, но раздавлен. И в очередной раз осознал, что больше не хочу…
Люди, живущие рядом со мной, многим страшнее тварей, пришедших в наш город из алтайского прошлого. Именно так я думаю о тех, с кем коротал время под сводами душного подвала. Именно так я думаю о тех, с кем жизнь сводила меня снаружи. Мой ментальный бомбардировщик сбит, горит и падает. Мысленный твиттер заблокирован, как и страницы в социальных сетях. Я больше не различаю цветов.
Поднимаюсь с кровати, не совсем понимая, что делаю.
Следующее, что помню – Пашка, с воплями выдирающего из моей руки окровавленный кухонный нож. Марину, пытающуюся перетянуть разодранное запястье полотенцами и собственным фартуком. Виталину Степановну, деловито вставляющую в швейную иглу тонкую капроновую нить.
– Так ведь все пуговицы на месте, – невпопад говорю я старухе, и та дружелюбно улыбается в ответ.
Теми же пальцами, что зажимали нос малышке, вливая в ее горло концентрат для чистки труб, она прихватывает края раны и начинает деловито шить. Пашок наваливается на плечи, прижимая меня к кафелю пола, а Марина вставляет в зубы хвост кожаного ремня.
План номер один сорвался, даже не будучи толком подготовлен.
Но красные муравьи, потоком выползающие из раны на моем запястье, нашептывают, что свой запасной сценарий я обязан подготовить куда более предметно…
Я не верю во фразу «самое дно».
Потому что хорошо знаю – если тебе кажется, что ты упал как нельзя ниже, жизнь тут же преподнесет очередной сюрприз, показав всю бездонность колодца. Его многоэтажность, один потайной уровень за другим.
Раз уж начал падение, остановить его практически невозможно.
Тем ужаснее то, что я собираюсь сделать дальше.
Ощупав тесноту вертикального тоннеля, в который рухнул, беру лопату и начинаю копать. Сквозь твердое земляное дно, сквозь булыжники остатков человечности и керамические осколки сомнений, которыми я больше не дорожу. Еще глубже, еще ниже, туда, где никогда не гостит солнечный свет. Откуда совсем не видно звезд.
Закапываю себя заживо, но понимаю – для задуманного мной других способов нет…
Пока не зажила рана на руке, я снова отстранен от занятий с Колюнечкой.
Тот переживает, капризничает и все время пытается найти возможность встретиться со мной во дворе или коридорах дома. Послушно болтаю с ним о ничего не значащей ерунде. Даже угощаюсь его конфетами. А затем приходит Гитлер. Глядит на меня, как на пустое место, и уводит мальчишку прочь…
В такие моменты мне начинает казаться, что он не доверяет запаху крови, способному пробиться через бинты повязки. Словно опасается – если Себастиан вообще способен чего-то опасаться – что щенок одуреет и бросится на меня, впиваясь губами в шов. В такие моменты мне начинает казаться, что вживленное под кожу лопатки зелье покинуло меня при неудачной попытке суицида. Что, испачкавшись, я отчистился.
Вообще-то мне было не впервой…
Однажды я пытался сам. На рубеже размена третьего десятка, когда от романтической утраты чуть не треснуло глупое сердце. Когда болело так нестерпимо, что казалось – больше в жизни меня не ждет ничего путного. Так, по сути, оно и было… И все равно сейчас я нахожу тот поступок весьма идиотским. Уединившись в одной из комнат частного дома, где мы делаем первые робкие шаги в познании дурмана всех мастей, я закидываюсь целым коктейлем колес. Запиваю водкой. Осознанно и обреченно, как и любой слабак сопоставимого возраста.
Откачивают.
Затем следуют попытки чуть менее осознанные, но еще более неизбежные – от передозов, едва не оборвавших тонкую нить моего беспорядочного и асоциального существования. Один раз спасает «Скорая». Второй – добрые товарищи, не позволившие захлебнуться блевотой.
Еще несколько раз меня едва не сбивает машина. На трассе, конечно же, на много лет ставшей моим домом. Это, по сути, тоже неизбежность – знаю очень немного стопщиков, ни разу не побывавших под шинами и бамперами. И снова я выживаю, хотя считать лихачей с вырубленными фарами за шанс добровольно покинуть жизнь все же не привык.
У меня было немало друзей, знакомых, одноразовых приятелей и приятельниц, ушедших по личной воле. Или по воле героина, если угодно. По ним горюют, их оплакивают, их винят и прощают. Затем, вдохновленный наглядностью примера, кто-то даже завязывает, покидая компанию. Но большинство все равно возвращается к прежним занятиям, убивая свой мозг и тело любыми доступными способами. Единственное, что я запомнил с многочисленных поминок людей, часть которых знал только по прозвищу, – если откачали, обязан жить…
Именно этому принципу я следую, продолжая углублять свой ментальный колодец.
Не до конца понимаю, что именно делаю и поможет ли это перехитрить дом и его обитателей. Но живу, с каждым новым ударом лопаты зарывая себя все глубже и глубже. Это сопоставимо со смирением. Это, по сути, и есть смирение еще более обширного, вселенского масштаба. Смирение с правилами игры, которую я намерен довести до конца…
Скрипит качельная цепь.
Мы еще в начале лета установили в одном из углов двора не новый, но весьма крепкий детский городок – горку, пару лестниц, соединяющие их канаты для лазанья и подвесную качель. Чтобы подлатать набор, Чуме даже пришлось поработать сварочным аппаратом. Смазываем петли каждую неделю, но стоит Колюнечке провести на комплексе хотя бы десять минут, вся конструкция начинает безбожно стонать.
Как и сейчас, пока я подновляю белоснежные бордюры на отмостке вокруг дома.
– Мама говорит, вы больше не справляетесь, – доверительно сообщает мне мальчишка, мерно раскачивая свое пухлое тельце. Сосредоточенно работаю брызжущей кистью и почти не слушаю. Но тут он добавляет: – Скоро придет новый. Я слышал, как его позвали. Как думаешь, он сможет стать нашим с тобой другом?
Я слушаю. Впитываю. Понимаю.
– Ненавижу, когда ты такой злой, – говорит Колюня и резко падает со скамейки.
Начинает плакать, еще не долетев до земли. Кривится, потирает ушибленное колено. Привлекает внимание, словно самый обычный ребенок. Голосит так, что на втором этаже начинают двигаться шторы.
– Вставай, – говорю ему подходя, но не спеша протягивать руку.
– Помоги.
– Ты упал специально. Значит, и встанешь сам, – не знаю, зачем произношу слова, не имеющие ничего общего с нечеловеческой сущностью маленького засранца. Но говорю больше себе, чем ему. – Научишься вставать сам – станешь сильнее.
– Но ведь ты же мой друг, – отвечает он снизу вверх.
Тянет ручонки, по лицу катятся слезы. Чувствую на спине оценивающий взгляд – это или Константин, или Алиса. Ждут, как поступлю. Заглядывают в душу. Нагибаюсь, поднимая плаксу с сухой теплой травы. Он утирает нос и добавляет:
– Надеюсь, новенький будет добрее… Иногда, Денис, ты бываешь несносен.
Молчу, слушая и сопоставляя. И тем же днем иду к Эдику, чтобы предложить:
– Нам нужен еще один работник, – вижу его недоверие и удивление. Поэтому говорю с самым безразличным видом, на который способен. – Я могу его встретить. Помню, как это делается.
Мажордом не верит. Спрашивает:
– Откуда ты знаешь?
Отвечаю честно, не прикопаешься:
– Мне сказал дом.
Эдик умолкает, изучая меня с сомнением и тревогой. Но следующим утром освобождает от чистки кухни и сбора малины, отправляя на ворота. Он не может предсказать точного времени и предпочитает подстраховаться.
Пашок провожает меня не без ревности.
А я ухмыляюсь ему довольно и мерзко. Еще на пару метров углубив колодец, в котором отныне покоится душа.
Переодеваюсь. Несмотря на августовский зной, надеваю рубашку с длинным рукавом. Прикрывает широкую марлевую повязку на левом запястье, след неудачного решения номер один. Так я не спугну того, кто должен сначала войти в подвал, а уже потом пугаться.
Эдик инструктирует меня, высматривая. Но не способен прочитать в моих потухших глазах ничего, кроме решимости выполнить просьбу Особняка.
Парень появляется через тридцать минут, в одиночестве проведенных мной у ворот. О том, что улица снова безлюдна, упоминать смысла нет…
Высокий, широкоплечий. На вид лет тридцать, хотя нашему брату обычно дают чуть больше реального, сказывается внешний вид. Одет в спортивную ветровку, когда-то белую, а ныне мышиного цвета, и камуфляжные армейские штаны. На ногах сандалии, за спиной штопаный-перештопаный розовый рюкзак с эмблемой Hello Kitty.
Подходит ближе.
Я – воплощенная расслабленность.
Я – олицетворенный грех.
Я – палач собственной души, но другого выхода нет.
Подходит еще ближе и определенно замечает меня. Нельзя не заметить, дом способен выделывать подобные визуальные фокусы и за пределами своей ограды.
Парень подозрительно щурится и с середины дороги убирается на противоположную сторону, теперь шлепая по траве. Он круглолиц, щекаст и немного водянист, но его излишний вес несравним с жировыми залежами Петра. Тут дело скорее в гормонах и неправильном питании, я такие отклонения у бродяг видеть научился. Стрижется коротко, почти налысо. Носит очки, дужка которых перемотана изолентой и тонкой проволочкой. Перемотана аккуратно, так чинят только любимую и дорогую сердцу вещь.
– Эй, бродяга, работа нужна? – напрямую спрашиваю я, дословно повторяя слова, далекой весной произнесенные Пашком.
И очкастый, словно читая тот же сценарий, замирает, возвращая мне мое же:
– Что делать?
Говорю:
– Разное. Мусор отсортировать. По саду прибраться. Канаву вырыть еще, крышу на сарае подлатать. Дерево выкорчевать.
– Это я могу, – выбранная жертва делает странное – поднимает очки на лоб, несколько раз моргает и снова опускает их на переносицу. – Сколько заплатят?
– Хорошо заплатят, тут хозяева щедрые, – говорю чистую правду. Чувствую, как сжимается отмирающее, слоеное сердце. – Бухаешь?
– Привычки пагубной сей не имею уже более года, – важно отвечает он, снова проводя необычную манипуляцию с очками. И делает последнюю глупость в своей жизни – переходит дорогу и протягивает мне руку. – Андрей. Но можно Покер.
Пожимаю широкую рыхлую ладонь, а затем снова скрещиваю руки на груди.
– Азартный?
– Сдерживаюсь. В основном преферансом увлекался. Еще тысячу уважал. Или блек-джек, в нашей стране более известный как «очко». Но так вышло, что Покер… – Очки снова кочуют на лоб, на переносицу, на лоб и обратно, и я догадываюсь, что так Андрей прячет волнение. – Так сколько заплатят?
– Рублей триста за день работы точно дадут, – продолжаю честно выкладывать я. По какой-то необъяснимой причине у меня нет ни малейшего желания предупредить его, дать знак об опасности или просто послать ко всем чертям. – Еще покормят. А отличишься, так накинут сотню-другую. На чем сидишь?
В глазах Покера мелькает резкое озлобленное недоверие. Словно я вторгся на запретную и заведомо чужую территорию. Спокойно встречаю взгляд, и только теперь бродяга различает во мне собрата по несчастью. Плечи его обмякают.
– Покуриваю, бывает. Но нечасто, – негромко сообщает он. И тут же с ноткой надежды. – А есть что?
– Нету, – мотаю головой, не спеша отлепляться от теплой воротной створки. – Более того, тут с этим строго. Так что, найдется в твоем графике свободное время?
Улыбается, тем самым подписывая себе приговор. Кивает, и я наконец отстраняюсь от нагретых солнцем чеканных маскаронов. Толкаю калитку, пропуская его внутрь, шагаю следом. Как и Пашок когда-то, снимаю с крючка висячий замок и старательно запираю дверь.
Андрей стоит лицом к дому, закинув голову и ладонью прикрывая глаза от солнца. Веселая кошечка на его рюкзаке наигрывает на гитаре, рисованные ноты прячутся под брезентовыми заплатками.
– Ух ты! – Покер говорит с уважением, но зависти в голосе больше. – Вот это хоромы… Цыгане, что ли?
– Нет, не цыгане, – отвечаю я и веду новичка через двор.
Он почти не смотрит по сторонам – как и мое когда-то, его внимание всецело приковано к усадьбе, к необычной эклектичной архитектуре Особняка, башенкам, балконам, эркерам и островерхим крышам. А еще Андрей сейчас наверняка раздумывает, почему такое изящное и высокое здание было совсем незаметно с улицы, по которой он пришел…
– Вещи тут кинь, – распоряжаюсь я, указывая на отмостку под стеной, завитой плющом.
Отдаю себе отчет, что сейчас за моими действиями наблюдают сразу несколько пар глаз. Голодных, жадных глаз, оценивающих каждый жест, позу и слово. Новенький же с сомнением изучает мусорную кучу, хаотичную шипастую пирамиду, памятник симмонсовскому Шрайку.
Продолжаю отдавать указания:
– Верхонки вон в том ящике, инструменты там же. Если что понадобится, покричи Дениса. Туалет за сараем, в сам сарай без меня не ходи. Вернусь через полчаса. А ты пока кучу разгребать продолжай, это мы вчера закончить не успели. Разберешься? Стекло отдельно, доски отдельно. Гвозди, где можно, дергай и в банку складывай.
Вынимаю из пачки сигарету, протягиваю Андрею. Тот берет, но прячет за ухом.
– Работай, – напоследок говорю я. – На ужин насортируешь, а дальше поглядим, чего хозяева скажут.
– С превеликим удовольствием, – соглашается тот, сбрасывает рюкзак и расстегивает ветровку. Когда-то белую, как крыло голубки, трепетной и застенчивой. Как лист врачебной справки со страшным диагнозом, после которого – лишь подкрадывающееся ничто. – Где, говоришь, можно верхонки взять?
Ухожу, понимая, что прекрасно справился с поставленной задачей.
Где-то за шторами сейчас выставляет оценки самое придирчивое жюри на свете. Они не поднимают табличек, но переглядываются между собой, согласно кивая. И улыбаются, слушая довольное постанывание Особняка.
Ухожу со двора, точно зная, что в ближайшую пару часов Андрей Покер обязательно поранит палец. Уронит в землю двора каплю крови, может, две, тем самым начав выковывать цепь, навсегда связывающую его с домом.
Испытываю ли жалость или сожаление?
Возможно.
Но лишь отчасти. Потому что для того, чтобы демон Особняка поверил, моей душе необходимо прогнить насквозь. И я, насколько понимаю, на самом верном пути в достижении этой цели…
Андрей отрабатывает хорошо. Честно отрабатывает. Как и я, как и многие другие до меня, он не справляется с фальшивой работой до конца, но это и невозможно. Затем веду его в подвал, где знакомлю с остальными.
Пашок, наблюдающий за мной со своей койки, ухмыляется.
Чумаков, избегающий моего взгляда, отгораживается газетой.
Покер довольно быстро сходится с другими невольниками. Жмет руки, снова и снова объясняет происхождение своего прозвища. Пытается балагурить, улыбается и устало похохатывает над собственными прибаутками.
Капкан Особняка функционирует с безупречной четкостью. И когда Эдик вручает новенькому хрустящую пятисотку – захлопывается окончательно. Глядя на круглое, раскрасневшееся от солнца и работы лицо Покера, я начинаю сомневаться, а не совершил ли ошибку, одну из самых непростительных в жизни…
Мы ужинаем, и Андрей не перестает нахваливать кулинарные таланты Марины. Та рдеет, смущается, все время поглядывая на меня в поисках дополнительного поощрения. Встречаю взгляд Феклистовой с прохладой и равнодушием. Меня корежит от содеянного.
Но так нужно.
Эдик объясняет правила проживания. Показывает душ и туалеты. Со свойственным ему отстранением комментирует, чего делать нельзя и что дозволено. Покер впитывает, кивает, теребит очки. Затем выбирает себе кровать. Сначала мне кажется, что сейчас он бросит нелепый розовый рюкзак на койку Санжара. Но тот останавливает выбор в совсем другом месте – поближе ко мне и подвальной двери, подальше от входа в санузел.
Наблюдаю, представляя себя на его месте, – когда-то и я точно так же стелил простыню, не подозревая, что остальное население бункера знает чуть больше, чем говорит. Довольный жизнью и разомлевший от вкуснейшей пасты карбонара, Покер деловито застилает постель. А затем спрашивает, обращаясь ко всем сразу:
– А хотите хохму?
И добавляет почти сразу, не дождавшись согласия, азартно и с улыбкой:
– Мне знакомый китаец из Владика рассказывал. Работал он, значит, как-то в суши-баре. Ну, знаете, наверное, – такая жральня для тех, кто хочет похавать гнилой рыбы со вчерашним рисом и в говенных водорослях…
Эдик выглядывает из-за занавеса. Чумаков опускает газету. Виталина Степановна откладывает вязание. Марина в душе, она не слышит историю, и я отчего-то этому рад. Покер продолжает, то забрасывая старенькие очки на лоб, то возвращая на прежнее место:
– Там на десерт еще такие печеньки с предсказаниями дают, в которые бумажка спрятана. Похавал ты, значит, открываешь, а там что-то вроде: «У вас будет чудесный день». Или «Все задуманное получится завтра». Так вот знакомый мой в одно печенье на сотню заворачивал собственные прорицания. Вроде «Сегодня твоя дочь умрет». Или «Ты неизлечимо болен». Или «Она тебе изменяет».
Андрей смеется. Нисколько не обращая внимания, что на наших лицах улыбок нет. Мы серьезны, как работники похоронного бюро.
Добавляет:
– Контора у них была выездная, там сразу несколько фирм по развозу отоваривались. Поэтому его так и не поймали… – Покер откровенно забавляется историей и возможностью поведать ее новым людям. Чума смотрит на него очень внимательно и как-то тоскливо. – Говорят, что клиенты по-разному реагировали. Конечно, кто-то печенья эти вообще не открывал. Кто-то выбрасывал, не читая. Но мне китаец клялся, что двое отужинавших умерли от разрыва сердца. Представляете? А один впал в такую тоску, что ему не помог даже самый матерый психотерапевт…
Беру полотенце и иду умываться. Теперь точно знаю, что не ошибся и Андрей закончил свой жизненный путь точно по адресу. Особняк не промахивается, это факт… Но подвешенным остается еще один вопрос – какую роль во всем этом играю именно я?
Что за сила привела меня сюда, посадив на цепь?
Неужели я настолько же плох? Был плох еще до того, как взялся за черенок воображаемой лопаты, убив последнее сострадание к себе подобным?
Или судьба все-таки существует?
Возможность переговорить с Пашком наедине появляется только через несколько дней.
Покер довольно легко втягивается в невольничий коллектив, еще не подозревая, чем все обернется. Шутит, травит байки. Злые байки, в полной мере отражающие, что его появление в стенах Особняка – совсем не случайность.
Работы становится чуть меньше – новенький с охотой берется за любое задание. Вечерами я вижу, как тот украдкой прячет деньги в одежде и личных вещах. Совершенно не представляя, что потратить их он сможет лишь частично. И не покидая территории…
Мы с Пашком на улице.
Вечереет, раскладываем за сараем остатки мусорной кучи. Сколько несчастных уже повидала она, собранная в пирамиду и снова разобранная на составляющие? Мне жутко даже вообразить. Но я рад остаться с торчком наедине. Потому что хочу задать вопрос.
– Ты ведь «аптекарь». Можешь изготовить для меня?
Спрашиваю с опаской, издали, не повышая голоса. Мы бережно тащим за угол здоровенную оконную раму, в которой еще блестят зубья битого стекла, и ни у кого нет желания обрезать пальцы. Странная осторожность для человека, не так давно кромсавшего ножом собственную руку. Но она благодаря скрытым мотивам теперь моя вторая сущность.
– Кое-что запретное, – добавляю я, хотя Пашок и так понимает, о чем пойдет речь. – Кое-что сильное, чтобы забыться…
– Ты знаешь, что могу, братюня, – так же сдержанно отвечает он. Оглядывается, убеждаясь, что поблизости никого из посторонних. – Но еще ты знаешь, нах, что за это нас по головке не погладят…
– Знаю, – признаю я, выдерживая его взгляд. – Попрошу один раз. Больше никогда. Просто сил нет.
Комментирует, примеряя одну из своих самых паскудных улыбок:
– Я видал таких, как ты. Сам когда клей нюхал, зарекался не раз. И когда с винтовыми связался. Да только итог всегда один, нах – разовой партией ты не ограничишься. – Его язык снова вылизывает зубы, перемещается слева направо, будто под губу забрался крохотный зверек или во рту химика поселилось здоровенное насекомое, ищущее выход. – И пусть мы живем не в самом простом месте, подставлять зад члену Эдика у меня нет никакого интереса.
– Один раз, – повторяю я, вкладывая в слова всю твердость и убежденность, какие только смог накопить за последние дни. – Я не подгон вымаливаю, не подумай. Что хочешь взамен? Мою электронику? Новую куртку? Плеер?
Тот усмехается. Мы опасливо опускаем раму, прислоняем ее к стене. До следующего посетителя. До следующего визита Константина в подвал, когда опустеет еще одна кровать. Стекла жалобно дребезжат – кроме нашего дыхания, это единственный звук, наполняющий двор. Беда чернильным облаком небесной каракатицы разливается в воздухе, но никто этого не замечает.
Шепчу:
– Я отдам тебе все сбережения.
Шепчу:
– Там немало. Сам знаешь, что мне хорошо платят за уроки с мальчишкой.
Его глаза вспыхивают. По эту сторону красного кирпичного забора деньги значат далеко не так много, как снаружи. Но звериный мозг наркоши все равно хватается за приманку, и я продолжаю аккуратно давить.
– Это почти тридцать штук. Купишь, наконец, нормальную приставку. «Иксбокс» вроде новый вышел… Читалку. Игры. Да хоть велотренажер. Или шмотки. Халат, например, как у меня. А видел рекламу свежей линейки адидасовских кроссовок?
Он задумчив. Сосредоточен. Прекрасно понимает, что предложенная игра может выйти боком нам обоим. Но перспектива купить что-то дорогое, даже находясь в тюрьме, его определенно привлекает. Черт, да сегодня можно почти что угодно купить, не пересекая порога собственной квартиры…
Почти слышу, как скрежещут мысли тощего, как крутятся мозговые шестеренки. Он насторожен и пытается подсчитать риски. Думает о возможном наказании, если я заверну ласты от осознанного передоза, а Эдик вычислит происхождение дури.
Пашок щурится и суетливо почесывает щеку – жест старый, забытый, но намертво въевшийся в сознание. Неуверенно пожимает плечами, но я вижу – сдался. Иногда привычные механизмы, исподволь управляющие нашей жизнью, неизменны даже на границе возможной скорой смерти. Особенно для таких, как мой собеседник.
– Я все продумал. Никто не заметит, – протягиваю ему сигарету, и мы окружаем себя облаками дыма. – Если попадусь, не сдам.
– Кое-что понадобится, в курсе, нах? – чуть увереннее, будто дым способен прятать слова.
Киваю.
– Осталось немного пароксетина – сущая правда, чистое везение. Причем я совсем не собирался использовать попытку самоубийства для выманивания антидепрессанта из главной домашней аптечки. – Упаковка коделака, еще старого, настоящего… Спички, спирт, перекись водорода. Бутылка «Мистера Мускула» и полбутылки «Тирета». Йод, сироп от кашля. Пищевая фольга. Бензин и немного соляной кислоты. С колбами проблема, но банки имеются. Газовая горелка. Сухое горючее.
Глаза Пашка уважительно округляются. Спрашиваю:
– Сможешь из этого что-то замутить? Что-то забойное, но быстрое?
– Попробую, нах… – отвечает он. На этот раз я слышу, как в голове парнишки начинает шелестеть страницами поварская книга с рецептами доморощенных химиков. – Тебе напомнить еще раз, как крепко ты рискуешь?
– Не нужно, – заставляю себя понимающе и устало улыбнуться. – Оно того стоит, я уверен.
Затем неторопливо, в деталях объясняю, где именно в доме, сарае, гараже или подсобках хранятся те или иные припасы. Разложенные, разлитые и рассортированные так, чтобы самый пытливый ум не распознал в них набор, из которого можно изготовить наркотик. Впрочем, ужас домашней кулинарии как раз заключается в том, что дурман варится из самых обыденных, привычных и безобидных с виду продуктов…
– Отчаянный ты парень, братюня, – подытоживает Пашок, затягиваясь сигаретой.
Если бы он был прав. О, только бы он оказался прав…
– Сделай чисто и забористо, – добавляю я.
Он кивает с окончательным пониманием и тоской. Но иначе в нашей бывшей среде обитания – галактике свободолюбивых саморазрушающихся уродов – и не принято.
– Золотую дозу захотел. Значит, снова уйти попробуешь, – не спрашивает, а констатирует Пашок. – В последний раз спрошу – уверен? Ты же, нах, в семье теперь, чего метаться?..
– Санжар тоже был в семье, – тихо отвечаю я. Но торчок смотрит на меня с откровенным удивлением. Будто я назвал имя человека, знакомого только смутно. Меняю тему. – Значит, договорились?
– Договорились, братюня.
И с горькой усмешкой набрасывает бесплатный совет:
– Если созреешь до золотого, забирайся в «Ягуар» Алисы. Всегда мечтал, что если мне хватит храбрости, я сделаю это именно там.
Он уходит в подвал.
Слышу, как по дороге встречает Андрея и беззлобно ругается на того, объясняя, что для перевозки компоста мы используем другую, уже перепачканную тачку. Покер оправдывается, обещает отмыть из шланга. Хочет отшутиться старым анекдотом про прапорщика, тачку и дерьмо.
Новенький здесь почти неделю, но за это время не предпринял ни единой попытки отпроситься за территорию. Насколько мне заметно, Эдика такая ситуация устраивает вполне – чем больше времени очередной поденщик проведет внутри, тем проще будет убедить его в нереальности существования всего остального мира…
Выхожу из-за сарая, пряча окурок в карман, чтобы не мусорить на идеальных лужайках. Зеленых, нестерпимо ярких, будто в мае, когда трава пробивается сквозь серый лежалый снег, как доказательство того, что перерождение побеждает смерть. Как бездушные угловатые цифры электронного будильника, управляющего твоей жизнью – встать-лечь-встать.
В окне второго этажа, отодвинув портьеру, стоит Колюнечка в неизменной сине-белой матросской беретке, куртке с отложным воротничком и бриджах. Мальчик улыбается, и я заставляю себя помахать ему рукой. Только потом заметив, что за спиной щенка темнеет колесный трон Пети. Лицо толстяка, как всегда, добродушно и розовощеко. Но хищный блеск глаз различим даже через полумрак комнаты и блики оконного стекла…
Еще не знаю, что буду делать с отравой, заказанной Пашку.
Но что-то внутри меня предполагает, и я безропотно подчиняюсь. Моя жизнь – край упущенных возможностей, от которых меня все время уносило прочь.
Уборка или мытье посуды для многих сродни медитации.
Не раз такое слышал, да и себя на подобных сравнениях ловил. Механическая монотонная работа успокаивает нервы. Позволяет погрузиться в рефлексию без потери физической активности – длительное сидение в «позе лотоса» далеко не всякому по силам.
Прибираясь в гараже, испытываю нечто сродни. Упорядочиваю мысли, которых толком и нет. Мне кажется, я движусь по рельсам, на которые поставил себя отнюдь не сам. И все бы ничего, да вот только я набираю скорость…
Полной свободы размышлениям не даю.
Здесь – ниже холлов и коридоров, но выше комнаты пыток или хранилища каменных дисков – у меня есть еще одна работа. Возможно, самая важная. Все еще определенно недооцененная. Однако которую я выполняю с той же неспешной однообразной дисциплинированностью, с какой вытираю пыль или присыпаю песком капли машинного масла на бетоне.
Железную трубу к юго-восточной лестнице, ведущей в подвал из дома.
Запасную цепь от лебедки в пустую жестяную канистру к воротам подземного паркинга, ведущим на север.
Старые промасленные тряпки в одну коробку к пустым бутылкам из-под ацетона и стеклоочистителя. Канистры – за стеллажи. Со стороны может показаться, что я раскладываю и сортирую вещи по восточному искусству фэн-шуй. Совершенно ненужные и бессмысленные на первый взгляд вещи.
Огнетушители в шкаф, запирающийся на ключ. Туда же огнетушители из машин, они не заперты. Несколько старых навесных замков, которые предстоит хорошенько смазать, на полку рядом с западным входом в гараж. Я будто наряжаю елку, стараясь все сделать красиво и правильно. Да вот только недоумеваю, зачем, ведь до новогодних праздников еще почти полгода…
Мысли рассыпаются сухим песком тропического пляжа, на котором я никогда не был. Заставляют снова и снова переосмысливать собственную жизнь. Искать причины и следствия, которых, по мнению Эдика, не существует. Заставляют поверить, что все зря. Дают надежду, что все не зря, и человеку просто не дано видеть всего замысла, посвященного его жизненному пути…
В последнее верится с трудом.
Сознанием, умирающим уже не первый год, но еще довольно светлым, я отдаю себе отчет, что через какое-то время самые тяжелые испытания кажутся забавными и легко преодолимыми. Как и надежды, отчаянье, любовь, страдания от потерь, поставленные и достигнутые цели, радости и горести. Все они рано или поздно кажутся препонами, поставленными на нашем пути, чтобы сделать сильнее.
Я не верю в это.
Потому что знаю, что для меня уже не будет «какого-то времени». Потому что, сколько себя помню, хотел «здесь и сейчас». И только это почитал настоящим пульсом, ритмом, биением силы. Любая объективная или субъективная преграда… любая неспособность по-детски сделать только так, как хочется – ярмо на шею. И никакое «потом будет лучше, лишь потерпи и смирись» его не облегчит.
Чем больше на шее этих камней, тем быстрее жизнь превращается в существование.
Здесь – запертый, обреченный, лишенный воли и будущего – я впервые за много лет понимаю, что хочу снова почувствовать это биение. Совершать безумства, о которых потом пожалею. Вершить поступки, благодаря которым одну за другой упускал самые перспективные возможности. Те самые, что могли сделать из меня добропорядочного гражданина, верного семьянина, любящего отца, исполнительного подчиненного.
Как ни забавно, но все перечисленное предлагает мне и Особняк.
Место, главная сила которого кроется в том, что оно является зеркальным близнецом нашего привычного мира. Но я собираюсь вновь сойти с ума и упустить предложенные шансы…
Жизнь – это чертов пасьянс «косынка» на деньги и время. Пасьянс, который ты раскладываешь один-единственный раз, без возможности пересдачи или отмены хода.
Нужная карта часто не приходит. Если приходит, ее некуда сдвинуть, и тогда ты вынужден заваливать ее другими – несвоевременными, ненужными, лишними. Потом пригодятся и они. Но та самая, нужная, уже окажется далеко под завалами. Остается в прошлом, к которому не вернуться.
Иногда слишком много дам и ни одного короля, на которого их можно положить.
Иногда слишком много королей и ни одной дамы, чтобы освободить валета.
Иногда слишком много красного, иногда – черного.
Тузы, открывающие двери, спят на дне колоды или закопаны в самой высокой стопке.
Даже самый привлекательный расклад, когда все удивительным образом сходится, может быть нарушен тем, что ты запечатал или не открыл одну-единственную карту. Так рушатся самые грандиозные планы. Так ускользает триумф, который считал делом решенным. Тем временем, так и не победив, ты уходишь в минус по очкам или деньгам, что до безумия похоже на «настоящую» жизнь.
А затем игра заканчивается…
Я снова почувствую этот пульс. Пусть даже ненадолго. С того момента, как меня спасли, я начал новый расклад. Против правил, как всегда любил. И начхать, к чему это в итоге приведет.
Алые муравьи под моими ногтями намекают, что я не прав. Зуд в лопатке, до конца так и не покинувший тело, советует одуматься. Совершенные грехи умоляют не отягощать их еще одной ношей. Я плюю на предостережения и запреты, как делал всегда.
Главное, чтобы не заметил дом.
Главное, угадать момент, когда я буду готов к сдаче карт…
Складываю самые тяжелые инструменты в ящик, который ставлю на телегу и спускаю в глубокую нишу смотровой ямы. Раздвигаю над ней стальные рольставни, запираю на замок, ключ от которого кладу на шкаф. Необычная приборка, затеянная мной в подвальном гараже, выглядит куда безобиднее, чем несколько бутылей со слитым из генераторов горючим, расставленных по кладовкам всего дома.
Собираю в одну кучу сочно-желтые домкраты и струбцины. Яркие, как лучи ласкового солнышка, летним утром заглянувшего на веранду. Как латунные гильзы, еще теплые, с дымком, падающие на пол детской комнаты.
Я опустошен так, как этого хотел Особняк.
Я решителен так, как этого хочет моя изгрызенная душа.
Маленьких людей привозят еще через несколько дней, проведенных в привычном ритме чередующихся бытовых обязанностей, еды и сна.
Эдик перед этим говорит:
– У нас будут гости. Много гостей. Большое представление. Состязания Перевернутого Солнышка, как их называют наши работодатели.
Добавляет, глядя на всех слуг, собранных в подвале:
– Мы не разговариваем с гостями Ирлик-Кара-Байрама.
И предупреждающе смотрит на Покера. Тот покорен, словно буддистский монах. За время, проведенное среди нас, у Андрея так и не возникло мысли о том, чтобы покинуть пригретое место и продолжить бродяжий путь.
Эдик переводит взгляд на меня, и я послушно киваю. Ясно и без слов. Он поправляет очки в тонкой оправе и все же поднимает к потолку указательный палец. Не может не намекнуть повторно. Особенно для наиболее строптивых.
– Предупреждение самое серьезное. Тому, кто хоть случайно обратится к гостям, светит очень серьезный штраф.
Он говорит «штраф», а я вспоминаю холодную дыбу и жаркие надрезы на своей спине.
Впервые за долгое время мы увидим посторонних, и вовсе не Петиных шлюх. Причем внутри. Но дом страхуется, лишая надежды даже подать весточку. Невзначай угрожает губами дворецкого. Предупреждает. В памяти всплывает «ГАЗ» с оранжевой цистерной, лица людей, имевших неосторожность ответить мне. Кажется, это было в прошлой жизни…
Становится чуть яснее, почему последнюю неделю мы драили гараж, подъездную дорогу, таскали из сарая вниз увесистые мотки сетки рабицы и доски от непонятной разборной конструкции; подстригали живые изгороди и чистили ковку фонарных столбов.
Кажется, что никто, кроме меня, появлению в доме посторонних совершенно не удивлен. Андрей – потому что еще не успел в полной мере познать затворничество хозяев. Остальные – потому что до сих пор знают чуть больше. И наверняка уже становились свидетелями подобных визитов и «больших представлений». Неких состязаний, о которых я впервые услышал еще от мальчишки.
А когда привозят животных и маленьких людей, я понимаю, что «гости» – не самый верный термин. Куда уместнее было бы сказать – артисты, аниматоры и дрессировщики. Хотя и это, как убеждаюсь в самом скором времени, тоже в корне неверно…
Перед тем как во двор въезжают автобус и фургон, мы полностью освобождаем гараж. Практически полностью, сдвинув шкафы к стенам, избавившись от мусора и замаскировав брезентовыми покрывалами стеллажи с зимней резиной.
Затем Чумаков и Пашок медленно, под строгим присмотром Эдика выгоняют во двор все семь хозяйских машин. Семь полированных железных жеребцов, крайне редко покидающих стойло. Поочередно и аккуратно, стараясь не оцарапать, расставляют во дворе, будто готовятся к автомобильной выставке. Мы с Покером укутываем их тонкими непромокаемыми тентами, чтобы не перегревались на августовском солнце.
Себастиан наблюдает с балкона, за его спиной хрустит фисташками Константин.
Ни Жанна, ни Алиса не тревожат меня все эти дни, избавив от репетиторства и секса.
Да и Колюнечку сейчас затащить на занятия – дело хлопотное. Мальчик охвачен возбуждением, постоянно что-то вопит и торопит время, подгоняя приближающееся состязание. От воспоминаний об убитом пони на меня накатывает тошнота, и я молюсь, чтобы в этот раз обошлось без жертвоприношений…
Безысходность.
Значение этого слова можно понять, только оказавшись внутри понятия. Так же, как нельзя понять, что такое любовь, ни разу в жизни не испытав жгучего жара в грудине, нехватки кислорода, полнейшего сумбура в мыслях. Ощущаю безысходность, потому что внутри. Потому что час близок…
Выгнав и запеленав машины – «БМВ», «Ягуар», «Порше», новенький «Мерс» и еще три блестящих японских болида, ценность которых для дилетанта ничтожно мала – мы вчетвером спускаемся в подвал через распахнутые северные ворота. Подметаем, завершая уборку, драим полы из шлангов. Крепим под потолком театральные софиты, подчищаем малейшие следы ремонта или пролитой горючки.
Весь дом постепенно охватывает ощущение близкого праздника.
Несмотря на постоянный ужас и отвратительные вещи, составляющие сущность Особняка, бодрящий азарт перекидывается и на рабов. Виталина Степановна, собирая шикарные букеты в гостиной первого этажа, даже что-то напевает. Марина словно подсвечена изнутри, простая и неказистая, сейчас она кажется почти счастливой. Посматривает на меня так, будто желает поделиться частичкой радости.
Пашок и Андрей курят сбоку от крыльца, травя анекдоты и смеясь в голос. Даже Эдик не спешит прикрикивать на них. Лишь время от времени грозно поглядывает и ворчит, если перекуры затягиваются.
Нет, не так – ощущение близкого праздника охватывает почти весь дом.
Я заразному веселящему чувству предаться не готов…
Константин изредка появляется внизу. Одетый в костюм, строгий и элегантный. А может, в спортивную «двойку». Или в синий домашний халат, этого запомнить невозможно. С ним, словно тень, до подбородка затянутый в черную водолазку Себастиан. Присматривающий, подмечающий. Жадно втягивающий наши запахи, страхи и ожидания так, как всасывал парящую в воздухе кровь.
А затем привозят маленьких людей…
Когда они начинают выходить из автобуса, у меня леденеет сердце.
Сначала кажется, что в Особняк привезли целый класс детей. Злое предчувствие подступающего Ирлик-Кара-Байрама, сути которого я не понимаю, скручивает внутренности предвкушением чего-то лютого.
Но затем я замечаю подожженные сигареты. Открытые бутылки с пивом. Слышу басистую речь, и морок спадает. Смотрю на крепкие, словно из камня вытесанные тела карликов и не могу поверить глазам.
Их двенадцать человек. Дюжина миниатюрных копий взрослых мужчин, и я впервые могу так близко рассмотреть их необычное строение. Не лилипуты, у всех пропорции толкиеновских гномов. Самый высокий макушкой едва достает мне до солнечного сплетения. Ладони широки, лица щетинисты, привычки дурны. Походка чуть вразвалочку, но без болезненной дезориентации или приволакивания ног. На щеках, шеях и открытых частях рук шрамы, причем местами страшные, зарубцевавшиеся с отвратительной небрежностью.
У некоторых приезжих усы и даже бородки, видны серьги и татуировки. Одежда и обувь, будто с кукол. Но не детская, вполне нормальных размеров, кое-где изготовленная на заказ. Дом словно позволяет заглянуть за еще одну грань реальности, увидев ее чуть искаженной, непривычной, оторванной от обыденного повседневно встречаемого мира.
Маленькие люди деловито разгружают бортовой багажник автобуса.
Они быстры и сильны, чего бы я никогда не заподозрил в столь необычных, кажущихся ошибочно ущербными человечках. Вскоре на лужайке вырастает гора разноцветных спортивных сумок. И чехлов, похожих на ружейные.
Кроме низкоросликов, в автобусе еще водитель. Наверное, нормальных размеров человек, но он машины не покидает. Гитлер рассчитывается с ним через окно, снизу вверх, чуть ли не забрасывая деньги внутрь. Я отчего-то свято уверен, что рулевой предпочитает вообще поменьше глазеть по сторонам и на улицу не стремится по вполне определенным причинам…
– Снова кеты, – с пониманием говорит Чумаков, когда мы гурьбой высыпаем на улицу и замираем в тени плющевого покрова. Дожидаемся, пока просохнут гаражные полы, а вода уйдет в сливные решетки. А еще нас, разумеется, привлекает рычание мотора и лязг распахнутых Эдиком ворот. – В большинстве, конечно.
– С чего это, нах, снова? – Пашок недоверчив.
Сплевывает на траву, не обращая внимания, что нить разговора доступна не всем.
– Глаза разуй, – с усмешкой отвечает Валек. – Номер на автобусе заметил? Видать, на постоянном подряде малышня…
Мы смотрим на номера Красноярского края, а бывший уголовник продолжает. На этот раз уже для нас с Покером, потирая одну из тюремных татуировок на загорелом предплечье.
– Их еще раньше остяками называли… Был у нас на зоне один. За тройное изнасилование взяли. Забавный мужик, отчаянный. Таких, наверное, сейчас по всей стране не больше тысячи осталось… А эти уже второй раз за коротким рублем жалуют.
Затягивается дымом, качает головой, и я присматриваюсь к лицам карликов. Замечаю что-то азиатское, скуластое, слегка узкоглазое. Но необычный акцент в голосах приезжих слышен не у всех.
Валентин Дмитриевич добавляет, стряхивая пепел в ладонь:
– Наверное, по всей Сибири собирали.
– Зачем? – невольно вырывается у меня.
Тут же краснею, почувствовав на себе взгляды Покера, Пашка и Чумакова.
– Для Ирлик-Кара-Байрама, конечно, – изумленно говорит Чума и продолжает изучать коротышек, словно выискивает в толпе знакомые лица. – Они в этом деле большие мастера, увидишь…
Я не уточняю. Не уверен, что мне хочется уточнять. Не уверен, что вообще желаю знать, что будет дальше. Пашок тоже смотрит на маленьких кетов с пониманием. Впервые задумываюсь, что торчок провел здесь куда больше нескольких месяцев, о которых соврал при первом знакомстве.
Карлики заканчивают курить и разминать ноги. Скрываются в автобусе, бросая груду багажа без присмотра. Почти сразу во двор вкатывается фургон. Похожий на машину доставки, но без опознавательных знаков или эмблем. Его водитель тоже не спешит из кабины, принимая оплату через едва приоткрытое окно.
Себастиан, избавившись от пухлой пачки купюр, прикрывает ворота и распахивает задние дверцы фургона. А затем, ничуть не напрягаясь, начинает выносить из машины огромные пластмассовые коробки. Похожие на клетки для перевозки кошек, только больше в несколько раз.
Гитлер несет по две сразу, приподнимая ношу так, чтобы дном короба не касались травы. Не вижу ни одной капли пота на его гладком лице. Колюнечка, выскочивший на балкон над нашими головами, хлопает в ладоши и радостно вопит.
Телохранитель семейства составляет коробки у стены. Одну на другую и рядом, будто хочет выстроить пирамиду. И только теперь я слышу скулеж и собачий лай, доносящиеся из бело-синих пластиковых клетей.
– Это что, собаки? – спрашиваю, даже не успев осознать, что говорю вслух.
– А кто ж еще, братюня? – со всезнающей усмешкой тянет Пашок. – Тебе, нах, понравится, зуб даю…
Пашок возбужден, как и остальные.
Не знаю, что там вообще планируется, но аптекарь, которому я пообещал все свои деньги, взволнован и напряжен. В воздухе, будто густая масляная взвесь, висит ожидание чего-то масштабного, ликующего, наэлектризованного.
Себастиан заканчивает выгружать пластиковые контейнеры, в каждый из которых можно, хоть и с трудом, засунуть взрослого человека. Всего их семь. Из перфорированных бортов до крыльца и занавеса плюща долетают скулеж и рычание – кажется, обитатели клеток одновременно обозлены и напуганы присутствием Вырывателя Глоток. Они совсем не похожи на бесплотных тварей, которыми тот командует ночью; состоят из плоти и крови. А значит – заведомо боятся и ненавидят одновременно, так остро, как это умеют делать только звери…
Страж дома захлопывает дверцы фургона, открывает ворота и выпускает машину наружу.
Если бы автомобили тоже умели бояться, я бы сказал, что этот сейчас перепуган до смерти. Еще я уверен, что водители наутро ничего не вспомнят. Так захочет Особняк, силу которого нельзя недооценивать. Остается надеяться, что на морок наши хозяева тратят немалые силы. Потому что час близок. Потому что если в привычной жизни и происходит что-то дурное, то не найти лучшего момента, чем когда все идет не по установившемуся расписанию. А праздник Ирлик-Кара-Байрам – как раз такой уникальный случай…
Гитлер снова закрывает воротные створки, окованные змеями и греческими масками. Возвращается к зверинцу. Поднимает с травы поливочный шланг, щелкает задвижкой и поливает коробки, стараясь попадать в вентиляционные отверстия.
От скулежа и собачьего воя болит голова.
Колюнечка на балконе хлопает в ладоши. Он так готов броситься к песикам, что едва не переваливается через перила. Ловлю себя на мысли, что был бы этому рад. Алиса подхватывает отпрыска, кулем уносит внутрь дома и закрывает балконные двери.
Появляется Эдик, недовольный нашим длительным отсутствием.
– Полы просохли, – сообщает он, посматривая на импровизированную псарню у забора и что-то отмечая в бумагах. – Возвращайтесь к работе.
Мы послушными овцами тащимся в загон.
В подвале после дневной жары прохлада, пробирающая до костей. Сыро, неуютно. Пашок снимает ветровку, повязанную вокруг пояса, накидывает на плечи. Марина, спустившись в гараж изнутри, украшает стены легкими шторами из тюля. Драпирует неприглядные стеллажи с запасными колесами, сварочные аппараты и шкафы с инструментами. Улыбается мне. Вдруг осознаю, что она тоже ждет представления.
Начинаем разбирать здоровенную связку досок. Тут добротный калиброванный брус с вкрученными в плоть дерева железными крепежами. Металлические скобы. Рейки с крючками, две массивные рамы на прочных петлях, они забраны плотным частоколом прутков.
Чумаков командует, мы с Андреем сортируем детали по типу.
Я все еще не понимаю, что именно нам предстоит собрать, но уже начинаю догадываться. Пашок деловито раскладывает на бетонном полу детали, поигрывает отверткой. Мы похожи на дружную семью, приступившую к долгожданной сборке икеевского шкафа. Осталось принести в подвал пивко или горячий какао, которым нас будут снабжать заботливые хозяюшки.
Устанавливаем трехногие опоры. Расставляем их с интервалами, а Пашок шустро орудует гаечным ключом, намертво прикручивая деревянные треноги к полу, – теперь я замечаю специальные отверстия, просверленные в бетонной плите. Стойки размещаются по кругу, по периметру мы соединяем их длинными горизонтальными брусками. Надстраиваем треноги на еще один ярус вверх, и снова кладем поперечины.
Мы строим цирковой манеж.
Чуть позже, еще раз перекурив и насладившись вечерним ветерком, начинаем обносить конструкцию сеткой из рулона. Металлической, тяжелой и немного поржавевшей. Разматываем, крепим на крюках, не оставляя ни единого зазора. Навешиваем рамы, превратившиеся в небольшие дверцы. Возводим клетку вроде той, где отмороженные мужики лупят друг друга без всяких правил.
Высота ристалища немалая. Перебраться можно, только цепляясь за сеточные ячейки. Периметр наглухо замкнут. Оставшийся снаружи Андрей какое-то время подтрунивает над нами с торчком, запертыми внутри. Только когда на него прикрикивает Эдик, новенький открывает задвижку, выпуская нас и глупо посмеиваясь. Ему тут все в диковинку. Ему тут все интересно. Он еще не знает, с чем столкнулся, а потому тоже охвачен эйфорией подготовки к чему-то необычному.
Когда мы заканчиваем сборку десятиугольного ринга, в подвал спускается Себастиан.
Как и при разгрузке фургона, он несет в каждой руке по пластиковой собачьей клетке. Даже если предположить, что один ее обитатель весит два-три десятка килограммов, от силищи Гитлера снова, будто в первый раз, захватывает дух. Покер наблюдает за ним с легким недоверием, впервые заподозрив что-то не то. Но ни комментировать, ни обращаться с расспросами не спешит.
Страж дома составляет скулящие короба в самом темном углу гаража.
Начинает остро пахнуть псиной. Яростью. Злобой. Софиты еще не включены, царит полумрак, но я умудряюсь прочитать несколько табличек: «Герцог», «Скорпион», «Нагайна».
Себастиан награждает меня безжизненным сапфировым взглядом, заставив потерять интерес и вернуться к собирательству отслуживших инструментов. В его глазах яркая синева джинсовой ткани, обтягивающей упругую девичью попку. В его глазах блеклая синева смертоносных трафаретных букв на бетонной стене: «Соли, миксы, спайс», и телефонный номер под ними, наглый, как драный дворовый кот.
Я покорен и слаб, как того хотел Особняк. Как того хотели его обитатели, нашими руками готовящие главное представление этого лета…
Собираем и устанавливаем огромный стол.
Чуть раньше его по частям перенесли из главной обеденной залы второго этажа. Осторожно, как произведение искусства. Восстановили в подвале, где он смотрится громоздко и неуместно.
Вчетвером, сопя от натуги, передвигаем стол на положенное место – к северным воротам, к основанию пандуса, ведущего наружу. Так, чтобы с любого из стульев была хорошо видна сетчатая клетка в центре гаража. Марина приносит стопку скатертей, салфеток и полотенец. Виталина Степановна расставляет вазы с пышными, яркими букетами. Вечеринка приближается…
Эдик объясняет, что сегодня ночью мы опять будем прислуживать. В костюмах, один из которых подобран даже плечистому Покеру. Станем молчаливыми подавальщиками и подливальщиками, невольными свидетелями состязаний, для которых и построена арена.
Дважды вниз спускается Колюнечка. Носится меж колонн и вокруг клетки с визгами восторга, почти напоминая нормального ребенка. Запинается о стойки-треноги, падает, разбивая коленки; плачет и тут же перестает, начинает прятаться за портьерами. К собакам не подходит. Но я все равно слышу, как тяжело рычат псы, едва мальчик оказывается поблизости.
Алиса, уже уложившая волосы, но еще в домашнем, недовольно отлавливает сына. За ухо выводит из просторного подземного зала.
Я надеюсь, что угадал. Я надеюсь, что все сварено.
Расставляя стулья, мы с Пашком наконец-то остаемся наедине. В одном ухе торчка наушник плеера, поэтому подбираюсь с нужной стороны. Как охотник – к оленю, держащему нос по ветру. Спрашиваю негромко, чтобы не услышала старуха, сосредоточенно инспектирующая свои икебаны:
– Готово?
Парнишка смотрит на меня так, будто незнакомец осведомился о размере груди его матери. Но я наблюдал, а потому знаю, что в последние дни тот брал рабочие подряды на одного. Брал, чтобы большую часть времени пропадать в недрах дома, даже не появляясь на общих перекурах.
– Ты чего, братюня? – Он интересуется неуверенно, даже отчасти игриво. – Всего ж, нах, неделя прошла…
– Так готово или нет?
Шепчу, а у самого обмирает сердце.
Если Пашок не закончил, сегодняшние состязания ничем мне не помогут. Ни если я выберу летальный бойкот дальнейшего существования, ни если решусь испортить его кому-то из присутствующих. А при поиске второго шанса растет риск среди ночи увидеть перед кроватью молчаливого и безликого Константина.
– Мля, братюня, ну ты меня подставляешь… – И тут же скалится. В глазах огоньки, которых я там давно не видел. С тех пор, как аптекарь комментировал нападение скинов на рыночных мигрантов. – Да готово все, готово.
Двигает стул, выбирая место поудачнее, чтобы обзор не загораживали ни колонны, ни старухины букеты. К нам направляется Марина, толкая перед собой тяжелогруженый колесный стеллаж с посудой и столовыми приборами. Один из углов гаража уже заставлен хромированными кубами передвижных холодильников и телег с конвекционным нагревом, хранящими внутри яства предстоящего пира.
– Я ж чуть не спалился на варке-то… В итоге за мусоросжигателем замутил, нах. Вони было, думал хоть дом подпаливай… – У меня дергается щека. Незаметно, одним рывком. Надеюсь, что незаметно. – Зато к топке близко, ни нифелей, нах, ни банок. Одежку старую тоже пришлось, Эдик, сука, нюхливый.
Пашок торопливо добавляет еще кое-что. Информация, безусловно, лишняя, но он не может не поделиться. В этом суть малолетнего убийцы:
– Ты не поверишь, как по работе соскучился! – шепчет, проводя растопыренной ладонью по лицу, как это делают донельзя пораженные люди. – Реально ошалел, не поверил даже. Руки все помнят, ни одной осечки, как в аптеке вышло… В общем, получилось круто, нах, зуб даю. «Зажигалкой» назвал.
Добавляет с опаской, будто продавец подержанных авто, почуявший недоверие клиента:
– Граммов сорок нацедил, нормально. Баяна тебе тут не найти, точно выкупят. Так что лучше на сахарок, как Люсю. Заберет, может, и не так люто, но не спалишься зато.
– Отлично.
В моем голосе ветер арктического лета.
Заметив, как дрогнула губа парнишки, спешно добавляю:
– Спасибо, дружище! Правда, спасибо. Я тебя не подставлю, матерью клянусь, все будет чисто, – и в довесок, без давления или демонстрации истинной сути наших деловых отношений, с попыткой играть в приязнь. – Деньги в моей тумбе возьмешь. В платок завернуты, увидишь. Это все тебе. – И торопливо, чтобы не раскрыться, с оттенком нарочитой бравады: – Я еще заработаю, с осени занятия снова…
Тот кивает, счастливо улыбаясь. Необходимая порция поощрения, дружеского заговора и нарушения установленных правил получена. Он уже размечтался, как полезет в ящик тумбы. Уже представляет новый спортивный костюм и целую коробку игр для канолевой приставки, которые с помощью Эдика закажет следующим утром.
Спрашивает, наблюдая за Мариной, расставляющей тарелки на дальнем конце стола:
– Помнишь полку в сарае, где диски отрезные для «болгарки» хранятся? – Чуть заметно киваю. – Там поищи.
– Поищу, – одними губами отвечаю я.
И отправляюсь к Эдику узнать перечень дальнейших работ.
Оживление и возбуждение, ощущаемые повсюду, сильны настолько, что избегать их становится невыносимо даже мне. Дыхание учащается, щеки розовеют, я с удивлением понимаю, что тоже жду наступления ночи.
Впрочем, моя дрожь иной природы – совершенно вдумчиво, отчетливо и трезво я понимаю, что, скорее всего, сегодня умру. При этом тело охватывают вовсе не апатия или вялость. Мышцы каменеют, обостряется слух, член ворочается в узких черных брюках от костюма. В их же кармане лежит склянка, отысканная на сарайной полке.
Прежде чем уйти переодеваться, мы получаем последние инструкции.
Слушаем внимательно, стараясь не обращать внимания на двенадцать карликов, спускающихся в гараж. Шумных, неестественно веселых, травящих сальные матерные анекдоты.
Коротышки тащат спортивные сумки и чехлы. Огибают ринг, придирчиво осматривая круглую конструкцию и деловито дергая за детали, проверяя на крепость. Не подпуская их к переносным бело-синим конурам, в тени замер Себастиан, одно присутствие которого заставляет животных жалобно подвывать. Чуть раньше Гитлер запер ворота за уехавшим с территории автобусом…
– После начала пира из гаража удаляться только с моего ведома, – говорит Эдик.
Маленькие люди вскрывают сумки и стягивают верхнюю одежду. В одном из углов зала им устроили что-то вроде раздевалки, перетащив туда пару пустых жестяных шкафов и несколько лавок. Именно в ту сторону ведет одна из дверок арены.
– С участниками представления не разговаривать, – мажордом уже одет в парадное – идеально отутюженный темный костюм-тройку, галстук-бабочку, начищенные ботинки. Волосы прилизаны лаком. – Когда к входу тащат звериную клеть, старайтесь держаться подальше.
Из спортивных сумок чужаков появляются вещи. Необычные настолько, что я сначала не верю глазам. Карлики вынимают и бережно раскладывают по полу тяжелые желтые кирасы, наручи и античные шлемы.
– Почти как прежде, каждый прислуживает тому хозяину, за кем закреплен на прежних ужинах. Но есть и перестановки. Жанна теперь за Виталиной Степановной, Дениса просили перевести на мальчика. Андрей – ты сегодня отвечаешь за Алису. Запомнил ее привычки?
Тот кивает, но впустую – на него не смотрят.
Эдик не выпускает из рук пластиковый планшет, под проволочный зажим которого вставлена целая кипа листов. Время от времени старший слуга заглядывает в таблицы и распечатки, сверяясь с часами. Проговаривает инструкции монотонно и сбивчиво, наизусть, и даже не интересуясь нашей реакцией…
Карлики вскрывают чехлы, извлекая под тусклый подвальный свет короткие железные мечи, сборные копья, вилы и алебарды. Они перешучиваются и смеются, но в нарочито-грубых голосах все отчетливее звучит напряжение. Я до сих пор верю, что все оружие – декоративная театральная имитация. Я не верю в это.
– Если происходит нечто неординарное и вашего коллеги поблизости нет, – продолжает мажордом, перелистывая бумаги тонкими пальцами, – начинайте прислуживать господину по принципу левой руки. И не зевать, работы предстоит много.
Когда маленькие люди обнажаются, чтобы натянуть робы, туники и балахоны, видны многочисленные шрамы, испещряющие их мускулистые тела. Карлики-качки – от одного такого образа меня еще год назад бы бросило в смех. Сейчас бросает в дрожь…
Эдик продолжает:
– Сегодня, в качестве исключения, у всех нас имеется полный доступ к помещениям дома. Но, повторяю, ходить на хозяйскую территорию – только с моего разрешения и по уважительным причинам.
Я обмираю. Я холодею. Я не могу поверить.
Словно клубок, запутанный котенком, внезапно распался на свободные вислые линии, позволив снова смотать себя в тугой шар. Смотрю на Себастиана, непривычно малоподвижного. Будто сонного. Включаю внутренний слух, подстегнутый адреналиновой волной. И вдруг ощущаю, что скрежет каменных дисков под моими ногами… почти неслышный, скорее ощущаемый диафрагмой, чем ушами… он становится рваным, замедленным.
Я потею. Я горю в пламени ада, высыхая в считаные мгновения.
Все невольники внизу, в гараже, в месте, где должно состояться нечто страшное и необычное. Одетые в иссиня-черные костюмы и белые сорочки, с узкими галстуками на груди. Женщины в черных платьях с белыми оборками. Мне начинает казаться, что мы готовимся к экранизации одного из произведений Агаты Кристи.
Завершаются последние приготовления.
Карлики переодеваются в античные одежды и доспехи, помогают друг другу затянуть ремни и застегнуть пряжки. Себастиан по-прежнему умиротворяет собак одним своим присутствием. Марина убегает на кухню. Хозяев пока нет, лишь прилетает минут десять назад Колюнечка, взвинченный до предела, а за ним приходит и недовольная мама. Мальчишка одет в крохотный пиджачный костюмчик, светло-бежевый, нарядный и приторный в равной степени.
Голосит:
– Рыцари, настоящие рыцари!
Бросается к маленьким людям. Что-то спрашивает, хватается пухлыми ручонками за оружие и шлемы. Коренастые мужики смотрят с укором, недовольно; кто-то крестится, кто-то хватается за необычные амулеты, но возразить хозяйскому дитяте никто не спешит. Лишь подбирают брошенные доспехи, брезгливо протирают заляпанные клинки кусочками кожи.
Кеты или кем бы они ни были – совсем не безымянные водилы, одурманенные чарами и деньгами. Они здесь – по собственной воле, сделав опасный выбор и точно зная, на что идут. Теперь даже я могу вычислить, кто из малышей в усадьбе впервые, а кого происходящее совсем не удивляет…
Алиса – шикарная, словно только что с глянцевой обложки, с изящно уложенными волосами и в тонком легком платье цвета морской волны – силой оттаскивает сына от карликов.
Что-то негромко говорит, заставив мелкого утихнуть. Придирчиво осматривает гараж, изменившийся до неузнаваемости. Величественно кивает прислуге, то есть нам. Перекидывается с Эдиком парой слов, указывает пальцем на Гитлера и удаляется, звонко стуча высокими каблуками…
Я не верю в то, что собираюсь сделать. Но уже почти готов к осуществлению плана.
Перед тем как все начнется, мы должны поесть. Никто, даже нечеловеческие выродки, не хочет иметь за спиной лакея, истекающего слюной, пока господа изволят вкушать деликатесы.
– Первыми идут Денис, Валентин Дмитриевич и Виталина Степановна, – распоряжается Эдик. – Дайте Марине сигнал, ужин уже должен быть готов. Ешьте быстрее, у вас двадцать минут. Второй партией перекусят остальные и я.
– Я не сейчас, – говорю это, искренне надеясь, что тотчас же произойдет разоблачение. Что нестерпимому нервному напряжению придет долгожданный конец. – Пока не хочется.
Хочу быть с Эдиком, как бы по-гейски это ни звучало. Хочу быть с ним перед тем, когда он пойдет вертеть. Не знаю, получится ли у меня, но я буду биться до последнего.
– Хорошо, – с неожиданной легкостью соглашается мажордом, погруженный в свои мажордомские мысли. – Тогда вместо Дениса идет Андрей. Марш-марш, совсем скоро начинаем.
И уходит общаться с карликами, отвечающими ему скупо и хмуро. Те уже не разговаривают между собой. Друзья и приятели в долгой дороге, сейчас они готовятся стать чем-то иным, безжалостным и враждебным друг к другу.
Мы остаемся в гараже наедине с Пашком. Наедине, если не считать нашего надсмотрщика, дюжину низкоросликов в древнегреческих доспехах, Гитлера и семерых четвероногих, поскуливающих внутри переносок.
Бесцельно бродим вокруг стола, поправляя и без того идеально разложенные столовые приборы. Пузырек с «Зажигалкой», синтезированной из самой безобидной бытовой химии, жжет мне карман. Одергиваем портьеры, чьи складки не удовлетворяют наш художественный вкус. Проверяем температуру на электронных дисплеях кейтеринговых термоконтейнеров и банкетных тележек. Вижу, что торчка подмывает поинтересоваться, нашел ли я его зелье, но он мужественно молчит.
Меня же ежеминутно тянет взглянуть на часы. Чтобы узнать, как скоро кончится время, отведенное на ужин первой группы. Чтобы решиться на то, на что у меня пока еще хватает духу.
Пашок, впрочем, мою нервозность воспринимает совершенно иначе.
– Успокойся, братюня, – негромко советует он, даже умудрившись подмигнуть. В костюме и при галстуке щуплый парнишка смотрится нелепо и отталкивающе. – Что бы сегодня ни произошло в этих стенах, нас это не коснется. Проверено, нах.
Я хочу, чтобы его слова оказались пророческими. Хочу, чтобы приближающееся окутало нас всех ураганом ярости и обреченности. Вместо этого подставляю Особняку прогнившую изнанку своей души и отвечаю как можно равнодушнее:
– Да мне, в сущности, наплевать. Просто мелкие напрягают. Натуральные пигмеи.
– Кто-о? – с недовольством от собственной ограниченности тянет мой собеседник.
Не отвечаю, все же осмелившись взглянуть на часы, купленные еще с первой зарплаты.
– Пора ужинать. Я через кухню. Встретимся в казарме.
Он поднимает бровь, но уточнять не торопится.
В подвал через западную дверь входят Покер, Чума и старуха. Заметив их, Эдик решительно кивает.
– Освобожусь через пару минут, – говорит он мне. Взмахивает планшетом, будто отгоняя муху. – Идите, ешьте, я догоню.
Мы идем, да.
Пашок – через ту же западную дверь. Я – через юго-восточную, на лестницу, ведущую в недра дома. Умоляя судьбу дать мне шанс. Умоляя Марину ждать сигнала и не спешить с подачей еды через лифт. Умоляя себя поспешить. Если Эдик и замечает, что мы с торчком разделились, он никак не реагирует, и я прыгаю на ступени.
Впервые я бегу по Особняку.
Запоздало пытаюсь сообразить, как живой дом отреагирует на мою суету. Но опасения излишни – как и его обитатели, усадьба слишком занята предстоящим праздником, сути которого я не понимаю. Ступени мелькают, каждая вторая обещает падение и разбитое лицо. Но до кухни я все же добираюсь целым. Быстро.
Несколько секунд стою перед двустворчатой, почти ресторанной дверью.
Перевожу дыхание и придумываю, что делать дальше. А затем понимаю и вхожу.
Коричневые капли
Влажно, жарко.
Обалденно пахнет недавно приготовленными блюдами, часть которых еще лишь приближается к своему появлению на свет. Работают сразу две вытяжки, но в просторной современной кухне – вотчине Феклистовой – все равно излишне тепло и сыро.
Сама она носится от одного стола к другому, завершая порезку и нарубку, помешивая, подсыпая, подливая и пробуя на вкус. Готовые блюда, большая часть которых будет лишь отведана, а потом отдана на доедание в подвал, составляются в термошкафы, которые еще предстоит спустить вниз. Марина похожа на ожившую шахматную фигуру, и я вдруг замечаю, что черный цвет платья весьма привлекательно ее стройнит.
– Матерь божья, Диська! – Женщина замечает меня, от неожиданности чуть не уронив ложку. – Ты чего тут?
Голос ее нарочито строг и дрожит от напряжения. Но повариха неспособна скрыть, как щеки начинает заливать румянец. Губы краснеют, глаза блестят. Она замирает, как зверек в свете прожектора, и неотрывно смотрит на меня, пытаясь угадать.
– Эдик прислал? Случилось что? – Ее попытки пробить броню моего появления смешны и предсказуемы. На что, да буду я проклят за это, и расчет. – Иди быстро в подвал, я сейчас остальные ужины отправлю. – Тухнет и теряет уверенность с каждым произнесенным словом. – Или что-то случилось? Из графика выбиваемся?..
Делаю несколько шагов вперед.
Меня потряхивает. Но это, как и чуть раньше, совсем не боязливая дрожь. Это возбуждение человека, осознавшего скорую кончину. И приготовившегося к заведенному природой ритуалу оставления предсмертного автографа…
– Вовсе нет, – отвечаю негромко и загадочно, кусая губу и посматривая искоса. Не могу оценить свои театральные способности со стороны. Но сейчас я играю лишь наполовину, а потому Марина реагирует вполне ожидаемо – вздрагивает, судорожно втягивая влажный воздух. – Просто все заняты, вот и выбрал минутку…
– Ох, Денис… – выдыхает она.
Все еще цепляется в блестящую стальную ложку, будто это троллейбусный поручень.
Приближаюсь, через завесу запахов готовки ощущая аромат бесхитростных духов. Придвигаюсь, стараясь не считать ускользающие секунды. Стою почти в упор, глядя ей в глаза, и говорю чистую правду:
– Ты ведь тоже это почувствовала? – Ее взгляд перемещается на мои губы, дыхание продолжает учащаться. – Что-то в воздухе? Что-то волнующее, да? Нечто, что заставляет делать глупости, да? Ну, признай?
Протягиваю руку и осторожно, боясь спугнуть, глажу ее по щеке.
Чувствую жар кожи, ее дрожь, ее нерешительность и страх. Она стискивает зубы и чуть слышно стонет. Конечно, она чувствует. В преддверии праздника дом словно испускает феромоновые потоки, заставляя обитателей терять головы и отдаваться дикому азарту, итогом которого станет кровь. Другой рукой осторожно вынимаю ложку из ее пальцев, откладываю на варочный шкаф.
Выдыхает чуть слышно, закрывая глаза и приоткрывая рот:
– Да…
Она хотела слишком долго. И именно этим я намерен воспользоваться. За ее спиной, еще не накрытые крышками, в теплой зоне готовки стоят три тарелки с легкими ужинами для меня, Пашка и Эдика. И три высоких стакана, в которые налит морс.
– Времени очень мало.
Больше я не говорю ничего. Целую ее, как моряк после плаванья – любимую жену. Жадно, долго, в упоении. Мну, обнимая за узкие плечи и широкие бедра. Прижимаю к себе и вдруг понимаю, что мне почти не приходится себя заставлять. Она тает, вцепляется и хватает так, будто хочет оставить по всему телу как можно больше синяков. Постанывает, превратившись в податливый пластилин.
Срываю с нее фартук и разворачиваю к себе спиной.
Толкаю вперед. Задираю юбку, нащупываю горячее бедро. Завожу ее и завожусь сам. Марина стонет громче, упирается рукой в каменную кромку разделочной доски. Где-то справа в кастрюле булькает, закипая. Балансируя на одной ноге, она стягивает влажные трусики. Вместе с трусами спускаю брюки до колен.
Не вижу ее лица, но знаю, что глаза по-прежнему закрыты. Хоть чье-то ожидание оправдается в полной мере – думаю это и толкаю себя вперед.
Все происходит очень быстро. И я, едва ли не впервые в жизни, этому очень рад. Происходит напористо, болезненно, громко и с рычанием. Кипит вода, шкварчит в сковороде масло, большие часы над дверью тикают вдвое медленнее нашего ритма.
Едва ощущая приближение финала, я выхожу. Властно, одним банальным порнографическим жестом разворачиваю ее за плечо. Заставляю опуститься на колени. Она покорна, готова на все, падает вниз, подставляет лицо и широко открывает рот.
Но я бью на одежду. Плечи, грудь, живот, затянутые в цвет дирижерского фрака. В цвет зависти. Цвет огромного зонта, под которым так уютно вдвоем пережидать ливень.
Черное окрашивается густыми белыми потеками, и я едва удерживаюсь, чтобы не расхохотаться. Марина стонет, продолжая ловить капли губами. Ее левая рука где-то под юбкой, не оставляет попыток догнать меня, слиться в едином рывке.
Отстраняюсь.
Дышу тяжело и надрывно. Такую же свинцовость испытываю на душе, уже не принадлежащей мне. Феклистова, все еще стоя на коленях с закрытыми глазами, проводит указательным пальцем по щеке. Кладет в рот и посасывает. Она похожа на просыпающуюся, еще не до конца стряхнувшую сон…
Поднимается, пошатываясь и придерживаясь за край тумбы. Открывает осоловелые глаза и смотрит на меня. Смотрит с такой нежностью, что мне вдруг хочется ударить ее по лицу. Закричать, обматерить, выгнать прочь.
Но я лишь улыбаюсь.
– Ох, Денис, – повторяет Марина, наконец заметив липкие потеки на блузке и юбке. – Я же вся в тебе…
– Не сдержался, прости. – Надеюсь, смех уже не пробивается в моем голосе.
– Дурак! – беззлобно причитает она, вздыхает. Затем спохватывается, оборачиваясь к печке. Переключает режимы, сдвигает сковороду в сторону, качает головой. – Ох, не успею… – Смотрит на меня, на перемазанную одежду, прикусывает губу. – Присмотришь?
Натягиваю штаны. Отвечаю искренне – этого я ждал бесконечные три минуты:
– Конечно.
Объясняет, где что помешать и где переключить, если закипит. Куда чего насыпать, где пока крышку не трогать. Что именно достать из холодильника через десять минут и поставить на теплую плитку.
– На двойку включай, не больше, – распоряжается она напоследок. Убегает, на ходу оттирая белое мятым фартуком.
Остаюсь один.
Если не считать дома, который за мной присматривает. Или нет? Или сейчас у него куда больше хлопот, чтобы обращать внимание на одного из своих потерянных, падших ниже некуда слуг?
Лезу в карман, нащупывая склянку.
Леденею, вдруг представив, что во время секса та могла выскользнуть и разбиться. Но вот пальцы хватают что-то цилиндрическое, холодное, гладкое. Трясущимися руками держу пузырек перед собой. Бросаюсь к подносам с ужинами, чуть не опрокинув на себя сковороду с шипящими на ней запанированными кусочками мяса.
Беру стакан с морсом, ставлю перед собой. Открываю крышку колпачка, чуть не ломаю ноготь. Стараюсь не втягивать резкий мускусный запах. Замираю, пытаясь понять, сколько капель «Зажигалки» требуется влить для достижения нужного эффекта…
Вздрагиваю, вдруг представив, что в этот самый момент Эдик крутит каменные диски, вдыхая в стражника новый заряд, и плещу через край. Почти половину приготовленного Пашком. Закрываю склянку и прячу в кармане. Теперь обратного пути нет.
Перемешиваю, нюхаю. Пахнет брусникой и малиной, так и подмывает сделать глоток.
Смотрю на дверцы лифта. Решение приходит молниеносно.
Кухонным ножом, едва не полоснув по пальцу, вскрываю крышку пульта управления. Подцепляю первый попавшийся проводок, перерезаю одним движением, и снова ставлю пластмасску на место.
В висках стучит так, что я не слышу звуков готовки. Задыхаюсь, меня тошнит. Опустошение после звериной случки превращает мышцы в кисель, а кости – в вафельные трубочки, готовые подломиться под тяжестью тела.
Выдергиваю из тумбы двухуровневый темно-коричневый поднос с хромированными П-образными ручками. Составляю на него тарелки и стаканы. Морс с «Зажигалкой» стараюсь не упускать из виду ни на секунду. Словно кто-то способен подменить его, передвинуть и смешать все мои планы.
Тяжело, но я справляюсь. Как когда-то асфальт, теперь сил мне придают злость и неукротимое желание довести дело хоть до какого-то финала. Иду в подвал, ногой распахивая створки кухонной двери.
Все будет так, как я задумал.
Впрочем, мне уже все равно, и продолжать действовать не мешает даже гудящая рана на спине.
На лестнице встречаю Марину, уже сменившую платье. На ходу застегивая пуговицы на боку блузки, она замирает. Недоуменно осматривает поднос и накрытые жестяными полусферами тарелки.
– Лифт сломался, – поясняю, не дав задать вопроса. – Отнесу так. Ух, и проголодался же я после такого. – И добавляю, чтобы скомкать так и не начавшийся разговор. – Там у тебя пригорает, прости…
Она несется наверх, успев лишь застенчиво улыбнуться. Течет растопленным маслом, клюет на самую топорную, неподготовленную лесть. Предвкушает продолжение, которого не будет. Ничего уже не будет. Или для меня лично, или для нас всех…
В казарменном зале Пашок и Эдик. Последний стоит перед зеркалом в личной отсечке, счищая с плеч невидимые пылинки. Химик бродит по комнате загнанным зверем. Скучает, мается. На кровать не садится, чтобы не помять брюк.
– О, доставка в номер, – говорит он. – А чего, нах, не на лифте?
– Сломался, сука. Да так вовремя!
– Спасибо, конечно. – Он смотрит на створки подъемника, будто желает телепатически убедиться в правдивости моих слов. – Но, братюня, тебя только за смертью посылать…
За ней я и ходил.
Улыбаюсь, устало и почти счастливо. Ставлю поднос на общий стол. Тут же сую в руки Пашка накрытую тарелку и стакан с морсом. Обычным морсом, если я ничего не перепутал.
– Ешь быстрее, опаздываем, – бормочу торопливо и деловито, что недурно сочетается с моим растрепанным видом. – Маринка майонезом устряпалась, видели, наверное? Меня попросила помочь. Эдик, вот, держи.
Едва ли не впервые за время своего пребывания здесь вхожу на его суверенную территорию. Держу в одной руке тарелку. В другой – чуть подрагивающей – стакан.
– Поставь на стол, – не глядя на меня, отмахивается тот. Застегивает пиджак, под которым я угадываю очертания пистолетной кобуры. – Я не голоден. У вас пять минут, затем быстро в гараж, скоро начинаем.
Руки отказываются слушаться, я чуть не роняю ношу. Ставлю в указанное место, лихорадочно соображая, что делать, если старший слуга не притронется к морсу с «Зажигалкой».
Выхожу в общее пространство.
Пашок, нависая над тумбой, стоя наворачивает теплую картошку с котлетой. Приближаюсь, беру третий стакан, делаю глоток. Если я все-таки перепутал, сейчас выпью все до дна, и будь, что будет…
– Ты все время с ним? – невзначай спрашиваю жующего парнишку, киваю в сторону занавески. – Никуда не отлучался?
Щуплый смотрит на меня, словно пытается понять, не закинулся ли я его зельем в этот неподходящий момент. Брови танцуют, будто еще не определились, какому выражению лица больше должны соответствовать. Наконец гримаса замирает в маске сочувствия к буйнопомешанному.
Говорит:
– Нет, почти сразу за мной пришел.
Чтобы скрыть неловкость и страх, вдруг спрашиваю, неожиданно даже для себя:
– А может, ставки?
Пашок не доносит вилку до рта. Не размыкая губ, возвращается к своей мерзотной привычке ощупывать языком зубы и десны, издавать негромкие сосущие звуки. Эдик, оторвавшись от бумаг, выглядывает в зал, меряя меня недоверчивым взглядом.
– Там же сейчас состязания начнутся? – продолжаю с видом лихим и придурковатым. Надеясь, что мое возбуждение будет списано на лихорадочные приготовления к Ирлик-Кара-Байраму. – У меня нынче с деньгами не очень… – Смотрю на Пашка и понимаю, что тот уже совершенно точно забрал деньги из тумбы. Все мои средства, которые уже не нужны. – Кризис, знаете ли. А так хоть отыграюсь вдруг. Эдик, займешь косарик?
Аптекарь все еще выискивает в моих зрачках признаки наркотического опьянения. Хмурится недовольно и пугливо, лижет зубы. Сам наркоман со стажем, он отлично знает, что наркоманам нельзя верить. Никогда. Ни в чем. Но повелся на толстую пачку купюр и теперь определенно жалеет.
Мы танцуем в лодке, несущейся к водопаду.
Мы персонажи картины маслом по холсту, замершие навеки.
– Не занимайся глупостями, Денис.
Дворецкий недоволен, но ворчит без злости. Поправляет бабочку, выходит из-за занавески… Но вдруг замирает, возвращается и берет с тумбы стакан. Свой стакан.
Мне не хватает воздуха, но я все же выдавливаю сквозь побелевшие губы:
– Так все-таки? Эдик, кто там из приезжих самый «сильный» борец? Сценарий рассказывать не прошу, но дай хоть наводку? Пашок, подыграешь?
Тот пожимает плечами, медленно пережевывая кусок котлеты. Старший хмурится. Делает большой аппетитный глоток. Качает головой, будто имеет дело с неразумными детьми. И допивает до дна, отставляя пустую стекляшку на стол.
– Допустим, – смотрит в бумаги, – в этот раз: Беовульф и Секира. Довольны?
– Еще бы! – Я сама лучезарность. Я упоенность жизнью. Я полнейшая удовлетворенность собственным существованием и дальнейшей судьбой. – Пашок, на кого поставишь?
– Да хрен знает, братюня. – Он все еще не уверен. – Беочто? Давай я тогда на Секиру, раз ты воспылал… – И спешно добавляет, снова вскрыв псиную натуру. – Только если просрешь, нах, деньги уже утром, ясно?
– По рукам!
Тяну ладонь, холодную, как у утопленника, и такую же мокрую от пота. Он жмет мои пальцы, все сильнее убеждаясь, что что-то не так. Я допиваю морс, отодвигаю нетронутую тарелку. Постоянно наблюдаю за Эдиком, который движется и разговаривает вполне обыденно и нормально. Пашок, доев, задумчиво смотрит на мою порцию.
– Не хочу, – отвечаю я, перехватив взгляд. – Живот крутит, сил нет. – Воротник рубахи душит, галстук превратился в змею. – В сортир бы успеть… Ты иди, я следом.
Едва произношу это, как вдруг понимаю, что сейчас действительно наложу в штаны. От скопившегося напряжения, нереальности происходящего и страха быть разоблаченным. Сжимаю ягодицы так, что в щель не просунуть и иглы. Сдерживаю рокотание в желудке, но его протяжный звук делает мои слова весьма правдоподобными.
Эдик внезапно возвращается за занавеску. Подходит к зеркалу на стене. Наваливается, опираясь на раму локтем – близко-близко, почти касаясь стекла носом, как будто собрался давить прыщ. Поднимает очки на лоб и внимательно рассматривает собственные глаза, оттягивает нижнее веко.
– Ладно, – тянет Пашок. Медленно – слишком медленно, направляется к двери. Ухмыляется, качнув подбородком и насмехаясь над урчанием моего желудка. – Давай, братюня, подол там себе, нах, не обгадь.
Скалится, оправляет галстук и выходит прочь.
– Эдик? – зову я, едва закрылась дверь. – А Беовульф точно сильный боец?
Тишина.
Разрезая ее шелестом одежды и шуршанием подошв по ковролину, я иду за занавеску.
– Эдик? Нам пора…
Тишина.
Мажордом стоит, уставившись в собственное отражение. Планшет с бумагами лежит возле ноги. Зрачки – булавочные головки. Если бы торчок вышел из подвала минутой позже, обязательно бы заметил его приход.
Кожа Эдика посерела, дыхание стало замедленным, старческим.
– Что это было? – спрашивает тихо. Цепляется за меркнущее сознание. Собирает в кучу остатки умения связно излагать мысли. – Что ты мне дал?
– Ничего, – говорю я. – «Зажигалка», – говорю затем, не испытывая ни удовлетворения, ни победной эйфории. – Ты бы прилег?
Он тянется к отвороту пиджака. Оказываюсь рядом, подхватываю его – мягкого и управляемого, словно сонное дитя.
– Не волнуйся, – шепчу заботливо и негромко. – Тебе нехорошо. Но я справлюсь, сделаю все за тебя. Ты ведь объяснишь, что нужно делать?
– Так нельзя, – бормочет он, уплывая все дальше и дальше. Туда, где хорошо. Туда, где маленькие мальчики не пьют кровь убитых лошадей, а женщины оставляют на паркете красивые, самые обыкновенные следы своих миниатюрных ножек. – Камни… Круги… Ты ведь понимаешь… Они такие беспомощные, не могут прикасаться…
– Не волнуйся, не волнуйся, – я словно бабка, баюкающая внука. Кладу его на кровать, не позволяя дотянуться до пистолета. Это несложно. – Все сделаю сам, ты только расскажи, ладно?
– Он у себя… – бормочет престарелый педераст, блаженно улыбаясь. – Понимаешь? Ему нельзя вниз, собаки будут пугаться… не смогут выступать… Но его нужно разбудить… Без него мы в опасности…
– Сделаю, обещаю, – ласково вру, незаметно нащупывая пульс. Переворачиваю старика на бок, ослабляю бабочку на шее. Если я перестарался, сейчас главный слуга отойдет в мир грез на волнах самого шикарного трипа. – Что нужно делать?
– Состязание… бумаги… там таблица, турнир, вызывай поименно… – он икает, и тут же смеется над этим. – Проигравших уносят другие участники… собак тоже они… те, кто пока не дерется… – Снова икает и снова хихикает, рассматривая ладонь. – Ох, что-то мне нехорошо. Я полежу тут недолго, ладно? Дисечка, разбуди меня через шесть минут, ладно?
– Конечно, дружище, – говорю я, осторожно вынимая из его кармана связку ключей от почти всех дверей усадьбы. Затем достаю из подмышечной кобуры пистолет. Тяжелый кусок смертоносного металла, который сую себе за пояс. Позвоночнику холодно. – Все сделаю в лучшем виде. Помнишь, я же репетитор? А мы очень-очень умные, да.
На миг его глаза стекленеют, и я понимаю, что перестарался.
Но вот взгляд снова смещается на меня, и губы продолжают шевелиться:
– Костик? Ложись ко мне, уже поздно… мне так холодно…
Молчу, наблюдая за его угасанием. А затем он вдруг спрашивает, на короткий миг рывком вернувшись в реальность:
– Денис, зачем ты так со мной?
Поднимаясь с кровати, я неспешно застегиваю пиджак и отвечаю:
– Потому что могу.
Скрежет каменных жерновов в моей голове окончательно стихает. Дом замирает в ожидании и тревоге. Но не я причина этого замешательства, а наступающий Ирлик-Кара-Байрам. На миллионный город обрушилась ночь – чтобы понять это, не нужно смотреть на часы.
Вынимаю из кармана склянку с остатками «Зажигалки».
Жидкость внутри пузырька коричневая, словно полированная гладь гроба. Словно карие глаза любимой женщины. Будто цвет дерьма. Выдержанный коньяк. Хороший ароматный табак. Ее загорелая, смуглая кожа, по которой так приятно скользить руке.
Раздумываю, не оставить ли себе, если дело пойдет наперекосяк.
Ставлю на прикроватную тумбу, вздрогнув от глухого стеклянного стука.
Обойдусь. Справлюсь. Выдержу.
Хотя теперь остается самая сложная часть.
Я успеваю в тот самый момент, когда Алиса начинает нервничать. А может, даже что-то подозревать. Сталкиваюсь с ней в проеме западной двери – хозяйка отправилась лично посмотреть, отчего задерживается ее самый верный пес.
– Эдуард отправился вниз, – беззастенчиво вру я экспромтом, закрывая за собой створку и входя в гараж. – Но затем ему придется ненадолго вернуться в постель. Нездоровится, еле на ногах стоит. Наверное, желудочная инфекция. Едва до туалета, простите, успел… Да на него смотреть страшно, поверьте!
И тут же доверительно добавляю, едва ее идеальные брови удивленно лезут на лоб.
– Поручил мне его подменить, – поднимаю пластиковый планшет с бумагами, словно неопровержимое доказательство. – Все объяснил, все рассказал. Я справлюсь, Алиса, поверьте.
Она смотрит на меня.
Безмолвствует, раздумывает над человеческими слабостями.
Взвешивает, насколько я могу быть лжив или правдив. Взвешивает все обстоятельства, заставившие мажордома расстаться с заветной папкой. Гадает, мог ли я сам сочинить историю о том, что Эдик потопал на нижний уровень, или это действительно так.
Спокойно выдерживаю взгляд, холодея мыслями. Пашок, уже занявший положенное место за стульями семейства, нашего разговора не слышит. Но чувствую – он тоже заинтересованно наблюдает.
Алиса спрашивает:
– Справишься?
– Справлюсь. Тут сценарий, список участников и последовательность выступлений.
Я совсем не лгу, успев по диагонали просмотреть большую половину листов. Старый манерный хрыч сам облегчил мне работу – благодаря его педантизму, страницы пестрят доходчивыми таблицами и графиками, вплоть до расписанного хронометража. Продолжая держать их перед собой, спешно добавляю:
– Насколько понимаю, самое время начинать.
Она не отвечает. Молча уходит за стол, цокая каблуками и покачивая идеально круглым задом. Наверное, я должен испытать возбуждение. Или хотя бы интерес. Но не испытываю ничего. Прохожу к клетке, на дальней стороне которой в раздевалочном загоне столпились карликовые «рыцари».
И наконец-то осматриваюсь.
Кольцо софитов включено, подвальный гараж затоплен ярким неживым светом. В меру прохладно, в меру тепло. Едко пахнет псиной, по́том, кожей и страхом, а поверх этого плывет аромат блюд, вынимаемых Мариной из кейтеринговых шкафов.
Слуги за высокими спинками стульев – вне светового круга, похожие на призраков, каковыми и являются. Придется Андрею сегодня постараться вдвойне: я должен был стоять по левую руку от него, так что теперь Покер – настоящий Труфальдино.
Осознав, что я не намерен присоединяться к остальной прислуге, Пашок делает круглые глаза. Показываю ему кольцо из большого и указательного пальцев, тут же отвожу взгляд.
Семья уже здесь, в полном сборе.
Занимают одну из длинных сторон стола, спиной к гаражным воротам, лицом на юг – к арене. Крайним справа сидит на своем колесном троне Петр. Чтобы спустить его тушу в подвал, наверное, пришлось поднимать одну из ребристых створок. Сбоку от него Жанна, ослепительно-холодная, невозмутимая. Заметив меня возле клеток, она поднимает бровь, вопросительно смотрит на дочь, но та успокаивает ее кивком.
В центре – Константин. Кажется, он одет в дорогой костюм-двойку. Или брюки с рубашкой. Кажется, на нем галстук. Или шарф. И я по-прежнему не могу ни рассмотреть, ни запомнить его лица. Жует фисташки, деликатно подхватывая их темно-желтыми щипчиками из большой керамической чашки.
Справа от хозяина дома мальчишка, беспрерывно ерзающий на стуле. Длинные белые скатерти касаются серого пола, но я готов поспорить, что Колюнечка нетерпеливо болтает ногами. Замыкая линию, свое место занимает Алиса. Она все еще недоверчиво косится на меня. Посматривает на браслет часиков, до сих пор борется с желанием пойти в казарму и проведать Эдуарда…
Сверкает хрусталь, блестят начищенные столовые приборы, изготовленные из лучшей в мире стали, льется в бокалы вино. Марина беззвучной птичкой порхает вокруг стола, разнося первые блюда – некие изысканные салаты порциями в столовую ложку.
Поденщики, обряженные в лакеев, подливают, подносят, подхватывают мусор.
Себастиана нет, и я понимаю, что одержал первую победу. Также понимаю, почему семья убрала его из подвала – в отсутствие Гитлера собаки в клетках натурально звереют. Рычат, скребут когтями прочные дверцы и глухо тявкают, клацая зубами.
Перевожу дыхание, рассматривая карликов. Видно их плохо – мешают сетка и полумрак, скрывающий раздевалку. Но я все равно замечаю напряженные скуластые лица, холодный блеск глаз, отсветы потолочных ламп на бронзе кирас.
Заглядываю в бумаги, судорожно перелистывая до краткого сценария. Но Константин меня опережает. Неспешно встает, Чумаков услужливо отодвигает тяжелый стул. Поднимает узкий бокал с вишнево-красным. Хозяин обращается ко всем сразу и ни к кому конкретно, едва ли не впервые на моей памяти произнося членораздельно и не склеивая губ:
– Войдем в Ночь Перевернутого Солнца!
И еще:
– Начнем еще один год под именем Кара-Ирлика!
И еще:
– Восславим нашего покровителя!
Затем Константин добавляет несколько певучих фраз на незнакомом языке. Шершавом языке, когтистом и голодном. Каждое слово – будто кто-то волочет по бетонному полу огромный ржавый плуг. Каждый выдох, словно где-то в мире отлетает, отмучившись, душа тяжелобольного. Каждый напев – как погребальная молитва, которую слышишь, очнувшись в заколоченном гробу…
Дом стонет, и это не метафора. Он гудит и постанывает, и где-то над нашими головами сейчас сходят с ума кованые флюгеры. Усадьба сотрясается, как при оргазме. Утихает.
Я не понимаю, о чем говорит владыка Особняка.
Но мне становится жутко настолько, что я едва не бросаю планшет, чтобы выхватить из-за пояса пистолет и спешно пустить себе в рот пулю. Остальные шокированы не меньше, но держатся – только Андрей побелел, превратившись в сжавшегося мелового человечка.
Карлики ведут себя по-разному: кто-то оцепенел, кто-то равнодушно смотрит в пол, кто-то бормочет и закрывает уши руками. Собаки беснуются, грозя развалить крепкие пластмассовые переноски.
Константин делает глоток, садится на место. Бокалами и стаканами ему салютует все остальное семейство. Алиса дает мне знак, многозначительно постучав ногтем по звонкому хрусталю. Пора начинать…
Вспоминаю все, что знал о спортивных мероприятиях, если таковое можно окрестить именно так. Вспоминаю ведущих на боксерских поединках, хоккейных комментаторов и распорядителей цирка, в который меня несколько раз водили в детстве.
И говорю самое глупое, что могло прийти на ум:
– Дамы и господа…
Жанна улыбается одними губами, одновременно забавляясь моей нелепостью и жалея. Петя широко скалится, удержав хохоток, а Колюнечка начинает хлопать в ладоши. Кажется, он тут один рад, что состязания доверено вести мне, а не Эдику.
– Начнем, с вашего позволения, – бормочу я, мысленно подвывая, – решительный душевный настрой на драку улетучивается, как пары эфира. – В честь хозяев этого дома… в честь праздника… – Смотрю на заготовки, распечатанные старшим лакеем. Но строки скачут и никак не хотят состыковываться в осмысленные предложения. – Пусть прольется кровь и сильнейшие победят в честь Черного Ирлика…
Константин на мое замешательство взирает равнодушно. Алиса – с плохо скрываемой неприязнью. Петр определенно забавляется, как и Жанна, а мальчишка продолжает хлопать. Шлепки разлетаются по гаражу, мешая сосредоточиться. Щеку заливает пот, и я принимаю решение перелистнуть страницу.
– Пусть в первом бою, как в том распорядились гадальные камни, – читаю, совершенно не вникая в смысл написанного и произнесенного, – сойдутся славные воины Красная Ладонь и Разрезатель… – Мой голос постепенно выравнивается, я начинаю снова владеть собой. Плечи Алисы облегченно обмякают. – Прошу на арену, воители! Пусть победит сильнейший!
Теперь я даже немного импровизирую.
Держусь чуть свободнее, хоть во рту и пересохло, словно на Марсе. Воодушевляюсь, пытаясь лихорадочно сообразить, что делать дальше. Надеюсь, что первое показательное выступление затянется хотя бы на пять минут и я окончательно приду в себя.
Насчет сути происходящего я все еще не догадался, но ответ близок…
Открыв калитку, в неровный круг ристалища выходят двое карликов.
На обоих глухие железные шлемы с гребнями из конского волоса, полуобнаженные торсы прикрывает легкая кожаная броня. Один – у него на наплечнике отпечаток багровой пятерни – вооружен небольшим щитом-баклером и мечом. Второй собирается драться двумя мечами, в которых при желании можно угадать римские гладиусы. В руках коротышек даже самое миниатюрное оружие смотрится весьма грозным и соответствует пропорциям…
– Пусть бой начнется, – командует Константин, и бойцы клинками приветствуют его сквозь мелкую сетку ограды. – Во славу покровителя…
Маленькие люди кланяются друг другу. Начинают кружить по арене, проигрывая сценарий, уже раз пятьсот откатанный на многочисленных корпоративах. Я все еще не врубаюсь, потому что мысли заняты иным.
Внимательно смотрю на хозяев.
Они успокоены, все вернулось в привычную колею – едят, лениво болтают, подставляют слугам опустевшие бокалы. Алиса улыбается. Кивает, поддерживая, и даже делает в мою сторону легкий салют вином. Я улыбаюсь в ответ, ощущая лицо резиновой маской. Дом должен понять, что не ошибся в моем выборе. Не зря сохранил мне жизнь и разум. Потому что Эдик немолод, и через несколько таких вот Перевернутых Новых годов ему обязательно потребуется замена…
Звенит металл.
Перевожу взгляд на карликов, носящих грозные театральные имена.
И только сейчас соображаю, что в стенах этого дома недопустимо никакое постановочное действо. В стенах Особняка, заживо пожирающего людей, лошадей, надежды и оранжевые грузовики. И карлики, привезенные на Ирлик-Кара-Байрам, дерутся по-настоящему…
Пораженный, отступаю в тень, но внимание всех без исключения присутствующих теперь приковано к схватке. Маленькие люди крутятся и вертятся, осыпая друг друга градом ударов, и на бетон уже брызнула первая кровь. Константин поднимает бокал, его сын вопит и аплодирует. Петр самодовольно лыбится. Женщины непроницаемы, но смотрят неотрывно.
Я зачарован. Не могу поверить. Не хочу наблюдать, но приходится.
Они действительно убивают друг друга на потеху хозяевам, словно древние гладиаторы. Вспарывают вены в честь Черного Ирлика, кем бы он ни был. Действительно наполняют вечер кровью.
Разрезатель проигрывает.
Спотыкается, отшатываясь и не успевая прикрыть левый бок, и его соперник тут же достает Разрезателя колющим в почку. Карлик падает, как подкошенный, клинки с лязгом летят по бетону, высекая искры. Он рушится на четвереньки, стоит буквально секунду и тяжело опускается на пол.
– Победил Красная Ладонь. – Мои губы шевелятся, изо рта вылетают слова, но я их совсем не контролирую. Распоряжаюсь, словно всю свою жизнь занимался гладиаторскими боями. – Пусть соратники унесут тело! Присыпьте кровь песком. Приветствуйте победителя схватки!
Семейство хлопает в ладоши – кто-то искренне, кто-то лениво и рассеянно.
Константин вскидывает бокал в честь выжившего. Марина спешит вокруг клетки, пополняя запасы питья, положенные низкорослым бойцам. Ладонь получает из ее рук огромный кубок разбавленного вина. Мои глаза впиваются в сценарий и турнирную сетку, где проставлена очередность поединков.
На лужу крови Разрезателя бросают несколько щепоток песка. Труп кета уносят, уложив за лавкой и начиная осторожно раздевать. Только сейчас я замечаю несколько плотных мешков из черного полиэтилена, заведомо приготовленных карликами…
Двое маленьких людей, получивших указания домоправителя еще до начала праздника, направляются к звериным клеткам. Выискивают нужную табличку с именем. Ни один, ни второй не обращают никакого внимания на рычание и вой, доносящиеся изнутри. Хватают переноску за ручки, тяжело волокут к арене. Плотно прижимают дверцу к дверце и выжидающе смотрят на меня, обязанного подать сигнал.
– Второй бой, – говорю я, выходя под яркие лучи софитов и невольно жмурясь. Читаю бумаги Эдика сквозь подступающие слезы, все чаще задумываясь о пистолете. – На арену вызывается воин Секира, решивший испытать удачу в поединке с одним из самых опасных питомцев – пятилетней сукой Нагайной!
Секира коренастый, широкоплечий. Без шлема, с короткой косичкой на затылке. Выскакивает на ринг легко, будто танцуя. На нем короткая односторонняя кираса, наручи и поножи из желтого металла. Он салютует сородичам, хозяевам, двум коротышкам возле клетки с собакой. Вооружен гладиатор короткой алебардой; на бедре, прихваченные ремешками, виднеются ножны кинжала. Раскручивая оружие над головой, кет начинает кружить по арене, заводясь перед схваткой и заводя остальных.
Константин кивает, его жест машинально повторяю и я.
Открыв задвижку, маленький человек выдергивает вверх съемную дверцу пластиковой будки. В следующую секунду на арену вываливается здоровенный черный ротвейлер. Морда перепачкана в липкой белой слюне, и ее потеки заставляют меня метнуть невольный взгляд на Марину. Зубы оскалены, лапы широко расставлены. Зверь приходит в себя, привыкает к яркому свету, рычит и осматривается.
Бойцовский пес.
Не просто из-за породы, а по накачке и воспитанию. Намеренно взвинченный перед перевозкой, готовый убивать все, что встанет на пути…
Секира не спешит атаковать.
На фоне его роста ротвейлер выглядит настоящим чудовищем. Пустынным львом из числа тех, что рвали римских невольников в кругах гладиаторских амфитеатров. В очередной раз поражаюсь извращенности сознания тех, на кого работал все лето. Не могу поверить, что все происходящее – правда, и мне придется с этим что-то делать…
Кет дает Нагайне время сориентироваться в пространстве, выбрать цель. Та бросается на сетку, сначала не заметив преграды. Рычит, мотает башкой.
Петя тонко хохочет, стучит по подлокотнику кресла пухлым кулаком. Марина подает на стол очередные изысканные салаты. Коленька о чем-то спрашивает маму, и та деловито объясняет, указывая тонкими пальцами то на собаку, то на карлика. Будто на уроке истории или биологии.
Псина воет, замирает на месте. И, наконец, понимает, кто именно является ее целью. Присматриваясь к кручению алебарды, она выбирает момент для броска.
Атакует рывком.
Вопят все – и остяки, ждущие своего часа выйти на бой; и существа, пирующие за столом; и даже слуги – я вижу, как беззвучно разевают рты и потрясают кулаками Пашок и Покер, прячущиеся в тени.
Отступаю в полумрак. Я – единственный, кого не захватывает кровавое зрелище, которому нет оправдания в современном мире. Я – единственный, кто остается невидим, находясь в самом центре внимания.
Делаю несколько шагов к западной двери.
На меня никто не смотрит.
Вынимаю из кармана связку ключей, украденных у мажордома.
Нагайна сбивает Секиру с ног. Запрыгивает на него, рвет лапами, пытается прокусить железный наруч. Карлик выхватывает кинжал. Извивается под тушей, пытаясь сбросить с себя центнер живого веса, колет в бок, но удар выходит смазанным. Рана заставляет суку заскулить, отпрыгнуть, но уже в следующую секунду она снова кидается в атаку.
Трясущимися пальцами я подбираю ключ. Вставляю в скважину, запирая замок. Когда подвальный гараж сотрясает новый взрыв оваций, отодвигаюсь и пинаю в ключ, ломая его.
Теперь пути назад точно нет.
Нагайна побеждает.
Получив пяток колотых ран, она все же разрывает глотку маленькому человеку. Продолжает трясти его тело еще почти минуту, ломая зубы о края железной кирасы. Животное совершенно озверело, но кетам все же удается оттянуть суку от трупа.
Для этого они открывают вторую дверцу пластиковой переноски, дразнят, заманивают внутрь. А затем умело, бесстрашно и ловко захлопывают обе створки одновременно, оттаскивая потяжелевшую клеть от арены. Я холодею, представляя, что произойдет, если хоть один из псов вырвется наружу…
– Мама, это прекрасно! – кричит Колюнечка.
– Браво! – вторит ему Петр, раскачиваясь в кресле.
Алиса улыбается, соглашаясь с обоими. Задумчиво рвет на тонкие полоски белую тряпичную салфетку. Еще раз снисходительно кивает мне через омертвевшие парсеки подвала. Дает понять, что я справляюсь.
Останки Секиры уносят в темноту, еще на ринге завернув в целлофановый мешок – уж слишком растерзан бывший гладиатор, заливая своей кровью все вокруг. Коротышки снова посыпают красные лужи песком. Снова тащат к дверце очередную собачью будку. Нет, не одну… на этот раз сразу три. Составляют торец к торцу, будто вагоны поезда, и я понимаю, что произойдет дальше. Внутри Скорпион, Кусака и Алмаз.
Объявляю двуногих бойцов, которым выпал черед проливать кровь в честь Черного Ирлика. В честь Константина и его безумной семьи. В честь дома, который отнимает души…
На арену выходят Рыжий Гном, Нокдаун и Бритва. У одного сеть и копье, второй вооружен мечом и баклером, в руках третьего двуручный кистень. Гладиаторы приветствуют хозяев, заставляя в очередной раз поразиться безумию, заставившему их по доброй воле шагнуть на это ристалище.
Рассредоточиваются, занимая позиции напротив дверцы, из которой рванут собаки.
Помощники выдергивают дверцы, превращая состыкованные короба в тоннель. На песок, перемешанный с багряным, вываливаются два черных ротвейлера и стаффордширский терьер. Серый, как пепел пожарища, выкосившего деревню. С глазами цвета крови, цвета алой помады на воротнике деловой рубахи.
Смотрю на семейство, ловя себя на мысли:
«До чего же они прекрасны сейчас. Даже я, умеющий видеть лишь тлен, замечаю эту красоту. Пасторальная happy family: сдержанный и серьезный отец семейства, его брат толстяк-весельчак, две изумительные в своем очаровании женщины и милый ребенок. Все они, будто болельщики на матче любимой команды, охвачены азартом и возбуждением. Как раскраснелись их лица. Как блестят глаза. Как сжимаются в кулаки пальцы».
Ловлю себя на следующей мысли:
«Даже если бы я не планировал совершить то, что собираюсь, карлики и псы стали бы последней каплей. Даже если бы Себастиан бодрствовал, а у арены стоял Эдик, вооруженный пистолетом. Я бы все равно попробовал убить каждого из них, чтобы избавить землю от этой падали и мрази».
Начинается яростная схватка, за которой я не наблюдаю…
Рычат псы, кричат маленькие люди в маленьких доспехах греческих и римских воинов.
В момент, когда собачьи зубы смыкаются на человеческой плоти, раздается звук рвущейся наволочки. В момент, когда сталь впечатывается в звериную кость, раздается мокрый щелчок и хруст.
Карлики тяжело дышат, прикрывая друг другу спины и стараясь давить псин поочередно. У одного из остяков уже располосовано бедро. Крайний слева ротвейлер припадает на переднюю лапу, заливая свежепосыпанный песок, у второго выбит глаз.
– Давай, собачка, я за тебя болею!
Крик Колюнечки наполнен детским восторгом и злобным требованием исполнить каприз. Алиса склоняется над сыном, чтобы вытереть соус с его пухлой щечки. Трогательно.
Обхожу гараж по кругу. Вроде бы для того, чтобы налить себе стаканчик морса и ухватить с термоконтейнера пару канапе. На самом деле: незаметно защелкиваю замки гаражных ворот. Вкладываю очередной пазл в картину, которую намерен собрать этой ночью.
Рубаха под пиджаком превратилась в одно большое, вонючее кисельное пятно.
Воздух гаража сгустился, стал вязким и нестерпимо-кислым.
Вижу, как Виталина Степановна, тоже прислуживающая пирующим хозяевам, заламывает руки. Не понять, то ли старуха мучительно переживает за смертоубийство, происходящее внутри арены, то ли охвачена азартом.
Возвращаюсь на прежнее место. Делаю вид, что листаю бумаги. В действительности – кошусь на юго-восточную дверь, последнюю незапертую лазейку из места, которое я намерен превратить в новый круг Ада.
Вводная: сегодня ночью многим предстоит пострадать.
Контрвводная: всем плевать на переживания других. Мне – в том числе.
Дополнительный аргумент: невиновных нет.
Я не могу спасти одну жизнь, предупредив, например, Виталину Степановну, не подставив под удар весь план. Потому – либо все, либо ничего…
Смотрю на трупы, упакованные в целлофан. Смотрю на фиолетовые канистры, спрятанные за раздевалкой маленьких воинов. Какой приятный у них цвет. Будто у подсыхающих чернил стихов, написанных не разумом, а раздираемым на куски сердцем.
Опускаю планшет с бумагами, звонко объявляю победителей.
Мой голос не дрожит, сердце стучит не быстрее обычного.
Все три пса мертвы. Нокдаун не выжил, загрызенный насмерть прямо сквозь кожаный горжет. Бритва едва стоит на ногах. Из его ран вытекло столько, что я готов поставить деньги – парень не дотянет до утра. Относительно сносно себя чувствует только Рыжий Гном. Он и помогает уцелевшему товарищу покинуть арену.
Из двенадцати карликов в живых остается лишь восемь. Из семи бойцовских псов – четверо. Объявляю короткую паузу, пока трупы животных не вытащат с ристалища. Кровь, бегущую настоящими ручьями, уже впору смывать из брандспойта. Смотрю на ее загадочные, неспешные потеки, ускользающие в канализацию. Представляю, как сыто отрыгивает дом.
Марина подает горячие блюда. Остальные помогают ей по мере сил, складируя грязные столовые приборы и выкладывая новые, меняя бокалы и стаканы, обновляя салфетки и тарелки. Гладиаторы-недомерки штопают раны, пьют воду или разбавленное вино и готовятся к продолжению безумия…
Держа планшет перед собой, будто щит, я иду к звериным коробкам. Никогда не боялся собак. Но сейчас меня отчего-то охватывает жесточайший, неуемный страх, приковывающий ноги к полу.
– Держись-ка подальше, – предупреждает один из карликов, подтаскивающих короба к арене. Акцент забавный, рыкающий, очень подходящий к хищному разрезу глаз. – Этим тварям только шанс дай…
– Сейчас выпускаем Нагайну, – осекаю его, нарушая последний приказ Эдика и даже не удосужившись взглянуть в бумаги. Но планшетом помахиваю. – Планы изменились.
– Она уже дралась, – злобно возражает плечистый коротышка, глядит недоверчиво и презрительно. Будто не собирается сойтись в схватке с запертыми в пластике зверьми, а является их любящим дрессировщиком. – И вообще, где Эдуард?
– Не твое дело, – говорю сухо, резко, по возможности властно, и лицо кета вытягивается. – Я вместо него. Исчезни, я должен осмотреть животных и принять решение.
– Мудак, – сплевывает тот, но в сторону отходит. – Что б тебя сожрали…
Собаки, почуяв мое приближение, начинают с новыми силами бросаться на дверцы и рычать. Все четверо, разом, словно самый дикий квартет на свете. Осматриваю задвижки. Осматриваю пространство за спиной. Оцениваю дистанцию, отделяющую псарню от стола и раздевалки.
А затем понимаю, что ждать больше нельзя.
– Денис?! – с недовольством интересуется Алиса, привставая с места и выискивая меня взглядом. – Можно продолжать!
– Хорошо! – с улыбкой – самой настоящей, искренней улыбкой – кричу в ответ. Лицо хозяйки вытягивается, когда она понимает, в какой части гаража я нахожусь. Глаза ее вдруг вспыхивают, как у ночной птицы, угодившей в луч фонаря. – Продолжаем!
Спешно обхожу клетки, втиснувшись между ними и холодной стеной.
Нагибаюсь, почти ложусь на ребристые крыши переносок. Замечаю, до чего же они неестественно яркие и нарядные. Синие, как околыш на фуражке сотрудника НКВД, среди ночи постучавшегося в квартиру…
Переваливаюсь через края. Открываю одну клетку за другой. Псы, почуяв человеческий страх в нестерпимой близости, беснуются все сильнее. Я срываю один замок за другим. Выдергиваю заслонки. А затем упираюсь спиной в леденящую серость бетона. И рывком толкаю клетки вперед, словно делаю самое необычное в жизни упражнение по накачке бедерных мышц…
Мне только кажется, но на короткое мгновение в гараже образуется полнейшая тишина.
Не слышно ни звона посуды, ни разговоров, ни скрипа кожи или лязга металла.
Все взгляды прикованы к нескольким пластиковым ящикам, медленно скользящим по полу в направлении хозяйского стола…
А затем псы вылетают наружу. Обезумевшие, вкусившие крови или только алчущие ее.
И тогда начинается ад, о котором я мечтал!
Первой истерично вопит Марина, с грохотом роняя тяжелую утятницу и обливаясь соусом.
Валька Чумаков подпрыгивает, словно ему дали пинка, и замирает, глядя на западную металлическую дверь со сломанным ключом в замке.
Покер, оборачиваясь через плечо, стонет и машинальным жестом отправляет старенькие очки на лоб.
Пашок соображает чуть дольше других. Его рот лишь начинает отвисать в закономерном, но еще не рожденном вопросе: «Что за херня»?
Алиса становится угловатой. Ее словно нашпиговывает огромными спицами для вязания. В этот момент мне кажется, что сейчас она сбросит человеческую оболочку, приняв истинный монструозный облик. Вместо этого хозяйка хватает со стула Колюнечку, оттаскивая в сторону и заслоняя мальчика собой.
Петя кулем обмирает в моторизированном кресле, будто хочет потерять сознание. Но уже в следующий миг скалится хищной тварью. Отвратительной настолько, что я, даже будучи бойцовским псом, нападать бы не стал.
Жанна брезгливо морщится. Спокойно, будто ничего не происходит, ставит на стол винный бокал, но так, что у того отламывается толстая хрустальная ножка. Я замечаю, какие огромные у нее ногти… когти… нечто, выпирающее из кончиков пальцев… и совсем не завидую собаке, выбравшей ее целью.
Колюнечка сначала рукоплещет и радостно вопит. Затем его сгребает в охапку мать. Он вдруг осознает, что в этот раз иметь дело придется вовсе не с беззащитным пони. Кривится, готовый заплакать.
Константин рывком встает со стула. Два софита над его головой взрываются с резкими, неприятными хлопками.
– Тебе не уйти… – одними губами шепчет он.
Слышу это, даже несмотря на разделяющее нас пространство.
Полумрак, окруживший хозяина дома, густ и непроницаем, словно того осветили из антифонаря, генерирующего темноту. В ней горят алые глаза мужчины, и я успеваю заметить, как один из ротвейлеров со скулежом меняет направление атаки.
Кеты и другие коротышки делятся на две группы. Первая к происшествию не готова совершенно, впадает в панику и бегство. Они пытаются забраться на шкафы, спрятаться внутри арены, убежать от четвероногой смерти. Вторая – в нее входят Рыжий Гном и еще двое неизвестных мне бойцов – подхватывает оружие и готовится к драке.
Виталина Вороновна, подслеповато щурясь, смеется в переплетение теней, скрывающих меня. Словно видит. Словно знает. Словно понимает и одобряет…
Убедившись, что собаки не обернулись против своего освободителя, скольжу вдоль стены. Выхватываю пистолет, хотя и понимаю, что пользы от него наверняка не будет. Прячу обратно, но теперь за пряжку.
Уже перед юго-восточной дверью, взмывая на трехступенчатую лесенку, я нагибаюсь. За спиной крики, рычание, стоны и вопли о помощи, испускаемые кем-то из слуг. Нащупываю замаскированный конец ребристого шланга, пропущенного вдоль стены гаража. Выхватываю из кармана зажигалку, зубами тяну из полиуретановой змеи пробковую затычку. Бросаю шланг на ступени, позволяя горючему свободно вытекать.
Опускаюсь на колено и чиркаю кремниевым колесиком. Главное, чтобы внутри остался воздух, иначе…
Это куда сложнее, чем в фильмах, где для подрыва бензоколонки достаточно спички или искры, высеченной пулей. Это куда страшнее, потому что звуки битвы за моей спиной нарастают, приближаются. Чумаков и Покер пытаются выбить дверь с испорченным замком. Кресло Пети опрокинуто таранным ударом, толстяка терзает питбуль. Старухи не видно, как и Пашка. К двери ковыляет раненый кет. Большего заметить не успеваю…
Выдергиваю из тайника одну из «запальных тряпок», рассованных по многим щелям подвала. Поджигаю ее, занимающуюся охотно и весело.
– Денис!
Алиса стоит на столе среди битой посуды, нежно и заботливо прижимая к себе Колюнечку. Через весь огромный гараж, заполненный мечущимися силуэтами, она смотрит именно на меня.
– Не смей!
Я смею. Еще как смею…
Бросаю промасленный запал на конец шланга. Хлопком и вспышкой пламени мне обжигает руку, а жар я чувствую даже на бровях. Втянувшись в трубку, огонь устремляется к фиолетовым канистрам за раздевалкой карликовых воинов.
Одним прыжком бросаюсь в дверь, чуть не разбив себе голову.
Захлопываю створку, навалившись, чтобы не выпустить раненого гладиатора. Щелкаю задвижкой. Повторять операцию с ключом нет времени и места. Из пустого ведра, загруженного полупустыми бутылками бытовой химии, я вынимаю цепь и навесной замок. Из угла – неприметную железную трубу, припасенную заранее.
Вставляю трубу так, чтобы блокировать дверные ручки. Неловко, неумело и торопливо обматываю конструкцию цепью, пытаясь защелкнуть замок.
В этот момент внутри хлопает. Будто кто-то с пятого этажа сбросил на асфальт трехлитровую стеклянную банку, наполненную гайками. Кажется, ударную волну я чувствую даже через прогибающуюся и треснувшую дверь.
Отлетевшая труба лупит меня точно в лоб. Раскрашивает реальность сиропными волнами розового цвета. Сквозь щели в искореженной жестяной створке бьют пламя и дым, прямо в лицо. Бьют недолго, пока я заваливаюсь на спину, лишаясь чувств.
Особняк начинает скрипеть и стонать, будто готов или рассыпаться, или пуститься в пляс.
С праздником…
Бреду, шатаясь и натыкаясь на углы.
Прижимаю ладонь к окровавленному лбу. Пытаюсь унять поток, но он все еще заливает лицо, слепляет веко, затекает в рот. Кислый, горький. Несущий откровение, не доступное ранее.
Все происходящее вокруг меня… все эти люди… все эти нелюди… Все это – я сам.
Вышагиваю заплетающимися ногами, стараясь не упасть. Второго шанса подняться дом мне точно не даст. Раскачивается и завывает со всех сторон. Имеет надо мной власть. Не имеет надо мной никакой силы.
Все это – я сам. Всю жизнь я убивал себя множеством доступных способов и средств. Этим же занимаюсь и сию минуту. Убиваю образ Константина – себя самого в другой жизни, более обеспеченной и всевластной. Или образ отца, нравоучений или мотивов которого я никогда до конца не понимал. Убиваю образ Алисы – образ матери, безжизненно-красивой, мерзлой, лепящей из меня некую ожидаемую сущность, успешную и увлеченную работой. Например, репетитора…
Отбивая плечи о дверные косяки, тащусь по коридорам первого этажа, вскрывая тайники в кладовках. Вынимая бутылки с легковоспламеняющимися жидкостями. Расплескивая, поджигая. За моей спиной, словно следы, начинают распускаться желто-красные цветы, розы огня, чарующие завихрения пламени.
Я убиваю образ Жанны. Символ ледяного циничного использования людей, собирательную фигуру всех женщин, встреченных мной с той первой ночи, когда я потерял девственность. Впрочем, нет, еще раньше – с самого детства. Убиваю образ Пети – себя актуального, себя в-эту-минуту, самодовольного, обеспеченного необходимым, неспособного самостоятельно ходить или перевернуться с боку на бок, неповоротливого, тяжелого и уродливого.
Напоследок я убиваю образ Колюнечки. Себя маленького, еще не представляющего тягостей взрослого существования; себя кроху, капризного и избалованного. Ненужного, по сути, никому из членов семьи. Кроме чужого дяди, проникшего в дом. Дяди, не сделавшего мне ничего, по сути, дурного. Но оставившего рубец, определивший всю дальнейшую судьбу.
Я убиваю себя.
Я убиваю их всех.
В некоторые бутылки предусмотрительно вставлены тряпичные запалы. Остается лишь чиркать зажигалкой, чудом не потерянной на пороге подвального гаража. И бросать под шторы, в углы, даже в люстры.
Западное крыло охвачено огнем, вытесняющим меня все дальше и дальше. Продолжаю свою монотонную работу. С той же исполнительностью, с которой выгребал прелые листья из водостоков, или натирал паркет, или прочищал канализацию. Отлично понимаю, что несколькими банками с бензином и четырьмя собаками дело не закончить. А потому продолжаю сеять огонь, стараясь не сгореть в нем раньше времени.
Нужно подняться наверх. На втором этаже тоже хранятся бутылки. С бензином, слитым из баков. С горючкой, слитой из генераторов. С взрывоопасными баллонами освежителя воздуха, скотчем смотанными в одну «панфиловскую» гранату.
Дом скрежещет и скрипит. Его корежит в наркоманской ломке начинающегося пожара, он зовет на помощь. Но подмога не спешит, и я точно знаю, что жители соседних коттеджей далеко не сразу заметят, что таинственные барские хоромы охвачены огнем. Таковой будет плата за невидимость и уединение…
Поднимаю бутылку с керосином. Подношу зажигалку к свисающей из горлышка тряпке. Но захрустеть кремнием не успеваю. Меня одергивает голос, властный и надорванный одновременно:
– Ты не посмеешь…
Алиса стоит в проеме за моей спиной. Модное лазурное платье от Maria Grachvogel или Armani обгорело и прикипело к бархатистой коже. Волосы опалены, на левой окровавленной ноге следы собачьих укусов. С предплечья свисает длинный клок кожи, будто кто-то пытался вырезать из нее гирлянду одинаковых снежинок или взявшихся за руки человечков. Один каблук надломлен, заставляя хозяйку хромать.
Отвечаю, убирая зажигалку в карман и вынимая пистолет:
– Я уже посмел, мерзкая тварь…
Она улыбается и делает шаг вперед. Точно знаю, что в следующую секунду чудовище, даже израненное, может оказаться позади меня. Потому без промедления целюсь в красивое, хоть и обожженное лицо, нажимая на спусковой крючок.
Щелчок бьет по натянутым нервам, как кувалда – по струнам рояля.
Печально не разбираться в чем-либо. Я могу среди ночи с легкостью озвучить площадь Нигерии: 920 тысяч квадратных километров. Даже упоротый, могу на память назвать длину Великой Китайской стены: 8800 километров с учетом ответвлений. Но не всегда вспоминаю, что оружие имеет предохранители. Особенно в такой необычной ситуации, как сейчас…
Алиса смеется. С учетом обгорелого рта, один уголок которого спекся, получается жутко.
– Какой же ты, Дениска, глупец, – говорит она, и в ее голосе внезапно слышится настоящее сожаление. – Не знаешь, против чего пошел…
Качает головой. Наблюдает за тем, с каким непрошибаемо-ослиным видом я рассматриваю не сработавший пистолет. Затем запрокидывает голову к потолку и вопит так, что в окне трескается стекло:
– Себастиан!
Эхо ее вопля долго гуляет по комнатам и коридорам, смешиваясь с гулом набирающего силу пожара. Затихает, сливаясь с треском занявшегося дерева. Тонет в шелесте догорающих картин. Растворяется в дыму, уже начинающем забивать ноздри и глаза. Я нащупываю рычажок предохранителя, дергаю и снова поднимаю оружие.
– А вы игрушку свою завести не забыли?
Спрашиваю, не в силах удержаться. Понимаю, что это лишнее, совершенно сейчас неуместное – но меня забавит ужас, промелькнувший в глазах той, кто сама привыкла его нести.
Выплевываю, упиваясь тщеславием крохотной победы:
– Отчего бы тебе, сука, самой не спуститься в подвал и не прикоснуться к каменным дискам?
Она отшатывается, покачнувшись на сломанном каблуке.
С виду – самая обычная, привлекательная, заботливая женщина из обеспеченной семьи, попавшая в страшную беду. Но я хорошо вижу образ, проступающий сквозь ее кожу. Различаю, как видел маски Чумакова; как гнилую сердцевину каждого из тех, кто переступал порог Особняка.
Глаза Алисы превращаются в два бурлящих лавой котла. Она рычит, потрясая руками. Пальцы набухают, превращаясь в нечто деревянное, ветвистое, способное полосовать и вырывать. Богатые украшения из золота и платины лопаются, будто изготовленные из картона, и со звоном разлетаются по комнате.
– Ах, как много ты успел узнать, Денис… Жаль… Очень жаль, ведь ты действительно нам всем понравился…
Шагает вперед, начиная растворяться в дыму.
Стреляю в голову. Неожиданно метко. Точно в глаз, пробив затылок и бросив на дорогие обои тугую струю розовой клейковины.
Голова хозяйки запрокидывается, возвращается на место. Уцелевший глаз смотрит на меня удивленно. Недоверчиво, как у пьяницы, обнаружившего под кроватью непочатую бутылку водки. Ее, как и Гитлера, не взять обычными способами умерщвления живой плоти. Но моя выходка – этот выстрел – настолько ошарашивает Алису, что она замирает.
Пулевое отверстие затягивается. Медленно, словно всасываясь само в себя. А может, мне это только кажется, ведь в воздухе висит все больше седых туманных полос. Дом рычит и стонет. Выпускает из стен длинные белые зубы, пытаясь напугать, подчинить, заставить отступиться. С этим он, пожалуй, слегка опоздал…
Сую пистолет за пряжку ремня, достаю зажигалку.
Чуть не роняю, омертвевшими пальцами крутанув ребристое колесико. Подпалив тряпку, с резким замахом швыряю бутылку в свою бывшую госпожу. Не в саму фигуру, а под ноги. Где прочный дубовый паркет раскалывает стекло снаряда и позволяет липким лентам пламени охватить ее стройное тело.
Она орет. Вопит, рычит, стонет и скулит так пронзительно, что окно снова трещит, роняя битые стекла. Пячусь, затыкая уши руками, бегу наугад, не разбирая дороги и забывая, где оставил следующий тайник с горючим. Дом снова меняет планировку и архитектуру, но мне плевать, даже если я не смогу найти выхода…
Сквозь анфиладу вижу Пашка. В обгорелом костюме, баюкающего на груди сломанную правую руку. Он несется через лабиринты Особняка так, словно за ним, нах, гонятся все демоны преисподней. По следам парня, прихрамывая, но не теряя настойчивости, упорно плетется обезумевший американский питбультерьер.
Собака изранена, покрыта коркой запекшейся в огне крови, но все еще преследует жертву, в которую вцепилась не зубами, а умом и угасающим сознанием. Этим пес сейчас очень похож на меня, и я искренне желаю ему удачи. Мысленно извиняюсь перед торчком-аптекарем, которому уже не смогу помочь.
Следующим я встречаю Петю.
В его излюбленном положении – стремлении к горизонтали. Лежащего на полу, похожего на выбросившегося на берег кита. Конечно, он бы никогда не смог выбраться из охваченного огнем гаража на своей любимой коляске. Поэтому толстяк ползет, вонзая звериные когти в паркетные щели. Тяжелыми рывками подтягивает обугленное тело и медленно, неотвратимо удаляется от источника пожара.
Что удивительно: ни его холеное лицо, ни волосы почти не обгорели. Все так же лоснится узкий лоб, задорные поросячьи глазки выглядывают из складок, образованных веками, щеками и мясистым носом. С непокорной бравадой топорщится светлый волнистый чуб.
– Ты восхитительно наглый ублюдок, Диська, – неразборчиво бормочет туша, увидев меня и приподнимаясь на руках. – Сегодня сожру твой мозг. С превеликим удовольствием…
Я устал от болтовни. Я не знаю, на что способен именно этот выродок.
А еще я научился справляться с пистолетом.
Поэтому подхожу поближе, нависая над братом хозяина так, как только считаю безопасным. Он пытается дотянуться до моей ноги, но я всаживаю в кучерявую голову сразу восемь пуль. До донышка опустошаю обойму, получив волну нестерпимого, неописуемого словами удовольствия…
Петр утихает, уткнувшись обезображенным лицом в пол. Не знаю, как долго он будет пребывать в состоянии несмерти, но проверять желания не имею. Бросаю бесполезный пистолет. Огибаю тушу, снова прокладывая дорогу сквозь дым.
Дышать становится все труднее.
Закрываю рот галстуком, стараясь вдыхать реже и мельче. Спотыкаюсь все чаще. Глаз, покрытый кровью, почти не открывается. Кожа горит и чешется так, словно изнутри ее раздирают железными иглами.
Из-под ногтей лезут алые муравьи, и я не уверен, что это галлюцинация. Одним из зубов, выращенных из стены, Особняк дотягивается до моего правого плеча. Взрезает рукав пиджака и оставляет глубокую царапину.
Брожу кругами, стараясь не прикасаться к стенам.
Первый этаж охвачен пламенем, я слышу треск и грохот. Внизу еще что-то взрывается, заставив меня покачнуться и потерять равновесие. Свет гаснет – теперь коридоры и холлы освещены только заревом.
Огонь поднимается все выше, пожирая художественную мастерскую, музыкальный зал, библиотеку и каминную, спальни, ванные комнаты и детские игровые. Пожирая кабинет, в котором я репетиторствовал. Пожирая того, кто привык пожирать сам…
Мальчишку нахожу, все же выбравшись к дверям Особняка. Тем самым, в которых когда-то впервые встретил Себастиана, молчаливого, непрошибаемого и опасного. Опасного до тех пор, пока кто-то прикасается к серебряным украшениям каменных жерновов…
Колюнечка стоит в распахнутом дверном проеме, в который нестерпимо яростным сквозняком одну за другой уносит дымные ленты и узкие языки огня. Стоит прямо, безвольно опустив руки вдоль прожженного пиджачка. Крохотный, беззащитный. Даже в полумраке я вижу, как на его упитанных щечках блестят полоски слез.
– Не уходи… – навзрыд бормочет он, утирая перемазанную сажей скулу тыльной стороной ладони. – Дениска! Ты же мой друг! Не уходи…
Говорю, стараясь, чтобы губы не дрожали:
– Уйди с дороги, Коля. Уйди по-хорошему.
Пламя ревет и бушует за моей спиной. Никаких систем противопожарной безопасности – дом всегда был выше этого, всегда умел предотвратить, не позволить. Не в этот раз.
На верхних этажах что-то рушится. Треск и грохот протыкают скопившееся молчание, как удар стилета. Детский пиджачок в отсветах огня кажется желтым. Вспоминаю насыщенный блеск обручального кольца на пальце той, с которой тебе не суждено. Вспоминаю известный всему миру треугольник радиационной угрозы, лаконичный в своей неотвратимости…
– Я тебя не отпущу, – говорит мальчишка, лакавший лошадиную кровь. – С друзьями так нельзя, мама учила…
Повторяю, как заведенный, не понимая, что делать дальше:
– Уйди.
Губы мальчика шевелятся, но теперь из них вырывается голос Константина, монотонный и гипнотизирующий:
– Ты можешь избавиться от этого места вокруг себя, – рот кривится в усмешке, такой неприглядной и зловещей на круглом маленьком лице. – Но что ты будешь делать с этим местом внутри себя?
Делаю шаг в сторону и беру со столика тяжелый подсвечник.
Беру бережно, будто это не бронза, а модель бумажного парусника, собранного из тысяч деталей на очень ненадежный клей. Он теплый, как и моя одежда, от которой уже валит пар, до того близко подобрался огонь. Повторяю в третий раз:
– Убирайся с дороги, тварь.
Тот качает головой, совсем по-взрослому, обреченно и с укором. Шепчет:
– Ты меня предал.
И предметы вокруг меня начинают взмывать в воздух.
Картины, увесистые колченогие табуреты, вешалки для одежды и стойки для зонтов – все это вдруг поднимается вверх. Словно в фильме про полтергейст, но вживую это выглядит куда ужаснее. Это заставляет цепенеть и не верить глазам. А затем на меня рушится град хлама со всей прихожей. Что-то болезненно бьет в плечо, падает в ноги, чуть не сбив на пол, рассекает кожу на щеке.
Отмахиваюсь и бегу к выходу, будто прорываюсь через самый необычный листопад на свете. Закрываю лицо подсвечником, об который рикошетят зонты и лепные барельефы со стен. Один все же ударяет в челюсть, вышибая зуб, но я уже в двух шагах от Колюнечки. Тот неподвижен, лишь смотрит на меня с тоской и осуждением…
Бью его. Точно в голову, сверху вниз, как человек, колющий дрова или заколачивающий железнодорожный костыль. В нос врывается запах гари, острый настолько, что чуть не лишает сознания. Звук такой, как будто пушечное ядро падает в плотную компостную кучу.
Головенка маленького кровососа пригибается, точно тот решил помолиться или испросить прощения. Но с места выродок не сходит и даже не спотыкается.
Бью снова, на этот раз – справа налево, как заправский чемпион по бейсболу, размашисто и злобно. Край подсвечника собирает кожу на пухлом лице, словно это старая штора. Срывает, брызжа черным, блестящим в свете гигантского костра, выворачивает наизнанку. Тварь шипит, скалит рот, в котором не хватает клыков, и только теперь кидается в бой.
На миг меня охватывает ужасная мысль – я сошел с ума и убиваю ребенка. Самого обычного ребенка, имевшего неосторожность встать на пути у безумца. Затем тот я, что сидит глубоко на дне колодца и продолжает рыть яму, ухмыляется, напоминая про неудачную инициацию нелюдя. И тогда я замахиваюсь вновь…
Бью снова и снова, не позволяя ни извернуться, ни ухватить себя.
Бью за неудачные покусы. И за удачные, но не состоявшиеся. За убитых карликов и собак, за исчезнувшую бригаду сантехников, за дохлых пони, за рабство и унижения. Размыкаю круг. Рву невидимую цепь до того, как окончательно сойду с ума, начав варить суп в сковороде и набирать телефонные номера на пульте от телевизора…
То, что было Колюнечкой, мокрой кучкой валится под ноги. Затихает, еще стремясь дотянуться до моего ботинка маленькой когтистой ручонкой. Я бросаю липкий, залитый до основания подсвечник, перешагиваю и выхожу за порог.
Часть крыши в западном крыле прогорела и уже сползла шумной лавиной, засыпав лужайку. Обломки черепицы втыкаются в землю. Рушатся, вертясь и обгорая, дисковые спутниковые тарелки. Электрические провода – единственная связь Особняка с внешним, зазаборным миром – с треском перегорают; ползут по траве, словно уличные столбы подтягивают их, помогают спастись; но вскоре обессиливают и замирают.
Сорванный флюгер в виде кованого рыцаря на коне со свистом рассекает воздух, копьем вонзаясь в газон. Горящие обломки дерева и пластика долетают до прикрытых тентами дорогих машин, в нескольких местах ткань начинает тлеть. С оглушительным звоном лопаются кирпичи, стекла и витражи.
Невесть как выбравшиеся из Особняка, на подъездной дороге лежат двое маленьких людей – дочерна обгорелые, так и не сумевшие потушиться и сбежать. Придавленный балкой неподалеку – мертвый ротвейлер, тоже нашедший выход из устроенной мной западни…
У самого подножия лестницы подъезда стоит Валентин Дмитриевич Чумаков.
Обожженный, как и все, кто спасся из гаража. Почти лишившийся волос, с безвольно свисающей левой рукой, обглоданной почти до кости. Его качает, и он опирается на мраморные перила, чтобы не упасть. Но я вижу – сил сделать еще несколько шагов и хоть чуть-чуть отдалиться от горящего дома у него нет совершенно.
Спускаюсь по скользким ступеням, кашляя и утирая лицо от крови. Старик поворачивается, потрясенно глядя мне в глаза. Он все еще не может поверить в случившееся. Переживший уже не один праздник Перевернутого Солнышка, Валек потерян, раздавлен и опустошен случившейся утратой.
Пытается что-то прошептать, протягивая ко мне окровавленную руку.
Я точно знаю, что это был он. Тот самый бандит, стрелявший в кучу трупов и раненых. Тот самый мужик, проникший в квартиру следом за маленьким мальчиком, вернувшимся из школы. Едва не заставивший того напрудить в штаны. Едва не совершивший страшное, но все же распахнувший дверь в мир страха, боли и недоверия. Из которых этот мальчик в итоге так и не смог выбраться.
Нет, он не подвешивал меня за ребра на крюки. Не продевал проволоку сквозь член, не обливал кислотой и не насиловал, не прижигал сигаретами и не резал на части. Но только потому, что ушел, внезапно передумав. Подчинившись «мозговой известке», внезапно затопившей его разум. И я начинаю думать, что именно они – эти самые белила, смывшие желание убивать, а не переменчивая психопатия в голове ублюдка, спасли меня тогда, в далеком детстве. Спасли, чтобы я попал в Особняк…
– Прощения не существует, помнишь? – говорю Вальку, отталкивая безвольную обглоданную руку и проходя мимо.
Он шатается, пальцы соскальзывают с перил. Мужчина падает на ступени. Я даже не оборачиваюсь. Направляюсь к забору – тому самому месту, где меня изловил Себастиан. Чума что-то хрипит, бормочет, умоляет. Но очень быстро его голос тонет в реве огня – теперь дом охвачен им полностью.
А затем он вдруг взрывается.
Ракетами взмывают в небо газовые баллоны. С костяным перестуком обваливаются каминные трубы, лопается черепица, вылетают уцелевшие стекла, внутрь конструкции рушатся балки. Особняк распирает оранжево-лиловым шаром, и это последнее, что успеваю заметить, – в спину будто пинает великан, и я лечу в темноту…
Не нужно эпитафий.
Уйду так, словно меня никогда и не было на этом свете. Без почестей и ружейных залпов. Если те, кто выжил, попытаются заставить меня кричать, лучше откушу язык. Сейчас я не на такое способен, не к такому готов…
Ворошу холодеющие угли штакетиной.
Через полчаса встанет солнце, превратив их в безжизненные черные комки.
Одежда насквозь пропитана дымом. Он въелся в мои волосы, кожу, налип на слизистую глаз, забился под ногти, застрял меж зубов. Втягиваю противоречивые запахи сгоревшей древесины и ядовитого пластика, кашляю. Пытаюсь разлепить залитое кровью веко, ощупываю разбитую десну и распухшую от пореза щеку.
Сфера отчужденности, хранившая чудовищный дом, улетучивается. Серебристой спиралью вкручивается в дымные столбы, растворяясь. Впитывается в красные булыжники замкового забора. Тает.
Скоро приедут пожарные расчеты. Полиция. Машины «Скорой помощи».
Не хочу расспросов и жалости. А потому надеюсь, что по их прибытии уже буду мертв. Крови я потерял немного. Но ощущаю себя так, что лишь пожелай – и дух покинет бренное тело, провалившись в бездну ада за все, что я сделал этой ночью…
Искупления не случилось.
Перо богини Маат оказалось значительно легче суммы моих грехов, и будущее по-прежнему туманно. Еще час назад, глядя на прожорливый огонь – своего сумасбродного, капризного и жадного ребенка, – я предполагал, что по-настоящему мужской поступок хоть как-то оплатит все недоброе, что я сделал в жизни.
Теперь, глядя на смерть зверя с тысячами багряных плавников, уже не уверен в этом.
– Искупление – миф? – не так ли сказал я Чумакову целую вечность назад?
Бреду по пожарищу.
Молю высшие силы, чтобы до приезда нормальных людей сибирская земля разверзлась. Чтобы заглотила этот протухший кусок реальности, как когда-то давным-давно оранжевую машину ассенизаторов; как многие и многие вещи, тела и надежды, попадавшие на территорию Особняка. И тогда, надеюсь, мой город перестанет испытывать страх, злобу и ненависть. Пусть я не смогу освободить Новосибирск от всего зла, сосредоточенного в сердцах, но хоть какой-то его фрагмент мне уничтожить удалось…
Пиджак, рваный и изъязвленный в сотне мест, нагревается так, словно вот-вот вспыхнет древним пергаментом. Улыбаюсь и иду к подъезду, опираясь на занозистую штакетину, словно престарелый странник-мудрец из фантастической книги.
Ощущаю себя архитектором деструкции. Высшим чином иерархии паладинов энтропии.
Красота повсюду. В черных колоннах обвалившихся каминных труб, сиротливо оставшихся без стен. В спекшихся бесформенных кляксах, еще вчера бывших домашней электроникой, игрушками, одеждой и стеновыми панелями. Во взорвавшихся дорогущих иномарках, до которых добрался пожар.
Из подвала все еще тянет горелым мясом.
Я точно знаю, что это отнюдь не испорченный ростбиф…
Жду, когда небо подаст мне знак. Сообщит, что миссия выполнена. Попытка зачлась. Начинание замечено, и отныне судьба станет благосклонна.
– До самого конца ты будешь нести груз совершенных поступков. Нести, пока он не раздавит тебя в лепешку, – не это ли вбил я, словно гвоздь, в лицо Валентина Дмитриевича?
Небо молчит, и лишь трещат в пожаре догорающие балки великолепного дома. Лишь долетают издали, будто бы с другой планеты, сирены экипажей МЧС. Стонут зубастые стены, перемоловшие не одну невинную жизнь.
Невинную? Я более чем уверен, что Особняк никогда не поглощал невинных…
Замечаю в пачкающемся месиве что-то блестящее. Перехватываю посох-штакетину, с чавканьем вгоняю в грязь, замешенную на золе, пепле и крови. Подцепляю и выдергиваю жестяной портсигар Чумакова. Смятый, пустой, раскрытый, словно рот умирающего в агонии.
Мне чертовски стыдно, но я ни секунды не жалею этого ублюдка. Мне не жалко никого, хотя полное осознание содеянного накатит чуть позже. НТПЧЯНСБЖД…
Я сотворил это не сам. Что бы там ни говорил Эдик, сейчас заваленный на нулевом этаже, получивший свою золотую дозу и ушедший в блаженстве и покое. Не знаю, что за сила привела меня сюда. Что или кто заставил пройти через круги преисподней, чтобы в итоге обмануть шестерых богомерзких существ, пожертвовав душой. Этого я, видимо, не узнаю никогда.
Как останусь в неведении относительно природы своих мертвых хозяев, так непохожих на все, что я встречал в литературе или кино…
Константин, Алиса и другие не были вампирами в «классическом» понимании этого термина. Однако меня морозит от одного предположения о том, сколько лет их «семейство» могло жить на нашей земле, кормясь человеческими грехами и порождая их…
Может быть, первым Особняком была юрта самодийцев – каких-нибудь селькупов или тайгийцев? Может быть, будущие демоны пришли в Сибирь вместе с тюрками? Отреклись от Йер-суба и богини Умай, обратили взоры к мирам под ногами смертных и заручились поддержкой темных богов?
Может быть, они умели менять тела или переселять собственные души? Может быть, регулярно принимали в семью новых членов, неся потери лишь в схватках с безумцами вроде меня? Сколько лихих головорезов-казаков, следовавших за атаманами Ермака Тимофеевича, сгинуло в зубастых лесных избах? А может, твари перекочевали сюда относительно недавно, до поры таясь в глухой тайге или непролазных алтайских горах?
Что случилось с семейством, когда оно обнаружило каменные диски, дарующие жизнь голубоглазому голему? Как давно оно перенесло кольца в Новосибирск, зарывшись в землю поближе к строительству железнодорожного узла; поближе к скоплению людей, в котором так легко потеряться и искать невольников; поближе к большим деньгам – единственной силе, умеющей порабощать без всякой магии.
Почему-то мне кажется, что именно на них – самых банальных деньгах, а вовсе не на умении летать или пускать глазами молнии – и было построено могущество клана. Была выкована сила, превращающая человека в нелюдя, пьющего кровь пони…
Этого я не узнаю никогда.
Но мне очевидно одно – уничтоженные огнем твари не подчинялись никаким клише… Ночами не обескровливали девиц в их опочивальнях, не летали на метлах, не горели при солнечном свете, разве что боялись прикоснуться к серебряным узорам на дисках…
Но именно в этом и заключался главный ужас соседства с такими, как Петя, Жанна или Коля. Они были злом в его чистом, нелогичном виде; злом, питающимся перепачканными человеческими душами; пожирателями боли и страха тех, кто уже поставил на себе крест… А еще в этот момент я вдруг понимаю, что при определенных обстоятельствах таким пожирателем может стать любой из нас…
Возбуждение уходит.
Остаюсь наедине с невыносимым страхом и отчаяньем, ошалелым осознанием сделанного и медно-кислым предчувствием конца. Неизбежного. Еще не осознаю, что работа исполнена и все позади.
Вдруг лишаюсь контроля над ногами и тяжело опускаюсь на колени.
Роняю штакетину и падаю руками вперед в черную, еще теплую массу, грязную и болотно-липкую. Правую ладонь пробивает острой короткой болью. Лишь она сообщает мне, что я еще не покинул пределов реальности и до сих пор жив…
Поднимаю руку к лицу, глядя искоса – один глаз все еще видит с трудом, залепленный коркой крови и грязи. Но и одного взгляда хватает, чтобы понять, что под кожу глубоко впился вырванный взрывом клык. Вероятно, собачий, еще вчера принадлежавший кровожадному четвероногому гладиатору, сыгравшему в моей пьесе очень важную роль.
Невольно улыбаюсь. Столбняк… Самое первое, чего я испугался, переступив порог Особняка…
Осторожно, постанывая и мыча, хватаюсь за желтоватый обломанный корень. Расшатываю, тяну из ранки, вслед толчками пульсирует кровь. Зажимаю неровную глубокую дыру, чувствуя покалывание в локте.
Спина вдруг начинает чесаться, словно рана Себастиана снова ожила. Из отверстия на ладони под набирающий силу солнечный свет выкарабкивается крупный рыжий муравей. Деловито ощупывает липкую красноту усиками, спешит вниз по запястью.
Мое лицо пылает, губы слиплись.
Вдруг понимаю, что чертовски проголодался. Настолько, что готов лезть в пепелища продуктовых кладовок и искать картофель, запекшийся лучше некуда. Но еще желаннее – и эта мысль заставляет в ужасе окаменеть – было бы съесть фисташку. Хотя бы одну, крепкую и хрустящую, соленую и сладкую одновременно…
Я смотрю в пустоту августовского утра, отказываясь верить.
За спиной что-то стонет, чавкает, грохочет и бренчит. Будто великан, застрявший в гудроновом болоте, пытается выдернуть из трясины гигантскую ногу, опираясь на скрипучий костыль.
Не смею обернуться.
Лишь надеюсь, что это не каминная труба, рухнувшая несколько часов назад. А сейчас – словно древесный побег – начинающая восстанавливаться и по кирпичику расти вверх.
1
Наркотические вещества. – (Прим. авт.)
2
Конфедерация Российских Провинций. – (Прим. авт.)
3
Мако – разновидность хищных акул.