Книга: Кто сегодня делает философию в России. Том I

Кто сегодня делает философию в России. Т. 1.
УДК 1 (470+571) (082) "19/20"
ББК 87.3(2) 6я43
К87
Составитель А. С. Нилогов
Художник обложки Е. Л. Амитон
К87 Кто сегодня делает философию в России. Т. 1. — М.:
Поколение, 2007. — 576 с.
ISBN: 9785976300491 (рус.)
Первый том книги «Кто сегодня делает философию в России» представляет собой собрание философских манифестов и бесед с современными русскими философами. Среди авторов книги немало тех, кто работает в переходных с философией сферах — богословие, искусство, культурология, лингвистика, литература, логика, музы ка, политология, психология, публицистика, социология, филология. Рассматриваемые мыслители выражают различные, подчас конфликтные, общественные, религиозные и экзистенциальные взгляды.
Издание осуществляется в рамках проекта «Современная русская философия» как обсервационная площадка, с которой можно обозреть состояние русской философии наших дней.
Книга предназначена для философов и всех итересующихся русской философией.
УДК 1 (470+571) (082) "19/20"
ББК 87.3(2) 6я43
© Нилогов А. С., составление, 2007
© Амитон Е. Л., художественное оформление, 2007
© ООО Издательство «Поколение», 2007
ISBN: 9785976300491 (рус.)
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Нилогов А. Что такое современная русская философия? . . . . . . . .8
Нилогов А. «Вечное дежавю» философии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
ФИЛОСОФСКИЕБЕСЕДЫ
Ашкеров А. Нация — это постоянный флэшмоб… . . . . . . . . . . . .16 Васюков В. Формализация философии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Галковский Д. Альтернативный русский философ . . . . . . . . . . . . .49 Гиренок Ф. Где пушки — там и философия! . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Дмитриев В. Графанализ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Дубровский Д. Субъективная реальность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Зиновьев А. Рабства без рабовладельцев не бывает . . . . . . . . . . . .90 Кралечкин Д. Мира нет и не надо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Малер А. Неовизантизм как новый большой стиль . . . . . . . . . . .110
Мамлеев Ю. Русская философия не должна уступать
русской литературе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Матвейчев О. Миром правят философы! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Миронов В. Философия как самосознание культуры . . . . . . . . . .151 Нилогов А. Философия — это сплошной ressentiment . . . . . . . . .175
Петровская Е. Назвать себя философом — большая
ответственность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
Пятигорский А. I. Честно говоря, никакой русской
философии нет... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204 II. Я гедонист, а не нарциссист! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
Руднев В. Гипотеза множественности психических миров . . . . .234
Рыклин М. Произведение философии в эпоху
«суверенной демократии» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246
Савчук В. Геометафизика, или Топологическая рефлексия . . . . 266 Секацкий А. Прикладная метафизика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283
Семёнова С. Борьба со смертобожничеством . . . . . . . . . . . . . . . .292
3
Смирнова Е. Логическая семантика и вопросы обоснования
логических систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309 Солодухо Н. Теория «философии небытия» . . . . . . . . . . . . . . . . .320 Сосланд А. Философия сквозь призму аттрактиванализа . . . . .327
Фомин О. Русский поиск философского камня . . . . . . . . . . . . . .340
Эпштейн М. Умножение сущностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346
ФИЛОСОФСКИЕМАНИФЕСТЫ
Гачев Г. Философская исповесть (самопредставление) . . . . . . . .362 Гиренок Ф. Философия — это наше ужесознание . . . . . . . . . . . .385 Дугин А. Короткий путь к абсолютному знанию . . . . . . . . . . . .402 Крылов К. Проба пера: философия после приватизации . . . . . .423
Кузнецов В. «Концептуальный переводчик»: подступы
к программе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429
Мамлеев Ю. Судьба Бытия и Последняя Доктрина
(автоинтервью) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 Матвейчев О. Страна господ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .464 Нилогов А. Философия антиязыка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .489 Пригов Д. Зоны выживания в культуре . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .504
Романов В. Об устроении человека (в жанре исповеди научного работника, находящего утешение в методологии) . .515
Солодухо Н. Понимание онтологического статуса небытия . . .547
Сосланд А. Аттрактиванализ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .553 Эпштейн М. Личный код: опыт самоописания . . . . . . . . . . . . .560
Петру Юрьевичу Верзилову
введение
Что такое современная русская философия?
Да погибнет мир, да будет философия, да будет философ, да буду я! 1
Что представляет собой современная русская философия? Какие имена на слуху, а какие неоправданно забыты? Какие вопросы формули руют? Какие ответы пытаются дать на них?
Прежде чем приступить к такому провокативному жанру, как история современной русской философии, необходимо, как советует А. М. Пятигорский, расчистить смотровую площадку, создав обсервационное проблемное поле. Наиболее объективным критерием в определении философа может служить наличие у него собственно философского текста, в котором предложена авторская концепция.
Проект «Современная русская философия», в рамках которого выходит данное издание, призван выполнить роль «застрельщика» философских дискуссий в стране. Если хотите — стать прообразом гуманитарного «манхэттенского проекта», автором которого является О. А. Матвейчев, рассчитывающий на новый русский философский «изм».
Книга «Кто сегодня делает философию в России» ставит акцент на слове «делает». Деланье философии — это наиболее оптимальная метафора современного состояния мировой философии. Современный русский философ Ф. И. Гиренок говорит: «Философия всегда имела локальную размерность. Скажем, в Индии никакой философии в греческом смысле не было. Там были другие условия мышления, поиному настроенные ин теллекты. Поэтому многое из того, что происходило в Европе, не имело соответствия в Китае и Индии, и наоборот. Поэтому наука, например, возникла в Греции, а не в Китае.
Говорить о средневековой философии как о продолжении греческой можно лишь с большой натяжкой. Тогда началась репрессия идеологии по отношению к философии. У средневековых философов было много интересных интеллектуальных ходов. Но они были и у Лаоцзы. Это не была философия в смысле интеллектуальной программы, запущенной древними греками. Тысячу лет мы имели дело с симулякром философии, культурно принятым, усвоенным. А далее последовала так называемая на учная философия, то есть репрессия науки по отношению к философии. И опять здесь проблема. Философия стала принимать странный, вывер нутый вид, маскируясь под науку. И мы опять получили симулякр.
И вот только совсем недавно философия, и, как ни странно, в связи с постмодернизмом пытается подать свой голос независимо от науки и религии. И тут обнаруживается её литературный характер. Об этом гово рил Батай. Но ведь русская философия изначально была литературой! Ещё в XIX веке Достоевским — до Батая, до Ницше — этот философский проект был реализован. Да так реализован, что его интеллектуального ре сурса хватит на многие столетия. Только мы относились к нему как к ли тературе, забывая, что наша литература — это философия. Конечно, у нас была специальная философская литература. Но самые крупные русские философы — это литераторы. Самарин — это литератор, Хомяков — литератор, Киреевский — литератор. Как они пишут! Чего стоит язык Фло ренского! Понимаете? Откройте “Столп и утверждение истины”…».
Поскольку интерес к философии в настоящее время необычайно вы сок, постольку труднее всего отбиваться от недальновидных попыток по дискредитации философии. Особенно кощунственно в этих попытках выглядит соблазн отменить русскую философию, самобытность которой всякий раз становится не философским камнем преткновения среди куль туртрегеров всевозможных мастей. В чаду своих усилий они отказывают русскому народу в праве на философию, отмечая при этом, что русские ещё не доросли и вряд ли когда нибудь дорастут до постановки собствен но философских вопросов. Отвлекая внимание на универсальный, а не локальный, статус философии, эрузиты2упускают из виду то, что русская философия — это прежде всего философия на русском языке — одном из международных языков. Русский язык как философский язык ничем не уступает другим национальным языкам философии, интернациональность которой может быть суммирована в дерридианском понятии прото письма. Современный русский язык является таким же индоевропейским языком, как и английский, немецкий, французский, древнегреческий, латынь.
Нет никаких серьёзных оснований относиться к философии как к этимологософствованию (жонглирование смыслами посредством этимологий философских терминов), получившему своё вульгарное распрост ранение после работ М. Хайдеггера. По сути: ни универсальность, ни локальность не могут отличать философию как Философию, чья филосо фичность может полагаться в качестве подлинной Истории Философии. Для более тонкой характеристики статуса той или иной философии вос пользуемся удачным термином «глокальность», предложенным М. Н. Эп штейном. Глокальный статус философии гармонично сочетает в себе универсальность и локальность, центр и периферию, вечность и повседневность.
Хотелось бы оставить в глубоком одиночестве наветы на русскую философию, нередко цепляющиеся за имя русского философа феноменолога Г. Г. Шпета — автора «Очерка развития русской философии». Труд Шпета — уникальный источник по истории русской философии. Ни в од ной национальной философской историографии ему нет аналогов. Одна ко казус Шпета заключается в том, что в историографии русской философии его очерк остался неуслышанным. Такое положение дел будет продолжаться до тех пор, пока, по словам Н. В. Мотрошиловой, существует местная культурная политика, которая не воспринимает русскую философию как национальный приоритет. Вполне понятно, почему имя Шпе та используют в качестве жупела для дискредитации русской философии. Фамилия «Шпет» — не русская, а немецкая, рассчитанная на наукообраз ную философию — гносеологический атавизм Нового времени. Прискорб но отмечать, что фигура Густава Густавовича3, сочинявшего свои произведения именно на русском языке, стала почти что карикатурной в истории русской философии. Ещё раз подчеркнём: без хорошего знания того или иного национального языка вход в философию закрыт. Как показал опыт философии языка XX века, достаточное количество философских проб лем обременено языковым фактором. Философствовать можно на любом естественном человеческом языке, игнорируя непереводимость в статис тическую погрешность.
Русской философии, а в особенности её современному изводу, требу ется сразу несколько исследователей, сопоставимых с критическим уров нем Шпета. Нам позарез не хватает публичной философской жизни. Но вый русский философский ренессанс — не голый пафос или выпускание метафизического пара, а насущная задача для формирования в России гражданского общества. Время русской интеллигенции — в махровом прошлом. Её исторический багаж — «ностальжирия». Русский писа тель — по преимуществу не интеллектуал (М. К. Рыклин). На смену ин теллигенции должно прийти племя интеллектуалов, способное вместо интеллигентской «крытики» предложить конструктивную критику рус ской культуры. Отличным подспорьем для современных русских филосо фов могло бы стать учреждение философских премий. Наиболее ради кальное решение предложено современным русским политологом О. А. Мат вейчевым: «Я не за то, как это можно встретить сейчас сплошь и рядом, чтобы “у народа была своя философия”, я за то, чтобы, если можно так выразиться, “у философии был народ”. Если быть ещё более точным, каждый народ должен завоёвывать себе место в истории Бытия и в мыслящей и отвечающей Бытию философии. Причём он должен тратить на это силы как народ, одиночка такое место не завоюет. В его последнем рывке сконцентрирована вся мощь народа, его усилия, все его прежние инвестиции. Поэтому философы, пророки и поэты — сыны народа, но в то же время они уже и не принадлежат народу, их народ принадлежит им, поскольку он исполняет, как подданный, тот приказ, который философ, пророк, святой, поэт сами, в свою очередь, почерпнули из наднародной, инородной сферы. Не философия выражает бытие народа, а народ выра жает философское Бытие, если такой счастливый великий миг (по исто рическим масштабам — эпоха) ему удаётся. Чтобы было более понятно, то я скажу, что будь моя воля, то я бы тратил на философское образование не меньше, чем на оборону. Я бы посадил всех зэков в одиночки и вместо не нужного труда заставлял бы их прочитывать по 50 философских первоис точников в год, а весь стабилизационный фонд пустил бы на переводы и издания философских книг, которые бы продавались в каждом ларьке, как водка. И так далее. Что бы это дало? Не знаю, что в социальном, эко номическом и политическом плане, но знаю, что это усилие дало бы, воз можно, несколько великих философов через сколькото лет, а эти фило софы изменили бы облик и Земли, и истории, создали бы мир, в котором, может, уже бы и не было места ни социальному, ни экономике, ни поли тике. И такой подвиг, такой поворот — это лучшее, что может случиться в судьбе народа. Раз уж все народы смертны, то смерть со славой лучше, чем смерть от обжорства гамбургерами, тем более что даже это нам не грозит, скорее уж — издыхание от голода, холода, трудов, военных тягот, мягкого и жёсткого геноцида, ассимиляции другими пассионариями».
Если комуто хочется поиграть в бранные метафоры, то всю историю русской философии можно разделить на несколько этапов — «золотой век», связанный с именами «славянофилов» и «западников» и упёршийся в фигуру В. С. Соловьёва, затем серебряный век, захвативший филосо фию русского зарубежья, после «бронзовый век» советской философии, ядром которой выступила идеология марксизмаленинизма, и, наконец, наше время «железного века», погрязшее в фундаментальной разобщён ности философий.
Обоснование такого жанра, как «история современной русской фи лософии», предпринятое в рамках проекта, позволит поставить под фун даментальное подозрение как литературоцентристский, так и православ норелигиозный статус русской философии. Если прежде мы могли экс портировать на Запад философию a` la достоевщина и a` la толстовство, а также философию a` la фофудья, то теперь настала пора заявить о себе конкурентоспособной философией — философией par excellence.
А. С. Нилогов
Владимиру Анатольевичу Рябикову
«Вечное дежавю» философии
Вспомнить философию до лучших философских времён — до несвое временности всех философских вопросов, — когда уже больше не оста нется досуга для философии, а может быть, и от философии, — когда зва ние философа станет самым последним ругательством, а геноцид филосо фов войдёт в антропологическую моду, — когда философствование сведёт ся к передержке эмоциональной реакции, — к философствованию как гормональному расстройству, при котором образ жизни (генотипаж) фи лософа слиняет из естественного и противоестественного модусов в ис кусственное философствование на заданную проблему — по забиявкам философских трудящихся, отчуждающихся в философии свободнее, чем в труде, — философствующих в обеденном перерыве, растянувшись на при роде (врождённые, или руссоистские, философы), в местах, менее всего для этого приспособленных [на кресте (Христос), на костре (Бруно), в гробу (Гоголь), на подесте (Майнлендер)], — если философская чисто плотность всё ещё не выводится в родимые пятна философии, — никто не может быть застрахован от философической сыпи защитного от филосо фии цвета (философуха), — до самой лучшей из возможных философий (Ко Лейбниц), — тростниковое философствование (паскализм как «дух тяжес ти» в философии?) — гнуться тем ниже, чем выше планка падения, — но не переусердствовать при подлёте, — а если не удастся забыть, то по край ней мере умыть из неё руки, — всё дело за малым — объявить в розыск подходящего Пилата, — и мы знаем, кто мог бы им стать, но разве умык нуть крест не надёжней? — слова, обозначающие слова, которые являют ся названиями слов, не состоявшихся до стадии «мусорологизмов» (собственно словообразовательные жертвы принципа традитабельной от" носительности), — «протомусорологизмы», — философический сон филосо фии (не иначе как философский сон разума?) — но нашлись мощные бу дильники, например Делёз и Гваттари, которых не грех было бы канони зировать живьём [«Да здравствуют философские будильники!», «Да здрав ствует петух как символ новой философии!» — первым на сей счёт проку карекал Эпштейн (философия возможного (потенциология), — однако тем ли самым петухом прокукарекал Эпштейн и кто же спохватится его философски опустить? — для начала можно обрить его наголо, чтобы он не зарос в Хоттабыча философии: «Трахтибидохтибидох!» и лишь затем ощипать в петуха Диогена, на что можно предъявить бороду Плато" на)], — и пока в философском спанстве не участвуют философские святые (среди которых нет ни одного религиозного), философский сон филосо фии может продлиться дольше антропологического сна (Фуко, — антро пизм как антропологическая дискриминация (наряду с расовой, религи озной, сексуальной), основанная не на природном, а на философском (если — не философическом! — стилистическом! — стилистико"антрополо" гическом!) неравенстве людей, — на неравенстве философских животных, о которых не только в символе можно поведать много нового, — о сове (филине) Гегеля перед змеёй Ницше, о дикобразах Шопенгауэра, раня щих друг друга, когда им хочется согреться, наконец, о философских ди" кобразах, согревающихся до первых трупов, до последней давки, из кото рой, как правило, выживают сильнейших, — на неравенстве философских друзей — религиозных пастырей, — самоназванных пророков, отпускаю щих истории грехи прогнозирования, — плоскозадых вождей с эсхатоло гическим настроением, пригодным разве что для затравки стадных вра гов), — поскольку именно философия является червоточиной смысло жизненных вопросов (не исключая народной философии, которая заме шана в популяризации экзистенциальных парадоксов — например, «ко нечности—бесконечности человеческой жизни»: «И вот — бессмертные вполне могут заняться деятельным истреблением друг друга; с равным успехом — как только что говорилось о страстях — они могут друг друга ненавидеть, могут злобствовать и интриговать, скажем, по поводу Нобе левских премий…» — Хоружий4), постольку вся ответственность по их неразрешимости ложится на философских обывателей, которые несут, словно костыли, этот чужой горб по философской пустыне, так и не пре образившись в погонщиков верблюдов, — но большинство философов смотрит один и тот же сладкий сон — об идеальном государстве Платона, в котором правят такие же, как и они, — «Ах, эти философские совы! Ах, эти философские сони! Ах, эти философы, философствующие во сне без сновидения! Прежде вас сова познания вылетала в ночи, но вы проспали её полет, — разве можно научиться летать, спя в удобной постели? Пробу дитесь же от этого сновидения величиною в историю философии! Скинь те с себя заспанное одеяло, отбросьте подушку, набитую совиным пу хом, — очистите своё сознание от философского дежавю! Я жду вас у ут реннего колодца, чтобы умыться им до дна!»
А. С. Нилогов
философские беседы
АНДРЕЙ АШКЕРОВ
Нация — это постоянный флэш'моб…
Андрей Юрьевич Ашкеров (род. 1975) — современный русский философ, социо" лог, политолог, арт"критик, публицист. Доктор философских наук (самый молодой в России). Стал известен в российских философских кругах благодаря своей кни" ге «Социальная антропология» (М., 2005) и сборнику «Сумерки глобализации» (М., 2004). Философские интересы Ашкерова связаны с областями социальной онто" логии и символической праксеологии. Занимаясь исследованиями феноменов власти, обмена, времени и идентичности, Ашкеров пришёл к обоснованию метода экзистен" циальной компаративистики. Своим кредо Ашкеров считает поиск в истории не" реализованных возможностей, которые не только нуждаются в реализации, но и детерминируют для нас содержание морального долга. Открытие этих возмож" ностей связывается Ашкеровым с практикой инставрации, в которой он усматри" вает альтернативу любым реставрационным проектам. Настаивая на формуле «актуальная философия», Ашкеров часто обращается к анализу современной поли" тики. Он критикует тенденции к объединению праволиберальной и националисти" ческой платформ, которое ведёт, по его мнению, к воцарению местничества и мес" течковости. При этом Ашкеров выступает одним из инициаторов принятия «Де" кларации независимости, прав и свобод русского народа». Наша беседа с Андреем Юрьевичем состоялась в рамках проекта «Современная русская философия»5.
— Андрей Юрьевич, давайте начнём наше интервью с вашего отношения к современной французской философии. Совсем недавно вы написали некро лог на смерть Жана Бодрийяра, который читал ваши тексты и чьим учеником вас можно назвать?..
— Как можно относиться к благородным покойникам? Я храню па мять о них, причём память, преисполненную уважения. В этом уважении есть и толика зависти, поскольку с их деятельностью связан последний всплеск интереса к философии. Речь идёт не столько об интересе аудито рии, сколько об интересе самих авторов. Мне кажется, в ситуации господ ства медиаформатов, к возникновению которой и упомянутые теорети ки приложили руку, подобный интерес в прежнем виде уже невозможен. Нельзя философствовать телеэкраном, ибо из этого философствования получится только «плохой Бодрийяр» вперемешку с газетой «Жизнь». Есть и ещё один момент: после смерти когото возникает вопрос о наслед стве. Философы совсем не чужды этого вопроса. Деррида, например, был не прочь порассуждать о своих наследниках, о тех, кто будет читать его в будущем и т. д. Однако проблема заключается в том, что в наследство нам достаётся мёртвая философия. Мы должны отдавать себе отчёт в том, что французы не просто провозгласили конец всего, что могло придавать смысл философской деятельности, но и лишили её инструментария, с по мощью которого она наделяла себя смыслом. Воспевая на разные лады «последних людей» (будь то преступники, обездоленные или трагические герои), они добились статуса «последних философов». В этом им действи тельно удалось преуспеть. Для философии «после них» характерно эпигон ство, когда за честь почитают статус «второго Фуко», «третьего Бодрий яра» или даже «пятнадцатого Деррида», либо же, напротив, пытаются «начать всё с чистого листа», освободившись от гнёта авторитетов. Надо сказать, что между первым и вторым вариантами не существует принци пиальной разницы: оба характеризуют процесс варваризации, неизбежно наступающей в состоянии того, что я называю смыслодефицитом.
— О вас много всякого пишут, а как бы вы сами себя охарактеризовали? У вас есть собственное кредо в философии?
— Ну да, пишут всякое: для одних я «постмодернист», для других «фашист», для третьих — «новый левый», для четвёртых — «традициона лист», для пятых — «тайный социалдемократ», для шестых — вообще «новый Булгарин», а есть ещё и седьмые, восьмые, девятые... Не проводя никаких параллелей, напомню, что примерно так же отзывались о Фуко. Но в отличие от него меня не настолько вдохновляет возможность усколь зать от любых определений, которые тебе приписывают. (Наверное, это лишит меня шансов на то, чтобы быть включённым в категорию «fword».) Если серьёзно, в этой ситуации меня значительно больше забо тит то, что во всех этих определениях осталось слишком мало смысла. Определённость возникает как топологический эффект. Она связана воз можностью занимать какуюто позицию. Сейчас же проблема заключает ся в том, что взаимоисключающие, казалось бы, позиции можно с лёг костью перечислять через запятую. Дурным тоном считается обходиться без смешанной идентичности, то есть, условно говоря, быть «фашистом», не являясь «постмодернистом», «традиционалистом», не будучи «авангар дистом», «левым», не выступая «правым» и т. д. Однако это верная приме та деградации: для того чтобы идентифицировать себя, ты вынужден пользоваться готовыми полуфабрикатами идентичностей. Если сопро тивление подобной тенденции может иметь статус позиции, я бы связал свою деятельность с таким сопротивлением. Проблема, однако, именно в том, что возможность подобной позиции — я бы назвал её позицией ис следователя — лимитирована исчезновением всей политической тополо гии в прежнем понимании. Возрастание неопределённости (во всех зна чениях этого слова) ведёт к тому, что на смену топологической доминан те в описании социальных и ментальных структур приходит атопическая доминанта (не путать с утопической!). Единственно возможными стано вятся невероятные прежде подходы и роли, при этом невероятное теряет свой прежний статус, превращаясь в достояние обыденности. В этом за ключается фундаментальный разрыв с эпохой шестидесятых–семидеся тых годов прошлого века и с философией тех лет в том числе. То, что тог да было окружено ореолом невероятности, теперь имеет характер рутины, а мы до сих пор ищем в старых текстах ответы на несуществовавшие тог да вопросы. Проблема, однако, должна быть обозначена ещё более ради кально: возможно ли заниматься исследовательской деятельностью, если ничего нельзя помыслить топологически, если нет ничего, что можно бы ло бы рассматривать как «след»? Свидетельством кризиса исследования как практики стала, на мой взгляд, уже философская интерпретация сле да как следствия стирания предыдущего следа.
— Для многих сейчас ярлык «фашист» или, скажем мягче, «национа лист» звучит вполне комплиментарно, а для вас?
— Некоторые полагают, что обращение к подобным позициям от крывает возможность избежать неопределённости, о которой я говорил выше. Логика здесь такова: вот мы сейчас займём заведомо маргинальную позицию, равноудалённую от всех плутовских мейнстримовых позиций, существующих в режиме постоянной инверсии. Проблема в том, что в по литике такой взгляд «со стороны» невозможен. Точнее, он может только имитироваться, служить предметом симуляции. Более того, в нашем (и не только!) политическом языке понятия «фашизм» и «национализм» оста ются наиболее неопределёнными. Это, кстати, и даёт возможность посто янно использовать их как ярлыки по отношению к кому угодно. Подоб ная ситуация возникает, разумеется, неспроста: содержание любой марги нальной «крамолы» возникает в результате инверсий, которые происхо дят на уровне политического мейнстрима. При этом маргинализация тоже является политической стратегией со своими маленькими и большими хитростями — иногда очень выгодной стратегией. Она, например, не предполагает ответственности, не связана с рутинной деятельностью и много с чем ещё. В итоге маргиналом оказывается не просто тот, кто не может быть никем другим, но тот, кто находит в этой невозможности определённое удобство. Эстетизация маргинальности как политическо го юродства часто связана с тем, что комуто просто не предоставили клубного членства «во власти» (или лишили этого клубного членства).
Впрочем, проблема России заключается, скорее, в другом: любой оп позиционер обрекается здесь на роль маргинала. В рамках сопротивления этому самые маргинальные на первый взгляд политические идеи могут содержать в себе больше цивилизаторской, упорядочивающей мощи, не жели те, что проходят под рубрикой официоза. Применительно к совре менному русскому национализму я могу сказать, что он выступает идео логией сопротивления и самоопределения. Перефразируя известное вы сказывание Сталина, можно сказать, что национализм поднимает сейчас знамя, брошенное левыми. Левая идея, превратившись в смесь троцкизма с бодрийяровщиной, окончательно стала достоянием интеллектуального супермаркета для бедных. Эксплуатируемые левыми модели протеста се бя исчерпали, социальные коллизии, которые порождали эти формы про теста, видятся теперь в совершенно новом свете. Социальноклассовые конфликты всё чаще осмысляются с точки зрения этнопрофессиональ ной дифференциации. При этом национализм наследует, с одной сторо ны, идеологию низовой самоорганизации, характерную ранее для левых, а с другой — выполняет задачу, не выполненную либералами: формирова ние гражданскополитического мировоззрения. Если понимать национа лизм таким образом, я, безусловно, могу отнести себя к националистам.
— А что делает нацию нацией? Например, граждане договорятся через ЖЖ (livejournal.com) собраться на какойнибудь центральной площади в Москве, чтобы образовать русскую нацию?.. Нечто наподобие «Русского марша»? Нация по типу очередного флэшмоба?
— В переводе с английского флэшмоб означает «толпавспышка». Это особая акция, которая призвана символизировать абсолютную спон танность волеизъявления, активизм в чистом виде: «Вот мы собрались, нечто сделали и разошлись». Никаких следов приготовлений, просто действие. Действие, которое отсылает к самому себе, говорит само за себя, а потому должно быть достаточно «красноречивым». Флэшмоб исключает риторику комментария, объяснения. Допустима только рито рика поступка. В смысле своей технологии флэшмоб — это нечто сред нее между демонстрацией и перформансом. При этом политическое зна чение флэшмоба, резонанс, который он вызывает, целиком зависят именно от эстетической стороны дела. Если флэшмоб впечатлил — зна чит, он удался и как политическая акция. Если нет — извините, нет. Что касается любой политической нации, и русской в том числе, помните, Эрнст Ренан воспринимал её как беспрерывный плебисцит? Так почему же не воспринять её как беспрерывный флэшмоб? Это не значит, что су ществование нации сводится к некоему художественному «акционизму». Речь о другом: есть повседневная созидательная работа, которую осуще ствляют люди. Она неприметна, не несёт ничего нарочитого, это не шоу. Но именно в ней, в этой работе, действие начинает говорить само за себя. Рутинный труд — это ещё и эстетический феномен, относящийся к эсте тике повседневного. Существование нации не сводится к демонстратив ным усилиям политиков, которые решают нечто провозгласить, когото возглавить, к чемуто призвать и т. д. Политика вообще носит в данном случае характер тех предварительных усилий, следы которых, как и в слу чае с обычным флэшмобом, необходимо устранить. Понимание нации как беспрерывного флэшмоба открывает нам красоту повседневной ра боты, низовой мобилизации и внутренней самоорганизации, без которых нация просто не может состояться.
— Но мне, например, само определение «русская политическая нация» кажется ошибочным. Например, по Ницше, народ и есть тот субъект, кото рый определяется по способности противостоять огосударствлению. Именно на этом конфликте построена вся наша отечественная история. Вам так не кажется? Попытка создать русскую политическую нацию — это попытка снять фундаментальное противоречие нашей истории.
— Знаете, это сугубо невротический комплекс — цепляться за при вычные, ставшие комфортными противоречия. Ваша постановка вопроса хорошо вписывается в классическую интеллигентскую логику: мы любим Россию за её недостатки, мы любим в ней то, что мы ненавидим. В итоге это оборачивается экзальтированной чаадаевщиной, плоды которой мы имели возможность пожать совсем недавно: «Наша ненависть к России и есть проявление любви», «Ненавидеть можно только своё, только то, что любишь, давайте же ненавидеть!», «Чем больше мы ненавидим Россию, тем больше доказываем, что она наша» и т. д. Квинтэссенция любой циви лизации находит воплощение в государстве. Соответственно именно государство было предметом особой ненависти ненавистников России. Я категорический сторонник избавления от этого комплекса — понимая, кстати, что результатом избавления от него станет и окончательное избав ление от интеллигенции в её прежнем понимании. Собственно, в лице последней мы имеем социальную группу, само существование которой связано с культивированием всех и всяческих противоречий, а прежде всего с культивированием социокультурного невротизма.
Теперь собственно о «русской политической нации». Я действитель но считаю, что русские — в том числе, конечно, и по своей вине — оказа лись в какойто момент самым третируемым народом. В конце 1980х бы ли перечёркнуты итоги Великой Отечественной войны. А Великая Отече ственная война — это, напомню вам, наиболее значимый для нас опыт конструирования гражданской политической нации. Послевоенная сис тема символической власти, достигшая расцвета во времена популярного ныне брежневизма, строилась на почитании не просто обоснованной, а именно отвоёванной идентичности. Соответственно советские граждан ские культы были связаны, с одной стороны, с деятельностью, а с другой — со статусом народапобедителя. При этом независимо от национальной принадлежности воевавших советский солдат фактически отождествлял ся с русским солдатом. Вот начальный момент современной истории конструирования русских как нации. Эта фаза продлилась недолго: уже при Хрущёве победительные интенции сменились оборонительными. Ту же логику, несмотря на символическое превознесение воевавшего поко ления, воспроизвёл и Брежнев. Однако оборонительные интенции рано или поздно оборачиваются пораженческими.
В нашем случае это произошло именно рано, а не поздно: с приходом на историческую авансцену детей и внуков победителей. Не в последнюю очередь это случилось потому, что «советское» стало восприниматься обу зой для «русского», а ведь именно тождество русского и советского было основным завоеванием поколения победителей (ещё раз подчеркну: неза висимо от их национальности). На этом этапе, соответствующем середи не 1980х годов, протонационалисты вступили в чудовищный по послед ствиям альянс c протолибералами. Первые хотели отбросить советское, поскольку оно казалось им недостаточно русским, вторые — поскольку оно не соответствовало их представлениям о «нормальном» гражданском обществе. В итоге возникла страна пресловутых «дорогих россиян», в ко торой гражданское общество было воспринято не как нечто существую щее, а как предмет построения (наподобие того, как в прежнюю эпоху воспринимались социализм и коммунизм). При этом, приступая к «стро ительству», нужно было в мягком варианте признать, что «стройка» начи нается с нуля, а в более радикальном — что гражданского общества здесь не было, нет и не будет. Программа гражданскоправового «строитель ства» стала программой демонтажа советской политической нации, «что бы камня на камне не осталось». В её реализации приняли участие не только либералы. В числе главных сочувствующих оказались «патриоты» и «националисты», связывавшие существование нации исключительно с государством. Нет никакого парадокса, что при этом и для либеральной, и для патриотической общественности гражданское общество оказа лось воплощением торжища. В 1990е годы разница между либералами и националистами была лишь в том, что первые видели в торжище идеал социальной жизни, а вторые порицали как отвратительную неизбеж ность. При этом никто не воспринимал гражданское общество в качестве места самозарождения русской политической нации.
— А кто такие «русские»?
— Хороший вопрос. Если отвечать на него совсем просто: русские — это те, кто относят себя к русским, видя в этом предмет гордости. Пара докс, но эта самоидентификация воспринимается сейчас не иначе как протестная. Гордиться принадлежностью к русским означает бросать вы зов. На него мало кто осмеливается, поэтому русские существуют как объ ект, к тому же объект «нетранзитивный». Все знают, что они есть, многие знают, что сами — русские. Однако лишь очень малое меньшинство внут ри этого большинства озабочено трансформацией русских из объекта в субъект, который действует и мыслит, будучи носителем некоего коллек тивного «мы». Это «мы» не просто существует в истории, но и оказывает ся в состоянии эту историю менять. У нас и по сей день любят порассуж дать о России как переходном, трансформирующемся обществе. Однако никто при этом не задаётся вопросом об оптимизации исторического участия русских. Да что там: русских даже не воспринимают как общ ность, претерпевающую изменения, я не говорю уже о способности управлять их осуществлением. Чем больше рассуждают о России как о трансформирующемся обществе, тем больше русским приписывается ри гидность. Это очень удобно для того, чтобы ограничить их в правах на ис торическое творчество. Националистический дискурс в том маргинализо ванном варианте, который сейчас господствует в России, не располагает никакими концептуальными ресурсами для того, чтобы отстоять эти пра ва. Нация понимается нашими маргинальными националистами как угодно — только не как субъект исторического творчества. Подобная проблематика третируется как «имперство», в критике которого национа листы удивительным образом солидаризуются с либералами, рассматри вавшими «империю» как никчёмную и тяжеловесную обузу. Зато несом ненным успехом пользуется ложно понятая метафизика: схоластические споры о том, с чего начались русские, Русская земля, русский народ. Не которые, симулируя этимологическую реконструкцию, пытаются пред ставить русских чуть ли не как потомков этрусков. Другие всерьёз озабо чены тем, как найти какоенибудь морфологическое основание, чтобы описать русскую идентичность «какой она должна быть». Третьи полага ются на генетику, считая, что русских можно определить исходя из статис тического анализа аллельных частот. Четвёртые считают, что «русскими априори» могут считаться только православные и монархисты, а те, кто к ним не относится, — это уже какието неправильные русские. Пятые от носятся к русским с беспристрастностью этнографов, представляя дело так, будто русских можно узнать по облачению — на них непременно должна быть «фофудья». Естественно, нет никакого парадокса в том, что сторонникам перечисленных точек зрения нечего, по сути, ответить тем, кто считает, что русские — бездельники, алкоголики, вырожденцы, что у них не было и не может быть гражданского общества и т. д. Нечего, по скольку во всех этих «теориях русскости» ни слова не говорится о том, что русские определяются исходя из особенных, только им присущих форм самоорганизации. Что они вообще к этой самоорганизации способны — и именно благодаря ей заявляют о себе как о народе! А между тем именно из специфики самоорганизации выводится и этика, и политика, и религия. Этика воплощает универсализацию жизненно важных ценностей, необ ходимых для самоорганизации; политика выражает стратегии и тактики осуществления последней; наконец, религия фиксирует статус «транс ценденций» за наиболее фундаментальными целями и программами, ко торые с ней связаны. Нужно признать, что на таком уровне русских прак тически никто не мыслит. Перестройка de facto началась с признания то го, что мы не знали, какое общество построили. Контрперестройка долж на начаться в России с того, что мы должны признать: мы слишком мало знаем о тех, кто составляет большинство населения России, о русских. Без ответа на этот вопрос я, кстати, не мыслю ни будущего отечественной фи лософии, ни будущего социальных и гуманитарных наук в России. Опре делиться с тем, кто же такие русские, кто включён в состав «мы» больши нства населения, — значит не просто решить некоторую важную теорети ческую задачу. Речь идёт о более масштабном, экзистенциальном, замыс ле, заключающемся в обретении самосознания.
— Откуда сегодня такой интерес ко всему советскому?
— Советское воплощает в себе альтернативную форму цивилизации. Её отличительной особенностью была ставка на эстетизацию индустриа лизма XIX века как социальной технологии. В определённый момент эта ставка воплощала неслыханный вызов, с которым, собственно, и ассоци ируется наследие Октября. Однако ничто так быстро не устаревает, как авангард, особенно авангард политический. Советская власть компенси ровала свой политический авангардизм недюжинной способностью обра щать в традицию то, что ещё недавно казалось не только непривычным, но и невероятным. Успех советской власти заключается не в склонности к политическому авангардизму, а в умении работать с традициями, в том числе и создавать их. Посмотрите на наши спальные районы. В сущнос ти, это невиданный архитектурный эксперимент, отсылающий нас к про ектам Ле Корбюзье. Однако не кто иной, как сам Ле Корбюзье, хотел раз рушить в Москве все здания, кроме Кремля, застроив город по своему плану. Большевики не дали ему этого сделать, продемонстрировав, что они могут поставить предел своей «индустриалистской» кондовости, ог раничить её определёнными рамками. Это, разумеется, только один из примеров. Однако он поясняет, что успех большевиков кроется в особой стратегии, которую я бы обозначил как стратегию самоограничения. Для того чтобы быть большевиками, нужно было уметь быть большевиками поразному и в разной степени. И они умели это! Возможность для осу ществления подобного умения была связана с практикой трансформации прежде существовавших форм суверенной власти. Большевики не просто оформили отечественную традицию гражданской политической жизни, но фактически открыли новые горизонты политики. Институциональ ным воплощением этого открытия большевиков стали Советы. Никакого политического представительства в прежнем смысле — политика высту пает способом самовыражения, она выражает собой экстатическую ак тивность. Модус политики, обозначенный советской властью, связан с даром и жертвой. Это политика энтузиазма, самозабвения. И нет ничего удивительного в том, что она ставит под сомнение прежние представле ния о самом человеческом Я. Большевистская модель диктатуры пролета риата действительно стала предельным воплощением демократии, хотя и не в том смысле, в каком думали об этом основоположники марксизма. Демократия — это власть, организованная по принципу всеобщности во леизъявления. Однако ещё со времён Руссо известен вопрос: а что, собственно, делает общую волю именно общей волей, а не суммой част ных волений? Должен быть ктото осуществляющий принуждение к сво боде. Но кто это? Один из ответов связан с тем, что власть перестаёт транслировать свободу как привилегию и превращается в систему взаим ного мониторинга. Этим «кемто» становится человек в третьем лице, кто угодно, любой. Он и является гражданином. Большевики трансформиро вали гражданина как «любого» в товарища как «близкого», «своего». Това рищ — это тот, кому может быть адресована типичная советская фраза: «Наш человек». При этом квалификация «наш» теряет этническое и даже классовое звучание, она приобретает экзистенциальный и одновременно всемирноисторический обертон. Все мы, однако, помним, что издержки подобной трансформации не менее велики, чем приобретения. Система всеобщего доверия оборачивается практикой повсеместного доноситель ства, в энтузиастических лозунгах начинает слышаться древнее: «Рас пни!» бессребреничество же оказывается сублимированной волей к влас ти. Но именно эта чрезвычайно высокая степень амбивалентности опыта советской цивилизации делает её одним из самых интересных объектов исторического анализа. Отдельная тема — конец СССР. Я, например, от нюдь не думаю, что это был «самороспуск», как полагал Бодрийяр. Или что Советский Союз погубили информационные сети, как думает сегод ня Жижек. Можно, скорее, говорить о невозможности дальнейшей кон вертации индустриализма в форму социальной технологии. Каков бы ни был масштаб новых изобретений, год от года процесс их создания всё больше рутинизируется. Вместе с этой рутинизацией утрачивается воз можность революционного влияния индустриализма на устроение циви лизации.
— Является ли советское прошлое предметом ностальгии лично для вас?
— Я не думаю, что ностальгия в её традиционном понимании предс тавляет собой нечто интересное. В силу известных обстоятельств моё по коление прожило очень интенсивную жизнь, имея, возможно, больше поводов для ностальгии, чем многие другие. Впрочем, люди ностальгиру ют не по поводу всего разнообразия обстоятельств своей жизни, а лишь по поводу объектов, которые идеализируются «задним числом». Эти объекты включены в наиболее фундаментальный код существования, именуемый судьбой, но открываются в нём post factum на правах следов необратимос ти, канва которых придаёт трагическое звучание даже самой «спокойной» биографии. Впрочем, для меня предметом ностальгии служит не нечто внезапно понятое как несбывшееся, а жизнеспособная альтернатива на стоящему времени. Я и в прошлом ностальгирую не по упущенным воз можностям, а по возможностям, за которые ещё предстоит ухватиться. СССР для меня, таким образом, не предмет реставрации, а предмет ин ставрации.
— Чем отличается инставрация от реставрации?
— Реставрация — это попытка воскресить чтото из прошлого ценой пренебрежения к настоящему и будущему. Инставрация же — процесс, позволяющий реализовать то, что в прошлом реализовать было невоз можно (или то, что реализовывалось с большими ограничениями). Ин ставрация в буквальном смысле представляет собой расправление склад ки. Современная жизнь — это существование таких складчатых объектов, которые на наших глазах сворачиваются, скручиваются, образуют ячейки, поэтому современное общество похоже скорее не на сеть, а на губку. Реа лизуя одни возможности, мы полностью или частично упускаем другие. Иногда они ждут своего часа. В любом случае часть возможностей всегда блокируется. Современное общество вообще устойчиво воспроизводится в ситуации такого «закупоривания». Так вот, инставрация означает раз блокировку возможностей, причём эта разблокировка осознаётся как ве ление долга. Процедура инставрации связана с расшиванием губчатого социального тела, установлением градаций и границ между внешним и внутренним, раскручиванием всех этих бесконечных лент Мёбиуса. Ин ставрировать нечто — значит сделать, воспроизвести то, что когдато уже делалось, но иначе и лучше. Например, эстетика серийного бытового объ екта значительно более удачно реализуется в продукции «ИКЕИ», нежели в образцах аналогичных изделий советской промышленности, и т. д. Ду маю, что это относится и к феномену советской власти. Могу серьёзно сказать: советская власть — высшее воплощение демократии. Но не рес таврированная советская власть, а инставрированная — та советская власть, какой она никогда в советские времена не была.
— А вы действительно учились в школе № 666, с ней связаны какието истории?
— Знаете, ничего особенно инфернального в этой школе не было, — ну, кроме меня, разумеется. Хотя она не просто до сих пор существует под этим номером, но и в доме № 6 по улице «6я линия», причём никакой 1й, 2й и прочих «линий» просто не было.
— Существует ли сегодня русская философия? Какими именами она мо жет быть представлена?
— При всём тяготении философии к универсализму, в том числе и когда речь идёт о её собственных определениях, я предостерёг бы от рас суждений о том, что есть какаято «философия вообще» или «философия как таковая». Философия, связанная с поколением моих непосредствен ных предшественников — им сейчас от сорока до шестидесяти, — и есть та философия, которая имеется в нашем распоряжении. Перефразируя высказывание одного популярного политического деятеля прошлых лет, отмечу, что «другой философии у нас просто нет». Философия, которая заполняет собой горизонт того, что мы принимаем за философию «как та ковую», есть философия наиболее активно действующего поколения фи лософов. Каким образом её охарактеризовать? Думаю, её характеризует то, что вопреки одиннадцатому тезису о Фейербахе она не активна, а ре активна. Предельно реактивна. Думаю, что предельная реактивность, а значит, и реакционность мысли, — это единственный философский экс перимент, который был поставлен в последние пятнадцать лет. В чём его суть? В том, что философия объявляется хранительницей некоторого аутентичного текста — это может быть текст Серебряного века, текст «Рос сии, которую мы потеряли» или текст «Запада». При этом обозначаются две фундаментальные задачи. Вопервых, философия на постоянной ос нове начинает заниматься верификацией аутентичности, фиксировать ут раченное («досоветскую Россию») или неприобретённое («Запад») в каче стве неких феноменов, с которыми связана дальнейшая судьбы бытия и истины. Вовторых, в рамках того же самого жеста философия гипостази рует эти феномены («Запад» и «досоветскую Россию») в качестве сущно стей, которые никогда полностью недостижимы и непостижимы. Фило софская продукция при таком подходе могла быть либо переводная, либо переизданная. При этом ключевыми философскими фигурами стали пе реводчик и публикатор. В 1990е и начале нулевых мы могли наблюдать немалое количество карьер, которые считались «философскими», но на поверку сочетали в себе два этих занятия — перевод и публикация, публи кация и перевод. В любом случае за новое принималось лишь то, что под падало под категорию «хорошо забытого старого» (разнообразие при этом исчерпывалось тем, что «старое» могло датироваться и 60–70ми годами XX века и, скажем, 10ми). Нет никакого парадокса в том, что философ ская мысль сыграла ключевую роль в попытках так называемой «модер низации». Поставившая на «отсрочку и различение», философия стала образцовой инстанцией по поставке метафизических оснований для подтверждения нехитрого тезиса о том, что мы можем только догонять и отставать. Из просто недостижимых «Запад» и «Россия, которую мы поте ряли» стали недостижимыми «по определению», как выразился бы Гегель, в самом своём понятии. В противовес этому понастоящему философ скую позицию занимают те, кто — часто совершенно не стремясь назвать себя философами — избегают подобных интеллектуальных ходов. Аутен тичность находится ими в их собственной деятельности, подвергается рефлексии как условие и выражение последней. Дело ведь не в том, что бы осуществлять самоопределение некими запатентованными философ скими средствами, а в том, чтобы сама практика самоопределения высту пала бы родом философской деятельности, связанной с готовностью ап робировать на себе выносимые и обосновываемые суждения. Философия, о которой я говорю в данном случае, к сожалению, как правило, весьма далека от академизма. Зато она вплотную подходит к философии, которая (как и в любом национальном государстве Нового времени) представляет собой единство самосознания и гражданской активности. Это филосо фия, которая, как и в античные времена, рождается на базарной площади. Только аналогом такой базарной площади выступают сегодня разнообраз ные медиаресурсы. И прежде всего блоги, которые являются невиданным доселе техническим средством для индивидуализации, демонополизации процесса вынесения суждения (ранее находившегося в безраздельном ве дении академических инстанций). Этот процесс сопряжён, конечно, и со многими издержками. Однако он одновременно открывает и очень много возможностей. В первую очередь возможности наблюдать, чем для нас откликаются произнесённые нами самими же слова. Массовированное производство условий такого соотнесения представляет собой питатель ную среду и одновременно стихию той новой философии, которая и здесь, и во всём мире рождается на наших глазах.
— Каково ваше отношение к советской философии?
— Сразу оговорюсь: в отличие от В. В. Миронова я не считаю, что в советской философии «было всё», тем более что она может считаться «нашим всем». Какой#то уж слишком утлый получается тогда универ# сум, этакая вселенная «экономкласса». Что, на мой взгляд, было в совет# ской философии? Была традиция догматического аналитизма, связанно# го с интерпретациями диамата и истмата. В рамках этой традиции по# являлось иногда что#то относительно живое — этакий условный «Ильен# ков», но исключения лишь подтверждали правила. Хотя и по сей день существуют желающие продолжить эту традицию, но её можно считать заглохшей. Всё, что от неё осталось, — это комплекс довольно распрост# ранённых сциентистских предрассудков («свобода от оценок», «деидео# логизация», «есть только классическая рациональность, и другой не бы# вать» и т. д.), не согласующихся не только с философией, но и с новейшей наукой.
Существовала и другая традиция, ряженная некогда в одежды мни# мой оппозиционности. Это была традиция «просвещённой фронды», свя# занная с культуртрегерством и завуалированными аргументами ad hominem. Я связываю её с С. С. Аверинцевым, который есть первый и об# разцовый наш культуртрегер, превративший свою деятельность в попече# ние о нуждах «всея культуры». Занимаясь переводами с древних языков, Аверинцев мыслил себя как посредник между Современностью и дву# мя мифологизированными культурными доменами: античной Грецией и Византией. Будучи переводчиком «Игры в бисер», Аверинцев ввёл в моду письмо, создаваемое в манере: «Как если бы я жил в Касталии и был Йозефом Кнехтом». Впоследствии символическое место «Кнехта» заняли разнообразные французы и, в меньшей степени, немцы (Франция и Гер# мания выступили соответственно в роли современных «Касталий»). Хо# рошим тоном стало писать пространно и неясно, «под Хайдеггера», в ком# пании которого позже оказались Фуко, Деррида и некоторые другие современные «дидероты». Добавлю, что традиция «просвещённой куль# туртрегерской фронды» прекрасно сохранилась до нашего времени (круг В. А. Подороги, в особенности М. К. Рыклин, круг журнала «Логос», не# которые социологи и феноменологи).
— Говоря о проекте инставрации, вы, по сути, берёте ниточку традиции от Зиновьева, который, будучи критиком советского строя, также говорил об альтернативах и о настоящей советской власти.
— Нет, от Зиновьева я не отталкиваюсь. Зиновьев, как я его понимаю, исходит из того, что есть сумма конструктивных элементов, из которых создан некий объект — социальная система. Мы можем разрушить эту социальную систему, но всё равно сохранятся эти элементы, из которых можно всегда возвести то же самое, сколько бы вы ни разбирали и ни собирали её. Он говорил об этом более образно, характеризуя прежде все го перестройку: сколько сарай ни перестраивай, он всё равно останется сараем. Зиновьев — социологический логицист, для него описание со циальной реальности сводится к описанию системных свойств. Рекомби нация элементов не ведёт, в представлении Зиновьева, к возникновению новых качеств системы. Именно поэтому зиновьевская «социология» чужда историческому мышлению. Из имеющихся материалов можно построить сарай хоть с башенкой, хоть с крылечком, но от этого ничего не изменится. То, о чём я говорю, не предполагает бесконечное стро ительство одного и того же сарая. Инставрация революционна по отно шению к «тому же самому», она открывает, что «то же самое» и есть дру гое. Я мыслю, если угодно, в логике некоей благодати, когда «возвраще ние к пройденному» оборачивается открытием ранее нереализованных возможностей. Правильное обращение к этим возможностям приведёт к получению неожиданного эффекта, несводимого к любым предпосылкам его возникновения. В рамках теории инставрации я апеллирую к логике события.
— Речь о политической воле?
— Нет, о возникновении некоего явления, которое не сводится к сум ме предпосылок своего возникновения. Событие возникает именно тог да, когда порывает с причинноследственными связями, давая о себе знать как бы «поверх них». Инставрация совпадает с практикой порожде ния таких событий.
— Является ли теория инставрации теорией упущенных возможностей?
— Социологией и философией упущенных возможностей пусть за нимаются другие. Я занимаюсь не упущенными, а обретёнными возмож ностями.
— Какой бы вы предложили критерий проверки философских способ ностей? Какой экзамен должен быть, чтобы проверить абитуриента на фило софскую «вшивость»?
— Буду рассуждать от противного: это не должно быть тестирование. Логика готовых мыслительных решений неприменима к философии.
Когда на философский факультет люди принимаются методом тестов — они проходят тест на готовность к постоянному мышлению в стиле тести рования. Проходят тест на тестируемость, на своеобразную проштампо ванность мышления. На мой взгляд, должна быть система разнородных письменных заданий по обществознанию, которые предполагали бы раз ные жанры и темы рассуждений. Тесты следует оставить для проверки знания фактов, а не бездарных определений из школьных учебников. Фи лософия связана с практикой рассуждения, создающей новые интерпре тации. Абсурдно с самого начала приучать будущего студента к поиску единственно правильных ответов. Получается, что в качестве обряда по священия он проходит процедуру, принципиально несовместимую с практикой философской работы.
— Какие из крупных текстов вы пишете сейчас?
— В настоящее время я занимаюсь написанием учебника по этике. Мне захотелось разобраться в этической проблематике, рассмотрев её че рез призму социальной философии. Меня интересуют жизненные прак тические ситуации, в которых человек сталкивается с неразрешимыми вопросами и уподобляется героям древнегреческой трагедии. Это очень далеко от господствующего в настоящее время «бытового» представления об этике как теории, которая учит «правильному» поведению и предла гает рецептуру на все случаи жизни. Неразрешимые ситуации возникают не от «падения нравов», а изза конфликта сосуществующих этических кодов, симбиоз которых оборачивается в определённых ситуациях сбоями и интервенциями вирусного типа. Я намерен проанализировать и срав нить разнообразные этические системы, понять причины конфликта между ними. Все говорят о добре, о благе, о долге, при этом во имя всего этого с той или иной степенью лёгкости проливается кровь. В постсовет ской традиции этика сводится почемуто прежде всего к этике ненасилия. При этом интерпретация этических проблем осуществляется, как прави ло, в режиме истории этических учений. Это, на мой взгляд, достаточно однобокий подход. Момент конфликта этических кодировок, изза кото рого часто, если не всегда, льётся кровь, самый трудный для рассмотре ния, а потому и самый интересный. Этика обосновывает различные моде ли жертвенного поведения, однако нужно помнить, что жертвы не только добровольны. К тому же механизм жертвенного поведения всегда соотно сится с характером социальной организации. В итоге я ставлю вопрос ещё более широко: необходимо соотнести функционирование социальных систем с процессами валидизации ценностей, которые придают этому функционированию цели и смысл. Это связано с исследованием взаимо связи между представлениями о благом и должном и характером детерми наций в обществах определённого типа.
Ещё один предмет моей работы — философия образования. Устрой ство системы образования помогает нам представить общество будущего. Никакая содержательная прогностика невозможна без исследования об разовательных институций, и любые серьёзные трансформации общества начинаются с образования. Вместе с тем сами образовательные институ ции очень консервативны, сама их организация предполагает сопротив ление инновациям, и даже в какомто смысле сопротивление времени. При этом главным трендом в сфере образовательной деятельности явля ется сейчас именно инновационное образование. Означает ли это, что с образованием произошла какаято мутация, ускользнувшая от внимания исследователей? Конечно нет. «Инновационность» образования предпо лагает совершенно другую и вполне предсказуемую перемену: знание окончательно превратилось в потребительский продукт со своим стоимо стным наполнением, а образовательная система стала институтом интел лектуального сервиса, вполне вписывающимся в существующую сервис ную инфраструктуру. Концепция «общества, основанного на знаниях», пришедшая на смену концепции информационного общества, отсылает нас к общественной реальности, целиком построенной на таком потреби тельском отношении к знанию. Теперь, чтобы подтвердить свои качества предмета потребления, оно должно служить и развлекательным целям — и без того нечёткая грань между трудом и досугом становится ещё более незаметной. Другая характеристика «общества, основанного на знаниях» связана с тем, что по отношению к другим формам интерпретации знания доминирующим стал компетентностный подход. Отныне «знанием» признаётся специализированная экспертная информация, суммирующая комплексные сведения о заведомо частном явлении. При этом знание по нимается как менеджерский, организационноуправленческий ресурс. Проект «общества, основанного на знаниях» предполагает и то, что рево люция не может случиться даже в сфере науки и техники — любая рево люция оказывается теперь революцией менеджеров. Всё это, разумеется, имеет масштабные последствия. В частности, знание перестаёт воспри ниматься как предмет бескорыстной заинтересованности. В мире, стол кнувшемся с кризисом перепроизводства возможностей, для такого инте реса возможности не остаётся. Сомнительны и перспективы философии, которые немыслимы без бескорыстного отношения к знанию. Филосо фия сталкивается и с другой угрозой: соответствовать компетентностному подходу означает для неё превращение в банальную идеологию изучения сознания. Наиболее полно такому пониманию соответствует в настоящее время аналитическая философия. С точки зрения критерия конкуренто способности она в этом смысле не имеет себе равных.
— К вопросу о менеджерах и революции. Некоторые считают, что глав ный философ у нас в стране — Сурков. Вы так не думаете?
— Талант Суркова проявился в том, что он не только воскресил идео лога, но и наделил его существование положительным смыслом. Сама возможность такой фигуры ещё совсем недавно казалась достоянием прошлого. Вопрос, однако, в другом. Каким стал воскрешённый идеолог, инставрирован он или реставрирован? Сколько бы ни сравнивали Сурко ва, например, с Сусловым, между ними есть принципиальное различие. Оно связано не с «личными» качествами, а с ролями, которые они испол няли. Раньше идеолог был человеком, ведающим тем, о чём сейчас любят порассуждать: политикой мысли. Он определял, что должно быть помыс лено, а о чём «и думать не смей». Это, помимо всего прочего, выдавало бо лее серьёзное отношение к ментальной продукции и всему, что связано с её производством. Сейчас такое отношение попросту невозможно. Мысль, по большому счёту, перестала быть предметом политики, во вся ком случае, «большой политики». Теперь всё наоборот: «большая полити ка» обозначает свои рубежи, дистанцируясь от мысли в её абстрактном воплощении. Стоит напомнить, что эта ситуация радикальным образом отличается от той, в рамках которой возникла философия. С самого нача ла философия была институтом, который не просто управлял стихией чистого мышления, но и являлся способом превращения последнего в предмет «большой политики». Да, в настоящее время мысль стала более изощрённой, она превратилась в подобие дизайнерского объекта. Однако и назначение её стало иным — оно сводится к некоему декорированию, «украшательству». Раньше философская деятельность была чемто вроде утончённого аристократического призвания (в том числе и для «филосо фов на троне» типа Екатерины II), теперь она воспринимается как свое образное развлечение. Как экзотическая форма праздности. Философия оказалась тем, чем можно заняться «на досуге». Фигура Суркова — кем бы он ни был «на самом деле» — воплощает произошедшую расстановку ак центов. Повидимому, он неплохо относится к философии, поэтому в его исполнении и работа идеолога становится чемто сродни сочинению belles lettres. При этом в рамках классической бюрократической подмены он на систематической основе выдаёт тактические проблемы и решения за стратегические. Есть, например, проблема трудоустройства той части номенклатурных кадров, которые не смогли или не захотели вписаться в стройные ряды партии начальников под названием «Единая Россия». Ни чего страшного: для них предусмотрена другая, альтернативная партия — «Справедливая Россия». При этом произошедшее трудоустройство «осво бождённых работников» трактуется как достижение российской демокра тии, дозревшей, наконец, до двухпартийной системы. Подобная инвер сия тактики и стратегии составляет самую суть идеологической работы. Идеология выступает технологией осмысления чего бы то ни было, фило софия, напротив, озабочена открытием того, что в чёмто слишком мало смысла, что смысл вообще существует под знаком исчезновения, утраты.
Осмысление является для философии не уловкой, а проблемой. Одновре менно философия занята онтологическим тестированием существующе го: как нечто может существовать? что значит считать нечто существую щим? каким удостоверяется в правах на бытие то, к чему мы адресуем слова: «Это есть…»? Философия выступает идеологией лишь в той мере, в какой безоговорочно признаёт за собой право на эти вопросы. Однако проблема и решение для философской мысли заключаются в том, что эта безоговорочность всегда может быть поставлена под сомнение.
— Потреблядство проникло и в политику?
— Давайте оставим в покое эту терминологию, она лишь продолжает агонию западного левачества. Проблема в том, что его применение — маркетинговый ход, смысл которого прекрасно осознаётся создателями. Это такое вот полуматерное словцо, увидев которое все сразу бросятся по купать твою книгу, то есть вступят в очередной цикл потребления. Таким образом, оказывается, что с удовольствием потреблять можно продукт, призванный отвратить от потребления. Отвратить, разумеется, «на сло вах», в форме литературного негодования и посредством же литературно го продукта. Сам тезис о потреблядстве основан соответственно на эксплуатации неудовлетворённости, недостаточно удовлетворённых по требностей, среди которых, оказывается, есть ещё и некая потребность в неудовлетворённости. Возможно, в эпоху всеобщей образованности она становится основной. Неудовлетворённость не просто движет спросом, но и сама имеет стоимостное выражение. Есть спрос на неудовлетворён ность, на некую словесную критику. И облечение неудовлетворённости в форму спроса имеет вполне терапевтическую функцию. Хотим мы того или нет, любая критическая философия отныне будет сопряжена с подоб ной терапией и соответственно со спросом на неудовлетворённость. Тут возможна некоторая «работа на опережение», связанная маркетинговым усовершенствованием форм неудовлетворённости, которые сами оказы ваются рыночным товаром. В философии начало этому положил, как ни странно, К. Маркс. Затем была Франкфуртская школа, Ж.П. Сартр, Р. Барт. Огромную роль в формировании спроса на неудовлетворённость сыграл Бодрийяр и его последователи. Не остались в стороне и «но вые философы». У нас в постсоветские времена повышением рыночно интеллектуального спроса на неудовлетворённость активно занимался А. С. Панарин.
— Если говорить о властных отношениях в философии, то мне всегда вспоминается фраза А. Кожева о том, что между философом и тираном нет существенной разницы, и лишь суета будней не позволяет одному быть и тем и другим.
— Это извечная коллизия, когда философ тягается с политиком и ли бо демонстративно пренебрегает им, либо становится его наставником. Не будем забывать также, что философ является ближайшим наследни ком жреца, в какомто смысле светским его воплощением. Однако с ан тичных времён на этом поприще у философа появилось слишком много конкурентов — чего стоит хотя бы телевидение и его кадры в качестве но вой жреческой касты.
— А как же быть с одиннадцатым тезисом о Фейербахе? Считаете ли вы его водоразделом в философии?
— Философская деятельность связана с аккумулированием ресурсов символической власти. Любая теория не просто нечто описывает, но и до какойто степени делает нечто существующим. Что касается философии, то она утверждает в своих правах бытие. Одиннадцатый тезис о Фейерба хе состоит в том, что бытие сконцентрировано в действии, а отношение к действию невозможно ограничивать описанием. Отношение к бытию какдействию можно выразить только в форме решимости. Не описывать, а осуществлять изменения. Проще говоря, иногда нужно просто дать хук в челюсть, нежели два часа объяснять, почему его нужно дать. В некото рых случаях это вполне может быть философским жестом. И, знаете, Маркс — образцовая фигура, чья философия может рассматриваться в качестве такого хука в челюсть. Хотя на том же самом примере мы в пол ной мере можем оценить, что философы не обладают монополией на реформирование мира и прогнозирование его развития.
— Вы активно публикуетесь. Это письмо на злобу дня?
— Я не вижу в «злобе дня» ничего плохого. Философия должна быть актуальной. Она должна вершиться здесь и сейчас, по современным, се годняшним поводам, чтобы не превратиться в практику сдувания пыли с монументов. Именно поэтому она должна предоставлять свой отклик на продукцию медиасферы. Важно, чтобы этот отклик становился достояни ем самой медиасферы на условиях, которые обозначает сама философия. В этом её принципиальное отличие от любой самой качественной журна листики. Напомню, что у Маркса огромное количество заметок, статей. А Кант — вот уж идеальный пример философаанахорета — стоял тем не менее у истоков просветительского жанра рассуждения «для широкой публики», то есть фактически всё для той же медиасферы.
— А как же «вечная философия»?
— Вечность всегда имеет две стороны — живая вечность, нечто вос производимое и воспроизводящееся, сохраняющее себя в какойто не тленной форме, и есть мёртвая вечность как мумификация, бальзамиро вание, подновление, реставрация. Я, естественно, на стороне живой веч ности. И актуальная философия, в том понимании, о котором я гово рю, — тоже на стороне живой вечности. Живая вечность — это то, чем мы живём здесь и сейчас, и то, что связано с нашей системой действий. Из менится эта система действий — и вечность будет другой. У каждой эпохи своя вечность. И даже на протяжении своей жизни мы можем быть со причастны разным образам вечности.
— Очень выгодная у вас позиция в вечности…
— Это позиция не обозначает тотальный релятивизм. Вечность — не перчатка, которую можно снять и бросить. (В том числе и комуто в лицо: «То, что для вас вечность, для нас — мгновение».) Вечность соотносится с разными образами исторического времени, которые могут быть представ лены в виде круга, стрелы, спирали. Возможна соответственно история вечности, если воспользоваться словосочетанием Борхеса, — это одна из тем, которой я стараюсь по мере сил заниматься. Нечто вечное утвержда ется только в рамках обозначения неких границ. Границы связаны с на шей причастностью к определённой системе действий. Вечность не тож дественна тишине музейного зала или гробницы. Вечность — это способ действования, в рамках которого мы проверяем на себе и соответственно воплощаем искомую истину. Именно поэтому вопрос о вечности для ме ня вопрос антропологический и социологический, а не метафизический или теологический. В противном случае мне пришлось бы притязать на то, чтобы пытаться смотреть на мир с точки зрения Бога.
— Конечно, ведь вы полагаете, что только антропологическая точка зре ния является вечной…
— Ничего подобного. Антропология притязает на подобный статус только в том случае, если претендует иллюстрировать проекцию Божест венной точки зрения, отвоёванной для себя человеком. Важно понять, что и точка зрения Бога — вместе со всей атрибутикой «Божественной вечности» — определённым образом создана, а значит — соотносится с некой системой действий. Наше представление о всеохватности связано с логикой линейной перспективы, когда восприятие земли на расстоянии превращает её в трёхмерное пространство, наблюдение которого ведётся откудато из области Необозримого. Но линейная перспектива имеет конкретную датировку своего возникновения — живопись эпохи Возрож дения. Вне этой живописи мы не могли себе представить ту самую всеох ватность, с которой до сих пор работаем, пытаясь бросить некий в бук вальном смысле «потусторонний» взгляд на мир. Когда возникла линей ная перспектива, человек поставил себя в положение Бога, который взи рает на мир со стороны.
Считается, что Вечность — это категория, которая может описывать ся только апофатически. Это не так. В любых представлениях о вечном, универсальном проявляет себя способ, в рамках которого мы вовлечены в историю. Некоторая модель того, что я называю «темпоральной ангажи рованностью». Последняя задаёт и то, как мы понимаем нечто незыбле мое, и характеристики самого времени: плоть его «духа». Скука, револю ция, ожидание, долг, терпение, случайность, томление, творчество, тонус, неожиданности, успех, изменения, погоня за чемлибо, действие и без действие, скорость, работа, происшествия, свобода, болезнь, целесооб разность, риск — всё это характеристики нашей темпоральной ангажиро ванности. Наша вечность длится ровно столько, насколько хватает ресур са нашего исторического участия. (Играя словами, можно сказать, что этот ресурс и есть наша участь.) Формула вечности равносильна в этом смысле формуле сбережения «того же самого» или формуле «отсрочки», если пользоваться этим сартровскодерридианским термином. Однако отсрочка может порождать самые непредсказуемые трансформации. Наи более общим выражением их амплитуды является разница между жизнью и смертью.
— У вас получилась какаято грустная картина…
— А вы можете посмотреть на мир с позиции Бога?
— Нет, но благодаря вашему ответу я могу произвести водораздел меж ду социальной антропологией и философской антропологией.
— Замечательно. Вот видите, я заодно реализовал и педагогическую миссию.
— Можно ли назвать Андрея Юрьевича Ашкерова философом online (в отличие от философии ofline и даже — offline)?
— Лучше философия offtopics… Я реагирую очень избирательно, стараясь избегать заведомо определённых «главных тем». Например, ког да пишу некролог, расстаюсь с чемто, что составляло часть меня само го, — может быть, что служило олицетворением живого. Впрочем, в ка комто смысле любой текст напоминает для меня некролог: когда я пишу о чёмто, я расстаюсь с этим как с частью себя. И тут уже никакое само обладание не гарантировано.
Беседовал Алексей Нилогов
ВЛАДИМИР ВАСЮКОВ
Формализация философии
Владимир Леонидович Васюков (род. 1948) — современный русский логик, фило соф. Доктор философских наук, ведущий научный сотрудник сектора логики Инсти тута философии РАН. Автор таких книг, как «Формальная феноменология» (М., 1999), «Квантовая логика» (М., 2005), «Категорная логика» (М., 2005), «Фор мальная онтология» (М., 2006). «Им разработаны феноменологически ориентиро ванные формальные языки, которые позволяют интерпретировать рациональ ные моменты философских учений выдающихся философов XX века Э. Гуссерля, Ж.П. Сартра и др. Предложена и обоснована концепция формальной феноменологии как нового самостоятельного направления логикофилософской мысли, возникшей на стыке нескольких дисциплин — онтологии, логики и феноменологии. Разработаны системы ситуационной онтологии и ситуационной формальной феноменологии, ос новывающиеся на идеях Л. Витгенштейна»6. Наша беседа с Владимиром Леонидови чем состоялась в рамках проекта «Современная русская философия»7.
— Владимир Леонидович, каково ваше отношение к вкладу А. А. Зи новьева в развитие логики, в том числе так называемой неклассической?
— Что касается вклада в развитие отечественной логики, то он не сомненен. В частности, Зиновьев был одним из немногих, чьи труды у нас ещё в 1960е годы были посвящены современной неклассической логике: многозначной и релевантной, логике науки. С другой стороны, извест ный американский логик ХХ века Д. Скотт в журнале Logique et Analyse в восьмидесятые годы писал, что он вынужден развеять бытующий на Запа де миф о заслугах Зиновьева перед современной логикой (речь шла в ос новном о его работах по теореме Ферма). Повидимому, фигура Зиновье ва как писателя и социолога заслоняет Зиновьевалогика в глазах многих его читателей, сторонников и противников, не давая возможности пра вильно оценить его вклад в развитие логики.
— Можете ли вы в двух словах объяснить, что такое квантовая логика?
— Если просто сказать, что квантовая логика — это логика микроми ра, то, боюсь, это «простое» определение может ввести в заблуждение. С чисто технической стороны многие системы квантовой логики пред ставляют собой недистрибутивные логики, в которых принципиально невозможно ввести связку импликации («если… то…»). Природу этих за претов (на дистрибутивность — относительно связок «и» и «или» — и на личие импликации) содержательно очень трудно объяснить, если не пользоваться понятиями квантовой теории, а там эти требования очевид ны и органичны. Собственно говоря, первая работа, в которой был по ставлен вопрос о квантовой логике (Дж. фон Неймана и Г. Биркгофа, от носящаяся к 1936 году), была посвящена отклонениям от классического (булевого) формализма, возникающим в рамках стандартного подхода квантовой теории. Поскольку же эти отклонения можно было рассматри вать и описывать совершенно абстрактно и обобщённо, то это привело к тому, что в настоящее время допустимо говорить о «квантовой логике» как разделе неклассической логики, с одной стороны, и о «логике квантовой механики» — с другой, хотя это деление всё же достаточно условно. По су ти дела, речь идёт о том, обязательно ли в семантике систем квантовой ло гики должны присутствовать и рассматриваться не только чисто абстракт ные, теоретикомножественные модели, но и модели, построенные на языке и средствами квантовой теории.
— Насколько сейчас логика является попрежнему философской дис циплиной? Не место ли кафедре логики на естественнонаучном факультете (например, на мехмате)? С другой стороны, в последнее время предпринима ются формализации ведущих философских систем (в том числе и ваш вклад). Насколько сблизились онтология и логика в настоящее время?
— Логика попрежнему является философской дисциплиной, хотя её взаимодействие с другими дисциплинами усилилось, что привело к «ин тердисциплинарному» статусу некоторых её разделов: лингвистической логики, когнитивной логики, логики информатики, логики компьютер ных наук и т. д. С этой точки зрения можно говорить и о философской ло гике (как области, разделе или направлении логических исследований, ориентированных на философские проблемы и требующих применения философских содержательных методов и категориального аппарата), и о математической логике как результате междисциплинарных связей (с фи лософией и математикой). При этом взаимодействие логики с философи ей представляет собой обоюдный процесс: наряду с философской логи кой говорится и о философии логики (философском анализе логических проблем), и о логической философии (философии, развиваемой логиче скими методами). Что же касается кафедр логики на других, кроме фило софского, факультетах, то этот вопрос не нов: ещё во времена львовско варшавской школы в Львовском университете было одновременно три кафедры логики, одна из них как раз на естественнонаучном факультете. В то же время наряду с кафедрой логики на философском факультете МГУ существует и кафедра математической логики на мехмате МГУ (с несколько изменённым названием).
Если же говорить о предпринимающихся в последнее время форма лизациях ведущих философских систем, то здесь вопрос достаточно сло жен. Сложности в основном связаны с тем, что и как подвергается форма лизации, а также с необходимостью подобной формализации. Если речь идёт о значении логики для философских исследований, то здесь мне трудно удержаться от того, чтобы не процитировать одного из крупней ших логиков ХХ века Яна Лукасевича: «Когда с мерой строгости, создан ной при помощи математиков, мы подходим к великим философским системам Платона или Аристотеля, Декарта или Спинозы, Канта или Ге геля, то все эти системы распадаются в наших руках как карточные доми ки. Их основные понятия туманны, главнейшие утверждения непонятны, рассуждения и доказательства нестроги; логические же теории, лежащие так часто в глубине этих систем, почти все ложны. Философию необходи мо перестроить, начиная с оснований, вдохнуть в неё научный метод и подкрепить её новой логикой. О решении этих задач один человек не мо жет и мечтать; это будет труд поколений и умов, гораздо более мощных, нежели те, которые когдалибо до сих пор появлялись на земле»8.
Лукасевич писал это ещё в 20х годах прошлого столетия. Но за про шедшие годы возник и вопрос о том, какие же «формальные методы» при годны для формализации философских систем. По мнению, например, Сьюзен Хаак (в интервью, опубликованном в книге «Формальная фило софия» в 2005 году), они, по сути дела, представляют собой различные члены слабо связанного семейства подходов и техник, обозначенные фра зой «формальные методы», которая может относиться к синтаксическим методам формальной логики, но может также включать методы экстенси ональной формальной семантики Тарского, «грамматики Монтегю», при менение математических вероятностных исчислений и т. д., и т. п. Они во всей своей широте охватывают любое (и каждое) использование любого (и каждого) метода символического аппарата, но, с другой стороны, явля ются всего лишь некоторыми из «многих дозволенных способов».
Полезны ли они философу? Порою да, но многие не верят, что это единственно полезные методы или даже что они заслуживают какойлибо специальной привилегии. Иногда формальный подход является как раз тем, что нужно, но бывает и так, что он не отвечает рассматриваемой за даче. В некоторых случаях он заставляет искусственно сужать диапазон вопросов или глубину анализа, а иногда это просто украшение, поверхно стный научный глянец, наводимый на слабые или путаные рассуждения (что часто бывает со статистическим аппаратом, используемым, напри мер, социологами в своих исследованиях).
В последнее время становится ясным, что «формальные методы» по лезны, повидимому, не только для формализации философских систем, но и для формализации их понимания и истолкования. Это нашло, на пример, своё выражение в концепции логической герменевтики, выдви нутой польским философом и логиком Б. Вольневичем. Он пишет, что сложности рассмотрения философских систем таких авторов, как, напри мер, Хайдеггер, требуют от нас нетривиального логического анализа, про вести который можно лишь в том случае, если мы сопоставим рассматри ваемой философской системе определённую логическую теорию, то есть переведём философскую систему на язык определённой логической тео рии. В этом случае мы будем в состоянии проследить и оценить правиль ность и убедительность философской аргументации, её непротиворе чивость. С другой стороны, здесь существует определённая тонкость, связанная с тем, что эта логическая теория не обязательно должна быть классической. Более того, например, в случае с тем же Хайдеггером, воз можно, лучше с самого начала рассматривать «герменевтический» пере вод на язык паранепротиворечивой логики, поскольку явно противоречи вый характер его философской теории в рамках подобной интерпретации не приводит к тривиализации философских построений, позволяя рабо тать с противоречиями нестандартным образом, не стремясь избежать их любой ценой.
Наконец, если говорить о сближении онтологии и логики в послед нее время, то следует вначале заметить, что онтология и логика с самого начала шли рука об руку, начиная с трудов Аристотеля, основателя науки логики. Что выяснилось в последнее время, так это то обстоятельство, что следует более внимательно подходить к проблеме онтологических допу щений языка, в частности формального. Ситуация выглядит таким обра зом, что конструирование любой логической системы, начинающееся с построения соответствующего логического языка, автоматически влечёт за собой принятие некоторой картины мира, точнее, онтологической теории, предполагаемой этим логическим языком. Это те «очки», через которые теория видит мир. Дефекты в этом видении могут возникнуть тогда, когда онтологические допущения языка не совпадают с действи тельной структурой того фрагмента мира, о котором говорит наш логи ческий язык. В этом случае чаще всего речь идёт о несовпадении и несты ковке двух онтологических теорий: онтологии внешнего мира и внутрен ней онтологии, навязываемой нам нашим языком.
Чтобы устранить эти дефекты, взаимодействие внешней и (внутрен ней) языковой онтологий следует описывать в рамках логической теории. Классическим примером здесь является система Онтологии Ст. Лесьнев ского, когда в язык логической системы включается связка, отвечающая глаголу «быть», позволяющая описать онтологические взаимоотношения объектов строго логическим языком. Другим примером могут послужить так называемые комбинированные логики В. А. Смирнова, когда заранее задаётся определённая онтология (теория действительности) в виде алгеб ры объектов и в язык логической системы включён оператор, связываю щий имена этих объектов с высказываниями о них, что позволяет полу чить «логическое» отражение онтологических структур на уровне логики. И «онтологика» Лесьневского, и «онтологика» Смирнова с самого начала строятся с учётом взаимоотношения онтологии и логики, более того, по мнению Смирнова, именно конструирование логических языков и выяс нение содержащихся в них онтологических допущений является хорошим средством изучения проблем онтологии.
— Какие существует идолы логики (например, до сих пор многие логики так и не хотят признавать тот факт, что так называемые законы формальной логики и других логик отнюдь не являются законами человеческого мышле ния и уж тем более — законами бытия, а зависят лишь от тех терминов и опе раторов, с помощью которых они формулируются, то есть представляют со бой законы функционирования тех терминов, на которых сформулированы сами логические законы)?
— Ваша проблема идолов логики в самой логике нашла своё выраже ние в концепции так называемых «постовских систем», иначе — индук тивных определений или дедуктивных систем (в терминологии С. Ю. Мас лова). Ещё в 1943 году американский логик польского происхождения Э. Пост заметил, что в процессе наших рассуждений мы можем сосредо точиться на самих правилах вывода одних высказываний из других, не об ращая внимания на вид этих высказываний, и в конечном итоге рассмат ривать правила вывода просто как некие правила получения одних абстрактных объектов из других в рамках абстрактной «квазилогической» системы. Подобные системы не обязательно должны быть тенью знако мых всем систем логических рассуждений и могут жить собственной жизнью, движимые своими внутренними потребностями. Дальнейшее развитие логики показало, что современная логика, решая металогиче ские проблемы, часто прибегает к построению подобных систем, всё дальше и дальше удаляясь от практики обычной аргументации. Возника ет опасность того, что часть логических систем неклассической логики, полученных подобным образом, вообще не имеет отношения к логике как дисциплине, изучающей формы и приёмы познавательной деятельности.
Мне представляется, что критерием, позволяющим провести демар кацию между логическими и постовскими системами, служит возмож ность построения системы аргументации, подчиняющейся правилам той или иной неклассической системы выводов, которая получила в совре менной логике название «логической системы». В своей работе «О не фрегевской аргументации» я попытался построить типологию некласси ческих аргументаций и рассмотрел её применение на примере так называ емой «рогатки» А. Чёрча. Так, например, нефрегевская аргументация ос новывается на различении эквивалентности и тождественности утверж дений, когда тождественность влечёт эквивалентность, но не наоборот. Эквивалентность основывается на совпадении логических значений (их всего два — «истина» и «ложь»), а тождественность основывается на сов падении ситуаций, описываемых утверждениями, что позволяет разумно аргументировать даже в случае непрозрачных контекстов.
С позиции подобной типологии неклассических аргументаций «ло гичность» той или иной неклассической системы определяется наличием или отсутствием системы аргументации, построенной на основании при менения рассматриваемой неклассической логики к процессу рассужде ний. Если подобная система аргументации может быть построена или описана, то мы имеем дело с логикой, если же нет, то перед нами типич ная постовская система в чистом виде.
— Что означают ваши формализации философских концепций Гуссерля, Сартра и других? («…разработаны феноменологически ориентированные формальные языки, которые позволяют интерпретировать рациональные моменты философских учений выдающихся философов века Э. Гуссерля, Ж.%П. Сартра и др.».)
— Известно, что сам Гуссерль высказывался против любой возмож ности дедуктивной теоретизации в феноменологии. Он считал, что его проект феноменологии представляет собой новый тип знания, принци пиально не формализуемый. Однако он не запрещал косвенные выводы, не отвергал и аналогию, его задачей было отстаивание самостоятельности феноменологического метода и феноменологии как дескриптивной на уки. В конечном итоге он стремился к обоснованию параллельности двух методов. По мнению же ученика Гуссерля, русского философа Г. Г. Шпе та, феноменология должна не только следовать логике, она постоянно имеет дело с теми же предметами, что и логика, она постоянно образует понятия, суждения, выводы. Вот этуто сторону феноменологии Гуссерлю было трудно ухватить и описать хотя бы потому, что неклассическая логи ка и математика были ему практически неизвестны, да и они в его время только зародились и начали развиваться. Отсюда, вопервых, стоит с из вестной долей осторожности подходить к его высказываниям, относя щимся к возможности математических наук и логики. Вовторых, стоит попытаться навести мост между феноменологическим методом и логи ческим, принимая во внимание то обстоятельство, что если любая логи ческая теория является теорией некоторой предметной области, то поче му бы не рассмотреть в качестве подобной области, например, некласси ческую область интенциональных и трансцендентных предметов? Вот этото параллельное описание на неклассическом логическом языке я и попытался получить, учитывая при этом, что полученные языки и систе мы живут своей собственной жизнью, не всегда предвиденной замыслом их создателя.
— Что такое формальная феноменология?
— Гуссерль в своих «Логических исследованиях» (1900/1901) разли чает формальную логику, с одной стороны, и формальную онтологию, с дру гой. Формальная онтология имеет дело с взаимосвязями вещей, с объек тами и свойствами, частями и целым, отношениями и совокупностями, в то время как формальная логика имеет дело с взаимосвязями истин (или пропозициональных значений в общем случае) — с отношением выводи мости, с непротиворечивостью и общезначимостью. Как формальная ло гика имеет дело с отношениями выводимости, которые формальны в том смысле, что они применимы к выводам в силу лишь одной своей формы, так и формальная онтология имеет дело со структурами и отношениями, которые формальны в том смысле, что они экземплифицированы в прин ципе всей материей, или, говоря другими словами, объектами всех мате риальных сфер или областей реальности.
Если воспользоваться энциклопедическим очерком Р. Ингардена о философии Гуссерля, то можно было бы продолжить мысль Гуссерля сле дующим образом: формальная феноменология имеет дело с взаимосвязями действительных и интенциональных объектов, с интенциональными объ ектами и свойствами, в то время как формальная онтология имеет дело с взаимосвязями действительных объектов, с действительными объектами и свойствами. Как формальная онтология имеет дело со структурами и от ношениями, которые формальны в том смысле, что они экземплифици рованы в принципе всей материей (объектами всех материальных сфер или областей реальности), так и формальная феноменология имеет дело со структурами и отношениями, которые формальны в том смысле, что они экземплифицированы в принципе объектами, данными во всех им манентных и трансцендентных наблюдениях, когда они понимаются с та кими присущими им свойствами, отношениями и способами существова ния, с какими они выступают в непосредственном опыте как феномены особого рода.
— Каково современное развитие логики в мире?
— Если коротко, то к началу XXI века логика столкнулась с тем об стоятельством, что возникновение всё новых и новых систем некласси ческой логики привело к ситуации, когда на повестку дня опять встал вопрос, к которому логики периодически возвращаются со времён Арис тотеля: что представляет собой логика как наука? Дело в том, что системы неклассической логики всё дальше и дальше удаляются от норм и идеалов классической логики и становятся всё труднее для понимания и примене ния. Приходится постоянно модифицировать методы их построения и ис следования, прибегая ко всё более обобщённым конструкциям для того, чтобы найти и выделить то общее, что есть у всех логических систем. Это приводит к тому, что возникает соблазн начать всё сначала, отставив в сторону слишком «заумные» системы и прибегая к «простым», нефор мальным решениям. Выход в данной ситуации логика начинает искать на путях уточнения старых и выработке новых унифицирующих метало гических понятий. Такие новые разделы современной логики, как «абстрактная алгебраическая логика» и возникшая совсем недавно «уни версальная логика», занимаются пересмотром самих понятий «логика» и «логическое исчисление», одновременно разрабатывая своеобразную ло гическую «систему Менделеева», позволяющую описать ландшафт и вза имоотношения всех неклассических логических систем и лежащих в их основании структур, исследовать их совокупность как некоторый «орга низм», внутри которого можно получать «гибридные» логические систе мы, сочетающие в себе качества их исходных компонент.
— Расскажите, пожалуйста, о проекте статей по логике для энциклопе дии «Кругосвет»? Сколько всего статей было вами подготовлено?
— Проектом это было бы трудно назвать: вначале мне было предло жено написать статьи о логиках ХХ века — Т. Котарбиньском, С. Крипке, Я. Лукасевиче, К. Твардовском и Я. Хинтикке (правда, Твардовский по пал в этот список скорее как основатель логикофилософской львовско варшавской школы, давшей миру ряд известнейших логиков, но сам он логиком не был). Затем редакция предложила написать ещё ряд статей по логике (мотивируя тем, что в энциклопедии осталось много места, так как многие из моих коллег не выполнили свои обязательства по написанию статей), не ограничивая меня никакой конкретной тематикой. Учитывая эту неопределённость заказа, я написал статьи «Логика», «Умозаключе% ние», «Прямые умозаключения» и «Непрямые умозаключения», на чём, собственно говоря, наше сотрудничество и закончилось.
— Будет ли когда нибудь создана универсальная логика, объединяющая в себе разрозненные классические и неклассические логики? Как она будет соотноситься с той трансцендентальной логикой, о которой Л. Витгенштейн упоминает в своём «Логико философском трактате»?
— Поиски подобной логики — это поиски «утраченного рая», пози% ция логического монизма. Современная ситуация в логике не даёт ника% ких свидетельств в пользу существования подобной логики. Наоборот, мы живём в эпоху логического плюрализма, и конца этому пока что не пред% видится. Именно по этой причине и возникла универсальная логика, о которой я уже упомянул. Универсальная логика — это не логическая сис% тема, а раздел современной логики, занимающейся изучением всего мно% гообразия существующих и возможных неклассических логик — своеоб% разного «зоопарка» неклассических логик. Её задача — сформулировать понятие логической структуры, лежащее в основании логических исчис% лений, и изучить возможные связи между этими логическими структура% ми. Если это все можно сделать на языке и в рамках одной металогики (логики логик), то это и будет та логика, о которой вы говорите. Но боюсь, что вы совершенно не предусматривали такую возможность.
— Следите ли вы за русской витгенштейнианой? Знакомы ли вы с пере водом и комментариями «Логико философского трактата», выполненными В. П. Рудневым?
— В какой%то степени слежу, поскольку порой приходится читать лекции и рекомендовать литературу по этой теме. Крайне огорчает то об% стоятельство, что в отличие от западной витгенштейнианы, свидетелем которой я был на ежегодных конференциях по Витгенштейну в Киршбер% ге (Австрия), на данном этапе русской витгенштейнианы инициатива в руках философов, слабо знающих не только современную логику, но и ло% гику вообще. Отсюда возникает образ «алогичного» Витгенштейна, кото% рый никогда не мог бы быть автором «Логико%философского трактата» и «Философских исследований». С переводом и комментариями Руднева, к сожалению, не знаком.
— Вами разработана ситуационная онтология и ситуационная формаль ная феноменология, основывающиеся на идеях Л. Витгенштейна. Расскажи те поподробнее об этом.
— Заканчивая свою книгу «Формальная феноменология», я писал, что сама концепция формальной феноменологии значительно бы выиг рала, если бы не была привязана к одномуединственному формализму — системе Онтологии Станислава Лесьневского. В качестве пригодной для этой цели системы, то есть системы, способной послужить в качестве ло гического основания формальной феноменологии, я выбрал так называе мую нефрегевскую логику, разработанную польским логиком Романом Сушко. Особенностью этой логической системы является то, что её се мантика строится на основе идей, высказанных Л. Витгенштейном в «Ло гикофилософском трактате», а впоследствии развитых польским фило софом и логиком Б. Вольневичем. Главное отличие нефрегевской логики от классической, фрегевской, логики заключается в том, что в качестве значений высказываний здесь берётся не логическое значение — «исти на» или «ложь», а ситуации, подразумеваемые высказываниями. В этом случае тождественность (кореферентность) двух высказываний означает совпадение ситуаций, описываемых ими, которое влечёт за собой обыч ную истинностную эквивалентность высказываний, но не наоборот.
Проблема, однако, заключалась в том, что в отличие от Лесьневского Сушко не рассматривал никакой «онтологики», надстроенной над его системой нефрегевской логики. Поэтому мне пришлось самому выпол нить эту задачу, построив систему нефрегевской онтологии, введя в язык нефрегевской логики понятие «А ситуационно есть В», когда все ситуа ции, в которых встречается индивид А, были вовлечены в ситуации, в ко торых встречается индивид В. На основании подобной нефрегевской онтологии удалось построить и системы нефрегевской феноменоло гии, привлекая понятия, использованные при построении формальной феноменологии, которая основывается на системе Онтологии Лесьнев ского.
Поскольку, как мне представлялось, Сушко не был до конца последо вателен в своей критике Фреге, то, «восполняя» этот недостаток, я разра ботал концепцию ненефрегевской (несушковской, метафорической) логики, в которой помимо кореферентности (ситуационной тождествен ности) высказываний рассматривается и смысловая тождественность (сходство) высказываний. При этом кореферентность высказываний вле чёт за собой сходство по смыслу высказываний, которое влечёт истинно стную тождественность, но не наоборот (кореферентность в этом случае понимается как совпадение всех смыслов высказываний). Как следствие в семантике подобной логики рассматриваются такие понятия, как сход ство ситуаций, вовлечённость ситуаций по смыслу и т. д.
На основании системы метафорической логики строится и ситуаци онная метафорическая «онтологика», в которой вместо «А ситуационно есть В» рассматриваются выражения «А ситуационно есть В с предвзятой точки зрения», а затем путём соответствующей «смысловой» модифика ции концепций нефрегевской «феноменологики» строятся и системы метафорической (ненефрегевской) формальной феноменологии. С эти ми системами можно ознакомиться в статье «Нефрегевский путеводи тель по гуссерлевским и мейнонговским джунглям» в ежегоднике «Логи ческие исследования», выпусках 11 и 12 (М., 2004 и 2005).
— Каких современных русских логиков вы бы назвали?
— В первую очередь я мог бы назвать своих коллег по сектору логики Института философии РАН — А. М. Анисова, А. С. Карпенко, С. А. Пав лова, В. И. Шалака, а также коллег по кафедре логики философского факультета МГУ имени Ломоносова — В. А. Бочарова, В. И. Маркина, В. М. Попова, Е. Д. Смирнову, В. Х. Хаханяна. Список можно было бы продолжить и за счёт не только московских логиков, но он был бы черес чур велик, чтобы приводить его здесь полностью.
— Каких современных зарубежных логиков вы бы назвали?
— И этот полный список был бы велик, поэтому называю только немногих, с кем я так или иначе пересекался — Я. Хинтикку, Х. фон Вриг та, Д. Батенса, П. Вайнгартнера, А. Гжегорчика, Р. Вуйцицкого, Е. Пежа новского, Ж.И. Безье, С. Крипке, Д. Габбая, Дж. М. Данна, Г. Приста, К. Мортенсена, Н. К. А. да Косту, У. Карниелли, Р. Роутли, Я. Челяков ского, К. Дошена, Г. Санду, И. Ниинилуотто, В. Ранталу, Г. Малиновско го, Р. Гольдблатта, М.Л. Далла Кьяру, К. Сегерберга и других.
— Какие книги изданы у вас в последнее время? Что планируется в бу дущем?
— В 2005 году у меня вышли две книги — «Квантовая логика» и «Ка тегорная логика». Название первой говорит само за себя, в то время как вторая посвящена не философским категориям (как это может показать ся на первый взгляд), но категориям — разновидностям двухуровневых логических систем (систем с помеченными доказательствами и правила ми перехода от одних доказательств к другим). В этом году выходит ещё одна — «Формальная онтология» (М., 2006). В следующем году я плани рую закончить книгу под условным названием «Ситуации, события, смысл», посвящённую дальнейшей разработке формальной феноменоло
гии. Наряду с этим я работаю над проектом «Структура универсальной логики» (о ней я уже говорил выше).
— Каков вклад отечественных логиков в развитие логики в мире? Знают ли наших логиков за рубежом, цитируют ли их работы?
— Вклад отечественных логиков несомненно велик, достаточно упо мянуть основателя паранепротиворечивой логики Н. А. Васильева, созда теля одной из первых систем релевантной логики И. Е. Орлова, основа теля комбинаторной логики М. И. Шейнфинкеля, работы по интуицио нистской логике А. Н. Колмогорова, создателя теории алгорифмов
А. А. Маркова, создателя одной из первых систем многозначной логики Д. А. Бочвара. В этом же ряду следует упомянуть и В. А. Смирнова, создав шего комбинированные логики и многие системы современной силло гистики, а также Е. А. Сидоренко, разработавшего двухуровневую семан тику релевантных логик. Кстати, именно благодаря опубликованию за ру бежом рецензии на работу Смирнова, посвящённую Н. А. Васильеву, зарубежные логики узнали о работах Васильева и его идеях, что привело к бурному развитию основанного Васильевым раздела логики — паране противоречивой логики. Следует сказать, что в отношении знакомства и цитирования работ отечественных логиков за рубежом наши логики ока зались в том же положении, что в своё время и логики львовсковар шавской школы, — последним приходилось после опубликования своих работ в польских научных журналах на польском языке заново публико вать их на немецком, английском или французском языках. Русский язык в силу ряда известных всем обстоятельств не стал международным языком научного сообщества (в частности, философского), в силу чего за рубе жом известны только те работы, которые были продублированы на анг лийском языке в международных журналах. В основном только такие ра боты и цитируются за рубежом. Что же касается того, знают ли наших ло гиков за рубежом, следует принять во внимание то обстоятельство, что за период «смутного времени» многие отечественные логики уехали за рубеж и присоединились к тамошнему научному сообществу в качестве его пол ноправных членов. Будем надеяться, что в XXI веке ситуация улучшится и отечественным логикам не придётся прибегать к подобным кардиналь ным мерам.
Беседовал Алексей Нилогов
ДМИТРИЙ ГАЛКОВСКИЙ
Альтернативный русский философ
Дмитрий Евгеньевич Галковский (род. 1960) — современный русский прозаик, публицист, философ. Автор знаменитого философского романа «Бесконечный ту пик» (М., 1998, 2е издание, исправленное и дополненное), а также статей, расска зов, пьес. Составитель антологии советской поэзии «Уткоречь» (Псков, 2002). Лауреат литературной премии «Антибукер» за 1997 год (от премии отказался). В 1996–1997 годах издавал журнал «Разбитый компас» (вышли три выпуска). В по следнее время изпод пера Галковского вышли две книги – «Пропаганда» (Псков, 2003) и «Магнит» (Псков, 2004). Наша беседа с Дмитрием Евгеньевичем состоялась в рамках проекта «Современная русская философия»9.
— Дмитрий Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, о своём опыте знако мства и сотрудничества с философом А. Н. Чанышевым.
— Никакого «сотрудничества» не было. Я в 1980–1986 годах учился на вечернем отделении философского факультета МГУ, специализиро! вался на истории зарубежной философии. Чанышев был моим научным руководителем. Никакого «научного руковождения» с его стороны не бы! ло. Я писал курсовые работы, он мне без разговоров ставил пятёрки. Темы для курсовых работ я выбирал сам. Думаю, его устраивало, что со мной не было никаких хлопот. Так же относился к нему и я. Иногда мы беседова! ли на разные абстрактные темы, обменивались книгами. Чанышев был человеком талантливым и, конечно, резко выделялся на убогом фоне партийного философского факультета. Как историк философии он был квалифицированным специалистом, к тому же обладающим некоторым литературным слогом. По личным качествам это был человек простодуш! ный и добрый, однако на всю жизнь испуганный советской властью. Испуганный насмерть, до состояния потери достоинства. К сожалению, это случалось часто. Как и все поэты, он был также самовлюблённым эго! истом, поглощённым собственными переживаниями. Пока я не достав! лял ему хлопот, он меня поддерживал и собирался рекомендовать в аспи! рантуру. Как только возникли трудности с защитой диплома (Густырь обвинил меня в некомпетентности и антикоммунизме), Чанышев раство! рился в пространстве. Диплом я защитил на пятёрку, просто выбросив по! ловину текста, благо он в два раза превышал рекомендуемый объём, но ни о какой аспирантуре не могло быть и речи. В 26 лет я оказался на улице без работы, без связей и без каких!либо перспектив. Разумеется, на всё это Чанышеву было плевать. Я с ним никогда больше не виделся. Не счи! таю, что он поступил плохо. Время было такое. Кто я ему? Ни сват ни брат. С чего было заботиться о человеке, который создаёт ПРОБЛЕМЫ.
— Следите ли вы за современной русской философией? Если да, то кого из современных русских философов могли бы назвать?
— Не слежу, и, кажется, не за чем следить.
— Почему русская философия проигрывает русской литературе, учиты вая мнение философа М. К. Рыклина о том, что русский писатель — по пре имуществу не интеллектуал?
— К стыду своему, не знаю, кто такой Рыклин. Можете считать это проявлением антиинтеллектуализма.
— Назовите свой философский бренд — тот концепт Галковского, кото рый впишет его в историю русской философии.
— Опять!таки к стыду своему, не совсем понимаю, что в данном кон! тексте означают слова «бренд» и «концепт». Мне кажется, поколение, точнее, уже два поколения людей, родившихся после 1956 года, сгнили за! живо, занимаясь преждевременным рассматриванием себя в зеркале. 18! летние молодые люди не должны думать об энциклопедиях и мемуарах. И 28!летние. И 38!летние. 48!летние... Здесь, пожалуй, начинается рас! слоение. Одни продолжают жить, другие начинают хлопотать по инстан! циям и выправлять документы об их роли в развитии мировой культуры.
50
— Как вы прокомментируете желание современных русских философов миновать на русской философской почве постмодернистскую традицию фи лософствования?
— Смотрите пункт 2.
— Кто из философов, кроме В. В. Розанова, является для вас автори тетом?
— Розанов не является для меня авторитетом. Существует устойчивое выражение «глупый ограниченный человек». Розанов был «умный огра! ниченный человек», всю жизнь боровшийся с границами своего миропо! нимания. Эти границы не были чем!то имманентным, а были наложены на его сознание сословным воспитанием и эпохой. Своей героической и одновременно жалкой борьбой против «!измов» Розанов мне очень поня! тен и дорог. Своё отношение к его личности я вполне полно выразил в святочном рассказе «XIX век», опубликованном в «Новом мире». Думаю, Розанов оказался очень близок современным русским людям, отсюда и его популярность.
В молодости на меня произвели большое впечатление Платон и Аристотель. Философию Нового времени я скорее воспринимал под культурологическим углом зрения, когда на первый план выступает при! вязка к определённой эпохе. То есть для меня Юм — это не вневременной абстрактный рояль, а клавесин, интересный своей частной включён! ностью в сегмент европейской истории. Возможно, это точка зрения не философа, а историка философии, но я по образованию и есть историк философии. Хотя античная история, которой я занимался, ощущалась мной как нечто вневременное и поэтому очень актуальное.
Если брать «ход мысли», то моё философствование, наверное, напо!
минает Рассела, с поправкой на меньшую математизацию и гораздо мень! ший национализм.
— Смогли бы вы написать альтернативную историю как мировой, так и русской философии? Если да, то какими бы именами они были представ лены?
— Запросто, только почему «альтернативную»? Я бы написал более объективную историю. Русская философия за полной банальностью во! обще неинтересна, а что касается мировой, то там всегда нарушается про! порция. Например, выкидывается испанская схоластика или выпадает Карл Краузе.
— Если бы вы писали свой «Бесконечный тупик» сейчас — каким бы он получился?
— Что касается формы, эта книга очень привязана к своему времени. Я по обстоятельствам личной жизни очень уважительно отношусь к тому, что говорю, кому, где и как. Многие обширные цитаты вставлялись в «Бесконечный тупик» в обстановке книжного голода, мне хотелось по! больше рассказать о прочитанном. Как герою антиутопии Брэдбери. Ги! пертекстовая форма книги была предчувствием начинающейся компью! терной эры. В некоторых частях эта игра выглядит сейчас слишком тонко. Интернет несколько огрубил идею филологических ассоциаций и ссылок. Но это детали. Мне кажется, я адекватно передал своё тогдашнее состоя! ние и тогдашнее состояние отечественной культуры. Все мы от безделья и страданий тысячу раз пережили своё будущее и умерли в своём времени, так и не родившись. Это судьба поколения, судьба страны. Моя ли это судьба? Не знаю. Честно говоря, мне это не очень интересно. Я новатор.
Новатор никогда не оглядывается назад.
— Что вы понимаете под словосочетанием «русская философия»?
— Мне кажется, что философия — это определённое состояние куль! туры, которое человечество давно преодолело. Сначала это была натур! философия корпорации, затем государственная унификация. Общество всегда навязывает свою форму индивидуальностям, очевидно, что наибо! лее тотальное выражение это должно было принять в области свободного мышления. Ведь мышление очень опасно. На этот ящик Пандоры нужен государственный замок. Существует ли национальное мышление? Не знаю. Но в любом случае «национальная философия» так же относится к свободному мышлению, как учебник русской литературы к реальному литературному процессу. Читали себе современники Гоголя, Толстого, Достоевского и Чехова без всяких учебников и инструкций. Философия Канта или Декарта — всё та же государственная или корпоративная «инструкция», по сути совсем ненужная свободному человеку.
Наверно, можно говорить о «русской философии» как о некото!
ром элементе российской истории, надо сказать, весьма тщедушном и дрянном.
— Каково, на ваш взгляд, будущее у русской философии?
— С точки зрения метафизической — безумный вопрос. С точки зре! ния социальной — я в своё время высказался исчерпывающе: закрыть фи! лософские факультеты по всей стране. Оставить один!два факультета или отделения. Ну и, конечно, штук сто на национальных окраинах, в виде светских медресе для байских сынков. Чем бы дитя ни тешилось...
Беседовал Алексей Нилогов
ФЁДОР ГИРЕНОК
Где пушки — там и философия!
Есть философыинтерпретаторы, комбинирующие цитаты, выискивающие скрытые от поверхностного взгляда смыслы. Есть философыстеллажи, посредники в передаче и сохранении знаний. А есть философы, ищущие неисхоженных путей, пы тающиеся говорить своим собственным голосом, с акцентированной авторской ин тонацией.
Альбер Камю както бросил: «Хочешь заняться философией — напиши роман». Книги профессора кафедры философской антропологии философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Фёдора Ивановича Гиренка «Метафизика пата» и «Патология русского ума» — это не романы. Но и традиционными философскими трудами их назвать трудно. Слишком парадоксально, субъективно и непредсказуе мо изложение. Одно из убеждений Ф. И. Гиренка — классические способы философ ствования устарели: «Франкогерманские образцы философствования составляют музей современного мышления. Эти музейные образцы нужно использовать в качест ве тренажёров для студентов и всех желающих». В этом заключается оригинальная концепция «археоавангарда», согласно которой точность философского мышления достигается разработкой не только специального языка, но и поэтической органи зацией философского текста, а также использованием глубинных ресурсов языка — пословиц, поговорок, сказок, языка повседневности.
Отбрасывая устаревший понятийный аппарат, Ф. И. Гиренок в поиске языка и материала для исследования обращается к русской литературе и тому краткому периоду — от 1900го до 1919 года, от смерти Владимира Соловьёва до смерти Ва силия Розанова, — который называют русским философским ренессансом. При этом русская литература и философия (одно неотделимо от другого) трактуются как бесконечно подвижная и изменчивая протоплазма, органическая стихия, способная к бесконечному развитию и приспособлению. Прочувствованное, неотстранённое прочтение классики приводит к возрождению смысла, его дословности и «зауми», косноязычию «Записок из подполья».
В поле абсолютной разумности, олицетворяемом Америкой, события сменяют ся с нечеловечески огромной скоростью. Смысл отстаёт от событий, не успевает осесть, и поэтому каждому человеку приходится жить в режиме неизвлечённого смысла, в модусе неверия. «Если смысла лишают события, то события обессмыс ливают смыслы. Между событиями и смыслами идёт война... — предупреждает Ф. И. Гиренок. — Пустые слова о гуманизме, о свободе, о личности, о правах заполо нили мир. Подозрительное отношение к эмоциям, чувствам и дорефлексивному со знанию стало глобальным. Современный культурный мир лишает дословное слова, отделяет немотствующее от языка. И когда немотствующее вдруг заговорит, где то падают небоскрёбы…»
В скором времени ожидается выход новых книг философа «Абсурд и речь (ан тропология воображаемого)», «Удовольствие мыслить иначе», «Фигуры и складки». Наша беседа с Фёдором Ивановичем состоялась в рамках проекта «Современная русская философия»10.
— Фёдор Иванович, философия давно перестала быть значительным фактором общественной жизни. Не только у нас в стране, но, пожалуй, и во всём мире. Возникает вопрос: а существует ли вообще философия как опре делённая культура мышления?
— Конечно существует. Но форма её существования изменилась. Философия слишком долго была метафизикой. Почему, например, мета! физика возникла именно в Малой Азии? Потому что оттуда вся Греция просматривается как на ладони. Метафизика с самого возникновения подразумевала взгляд с некоторой дистанции, со стороны. Она строилась так, как будто мысль не связана с тем, какой конкретный человек её мыс! лит. В этом смысле метафизика — это первый пример универсалистского, глобалистского, денационализирующего мышления.
Когда говорится о конце философии, подразумевается конец мета! физики. Нас перестала интересовать безличная мысль, мыслящая саму себя. Нас интересуют те следы, которые не может не оставить человек, то есть связь мысли и человека. Мы понимаем, что универсализма в мышле! нии как такового нет. Универсальное всегда обнаруживается в конкрет! ном, всегда имеет какую!то локальную размерность. Ещё Данилевский сформулировал: к универсальному мы восходим только через конкретное, национальные особенности, через принадлежность к культуре.
— Означает ли это, что существует столько философий, сколько наро дов, культур, цивилизаций?
— Философия всегда имела локальную размерность. Скажем, в Ин!
дии никакой философии в греческом смысле не было. Там были другие условия мышления, по!иному настроенные интеллекты. Поэтому мно! гое из того, что происходило в Европе, не имело соответствия в Китае и Индии, и наоборот. Поэтому наука, например, возникла в Греции, а не в Китае.
Говорить о средневековой философии как о продолжении греческой можно лишь с большой натяжкой. Тогда началась репрессия идеологии по отношению к философии. У средневековых философов было много интересных интеллектуальных ходов. Но они были и у Лао!цзы. Это не была философия в смысле интеллектуальной программы, запущен! ной древними греками. Тысячу лет мы имели дело с симулякром фи! лософии, культурно принятым, усвоенным. А далее последовала так на! зываемая научная философия, то есть репрессия науки по отношению к философии. И опять здесь проблема. Философия стала принимать странный, вывернутый вид, маскируясь под науку. И мы опять получили симулякр.
И вот только совсем недавно философия — и, как ни странно, в свя! зи с пост!модернизмом — пытается подать свой голос независимо от на! уки и религии. И тут обнаруживается её литературный характер. Об этом говорил Батай. Но ведь русская философия изначально была литературой! Ещё в XIX веке Достоевским — до Батая, до Ницше — этот философский проект был реализован. Да так реализован, что его интеллектуального ре! сурса хватит на многие столетия. Только мы относились к нему как к ли! тературе, забывая, что наша литература — это философия. Конечно, у нас была специальная философская литература. Но самые крупные русские философы — это литераторы. Самарин — это литератор, Хомяков — ли! тератор, Киреевский — литератор. Как они пишут! Чего стоит язык Фло! ренского! Понимаете? Откройте «Столп и утверждение истины»…
— Не могли бы вы перечислить основные особенности русского филосо фского мышления?
— Первая особенность русского дискурса состоит в представлении о том, что истина связана не со словом, а с образом. Истину скорее можно увидеть, чем помыслить. Или — тем более — представить её как продукт мышления. Истина — от Бога. Она — не продукт мышления. Такого рода представления ограничивают возможности отвлеченного понятийного мышления, не сопровождаемого созерцанием. Вот эта «картинность» рус! ского дискурса делает его близким литературе и одновременно далёким от терминологической философии. Русская философия возникает и сущест! вует как вид литературы. И в этом смысле она отдаёт предпочтение языку повествования, в то время как европейская философия создаётся в форме науки, ориентированной на язык исследования. Описание картины, об! раза выступает на первый план, а терминологическое различение уходит на второй план. Русское мышление не рефлексивно. Оно является по пре! имуществу содержательным. И в этом смысле оно неустойчиво. Текуче. Аморфно.
Вторая особенность русского дискурса состоит в его принципиаль! ной неметафизичности. Ведь метафизика требует достаточно изощрённой рефлексии, которая без терминологических различений и опыта удержа! ния различённостей продлиться долго не может. Она угасает, то есть усту! пает место объективным терминам. Русская философия восстанавливает связь с дословностью, с тем, что делает возможным слово. И поэтому рус! ский философ, оставаясь в языке, безразличен к языку. Он стремится ус! кользнуть к безъязыкому. Невозможность раскрытия дословного в слове, неязыкового в языке проблематизирует само существование русской философии.
Третья особенность связана с особой приверженностью русского дискурса к феноменам жизни и какому!то безразличию к феномену соз! нания. Категории жизненного плана доминируют здесь над категориями сознания, что привело к формированию языка дословности.
Четвёртая особенность русского дискурса обусловлена привержен! ностью к соборным способам представления мира, внутри которых «соб! ранный», «коллективный» субъект ближе к правде, чем одиночка.
— Но разве не было в русской философии чудовищного искушения «бес почвенностью»?
— Искушение беспочвенностью — совсем другое! Мы живём, опу! танные мёртвыми, пустыми понятиями, целым океаном слов, сказанных до нас, переплетениями этих слов. Мы повязаны словами. Мы восприни! маем культуру не непосредственно, а через некую плёнку. Мы многое зна! ем, но нам не хватает воздуха, простора для мышления. Каждому челове! ку хочется, чтобы у него были свои, его собственные мысли, а не одни ин! терпретации. Первобытный человек мог увидеть закат и воскликнуть: «Боже, как прекрасно!» Эта эмоция — его изобретение. Он мог научить восхищаться закатом других, и тогда это было бы культурно поддержива! емое приобретение. Сегодня человек ничего своего не имеет. Культура настолько мощна, что человек стоит перед ней голый, пустой, — она вы! даёт ему все одежды, все мышцы, все интерпретации. Человек живёт в ми! ре, истоки которого затерялись в его душе.
Вот на этом горизонте и сгущаются тучи. Стремление разрушить культуру у «бунтарей» начала XX века проистекало не из жажды разруше! ний. Это было не разрушение почвы, а её взрыхление, переворачивание пластов, поиск в толще культуры всего первобытного, культуропорожда! ющего, непосредственного.
— Можно ли в начале XXI века говорить о национальной специфике фи лософии во Франции, Германии, Великобритании и т. д.?
— Нужно говорить. Она есть. Французская философия, пожалуй, слишком шизофренична с точки зрения немцев, а немцы — слегка пара! ноики. У французов слишком много хаотического, а немцы любят поря! док везде, в том числе и в голове.
— Сегодня мы видим, что Гейдельберг, Марбург, Гёттинген, Фрайбург более не являются мировыми центрами философии. Немецкие студенты предпочитают изучать философию в университетах Америки или Великобри тании.
— Это легко объяснимо. До сих пор существовало две!три страны– производителя философии. Это могли быть философские симулякры, но они производились. У философии были свои покупатели, производители, менеджеры, рекламодатели и т. д. Например, что делает французское по! сольство в России? Оно спонсирует переводы французских авторов и книг. Что делает Россия? Она никогда этим не занималась. В России фи! лософия всегда на задворках. У нас философ ни на что не влияет. Это во Франции он — национальная гордость. Поэтому на Западе не знают рус! скую философию. А французскую — знают. И так будет до тех пор, пока французское Министерство иностранных дел платит своим авторам, пе! реводчикам, тем, кто продвигает эту философию.
Традиционные производители философии — немцы, французы. Но немцы в духовном плане потерпели поражение. До сих пор оправиться не могут. Французы сегодня также проигрывают в конкуренции. Кто усилил! ся? Американцы. Американские философы в интеллектуальном отноше! нии на порядок ниже, но сегодня это мощнейшая страна. Где пушки — там и философия! Теперь они хотят завоевать мир не только пушками, но и философией. Они стараются потеснить традиционных производителей философии. В Америке нет философии, но они будут её производить. И все будут у них учиться, их будут читать, они заполонят своими книгами весь мир.
— А какое у вас отношение к самым крупным представителям амери канской философии: Джону Дьюи, Ричарду Рорти, Джорджу Герберту Миду и т. д.?
— Это второразрядные философы. У нас таких полно, только мы их не знаем, не интересуемся. Потому что мы не производители, мы потре! бители философии. Я говорю это без желания кого!то обидеть. Просто Кант — это Кант. Гуссерль — это Гуссерль. Деррида — это Деррида. Дьюи — это доказательство того, что философия может отсутствовать, а производство философии при этом быть налажено.
— Есть хотя бы один американский философ, которого можно выделить из общего ряда?
— Признаюсь, меня могут посчитать необъективным, но я не могу ответить на этот вопрос. Я как!то обхожусь без американцев.
— Не кажется ли вам, что французские философы представляются веч ными эпигонами немецких?
— Хайдеггер говорил, что весь Сартр — это неудачный перевод его философии. Но французские философы уловили несколько моментов в истории культуры, цивилизации, которые не были рассмотрены немцами.
Первое. Они поняли: времена Европы закончились, христианство — закончилось. Последнее — сама принадлежность к Европе. Оборвать её — и возникнет неизвестно что.
Второе. Они уловили ритм происходящих изменений, в том числе и в науке — синергетика, самоорганизация, теория хаоса. Сам язык долгое время был каким!то странным, упорядоченным, расположенным в ка! кой!то линейности, детерминации. В мире не раз пытались установить порядок, а он всё равно превращался в какой!то странный бульон, «кос! мохаос», хаосмос. И раз это так, сказали французы, то ведь и язык должен быть другой для работы с этим миром, для понимания его. И если где!ни! будь в физике есть Пригожин, то в философии — французы. Они приспо! сабливают нас к тому, что мы живём в хаосоподобном мире, что история проблематична. И никто это лучше их не сделал: ни Гегель, ни Хайдеггер.
Третье. У них появилось понимание подлинной природы человека, его плазменной, изменчивой, светящейся сущности. Язык французов вполне пригоден для описания многих элементов этого состояния, позво! ляет понять то, что всегда нас сопровождало, позволяет заново вернуться к архаичным состояниям, которые длятся непрерывно. Проблемы сна, воображения, эмоций. Не всё в этом направлении ими было сделано. Но они и не были обязаны всё сделать.
— По вашему мнению, должна ли философия оперативно отвечать на вызовы времени?
— Я бы этого хотел. Но тогда должен измениться статус философии. Страна должна хотеть знать, что думают её философы. На Западе сохра! нились остатки такой культуры. А у нас даже потребности такой нет. Нас волнует, что думает какой!нибудь Киркоров... Это плохая культура, отвра! тительная традиция. Потребности в философии нет. Философ должен го! ворить о том, что происходит здесь и сейчас, а не о том, что было где!то и когда!то. И тогда изменится культура политологов, потому что сейчас у них культура нулевая. За редким исключением. Вот был Панарин. Как часто ему давали эфирное время? Разве спрашивали: «Панарин, скажи на! роду, что ты думаешь?»
— Он не успел развернуться…
— Возможно. Панарин бы мог сказать кое!что. Он проделал ко!
лоссальную работу — мог полноправно комментировать исторические события.
— Наметились ли, на ваш взгляд, какието тектонические сдвиги в сов ременной европейской культуре в связи с недавними событиями во Франции?
— Европа попала в тупик. То, что недавно происходило в пригородах Парижа, — следствие глупого стремления всё уравнять и всё наделить свободой. Эта идея ещё не раз поставит на кон судьбы и Америки, и Ев! ропы…
Однако я думаю, что монетка уже подброшена. Скоро мы будем иметь дело с симулякром, имитацией, муляжом Европы. Современная Европа — пустое место, которое скоро будет занято людьми, понимающи! ми, что жизнь — это не логический процесс, что неравенство неискорени! мо, что, как говорил Бердяев в «Философии неравенства», в неравенстве коренится источник жизни. Свобода — это привилегия немногих, а когда свобода становится привилегией всех, она перестаёт быть свободой. Тог! да появляются арабы, атакующие пригороды Парижа. Дело, конечно, не в арабах, а в общей ситуации. Сто лет продолжается «конец Европы». За! кончилась Европа античная, Европа христианская, а сегодня подходит конец Европе вообще. И конец этот глупый.
— Развивая вашу аналогию, можно сказать, что французское общество ведёт себя не лучше больного шизофренией с его «амбитенденциями»: полу сопротивлением и полууступками, полунеприятием и полусоглашательством.
— Да. Дело в том, что фашизм был неадекватным ответом на то, что происходило в Европе. Неадекватным, подчеркну. Но это был ответ. Сей! час же у европейцев нет ответа. Они даже не могут сформулировать проб! лему в правильных терминах. Мне было интересно, как французские фи! лософы подойдут к ней. Оказалось, в зазеркальном мире французской ин! теллигенции существуют только социальные проблемы. Бедные и бога! тые. Там как будто не понимают, что история пролетариата, воевавшего с буржуазией, закончилась. Современный организационный ресурс Европы гарантирует всем слоям населения сносное существование. А француз! ские интеллектуалы всё ещё думают, что работают социальные причи! ны — труд вступил в борьбу с капиталом. Говорят: дайте арабам работу! Вот смешно. Зачем им работа? У них есть пособия.
Пусть европейцы решают свои проблемы, как считают нужным. Только не надо нам самим становиться экспериментальным полем, пере! нимать их практику. Они говорят, что это социальная проблема? Замеча! тельно. Пусть её решают. Пусть дадут арабам денег. И ещё пригласят. А по! том снова дадут денег. И ещё больше пригласят. А мы посмотрим.
— Это примерно то, о чём предупреждал Освальд Шпенглер. Вы не слу чайно в одном интервью назвали себя «консервативным революционером»?
— Конечно. Правда, я имел в виду не Шпенглера и его немецких кол! лег, а славянофила Юрия Самарина, одна из книг которого так и называ! ется «Революционный консерватизм». Консерватизм — это преграда идео! логической глупости, которая хочет подчинить себе социальную жизнь. Фильтр. Я хорошо отношусь к Шпенглеру и, конечно, к Данилевскому.
«Россия и Европа» Данилевского должна быть у каждого русского че! ловека! Начиная чуть ли не с первого класса школы. Это абсолютно гени! альная вещь. У нас в России было не так много подобных философских гениев, чтобы на них махать рукой. Когда я рассуждаю осмысленно, я должен поместить себя там, где когда!то были и Николай Данилевский, Константин Леонтьев, гениальные русские мыслители. Я хотел бы, чтобы в современных наших разговорах, в словах политиков такой подход чувствовался. Но я не вижу ничего такого. Спрашивается, что они делают, о чём говорят между собой?..
А ведь фактически и Данилевский, и Шпенглер — антиглобалисты. Если мир идёт к глобализации, то вопреки прогнозам Данилевского и Шпенглера. Но если глобализация неизбежна, то почему же она даётся с таким трудом? Европейцы хотят единую цивилизацию? Они думают, что она состоится на основе «общечеловеческих ценностей»? Но когда гово! рится об «общечеловеческих ценностях», то имеется в виду, что существу! ет одна цивилизация, которая в силу военного, технического превосход! ства диктует всем: «Будете делать так, как я говорю!» Что ж, единая циви! лизация будет. Но она будет мусульманской.
— Насколько сегодня актуальны слова Самарина о том, что «Европа сходится в желании всякого зла России»?
— Ничего не изменилось за полтора века. Самарин — вообще пово! ротная точка в развитии русской философии. От него одна линия ведёт к
Владимиру Соловьёву, другая — к Николаю Данилевскому. Занявшись Самариным, я понял: линия от него к Владимиру Соловьёву — тупиковая в России. Соловьёв — универсалист, глобалист. Он думал, что существуют единое человечество и общечеловеческие ценности. А вот линия от Сама! рина через Данилевского, Леонтьева, Розанова и далее к нашему авангар! ду — перспективна, здесь пролегает нерв русской мысли.
Самарин первый сформулировал, что мы, русские, никогда не были нацией. Тогда имперское сознание ещё можно было заменить националь! ным. Но этого не произошло. Самарин призывал: «Господа! Не нужна империя — надо браться за национальное сознание. Сделать русских на! цией». Фихте создал национальное сознание немцев. У Самарина не по! лучилось. Философ в России — как камень в воду: «Буль!» — и тихо. Са! марин бросал — тишина. Розанов бросал — тихо. И я бросаю.
Отсюда следует, что для России сегодня по!прежнему на первом месте — сильное государство. Мы должны быть сильными! На втором месте — благополучие большинства. Мы должны дать передышку своему народу!
— А философия?
— Если мы будем сильны, можно пожертвовать и философией. Фи!
лософия — дело наживное. Но мы не можем позволить себе быть слабы! ми. Слабость для России означает небытие.
Беседовали Михаил Бойко и Алексей Нилогов
ВЯЧЕСЛАВ ДМИТРИЕВ Граф,анализ
Вячеслав Евгеньевич Дмитриев (род. 1960) — современный русский философ археиавангардист, коммунитарист. Кандидат философских наук, доцент кафедры онтологии и теории познания философского факультета МГУ имени М. В. Ломоно сова. Занимаясь выявлением телесного и внеконцептуального существа философии, разработал грамматологическую концепцию, получившую название «графанализ». «Графанализ» — это вариант философии письма, в котором анализируется связь письма и существа философии. В основе «графанализа» лежит идея безвластного письма. Согласно этой концепции, философия возникает в качестве реакции на пись мо и развивается как вытеснение из философии черт деспотического письма, с ус тановлением в качестве философии безвластного письма. Согласно В. Е. Дмитриеву, философия представляет собой явление, когда письмо перестаёт служить механи ческим продолжением действия власти и обнаруживает свою собственную волю, противостоящую деспотии всего политического. Наша беседа с Вячеславом Евгень евичем состоялась в рамках проекта «Современная русская философия»11.
— Вячеслав Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, о том, что побудило вас заняться философией письма par excellence.
— Свой ответ я хочу начать с одной цитаты Диогена Лаэртского, в ко! торой им произведена «классификация» философов по отношению к мас! сивам письма: «Некоторые философы оставили после себя сочинения, а некоторые совсем ничего не писали. Среди последних — Сократ, Стиль! пон, Филипп, Менедем, Пиррон, Феодор, Карнеад, Брисон, а, по мне! нию иных, также и Пифагор, и Аристон Хиосский (если не считать не! скольких писем). По одному лишь сочинению оставили Мелисс, Парме! нид, Анаксагор. Много писал Зенон, ещё больше Ксенофан, ещё больше Демокрит, ещё больше Аристотель, ещё больше Эпикур, ещё больше Хри! сипп». Его классификация изящно выполнила неожиданную функцию, она взяла и вписала философию в поле письма. На первый взгляд связь письма и философии у Диогена кажется нам крайне легковесной и слу! чайной. Нам, умудрённым знанием многочисленных классификаций фи! лософов по методу и направленности философской работы, трудно сразу же ухватить смысл этой странной классификации. Конечно, очень легко отмахнуться от этой классификации и связанных с ней вопросов. Так де! лают многие, видя в ней лишь наивность Диогена Лаэртского. Всем изве! стны многочисленные ошибки, которые Диоген допускает, когда, напри! мер, он помещает совершенно разных мыслителей в одну рубрику или, скажем, представителей одной школы — в разные рубрики. Такая кри! тика диогеновских классификаций уже давно составляет необходимый элемент преподавания истории античной философии. Но я не стал отма! хиваться от этой диогеновской классификации философов по их отноше! нию к массивам письма, а, наоборот, попытался отнестись к ней почти! тельно. В своей работе я решил продолжить разработку идеи Диогена Лаэртского о связи философии с массивами письма и дать свою класси! фикацию древнегреческой философии в отношении письма.
Но из того, что я обращаюсь к историческому материалу, не следует, что я хочу сообщить нечто новое о древнегреческих философах. Моя ра! бота не является историко!философской, я бы скорее назвал её работой по философской грамматологии. (Философская грамматология или фи! лософия письма — сравнительно новая проблемная область философии, возникшая во второй половине двадцатого столетия12.)
— Какова основная цель вашей работы?
— Цель моей работы состоит не в том, чтобы дать какое!либо развёр! нутое обоснование диогеновской или (что было бы ещё глупее) своей классификации, она лежит совсем в иной плоскости. Моя цель в том, что! бы указать на необходимость самой связи массивов письма с филосо! фией. Я буду защищать тезис, согласно которому взаимосвязь между существом философии и массивами письма необходима и даже конститу! тивна для самой философии.
Когда Диоген Лаэртский говорит о количестве сделанных или не сде! ланных философами записей, он не пытается нам объяснить, что такое письмо и что такое философия. Он лишь отмечает, что иногда философа! ми написано было много, иногда мало, а иногда они от письма вообще от! казались. Для классификации им была задействована лишь количествен! ная характеристика записи. Процедура сведения письма к количеству письма сделала его классификацию простой и наглядной. Не спрашивает Диоген Лаэртский и о существе философии. Для него философы это те, кого люди называют философами. Но нам, людям XXI века, такая высо! кая простота, наверное, уже недоступна. Нам приходится бесконечно объясняться как с философией, так и с письмом, постоянно ставить воп! росы: что такое письмо, каково существо философии?
— С какими трудностями вы столкнулись, обратившись к философии письма?
— При ответе на первый вопрос я столкнулся с двумя трудностями. Первая трудность связана с тем, что под письмом часто понимают очень разные вещи. Вторая трудность связана с тем, что философские представ! ления о письме трудносовместимы с диогеновским количественным тол!
кованием письма. Преодолеть эти трудности — моя первая задача.
Хельмут Глюк как!то заметил, что о письме люди узнают в своей жиз! ни, по крайней мере, трижды. Сначала они узнают о письме по ходу овла! дения грамотой и принимают его в качестве какой!нибудь практики запи! си. Потом они узнают о письме из языковедческих работ, причём то, что они узнают из этих работ, отличается от обыденных представлений о письме. И наконец, в третий раз они узнают о письме из философских работ. Все три знания о письме покупают своё знание ценой оттеснения друг от друга. Так, например, философские представления о письме суще! ственно отличаются как от обыденных, так и от научных представлений о письме, они противопоставлены всем им. Все эти три знания о письме трудносовместимы между собой13.
Философские представления о письме располагаются в диапазоне от крайне узкой трактовки письма, сводящей письмо к дублированию речи, до крайне широкой трактовки письма, полагающей под письмом поле всех возможных различений. Германская философия письма рассматри! вает письмо в плане выражения смысла, а французская философская грамматология рассматривает письмо в плане противостояния смыслу. Но универсальные представления таких значительных исследователей письма о письме, как Ж. Деррида и А. Экхардт, трудносопоставимы с ко! личественным представлением о письме Диогена Лаэртского. Для Диоге! на ведь не существует ни разрыва в знаниях о письме, ни грамматологи! ческих проблем выражения и дифференциации.
Для дальнейшей работы мне понадобилась только такая трактовка письма, которая преодолевает разрыв в знаниях о письме и обходит грам! матологические проблемы выражения и дифференциации. Мне хотелось бы дать такую трактовку письма, которая сохранит письмо именно в ка! честве письма, как именно алфавитное, фонетическое письмо, бывшее одновременно и физическим объёмом, и работой записи. Чтобы снять разноуровневость знаний о письме и отказаться от обоих вариантов уни! версализации письма в философии, я обратился за помощью к чувству русского языка, трактуя письмо так, как оно трактуется в русском языке. Представляется, что банальность и простота такого методологического хода вполне соразмерна диогеновской наивности.
— Что значит обратиться за помощью к чувству русского языка, трактуя письмо?
— Всё очень просто. Я обратился к толковому словарю В. И. Даля (а все остальные толковые словари русского языка так или иначе восходят к тем значениям письма, которые собрал В. И. Даль) и заметил две вещи. Во!первых, все значения письма представлены в словаре самым «демо! кратическим» образом. Они не противопоставлены друг другу, а совмест! ны, собраны по принципу: «Кто в тереме живёт?» А во!вторых, в словаре В. И. Даля письмо представлено конкретной совокупностью четырёх зна! чений слова «письмо» в русском языке: письмо как «действие», «писа! ное», «грамотка» и «стиль»14. Из этих четырёх значений только три могут быть приведены в соответствие с классификацией Диогена. Эти три зна! чения — «всё, что написано, писаное…», «писанье как действие», «гра! мотка, уведомление, сообщение на бумаге»15. Только эти три значения ха! рактеризуют письмо как таковое и соразмерны диогеновскому смыслу письма.
Предпринятый манёвр (обойти и сделать соразмерным), несмотря на свою внешнюю простоту, приводит к непростым последствиям. С одной стороны, мы получаем конкретную совместность материальных перфор! мативных и коммуникативных черт письма1, исключающую стилистичес! кие черты письма. А с другой стороны, мы получаем принципиально не всеобщую трактовку письма: письмо в русском языке.
В результате всех манёвров мы получаем трактовку письма как сово! купности черт и характеристик, сориентированных на значения слова «письмо» в русском языке. Такая трактовка позволяет сохранить нам письмо в качестве самостоятельной семиотической системы языка2. Ко! нечно, если мы возьмём подобную корреляцию черт в рамках какого!ли! бо иного языка, скажем немецкого или французского, то получим уже со! вершенно иное представление о письме. И наоборот, если мы попытаем! ся взять подобную корреляцию черт вне отношения к конкретным язы!
1
Если мы воспользуемся тремя значениями В. И. Даля, то есть дадим им научную интерпретацию, то тогда мы сможем уже лучше представить письмо как совокупность черт и характеристик. Можно связать с далевскими значениями письма конкретные чер! ты письма, известные учёным!грамматологам (См.: Волков А. А. Грамматология. — М., 1982. — С. 81). Так, например, с первым значением я связываю всё то, что есть в письме «наглядного», чувственного. Эта характеристика письма включает в себя как собственно телесные свойства письма, так и условия самой «пишимости». К этой характеристике от! носятся: форма поверхности для записи; материальный субстрат записи; технический способ выполнения, расположения и сохранения записи; внутренние и внешние интерва! лы записи; её объем, орнаментация, выделения. Соответственно, со вторым значением письма я связываю, например, то, что объединяет нечто записываемое с актом записи. Эта характеристика относится к деятельностной стороне письма, ведь дело самого письма вряд ли отделимо от дела, которое производится записью. В неё входят: нарочитость запи! си, требующая смирения тела, время и ритм письма; результат дела письма, форма «напи! санности»; инстанция письма, всегда своеобразно отсутствующая в письме и тем самым задающая записи свои «ленные», пространственно!временны´е локализации; смысл само! го письма, соотносящийся с выписываемым смыслом. И наконец, с третьим значением письма я связываю коммуникативные черты письма. Эта характеристика включает специ! фический способ обращения к адресату, то есть то, что письмо обладает односторон! ностью и линейностью, зримой дискретностью, пространственностью, долговремен! ностью. В этом случае письмо характеризуется со стороны производства, циркуляции и экспансии знаков, а письменные знаки характеризуются со стороны контакта, сообщения и реакции. Конечно, все эти черты и характеристики в практике письма выступают всегда вместе и отделить их друг от друга реально нельзя. Это перечисление — результат доволь! но сильной абстракции. Но если грамматолог А. А. Волков выделяет и группирует черты письма по аналитическим соображениям, то я делаю это ссылкой на В. И. Даля, то есть в силу языковой компетентности. Черты письма собраны мной в соответствии с традицией употребления слова «письмо» в русском языке. В данном случае я предпочитаю ориенти! роваться скорее на имманентные и безусловные средства самого русского языка, нежели на конвенциональные средства научного анализа. Таково одно из непростых следствий, вытекающих из моего банального обращения к словарю В. И. Даля. 2
Проведённая детализация характеристик письма предполагает, что мы можем всё же выделить какие!то фрагменты характеристик письма, которые принадлежат именно письму в его автономии. Сама возможность такого выделения базируется на структурали! стской гипотезе Артимовича—Вахека, согласно которой сосуществуют параллельно два различных языка — письменный и устный. Хотя они тесно взаимодействуют друг с дру! гом, но всё же нормы написания и произнесения слабо скоординированы, так как они принадлежат различным семиотическим языковым системам, независимым друг от друга по способу их существования.
кам, тогда полученное таким образом представление о письме будет со! держать лишь тривиальное, пустое содержание. Остановиться между единством и разрозненностью — в этом вся тонкость работы, которую я проделываю. Письмо следует мыслить только как конкретную совмест! ность ряда черт.
— Какие черты имеются в виду?
— Для моей работы все эти многочисленные черты (во всём своём объёме) не понадобились, но я перечислил их для того, чтобы была понят! на та модальность, в какой мной истолковано само письмо в его отноше! нии к философии. Так, истолкованное письмо хотя и не получает у меня какой!либо единой сути, но и не оказывается при этом всем, чем угодно.
Письмо, согласно свидетельствам историков письма16, возникло как письмо власти. Как известно, древнейшие памятники письма — это хо! зяйственные, правительственные и религиозные документы. Сращённое с властью, письмо выступило количественной механикой этой власти. Власть с помощью письма делалась вездесущей, связывая огромные тер! ритории в мощные государственные образования. Главным предназначе! нием письма была точная передача повелений власти на расстоянии, строгая фиксация их исполнения и выполнение ритуала подчинения. Письмо, которое сращено с властью и которое является количественной механикой этой власти, я называю «деспотическим письмом», следуя в этом пункте за Ж. Делёзом и Ф. Гваттари17.
Наиболее радикальным вариантом деспотического письма выступи! ло фонетическое письмо. Недаром Ж. Делёз и Ф. Гваттари называли бук! вы фонетического алфавита «имперскими знаками», ведь в Древней Гре! ции алфавитное фонетическое письмо с гласными знаками появляется именно в период преодоления родовых отношений, когда власть деспота попирает власть рода. Преодоление культа рода и крови — такова тогда была политическая программа новой «имперской» деспотии. Именно при помощи алфавита изменяется социальная маркировка в Древней Греции, причём она изменяется таким образом, что во главе вновь образованной социальной пирамиды оказывается царь, правитель, тиран и т. п. Деспот благодаря переписи всегда оказывается в отношении к своему роду в ис! ключительном положении. Алфавитная запись позволяет переписать разметку социального пространства так, что деспотическая власть стано! вится неподвластной традициям территориальных мистерий и родовых демократий. Именно письмом, его изобретением и введением в сообще! ство политическая деспотия достигает своего возвышения над порядками родовой субординации. «Писанные» новой «имперской» властью законы вытесняют законы родовые, неписаные, архаические, причём всё это вы! полняется под лозунгом справедливости так, как, например, «писаные» законы были заявлены в качестве открытых для обзора и обсуждения, тог! да как справедливость неписаных законов не может обсуждаться и не мо! жет быть поставлена под вопрос18. Алфавитное письмо вытесняет живые телесно!территориальные знаки и тем самым нарушает непосредствен! ный союз рода, создав огромную дистанцию между знаком и мистериями (жертвенностью), которыми люди обживают мир. В частности, эта дис! танция сделала архаическую разметку полов, родов и земель малоэффек! тивной. Таким образом, деспотическое письмо ошельмовывает родовые мистериальные традиции. Причём ещё раз отмечу, что наибольший эф! фект от такой подтасовки достигается именно фонетическим письмом. Дело в том, что высокое значение речи в Древней Греции предъявило осо! бые требования и к письму. Мифопоэтическая речь, позволявшая грекам обретать свой смысл и своё место в порядках космоса и социуса, оказалась для них важнее родовой земли. В частности, на это указывает широкая ко! лонизация земель, проводимая греками. Родиной для греков являлся язык, которым удерживались их религиозные и общественные установле! ния, а не какая!либо родовая территория. Родина — это не факт террито! риальных разметок, которые постоянно исторически меняются, а всегда неизменная суть языка. Возникший в Древней Греции полис являлся не только физической, пространственной округой, но прежде всего кругом гражданского общения, жизнью в языке, языковым сообществом, поли! тическим типом совместности. Если мы согласимся с тем, что жизнь по! лиса более зависит от языка, нежели от территории, то отсюда будут вы! текать и некоторые черты записи, которая функционирует в обществе. Как известно, греческий алфавит стремится к довольно строгому соотве! тствию звукового ряда и графического ряда. И это понятно. Ведь от точ! ности передачи в записи мифопоэтической речи зависит судьба и жизнь самого полиса, его фактическое благополучие. В этом пункте я хочу при! вести соображение, которое касается избыточного графического внима! ния греческого алфавита к гласным звукам. Свободная фантазия гласных звуков, совместных с согласными буквами, легко создаёт искажения го! лоса власти, требует постоянного толкования. А речь власти и мифотвор! ческая речь требуют от письма максимальной точности и соответствия. Поэтому!то в греческом алфавите возникли гласные буквы. Из этого со! ображения не следует, что фонетическое письмо оказалось на службе у живой речи, на службе у «вечно настоящего», как это думает Ж. Дерри! да19. Ведь хранит, отсеивает, воспроизводит и транслирует все смыслообра! зования живой речи именно фонетическое письмо. В отличие от мгно! вений живого мифотворчества фонетическая запись обладает долговре! менностью. И по мере того как точность фиксации в последовательности знаков и слов возрастает20, стираются и живые контекстуально!интонаци! онные акцентации мифотворческой речи. Акцентации этой речи теперь лишь вероятностно угадываются по специальным графическим элемен! там. Итогом взаимоотношений политики, мифотворчества и фонетиче! ского письма явилось то, что учреждающая порядок речь, принадлежа! щая власти, оказалась в конечном счёте в зависимости от результата своей записи, причём настолько, что она почти уже ничего не значила без «бумажки».
— Каковы последствия использования фонетического письма властью?
— Действительно, использование политической деспотией фонети! ческого письма против родового порядка имело свои последствия и для самого полисного порядка. Одним из таких последствий явилось рожде! ние философии. Полисный порядок, который утверждался письмом, по мере нарастания толщи письма столкнулся с неожиданным для себя по! воротом — с собственной волей письма. Порядок власти тонул в толще письма так же, как тонет власть в толще бюрократических инстанций из! за постоянной трансформации её воли. Письмо, по мере возрастания её роли в социусе, все более выходит из!под контроля своего покровителя — политической деспотии. Голос «имперской» власти теряется и стирается во все возрастающей толще самого письма, попадая при этом в рабскую зависимость от него. Власть обессиливается письмом в той мере, в какой вырастают масса и значение письма. В своём пределе в конечном счёте те относительные различия, которые были прочерчены письмом по родовой разметке территорий, взятые в своём абсолютном смысле, с неизбеж! ностью угрожают и самому полисному порядку. Происходит перверсия письма: будучи по своему происхождению письмом деспотическим, оно на каком!то историческом этапе начинает подрывать деспотическую власть своим отклоняющим действием, то есть действием самой записи21.
Явление, когда письмо перестаёт служить механическим продолжением действия власти и обнаруживает свою собственную волю, противостоя! щую деспотии всего политического, я и называю философией.
— Расскажите поподробнее о взаимоотношении философии как нового типа письма с деспотическим письмом власти.
— Политическая власть наивно полагала в своём самоутверждении, что письмо сделает её могущественной и вездесущей. Но письменная передача её приказов является актом односторонним. Отсюда вытекают некоторые негативные для самой власти следствия. Обратная связь в ком! муникативной цепи проигрывается только в воображении, то есть она является всегда отсроченной, отложенной. К тому же само письмо всегда лишено контекстуально!жизненных акцентаций (они «вне» и «вокруг» письма, но не в тексте), и поэтому письмо постоянно нуждается в уси! лиях по расшифровке этих акцентаций. Воображаемая обратная связь и расшифровываемая акцентация в письме ставят под вопрос удачу влас! ти в процессах коммуникации. Удача деспотической власти предпола! гала близость между знаком и предметом (например, минимальную ди! станцию между приказом царя и самим царём). Она предполагала, что простая демонстрация письма (факт наличия записи, подписи, печати) значит столько же, сколько и записанное. Но именно эти предположения деспотической власти были опровергнуты самим письмом. Массивы письма, сделав голос деспотической власти вездесущим, сами вышли из!под контроля её вездесущности, оказавшись непрозрачными для влас! ти. В результате роль письма стала двусмысленной. Письмо действовало и вместе с политическим сообществом выступало в качестве необходи! мого союзника полисной деспотии, но при этом оно действовало таким абсолютным и предельным образом, что явно превышало цели самого по! литического сообщества. Письмо в переписывании порядка социальной жизни пошло далее самой власти и подвергало изменению не только остатки архаических различий в бытовом укладе родовых сообществ, но и те важнейшие различия, которые задавали сам полисный «имперский» порядок. Письмо оказалось не только слугой и союзником, но также бун! тарём и анархистом. Такое двойственное письмо я называю фюсиологи! ческим письмом. Следуя за властью, это письмо пошло дальше его. Хотя фюсиологическое письмо возникло из недр покорного деспотического письма, оно, идя далее самой власти, действовало двояко, как заодно с властью и сообществом, так и противопоставляясь власти. Это проти! воречие внутри фюсиологического письма нужно было как!то разре! шить. Тех, кто пытается разрешить противоречие фюсиологического письма, я именую философами. В той мере, в какой письмо станови! лось всё более анархично в своей направленности, в той мере, в какой оно становилось собственно философским письмом, развивалась евро! пейская философия1.
— Каковы дальнейшие приключения фюсиологического письма — но уже в рамках философии?
— С одной стороны, фюсиологическая запись служила продолже! нием дела власти, была голосом богов и закона, а с другой стороны, эта запись уже не хотела быть только идеальным дублем социальной жизни, она превышала дело власти и разрушала его. Должны ли их фюсиологи! ческие записи принадлежать некой традиции или каждая такая запись никак не соизмерима с другими? Должна ли философия быть совмест! ным делом немногих, верящих в отличие глупости от ума, или это дело одинокого мыслителя и прорицателя? С поиска ответа на эти и им по! добные вопросы осуществлялось становление философии. На пути анар!
1 Алфавитное письмо в отношении к европейской философии выступает и как предмет, и как метод одновременно. Как предмет письмо в полной мере заявило о себе лишь в связи с философско!мистическими медитациями над каббалистическими, руни! ческими и библейскими буквенными записями. Например, для Каббалы буквы являются самостоятельными сущностями, которые творят мир, они значат и говорят больше, чем слова. Связь Божественного Откровения и записи была в центре внимания средневековой философии. Примерами этому служат идеи реформ письма (реформа укладов письма Ал! куина, создание славянского алфавита Кириллом и Мефодием, «никоновские» реформы написания и т. п.) Письмо в средневековой философии являлось важнейшим путем поз! нания и спасения души. Писать — значит клясться в верности Богу, молиться, священно! действовать. Писать — значит отвечать двум Священным Писаниям, Библии и Природе. Культивирование письма как единственного доступа к Истине привело к разрыву между практикой письма и практикой спасения. Письмо в эпоху Возрождения стало самодоста! точным и самоценным, оно унифицируется печатью и пунктуационной реформой брать! ев Мануциев. В философии Нового времени письмо выступило в качестве письменной Дискурсии, записи представлений всех возможных представлений. Письменная Дискур! сия приобретает по отношению к науке форму трансцендентального знания, то есть вид Всеобщей энциклопедии знаний, Библиотеки всех библиотек. Запись изучается как раци! онализмом (школа Пор!Рояля), так и британским эмпиризмом (учение о знаках Д. Лок! ка), символическая деятельность оказывается также в центре внимания Дж. Вико. В фи! лософии XIX века письмо обращается к условиям своего собственного существования, что приводит, с одной стороны, к появлению самодостаточной записи, литературы (опыты Малларме), а с другой стороны, к появлению окончательного письма с единством записи и записываемого (спекулятивное письмо Г. В. Ф. Гегеля). В спорах о значении письма при! нимают участие Ф. Шлейермахер и В. фон Гумбольдт. В этот период истории философия и письмо оказались сближены максимально, установив в философии «террор» письма, когда единство записи и записанного служило основным критерием качественной работы пишущего. В ХХ столетии формы философской публицистики минимизировали дистан! цию между печатью и письмом, с тем чтобы ослабить «террор» письменной Дискурсии. Во!первых, грамматическая симуляция строгости и объективности вела к нейтрализации письма. Примером такой симуляции служит идея формализации языка в рамках неопози! тивизма. Во!вторых, наблюдалось выявление в порядках письма различных разрывов, принимавших вид описок, выгод, настроений, власти, интересов и т. п. Всё это отодвига! ло само письмо на второй план работы философа. Примером такого выявления здесь мо! гут служить психоаналитические методы. В!третьих, были попытки вернуться к средневе! ковой служебности письма или манускриптности путём проблематизации печати сред! ствами самой печати (В. В. Розанов).
хистской силы массивов письма стояла бесконечно одинокая мысль фюсиологов.
Но философии не нужны гении, ей нужна традиция, массив. Уже Ксенофан Колофонский полагал, что лишь совместно ища истинное, лю! ди находят наилучшее. Он исходил из убеждения, что только в рамках тра! диции поиска истины можно установить, что есть истина. Совместность (то есть не единство, но и не распад) — это первая и наиважнейшая черта философии. Совместность поиска эффективного отличия глупости от ума потребовала от философа выполнения двух задач: во!первых, она потре! бовала установления механизма, который будет поддерживать философ! скую совместность; во!вторых, она потребовала введения существа фило! софии в контекст общественных установлений, то есть обнаружения смысла философской совместности. Но само фюсиологическое письмо (так, как оно исторически сложилось) не могло решить такие задачи. Оно обладало коренным пороком, поскольку было изначально сращено с вы! полнением религиозно!политических и хозяйственно!юридических за! дач. В этом письме отвлечённые и безвластные задачи смешались с раз! личными всеобщими общественными и Божественными установлениями. Фюсиология — это ещё не философия. Как известно, М. Хайдеггер отли! чал «великих» создателей философии от «философов». В фюсиологиче! ском письме содержалась лишь возможность сопротивления установле! ниям власти, то есть в нём содержалась безвластность, которую ещё нуж! но было каким!то образом отделить от власти, сделать её автономной. Это отделение как раз и проделал Сократ. Можно сказать, что до Сократа никакой философии ещё не существовало, а была открыта лишь возмож! ность для философии быть. Выявить существо философии в чистом виде — такова главная цель Сократа. Философия, по моему мнению, ро! дилась как реакция на невозможность фюсиологического письма стать полностью безвластным письмом, письмом, освобождённым от гнёта по! литики, быта и Бога. Фюсиологическое письмо навсегда так и осталось двусмысленным. И философия началась с отказа от двусмысленности фюсиологического письма. Отголоски этого отказа мы, в частности, мо! жем наблюдать в диалоге Платона «Федр». Они обнаруживают себя при перечислении Платоном недостатков, присущих письму. Легко вспом! нить, что, в самом общем виде, пишет Платон о письме. Письмо — это вещь бестолковая, с ним можно делать что хочешь. Оно не знает, с кем ему говорить можно, а с кем — нет, адресовано любому, даже тому, кому читать это письмо не надо. Письмо, как известно, люди бесконечно пере! толковывают, постоянно путают смыслы, сами при этом запутываясь. Оно не может себя отстоять так, как отстаивает себя наша мысль в живом разговоре. Письмо постоянно впадает в парадоксы и противоречия и не может от них уклониться. Всякая мысль в письме теряется, и лишь живая диалектика речи может её удержать. Хотя эти соображения приводит Пла! тон, но принадлежат ли эти соображения ему? Ведь они с неизбежностью вступают в конфликт с философией самого Платона, так как сам способ существования идей требует письмо, и так как их способ существования взывает к письменной традиции. Думаю, что философские взгляды Пла! тона и Сократа на письмо были прямо противоположны.
— В чём заключается эта противоположность?
— Запись, противопоставлявшая себя власти и быту, будучи безвласт! ной и праздной, содержала возможность быть особым порядком действий человека в мире, то есть быть философским образом жизни. Эту возмож! ность раскрыл именно Сократ. Зародившееся в толще письма сопротив! ление власти и быту извлекается Сократом в виде непосредственной тра! диции совместности (праздной и безвластной), которая оказалась проти! вопоставлена им традиции деспотической записи, записи религиозной, политической, поэтической. Отказ Сократа от письма позволяет извлечь из самого письма существо философии в виде непосредственной совмест! ности «друзей ума». Речь идёт об извлечении того, что остаётся в письме, когда оно перестаёт служить власти и быту, перестаёт быть их носителем. Этот остаток письма и был впоследствии назван философией. Только бла! годаря извлечению этого остатка Сократ смог потом противопоставить философию софистике и фюсиологии. Иначе каким же образом филосо! фии удалось бы эффективно отличить себя от собственной предыстории и идеологии? Без этого извлечения никакая демаркация философского знания немыслима. Извлечение из письма и отказ от письма — таковы важнейшие вехи становления и самоопределения философии. Стоит до! бавить, что и извлечение и отказ принадлежат, по моему мнению, самому письму и характеризуют раскол внутри самого письма на анархическую и деспотическую часть. Если кратко охарактеризовать извлечение, произ! ведённое Сократом, то эта характеристика окажется принадлежащей су! ществу философии. Сократ связывает философию с редким видом друж! бы и любви. Это вид дружбы и любви случается лишь с теми, кто совмест! но ищет эффективное отличие глупости от ума, кто пребывает в обяза! тельно праздной близости и безвластном общении. Существо философии заключается в этом одном — принадлежать к кругу «друзей ума», «люби! телей мудрости», то есть к уникальному типу совместности. Бытовая вер! ность совместности демонстрируется лишь близостью, фактическим участием в непосредственном общении, а также упорством друзей!лю! бовников в том, чтобы быть вместе. Философию характеризуют объём, масса, кучность. Полагаю, что существо философии заключено для Со! крата в чистой совместности праздного и безвластного сообщества, со всеми присущими ему ритуалами культивации ума, непосредственными отношениями дружбы, любви и общительности. Главная мысль филосо!
фии Сократа в том, что письмо несовместимо с существом философии. Письмо несёт с собой лишь знание понаслышке, то есть знание, опосре дованное властью и сообществом. Оно исключает живой опыт праздного и безвластного общения, дружбы, любви, разрушает анархическую совме стность и тем самым ставит под удар существование философского со общества. Письмо всегда направлено против непосредственности в быту, учёбе, дружбе и любви, а значит — письмо всегда направлено против су щества философии, против традиций философской совместности. Фило софские традиции поддерживаются лишь в непосредственном контакте между друзьями и любовниками, они длят себя исключительно «телесно», близостью, соприкасанием тел. Эти философские традиции поддержива ют очень конкретный порядок верования, уникальный тип бытовой со вместности — общительность праздную и безвластную. Иными словами, философия выказывает себя лишь в непосредственности — будь то в бы товом поступке или в живом слове. Она для Сократа — всегда философия ситуативная, строго адресованная в ближнем круге праздной и безвласт ной совместности. Такая совместность, кучность — суть философии. И Сократ является тем, кто первый выделил существо философии из фюсиологического письма в «чистом» виде.
А потом философия пройдёт долгий путь работы с безвластным пись мом и свяжет с практикой письма свою судьбу, попадёт в зависимость от этой практики письма и утеряет свою телесную суть. Теперь же настало время освободить философию изпод власти письма, и «графанализ» — шаг на пути к освобождению телесного существа философии.
Беседовал Алексей Нилогов
ДАВИД ДУБРОВСКИЙ
Субъективная реальность
Давид Израилевич Дубровский (род. 1929) — современный русский философ и психолог. Доктор философских наук (1969), профессор (1973). Участник Великой Отечественной войны. Член редакционных коллегий журналов «Философские науки» (1971–1991), «Российский психоаналитический вестник» (с 1991), «Полигнозис» (с 1999), «Эпистемология и философия науки» (с 2004). Основатель и председатель Всероссийского центра изучения восточных единоборств (с 1987). В 1971–1987 го* дах — профессор философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. С 1988 го* да работает ведущим научным сотрудником Института философии РАН. Замести* тель председателя научного Совета РАН по методологии искусственного интеллек* та. Разрабатывает проблему «сознание и мозг», концепцию субъективной реальнос* ти, которая вызвала знаменитый спор с философом Э. В. Ильенковым о природе иде* ального. Автор книг «Психические явления и мозг» (М., 1971), «Информация, созна* ние, мозг» (М., 1980), «Проблема идеального» (М., 1983; 2002 — второе, дополненное издание), «Обман. Философско*психологический анализ» (М., 1994) и более 150 ста* тей по философским проблемам психологии, эпистемологии, психофизиологической проблеме, ценностно*смысловым структурам сознания, проблемам бессознательно* го, самообмана, полуправды, философии и психологии восточных единоборств. Био* графическая справка о Дубровском помещена в десятом издании «Кто есть кто в ми* ре» (Who's Who in the World, 1989). Наша беседа с Давидом Израилевичем состоялась в рамках проекта «Современная русская философия»22.
— Давид Израилевич, давайте начнём нашу беседу с вопроса о вашем отношении к современной философии.
— На столь сложный вопрос я могу кратко ответить, что отношение сложное. Современная философия чрезвычайно разнообразна как по сво! ей проблематике, так и особенно по нынешнему составу её деятелей. Только в России их насчитывается несколько тысяч человек (см., напри! мер, список, публикуемый «Вестником российского философского обще! ства»). Чтобы судить о современной философии в целом, надо специаль! но исследовать этот вопрос. Информационное общество существенно повлияло на развитие философской мысли, что требует особого внима! ния. Резко возрос плюрализм философского знания, поколеблены его классические ориентации, усилились тенденции иррационализма, край! него релятивизма. Я могу высказать мнение лишь о тех областях, которые мне близки. Впрочем, некоторые оценки, думаю, можно отнести и ко все! му нынешнему этапу философской деятельности. Это касается того ры! ночно!рекламного духа, который охватил в последние десятилетия куль! туру и существенно сказывается на философской деятельности. Слишком уж часто мы видим, как жажда успеха и самоутверждения теснят поиск истины, правды, подлинных смыслов, как вольготно чувствует себя энер! гичная и амбициозная посредственность, в каких больших объёмах пуб! ликуются дилетантские тексты. И конечно, лишь сравнительно неболь! шое число авторов демонстрируют подлинный профессионализм и твор! ческую продуктивность, вносят вклад в развитие философской мысли. Определённые успехи, на мой взгляд, наблюдаются у нас в таких облас! тях, как эпистемология, логика и методология научного познания; в по! следние годы опубликован ряд значительных работ по философии культу! ры, этике, эстетике. Тревогу вызывает тот факт, что в последнее время рез! ко уменьшился приток в философию талантливой молодёжи.
— Как вы относитесь к философскому постмодернизму?
— На эту тему у меня была статья «Постмодернистская мода», опуб! ликованная в «Вопросах философии» (2001, № 8), в которой я высказал своё критическое отношение к этому направлению. Конечно, постмодер! низм выразил некоторые реальные черты кризиса культуры постиндуст! риального общества. В концептуально!теоретическом плане у его глав! ных представителей трудно обнаружить существенные новации, хотя фи! лософский и всякий иной шум вокруг этого направления был большой. Нагнетание скепсиса, релятивизма, деструктивности, эстетизация абсур! да, стремление сокрушить традиционные ценности — во всём этом есть нечто патологическое. То, что ведущие представители постмодернизма были ярки, талантливы, усиливало их негативное влияние на философ! скую мысль. Сейчас на Западе постмодернизм сильно поблёк. А у нас мо! да на него ещё не прошла. Отдельные наши весьма одарённые авторы то! же отдают ему дань, например Фёдор Иванович Гиренок. У меня с ним добрые отношения, но я мог бы выступить его критиком.
— Я бы тоже хотел лишить Гиренка его косноязычного языка, который часто бывает сродни косномыслию, но…
— Ну это вы уж слишком! Я бы сказал «спасибо» за то, что он у нас есть такой — оригинальный, непосредственный, сильно выделяющийся на фоне массы серых философов. Для меня в философии, как и в искус! стве, важно не что, а как. Как исполнена работа! А это включает язык, стиль, оригинальность мысли. У Гиренка, например, много интересных образов, метафор, ассоциативных откровений. Но главное, конечно, кон! цептуальность, обоснованность результатов исследования поставленного вопроса. Многие сейчас превозносят Мамардашвили, считая его выдаю! щимся философом. Я знал его лично, он был хороший, интересный че! ловек, блестящий лектор. Но что, собственно, создал Мамардашвили в области философии? Каковы критерии оценки его работ? Давайте за! дадимся общим вопросом о критериях значительности того или иного философа...
— Пока я придерживаюсь фукианской традиции — понимание истины как воли к власти, способности навязать свои тексты, идеи, концепты. Кста ти, в этом отношении среди последователей М. Фуко можно назвать и аме риканского философа сознания Д. Деннета с его теорией меметики, — куль турной (а следовательно, и философской) генетики, когда философские идеи превращаются в idеe fixe, множат себя в головах философов и начинают жить там самостоятельной жизнью.
— Ваш критерий (связанный, конечно, и с ницшеанской традицией) весьма типичен для эпохи информационного общества. Он чисто комму! никативный. В худшем его толковании (а оно преобладает!) неважно, что именно вы утверждаете или отрицаете, важно, чтобы вам поверили, «за! разились» вашей мыслью. Нужен успех! Любой ценой! Истина здесь не обязательна. Сплошь и рядом мы видим, как объективные критерии ре! альности подменяются критериями правильного исполнения роли, кото! рые насаждаются средствами массовых коммуникаций. Именно они творят кумиров, в виде которых не столь уж редко выступают полнейшие интел! лектуальные ничтожества; они «философствуют» с телевизионного экра! на, чувствуя себя «учителями жизни». Надо сказать, что и многие западные философы — среди них и значительные — энергично рекламируют свой товар, не гнушаясь использовать средства, характерные для шоу!бизнеса. — Но есть ли смысл говорить о моде, когда средства массовой коммуни кации растут в геометрической прогрессии? Не трансформируется ли такое положение дел во чтото качественное?
— Определённые качественные изменения в системе культуры и мас! совом сознании очевидны. Между транслятором информации и её потре! бителем увеличивается пропасть, у последнего практически нет обратной связи и действенных средств проверки сведений и оценок, которые навя! зывают ему пресса, телевидение и т. п. Эта асимметрия в коммуникатив! ных контурах неуклонно нарастает, а вместе с ней и сфера неопределён! ности, в которую погружён человек. В этих условиях он легко поддаётся воздействию суггестивных факторов, своего рода зомбированию. Те, в чьих руках находятся средства массовых коммуникаций, жёстко пресле! дуют свои цели, часто крайне эгоистические и низменные. На службе же у них профессионалы высокого класса, использующие изощрённые тех! ники манипуляции массовым сознанием. У них есть только один крите! рий — рейтинг и только один бог — успех. Поэтому, если нужно, то белое будет сделано чёрным или серым, как и наоборот. И масса это проглотит. Мы ведь видим, что явные посредственности, раскрученные телевиде! нием и прессой, обретают популярность и как бы высокую значимость — в политике, искусстве, философии.
— А кто именно в философии?
— Что касается раскрученности философов, то это скорее относится к некоторым западным коллегам. О наших я говорить не буду, боюсь ко! го!то обидеть. Все мы люди со своими слабостями, «примочками», «складками» и прочей иррациональностью. «Человеческое, слишком че! ловеческое!» — как говаривал Ницше. Но философы, конечно, различа! ются по своему творческому рангу. Большинство из нас — мыслители среднего уровня, труд которых, однако, создаёт и поддерживает основу и непрерывность философского развития. Выдающийся философ — боль! шая редкость. Для меня выдающийся философ определяется по такому критерию, как наличие у него оригинальной и обоснованной концепции, которая позволяет решить или по!новому осмыслить какую!либо класси! ческую проблему. Если такой концепции нет, то, вероятно, он высказал ряд оригинальных идей, которые имеют глубокий смысл, послужили сти! мулом существенного развития сложившихся представлений. Если у него и этого нет, то вряд ли к нему приложим эпитет «выдающийся». Вернём! ся к Мамардашвили. Он, конечно, личность незаурядная. Однако его книги, изданные в последние годы, это не совсем Мамардашвили. Это ча! ще всего обработки его лекций, записей, выполненные его друзьями. При жизни он очень мало писал, был ориентирован прежде всего на раз! говорный жанр, на устную философскую традицию. Его лекции собирали значительные аудитории, он был артистичен, касался многих вопросов, которые были если и не табу, то явно не в фаворе у идеологического на! чальства. Эти лекции учили мыслить, учили любить и хранить высокие ценности. Для того времени Мераб Мамардашвили был крупным явле! нием философской жизни. Но я должен прямо сказать, что в изданных текстах Мамардашвили я не нахожу каких!либо существенных концепту! альных новаций. Мне претят его медитативность, повторы, долгие «диа! лектические» периоды и коловращения, содержание которых уже давно знакомо, довольно высокая степень неопределённости суждений. Я, ко! нечно, не отрицаю пользы этих изданий. Людям другого ментального склада, чем мой, это может нравиться, и — на здоровье. Для меня труд фи! лософа — это напряжение мысли, экономия слов, высокая степень интел! лектуальной ответственности, воля к постижению смыслов бытия, сверх! задача. В силу человеческой слабости мы редко достигаем даже посиль! ных для нас высот, но обязаны к ним стремиться. Сейчас в философ! ской литературе небывалое изобилие, но вместе с тем небывалая компи! лятивность и информационная избыточность. Очень трудно всё это чи! тать, трудно вычленить что!то новое, интересное.
— Но, помоему, трудно это сделать, потому что у нас практически нет историков современной русской философии, которые бы отслеживали on lineфилософию. Не секрет, что большинство историков философии сосредо точено на Серебряном веке — как уселись в своё время (конец XX века), так до сих пор и не слезли с него. Ктото успел переключиться на русскую фило софию в эмиграции, и лишь некоторые (например, Н. В. Мотрошилова, М. Н. Эпштейн) пытаются анализировать уже советскую философию.
— Я согласен с вами. Книги не читают, а считают, включая количест! во страниц, число знаков, тиражи. У некоторых авторов уже штук по двад! цать книг. Они почитают себя самыми крупными философами. Нет неза! висимой критики, нет никаких фильтров. В печать проходит всё, даже яв! ный бред. При советской власти были действенные фильтры, сильно отягчённые, правда, идеологическими запорами, но они отсеивали без! грамотные, вторичные тексты. От таких фильтров боже нас упаси. Я, ко! нечно, имею в виду другое. Философская культура предполагает справед! ливые, основательные санкционирующие регистры. Фильтр — это не цензура, а высокопрофессиональные люди, которые отслеживают интел! лектуальный процесс, изучают его, оценивают. Нам нужна философская критика, авторитетная оценка. Редко встретишь объективную и одновре! менно доброжелательную рецензию. Как воздуха не хватает нормальной коммуникации, дискуссий, полемики, референтного круга. В общении много амбициозного, показного, рекламного. В США, например, тоже хватает философского «базара», но он отличается от нашего так же, как американский гипермаркет от российского магазина начала 1990!х годов. Я не вижу крупных новаций в американской философии, но должен признать, что там есть движение мысли. У них есть активное сообщество, у нас же оно выражено крайне слабо.
— Хорошо, что вы упомянули об идеологических фильтрах, существо вавших в советское время. Но, может быть, именно изза них наши отечест венные философы и разучились создавать крупные концептуальные фило софские произведения?
— Сомнительно. Столько лет прошло уже, как рухнула советская сис!
тема, а мы всё пеняем на неё, стремясь оправдать свою творческую импо! тентность и слабость духа.
— Однако получается, что в философии всем находится место? А кого бы вы смогли вычеркнуть из истории философии?
— Сама история философии вычёркивает многие имена.
— Как так «сама история философии»? Может быть, историк филосо фии как субъект истории философии?
— История философии создаётся историками философии. Но не всеми. История философии вычёркивает имена и многих историков философии, ибо она представляет собой такое содержание, которое обос! новано, признано большинством профессионалов, выдержало испытание временем. Историк философии — это не архивариус, а мыслитель, ис! следующий процесс развития философии, соединяющий настоящее с прошлым. Это требует эрудиции, кропотливого анализа и, конечно, спе! циальной одарённости. Сейчас, как никогда, важна такая интегрирующая работа.
— У того же Гиренка есть специальный термин «эрузит» («эрудит + па разит»). Не является ли историк философии таким эрудированным парази том, который паразитирует на текстах оригинальных философов?
— Но как же без эрудиции можно заниматься историей философии? Ведь тут требуется основательное знание обширного и многообразного материала, который вы призваны упорядочить, систематизировать, ос! мыслить и оценить. Это — специфический, довольно трудный и важный вид философской деятельности. О каком паразитировании тут можно вести речь? Конечно, есть среди историков философии и такие, которым как раз недостаёт эрудиции, трудолюбия и творческих способностей, а главное, недостает ответственности и честности. Ну и что здесь особен! ного? Конъюнктурщик встречается всюду. Им может быть не только по! средственность, но и талант. На талантливых конъюнктурщиков сейчас, кстати, большой спрос.
— Каких современных русских философов вы можете назвать?
— Если брать близкие мне области философии, то я с большим ува! жением отношусь к таким своим коллегам, как В. А. Лекторский, И. Т. Ка! савин, В. С. Стёпин, В. Н. Порус, П. П. Гайденко, Н. В. Мотрошилова, Э. Ю. Соловьёв, А. П. Огурцов, А. М. Руткевич. Я мог бы легко продол! жить этот перечень. Думаю, из ныне живущих можно назвать несколько десятков профессионалов высокого уровня, которые успели уже внести свой вклад в развитие российской философии. Кроме того, есть немало молодых людей, уже зарекомендовавших себя серьёзными мыслителями. Россия — велика. Несмотря ни на что, она не устаёт рождать новые талан! ты. Важно их увидеть, вовремя поддержать.
— Вы исходите из понимания философии как науки? Для вас важен критерий научной рациональности?
— Философия, конечно, не наука, это — особый вид духовной дея! тельности, использующий тем не менее научные познавательные средства и подходы, что характерно и для других видов культуротворческой дея! тельности. Для меня и для очень многих моих коллег крайне важны кри! терии научной рациональности. Особенно в наше время разгула ирраци! онализма. В России, например, сейчас практикуют более 400 тысяч магов, колдунов, гадалок, экстрасенсов, целителей, астрологов и т. п. Каково же число их клиентов? Разве это не показатель состояния массового созна! ния? Газеты пестрят рекламой оккультных услуг. Немалая часть нашей ин! теллектуальной элиты, в том числе лица, имеющие учёные степени, ис! кренне или следуя моде, подыгрывает всей этой братии, среди которой сплошь и рядом либо жулики, либо невежественные и параноидные субъ! екты. Дошло до того, что даже такая газета, как «Известия», ежедневно публикует «астрологический прогноз». Для непредвзятого человека эти «прогнозы» — заведомая муть на уровне базарной гадалки. Спекуляции на иррациональном в человеческой натуре имеют серьёзные негативные последствия — разжижают волю к активной самодеятельности, к вере в себя, мутят сознание, оптимистическую перспективу жизни, сгущают страх перед неведомым и «высшими силами», не говоря уже о тех плодах, которые получают от этого торговцы на рынке оккультных услуг и опре! делённые политические силы. В последнее время модно разглагольство! вать о негативной роли науки в развитии культуры, о сциентизме, списы! вать на него беды нашей цивилизации. Однако именно наука — страж объективности и рациональности в системе культуры, действенное сред! ство против разнузданного субъективизма, обмана, нигилизма, деструк! тивности.
В наше время повышается требование к рациональности философии, усложняются её взаимосвязи с наукой. Остро сознавая ограниченность научного знания, неизбывную проблемность человеческого существо! вания, неопределённость будущего, рациональная философия призва! на крепить мужество духа, всемерно поддерживать оптимистическую перспективу, ибо только они способны генерировать энергию и волю, необходимые для решения глобальных проблем человечества. Хочу под! черкнуть: когда речь идёт о рациональной философии, то имеется в ви! ду, что она стремится к теоретическому обоснованию выдвигаемых положений, концептуальной оформленности своих результатов, откры! тых для критического обсуждения, требует логической последовательно! сти, доказательности и высокой интеллектуальной ответственности авто! ра. Она вовсе не отрицает ценности тех философских жанров, которые связаны с использованием художественных средств, насыщены образной мыслью, оригинальными метафорами, более того, она сама может использовать подобные средства и формы выражения философской мысли.
Рациональная философия стоит на страже здравого смысла. Да, его горизонт и разрешающая способность весьма ограничены, но он несёт в себе глубинные факторы рациональности, выработанные в ходе биологи! ческой эволюции, антропогенеза и всей истории человечества. Попрание здравого смысла — слишком редко симптом гениальности, но сплошь и рядом выражение болезни разума или натужного фиглярства, эпатажа, су! перпретенциозности, этих типичных способов компенсации творческой импотентности.
Рациональная философия отдаёт себе ясный отчет, что человеческий разум подвержен патологическим отклонениям (в силу действия генети! ческих, социальных, психологических и других факторов). Ему свой! ственны различные виды пограничных состояний и акцентуаций. Всё это в известной мере приложимо и к философскому разуму. В наше время в нём стали заметно проявляться шизоидные, депрессивные и невротиче! ские тенденции. Рациональная философия призвана противостоять этим тенденциям, выполнять своего рода терапевтическую функцию, служить основанием реализма и источником жизнеутверждающих идей в системе культуры. Она должна содействовать творчеству новых жизнеутверждаю! щих ценностей и смыслов, а главное — сохранению старых, проверенных всей историей человечества.
— Как вы относитесь к попытке М. Н. Эпштейна основать новую фило софскую науку (наряду с онтологией и гносеологией) — потенциологию, в рамках которой субстанциализируется категория возможного?
— К сожалению, я незнаком с этими работами М. Н. Эпштейна. Но когда я слышу о создании «новой философской науки» (да ещё «наряду с онтологией и гносеологией»), то у меня возникают, мягко говоря, слож! ные чувства, которые (чтобы не обидеть автора) я предпочитаю не выра! жать словесно. Ну сказали бы, что автор разработал новую концепцию возможного. Тоже звучит гордо! Но если утверждают, что это «новая на! ука» и она выдвигается в таком же ранге, как онтология, и наряду с ней, то это представляется мне некорректным. Основная категориальная струк! тура философского знания четырёхмерна, она включает категории он тологического, гносеологического, аксиологического (ценностного) и прак сеологического (активность — интенциональность, воля, целеполагание и др.). Соответственно можно говорить о четырёх основных типах фило! софских проблем. Указанные категории логически нередуцируемы друг к другу, но взаиморефлексируемы. Это означает следующее. В сложных слу! чаях, когда мы утверждаем, что нечто существует или не существует, мы обязаны подвергнуть наши утверждения, как минимум, гносеологиче! ской рефлексии, то есть исследовать те познавательные средства, с по! мощью которых мы описываем то, что полагаем существующим или не! существующим. Но часто возникает необходимость подвергнуть эти утверждения также аксиологической и праксеологической рефлексии. Только тогда наши утверждения могут обрести основательность. В этом отношении категория возможного несёт в себе не только онтологическое содержание, но вместе с тем и гносеологическое, аксиологическое и праксеологическое. Поэтому проблема «потенциологии» в духе Эпштей! на предполагает исследование возможного, а тем самым и будущего во всех четырёх планах и интеграцию полученных результатов в единой кон! цептуальной структуре. Говорят, что будущее непредсказуемо. Смотря ка! кое. Некоторое будущее предсказуемо даже очень, например, что все мы обязательно завершим свой земной путь.
— Именно в силу своей непредсказуемости возможное и приобретает статус субстанции. К тому же Эпштейн различает понятие «потенция» и по нятие «возможное», гипостазируя последнее до инвариантной модальности.
— Удачи ему.
— Как вы охарактеризуете американскую философию сознания? Не ка жется ли вам, что совсем скоро американцы накопят такую критическую массу информации, что проблема сознания обрушится? И как вы можете прокомментировать пафос философа В. В. Васильева, который столь истово пропагандирует американскую философию сознания (на философском фа культете МГУ)?
— Лучше говорить не об американской, а об англоязычной филосо! фии сознания, так как многие ведущие представители этого направления живут в Англии, Австралии и других странах. Не будет большой погреш! ности и в том случае, если мы будем вести речь о концепциях сознания в аналитической философии. Я давно слежу за их развитием, написал кри! тические статьи, посвящённые анализу работ таких известных филосо! фов, как Т. Нагель, Д. Деннет, Дж. Сёрл, Д. Чалмерс. В моей книге «Ин! формация, сознание, мозг» две главы представляют критический обзор раннего этапа развития этого направления — концепций «научного мате! риализма», «элиминативного материализма», «функционального матери! ализма», «эмерджентистского материализма» (Г. Фейгл, Дж. Смарт, Д. Армстронг, Р. Рорти, П. Фейерабенд, Дж. Марголис и др.). Действи! тельно, за полувековой период накоплен колоссальный объём литерату! ры — многие сотни книг, десятки тысяч статей. Но никаким «обруше! нием» проблеме сознания это не угрожает. Правда, бросается в глаза контраст между столь большим количеством публикаций и концептуаль! ными результатами, которые, на мой взгляд, довольно скромны. Однако продолжаются острые и содержательные дискуссии, они создают движе! ние мысли. Ознакомление с нынешним состоянием разработки пробле! мы сознания в аналитической философии крайне важно для тех, кто интересуется этой проблемой. Ведь никакое другое направление совре! менной философии не занимается проблемой сознания столь масштаб! но и систематично, причём именно в русле классических традиций. В нём доминирует материалистический и сциентистский подход. В этом его слабые и сильные стороны. Слабые, поскольку многомерная проб! лема сознания сильно уплощается, за скобки выносятся её смысло! жизненные, экзистенциальные, социальные и социокультурные планы. Сциентистская установка ведёт к редукционистской стратегии в объяс! нении сознания, а это, по моему убеждению, тупиковый путь, так как из сознания изымается самое главное — субъективная реальность. В рам! ках аналитической философии разработаны два типа редукционизма — физикалистский и функционалистский. Важно отметить, что идея функ! ционализма, которая допускает нередукционистские истолкования и приложения, сыграла позитивную роль в развитии когнитивной на! уки и в разработке проблематики искусственного интеллекта. В этом я вижу позитивный аспект аналитической философии. В последнее вре! мя среди её представителей усиливается тенденция нередукционист! ского подхода к объяснению сознания, что представляет определён! ный интерес.
Теперь о В. В. Васильеве, который «истово пропагандирует амери! канскую философию сознания» на философском факультете МГУ. Если отбросить слова «истово пропагандирует», то, как заведующий кафедрой зарубежной философии, он поступает правильно, придавая изучению аналитической философии важную роль. Ведь она представляет одно из самых мощных направлений современной философии, внёсших значи! тельный вклад в разработку гносеологической проблематики, в филосо! фию и методологию научного познания (это относится, как я уже отме! чал, и к ряду аспектов проблемы сознания). Уже поэтому выпускник фи! лософского факультета МГУ должен быть обязательно знаком с аналитиче! ской философией, а ей, насколько мне известно, уделяли на факультете крайне недостаточное внимание. Между тем пройти школу аналитиче! ской философии в высшей степени полезно (сужу по себе!). Она учит строгости мысли, логической последовательности, доказательности, уме! нию чётко аргументировать, правилам критического анализа, говоря ко! ротко — интеллектуальной ответственности. Эти качества крайне важны для современного философа, их не хватает авторам велеречивых, разма! шистых, расплывчатых текстов. В этом году у нас впервые под редакцией М. В. Лебедева и А. З. Черняка издано учебное пособие по аналитической философии (Аналитическая философия. — М., 2006. — 624 с.). Думаю, что оно будет весьма полезно для студентов философского факультета, и не только для них.
— В чём оригинальность вашего информационного подхода к проблеме «сознание и мозг»?
— Этот подход предлагает возможный вариант теоретического реше! ния классической проблемы «сознание и мозг», то есть ответ на два клю! чевых вопроса: 1) как объяснить связь явлений сознания (субъективной реальности) с мозговыми процессами, если первым нельзя приписывать пространственные и другие физические свойства (массу, энергию), а пос! ледние ими необходимо обладают; 2) как объяснить казуальную функцию явлений субъективной реальности по отношению к телесным процессам, если первым нельзя приписывать массу, энергию и другие физические свойства (то, что мои мысли и желания способны вызывать движение моей руки, очевидно, как и то, что существует моё или ваше волевое уси! лие и феномен свободы воли; но как это объяснить?). Многие философы, занимавшиеся этой проблемой, подчёркивают, что здесь налицо «провал в объяснении». Мой подход в развёрнутом виде предложен ещё 35 лет на! зад в книге «Психические явления и мозг» (М., 1971) и с тех пор развивал! ся и уточнялся. Отдавая себе отчёт в том, что возможны другие варианты теоретического решения, я пока в нём не разочаровался. Он строится в форме теории: мной предлагаются три постулата, представляющие собой общепринятые в науке положения, которые не встречают эмпирических опровержений, и затем из них логически выводятся объясняющие след! ствия, которые относятся не только к двум указанным основным вопро! сам, но и к ряду других более частных вопросов, с ними связанных. Всё это изложено в моих книгах и статьях.
— Кто из зарубежных учёных поддержал ваш информационный подход к проблеме «сознание и мозг»?
— Прежде всех — крупный американо!венгерский учёный!нейрофи! зиолог, академик Янош Сентаготаи ещё в 1976–1977 годах. Он не раз ци! тировал мои работы, я с ним активно переписывался. Он хотел провести в Венгрии симпозиум, специально посвящённый обсуждению моей кон! цепции, приглашал на него ведущих западных специалистов. Трижды назначалась дата симпозиума, и трижды КГБ меня не выпускал (несмот! ря на официальные запросы Сентаготаи в МГУ, где я работал, а Сентаго! таи тогда был президентом Венгерской академии наук). Поддерживал ме! ня и американский нейрофизиолог Роджер Сперри — первооткрыватель асимметрии полушарий головного мозга, лауреат Нобелевской премии. Он даже прислал мне свою большую статью для публикации в сборнике «Мозг и разум», изданном под моей редакцией Институтом философии в 1994 году. Среди философов могу назвать Дж. Марголиса, с которым я много переписывался и книгу которого «Личность и сознание» мне уда! лось перевести (с помощью С. А. Блинникова и А. Ф. Грязнова) и издать в 1986 году. Эта книга, хотя и написана тяжёлым языком, является весьма содержательной, во многом поучительной, представляет позицию так на! зываемого эмерджентистского материализма в западной философии со! знания. Тем, кто у нас занимается проблемой сознания, прочесть её вни! мательно было бы очень полезно (чтобы не изобретать заново велосипед и чтобы расширить свой концептуальный кругозор по данной проблеме).
— Как вы прокомментируете деятельность Института эксперименталь ной медицины АМН СССР под руководством Н. П. Бехтеревой, которая в последнее время находит большинство ответов на научные вопросы в религи озной мистике?
— Я хорошо знал Н. П. Бехтереву, поскольку начал сотрудничать с ней и её коллективом ещё во второй половине 1970!х годов. Тогда Инсти! тут экспериментальной медицины был самым передовым научным уч! реждением в нейрофизиологии. Он собрал коллектив таких блестящих исследователей, как П. В. Бундзен, Ю. Л. Гоголицын, В. М. Смирнов и др. Работы, проводившиеся тогда по расшифровке кодирования информа! ции в мозгу, не утратили и сегодня своего значения. Но в 1980 году меня раскритиковал в пух и прах журнал «Коммунист». Я обвинялся в том, что «ревизую марксистскую теорию сознания», «выступаю против азбучных истин исторического материализма», занимаюсь «злобными софистичес! кими ухищрениями» и т. п. Такие оценки в органе ЦК КПСС тогда звуча! ли зловеще. И Н. П. Бехтерева сразу, даже не позвонив, порвала со мной все отношения и запретила общаться со мной своим сотрудникам. Одна! ко спустя год стала наводить мосты (поскольку, на удивление многим, я по!прежнему оставался профессором МГУ, а скандал постепенно замя! ли). Но с ней я больше не общался. Потом её замечательный коллектив распался, а у неё были большие семейные несчастья. Может, это и послу! жило переменам в её мироощущении. Мне известно, что она поднимала на щит А. М. Кашпировского, других подробностей я не знаю. Она, по! моему, давно не является директором Института экспериментальной ме!
дицины.
— Вы также известны как активный участник развития карате в СССР. Расскажите, пожалуйста, об этой деятельности.
— Я стал заниматься карате в довольно позднем возрасте, но мне по! везло с учителем. Им стал Владимир Елисеев — замечательный мастер ка! рате и тай!цзи!цюань (он, кстати, был кандидатом психологических наук, научным сотрудником Института психологии АН СССР). Я учился у него семь лет. Некоторые знания приобрёл, побывав в Китае. Опыт занятий карате для меня оказался чрезвычайно полезным. В 1986 году я получил чёрный пояс с дипломом Японской федерации карате. Вскоре благодаря поддержке академика И. Т. Фролова мне удалось создать при Философ! ском обществе СССР Центр восточных единоборств (Иван Тимофеевич Фролов, которого я хорошо знал много лет, стал тогда главным редакто! ром газеты «Правда» и секретарём ЦК КПСС, но оставил за собой пост президента Философского общества СССР). Центр был создан по реше! нию правления Философского общества в условиях, когда карате в СССР было запрещено. В Уголовном кодексе имелась статья 219!прим., по ко! торой за занятия карате давали 5 лет. Центр объединил в составе своего бюро и своих секций лидеров основных стилей карате и ушу, организовал свои отделения во всех союзных республиках и крупных областных цент! рах, вёл большую работу. Мастера и любители карате воспряли духом. Мы проводили показательные выступления (однажды даже на сцене Цент! рального Дома литераторов), издавали литературу по истории восточных единоборств, по методическим, философским, этическим, психологиче! ским аспектам карате!до, проводили встречи по обмену опытом и т. д. Меня вызвали в прокуратуру, грозно заявили, что я нарушаю закон, но ког! да узнали, кто является президентом Философского общества, оставили в покое. Я был председателем Центра до тех пор, пока в 1990 (или 1991!м, точно уже не помню) году не отменили злополучную статью Уголовного кодекса. Я передал Центр своему заместителю, а сам стал издавать журнал «Чёрный пояс» (неплохой был журнал!), а потом газету по восточным еди! ноборствам. Но неудачно. Не было опыта, денег. Много лет я вёл занятия по карате, у меня немало учеников. До сих пор один раз в неделю я веду две группы, в которых занимаются мои приятели и их знакомые. Это по! могает мне сохранять рабочий дух.
— Чем вы занимаетесь в настоящее время?
— Сейчас я готовлю книгу «Субъективная реальность и мозг: опыт теоретического решения проблемы», в которой будет жёстко изложена моя информационная теория и представлены два приложения (в первом будут конкретизироваться отдельные положения теории и следствия из них, во втором — собраны критические статьи по аналитической филосо! фии, написанные мной в последние годы). Ещё я хочу написать большую статью по проблеме «Другого сознания» — о взаимоотношении онтологий от первого и третьего лица. Здесь встают фундаментальные вопросы диаг! ностики другого сознания (как оно возможно? как удостоверить субъек! тивную реальность у другого существа? как изучать субъективную реаль! ность у животных? как научиться лучше понимать Другого?). Но задачи та! кого рода имеют более широкий круг: постижение смысла информации, воплощённой в определённой предметности или в физическом процессе, является фундаментальным условием в изучении живых систем, личнос! тей, социальных явлений, объектов культуры (примером может служить такое достижение, как расшифровка языка майя). Здесь перед нами зада! ча понимания, которая носит герменевтический характер. Понимание же связано с выяснением кодовых зависимостей, предполагает расшифровку кодов. На этом пути достигнуты уже важнейшие результаты: расшифров! ка генетического кода, генома человека. На повестке дня расшифровка мозговых нейродинамических кодов психических явлений. Решение этой проблемы способно повлечь колоссальные по своим масштабам как пози! тивные, так и негативные последствия. Загадка человеческого сознания беспокоит многих исследователей, в том числе и меня, многие годы.
Мне приходится уделять много времени также и научно!организаци! онной работе. Вместе с членом!корреспондентом РАН И. Т. Касавиным мы создали в Институте философии постоянно действующий семинар «Проблемы рациональной философии» (работает уже около четырёх лет, проведено 39 заседаний). Каждый месяц собираются по 30–40 человек, проводятся интересные обсуждения актуальных вопросов. Я руковожу
также постоянно действующим теоретическим семинаром по методоло! гии искусственного интеллекта (совместно с академиками РАН В. Л. Ма! каровым и В. А. Лекторским). Его заседания тоже проводятся ежемесяч! но (в помещении Центрального экономико!математического института). На нём обсуждаются ключевые теоретические вопросы междисциплинар! ного подхода к разработке искусственного интеллекта, среди которых важное место занимает проблематика мышления и сознания.
Беседовал Алексей Нилогов
АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ
Рабства без рабовладельцев не бывает
Александр Александрович Зиновьев (1922–2006) — всемирно известный логик, философ, социолог, писатель и публицист. Зиновьев не нуждается в представлении. Основу своего учения Зиновьев называет комплексной логикой, или интеллектоло гией, фундамент своей социологической теории — логической социологией. Послед ние вышедшие книги философа — «Идеология партии будущего» (М., 2003), «Логи ческий интеллект» (М., 2005) и «Фактор понимания» (М., 2006). В последнее время вплоть до своей смерти Зиновьев работал в качестве профессора на кафедре эти ки философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Наша беседа с Алек сандром Александровичем состоялась в рамках проекта «Современная русская фило софия»1.
1 Поскольку проект рассчитан только на ныне живущих русских философов, а бе седа была записана ещё до выхода данного издания, постольку для А. А. Зиновьева сде лано исключение. В ходе правки текста Александр Александрович написал на черновике, что эта его беседа является последней. Однако, узнав о тяжёлой болезни Зиновьева, вовремя подсуетившиеся журналисты взяли сразу несколько так называемых последних интервью — практически у постели больного. Впервые беседа (в слегка изменённом виде) была опубликована в газете «Завтра» № 20 от 17.05.2006 под заголовком «Разгром СССР был ошибкой Запада…». Причём в «шапке» беседы была допущена грубая ошибка о том, что беседа у Зиновьева была записана 8 мая накануне Дня Победы. Редакция газеты «Завтра» получила текст беседы в феврале 2006 года и решила попридержать его до смер ти Александра Александровича. Спустя неделю после смерти Зиновьева беседа была конъюнктурно напечатана.
Часть беседы с А. А. Зиновьевым опубликована в интернетовском «Русском журнале» 11.05.2007 в критической статье под названием «О последнем интервью»: http://www.russ.ru/politics/interview/o_poslednem_interv_yu. После публикации на авторов статьи — М. Е. Бойко и А. С. Нилогова — начались нападки, в которых приняли участие семья покойного Александра Александровича и так называемые «стихийные зиновьево филы», решившие создать из фигуры Зиновьева «философский идол». Под нажимом «зиновьевцев» статья в «Русском журнале» была снята редакцией 01.06.2007.
— Александр Александрович, можете ли вы в двух словах охарактеризо вать свой метод? Кажется, вы както говорили, что всегда отталкивались от вещей общеизвестных и потому недостаточно принимаемых во внимание, например от разделения коммунальной и деловой сфер человеческого суще ствования и т. д.
— Ещё в 30!е годы прошлого века я установил для себя, что всё то, что писалось в отношении логических явлений, методологии и социальных явлений, для меня неприемлемо. Отдельные высказывания, конечно же, сохраняли какое!то значение, но отыскивать в этой куче мусора какие! либо рациональные зёрна было очень непроизводительно. Убедившись в этом, я приступил к построению собственной теории средств познания и социальных объектов, принципиально отличной от всего, сделанного другими. Я близко познакомился с существующими теориями во время обучения на философском факультете, в аспирантуре, на математическом факультете. Мне приходится пользоваться сходным языком, поднимать вопросы, которые рассматривались другими авторами, но я был исходно убеждён, что всё, что нужно для понимания социальных объектов и пони! мания логических объектов, — не запрятано глубоко в архивах или чужих диссертациях, а лежит на поверхности нашей повседневной жизни и всем доступно. Недоступен способ понимания этих явлений. Мне, например, не нужно ехать в Китай, чтобы изучать его. Мне достаточно минимума информации, чтобы я мог воссоздать всё, что могу там увидеть. В советс! кое время мне говорили, что, например, в таких!то колхозах так!то, а вот в других колхозах — совсем по!другому. Не бывает так. Нужная информа! ция всегда на поверхности. Проблема в том, как её понять, обработать на адекватном интеллектуальном уровне, адекватным интеллектуальным аппаратом. Все современные мне авторы употребляли такие определения, как «демократия», «капитализм», «коммунизм» и т. д. Но никто даже не пытался вывести их по правилам логики. Это они сами признают. В итоге в социологии существует больше 100 определений демократии, больше 150 определений коммунизма — понятийный аппарат засорен до такой степени, что для научного понимания просто непригоден. Капитализма в природе нет, демократии — также, все понятия бессмысленны. Люди употребляют какие!то термины, умеют ими манипулировать, но ника! кого понимания за этим не стоит. По существу, они ни одну реальную проблему решить не могут, если подходить к решениям с научными тре! бованиями.
— В своих последних книгах известный американский социолог и авгур либерализма Фрэнсис Фукуяма пересмотрел свои же утверждения о «конце истории» и взял многие слова обратно. Не появлялось ли у вас искушение поступить точно так же?
— Нет. Во!первых, для меня Фукуяма несерьёзная фигура. Сама по! становка вопроса о конце истории бессмысленна, — это дребедень, в ко! торой научного кот наплакал. Во!вторых, я начинал свою деятельность в 15 лет, а совсем скоро будет 84, и, конечно, очень многое изменилось за это время. Я не изменял свои воззрения — я уточнял их. Просто теперь я вижу, что такой!то раздел был у меня плохо разработан, а вот такой!то — лучше. Кое!что приходится дополнять. Например, ещё в молодости я убе! дился, что история полностью сфальсифицирована, и отказался от исто! рического метода. В «Зияющих высотах» я писал: «История не оставляет следов. Она оставляет лишь последствия, которые не похожи на породив! шие их обстоятельства». Но сейчас я пишу в новой книге раздел, посвя! щённый прошлому, и ввожу понятия, которых раньше не мог ввести, по! скольку не вдавался в эту тематику. Та социологическая теория, которую я изложил в книгах «Запад», «Глобальный человейник» и т. д., — не уста! рела, она нова, и у неё все впереди. Я выявлял в исследуемых объектах то, что в них универсально, и описывал различные типы общества. Законы этих обществ универсальны. Законы разных типов обществ разные, но для определённого типа общества они всегда остаются теми же самыми.
— У нас во время «холодной войны» развился своеобразный политиче ский аутизм: мы не видели никого, кроме своего противника. Сегодня многие признают, что XX век породил три сверхидеологии и, соответственно, три ти па общества. Третий — праворадикальные общества, сложившиеся в первой половине XX века в Западной Европе. Не имеется ли в вашей социологиче ской теории некий пробел, связанный именно с обществами этого типа?
— Я не принимаю все эти определения. Я ввёл свой собственный понятийный аппарат, который применяю ко всем изучаемым объектам. А другие используют компилятивные методы: Платон сказал, Декарт ска! зал и т. д. Если встать на путь исправления ошибок — жизни не хватит. Я избрал другой путь. Я начал свой путь с исследования коммунистиче! ской системы, потому что она у меня вызывала протест. Когда я убедился, что все теории на её счёт неприменимы, потребовался аппарат. Я вырабо! тал этот аппарат. Ответьте мне, почему великие философы прошлого писали такие толстые книги? Потому что не могли справиться с самыми банальными проблемами. Что!нибудь изменилось с тех пор? Ничего — со! временные философы пишут такие же толстые книжки. Почему? Потому что у них нет аппарата и они не могут решить самую простейшую задачу.
— Дело в том, что вы определили коммунизм и западнизм как типы об щества с преобладанием соответственно коммунальной и деловой сферы. Но, например, в фашистской Италии или Германии также преобладала комму нальная сфера, и в современной корпоративной Японии преобладает. Вспом ним о корпоративных вечеринках и обязательных утренних зарядках в японс ких фирмах. Но коммунистическими их никак не назовёшь. Не указывает ли это на пробел в вашей теории?
— Во всём есть специфическое. Специально брать то, что делалось в Европе Гитлером, или отдельно рассматривать японские корпорации — для меня неприемлемо. Моя теория тривиально проста. Проблема в том, что люди, которые подходят к её изучению, имеют уже засорённые, за! хламлённые мозги. Людям хочется сразу находить какие!то сравнения, чтобы всё было узнаваемо — вот это Фукуяма, а это Хантингтон или Бью! кенен.
— Какова прогностическая ценность вашего аппарата?
— Все мои книги были сориентированы на прогнозирование. Насто! ящая наука и создаётся для того, чтобы прогнозировать. В середине 70!х, до «Зияющих высот», я построил модель советского общества, показал неизбежность кризиса, описал кризис. Это был прогноз, но никто не при! нял его во внимание. Появился Горбачёв, и буквально на следующий день я ввёл термин «катастройка», предсказав, что ничего у Горбачёва не полу! чится. Я ввёл термин «постсоветизм». Я вижу это не как ясновидец, это всё шарлатанство, — а как исследователь. Для того чтобы научиться сво! бодно пользоваться моим научным аппаратом, требуется несколько лет.
— Вы пытались создать чтото вроде таблицы Менделеева обществен ных систем?
— То, что я делаю, это и есть таблица Менделеева, только намного более сложная, — сразу в нескольких измерениях. Все существующие социологические теории, как правило, имеют всего одно измерение. А жизнь идёт одновременно во многих измерениях. Моя теория даёт исчерпывающее описание любого объекта, если затратить достаточно много времени. Я ввожу соответствующий принцип «исчерпывания». Любую чётко сформулированную проблему можно «вычислить». Всё это у меня намечено.
— А сколько всего фундаментальных разновидностей обществ?
— Самое простое деление: предобщества, общества, сверхобщества. Эволюционный цикл в этом разрезе полностью исчерпывается. В других измерениях есть свои эволюционные этапы и т. д.
— Каков тип современного российского общества?
— Свой метод я называю восхождением от абстрактного к конкрет! ному. Я строю общую теорию, которая постепенно конкретизируется. Я могу объяснить любой объект, показать, какова структура этого объек! та, каковы его компоненты, по каким законам функционирует. В своё время, размышляя над тем, что будет после краха коммунизма, я ввёл та! кие термины, как «постсоветизм», «посткоммунизм» или просто «псизм». Эта система возникла как гибрид коммунизма, западнизма и дореволю! ционного феодализма. Каждый из этих компонентов имеет свои законы. Я могу показать, что получается из гибридизации. Я могу показать, что эта социальная система ублюдочна. Она не может решить ни одной сколько!нибудь крупной проблемы. В основном всё, что происходит в этом обществе, — это показуха, имитация, симуляция.
— Ну, ещё Ги Дебор говорил об «обществе спектакля»…
— То, что такие вещи происходят, известно повсеместно, но я пока! зал неизбежность этого теоретически. Я предсказал, что результатом дея! тельности этой системы будет разрушение экологии, образования, эконо! мики, будет создаваться виртуальная сфера, и это был не просто результат наблюдения, а результат расчёта и прогноза. Я показываю, как построить точное исчисление, позволяющее производить логические расчёты.
— В советское время жаловались, что управленческий аппарат был слишком большим. Сейчас он в два раза больше и продолжает увеличивать ся. Как вы это объясняете?
— Советская система существовала недолго, ей бы ещё жить и жить. Она вступила в состояние кризиса не потому, что она по натуре такая. Со! циальная система вообще ничего в себе не содержит самоуничтожающе! го. Я продолжаю утверждать, что социальная система, которая сложилась в СССР, была самой совершенной как социальная система! Она была самая простая, стандартизированная, более эффективная, чем западная. И в теории, и на практике. В послесталинские годы произошёл не застой, а колоссальный скачок, прорыв вперёд. Число объектов, подлежащих управлению, в брежневское время выросло сравнительно со сталинским в сотни раз. Это новые школы, больницы, заводы, лаборатории. А управ! ленческий аппарат увеличился меньше чем в два раза. Причина краха со! ветской системы в том, что аппарат оказался недостаточно адекватным. Речь шла не о том, чтобы постепенно ликвидировать отставание аппара! та. С этой задачей не успели справиться. После краха установился псизм. Псизм живёт по специфическим законам. В этой системе аппарат, коли! чество паразитов безудержно растёт. В этой системе никакого эффектив! ного управления страной нет и быть не может. Государство фактически отказалось от управления экономикой, а виртуальное управление может происходить сколько угодно. Разговоры о «застое» — это типичная клеве! та с целью дискредитировать систему. Когда они ведутся на Западе — это нормальное человеческое поведение: преувеличивать свои достоинства и занижать достижения противника. Но почему мы сами отказываемся от собственных достижений?
— Могла ли компьютерная революция, наступи она раньше, продлить существование советской системы?
— Наоборот. Это только кажется, что техника упрощает управление. Ближайшим следствием этого является не сокращение управленческого аппарата, а, наоборот, его увеличение. Даже западные исследователи признали это. Советская система развивалась по собственной линии. Она бы пришла к компьютеризации, но экономно и по!другому. Взгляните на то, сколько сейчас автомобилей на улице, — пройти невозможно. В со! ветской системе это было бы невозможно. Действовали определённые за! коны рациональности. Число автомобилей увеличивалось в соответствии с количеством и качеством дорог, а также с реальной потребностью в пе! ревозках. В США в конце 80!х на дорогах двигалось 150 миллионов ма! шин, в Германии — 55 миллионов. И вы думаете, что это были все эконо! мически целесообразные перемещения? Ничего подобного. Просто они утратили контроль над целым рядом процессов. Как показывают расчёты, более 80 процентов авиаперелётов экономически излишни. Это парази! тарное явление, но изменить они уже ничего не могут. Вы же не можете представить ограничения в автомобильной промышленности? В эволю! ции далеко не всё происходит по законам разумности.
— В противостоянии с западным миром победа была невозможна из ста тистического соотношения сил. В чём же тогда был бы смысл дальнейшего сосуществования двух систем?
— Я никогда не был апологетом коммунизма. Когда коммунизм был в силе, Запад дрожал перед ним. В 1988 году меня спрашивали: а долго ли мы ещё просуществуем? Но допустим на минуту, что Запад потерпел бы поражение, а коммунизм одержал блестящую победу. Что бы произошло? Кошмар, не приведи бог! Была действительно колоссальная угроза чело! вечеству. Шла борьба за мировое господство. И Советский Союз имел шанс захватить инициативу на много лет, если не десятков лет. Вы взгля! нули бы на карту мира в те годы. Больше половины было окрашено в красный цвет.
— Но вы доказывали, что силы были несоизмеримы.
— Да. Я доказывал, что Советский Союз не может стать гегемоном. Меня обвиняют, что я помогал врагам СССР. Никому я не помогал. Я ис! следователь. Может быть, они использовали мои исследования, но так почему же вы их не использовали?
Для того чтобы стать мировым гегемоном, нужен целый ряд условий. Например, в стране должен существовать народ, достаточно большой, ко! торый ощущал бы себя народом господ. В СССР не было такого народа. Русский народ на роль народа господ не годился и до сих пор не годится. Это была одна из причин краха. А те группы населения, которые могли бы составить такое ядро, были незначительны. При всём том Запад превос! ходил нас как по количеству людей, так и по качеству человеческого материала. В СССР не было народа!гегемона. Если бы на нашем месте были бы немцы и их было бы 150 миллионов, они бы своего не упустили. У нас же всегда была психология заниженности. У западного мира было превосходство и материальное, и экономическое. Но поражение не было неизбежностью. Дело в том, что тогда Запад находился в таком состоя! нии, что СССР мог сохраниться и даже процветать. Это только сейчас идёт интеграция Запада, а тогда он был ещё раздроблен. Когда СССР рва! нулся в брежневские годы в космос, я написал сотни статей, что мы всту! пили на путь истощения. Я призывал прекратить активную политику в Африке. Перестать тратить баснословные деньги на Кубу. Собственно говоря, они американцам и не были нужны. Видите, СССР давно нет, а Америка что!то не спешит прибирать к рукам ни Африку, ни Кубу. Я гово! рил, что нужно сосредоточиться на внутреннем состоянии. Но я знал, что они так не сделают, потому что за счёт активности в Африке жило в СССР огромное количество всяких чиновников, номенклатурщиков, которым было на всё наплевать. Сработал и такой фактор, как снижение интеллек! туального уровня нашего руководства, его тотальное поглупение. Я отда! вал себе отчёт, что крах коммунизма будет не просто крахом социальной системы, но гибелью русского народа. Так оно и происходит.
Зачем нам было столько атомных бомб? Для войны было достаточно десятка. Проблема состояла в том, как доставить хотя бы одну. Мы виде! ли, как повело себя американское общество во время урагана Катрина. Сбросьте одну бомбу на Нью!Йорк — и можно брать их голыми руками. Америка развалится по типу своей организации. Это СССР мог выстоять, система позволяла. Американская система в те годы сразу бы развалилась.
А мы пошли по пути гонки, паритета.
— Как бы стала проходить эволюция, если бы СССР сохранился?
— Когда я строил модель Советского Союза, у меня только полгода ушло на математические расчёты. Будь у меня несколько сот человек, мы бы построили модель, с помощью которой выработали бы стратегию «пе! реумнить» Запад. Интеллектуальный уровень западных деятелей никогда не был слишком высок, таким же он остаётся и сейчас: сила есть — ума не надо. На Западе создают компьютерные модели, но у них нет ни одной научной. Я ещё в юности разрабатывал теорию, как сражаться с много! кратно превосходящим противником. Можно было разработать страте! гию выживания в борьбе с таким противником, как Соединённые Штаты. Главная наша заинтересованность в этом противостоянии заключалась в продолжении существования русского народа. Трагедия состояла в том, что на такой биполярности остановиться было невозможно.
— Должен ли был СССР стремиться к полицентричному миру?
— Я думаю, что разгром СССР был гигантской ошибкой Запада. За! пад даже не мечтал приступить к демонтажу социалистической системы раньше середины XXI века. Горбачёв сделал подарочек, от которого они не могли отказаться. В результате началась такая эволюционная деграда! ция Запада, что под угрозой оказались лучшие завоевания западной циви! лизации. Поражение СССР стало началом не посткоммунистического, но постдемократического общества. По сути, восторжествовала тенденция, которую отражал в своё время Гитлер. Мир пошёл по самому гибельному пути. Глобализация и американизация — это удар не столько по СССР, сколько по Западной Европе и западной демократии, по основам цивили! зации, начиная с эпохи Ренессанса.
— Вы попрежнему вынашиваете планы разрушения Запада?
— Я теоретик. Если бы к моим открытиям относились серьёзно, я бы мог указать уязвимые места Запада. Чем сложнее и сильнее социальная система, тем уязвимей она становится. Но уязвимые места надо уметь найти, а это не так!то просто. Нужно знать, куда стукнуть молоточком.
— По поводу исламской угрозы. Реальна ли она или это действительно арьергардные бои?
— Мне очень неудобно говорить на такие темы. Я как исследователь эволюционных процессов в своё время обнаружил, что существует нес! колько открытых эволюционных линий. Одна была западная, это сейчас она стала закрытой, а тогда была открытой. Другой открытой линией бы! ла советская система. Все остальные варианты эволюционных процессов я перебрал и установил, что они тупиковые. И по отношению к Китаю считаю, что он чуточку приоткрыт, но всё равно это тупиковое направле! ние. И Япония социологически не творческое явление. Были всего лишь две открытые эволюционные линии, которые конкурировали. Исламский мир абсолютно бесперспективен с точки зрения эволюционного процес! са. Если там что!то происходит, то происходит только под влиянием со! ветской, а теперь только западной системы. В самом этом мире нет внут! ренних условий для самостоятельной эволюционной линии. Нет её. Исламский мир — тупиковое явление. Очень сложно становиться на на! учную позицию, потому что сразу идут обвинения в расизме. Когда я го! ворю, что русские не смогли создать народ господ, хотя в других отноше! ниях они очень творческий и одарённый народ, меня обвиняют в русофо! бии! Как так русские не могут жить самостоятельно?! Могут, но русские по своей природе не могут стать народом господ. Это как в спорте: хоть трес! ните, а стометровку негры будут бегать быстрее.
— Фукуяма в своей книге «Наше постчеловеческое общество» допустил значительную роль биотехнологий в изменении облика человеческого обще ства. Как вы относитесь к этим прогнозам?
— Человек — существо биологическое, он обладает телом, мозгом. Это мои предпосылки. Всё, что строится, — строится на этой основе. От частностей я отвлекаюсь. Социальные законы незыблемы. Вы можете уничтожить народ, но не можете уничтожить законы, по которым склады! ваются народы. Если Запад встанет перед реальной угрозой своему суще! ствованию, он не остановится перед тем, чтобы уменьшить население планеты. Я почти уверен, что СПИД, атипичная пневмония и т. д. — это всё искусственные вирусы. Полтора миллиарда китайцев нарушают соци! ологический оптимум человейника. В будущем Китай всё равно распадёт! ся. Одним из результатов войны Запада с азиатским коммунизмом будет распад Китая на десятки государств. Правда, в войне США с Китаем мо! жет погибнуть 40 миллионов русских. Такие прогнозы тоже имеются.
— Если биотехнологии разовьются до такого уровня, что появится воз можность вывести расы с другой трудовой этикой, другими способностями, то что же тогда произойдёт с «глобальным человейником»?
— Во!первых, этика не в генах. Только шарлатаны говорят, что она в генах. При любых научно!фантастических сценариях какая!то часть лю! дей должна сохранять человеческие качества. Эта часть человечества не упустит и не отдаст контроль. Рабства без рабовладельцев не бывает. Вы! ведут расу покорных существ, это будут уже не люди. Во!вторых, чтобы современный человейник мог существовать, нужно производить, как ми! нимум, 100 миллионов разнообразных деталей или сооружений на высо!
чайшем уровне. Чтобы это делать, нужно иметь, как минимум, 10 тысяч профессий высшего уровня и сотни тысяч остальных профессий. Кто это будет делать? Это всё равно будут делать люди. Кроме того, быть господи# ном имеет смысл только тогда, когда есть подчинённые. Социобиологи# ческие закономерности определяют количественное соотношение разных типов людей. Биотехнологии, вероятно, будут играть роль для сокраще# ния населения планеты, устранения неугодных народов. Но, что бы ни изобреталось, ядром общества останется человек, обладающий телом и интеллектом.
Беседовали Михаил Бойко и Алексей Нилогов
ДМИТРИЙ КРАЛЕЧКИН
Мира нет и не надо
Дмитрий Юрьевич Кралечкин (род. 1975) — современный русский философ, пуб лицист. Председатель научного совета «Корпорации социального дизайна», руково дитель философского проекта Censura.ru. Соавтор (вместе с А. С. Ушаковым) рабо ты «EuroOntology» (М., 2001) (диплом I степени на конкурсе работ молодых учёных МГУ имени М. В. Ломоносова 2002 года), посвящённой фундаментальным вопросам европейской онтологии второй половины XX века. Переводчик таких философских текстов, как «Письмо и различие» Ж. Деррида, «К критике политической экономии знака» Ж. Бодрийяра. Наша беседа с Дмитрием Юрьевичем состоялась в рамках про екта «Современная русская философия»23.
— Дмитрий Юрьевич, в какой мере для вас значима сама позиция «фи лософии», соответствующей символической и социальной привязкам? Что, в конце концов, значит «заниматься философией сегодня»?
— Дело в том, что сам этот вопрос распадается на несколько состав! ляющих. Воображаемый лозунг «make philosophy, not war» не способен за! тушить войны, он способен только разжечь войну вокруг философии, поскольку такая война, думается, не столь дорогостояща, как сама фило! софия. То есть, если говорить формально, я не думаю, что на сегодняш! ний день можно выделить какое!то универсальное символическое един! ство, некую инстанцию «философии», которая могла бы диктовать усло!
вия производства философов и самой себя. Но это не снимает проблем.
Если отдалиться от такого символического и социального регистра, я сразу же могу указать на одно весьма существенное затруднение: обраще! ние к «философу» является одновременно своеобразным тестом, но и на! чалом театрализации, в которой философ выступает в качестве некоего представителя собственного ментального мира. Это не совсем мой слу! чай, что связано и с тем, что я всегда ставил под сомнение многие куль! турно усвоенные процедуры «авторизации», выделения тех или иных фи! лософских «фронтменов». Хотя при этом в группах, которые пытались практиковать «анонимные практики» работы, часто числился за «индиви! дуалиста». Собственно, я это к тому, что, возможно, сейчас философия вообще не регистрируется через доступ к её привилегированным предста! вителям. Философия остаётся без философов, и наоборот, причём суще! ствует несколько модусов такого расставания, разлуки, один из которых и называется «культурой» или «философской культурой». И это нельзя не учитывать, нельзя на этом не играть. Например, наша с Андреем Ушако! вым работа «EuroOntology» отсылает не столько к пространству «двойно! го авторства» (как если вы, например, вдвоём живёте в одной комнате, точно определяя причитающийся каждому метраж), а к тому, что проис! ходит, грубо говоря, в прихожей этой комнаты, в коридоре, когда один жилец постоянно наталкивается на другого (а иногда приходят ещё и гос! ти). В известном смысле это можно сказать и о «первых философах» — де! ло не в «школах» или «лицеях», а в том, что Сократ — это, скорее, просто название некоего агрегата, особой техники, соединяющей элементы «рынка», «безделья», «пары жён», «травматической памяти» об оракуле и т. д. Я считаю, что в таких моментах обнаруживается не нарратив, а крайняя неустойчивость философии как таковой — это всегда некое со! циальное образование неизвестной и ненужной природы, но оно не под! даётся устойчивой институционализации. Именно в таких образованиях обнаруживается стирающаяся «природа» философии как, прежде всего, избыточного, неэкономизируемого напрямую «употребления разума».
Тем самым я, кстати, вовсе не выступаю в фарватере борьбы за некий «коммуникативный разум». Коммуникация — лишь одна из подобных философских агрегаций, которая была выпущена в открытое производ! ство, поставлена на поток. Была, скажем так, отдана лицензия на неё, как и на многое другое. Проблема философии, если посмотреть с этой сторо! ны, то есть со стороны вопроса «что значит заниматься философией?» (а этот вопрос, несомненно, интереснее классичного «что такое филосо! фия?»), состоит в том, что философы достаточно быстро попадают в структуру, которая разве что имитирует констелляцию «Сократ!Рынок! Две!Жены» или «Платон!Ученики!Тиран». Грубо говоря, философию можно представить в качестве эдакого монетного двора, но философы быстро приучаются платить друг другу той же самой монетой, которую ра! нее они же и чеканили, так что они буквально принимают её за «чистую монету», не видят её действия, работы, производности. При том что ис! ходно эта «монета» вообще могла использоваться «не по назначению», выступать в качестве элемента игры, а не товарного обмена, так что здесь к вопросу «оригинального» происхождения следует относиться очень осторожно. Поэтому появляется фигура философа!учителя, философа! интеллектуала и т. п. — такие образцовые фигуры.
Если вы принимаете такой подход, у вас появляется определённая свобода от самого «означающего» «Философии». В известном смысле вы можете сделать что!то, что оказывается философией, и наоборот — боль! шая часть того, что производится под маркой философии, — об этом просто стыдно говорить. Поэтому вопрос «что значит заниматься филосо! фией?» носит не только опасно абстрактный характер, но и предполагает нормативность, определённую интеллектуальную схему платоновского толка, когда сама философия выступает в качестве идеи философии. Я ду! маю, что такая игра на современном уровне философской рефлексии уже отыграна, и поэтому, например, я достаточно равнодушен к тому, чтобы что!то из делаемого мной называть философией. Иногда это удобно, иногда нет. Иногда издержки такого именования слишком велики, чтобы на нём настаивать.
Итак, если вкратце, заниматься философией сейчас — это активно не обращать внимания на означающее Философии с большой буквы, то есть уклоняться от нарциссического образа философии, передаваемого куль! турой. «Активно забывать», не слишком настаивая на серьёзности такого забвения. То есть сам вопрос смешон, если не встраивать её в какую!то уже готовую или производимую на месте «философию».
— То есть вы считаете, что так называемая социальная функция фило софии определяется именно такими образованиями вроде «СократаРынка»?
— Да, все разговоры об «ответственности» философии и философов, распространении идей, просвещении, силе мысли и т. п. если и не выда! ют полное безмыслие, как оно обычно бывает, то по меньшей мере имеют очень ограниченное значение. Современные «проблемы», проблемы са! мого существования философии ставят её в чудовищно смешную позу «бедственного родственника» — она родственна всем сразу, и наукам, и humanities, но никто не готов платить ей алименты (вы, конечно, знаете столь любимую в советской наукографии теорию «развода» философии, в результате которого образуются науки — кстати, институционально этот процесс идёт и сейчас, например факультеты отделяются от философии, социологический факультет не так давно — исторически — стал в России независимым от философского факультета). Но это лишь скрывает факт раздробления, деструкции того, что условно можно было бы назвать «фи! лософскими агрегатами» или аппаратами. То есть философия — это не открытие знания, а открытие мышления в сцепке мышления с социаль! ным существованием (хотя я понимаю, что слово «социальный» сейчас безмерно затёрто), каковое открытие говорит только то, что такие сцепки должны переизобретаться каждый раз заново. Это, вероятно, определяет «западный» облик философии — мышление как, скажем, избыток ума по отношению к любому практическому действию было известно и за преде! лами философии, но было встроено в принципиально иные агрегаты — отсюда вся проблематичность «восточной» философии и т. п. Или, как я могу сказать, — формирование (а не изобретение из головы в полёте фан! тазии) «интеллектуальных схем» самого общества. Такие сцепки дают, например, эпифеномен «политического», который обретает автономию. Или, другой пример, «платоновская схема» вполне может обходиться без участия Платона и любого другого философа, поскольку она просто эле! ментарно предполагает, что есть градация «приближения к уму». Замечу в скобках, что современная критика «метафизики» шла в направлении по! добных интеллектуальных схем, уже выведенных из «философского обо! рота» — например, погружённых в деспотическое общество, в котором любое содержание мышления стало представляться в качестве алиби для власти.
Но в последнее время запаса подобных изобретений уже не хва! тает. Кое!что ещё можно было заметить на фоне «литературных салонов» XIX века, однако уже со второй половины XX века пространство манёвра было сокращено разве что до междисциплинарных переходов — когда, например, философия обнаруживается под маской литературоведения (история деконструкции в США). Для меня такие манёвры — не столько признаки тактики, сколько попытки — более или менее продуманные — восстановить «философию как процесс», поставить вопрос о ней заново.
— А в чём причины такого исчерпания, которое, кстати, всегда выписы вается в совершенно разных терминах — у разных философов?
— Я, заметьте, настойчиво уклоняюсь от темы «смерти» философии или «закрытия» метафизики, и не только потому, что эти темы стали шаб! лонами для тех, кто, вообще говоря, даже не удосужился их продумать. Просто на самом элементарном уровне «сомнительность» современной философии обычно рефлексируется в терминах «отличия!подобия» (не! верного подобия или подобия, на которое можно согласиться). Отсюда и вся хрестоматийная проблематика «сближения!удаления» философии от других культурных образцов (науки, религии и т. п.). Однако в таком рассуждении устойчиво пропускается то, что в целом с подобием!то уже согласились, поскольку мифическая «оригинарность» (если пользоваться феноменологическим словарём) строится по пустому отличию от маяча! щих перед глазами образцов «реализации ума» или «интеллектуальной практики» — образцов науки, например. Иначе говоря, философия по! стоянно попадает в свою собственную ловушку, когда пытается мыслить некую интеллектуальную схему независимо от самой себя, найти в ней место и т. п. — поэтому!то стремление найти это место в уже заданной схеме различия разных интеллектуальных сущностей выглядит смешно. Такое стремление лишь скрывает абсолютное отсутствие философии. Да! же те проекты, которые открыто ставят задачу преодоления фатальности современного «интеллектуального» производства (в котором идеи произ! водятся примерно в том же смысле, в каком «производится» нефть), со! средоточены на определённых фетишистских моментах (например, спа! сением считают союз с авангардными (через «ъ») художниками или унич! тожение авторского права).
— Вы всё время говорите об уме, но что это такое?
— Ум не имеет «сущностного определения», то есть все подобные оп! ределения — некий продукт философской работы, выскочить за которую невозможно. Я бы сказал, что ум — это просто то, что лишает бытие акту! альности, вернее, онтологического фантазма актуальности. В этом смыс! ле, кстати, деконструкция — это просто попытка формально описать ра! боту «ума», некий его муляж. Невозможно определить, что значит «быть умным», это определение было бы самопротиворечиво. Но если говорить метафорами, быть умным (не обязательно умным оказывается индивид, это как раз редкость) — это прежде всего обнаруживать лакуну в любой са! мой плотной реальности. Лакуна может оказаться чем угодно — гаванью, лазейкой, оборвавшимся звеном, западнёй, поверхностью, это уже другой вопрос. Если «быть и мыслить — одно» — то в том смысле, что если есть одно, другого уже не нужно. Парменид — это скорее формула очень странной дизъюнкции, а не адеквации, как обычно подразумевается.
— Както, что вы говорите, связано тематически с вашими текстами, работами?
— Напрямую — вероятно, такой ответ более всего ожидаем? Де!фак! то я сейчас изложил определённую логику выписывания философии, её производства как попытки раскрыть, растворить то, что в философии на! зывалось бытием — иначе говоря, то же хайдеггеровское определение «просвета» имеет смысл только в отношении с последующим забвением бытия или «догматическими конструкциями». Пока мы говорим о каких! то абстрактных «функциях» или «определениях» философии, которые уже освоены теми или иными культурными и властными институциями, са! мое большее — мы выстраиваем некую структуру «родства», так что один родственник будет похож на другого, но не более (от феноменологии че! рез ряд родственников можно добраться до когнитивных наук), но это ни! чего не говорит о способах существования философии. Можно вспомнить о том, что даже делёзовское определение («философия как изобретение концептов») слишком концептуально «заземлено» — на собственную тео! рию Делёза/Гваттари, поэтому здесь стоило бы, например, перейти к их определению субъект!групп. Но я не говорю, что философия — то, что создаёт такие субъект!группы, это то, что создаётся в вариации таких субъект!групп, которые здесь же теряют своё определение «субъективно! сти» (поэтому это, скорее, «сугруппы», «группы!динозавры»). Иными словами, философия всегда создаёт социально инсталлированный эф! фект «ума», помечает его место, которое затем может осваиваться как угодно и кем угодно.
Но здесь есть важный пункт — в настоящее время философия всё время принуждена выполнять процедуру некоей редукции собственного содержания. Или отказываться от себя — я имею в виду, например, кри! тику метафизики с разных позиций, попытки редуцировать философию до гуманитарных наук и т. п. Это интересное движение, оно говорит го! раздо больше, чем простое обращение внимания на остаток такого отка! за. Когда мы начинали работать, мы очень увлекались неким юмористи! ческим картезианством, то есть нас интересовали, например, следы рабо! ты возвращения к «аутентичному» в стиле Мамардашвили или к «подлин! ному» в стиле Гиренка. Например, глас оракула, сообщающий истину, создаёт некий момент неприсваиваемости истины субъектом этой исти! ны, и нам было интересно продлить этот момент до бесконечности, рас! ширить рану до предела — то есть нас интересовала не некая концепту! альная калька или карта, которая затем структурируется в тематизмах, а то, какие эффекты вызывает философская работа в своих, казалось бы, самых поверхностных моментах. И здесь мы столкнулись с линией «трансцендентального механизма» и невозможности прямого описания его отношений с «трансцендентальными» заблуждениями — эта тема ста! ла отправной точкой для книги «EuroOntology». Собственно, это был во многом очень витиеватый заход не столько к проблеме критики трансцен! дентальной логики как таковой (а к этой логике мы подключали и всю проблематику онтологических маргиналий, известную, в частности, по современным теориям симулятивности, по деконструкции и т. д.), сколь! ко и к проблеме «производства философии». То есть если, например, трансцендентальный механизм порождает некоторые перформативные эффекты (включая эффекты неприсвоенного субъекта или же неустрани! мых догматических компонент), то можно было предположить, что они являются не просто теоретическими проблемами, сколь угодно общими, а элементом некоего «режима философии», включающим не просто «ме! тод», но и способ склейки социального. И в трансцендентальном режиме «бытие» определяется по «связке», которая носит как эпистемологиче! ский, так и социальный смысл, предполагая лишь одно требование — свою собственную устойчивость, некое выполнимое правило, повтори! мость — если брать самые простые случаи. Но само стремление крити! ческой и контркритической игры, обнаруживаемое как стремление очистить концептуальный аппарат от «метафизических» конструктов или же от иллюзий логоцентризма, не только не объясняет происхождения подобных иллюзий, но и ничего не говорит об их встроенности в саму критику. Проще говоря, постоянная редукция этих «некритических содержаний» не только подрывает онтологические претензии, но и ука! зывает на собственный горизонт философии, состоящий, если опять же упрощать, в связывании без схемы, в чистом связывании, раскрыть кото! рое вкратце сложно.
— Если вы говорите, что философия имеет некую имманентную соци альную размерность, значит ли это, что она может быть отождествлена с тем или иным социальным движением?
— Фактически нет. Философия, как я уже указал, вводит инстанцию «ума» — не как способ прямого различения, а прежде всего как способ снижения «уровня» актуальности, благодаря чему появляется возмож! ность чему!то существовать иначе (то есть это такая ненатуральная экзис! тенция, которая не привязана к своему выделенному натуральному объ! екту, известному под именем «человек»). В этом смысле такая инстанция может иметь даже фиктивный статус, оставаться пустым местом — в лю! бом случае она указывает на возможность иного социального распределе! ния, причём именно в практическом смысле. Поэтому тут, кстати говоря, появляется дополнительная возможность. Мы можем не являться фило! софами именно потому, что это место разыграно (но не занято!) кем!то другим. Поэтому тезис Гиренка об «интеллигенции» как о том, что зани! мает место философии, я понимаю в буквальном смысле — это и есть здесь просто философия (по крайней мере таковой она была какое!то вре! мя и пока ещё остаётся). Философия — это не то, что говорит «интелли! генция» или высказывает её «мысли», это тот способ инсталляции «ума» в обществе, который был осуществлен благодаря интеллигенции. Грубо го! воря, опять же это не некая имманентная философия, принадлежащая интеллигенции, это «интеллектуальная схема», которая, например, пред! полагала связку определённой универсальности с предельным тематиз! мом (на уровне связки всечеловека и человека!книги). Это некое опреде! ление того, как что бы то ни было сделать «умным» или «сделать по уму», которое одновременно фиксирует социальные практики и фиксируется в них. И конечно, это не связано всего лишь с определением употребления ментального словаря. Поэтому здесь позиции философа и философоведа смешиваются, но уже не в академическом смысле — если я изучаю интел! лигенцию в такой перспективе, я вроде бы «философовед», но все эти ква! зирефлексивные различия (различия производства и потребления, перво! го и второго) уже недействительны… Да, а социальные движения могут быть чем угодно, обычно их «размер» (это слово расшифровывается в «EuroOntology» — и достаточно длинно) не совпадает с философией.
— Как вы понимаете способы наделения философии «социальным смыслом»?
— Как я уже сказал, для меня не существует никакого внешнего «со! циального» смысла (который обычно отождествляется с рыночной стои! мостью). То есть философия предельно социальна — в мире вообще нет ничего, кроме метафизики (я сейчас говорю о ней не в смысле «крити! ки» метафизики) и общества, а точки их касания (не обязательно внешне! го) — это и есть философия. Но сейчас такие конструкции кажутся «нере! левантными» «действительности» — конечно, просто потому, что под во! просом о «социальном» значении философии скрывается вопрос падения или по меньшей мере трансформации социального положения филосо! фии внутри совсем иной машины — машины университета и машины академии. И здесь философы или те, кто исследуют философию, могут либо играть во вполне определённую игру, либо довольствоваться такти! кой малых интервенций. Дело в том, что философские тексты, например, всегда имеют бесконечную размерность — если текст философский, лю! бое его ангажирование создаёт ситуацию потенциальной неопределён! ности. Самый «продажный» философ может оставаться философом, это вообще ничего не значит, покуда он участвует в подобной работе — то, что он делает, может казаться «конфеткой», но никто не знает, не присут! ствует ли в таких философских конфетах следовых количеств медленно действующих отравляющих веществ или мутагенов. Сегодняшняя куль! турная проблема — это проблема стерильности, мы заранее знаем, что в идеологических продуктах нет ничего, кроме идеологии, а в философских текстах нет ничего, кроме демонстрации принципов научной работы или даже принципов научного этикета. И это проблема.
— Можете ли вы както определить своё отношение к более общему контексту российской или русской философии, а также к теме традиции как таковой?
— Конечно, формально это несложно. То есть я могу легко сослаться на какие!то работы и имена, которые имели и имеют для меня значение.
Кое!кого я уже отметил по ходу разговора. Из западных авторов — тут тоже я мог бы указать на того же Дерриду. Однако систематически возни! кает затруднение, касающееся того, что такое указание на «источники» по сути является культурным кодом, который мне уже просто смешон. Это некий вассальный код, который имеет нулевую продуктивность. «Пару! сия», которая никогда не сообщает вещи достоинств идеи. Поэтому с та!
кими вещами нужно обращаться осторожно.
К тому же тезис о неких независимых и автономных «языках филосо! фии» всегда вызывал у меня некоторое недоверие — поскольку я слишком хорошо видел институциональные основания этого тезиса. Напротив, в «EuroOntology» мы в числе прочего продемонстрировали принципиаль! ную продуктивность пересечения разных языков — например, «языка» деконструкции и языка современного функционализма, применяемого в когнитивных исследованиях. С точки зрения академии это, конечно, мо! жет быть несерьёзно, но в каком!то смысле Декарт с его кратким курсом онтологии и гносеологии был весьма несерьёзен для схоластики.
Если же брать систему русской/российской философии, тут всё достаточно запутанно. Когда говорят, что в России философии не было, а была на её месте литература, эту мысль, как я показал, можно развить и довести до тезиса об интеллигенции, но в такой формуле, в какой она преподносится, она неверна — потому что берётся просто!напросто «со! держание» литературы, а это содержание в философском смысле оказыва! ется достаточно слабым — не зря же для экспликации «философии» Дос! тоевского (номинированного чуть ли не в качестве главного нашего философа) понадобились усилия чуть ли не всех профессиональных философов, занимающих соответствующую социально!культурную нишу. Крен в сторону «аутентичной» русской философии, представляемой, например, славянофилами, также не проходит, поскольку опять же пы! таются реанимировать просто содержание славянофилов и переводить его на какой!то современный язык. Поэтому в качестве принимаемой по умолчанию остаётся позиция банально «академической философии», но это уже никому не интересно, кроме «философов», которые ничем не отличаются от других «служащих» государства Российского. Я счи! таю, что собственно русская философия может определяться не столь! ко содержанием, сколько игрой на разных содержаниях, реализуемой в изобретаемых социальных связках. Та же интеллигенция — это такая «большая игра». Но в ней могли быть и микроигры, которые иногда давали уникальные образования, которые, правда, не получали культур! ной фиксации. В 1990!х было впечатление, что именно такие образова! ния войдут в силу, составив контрпартию выдохшейся «доктринальной» философии, преподаваемой в системе высшего образования. Однако ничего такого не произошло — во многом именно потому, что многие из агентов подобных образований и групп просто не выдержали со!
циального давления, которое им казалось «вратами великих возмож ностей».
Поэтому, как я думаю, нет ничего более противного философии, чем попытка вычертить её заранее по некоему культурному или тем более на циональному императиву, поскольку такие попытки всегда руководству ются схемой «присвоения» и выделения «своих», которая сама является лишь фрагментом определённой философской работы. Дело не в том, что философ — всегда «чужой», скорее он то, что греки называли pharmacos — весьма важный для общества козёл отпущения, опасный уже и тем, что иногда может использовать свою цену рефлексивно и захватить власть. Это, конечно, не значит, что русская философия — то, что говорит от ли ца универсального, поскольку и универсальное нуждается в повторном изобретении, не существуя исходно.
— Считается, что у каждого философа есть фраза, которая характери зует его мышление, например: «Мыслю, следовательно, существую». Есть ли у вас такая фраза?
— Ну, скажем: «Мира нет и не надо». Это, впрочем, скорее кантиан ский юмор.
— Какие темы будут интересовать вас, по вашему собственному ощуще нию, в ближайшее время?
— Прежде всего я вместе с Андреем Ушаковым хочу сейчас подвести к точке конденсации проект «философии интеллигенции». Он может на зываться иначе, но коечто из сказанного в нашем разговоре относится именно к нему. Речь идёт о представлении интеллигенции не в качестве класса или «страты», а в качестве пространства философской игры. Игры не столько на уровне «интеллекта» или «дискурса», сколько на уровне практик. Нам важно показать ту философию, которую интеллигенция де лает «несмотря на себя», «malgre soi». Но это не «психоанализ» интелли генции, тут другое. Эта тема неизбежно выводит на проблему режимов мышления и их варьирования в философии. Вовторых, я хотел бы про длить несколько метафизических разработок, связанных с проблемами, поднятыми в «EuroOntology» — многие из них объединены вопросами техники, «феноменологизации« и «размера». Хотя этот проект я длю уже достаточно долго, он далёк от завершения во многом в силу технической сложности и, скажем так, «некультурности» разбираемых вопросов.
Беседовал Алексей Нилогов
АРКАДИЙ МАЛЕР
Неовизантизм как новый большой стиль
Аркадий Маркович Малер (род. 1979) — современный русский философ, право славный метафизик, теоретик неовизантизма. В 2004 году закончил с отличием фи лософский факультет ГУГН при РАН. Автор таких книг, как «Стратегии сакраль ного смысла» (М., 2003), «Духовная миссия Третьего Рима» (М., 2006). Специализи руется в области русской религиозной и политической философии, тема диссерта ции — «Метафизика в истории Московской духовноакадемической школы». Глава философскополитического центра «Северный Катехон», редактор одноимённого альманаха, ведущий Византистского Клуба «Катехон» в Институте философии РАН. Наша беседа с Аркадием Марковичем состоялась в рамках проекта «Современ ная русская философия»24.
— Аркадий Маркович, расскажите, пожалуйста, о своей философской эволюции.
— Для меня философия — это в первую очередь культура мышления, вне которого никакая мысль не может иметь права на серьёзное восприя! тие, и именно как культура, то есть система ценностей, философия тре! бует от человеческой мысли уважения, служения и иерархического миро! восприятия. Я специально это оговариваю, потому что для некоторых философия сродни варварскому мышлению, подменяющему свободу мысли анархией мысли. Поэтому моя базовая философская установка — это интуиция абсолютных ценностей, которые возможны только в рели! гиозно!метафизическом измерении и отсутствуют в измерении секуляр! ном. Долгое время эта интуиция вела меня сквозь паутину того антилибе! рального и антизападнического синтеза, который сложился в русской и европейской философии 1990!х годов и был основан на идеях интеграль! ного традиционализма и консервативно!революционных теорий, но если бы критерий ценностного абсолютизма не покидал меня, я бы так и ос! тался в этой паутине. Когда я попытался логически разобрать весь этот постмодернистский синтез «справа» и систематизировать его по!своему, получилась моя первая книга «Стратегии сакрального смысла» (М., 2003), которая обнажила для меня неснимаемые противоречия и «несходящиеся концы» этого синтеза. Эта книга остаётся лишь свидетельством моего личного пути, и я сейчас к ней отношусь несерьёзно. Мне стало очевид! но, что строить свою философию по принципу «против», собирая любой ценой всех потенциальных союзников в общую кучу, просто невозможно. Необходимо точно определить ту абсолютную ценность, которую ты го! тов отстаивать до конца, и отсюда выстраивать свою систему. Для меня с момента моего сознательного воцерковления в 1996 году такой ценностью всегда было Православие, которое в политической проекции воплощено в русском византизме. Вот этот путь — от неопределённого «традициона! лизма» к христианской ортодоксии и от размытого «евразийства» к «ви! зантизму» — я и проходил всю свою молодость.
— Вы являетесь основателем Византистского Клуба «Катехон». Какая деятельность ведётся в нём?
— Византистский Клуб «Катехон» был основан мной в 1999 году при Институте философии РАН, с 2005 года он является проектом моего цент! ра «Северный Катехон». В том же году я выпустил первый номер однои! мённого ежегодного альманаха, посвящённого исследованию «византиз! ма» как единого философско!политического направления, где были опубликованы мои новые «программные» статьи: «Православная Тради! ция и интегральный традиционализм» и «Идеология Византизма». Назва! ния трёх основных рубрик альманаха — «Метаполитика», «Метафизика», «Метапоэтика» — именно так я определяю три основных круга своих фи! лософских исследований. В 2006 году вышла моя новая книга «Духовная миссия Третьего Рима» — «первое систематическое изложение православ! но!имперского мировоззрения, иначе называемого византизмом». Как и «Стратегии…», эта книга также напоминает по форме учебное пособие, излагающее основы заявленного мировоззрения, вновь начиная с его ба! зовых, философских оснований. Здесь в полной мере заявлены основные положения собственной позиции — логический систематизм, однознач! ная ориентация на догматическое православие и византийско!московс! кую политическую историософию. По инициативе Византистского Клуба «Катехон» на философском факультете ГУГН при РАН в 2004 году была образована кафедра метафизики и сравнительной теологии. При непо! средственном участии Византистского Клуба «Катехон» в 2004 году был открыт Центр истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосе! ва». В это же время я выступил соавтором коллективных интеллектуаль! ных проектов «Консервативное совещание», «Контрреформация», «Рус! ская доктрина», «Манифест национально!консервативного союза». С 2002 года по 2006!й я вёл авторский курс культурологии в МИФИ, а с этого года веду спецкурс «Философия русского византизма» в родном ГУГНе.
— В чём основной пафос вашей философии?
— Как я уже сказал, основным объектом критики для меня является ценностный релятивизм, который в истории западной философии восхо! дит к греческой софистике и порождает собой всю ту скептическую тра! дицию, последним словом которой стал современный англо!американ! ский неолиберализм. Но релятивистское начало есть и в восточной фило! софии, в частности в даосизме, и я совершенно убеждён, что эти крайние полюса философской геополитики сходятся в общем отрицании самого факта абсолютных трансцендентных ценностей, требующих неизменного человеческого служения. Какая разница между «атомарным индивидом» западных либералов и тем самым «человеком как одним из десяти тысяч вещей» китайской традиции, если итог один и тот же — отрицание сво! бодной, самоопределившейся, сознательной личности, которая возможна только в Христианстве. Почему только в Христианстве? Потому что толь! ко в Христианстве есть представление о Боге как о Личности, который по собственному, свободному волеизъявлению сотворил мир и человека в этом мире, «по своему образу и подобию», то есть сотворил существо, так! же наделённое качеством личности. Причём в Христианстве этот персо! нализм Бога и человека несравнимо усиливается по сравнению с другими авраамическими религиями, потому что эти качества засвидетельствова! ны Воплощением Сына и образованием Церкви как уникального союза личностей. Вне этой персоналистической парадигмы, где принцип «лич! ности» первичен по отношению к самой «природе», нет и не может быть никакой свободы и никакого сознания, а следовательно, вне её мы впада! ем в порочный круг той космической безответственности и бессознатель! ности, которая равно свойственна и западному либерализму, и восточно! му тоталитаризму. Поэтому, по моему мнению, только православие разре! шает все антиномии философской антропологии: сохраняет человека в рамках сакральной Традиции и при этом утверждает его уникальный, сво! бодный метафизический статус. Основой основ своей философии я счи! таю особую дисциплину, академическая легитимация которой ещё впере! ди — «православную метафизику». Метафизика — это именно та строгая дисциплина, которая связывала сакральное знание с секулярной акаде! мической традицией, почему поэтапный отказ от неё в эпоху Модерна определил «деградацию» всей европейской философии. В основе метафи! зики лежит «метафизическая картина мира», основанная на различении Сверхбытия (трансцендентного) и Бытия (имманентного), следователь! но, специфику любой метафизической доктрины определяет протяжён! ность, плотность, траектория и сам факт той метафизической Границы, которая разделяет оба уровня.
— Как вы определяете понятие «православная метафизика»?
— Если в двух словах, то это очень просто: православная метафизи! ка — это метафизика, основанная на православии. Это концептуальный мост, соединяющий богословие и философию, можно сказать, опосреду! ющий язык, конвертирующий богословские категории в философские и наоборот. Эта тема меня привела к изучению совершенно забытого ныне опыта метафизических построений в Московской духовно!академиче! ской школе, первого опыта богословско!философского перевода в рус! ской истории. У этой традиции есть два крайних противника, с которыми мы уже встречались, «антиметафизический релятивизм» Запада, вопло! щённый в неопозитивизме, и «метафизический детерминизм» Востока, наилучшим образом представленный в адвайта!веданте, а также и в язы! ческом неоплатонизме. Неопозитивизм отрицает любую метафизику как необоснованную спекуляцию, что совершенно понятно — в основе само! го позитивизма лежит секулярное мировоззрение, принявшее имманент! ную реальность за единственно существующую. «Метафизический детер! минизм» основан на религиозном мировоззрении, но это мировоззрение языческое, в нём всё имманентное бытие предстаёт лишь определённой градацией регрессивного уплотнения первичного, трансцендентного Бо! жественного начала (в этом плане основатель интегрального традициона! лизма Рене Генон остаётся банальным адвайта!ведантистом или неопла! тоником). Здесь нет творческой Божественной Личности и нет творче! ской личности человека, и поэтому частое неразличение метафизики как дисциплины и метафизики как идеологии приводило православных мыс! лителей в ловушку различных ересей. Следовательно, православная мета! физика — это метафизическая экспликация православной теологии, не более, но и не менее, где, например, «трансцендентное» тождественно «нетварному», а «имманентное» — «тварному». В синергетическом вза! имодействии Бога и человека эта оппозиция преодолевается за счёт воз! можности «обожения» последнего. Полное преодоление этой Границы между ними происходит в самом факте Боговоплощения и основания Церкви как особой зоны «метафизически легитимного» общения с не! тварным началом в мире тварного. Исходя из этого, я определяю две аб! солютно полярные «ереси» в отношении Интегральной Традиции: ересь радикального трансцендентизма и ересь радикального имманентизма. Меж! ду этими двумя полюсами метафизического радикализма разворачивает! ся метафизика всех остальных «ересей», более или менее «трансценденти! стских», более или менее «имманентистских». Произвольный синтез той и другой позиции порождает различные версии, среди которых выделя! ются наиболее приближенные к Христианству, но не становящиеся им: совокупность этих «ересей» я называю «Недохристианством», которое составляет основу как эзотерического (гностицизм, герметизм, неоплато! низм), так и экзотерического (католичество, протестантизм, экуменизм) учения Запада на пути его секуляризации. При этом оппозиция «транс! цендентное — имманентное» недостаточна для описания всей классифи! кации метафизических доктрин, на неё должна быть перекрёстным обра! зом добавлена оппозиция «личностное — безличностное», и тогда карти! на будет полной.
— Каков ваш философскопознавательный аппарат?
— Моя гносеология напрямую вытекает из моей же «православной метафизики». Исходным основанием для такой гносеологии является ра! дикальное отрицание релятивизма, полярные выражения которого мы встречаем всё там же — в секулярном англо!американском ультрарацио! нализме и в мистическом «восточном» иррационализме, кстати, свой! ственном определённой, «розановской» линии русской философии. Эти запредельные полюса сходятся в отрицании абсолютных ценностных иерархий. Отстаивая классические, платоновско!аристотелевские начала дисциплинарной философии, я признаю непреходящее значение «Мета! физики» и «Органона» Аристотеля, но критикую его как первого фило! софа, который перевёл сакрально!мистическую философию Платона на секулярный язык, свёл сущность к субстанции, в чём выражается анти! трансценденталистский настрой аристотелианской философии. В кон! сервативной философии твёрдо устоялось представление о том, что раз! рыв с сакрально!традиционной гносеологией — это разрыв с онтологиче ской гносеологией, это освобождение гносеологии от реально!онтологи! ческой основы и сведение её к чисто отвлечённому процессу: об этом писали практически все мистики и реакционеры. Но каким тогда должно быть подлинное познание? В метафизике подлинным познанием называ! ется особый процесс «интуиции» (непосредственного созерцания). Одна! ко эта «интуиция» совсем не произвольна, она имеет своим критерием проверку интеллектом, который, в свою очередь, является высшим состо! янием ума (греческого «нуса»), следовательно, это не просто интуиция, а «интеллектуальная интуиция». Интеллектуальная интуиция — это непо! средственное восприятие, истинное постольку, поскольку оно проверено необходимым интеллектуальным основанием. Интуиция может оши! биться, интеллектуальная интуиция не может ошибиться. Но это откры! тая тема, и здесь очень сложно остаться в рамках академической филосо! фии и не перейти к аскетической практике православного умозрения («феории»). Здесь самое главное — не сорваться в мистический реляти! визм в духе банального язычества, принимающий наркотический сон за «Божественное прозрение». Состояние бессознательного — это падшее состояние, ибо оно не предполагает субъектности и ответственности того, кто отказался от своего сознания, в то время как состояние сознательно! сти, осознанности — это абсолютное минимальное условие личной, лич! ностной субъектности и ответственности. Многие современные «тради! ционалисты» очень полюбили бессознательное как состояние проявле! ния «сакральных архетипов» (по Юнгу или Элиаде) и по этой же причине срочно полюбили «Постмодерн» как отрицание Модерна, но они как буд! то бы забыли, что одной сакральности недостаточно — вопрос ещё и в том, какая конкретно сакральность имеется в виду и зачем искать смысл в хаосе, если задача состоит в том, чтобы из него выйти? Если такая зада! ча, конечно, вообще поставлена, потому что кому!то уютнее и в хаосе. Поэтому я считаю, что гносеологический релятивизм неизбежно вза! имосвязан с релятивизмом этическим. Аристотелевский принцип «исклю! ченного третьего», tertium non datur, который так не любят все постклас! сические философы, на самом деле является логическим аналогом эти! ческой максимы Христа: «Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого». Так идея сущего переходит в идею должного, и метафизика определяет метаполитику, или «политическую метафизику». — Каким же образом «метафизика» определяет «метаполитику»?
— В основе любой философии лежит единая онто!гносеологическая картина мира, на выходе из неё мы получаем конкретные социально!эти! ческие императивы, политические проекты и эстетические модели вос! приятия самих себя и окружающего мира. Поэтому как нет философии, не имеющей политического воплощения, так и нет политики, не имею! щей философского основания. И поэтому, как любая философская война выходит за пределы самой философии, любая политическая война в ко! нечном счёте является философской. Необходимость активной полити! ческой позиции я оправдываю этикой социального долженствования, ко! торую обнаруживаю в единстве православного учения о «свободе воли» как априорном условии человеческой жизни и миссионерском призвании как смысле этой жизни в социуме. Эта этическая установка порождает проблему элиты как подлинной «субстанции политического» и проблему идеологий как выражения «сущности» этой «субстанции», как концептуа! лизации подлинной «политической миссии» этих элит. Элита — это ак! тивное меньшинство общества, сознательно концентрирующее в себе ин! тересы всего пассивного большинства этого общества в его целом. Тема элиты фактически замещает тему власти: элита — это активное меньши! нство, обладающее позицией власти (по Этциони) над пассивным боль! шинством. Власть — это абсолютная свобода как абсолютная ответствен! ность и абсолютная ответственность как абсолютная свобода. Каждый человек абсолютно свободен и абсолютно ответствен, каждый человек обладает имманентно присущей ему позицией Власти, каждый человек может и должен перейти из состояния объекта в состояние субъекта, стать активным меньшинством, то есть стать элитой. Власть возникает только в той пространственно!временной точке, где кто!то объявляет сам себя но! сителем Власти — это абсолютно волюнтарная акция, всё остальное — это лишь чисто социальная реализация. Поэтому минимальная критика Власти со стороны — это всегда в первую очередь её признание в качест! ве «власти», это её неосознанная легитимация. Но полная и последняя ле! гитимация Власти происходит именно тогда, когда кто!то перекладывает на неё свою собственную ответственность за окружающий миропоря! док, — тем самым он передаёт власти свою свободу, отказывается от права быть Властью. Однако вся эта органомика Власти — это просто наблюда! емый эмпирический факт, но за ним стоит более серьёзная проблема того сверхсмысла, которым должна наделяться Власть, если она претендует на нечто большее, чем функцию кризисного менеджмента. В православной перспективе нормальная государственная власть в конечном счёте долж! на нести миссию Катехона, «удерживающего» силы Аномии, «беззако! ния» — для меня эти категории новозаветного богословия имеют абсо! лютные социально!философские смыслы. Это не просто легитимная пра! вославная власть, сдерживающая силы очередной смуты, речь идёт о бо! лее общих принципах политической метафизики. Аномия — это постоян! ное состояние общества и каждого человека, отказавшегося от служения абсолютным ценностям, Аномия присутствует везде, где отрицаются ос! новы христианского, истинно средневекового политического сознания — церковный и имперский универсализм, и где они подменяются партику! лярными, левыми, либеральными или националистическими иллюзия! ми. Притягательная сила Аномии состоит в её соблазнительной провока! ции беззаконной жизни, провокации лёгкого пути, когда люди могут тво! рить зло, прикрываясь добром. Но в эпоху Постмодерна Аномия проник! ла даже в сознание части «православных имперцев», которые по той же причине, почему некоторые традиционалисты срочно возлюбили Пост! модерн, решили использовать силы беззакония, «оседлать хаос», а в ито! ге превратились в очередного агента самой Аномии, и всё только потому, что усомнились в достаточном основании изначальной иерархии ценнос! тей. Катехоническая Власть сдерживает силы Аномии, но для того, чтобы ей самой не превратиться в собственную противоположность, она должна осознанно блюсти свою миссию, а это уже вопрос идеологии.
— В чём суть вашего нового подхода к идеологии?
— Термин «идеология» я трактую предельно широко: идеология — это определённая совокупность идей, претендующая на мобилизацию определённых социальных групп. Как и в случае с элитами, так и в случае с идеологией можно заметить, что я определяю политические феномены как определённые «социальные задания», призванные разрешить те или иные социальные проблемы. Понятие «идеология», введённое Дестютом де Траси в XVIII веке как «наука об идеях», утратило свой смысл, и требу! ется введение нового термина — «идеологика». Идеологика — это наука об идеях и идеологиях, о законах их развития и взаимоотношений, об их внутренней структуре и критериях классификации. Как и в случае с мета! физическими доктринами, меня очень занимает вопрос классификации идеологических позиций, начиная с принятого в традиционной полито! логии деления всех политических идей на «правые» и «левые». По моему мнению, эти позиции различаются по трём критериям: ценностный абсо лютизм против ценностного релятивизма, традиционализм против прогрес сизма, иерархизм против эгалитизма. Можно сказать, что правая — это идеология Катехона, а левая — это идеология Аномии. Будучи однознач! но правым, я в то же время различаю «старую правую» и «новую правую» идеологии в современной политической истории, а также внутри «новых правых» — «палеоконов» и «неоконов». Своеобразным экстравагантным поворотом в моей эволюции остаётся теория «русских неоконов»: этой теме посвящены две мои статьи: «Идеология русского неоконсерватизма» и «Пришествие русских неоконов». В первой утверждается, что «в 2000!е годы в России явно заявила о себе позиция «нового правого» консерва! тизма. Это не старый правый консерватизм, потому что он ориентирован самокритически и находится в постоянном поиске новых политических форм и методов. Но это и не левый консерватизм, потому что его само! критика и методологический модернизм, и даже постмодернизм, априори исключают какую!либо «диалектику», ведущую к нравственному оправ! данию левых принципов». Из круга русской новой правой я выделяю осо! бую позицию — «русское неоконство»: «Русские неоконы (за редким ис! ключением) — не бывшие «старые правые», но бывшие консервативные революционеры, в 1990!е годы посвятившие свою жизнь свержению либе! рального режима, а в 2000!е — осознавшие всю глубину тех реальных из! менений, которые произошли со страной и ставшие столь же радикаль! ными охранителями, но не ради «порядка и стабильности», а ради тех же целей, которые они преследовали и раньше, — ради абсолютного суверени тета и сверхисторической миссии России. Только в отличие от своих аме! риканских антиподов они входят в политическую элиту страны не в мо! мент её исторического апогея, а, напротив, в момент её глубокого кризи! са, когда новый подъём не только не самоочевиден, но напрямую зависит от их собственной политической активности». Поворот к «неоконсерва! тизму» (в специальном, западном, смысле этого термина) произошёл у меня под определяющим влиянием философии идеолога американских неоконов, ученика Карла Шмитта — Лео Штрауса. Философия Штрауса закрепила мои антирелятивистские философско!политические интен! ции, обозначила основное поле для диалога с западной политической фи! лософией. Но я должен сказать, что открытие Штрауса для меня совпало с подробным изучением богословия неопатристического синтеза, прежде всего отца Георгия Флоровского и Владимира Лосского, которому я по! святил свой диплом. Лео Штраус и Георгий Флоровский с разных полю! сов христианского мира в своей социальной критике фактически прихо! дят к одному и тому же — к осознанию глубинной порочности всей традиции европейского реакционного историцизма, который вызвался положить конец торжеству англо!американского позитивизма, но на са! мом деле стал только его обратной стороной, ибо в основе его лежит всё то же отрицание универсальных ценностей. В этом смысле «староправая» идеология — это идеология вчерашних правых, отказавшихся от универ! сальных христианских ценностей — Свободы и Личности, без которых правое сопротивление превращается в банальное поражение тоталитар! ных, «азиатских» сил перед либеральным, «европейским» миром, где Православная Церковь воспринимается лишь как часть абстрактного Востока. Поэтому неоконсервативная программа — это не только чистая технология, это не только очередная попытка консерваторов овладеть но! выми методами, это ещё и идеология, поставившая в центр внимания универсальные христианские ценности, а не случайную, партикулярную «идентичность», и поэтому «новый правый» неоконсерватизм ближе к традиционному средневековому мировоззрению, чем «старый правый» палеоконсерватизм. Безусловно, универсальные христианские ценности понимаются именно как ценности православные, тем более что именно в православии идея Свободы и Личности обладает полноценным метафи! зическим статусом. И конечно, русский неоконсерватизм в моём понима! нии естественно наполняется специфически русским идеологическим со! держанием — это основанный на православно!имперской традиции «ви! зантизм» или, точнее, «неовизантизм».
— Неовизантизм — это новый «изм» или чтото действительно содержа тельное?
— Византизм, с моей точки зрения, — это православно!имперская идеология, основанная на тех идеалах и ценностях, на которые ориенти! ровалась Восточная Римская империя (Византия) и впоследствии Мос! ковское царство. Этот момент очень важно подчеркнуть — речь ни в коем случае не идёт об ориентации на те субкультурные и необязательные стан! дарты, которые исторически сложились в Византии или Московской Ру! си. Речь идёт о тех ценностях, на которые с переменным успехом ориен! тировались эти цивилизации. Основные идеалы византизма — концепция Катехона (эсхатологического православного государства), Симфония Властей, проект планетарной Православной Империи, воцерковление лучших достижений интеллектуальной культуры. Разработка новой кон! цепции византизма наследует позиции двух первых основателей этой идеи в русской философии — Константину Леонтьеву и отцу Георгию Флоровскому, которые обозначили два полюса этой идеологии — почвен! но!цезаристский и клерикально!космополитический. Поэтому фило! софское содержание идеологической концепции византизма, по!моему, заключается в преодолении неизбежного противоречия между этими по! люсами, если мы хотим, чтобы эта концепция работала в политической реальности, а не оставалась книжной теорией. В этой работе я совсем не одинок, и византистская политическая программа с разными смысловы! ми акцентами давно развивается в современной России. Если говорить о старшем поколении, то это патриарх русской правой мысли Владимир Махнач; если говорить о младоконсерваторах, то это такие имена, как Ки! рилл Фролов, Егор Холмогоров и Виталий Аверьянов. Но если говорить о политическом воплощении, то для меня византизм — это не партийная идеология, хотя в повседневной практике она может таковой оказаться, а трансисторическая парадигма русской цивилизации, глобальное зада! ние, которое дано России для исполнения своей миссии в мире и которое очень легко разменять на аномическую подделку европейской либераль! ной демократии или азиатской тирании. В этом плане идея русского ви! зантизма, идея России как Северной Византии, как Северного Катехона, как Третьего Рима — это не наследник авторских опытов «Русской Идеи» как третьего, христианского пути между секулярным Западом и языче! ским Востоком, а основа этих опытов, магистральная линия русской политической мысли вообще. Таким образом, мой византизм — это уни! версалистский по своим установкам проект геокультурного и геополити! ческого единства православной цивилизации, связанный центральной, катехонической ролью России и ориентированный не на изоляцию и от! ступление, а на открытый миссионерский диалог и миссионерскую экс! пансию. В этом плане концепцию византизма можно воспринимать и как частный случай Русской Идеи, и как наднациональный геокультурный проект. Отсюда проистекают конкретные культурно!эстетические прин! ципы — таким образом метаполитика переходит в метапоэтику, или «по!
этическую метафизику».
— Какие эстетические проблемы исследуются в вашей метапоэтике?
— Как «метафизика» занимается выявлением сверхонтологических начал реальности, а «метаполитика» — сверх!политических начал поли! тической онтологии, так и «метапоэтика» призвана выявить сверх!эстети! ческие начала самой эстетики. Я намеренно избегаю самого термина «эстетика» как чисто нововременного понятия, предпочитая ему антич! ный и византийский аналог «поэтика». Введённое вольфианцем Алек! сандром Баумгартеном понятие «эстетика» означало всего!навсего «науку о чувственном познании», которая в соответствии с немецкой метафизи! ческой традицией определялась как «низшая теория познания» (gnoseolo! gia inferior). До Баумгартена существовала «наука о прекрасном», то есть поэтика, но сфера её применения была настолько широка, что в античном и средневековом сознании она служила аналогом философии вообще. Поскольку для вольфианского рационализма «прекрасное» могло быть предметом только чувственного познания, то его значение было низведе! но до низшего уровня человеческого сознания. В общем!то эмерджент! ной инволюцией «поэтического» в «эстетическое» закончилась история деградации представления о Прекрасном в Европе. Христианская поэти! ка — это проявление бесконечно совершенного Божественного Логоса в конечных, несовершенных способностях человеческого восприятия. В Божественном Логосе, в соответствии с христианско!платонической традицией, Прекрасное остаётся неизбежным апофатическим аспектом всех возможных иных совершенных состояний, а следовательно, Божест! венный Логос не знает разрыва между Прекрасным и Истинным или Прекрасным и Справедливым. Поэтому выделение «науки о прекрасном» в отдельную сферу только свидетельствует о раздробленном состоянии современного философского сознания, хотя в академическом простран! стве оно уже неизбежно. Безусловные начала Прекрасного как аспекта Божественного Логоса, с моей точки зрения, проявляются в символиче! ском языке сакрально!традиционного сознания, который когда!то был един, но потом он распался на множество вторичных символических язы! ков различных субтрадиций, и никакие механические попытки восстано! вить этот язык в духе «ностратики» европейских эзотериков ХХ века ни к чему нас не приведут, ибо это будет лишь очередная авторская рекон! струкция. Поэтому единственный путь познания идеальных принципов Прекрасного — это грамотное постижение библейско!христианской эстетики, воплощённой в храмовом искусстве, включая литургическую литературу и музыку. Необходимо осознать, что с ортодоксальной точки зрения Христианство — это и есть та самая единственно верная «инте! гральная традиция истины», которая была утрачена в пост!райском со! стоянии человечества и восстановлена с появлением Церкви. Никакие иные традиции не скажут нам об изначальной истине больше, чем само Христианство. В противном случае мы должны будем признать недоста! точность Христианства, что выводит нас за пределы ортодоксии. В этом плане я всё время призываю к последовательности, к тому, что можно на! звать «философской транспорентностью», чтобы не соскальзывать с пути чётко поставленных концептуальных задач, если они вообще чётко по! ставлены. Поэтика как умозрение Прекрасного должна быть основана на мировоззрении, а не мироощущении. Это возможно только в том случае, если вся философия исходит из осознанных, мировоззренческих предпо! сылок, а не является лишь неуверенной концептуализацией частного ми! роощущения. Если центральная проблема эстетической теории — это критерии Прекрасного, то центральная проблема эстетической практи! ки — возможность и легитимность человеческого творчества. В этой теме очень легко скатиться в безответственный волюнтаризм, а речь идёт о фундаментальной богословской и метафизической проблеме: насколько человек способен и имеет право творить нечто своё и нечто новое? Для любого традиционалиста очевидно, что большая часть человеческого творчества составляет удачную компиляцию уже существующих эстети! ческих данных и неосознанное проявление самодовлеющих эстетических парадигм, и это при том, что никакого прогресса в этом процессе нет, иначе мы должны признать секуляризацию двигателем «творческого прогресса».
Историософская периодизация этого регрессивного процесса чело! веческого творчества у меня объединяет концепцию Павла Флоренского об оппозиции «культа» и «культуры» и восходящую к Канту концепцию Освальда Шпенглера об оппозиции «культуры» и «цивилизации»: корнем слова «культура» является слово «культ», в традиционалистской редакции означающее не что иное, как любую элементарную систему инициации, то есть систему качественного самопреодоления во имя повышения своего бытийного статуса. Инициатический культ — это основа человеческого существования в традиционном обществе, но когда сам человек своим индивидуальным произволом вмешивается в систему культа, то этот культ переходит в «культуру». Если культура — это результат вмешательства че! ловека в культ, то цивилизация — это та стадия этого вмешательства, ког! да человек вместо субъекта культа становится его объектом, когда человек вместо средства культуры становится его целью. Следовательно, история деградации от традиционного общества к секулярному проходит по линии: «культ—культура—цивилизация». На этом пути возникает фигура Автора, сначала выступающего в роли скромного пересказчика давно и всем известных мифов, но потом неожиданно для себя оказывающего! ся основателем новой субтрадиции, канонизирующей его имя и его Текст.
Однако роковой порог вмешательства индивида в культ произошло тогда, когда Автор начал корректировать Текст с позиций самого себя, своего индивидуального «Я», как будто его произвол не требовал внутренней цензуры сакральных «критериев качества». Так переход от «культа» к «культуре» фактически означает переход от традиционного общества к се! кулярному на его первой стадии, когда индивид только вмешивается в культ, но когда индивид сам становится культом, начинается вторая ста! дия Модерна, то есть «цивилизация». Финальный этап деградации Авто! ра и его Текста происходит в третью эпоху, «эпоху Постмодерна», кото! рый я определяю как амбивалентную «ситуацию кризиса Модерна», конечный смысл и исход которого неизвестен: либо это продолжение стратегии Модерна в новых условиях, либо его отрицание, переходящее в полноценную «консервативную революцию» Традиции. В этой гетеро! номной ситуации Постмодерна Автор и его Литература просто исчезают. Почему? А, собственно, что может остаться после Автора (после Я), если кроме самого Автора (самого Я) ничего больше нет? Процесс деонтологи! зации сознания — это процесс его уничтожения. Следовательно, творче! ство является слишком серьёзной акцией человека, свидетельствующей о его богоподобном статусе и поэтому требующей от него особой ответ! ственности и компетенции, чтобы не дублировать пройденное, с одной стороны, и не плодить пустоту — с другой.
— Какова, на ваш взгляд, судьба Постмодерна на русской культурной почве?
— В связи с вышеприведённым наблюдением я неоднозначно оцени! ваю ситуацию Постмодерна в отличие от устоявшейся среди русской «но! вой правой» надеждой на Постмодерн как на неявную «консервативную революцию». Я считаю, что по принципу элементарной комбинаторики существует двенадцать стратегических суперпозиций соотношения Тра! диции, Модерна и Постмодерна, и поскольку конечной целью «правых» остаётся восстановление ценностного абсолютизма сакрально!традици! онного самосознания (в моем случае речь идёт о православно!византи! стских ценностях), то вслед за преодолением неявного релятивизма Мо! дерна должно последовать преодоление явного релятивизма самого Пост! модерна, стратегии которого вовсе не направлены на восстановление каких бы то ни было абсолютистских систем, а только служат полной дискредитацией любых систем, как Модерна, так и Традиции. «Правые» должны ясно и честно отдать себе отчёт в том, чего они хотят «в конечном счёте» и насколько оправдано использование тех или иных стратегий как в интеллектуальной культуре, так и в повседневной политике. Эта прямая позиция «философской транспарентности», о которой я уже говорил, прежде всего должна напомнить нам, что не существует никакой абстракт! ной «Традиции» и никакого абстрактного «сакрально!традиционного со! знания», чтобы можно было оперировать такими категориями в разгово! ре о Модерне и Постмодерне. В современной, постмодернистской «пра! вой» мысли под «традиционным сознанием» понимается, как правило, бессознательное архаических языческих обществ с их «арациональной» и «аналоговой» логикой, но это не имеет никакого отношения к христиан! скому сознанию, которое вовсе не является частным случаем языческого бессознательного, как того хотели бы «правые постмодернисты». При этом я считаю, что вопрос о Постмодерне постепенно уходит в прошлое просто потому, что в 2000!е годы во всём мире, и в частности в самой Рос! сии, начались процессы, заставляющие несколько отрезветь после пост! модерного хаоса 1990!х, и мы выходим из Постмодерна. Не хочется «опус! каться до конкретных примеров», но я считаю, что в отличие от своих предшественников президенты Буш и Путин — фигуры совершенно не! постмодернистские, чем они, наверное, и раздражают каждый в отдель! ности постмодернистскую европейскую интеллигенцию. Я считаю, что с концом 2000!х мы выходим в новую фазу аксиологического возрождения России, требующего реализации новой, позитивной, неоконсервативной исторической программы. На эстетическом, «метапоэтическом» уровне эта программа предполагает возникновение нового большого стиля, ко! торый я называю «неовизантизмом» или «неоампиром». Появление тако! го большого стиля будет окончательным, наглядным подтверждением торжества неовизантистских идей в России.
— Существует ли сегодня русская философия? Какими именами она мо жет быть представлена?
— Если бы этот вопрос был задан в XI веке, то он был бы проявле! нием русофилии, но в XXI веке он выглядит проявлением явной русофо! бии, присущей западническому восприятию, не западному вообще, а именно западническому, с точки зрения которого философией называет! ся только то, что похоже на один из изводов западной философии. Одна! ко когда мы показываем, что почти каждое направление современной западной философии имеет в России свои прямые продолжения, то за! падники говорят нам, что всё это вторично, а потому русской философии всё равно не существует. Навстречу этому восприятию работает множест! во наших доморощенных псевдофилософов, выдающих свою псевдолите! ратурную графоманию в духе тяжёлой розановщины за «русскую филосо! фию». Обе линии полностью взаимодополняют друг друга в общем стрем! лении доказать, что русской философии не существует. Между тем рус! ская философия, безусловно, существует: у нас своя интеллектуальная традиция, которая посредством византийской патристики напрямую вос! ходит к античным образцам. Поэтому русская мысль не менее, если не бо!
лее наследует Платону и Аристотелю, а также Августину и Боэцию, от ко торых сам Запад давно отрёкся. Магистральным направлением русской философии является систематическая христианская онтология, развитая в духовноакадемических школах, авторских богословских системах от Соловьёва до Лосева, парижском «неопатристическом синтезе», и все эти традиции продолжаются в современных попытках довести дело универ сальной православной философии до конца.
Реальная внутренняя проблема современной русской мысли заклю чается в том, что с повышением профессиональной специализации собственно философией занимаются всё меньше, обменивая её на чистое богословие, политику или науку. Но без фундаментальной философии развитие всех этих сфер в России невозможно.
В попытке ответить на второй вопрос кроются две опасности. Во первых, опасность не различить настоящих философов и просто учёных, изучающих философию: совмещение обеих функций вполне возможно, но последних, по определению, несравнимо больше первых. Вовторых, опасность впасть в субъективные предпочтения, но если я назову хотя бы имена таких авторов, как Валерий Подорога, Вадим Розин и Андрей Аш керов, то основные, объективные полюса современной русской филосо фии будут обозначены. На той магистральной линии русской философии, о которой я сказал, работают такие совершенно разные философы, как Сергей Хоружий, Александр Доброхотов или отец Димитрий Лескин. Но вый подъём русской интеллектуальной культуры в XXI веке немыслим без доминирующего значения именно этой линии.
Беседовал Алексей Нилогов
ЮРИЙ МАМЛЕЕВ
Русская философия не должна уступать русской литературе
Юрий Витальевич Мамлеев (род. 1932), родоначальник жанра метафизическо го реализма, — очень загадочный писатель. Его книги населяют упыри, экстрасенсы, призраки, маньякиубийцы и прочие странные персонажи. Читать Мамлеева — всё равно что заглядывать в адскую бездну. И страшно, и интересно. Но не это сниска ло ему всемирную славу. Писатель знает нечто, о чем обыватель даже и не подозре вает или боится задуматься. Как философ Юрий Мамлеев известен нам по книге «Судьба Бытия», в которой речь идёт о познании бессмертного, вечного, неуничто жимого начала в человеке — «Высшего Я». Будучи во многом философствующим пи сателем, Юрий Витальевич продолжает замечательную традицию русской филосо фии богоискательства. Совсем скоро у Юрия Мамлеева выходит социологический роман «Другой», посвящённый духовной ситуации в постсоветской России. Наша беседа с Юрием Витальевичем состоялась в рамках проекта «Современная русская философия»25.
— Юрий Витальевич, вы в своём творчестве описываете различные за предельные состояния, или «Неописуемое», если руководствоваться вашей терминологией. Многие авторы, которые также исследуют тему путешествий в «другие миры», упоминают наркотики в качестве средств, позволяющих со вершить метафизический trip. Существуют целые направления в современ ной культуре, обобщённо именуемые «психоделикой». В ваших же произведе ниях тема наркотических веществ практически отсутствует, зато достаточное внимание уделяется алкоголю, в особенности — пиву. Например, персонаж рассказа «Серые дни» Валя Колесов ради кружки свежего пивка улизнул с похорон собственного сына. Убийца Фёдор Соннов из «Шатунов» любил после очередного душегубства пропустить стаканчик пенного напитка, и для него физиологическое «ощущение пива» казалось иногда «единственной реальностью, существующей на земле». В чём же кроется пивной секрет — с точки зрения писателяметафизика?
— В своих романах и рассказах я избегал (а следовательно, и мои ге! рои избегали) темы наркотиков по одной простой причине: наркотики вводят в иллюзорные состояния, которые ведут в так называемые «ниж! ние воды» (по терминологии Рене Генона), то есть в самые низшие аст! ральные миры, представляющие определённую опасность. Хотя известно, что в восточной традиции наркотики иногда используются для выхода в действительно интересные состояния, но это делается под специальным руководством и с использованием строго определённых видов наркоти! ческих веществ. Правильно контролировать подобные состояния в усло! виях современного мира почти невозможно.
Другое дело — алкоголь. Суть алкогольного опьянения состоит в том, что не происходит таких изменений в психике, которые ведут к наркоти! ческим видениям. Состояние сознания остаётся прежним, оно только обостряется, ему придаётся некоторая энергия. Происходит как бы «от! ключение» от забот и суеты этого мира. В этом плане алкоголь является, конечно же, более «нормальной» разновидностью кайфа, чем наркотики. И, безусловно, менее вредным. В конце концов, крепкий чай — это тоже наркотик.
Я лично никогда не употреблял наркотики. Один раз случайно вмес! те с нашим великим поэтом Леонидом Губановым (он, к сожалению, употреблял наркотики и умер, как и полагается великому поэту, в 37 лет) я попробовал, и у меня это вызвало отвращение. Я почувствовал, что ста! новлюсь каким!то «иным», чем я есть. Ощутил чужеродное вторжение. Это был какой!то легкий наркотик — я уже и не помню, какой именно. Я мог себя контролировать, но вот эта чужеродность вызвала у меня ак!
тивное отторжение. Мне тогда было лет тридцать пять…
Как и вся наша Русь, я употреблял алкоголь во всех видах, и неда! ром в эмиграции кто!то сказал: «Всем хорошим в себе я обязан вод! ке». Тогда алкоголь играл особую социально!психологическую роль, служил своеобразной защитой от наиболее чёрных сторон советской реальности.
А что касается пива… Сейчас идёт очень сильная антипивная кампа! ния в обществе. Я не хочу идти против этого, поскольку, наверное, упо! требление пива превысило уже всякие разумные пределы. Но могу ска! зать, что для нас всех в те времена пиво было довольно лёгким напитком по сравнению с водкой. Оно давало очень хороший кайф — спокойное ощущение комфорта, при котором мысль работала в обычном режиме и можно было беседовать на любые темы, включая философские. Но надо сказать, что все свои произведения я всегда писал в трезвом состоянии. Я пробовал выпить и что!нибудь написать, но ничего из этого не получа! лось. Поэтому я, кроме крепкого чая, ничего не использовал. Это пра! вильно, поскольку такие художественные произведения требуют огром! ной концентрации, а алкоголь и всё прочее — расслабляет. И вообще, в процессе творчества получаешь такой кайф, какого не достичь никакими наркотиками или алкоголем.
— Что преобладает в ваших произведениях: писательская фантазия или личный опыт?
— Многие мои герои взяты из жизни. Это самый простой способ на! писания художественных произведений. Но второй способ ни в коем слу! чае не включает фантазию. Я вообще не люблю никаких фантазий. Вто! рой способ, принятый в Традиции, заключается в использовании того, что Рене Генон называет «интеллектуальной интуицией». Это возмож! ность интуитивного постижения самых тёмных или, наоборот, светлых сторон человеческой души. Из тайников человеческой души можно тво!
рить характер человека.
Вот вы сидите, допустим, в дачном поезде, наполненном народом. Вдруг вы видите напротив человека, и по его глазам, по отдельным фра! зам или движениям в некоторых случаях можно докопаться до такой глу! бины, о которой он и сам не подозревает. Вот это и есть литература. Лите! ратура — это не журналистика, не документализм, который скользит по поверхности. Писатель должен, во!первых, проникнуть в глубины чело! веческой души. А во вторых, если у вас есть специальные знания о неви! димой реальности, которая нас окружает, то вы используете их, как это де! лали все писатели прошлого. Как, например, Гоголь, который использо! вал старинные легенды и, возможно, свой собственный опыт. Ведь на Украине полно было и ведьм, и всего, чего угодно…
— А как Генон понимал «интеллектуальную интуицию», терминологи чески принадлежащую философии?
— Генон вкладывал в это понятие возможность проникновения в умопостигаемый мир — не с помощью логики, а в результате «мгновенно! го озарения». Это касается и художественного творчества. По мнению Генона, это немного напоминает «интеллектуализм ангелов». С точки зре! ния философии традиционализма ангельский интеллектуализм отлича! ется от человеческого: это не цепочка логических рассуждений, которая приводит к определённому выводу. Ангелы познают реальность мгновен! но. Можно назвать это «мистическим интеллектуализмом», или «мисти! ческой интуицией». И это довольно близко к творчеству. Практически на грани.
Как Данте писал «Божественную комедию»? Конечно, он использо! вал средневековое богословие. Но вело его не только знание, но и такого рода интуиция. Как Вергилий создавал «Энеиду»: он же там и опускался в ад, и описывал космос. Это было не только знание античного мира, тай! ных наук и прочего — там, конечно, работала его интуиция. Недаром Дан! те избрал его проводником по своему аду.
— Читая ваш роман «Шатуны», я буквально с первых страниц узнал в главном герое, Фёдоре Соннове, — Бориса Ельцина. «Это был грузный муж чина около сорока лет, со странным, уходящим внутрь, тупососредоточен ным лицом. Выражение этого огромного, в извилинах и морщинах лица было зверскоотчуждённое, погружённое в себя и тоже направленное на мир. Но направленное только в том смысле, что мира для обладателя этого лица словно не существовало». Меня поразило не столько внешнее сходство, сколько внутреннее родство Соннова и Ельцина, их общий духовный поиск, желание «доглядеться в пустоту», тяга к смерти. Вы согласны, что писатель способен предугадывать будущее: какието события или же появление исто рических персонажей?
— Ха!ха!ха! Великолепно! Это ваше открытие. Писатель сам иногда не может объяснить суть своих героев. Её улавливает читатель, потому что он становится со!творцом произведения.
— В последнее время вы часто говорите о православии. Но в большин стве ваших произведений, особенно — ранних, этот религиознофилософ ский аспект почти не проявляется. Вы, как гностик, изображаете мир устра шающедемоническим. Можно ли, с точки зрения православного человека, сказать, что всё описанное вами — только лишь инфернальные уровни бытия, или же это довольно пугающая, но всё же светлая мистическая реальность, которая неожиданно вторгается в привычный нам человеческий мир?
— Конечно, православная позиция присутствует у меня в более позд! них произведениях. Но должен сказать, что это вполне естественно. Ведь и Данте начинал с ада. Он отводил ему определённое место. А современ! ная жизнь такова, что ад может присутствовать и здесь, на земле. Поэто! му, по крайней мере — на внешнем уровне, многие мои вещи восприни! мались как описания именно «земного ада». Известный американский писатель Джеймс Мак!Конки сказал, что «Шатуны» оставляют странное сюрреалистическое впечатление, «как будто земля неожиданно преврати! лась в ад без осознания людьми, что такая трансформация имела место». Но это всё!таки не совсем верно. Знаете, даже в аду нет полной безысход! ности, потому что и туда пробиваются какие!то лучи света. Христос спус! кался в ад. Здесь, на земле, понятие «ада» используется в метафориче! ском, относительном смысле. Поэтому даже в самых мрачных моих про! изведениях всё равно присутствует какой!то тайный свет, тайный выход. Иногда это проявляется парадоксальным образом. Я уже приводил при! мер, как двое наших музыкантов, попавших в Берлин, задумали совер! шить самоубийство. И случайно им попался роман «Шатуны». Они за ночь вдвоём прочли эту книгу и решили, что ни в коем случае нельзя сво! дить счёты с жизнью. Произошёл своего рода катарсис. Может быть, на них повлияла сама энергетика книги. Ведь там, несмотря ни на что, при! сутствует сильнейшая жажда бессмертия. Как сказал кто!то из критиков, «не страшно читать даже самые страшные ваши вещи, потому что нет смерти». А смерть в современном мире является главным дамокловым ме! чом, висящим над личностью человека на протяжении всего его сущест! вования.
— Получается, что ваши герои обманывают смерть?
— Нет, они не обманывают смерть. Они думают о ней и знают, что не всё умирает со смертью, что это просто переход в иное состояние.
— А если вспомнить древнегреческий миф о Сизифе, который обманул саму смерть и за это был наказан богами, то чтото подобное случается и с вашими героями?
— Я не думаю. Смерть можно перехитрить лишь ненадолго, но это будет нарушением кармы, своей судьбы.
— Вы понимаете смерть согласно индуистской традиции?
— Согласно общей традиции. Существуют различия только в отно!
шении судьбы человека после смерти. В целом все традиции во многом похожи.
Художественные произведения — не иллюстрации религиозных воз! зрений. Они создаются абсолютно иначе, индивидуальным человеческим разумом. Я писал на основе своего опыта и интуиции, используя опреде! лённые философские аспекты. Перерабатывал их, адаптировал к моим героям. Так что это уже моя собственная философия, создававшаяся ин! туитивно. Художественное творчество спонтанно и многомерно, его мож! но толковать с самых разных точек зрения.
— Возможно ли научное бессмертие?
— Это абсолютный нонсенс. Может быть, наука и добьётся опреде! лённого продления человеческой жизни, это не исключено. Люди будут жить, скажем, до ста пятидесяти лет, но принципиально это ничего не из! менит. Да и такой вариант тоже под большим вопросом, ведь экологиче! ская ситуация на планете постоянно ухудшается, так что будет ли это иметь какой!нибудь смысл? А само по себе физическое бессмертие, ко! нечно, недостижимо, потому что возможности науки на самом деле очень ограничены. Есть биологические законы, которые нельзя изменить. На! ша реальность зависит от невидимой реальности, от так называемых «нижних вод».
Существует легенда о том, что тайной физического бессмертия будет владеть только Антихрист. И поэтому он выступит как «спаситель» рода человеческого.
Время жизни человека определено космологически, в соответствии с законами данного конкретного цикла. И после конца этого «света», этой реальности начинается, как мы знаем из Евангелия, иной мир, иное небо и, следовательно, иное человечество. Там уже всё будет по!другому.
Сама идея физического бессмертия — это полный тупик. Просто современный человек не может представить себе иной жизни, кроме существования в этом мире. Это не было характерно для традиционного общества.
Наше земное существование очень ограниченно, это как жизнь в пе! щере. И переход в иное состояние даёт людям такие возможности для бы! тия, которых нет в физическом мире. Поэтому бессмысленно бояться смерти, что осознавали люди в традиционное время. Можно очень долго жить в пещере, но какой в этом толк? Вы закрываете для себя возможно! сти пребывания в иных мирах, которые для разума и души могут значить несоизмеримо больше, чем вся наша физическая реальность.
Кстати, у Даниила Андреева было описание одного мира, в котором существовало физическое бессмертие. Что это был за мир? Особи, разумные существа, там не размножаются, их количество всегда одинаково. Никто не умирает и никто не рождается. Замкнутая система. И разум этих су! ществ носит исключительно научно!технический характер. В материаль! ном плане там всё на очень высоком уровне. Но совершенно отсутствует духовная жизнь в нашем понимании: нет ни религии, ни философии, ни искусства. Единственное исключение — это танцы. Такие вот технократи!
ческие «роботы».
Но и это не есть бессмертие. Миры не бесконечны. Когда заканчива! ется определённый космологический период, существующие миры разру! шаются. Что происходит? По!видимому, они лопаются, как пузыри, или рассыпаются, как роботы, на части. Но что!то, конечно, всегда остаётся. — Во многих ваших произведениях затрагивается тема секса и смерти. Является ли секс для ваших персонажей средством проникновения в «мёрт вую» реальность, постижения тайны смерти?
— Это такая грандиозная тема! Не только я исследовал связь между сексом и смертью. Этим в значительной мере проникнута история немец! кого романтизма, европейского романтизма вообще. Кроме того, связь между эротизмом и мистикой используется во многих восточных практи! ках. Можно также привести в пример персидскую поэзию. Такие великие поэты!метафизики, как Ибн Аль!Араби и Омар Хайям, использовали эротическую фабулу, что категорически запрещалось исламом. И таких поэтов вызывали на религиозный суд: если становилось очевидным, что за этим фривольным сюжетом скрыт мистический смысл, тогда их не тро! гали. То есть мистический эротизм допускался. В Индии культы некото! рых божеств также связаны с эротикой. Всё это вполне естественно, по! скольку эротическая энергия буквально пронизывает весь Космос, всё Творение. Это принцип Инь—Ян.
А вот как конкретно выражается эта связь, трудно объяснить рацио! нально. Здесь работает интуиция писателя. Можно сказать, что секс — это продолжение жизни, а смерть — оборотная сторона жизни. Жизнь и смерть — единое целое…
Но вообще!то для самого меня это остаётся тайной.
— Возможно, эротика придавала описаниям одномерной советской — асексуальной и атеистической — действительности некое дополнительное измерение, мистическую глубину? И можно ли воспринимать тему секса в ва шем раннем творчестве как своего рода социальный протест?
— Глубину — да. Что же касается протеста, то он не был моим моти!
вом, но многие читатели именно так это воспринимали.
— В рассказе «Исчезновение» есть любопытный момент: «Утопить бы когонибудь, — подумала Раиса Фёдоровна. — Ах, чего же мне всётаки по есть… Утку». Как процесс поглощения пищи соотносится с темой смерти?
— Еда даёт жизненную энергию, стало быть, пища противоположна смерти. А противоположности связаны друг с другом. Об этом и Гегель с Марксом говорили.
— В западном кинематографе часто изображается «ад на земле». На пример, в знаменитых фильмах Джорджа Ромеро о зомби, «живых мертве цах». Не находите ли вы здесь определённого сходства с вашим литератур ным творчеством?
— Знаете, скорее нет. Всё!таки у меня это носит философско!мисти! ческую подоплёку. А те кинокартины, которые посмотрел я, были просто «ужастиками», без какого!либо потаённого смысла. Хотя советскому че! ловеку, который только что приехал из Союза, вид встающего из могилы зомби первоначально внушал ужас. Но потом мы к этому привыкли. Я не увидел в этих фильмах никакой глубины, но как зрелище было неплохо.
— А вы смотрели «Ночной дозор» или «Дневной дозор»?
— Нет.
— В западной массовой культуре очень популярна «вампирская» тема: граф Дракула, Блэйд и многие другие подобные персонажи не сходят с экра нов кинотеатров и страниц романов. Не указывает ли этот «культ» на вам пирическую сущность самого западного общества, капиталистической системы?
— Тут всё немного сложнее. Понимаете, на Западе сейчас не любят это слово — «капитализм». Он ведь сильно видоизменился по сравнению с XIX веком. Инстинкт самосохранения оказался сильнее инстинкта на! живы. Буржуи стали делиться. Но можно сказать, что капитализм — это укус дьявола.
— Расскажите о деятельности Клуба метафизического реализма? Это продолжение традиций «южинского» периода?
— Конечно. Эта деятельность сейчас ведётся в двух направлениях. С одной стороны, у меня есть молодёжь. В какой!то мере это напоминает «южинский» период. В издательстве «РИПОЛ классик» выходит «Биб! лиотека Клуба метафизического реализма», в рамках которой, помимо моих произведений, произведений Сергея Сибирцева и других известных писателей, публикуются и молодые авторы. Среди самых талантливых я могу назвать Наталью Макееву и Николая Григорьева. Молодёжь, окру! жающая меня, продолжает моё направление, хотя они действуют очень самостоятельно. Метафизический реализм позволяет широкий выбор тем и художественных подходов.
А с другой стороны, сохранились старые «кадры». Взять хотя бы Ев! гения Головина, который с самого начала входил в «южинский» кружок. Есть Владимир Степанов, но он в последнее время чаще бывает на Запа! де. Лариса Пятницкая — тоже известная личность, и у неё вышли книги о «южинских» персонажах. Один из «южинцев» — Валентин Правоторов, совершенно потрясающий поэт; мы готовим сейчас его публикации. Так что ещё не все умерли.
— О чём ваш новый роман?
— Роман «Другой», выпускаемый издательством «ЭКСМО», не только мистический, но и социальный. Он в значительной мере отобра! жает ситуацию, которая происходит сейчас в России, у нас на глазах. Это во многом новый этап. В «Другом» очень важен именно социальный аспект.
— Вы работаете на стыке философии и литературы. Но что прева лирует в ваших произведениях? Не ревнуете ли вы философию к лите ратуре?
— Я думаю, что получается фифти!фифти. Когда пишешь чисто философские вещи, там нет литературы. Но художественные произве! дения — совсем другое дело. Литература всеобъемлюща, это царица искусств. В ней присутствуют и элементы живописи, и музыки, и фило! софии. В художественном произведении происходит слияние философии и литературы, их трудно отделить друг от друга. Но тут есть свои плюсы и минусы. Преимущество литературы в том, что там нет системы и можно иногда проникнуть в такую сферу, которую было бы трудно или невоз! можно отобразить с точки зрения чистой философии, — моментальное озарение, когда образ идёт дальше мысли. А вообще!то настоящая лите! ратура без философии — это абсурд.
— Кем вам быть почётнее: философом или писателем?
— И тем, и другим. Может быть, мои чисто философские произве! дения и меньше по объёму, но зато в литературе у меня очень много фи! лософии. Поэтому я чувствую себя одновременно и писателем, и фило! софом.
— Не считаете ли вы, что собственно философские темы вам удалось наиболее полно раскрыть именно в художественных текстах?
— Нет, я бы так не сказал. В этом отношении литература проигры! вает философии, поскольку в ней отсутствует система. Здесь необходима определённая направленность, чтобы философская концепция стала уче! нием. Как в «Судьбе Бытия» и в «России Вечной» — это всё!таки мисти! ческое учение. Из литературы, конечно, тоже можно сделать философ! ские «выжимки», как в случае с Достоевским, например. Но полноценная система взглядов, конкретное течение философской мысли возможно только в рамках философского же текста.
— Русская литература очень близка русской философии. Но существует ли между ними своего рода водораздел? И не проигрывает ли русская фило софия русской литературе?
— Раньше всё время проигрывала. Однако в русской философии были и Данилевский, и Бердяев — довольно весомые фигуры. В начале Серебряного века появилась новая религиозная философия. Проблема в том, что у нас «академической» философии, в западном смысле, практи! чески не было. Наша философия или напрямую связана с религией, или же с литературой на примере славянофильства. Конечно же, это большой недостаток. Различие должно быть. Другое дело, что в России очень ин! тенсивна была религиозная жизнь, развивалась православная мысль. И православная практика велась на самом высоком уровне. Исихазм — пик религиозной практики, в католичестве этого не было.
— И всётаки может ли русская философия встать на самостоятельный путь?
— Мне бы этого хотелось. Русская философия не должна уступать русской литературе.
— На Западе философия все время пыталась освободиться сначала от религии, потом от науки, теперь от самой себя, — философия как служанка философии. В России, в нашем традиционалистском обществе, очень редко возникала потребность в чистой философии. Поэтому преобладала литерату ра. Сейчас, когда религиозная фаза пройдена, а поле русской философии по прежнему не пахано, может быть, и возможно возникновение собственно фи лософии в России?
— Да, вполне возможно. Другое дело, в какой философии сейчас есть потребность?
— В традиционном обществе нет потребности в философии…
— В традиционном обществе философия — это метафизика. В Сред! ние века богословие сливалось с метафизикой, и все знаменитые фило! софы Средневековья были богословами. Новая философия началась с Декарта, сильное влияние имела немецкая классическая филосо! фия. Интересно, что у нас любили не только Гегеля, но и Бёме. Якоба Бёме читали запоем. Он — типичный пример мистической христианской философии.
— Но Бёме тоже философ в кавычках.
— Конечно. В том!то и дело, что, как писал Рене Генон, существует кардинальное различие между философией и метафизикой.
На Западе очень серьёзно изучаются метафизика, философия буд! дизма. Восточная метафизика сейчас необыкновенно популярна. И хрис! тианская — одновременно. Дело в том, что эти учения отвечают на вопро! сы жизни и смерти. Современная же западная рационалистическая фи! лософия исследует соотношения между языком и реальностью. Это интересно, но совершенно не соответствует главной задаче философии — о сущности жизни и смерти.
— Не является ли увлечение мистическими учениями всего лишь модой на New Age?
— Нет, ни в коем случае. На Западе изучаются все традиционные уче! ния, но в рамках теоретического курса. Одновременно с этим существует мощная неакадемическая практика. Эти два потока идут параллельно друг другу. Данное движение основано именно на традиции, поскольку истина лежит в первоначале, а не в конце. Но, кроме того, есть ещё масса различных профанических школ, учений, спекулирующих на восточной или же христианской метафизике. Больше всего это касается Америки. Там очень много всевозможных сект, которые являются, по сути, полити! ческими течениями, цель которых — овладеть умами людей. Или же раз! нообразные «психотехники», которые пытаются разорванному сознанию современного человека дать «peace of mind», «мир души», поскольку люди становятся психопатами и их как!то надо приводить в порядок. И это за! частую также является полной профанацией. Таким образом, существует, во!первых, академическая философия. Во!вторых, нормальная традици! онная метафизика. И невероятное количество псевдоучений и сект, в том числе и New Age. Но это всё равно показывает, что люди ищут спасения. Такова общая картина.
Независимо от того, признаёт это академическая наука или нет, существуют три основных направления: рациональная философия, ме! тафизика и богословие. Метафизика занимает место как бы посре! дине между философией и богословием. Здесь данные сверхчувствен! ного опыта изучаются в философском ключе, без догматики, усилиями человеческого разума. А академическая философия полностью связана с ratio.
Но существует непонимание Западом Востока и вообще традиции как таковой. Во Франции только недавно начали изучать Рене Генона. Из!за этого очень много казусов, нестыковок, ошибок.
В Веданте центральным понятием является «Атман» — абсолютный субъект, высшая точка сознания. На Западе этот термин поняли чисто психологически, а не онтологически, создали «психологию Атмана».
А ведь это чисто онтологическое понятие, характеризующее выход на уро вень сознания, не присутствующий в обыденной реальности.
— Чистый иррационализм в философии невозможен, весь иррациона лизм строится на рациональных терминах. Может быть, поэтому такое от рицательное отношение к иррационализму в философии?
— Конечно же, я полностью с этим согласен. Но возьмите, к приме ру, буддистскую философию — насколько там всё рационалистично. Буд дийский рационализм обрабатывает данные сверхчувственного опыта.
Это частично похоже на богословие.
— Значит, это не рационализм?
— Это всё вопрос употребления терминов. Конфуций учил называть вещи своими именами. Если бы коммунисты называли своё общество не коммунизмом, а просто социализмом, то сознание людей примирилось бы. А тот утопический коммунизм вызывал насмешки в 1960–1970х го дах, потому что такого общества не может существовать вообще. И демок ратию нельзя называть демократией, если это власть сверхбогатых. Всё время вещи не называют своими именами.
— Какой вопрос вам ни разу не задавали, но вы бы хотели на него отве тить?
— Мне задавали уже столько вопросов… Наверно, я ответил уже на всё.
Беседовали Фёдор Бирюков и Алексей Нилогов
ОЛЕГ МАТВЕЙЧЕВ
Миром правят философы!
Олег Анатольевич Матвейчев (род. 1970) — современный русский философ, по литический консультант, публицист. Кандидат философских наук. Сфера научных интересов — политический аспект учений о бытии в истории философии. Автор та ких книг, как «Что такое политический консалтинг?» (Екатеринбург, 1998), «Проблемы манипуляции» (М., 1999), «Политические онтологики» (М., 2001), «Уши машут ослом: Современное социальное программирование» (Пермь, 2002, в соавтор стве), «Предвыборная кампания: практика против теории» (Екатеринбург, 2003, в соавторстве), «Антипсихология. Современный человек: в поисках смысла» (Екате ринбург, 2004, в соавторстве), «Китай на стыке тысячелетий» (М., 2004), «Сувере нитет духа» (М., 2007). С 1994 года занимается политическим консультированием, организацией предвыборных кампаний на территории России. Совмещает занятия консалтингом с преподавательской деятельностью и публицистикой. Имеет более 50 научных публикаций. Наша беседа с Олегом Анатольевичем состоялась в рамках проекта «Современная русская философия»26.
— Олег Анатольевич, в своей статье «Гуманитарный “манхэттенский проект”» вы высказали замечательную идею об интеллектуальном прорыве русских философов. Как вы думаете, готов ли сегодняшний российский биз# нес пропагандистски поддержать интеллектуальную сферу (в частности, рус# скую философию)?
— Бизнес тратит огромные деньги на искусство, культуру, религию, благотворительность, на науку. Но я пока ничего не слышал о поддержке философии. Видимо, это связано с тем, что философия себя не проявила как некая «гарантированная ценность» или же государство, интеллекту+ альное и культурное сообщество не поставили на философии печать, сви+ детельство такой ценности. Бизнесмены, если быть честным, не очень+то разбираются в сфере абсолютного. Например, если перед каким+то оли+ гархом поставить скрипача, он вряд ли, даже послушав его, сможет опре+ делить — гений он или нет, тем более если это молодой скрипач. Олигарх будет судить по внешним приметам: по дипломам, по отзывам музыкаль+ ных корифеев. Он любит поддерживать то, что уже точно является цен+ ностью. Например, яйца Фаберже, Эрмитаж или Большой театр. На са+ мом деле чести нет в том, чтобы поддержать то, что не может упасть, честь и бессмертие олигарх может себе завоевать, если поддержит то, что на+ рождается, если разглядит гения на взлёте, и именно благодаря ему этот гений взлетит. То же самое можно сказать о проектах. Я считал, что для того, чтобы потрясти европейское сообщество русской современной интеллектуальной мыслью, требуется 2–3 миллиона долларов. Смеш+ ные деньги для того, чтобы стать европейскими интеллектуальными лидерами и раскрутить проект, о котором заговорит весь мир. Но предпо+ читают выбрасывать по 50 миллионов долларов на проституток в Курше+ веле за сезон или платить 3 миллиона Джорджу Майклу, чтобы он один вечер вертел задницей на дне рождения перед олигархом. Или поку+ пать самую большую яхту, содержать чужие футбольные клубы за деньги, в 200 раз большие. Наши олигархи — подонки общества, а не её элита, и история им этого не простит. По крайней мере тому, кто не покается и не раздаст все, чтобы хоть как+то оправдаться. Сейчас на олигархов рассчи+ тывать нечего, я пока надеюсь на государство. Французское государст+ во, посольства и консульства постоянно дают гранты на переводы и рас+ пространение французских мыслителей в мире. Это мелкие деньги, зато Франция уже полвека задаёт интеллектуальную моду в мире. Я ответственно говорю, что мы тоже можем её задавать, если захотим. Вопрос в решимости это делать, а будет это, найдутся и финансы, и ве+ ликие умы.
— Как вы считаете, что такое современная русская философия? Какими именами она может быть представлена?
— Одним из вредных убеждений, которое разделяют и элита, и широ+ кие слои общественности в России, является то, что Россия отличается от Запада тем, что она более субъективна, человечна, душевна, эмоциональ+ на, идеалистична, романтична… Вот Запад, тот да, рационален, механи+ стичен, научен, прагматичен, насквозь материален. Если надо разум, расчёт, науку, технику, машину, то это на Запад, а если песню, душу, чело+ вечность — то это в Россию. Это мнение было оформлено в конце XIX— начале XX века плеядой русских философов и историков, это: Хомяков, Аксаков, Соловьёв, Ключевский, Бердяев, Франк, Булгаков и другие. Эти мыслители, начиная с «Философических писем» П. Я. Чаадаева, задались вопросом: «А для чего вообще Россия существует в мире? Зачем Бог её создал? В чем её призвание? В чем, как говорят сейчас, её миссия?» Есте+ ственно, «самобытность» стали искать с помощью сравнения с другими (и прежде всего с Европой). А поскольку все названные товарищи были европейски образованны, знали по нескольку языков, учились у немец+ ких профессоров и прочее, то и сравнивали они Россию с Западом с по+ мощью той терминологии, которую в этих университетах усвоили. И срав+ нивали, естественно, в том отношении, в каком сама Европа себя с кем+ либо сравнивала. Например, есть в европейской философии противопо+ ложности субъективного и объективного, разума и эмоций, знания и веры. Сама Европа предписывает себе ориентацию на объективное познание с помощью разума. Русские «искатели самобытности» тут же объявляют, что оставшиеся бесхозными вера, субъективность и эмоции — принадле+ жат России. Причём они принадлежат давно и гораздо лучше, чем знание, разум и объективность. Вот и весь фокус. Никто из них даже и не задумал+ ся над тем, что прилагают к России европейский метр, вместо того чтобы, наоборот, попытаться Европу измерить российским аршином. А для это+ го нужно породить сам «аршин», то есть собственную систему категорий, выросшую из осмысления собственного бытия. А это и есть работа насто+ ящих философов, которой наши «философы» как раз и пренебрегли. Го+ раздо легче взять уже готовое какое+нибудь западное учение и по принци+ пу «Баба Яга против» объявить своим всё, что сам Запад оставил на столе недоеденным. Только теперь уже объедки объявляются настоящим блю+ дом, а вся западная пища — напротив — помоями. Короче, всё с противо+ положным знаком! Вы, дескать, на Западе говорите, что эмоции это пена на поверхности океана познания, а мы, русские, говорим, что эмоции — это океан, на котором ваши знания — это пена! Кто прав — неизвестно, но у нас «своя точка зрения». И нам льстит, если появляется кто+то и го+ ворит, что, скорее всего, «истина посередине», скорее всего, «правы и те, и те» и «надо друг друга дополнять». Эта постановка нас на одну доску с ними выглядит очень внушительно. Дескать, вот есть западная филосо+ фия — у неё одна точка зрения, а вот есть русская — у неё другая. Они, как минимум, «равновелики», они «дополняют друг друга», «видят две сторо+ ны одной истины». Ай, Моська, знать, она сильна!
Как+то несколько лет назад в одном гуманитарном журнале мне по+ палась статья «величайшего современного африканского философа». Имя его я даже не потрудился запомнить (кажется, Сенгор) по той же причине, по которой никто в мире не трудится запоминать имена русских философов (в отличие от имён Платона, Канта, Гегеля и прочих). В пре+ дисловии говорилось, что философ этот представляет «голос Африки», которая раньше была «угнетаема колониализмом». А теперь, дескать, бла+ годаря таким людям, как этот, «все стали понимать, что Африка — целый континент, континент со своей культурой», что она самобытна, что «само+ бытность надо беречь», что это «иной мир», «альтернативный Западу», «со своей точкой зрения», — и именно за эти взгляды африканцы безумно любят своего первого великого философа. Что же я увидел в статье? Есте+ ственно, пассажи типа «в отличие от белых негры не рациональны, а эмо+ циональны», «они не такие объективные, как белые, но зато они очень субъективны, что тоже очень важно». В неграх, в отличие от белых, «раз+ вита интуиция»… Если «белые материальны, прагматичны, то африканец очень духовен, он ставит веру выше разума…», что «белые и негры друг друга дополняют». Такое ощущение, что я читал книгу Бердяева «Русская идея». Только замените «негров» на «русских» — и всё. Абыдно, да?! Так что же, негр от русского не отличается? Отличается. Мы все знаем это аб+ солютно точно. Но дело как раз в том, что самобытность, как России, так и Африки, исчезает именно потому, что эти сенгоры и бердяевы, все эти «славянофилы» и «негрофилы», вместо того чтобы действительно выра+ жать самобытность самобытно, используют чуждую этим самобытностям европейскую категориальную сетку, в которой для всех не+европейцев за+ готовлено общее прокрустово ложе. Для европейца действительно все рус+ ские, негры, турки и прочие — на одно лицо (эмоциональны, с большой душой, неразумны). А то, что именно так же выходит и у славянофилов с негрофилами — говорит только об одном: сами они типичные европейцы, которые решили противопоставить себя Западу внутри западноевропей+ ского мышления и с его же помощью. Но чему ты себя противопостав+ ляешь — от того ты и зависишь, ты несамостоятелен, ты не есть без этого противопоставления, отбери у тебя язык, на котором ты противоречишь, и ты вообще останешься нем, перестанешь существовать. Совершенно понятно, почему самым большим спросом в России в начале XX века пользовались западные же ненавистники Запада. Семена упали на подго+ товленную почву. Такие, как Ницше, Маркс, Фрейд и другие критики за+ падного же образа жизни, культуры, философии, воспринимались здесь как «свои», их идеи, в целом довольно эпигонские, возникшие из всей за+ падной традиции и, безусловно, зависимые от неё, воспринимались как то, «о чём мы тут в России давно уже говорим». В свою очередь сами ан+ тизападники внутри Запада, ища паству, указывали на Россию как на страну, адекватную их идеям. Так и стала Россия в XX веке «негативом» Запада. Реализовала его противоположность. Надо только помнить, что негатив и позитив — это одна и та же фотография, созданная западным фотографом. Потом Запад пошёл дальше, а мы стали подражать ему же, теперь уже позитивному, но позавчерашнему, якобы «возвращаясь на столбовую дорогу цивилизации после коммунистического эксперимен+ та». Поэтому вопреки возникшей в постсоветском духовном пространстве ностальгической моде на «русские идеи», вопреки восторженным экста+ зам по поводу «великой русской философии» и её духовности, вопреки трепетному придыханию, с которым произносятся имена Бердяева, Лос+ ского, Булгакова и прочих, нужно твёрдо сказать: тот приступ русского мышления, тот урок был в целом неудачен, он был неадекватен россий+ скому бытию, он не возвеличил, а маргинализировал и «африканизиро+ вал» Россию, он добился прямо противоположных результатов, чем те, которых пытался достичь (вместо выражения самобытности — её затем+ нил и извратил, вместо обоснования самостоятельности — сделал зависи+ мым от противопоставления Западу, — что все достижения этого урока чисто отрицательные (мы теперь знаем, как не надо мыслить), что все по+ пулярные в интеллектуальных кругах идеи, имеющие корни в так называ+ емой «русской философии», должны быть подвергнуты ревизии. Настоя+ щий патриот не тот, кто гордится собой, исподтишка показывая кукиш сильному, не тот, кто, как Моська, лает на слона и тихонько лелеет мечту дождаться, когда у врага случатся неприятности, чтобы «толкнуть слабо+ го». Настоящий патриот должен сознавать всю серьёзность и масштаб+ ность проблемы мирового лидерства и, прежде всего, правильно её cта+ вить. В этой связи надо сказать, что современная русская философия к ре+ шению этой проблемы так и не приступила и даже часто не осознаёт её как таковую. Что касается имён, то… имён уровня Аристотеля и Канта, Ге+ геля и Хайдеггера в нашей философии нет. То, что есть сейчас в России, — это не философия, а философская публицистика. Но у нас всё впереди.
— Вы утверждаете, что русская философия так и не выработала собственный аналитический язык, а контрабандой заимствовала все терми# нологии. Каким, на ваш взгляд, может быть этот самобытный язык? Не ре# гионализирует ли он и без того региональную русскую философию?
— Когда СССР запустил в космос первый спутник, то, несмотря на то что во всех языках мира есть соответствующий перевод, всё равно весь мир стал говорить «sputnik». Пример из гуманитарной области: когда Гор+ бачёв выступил со своим «новым мышлением», то, несмотря на то что во всех языках есть перевод, «perestroyka» вошла во все языки. Сейчас вмес+ те с компьютерами, Интернетом и программным обеспечением мы заим+ ствуем из английского всякие «файлы», «браузеры», «чаты», «блоги», «сканеры», «принтеры», «дивайсы», «юзерпики», как когда+то заимство+ вали техническую терминологию на заводах, как заимствована полити+ ческая лексика, хотя для всего есть русские слова или можно сделать рус+ скую кальку. Я это говорю к тому, что если русская философия сделает то, что всем понравится, то наша лексика будет входить в другие языки в не+ изменном виде, — это нас не маргинализирует, а только сделает гумани+ тарными лидерами в мире. Если же мы не будем делать то, что нужно всем в мире, что будет востребовано, а, наоборот, будем себя противопостав+ лять всему миру, но в их же терминах, как это было до сих пор, мы марги+ нализируемся.
— Каков ваш основной философский концепт?
— У меня нет концептов в точном смысле этого слова, то есть неких слов, которые охватывают и содержат в себе другие. Вообще я считаю, что все эти кружочки из школьного курса логики с «содержаниями и объёма+ ми понятия» — очень большая абстракция. Одни слова не содержат в се+ бе другие. «Мебель» — одно слово, «шкаф» — другое. Их происхождение различно, употребление тоже и т. д. А все попытки выстроить между ними отношения, иерархии и прочее — совершенно внешняя, ненужная рабо+ та. В философии выделение какого+то главного слова, на котором якобы что+то базируется, — это фундаментализм. Казалось бы, разве не поиском таких фундаментов всегда занималась философия? Нет. Даже такая «цель философствования» уже искажает подлинную философию, которая мо+ жет быть только «сама из себя» без внешней цели.
— Можно ли считать современную философию служанкой экономики?
— Кто+то из мудрых сказал, что не бывает плохой поэзии, если по+ эзия плоха, то это уже просто НЕ поэзия. Философия, являющаяся чьей+ то служанкой, просто не является философией. Что касается экономики, то пора уже избавляться от этой чумы — мнения о её какой+то там первич+ ности. Если и есть в мире что+то самое последнее, так это экономика. И это, прежде всего, знают сами богатые и те, кто обладает властью. Ни+ кто из тех, кто правит миром, давно не думает о деньгах, их решения при+ нимаются исходя из того, что они хотят реализовывать какие+то проекты, которые отражают какие+то ценности. А они берутся из публицистики, которая понятна правящей элите, а публицистика всё берёт из филосо+ фии. То есть в конечном счёте с большим опозданием, отсрочкой, миром всё же правят философы.
— Вы с особым философским трепетом относитесь к фигуре Мартина Хайдеггера (участвовали в издании его книги «Что такое мышление?»). Ка# кое влияние оказал на вас этот немецкий мыслитель?
— Ещё я поддерживаю сайт www.heidegger.ru, на котором лежит всё, что выходило из Хайдеггера на русском языке. Приходилось всё это ска+ нировать, редактировать, оформлять. Что касается влияния… То само это слово ещё недостаточно прояснено. Разве что в «Сферах» П. Слотердайка появился интересный проблеск. А вообще… Понятно, что, кого ни возь+ ми, все на всех влияли, и вычислять, в какой мере кто и на кого — беспо+ лезно. Меня, например, больше интересует проблема невлияния. Меня удивляет, потрясает то, как это Хайдеггер, или Кант, или Гегель, или Пла+ тон с Аристотелем НЕ повлияли на 6 миллиардов человек, живущих на Земле? Ну ладно, кто+то не имел возможности их прочесть. Но вот вся элита, учившаяся в Кембриджах и Йелях, она+то имела возможность хоть пару абзацев прочесть… Вот меня и интересует, как можно прочесть даже пару абзацев великих философов и продолжать жить как прежде? Как по+ лучается, что стоят тома сочинений, изданные огромными тиражами, и люди проходят мимо? Влияние оказывается невозможным, потому что, грубо говоря, не во что вливаться вливаемому в результате влияния. А как создаётся эта сфера, которая может принимать вливаемое? Как закрыва+ ется этот сосуд от влияний? А может быть, влияний нет не только у боль+ шинства, но и у всех, ведь говорил же Лейбниц, что монада не имеет окон, а «сходные мысли» мыслителей объясняются сходным положением в уни+ версуме?
— Кого можно назвать вашим философским учителем? А. В. Перцева? Расскажите поподробнее о его философской деятельности?
— Я слушал лекции Перцева, когда учился в УрГУ, но нельзя назвать его моим учителем. Я ведь в разное время слушал и Рикёра, и Деррида, и Бибихина, но откуда такое предпочтение фонетической передаче слов письменной? Гегеля, Маркса, Хайдеггера, Ницше я читал больше, чем всех отечественных философов, вместе взятых, и больше всех, чем кого+ либо когда+либо мне удалось послушать. Вообще, я считаю, что мне по+ везло со временем и местом учебы. С одной стороны, это ещё был СССР, когда платились стипендии и можно было учиться, не подрабатывая, с другой стороны, система уже настолько ослабла, что всякий дисципли+ нарный и идеологический контроль отсутствовал. Было время, когда я посещал университет 3–5 раз за семестр, что не помешало мне получить красный диплом. Зато я лежал в общежитии и читал первоисточники. Чи+ тал Платона и Канта, Шеллинга и Шелера, Маклюэна и Шопенгауэра, Шестова и Бодрийяра… В Москве себе трудно такое представить. В МГУ учат «светила», а значит, надо их посещать и читать, и контроль за первым философским факультетом страны оставался. Я общался с коллегами, и они мне завидовали: «Вот, — говорили они, — а нам приходится ходить на какие+то семинары, слушать какие+то лекции, обязательная посещае+ мость…» Разительно отличались и наши научные работы. Я часто писал в форме эссе. Это вообще бы никто не допустил в МГУ к защите. В цити+ руемых источниках у меня никогда не было ни Нарского, ни Ойзермана, никого из интерпретаторов, тем более советских. Только Гераклит, Пар+ менид, Кант, Гегель, Хайдеггер и др. В худшем случае Леви+Стросс или Хабермас какие+нибудь. Есть так называемая «пирамида обучения», со+ гласно которой лучше усваивается материал не из лекций, а из дискуссий. Вот в этом смысле философское общежитие — это лучший учитель: «Спа+ сибо партии родной за пятилетний выходной!» Проходишь, бывало, в три часа ночи по коридору: из одной двери слышны звуки хорошего джаза+ cool, из другой доносятся стихи — это собрались пять пьяных мужиков и читают друг другу Гумилёва и Блока, а в третьей — какой+то яростный спор. «А куда ты денешь трансцендентальное единство апперцепции, а?» — кричит один. А другой отвечает: «А оно снимается в абсолютности субъ+ екта!» И так день за днём, ночь за ночью, пять лет. А выше дискуссий в «пирамиде обучения» стоит «обучение других». Когда объясняешь дру+ гому — самый лучший метод. Я репетиторствовал, преподавал, писал дипломы и рефераты. Тогда не было Интернета, чтобы скачать рефе+ рат или курсовую. Все работы были авторские, хенд+мэйд, точнее, из го+ ловы — брейн+мэйд. Я написал штук 25 дипломов и 5 диссертаций на заказ, курсовые и рефераты — не считал. Вот в работе над всем этим я и учился.
— Каково, на ваш взгляд, развитие философии в провинциальных ву# зах? Можно ли найти в них неоправданно забытые имена?
— Только там их и надо искать. Кто+то сказал же, что гении рождают+ ся в провинциях, а умирают в столицах… Шутка. Хотя сейчас благодаря Интернету вообще уничтожается оппозиция столичности и провинциаль+ ности, на мой взгляд, следующий «изм», который придёт после постмо+ дернизма, будет требовать имперскости, столичности. Он будет отрицать провинциальность, маргинальность и всякую нетождественность, свой+ ственные постмодерну. Никакой мутности, полутонов и полунамёков. Чистота смысла, тождества, благородство происхождения вместо пост+ модернистских мутаций и влияний контекста. Отвага, риск и смелость суждений, никаких самокомментариев, самооговорок, кавычек и само+ стираний, как в постмодерне. Так что забудьте провинцию… С другой сто+ роны, имперский язык центра просто сам мутировал в постмодерн, кото+ рый сейчас сам есть признак столичности и интеллигентности. Тогда на+ стоящее самовитое живое слово надо искать в деревне? Вряд ли. Что не в традиции — то плагиат, без механизмов трансляции духа деревня будет да+ вать чудаков, не более. Тогда стоит ли расселять столицы, бежать в глушь, предаваться эскапизму? Хотя эскапистское существование — это совсем не то, что «провинциальный вуз», который есть просто плохая копия вуза столичного, но и оно возможно только на основе предшествующих ран+ них практик трансляции духа. Куда ни кинь — всюду клин. Так что не знаю я, где искать имена, забытые и незабытые. Нет гарантированного привилегированного места. Дух дышит, где хочет.
— В СМИ вас называют «Франкенштейном политтехнологий»… Вы яв# ляетесь практикующим политическим консультантом, работая с так называ# емыми народными логиками, манипулируя которыми можно добиться любых результатов. Каково, на ваш взгляд, соотношение «народной философии» и «народной логики»?
— То, что сейчас называется политическим консультированием и по+ литическими технологиями, в Древней Греции называлось софистикой. Ведь софисты за деньги занимались тем, что обучали способам манипуля+ ции общественным мнением. Поскольку я провёл более чем 200 предвы+ борных кампаний различного уровня, связанных с такими манипуляция+ ми, то я софист. У нас сложился отрицательный образ софиста из+за вли+ яния Платона. На самом деле Платон дал искажённую картину. Лишь недавно стали появляться исследования, которые сначала реабилитиро+ вали софистов и показали, что без них вообще никакая древнегреческая философия не могла бы состояться, а потом пошли исследования, кото+ рые вообще поднимают софистов до уровня равной альтернативы Парме+ ниду и Платону. На русский язык переведено одно из таких исследова+ ний — «Эффект софистики» Б. Кассена. Правда, лично я с ним не согласен, а именно с тем, что софистика — это противостояние логоса — бытию, литературы — онтологии. Я считаю, что и там, и там есть онтология, толь+ ко разная. Что касается непосредственно вашего вопроса о соотношении «народной философии» и «народной логики», то стоит для начала разде+ лить «философию народа» и «народную философию». «Философия наро+ да» открывается в творчестве лучших поэтов и мыслителей этого народа, а «народная философия» в пословицах. Что такое пословица? Это слово — буквальная калька с греческого — аналогия. А что такое аналогия? Это подмеченные матричные общие процессы в нескольких разных по види+ мости феноменах. «Общее» выдаётся за «постоянное», за бытие. Аристо+ тель называл бытием единство аналогий. Кстати, ещё 200 лет назад боль+ шинство населения России говорило только пословицами и поговорками. НЕ говорить пословицами — считалось признаком аристократизма и об+ разованности. Постепенно образованность коснулась всех, хотя на место поговорок и пословиц пришли штампы, идиомы и то, что я в одной из лекций назвал «народными логиками», то есть довольно длинные, но ус+ тойчивые конструкции, дающие объяснения разным ситуациям и пока+ зывающие способ действия в них.
— Что вы можете сказать о будущем гуманитарных технологий (на па# мять приходит проект культуроники М. Н. Эпштейна — прикладной гумани# тарной науки)?
— Я очень уважаю Михаила Наумовича, особенно те его работы, где он феноменолог, а не идеолог, но насчёт культуроники с ним не согласен. То есть я легко признаю, что у гуманитарных технологий есть будущее, и довольно светлое (грядёт расцвет различных консалтингов, психологий и прочих школ, сект и культурных форм), другое дело: лично я против тех+ нологий как самоцели вообще. Истинная философия — это вступление в неведомое, риск, прыжок в будущее, а технология — то, что уже возни+ кает потом: алгоритмы, методы, проложенная колея. Всё это облегчает жизнь, экономит время, но есть одно «но» — это уже не философия.
— Что вы можете сказать о смерти политологии? Известно, что терми# нологическое противопоставление примата политтехнологической практи# ки над политологической теорией ни к чему не обязывает, поскольку не суще# ствует чистой практики, не замутнённой какой#нибудь теорией. Каков, на ваш взгляд, статус политологической науки в рамках философских инсти# туций?
— «Смерть политологии» означает, что всевозможная понятийная рухлядь типа «демократии», «диктатуры», «правых», «левых», «либерализ+ мов», «социализмов» и «консерватизмов» должна быть выброшена на по+ мойку. Эти понятия ничего не ловят, с помощью их ничего нельзя понять, они используются только как ярлыки в процессе манипуляции. Но в то же время я не уверен, что нам нужны новые понятия вместо старых, время понятий вообще прошло. Политология с момента своего зарождения, до+ вольно позднего в сравнении с другими, была наукой, плетущейся за практикой. Одно дело — «философия права», философия государства и общества, которые устанавливали основопонятия, рисуют идеалы, и со+ вершенно другое — политология, которая должна была изучать всю эмпи+ рию политических режимов в их динамике. Когда великие утопии стали умирать, то исчезло целеполагание политической практики, власть стала просто борьбой за власть, а все политические теории — ресурсом. Поли+ тическое сознание стало политической материей, сырьём, коробкой с инструментами для практиков и их войн. Я написал книжку «Практика против теории», где показал, что анализ, теория, созерцание идут на по+ воду у созерцаемого, они ре+активны, тогда как практика (когда она не технологична) может быть поэтичной, то есть может творить из ничего, отрываться от фактичности, от сущего и быть источником социальных и иных инноваций.
— Как вы относитесь к тезису современного русского философа Ф. И. Ги# ренка о том, что в наше время мыслит не философ, а менеджер?
— Это похоже на то, что я только что сказал, отвечая на ваш вопрос о практике и теории. Однако, возможно, что Гиренок имел в виду нечто совсем другое, ведь он рассуждал о соотношении «мысль — текст, публи+ кация» и о мыслителе и «менеджере мысли». Если же под менеджментом понимать целерациональную деятельность (как менеджмент на произво+ дстве, в бизнесе), то там нет никакого мышления, ибо мышление не есть целерациональная деятельность, о чём не раз говорил тот же Фёдор Ива+ нович.
— Говоря о различении «народной философии» и «философии народа», вы невольно утверждаете о существовании национальной философии — од# ного из философских идолов. Можете прояснить свою позицию?
— Я не за то, как это можно встретить сейчас сплошь и рядом, чтобы «у народа была своя философия», я за то, чтобы, если можно так выра+ зиться, «у философии был народ». Если быть ещё более точным, каждый народ должен завоёвывать себе место в истории Бытия и в мыслящей и отвечающей Бытию философии. Причём он должен тратить на это силы как народ, одиночка такое место не завоюет. В его последнем рывке скон+ центрирована вся мощь народа, его усилия, все его прежние инвестиции. Поэтому философы, пророки и поэты — сыны народа, но в то же время они уже и не принадлежат народу, их народ принадлежит им, поскольку он исполняет, как подданный, тот приказ, который философ, пророк, свя+ той, поэт сами, в свою очередь, почерпнули из над+народной, ино+род+ ной сферы. Не философия выражает бытие народа, а народ выражает фи+ лософское Бытие, если такой счастливый великий миг (по историческим масштабам — эпоха) ему удаётся. Чтобы было более понятно, то я скажу, что, будь моя воля, я бы тратил на философское образование не меньше, чем на оборону. Я бы посадил всех зэков в одиночки и вместо ненужного труда заставлял бы их прочитывать по 50 философских первоисточников в год, а весь стабилизационный фонд пустил бы на переводы и издания философских книг, которые бы продавались в каждом ларьке как водка. И так далее. Что бы это дало? Не знаю, что в социальном, экономическом и политическом плане, но знаю, что это усилие дало бы, возможно, не+ сколько великих философов через сколько+то лет, а эти философы изме+ нили бы облик и Земли, и истории, создали бы мир, в котором, может, уже бы и не было места ни социальному, ни экономике, ни политике. И такой подвиг, такой поворот — это лучшее, что может случиться в судьбе наро+ да. Раз уж все народы смертны, то смерть со славой лучше, чем смерть от обжорства гамбургерами, тем более что даже это нам не грозит, скорее уж — издыхание от голода, холода, трудов, военных тягот, мягкого и жёст+ кого геноцида, ассимиляции другими пассионариями.
— Вы написали книгу «Суверенитет духа», в которой обобщили свои по# литические и философские взгляды. Можете дать аннотацию книги? Когда планируется её издание?
— Трудно сказать, что в «Суверенитете духа» я обобщил свои взгляды. У меня и «взглядов»+то нет. Мышление работает как инструмент додумы+ вания. Приходит некая мысль неизвестно откуда, и я её обдумываю, доду+ мываю, передумываю. Назвать её «моей» я не могу. Другое дело, что когда потом, задним числом, смотришь на то, что сделано, то обнаруживаешь, что в книге есть несколько общих мотивов. Название книга получила по одному из них. Я разными способами доказываю, что суверенитет госуда+ рства держится на духовных основаниях, а не на атомном оружии, не на сильной экономике, не на политике и дипломатии. Поэтому философы, святые и поэты важнее для страны, чем все полководцы, министры и оли+ гархи. Особенно это актуально сейчас. Мир ждёт нового «изма», в мире нет духовного лидера. СССР и США эту роль последовательно утратили. И если Россия сможет встать на это свято+пусто+место, то она спасёт и се+ бя, и мир. Сама книга как препринт уже издавалась в 2005 году. В новом, дополненном и переработанном, виде она выйдет в июне 2007 года.
— Во многих из опубликованных вами книг вы выступаете как соавтор. Как вы относитесь к опыту написания философских произведений в соавто# рстве (наиболее яркие примеры: тандем Делёза и Гваттари во Франции и Ма# мардашвили и Пятигорского в СССР)?
— Как известно из постструктурализма, автор умер. А лучший способ уничтожить что+либо, если опять+таки исходить из постструктурализма, это удвоить, утроить, удесятерить феномен. Увеличение количества авто+ ров — способ стирания автора. Кто+то использует другие стратегии, псев+ донимы например. Я тоже часто пишу под псевдонимами. Проблема в том, что я не могу, морально и физически, ставить своё одинокое имя пе+ ред или после текста просто потому, что это не мой текст. Я не хочу нести за него ответственность, он всегда нечто не то, что я хочу или могу. Я не хочу, чтобы обо мне судили по моим текстам (сам я, например, о других никогда не сужу по текстам), я не хочу нести ответственность за то, что может случиться при чтении (или после чтения) текста, подписанного мной. К тому же я уверен, что через какое+то время я уже буду писать что+ то другое, а кто+то намертво меня проассоциирует с тем, что я думал ког+ да+то… Вот так с помощью соавторов я бегу определённости. Хотя сейчас я понимаю, что всё это ерунда и не стоит того, чтобы «заморачиваться». Вообще все эти соавторства, в том числе и те, что вы упомянули, вызваны внешними самому мышлению причинами. Прежде всего они обусловле+ ны законами публичности. То, что текст публикуется, что мысль вообще представляют как некую книгу, текст, накладывает свой отпечаток. Иног+ да это требует и соавторства. Не обращайте на это внимания, а читайте ЧТО и КАК написано, а не КТО написал и СКОЛЬКО этих «кто».
— Над чем вы работаете сейчас? Что у вас планируется в будущем?
— У меня лежит штук десять книг в незаконченном варианте. То есть по 50–100 страниц текстов на определённую тему. Если бы у меня был ме+ сяц свободного времени на каждую книгу, то я бы их привёл в порядок и мог бы выпускать в свет. К сожалению, месяц — непозволительная рос+ кошь. Вынужден зарабатывать на хлеб с маслом и кормить большую семью. Хотя любой олигарх, дав мне содержание, сделал бы для себя ду+ шеспасительный поступок, а заодно сохранил бы своё имя в истории на какой+то момент… Шутка… Ходишь по старым кладбищам и видишь ог+ ромные могилы каких+нибудь «купцов первой гильдии» и «надворных со+ ветников». Их имена сейчас никому ничего не говорят, а ведь когда+то они вершили судьбы России. Кто через сто лет вспомнит имена нынеш+ них богатеев? А если и вспомнят, то словами проклятий… А если серьёз+ но, то есть несколько тем, которые меня волнуют.
В области философии — это выявление черт того, что будет после постмодернизма. В области политологии — новый политический дис+ курс, то есть выработка, если это вообще возможно, абсолютно нового политического языка взамен устаревших «диктатур» и «демократий». В области политических технологий и пиара — рисковые стратегии, искус+ ство провокаций и событий. В области психологий — развитие идей, ко+ торые я уже высказал в книге «Антипсихология». В области экономики и менеджмента меня интересует проблема режиссируемых кризисов. У меня есть даже название для книги: «Бизнес в стиле панк». Я выделил более двадцати сил и субъектов, которым в мире выгодны кризисы и нестабиль+ ность по экономическим, как правило, мотивам. И я анализирую их стра+ тегию и тактику. Оказывается, очень многие заинтересованы в нестабиль+ ности, и различные кризисы отнюдь не случайны.
Кроме того, я всю жизнь очень интересовался историей. И довольно на серьёзном уровне могу написать новаторские исследования по некото+ рым периодам из истории России. Заделы и материал есть. Но когда же я до этого доберусь? Или вот ещё проект: я побывал примерно в двадцати странах мира и практически во всех регионах России, в шестидесяти, как минимум. Дневники и путевые заметки у меня сохранились. Я издал «Ки+ тайский дневник», и он пользовался популярностью. Но таких дневников
я могу издать много. Это не просто путеводители и субъективные впечат+ ления. Это и философские эссе одновременно. Лежат тома черновиков, заделов, кусков, а жизнь уходит на всякую ерунду! Я уж не говорю, сколь+ ко у меня всяких комментариев к текстам великих философов! Но кому всё это нужно? Помню, когда был студентом, часто ездил в поезде из Ека+ теринбурга в родной Новокузнецк, и в плацкартном вагоне попутчики спрашивали, на кого я учусь. Пару раз сказал, что на философа… Один раз пришлось всю дорогу объяснять, что это такое и оправдываться насчёт то+ го, какая от этого «польза». А другой раз меня натурально чуть не убил ка+ кой+то шахтёр, который ехал к сыну на свиданку на зону. Он даже ничего не говорил. Просто, как услышал про философа, хряпнул пару стаканов и сказал, что я до дома не доеду… Потом уж я предпочитал называть себя ис+ ториком, журналистом, археологом, кем угодно… И вот, несмотря на всё это, я категорически не отношу себя к «интеллигенции», той самой, кото+ рая ненавидела народ, хоть в царские времена, хоть в советские, хоть в ан+ тисоветские... Пусть это пафосно прозвучит, но я люблю наш народ, луч+ ший в мире народ. Всё, о чём я думаю, — ради него, ради выявления того, что именно заставляет его любить, ради того, чтобы он сам себя любил, чтобы другие народы его любили.
Беседовал Алексей Нилогов
ВЛАДИМИР МИРОНОВ
Философия как самосознание культуры
Владимир Васильевич Миронов (род. 1953) — современный русский философ, специалист в области философии культуры и онтологии. Доктор философских наук, проректор МГУ имени М. В. Ломоносова, декан философского факультета, заведу ющий кафедрой онтологии и теории познания. Председатель экспертного Совета ВАК по философии, социологии и культурологии, председатель докторского диссер тационного Совета по специальности «Онтология и теория познания», «Философия науки и техники» при МГУ, председатель учебнометодического объединения по фи лософии и политологии, вицепрезидент Философского общества РФ. Автор таких книг, как «Образы науки в современной культуре и философии» (М., 1997), «Филосо фия и метаморфозы культуры» (М., 2005), «Университетские лекции по метафизи ке» (М., 2005, в соавторстве). «В работах Миронова отстаивается тезис о том, что философия является искусством интерпретации, выступая как герменевтичес кая деятельность. Поскольку в философии интерпретация осуществляется на вто ричном или на ещё более удалённом от реальности “nуровне”, то она выступает как “интерпретация интерпретаций”, как творческая деятельность, приумножающая смыслы»27. Наша беседа с Владимиром Васильевичем состоялась в рамках проекта «Современная русская философия»28.
— Владимир Васильевич, каких современных русских философов вы могли бы назвать?
— Я не большой сторонник выделения философии по национально+ му признаку. Считаю, что философия в России возникла достаточно позд+ но, являясь частью общего исторического процесса развития философии в мире. В отличие от Зеньковского, который ведёт её историю чуть ли не от юродивых, думаю, что не существует особого феномена русской фило+ софии и она вполне вписывается в общеисторический философский про+ цесс. Конечно, русская философия имеет свои особенности, одной из ко+ торых является её связь с литературой и публицистикой. В моём утверж+ дении нет никакого самоуничижения, ибо в каждой культуре есть свои отличия и особенности. Величайшая часть российской культуры — её ли+ тература, и то, что философия в России была связана с ней, лишь придаёт ей собственное лицо. После Гегеля в европейской традиции во+ обще вряд ли удалось создать столь же мощную теоретическую фило+ софскую систему. В России философия реально возникает по следам Гегеля, а потому неизбежно в концептуальном смысле разрабатывает те же идеи, пусть и с некоторой спецификой. Слово «современность» в термине «современная философия» — если он указывает только на временную принадлежность философов, — тривиально и не заслуживает обсуждения.
— Согласен с вами, что этот термин весьма спорен и включает в себя по преимуществу философию последних 30 лет. Однако термин «история совре# менной философии» ещё более парадоксален, но, как кажется, имеет важный прогностический концепт?..
— Контекст современности философии я бы поставил под радикаль+ ное вопрошание. Для меня философия вневременна. Философия в широ+ ком значении слова — смысловое, вневременное пространство, в котором все современны. Это пространство задано нам возможностью вести диа+ лог как с ныне живущими философами, так и с давно умершими. Поэто+ му в философии Платон так же современен или более современен, чем ка+ кой+нибудь «современный» философ с соседней кафедры. Мне кажется, несколько наивно выделять лидеров в современной русской философии, поскольку сразу возникает вопрос о селекционном признаке: скандаль+ ность, популярность, раскрученность. Названные признаки внешние по отношению к сути философии. Что же касается глубины философских размышлений, простите за тавтологичность, их философичности и куль+ турной значимости, то именно из современности это сделать невозмож+ но. Лет через 100–150 в русской культуре, может быть, останется несколь+ ко имён из нашего времени, а может быть, ни одного, и никакой трагедии в этом нет. Представьте себе сегодня философа, живущего по образу и по+ добию Канта (а такие наверняка есть)… Но кто же о нём знает? В истории остаются именно Канты, тогда как огромное количество философствую+ щих подвергается забвению, хотя в своё время они могли быть популяр+ нее новоявленных Кантов. Конечно, есть имена наподобие Валерия По+ дороги, популярность которого — часть хорошей институциализации, од+ нако вряд ли он сам к этому сознательно стремился.
— Институциализация Подороги обеспечивается наличием собственной школы — так называемых «подорожников»…
— Насчёт школы я бы поспорил. Что означает школа? Это некий институт последователей или сторонников концепции, которые таковы+ ми сами себя объявили, как правило, после смерти той или иной фигуры. Философским адептам не хватает сил для самостоятельного философ+ ского мышления, что вынуждает их записываться в ученики к мэтрам. Не думаю, что после античности были серьёзные философские школы. Более того, именно «последователи» чаще всего искажают идеи оригинального мыслителя, опираясь на значимость имени. Для самого философа, за ко+ торым «следуют», — это безразлично, его концепция — продукт самобыт+ ного творчества. Неогегельянство — это уже не Гегель, как и неокантиан+ ство — это уже не Кант, а социал+дарвинизм или неофрейдизм — вообще трудно назвать концепциями Дарвина и Фрейда. Я бы так сказал, пере+ фразируя библейскую притчу: «бойся последователей, тебя развиваю+ щих». Нередко «школы» создаются искусственно, как было в советское время, когда кто+то из философов назначался «отцом школы», и за ним выстраивалась цепочка из аспирантов. Я очень скептически к этому отно+ шусь. Философия — свободное мышление, которое вовсе не обязательно к чему+то и кому+то привязывать. Она носит принципиально индивиду+ альный характер. Корпоративное философствование — нечто странное даже для самой философии.
— А кого же ждать?.. Ведь соответствующую философско#историче# скую выборку будут делать конкретные люди — историки философии. Их предпочтения лягут в основу периодизации и систематизации русской фило# софии.
— История сама расставит всё по своим местам. Причём сделает это не спонтанно. Недавно я пересматривал книгу Рэндалла Коллинза по фи+ лософии социологии, в которой он высказывает любопытную вещь отно+ сительно известности тех или иных философов во времена их жизни. В чём суть его концепции? В том, что история философии выстраивается для будущих поколений через десятилетия и даже века после смерти конкретных мыслителей. Есть философы, которых почти не знали их сов+ ременники, но которых по тем или иным причинам «выбросили» на по+ верхность будущие историки философии. Многих философов открывают довольно поздно и, начиная обильно цитировать, переносят их влияние и значимость на ту эпоху, в которой они жили, как будто бы они всегда бы+ ли так известны. Вопрошу ещё раз. Многие ли из современников знали о Гегеле или Канте, тем более считали их выдающимися философами? Нас+ колько я помню, у Гегеля были проблемы с посещением его лекций. Так и сегодня. Я не уверен, что те люди, которые сегодня популярны, окажутся в истории. Может быть, я скажу кощунственную вещь, но у нас нет гаран+ тии, что, например, рядом с Пушкиным не было поэта сопоставимого масштаба. История остановила свой выбор на Пушкине, но история — это лишь один реализованный вариант развития. То же самое и в науке. Хорошо известно, что у Ньютона в научном плане были конкуренты, но история их не приняла (правда, сам Ньютон приложил к этому усилия). Философия создаётся сегодня, развивается через современные размыш+ ления, но история философии творится завтра. Ученики и историки фи+ лософии будут интерпретировать тексты своих современников, и их соб+ ственная история весьма непредсказуема.
Ещё один пример. Крупнейшего философа XVIII века Христиана Вольфа в курсе истории зарубежной философии мы практически не изу+ чаем. Если же вы возьмете философов XVIII века, то имя Вольфа будет одним из самых значимых, а его книги — настольными для нескольких поколений философов. И ещё один аспект. У Льва Гумилёва есть термин «предтеча» относительно людей, которые готовят почву для дальнейших исторических преобразований и без которых последние невозможны. О них в истории забывают. Их затмевают фигуры «исполнителей». Фило+ софия — не исключение. Новое в философии может готовиться годами и столетиями. Предтечи в философии могут проделать огромную система+ тическую работу, подготовить почву для ярких философских решений и пересмотров, но сами практически исчезнуть из истории. Вместо предтеч останутся люди, которые исторически и волею случая оказались на вер+ шине этих поворотов. Внутри самой истории философии можно делать настоящие открытия, особенно — в XIX веке, от которого сохранилось много текстов. Достаточно покопаться в библиотеке, и вы обнаружите массу произведений, упущенных в своё время.
— Не кажется ли вам, что так называемая альтернативная история фи# лософии зачастую состоит из второстепенных представителей, представляя собой свалку тупиковых и утопических идей?..
— Есть официальная история, зафиксированная и конвенционально принимаемая нами как единственная, а есть история как прошедшие со+ бытия, как ушедшая действительность, — как то, что было. Вторая исто+ рия гораздо объёмнее. Но мы склонны считать историей только то, что вписано в соответствующую традицию. Любимое выражение историков: «в истории нет сослагательного наклонения». Для философа и филосо+ фии это совсем не так или не должно быть так. Философия в качестве осо+ бого типа мышления, в отличие от созданной истории философии, нахо+ дится вне времени, а потому её «второстепенные» представители могут быть признаны гораздо глубже «первостепенных», которые стали таковы+ ми по самым разным причинам. Философия в её истории — это не свалка идей, а совокупность отрефлексированных смыслов, большая часть из ко+ торых осталась невостребованной.
Приведу пример из иной области. Сейчас идёт «псевдомодерниза+ ция» образования и науки. Модным становится слово «проект». Говорит+ ся о том, что финансироваться будут только конкретные проекты. Но при этом финансирование осуществляется сегодня. Как оценить научность проекта? Его практической реализацией. Поддерживаются, таким обра+ зом, проекты, дающие в первую очередь быстрые результаты. Но ведь на+ учный проект может быть реализован и через сотню лет. Государство должно осознавать, что наука рискованна и что реализация некоего про+ екта через сотню лет может окупить все нынешние затраты. Более того, лаборатории и институты, которые, как иногда кажется внешне, работа+ ют впустую, на самом деле могут обеспечивать почву для будущих откры+ тий. Точечным финансовым вливанием науке не всегда можно помочь, она в целом должна поддерживаться обществом. Если мы не будем иметь этих внешне пустых лабораторий, то мы не будем иметь соответствующе+ го фона людей, которые далеки от серьёзных открытий или которые обес+ печивают такие открытия. В философии ситуация аналогична. Это еди+ ное целое, внутри которого есть и академическая философия, и филосо+ фия, находящаяся за стенами университетов. Здесь всё необходимо, и все части взаимодополняют и обеспечивают друг друга идеями. Поэтому не+ сколько наивно говорить о том, что истинная философия находится за стенами университетов, или, напротив, о том, что она находится лишь в этих стенах.
Для развития философии необходима широкая и свободная почва, позволяющая философствовать, и от уровня этой, прежде всего внутрен+ ней, свободы, которая, конечно, опосредуется и внешними предпосыл+ ками для свободы, зависит появление того или иного гения внутри фило+ софской мысли. Это не мои собственные размышления. Об этом очень давно и красиво по отношению к античности писал Гегель, которого, к сожалению, читают всё меньше. И чем более философична эта почва, тем более интересными будут и мыслители, взращённые на ней, даже если их нечто не устраивает в организации философского мышления. В любом случае важен фон, который создаётся и академической, и неакадеми+ ческой философией, однако это вовсе не означает, что таких ярких фигур нет внутри самой академической и факультетской философии.
— Пожалуйста, назовите ещё имена.
— Если брать философию культуры, то я бы назвал Александра Льво+ вича Доброхотова. По натуре он человек очень мягкий, неагрессивно пуб+ личный, может быть, поэтому не так раскручен, но это настоящий фило+ соф. Подорогу я уже упоминал. Бесспорно, Фёдор Иванович Гиренок, ажиотаж вокруг которого возник не по его вине. Алексей Михайлович Руткевич. Обязательно нужно упомянуть имена Геннадия Георгиевича Майорова и Карена Хачиковича Момджяна. На мой взгляд, совершенно оригинальным и ярким мыслителем является декан философского фа+ культета Екатеринбургского университета Александр Владимирович Пер+ цев, в работах которого блестяще сочетается теоретичность и публицис+ тика, сложность и простота.
— А среди, условно выражаясь, маргиналов?..
— Не люблю модных слов, ибо мода затмевает реальное содержание. Что значит маргинал? Есть классическое понимание, которое связано с тем, что это человек, находящийся как бы между двумя культурами. По отношению к обществу маргинал — деклассированный элемент, потеряв+ ший общественный престиж и т. д. А теперь перечислите в уме тех, кого мы называем маргиналами у нас. Это, как правило, профессора и доцен+ ты известных и престижных вузов. В чём проявляется их маргинальность? В наличии некоторых более или менее оригинальных идей? Но это нор+ мальная ситуация в философии и в принципе не может ничему противо+ стоять, ибо философия слишком богата и в ней, как это ни прискорбно для считающих себя маргиналами, всё уже было. Гиренок вполне инсти+ туализирован так же, как и Подорога, — так же, как были институализи+ рованы и Мамардашвили, и Щедровицкий, — так же, как вполне гармо+ нично вписались в общую систему и постмодернисты разных направле+ ний, занимающие свои профессорские должности в Сорбонне. Если вы хотите, чтобы вас считали маргиналом, сознательно откажитесь от звания профессора, доктора, не учитесь на факультете, не защищайте диссерта+ цию. Если вы маргинал, то откажитесь от всего. Многие же хотят быть и маргиналами и при этом защищать кандидатские и докторские, — по не+ ким, часто ими же критикуемым, правилам получать зарплату за «офици+ альную» работу в качестве профессора. А иногда философа называют мар+ гиналом другие. Всё это игра, симуляция, и пусть она будет, только мы должны понимать её условность внутри философии. Поэтому внутри на+ шей философии я не могу выделить маргиналов, может быть, Галковский, который со скандалом окончил факультет и для которого сам этот факт является фактором творческой раздражённости по отношению к послед+ нему, а также вообще к философским институтам?..
Другой аспект этой проблемы. Играть легче, чем осваивать знания, поэтому термин «маргинальность» — лишь прикрытие для отсутствия знаний в соответствующей области. Кант обозначал людей, рассуждаю+ щих на основе принципиального незнания и нежелания знать, термином «мисологи», противопоставляя их философии, основанной прежде всего на знании. Такие мисологи или маргиналы данного типа всегда очень критично настроены, но их критичность, по выражению Ю. А. Петрова, происходит от слова «крыть», «покрывать», отчего они занимаются не конструктивной критикой, а «крытикой», развешивая направо и налево обвинения. Вряд ли кому+то придёт в голову зайти на кафедру квантовой физики и заявить на основании своей маргинальности, что квантовая фи+ зика — лженаука. А вот на философские кафедры «заходят» и даже рабо+ тают на них. Не случайно маргиналы в философии — это люди, которые серьёзно философию не изучали, — пришедшие из филологии или других сопряжённых с философией дисциплин. Им кажется, что они говорят но+ вые вещи, но философы молчат, ибо им это уже давно известно. Это ещё более распаляет пыл маргиналов, и они философствуют и философству+ ют. А если при этом их понимает наименьшее количество слушающих и читающих (в идеале лишь он сам), то цель достигнута — перед нами на+ стоящий философ+маргинал.
— Георгий Степанович Кнабе?
— Безусловно. Спасибо, что вы напомнили о нём. Кнабе — личность исключительная. Он был одним из тех, кто стал работать на нашей кафед+ ре — кафедре теории и истории мировой культуры. Георгий Степанович — человек на 120 процентов немецкого склада и очень требователен к орга+ низации процесса преподавания. Я с ним много общался. Несмотря на то что он человек уже преклонного возраста, его книги создают обратное представление — молодого человека, который, например, оценивает роль «Битлз», исследует проблему повседневности, агрессивность послевоен+ ной культуры — подростковой в своей сути. Кнабе — типичный образец классического профессора.
— Что можно сказать о конкурентоспособности современной русской философии? Легко ли её будет перевести на иностранные языки и пропаган# дировать за рубежом?
— Вопрос перевода не главный и, конечно, решаемый. Не надо демо+ низировать трудности перевода как с русского, так и на русский язык.
Каждый язык труден для перевода, но тем не менее мы переводим. Воп+ рос идёт о взаимопонимании и уважении к своему языку и об отношении к нему в мире. Язык уважают в другой стране, когда уважают саму страну. В 1950—1960+е годы конференции по физике всегда включали русский язык в качестве рабочего, и не мы говорили по+английски, а английские учёные учили русский, чтобы говорить на языке страны, в которой физи+ ка или математика достигла таких вершин. Если мы будем отказываться говорить на своём языке, то в мире его забудут. А сейчас на многих кон+ ференциях, даже когда русский язык является рабочим, наши учёные предпочитают говорить на английском (хотя предусмотрен перевод), не думаю, что это правильно.
Теперь о взаимопонимании. В последнее время к нам на факультет приезжало много философов, среди них такие известные, как Альберт, Апель, Кристева и другие. Я несколько раз встречался с Хабермасом, дважды с Гадамером. На этих встречах выясняется любопытная вещь, что чаще всего на вопрос о том, кого из наших русских философов они знают, следует почти одинаковый ответ — Достоевский и Толстой. Иногда к это+ му добавляют ещё одно+два имени, но именно эти два представителя рус+ ской литературы позиционируются и как русские философы. И это не случайно, ибо, как я уже говорил, русская философия, особенно на ста+ дии своего формирования, органично вплеталась в русскую литературу, а собственно философские концепции были либо вторичны, либо в силу тех или иных обстоятельств непонятны или неизвестны в Европе. С дру+ гой стороны, это связано и с самой системой преподавания истории фи+ лософии в Европе, где студент может очень хорошо знать работы одного+ двух философов или какую+то идейную группу, но не слишком чётко представлять себе историю философии как таковую. В этом плане, как мне кажется, наша система преподавания истории философии имеет пре+ имущество, так как основана на полноте общефилософской историче+ ской картины.
Поэтому, если использовать термин «конкурентность», можно ска+ зать, что наша философия конкурентна по реализации философских идей и ничем не уступает западным образцам, но, конечно, отстаёт в распрост+ ранённости или, если хотите, — в собственной раскрутке, чему, безуслов+ но, способствует и понижение интереса к русскому языку, а значит, и к русской культуре. Думаю, что простой перевод русских философских текстов на другие языки вряд ли может здесь особо помочь, ибо в этом случае, добиваясь понимания на Западе, философы будут склонны, что часто и происходит, просто подделываться под тенденции западной фило+ софии или имитировать её. Серьёзного разрыва между западной филосо+ фией и русской нет. Думаю, что для философа, с позиции сущности самой философии, безразлично, насколько он распространён и популярен. Очень многие культуры неизвестны другим, даже соседним. Это нормаль+ но. Культура выступает достаточно замкнутым, по выражению Лотмана, локальным образованием, и именно это обеспечивает диалог культур. Ес+ ли бы всё было понятно друг о друге, то диалог не состоялся бы.
— Из постсоветских философов на Западе знают от силы трёх#четырёх, включая словенца Жижека, который пишет по#английски, и двух наших со# отечественников — Бориса Гройса, который давно живёт в Германии, и Ми# хаила Рыклина, больше печатающегося в Германии и во Франции, чем в Рос# сии. Очевидно, что нам крайне не хватает государственной поддержки в продвижении философской литературы за рубеж, аналогичной той, которую проводит Министерство иностранных дел Франции?..
— Когда я встречался с уже бывшим послом Германии в России, то упрекал его в том, что они не берут пример с Франции. Кстати сказать, и у нас на факультете самые тесные связи именно с французами. Вы пра+ вы — французы пропагандируют свой язык, в отличие от той же немецкой культуры, где обратная ситуация. Комплекс вины за фашизм порой дохо+ дил у них до таких парадоксов, что немецкие философы отказывались го+ ворить на немецком языке даже на тех конгрессах, на которых обсужда+ лись проблемы самой немецкой философии. Сейчас наш факультет будет разрабатывать программу по переводу отечественных философов на иностранные языки. При проведении международных конференций мы планируем выпускать материалы на рабочих языках.
— Почему на философском факультете отсутствует преемственность в преподавании русской философии? Обычно история русской философии заканчивается на Серебряном веке и чуть#чуть захватывает философию русского зарубежья. А где же курсы по советской, позднесоветской и пост# советской философии?
— На самом деле это не совсем так. Увлечённость Серебряным веком или иными философскими традициями, которые на десятилетия были от+ торгнуты от философского изучения, понятны. Это как бы второе откры+ тие. А вот проблему исследования советской философии вы затронули правильно. Наверное, уже пришло время оценить её развитие без идеоло+ гических клише. Никто не мешает сегодня факультетским преподавате+ лям читать курсы по советской или современной русской философии. То, что марксизм подавался как единственно возможная философия, было ошибочным. Но сам по себе марксизм — одна из крупнейших философ+ ских теорий, а фигуре Карла Маркса как социальному философу вообще вряд ли можно кого+либо сопоставить, может быть, лишь Макса Вебера. Кроме того, справедливости ради следует сказать, что идеи того же Марк+ са преподаются во многих курсах, а некоторые из них, о которых стыдли+ во не упоминают, фактически во многом на него опираются.
— Хотите сказать, что в преподавании марксизма без идеологических клише нет заинтересованности?
— Я думаю, нет. Концепцию Маркса знают не так уж хорошо. Вы думаете, что в советское время его знали назубок? Ничего подобного. Поскольку марксизм воспринимался как идеологическое клише, это ме+ шало объективному исследованию концепции. Поэтому имя Маркса и его идеи часто произносились как заклинания в том или ином месте. Ду+ маю, что время объективного исследования марксизма наступает именно сегодня, будучи актуально подкреплённым социально+экономической обстановкой в стране. Что касается специалистов по Марксу, то, к сожа+ лению, я знаю по+настоящему только одного из них, который работает у нас на факультете, — Георгия Александровича Багатурия. Есть ещё Вик+ тор Алексеевич Вазюлин, однако у него после крушения советской систе+ мы возникли серьёзные обиды, и он замкнулся в круге своих учеников и почитателей. Наверное, неплохо марксизм мог бы прочитать Ричард Ива+ нович Косолапов, который в советское время был не только учёным, но и крупнейшим советским идеологом.
— А помимо марксизма? У кого можно послушать лекции о Зиновьеве, Ильенкове, Мамардашвили, Щедровицком?
— Проблема специальных лекций об этих фигурах пока не стоит и вряд ли когда+нибудь будет поставлена. Слишком мало времени прошло с их смерти, и не думаю, что каждый из названных философов столь значи+ телен, чтобы по ним необходимо было читать отдельные курсы. У нас таковых нет даже по Гегелю или Соловьёву. Есть соответствующие кон+ цепции. Они используются. Например, по решению психофизической проблемы на современном уровне нельзя обойти дискуссию между Иль+ енковым и Дубровским, концепцию Ильенкова об идеальном и т. д. Щед+ ровицкий, безусловно, интересен как автор особого рода философской методологии, но вокруг неё слишком много последующего «философско+ го мусора». Далее я произнесу кощунственную, наверное, для вас, вещь о том, что Мамардашвили интересен как фигура нашей истории, но вряд ли уж он так оригинален, как это пытаются показать его последователи. Для меня Гегель или Кант, Соловьёв или Флоренский во сто крат интереснее и глубже. А. А. Зиновьев — прекрасный человек, как философ внёсший значительный вклад в развитие логики, в том числе и в организацию её преподавания в стране. Его работы последнего периода, как мне кажется, всё же являются философской публицистикой, а социологические терми+ ны больше метафоричны, чем наукообразны. С методологической точки зрения они имеют право на существование, но всё+таки представляют ин+ терес скорее для любителя.
— Может быть, прошло ещё слишком мало времени, чтобы говорить о преподавании советской философии?
— Возможно. Главное же — это попытаться вывести советскую фило+ софию из предшествующей традиции, проследить её исходные установки. В своё время я предлагал Владиславу Александровичу Лекторскому взять все номера журнала «Вопросы философии» и издать лучшие статьи из них отдельными книгами. Например, статью Эриха Юрьевича Соловьёва по работе Маркса «18 брюмера Луи+Бонапарта». Её и сегодня можно исполь+ зовать как методологическую в современной политологии. В журнале вы найдёте прекрасные статьи В. С. Швырёва, П. П. Гайденко и других оте+ чественных философов. Что касается области методологии и философии науки, то в ней мы были настоящими мировыми лидерами, абсолютно не уступая известным западным фигурам — Попперу, Куну, Лакатосу, Фейе+ рабенду. С другой стороны, мы и их меньше знали, но зато это обеспечи+ вало чистоту эксперимента. Иногда возникает даже ностальгическое чувство — взять и почитать хорошие философские работы, а не пропитан+ ные стилистикой постмодернизма тексты ныне живущих авторов.
В советской философии было всё — она не стояла где+то на обочине, на факультете почти на каждой кафедре можно было найти крупного фи+ лософа и специалиста. Это и давало повод философам от КПСС обвинять наших коллег то в позитивизме, то в увлечении экзистенциализмом, то в буржуазности социальной концепции. Посмотрите периодику тех лет. Философам доставалось, как никаким иным представителям науки. Чего стоил только один упрёк в период застоя о схоластическом теоретизи+ ровании!.. Конечно, в этих условиях многим приходилось «уходить» в более нейтральные области исследования, и прежде всего — в филосо+ фию науки.
— А вы ревнуете к тем временам, когда философский факультет был идеологическим, а в кабинете декана стояла «вертушка»?
— Нет, я не тоскую по тому периоду. Я застал уже время, когда по этой «вертушке» непрерывно звучала какая+то музыка. Как бы это высо+ копарно ни звучало — всё+таки мы действительно независимы. Наверное, можно предположить и даже стоит предположить, что не всегда так будет, но пока это именно так. Сегодня я как декан, как заведующий кафедрой, как философ, как профессор, как обычный человек могу читать тот курс, который хочу.
— Почему эмблемой философского факультета является сова (сыч, филин) гегелевской Минервы? Помнится, Ницше отозвался о сове Гегеля как об ужасном чудовище, подброшенном философии намеренно. По сути, любой философский факультет может избрать её своим символом, тогда как в философии есть много других зоологических метафор (например, змея познания у Ницше, можно предложить чёрную кошку или Чеширского кота познания).
— Символ змеи затаскан в медицине. Кстати, эмблема совы была предложена на конкурсе бывшим завкафедрой эстетики Яковлевым. Он сам её нарисовал — сова всем понравилась. Теперь все дарят мне сов, при+ чём самых разнообразных.
— Мне кажется, что символ совы связан с клишированным пониманием философии как отстающей от актуальных проблем современности. Ведь, по Гегелю, сова Минервы должна вылетать ночью, чтобы осмысливать произо# шедшее за день… Многие уповают на возрождение философии в статусе предвидящей опасные последствия тенденций современности.
— Философия не отстаёт, она стоит (если продолжать образ птицы — «парит») над действительностью, дистанцируется от времени, что позво+ ляет делать именно философские выводы, исходящие не из сиюминутных конъюнктурных соображений, а от имени Истины. Как только философ начинает оценивать какие+то современные события, его глубина рассуж+ дений резко падает. Одно из важнейших свойств философии — предуп+ реждение, но одновременное условие — дистанцированность от власти. Философ не может дать развёрнутых рецептов. Философ не тот, кто пере+ делывает мир, а скорее тот, кто его интерпретирует (буквальный перевод термина Маркса, а не объяснение) и предлагает своими интерпретациями воспользоваться, в том числе, может быть, и для его переделки. Как толь+ ко философия начинает тесно сотрудничать с властью и политикой, она идеологизируется, выполняет политические и идеологические заказы. Мы пережили всё это и хорошо помним, как людей вывозили на дачи пи+ сать очередную программу партии. Не хотелось бы, чтобы история обер+ нулась фарсом. Наиболее показательна в этом смысле история философ+ ского факультета МГУ. Когда он устраивает власть — его почитают, а ког+ да нет — его пытаются закрыть, причём не обязательно в царские време+ на. После Великой Отечественной войны открытый вновь философский факультет хотели закрыть, и лишь усилиями декана В. С. Молодцова это+ го не произошло. Я считаю, что философия в противоположность один+ надцатому тезису Маркса о Фейербахе всё+таки не переделывает мир, а предупреждает его. Будучи умной, власть, напротив, должна быть заинте+ ресованной в наличии интеллектуальной оппозиции, чтобы вести опере+ жающие дискуссии не на улице, а в аудиториях.
Вообще, в философию влезают все кто ни попадя — от политиков и академиков до домохозяек — и указывают, что ей надо делать. Человек может быть крупным физиком, академиком, как, например, Сахаров. Но именно в области физики. Когда же он входит в область социальной тео+ рии, то не является внутри неё столь же крупной фигурой. Однако у нас традиционно статус академика от любой науки позволяет вмешиваться в сферу философии, хотя я как философ в сферу незнакомой мне науки ни+ когда не вмешиваюсь. Вот недавно нас критиковали за издание книги под редакцией С. А. Лебедева, в которой одну из глав написал, кстати говоря, физик, доктор наук. Речь идёт о торсионных полях. Мой совет спо+ рящим: пожалуйста, разберитесь сначала внутри самой физики, в которой есть последователи данной теории. При чём же здесь философы? Я согла+ сен с тем, что материал о торсионных полях был поспешно вставлен в учебник, потому что в учебниках должен содержаться апробированный материал. Академик+физик или академик+биолог может легко критико+ вать философию — бросить сакраментальную фразу о том, что за всё в стране были виноваты философы и что философия сегодня не даёт нам, как на конвейере, ни Кантов, ни Гегелей. Кстати, Гегель хорошо подметил такую позицию: не каждый берётся шить себе сапоги, хотя видит мерку и очертание ноги, но каждый берется философствовать, потому что у него в голове что+то есть.
— Такая народная философия?
— Да, и переубедить в этом очень трудно уважаемых и умных людей. Ещё одно полное заблуждение состоит в том, что философию часто отно+ сят к гуманитарным наукам. Из+за этого парадокса больше всего страда+ ют студенты, которые, идя на философский факультет, думают, что это их спасёт от математики. Философия — не только и не столько гуманитарная наука. Она стоит между ними, опираясь на самые разнообразные средства постижения бытия, от религии до науки, от искусства до права.
— А как же быть с миллевским высказыванием о том, что наука сама се# бе философия?..
— Позитивистская позиция, идущая от Конта, противоречива. Гово+ ря об этом, они сами позиционируют себя как философы. Человек, отри+ цающий философию и выстраивающий систему аргументов против неё, уже является философом. В этом неуязвимость философии.
— Но и в то же время порочный круг, из которого трудно выбраться, что# бы оправдать себя как мизософа…
— Согласен.
— Какова дальнейшая история развития философского факультета? Из факультета выделились в самостоятельные факультеты сначала психологи, а затем социологи. Ждёт ли такая же судьба политологов?
— Гипотетически — да. Политология — вполне сформировавшаяся дисциплина. Стратегически это должно произойти, но для этого должно смениться поколение, а сама политология ещё должна определиться как теоретическая дисциплина. Если политология действительно научная те+ ория, то необходимо исследовать её основные структурные теоретические компоненты. Это большая проблема. Теория есть система идеализирован+ ных объектов, цель создания которых заключается в исследовании зако+ номерностей в чистом виде и их апробации на практике. Часто же она трактуется как прикладная к действующей политике дисциплина, как по+ литтехнология. Но где же тогда истина? Ведь политтехнологические ре+ цепты работают до тех пор, пока ситуация в политике стабильна. Как только стабильность исчезает, сразу же возникает вопрос об истине и об ответственности политтехнологов за предлагаемые конъюнктурные рецепты. Вопрос об истине является центральным в любой науке. Если политология сегодня может ответить на все эти вопросы, то она стала са+ мостоятельной дисциплиной. Но мне кажется, что пока связь её с фило+ софией даёт ей больше пользы, чем вреда. Близость политологии и фило+ софии (в отличие от Запада, где эта связь больше с юридическими фа+ культетами) хороша тем, что позволяет перебросить интеллектуальный мостик между философией, философией политики, имеющей давние тра+ диции, к современной политологии. В перспективе может вполне сущест+ вовать самостоятельный политологический факультет. Кстати, год назад в Санкт+Петербургском университете философский факультет превентив+ но (чтобы избежать отделения) переименовали в факультет философии и политологии.
— Давайте поговорим о ваших философских интересах. Кого из филосо# фов вы считаете своими учителями? Например, вы любите упоминать о Гада# мере и Хабермасе.
— Конечно, Георг Гадамер произвёл на меня колоссальное личное впечатление. Я встречался с ним два раза — один раз в 1998 году, а вто+ рой — в 2000 году на его столетнем юбилее. Тогда я вручил ему медаль почётного профессора МГУ. Моё понимание философии как наиболее свободной формы интерпретации — от влияния Гадамера. Самому себе трудно давать направление, но я достаточно близок к диалоговой филосо+ фии. То, что философия не является наукой, хотя один из её векторов направлен именно к ней, — тривиально. Правда, каждый раз эту баналь+ ность приходится доказывать заново. Когда говоришь, что она не наука, тебя автоматически зачисляют в разряд антинауки. Я часто полемизирую по этому поводу, когда говорю о системе защиты диссертаций. Защита диссертаций по философии ещё с советских времён ничем не отличается от защиты диссертаций по естественнонаучным дисциплинам. Однако разница между новизной в работе по философии и, например, по биоло+ гии — огромная. Философия — особая отрасль, где ненаучные формы познания важны не меньше, чем научные, а новизна носит совершенно иной характер. Часто вполне достаточно новой интерпретации истори+ ческого материала. Я выступаю за диалоговый — глаза в глаза, а не зуб за зуб или глаз за глаз — формат философии.
— Не кажется ли вам, что именно в XX веке философия превратилась в гуманитарную дисциплину? В строгую гуманитарную лженауку, которую гу# манитарии всех мастей используют по своему усмотрению — что#то заим# ствуют из философии, а что#то туда сваливают как в помойную кучу?..
— Ещё раз повторю, философия не была и не является только гума+ нитарной дисциплиной. Но поскольку она и гуманитарная дисциплина, то есть связана с Человеком, с выяснением его целей и предназначения, как говорил Кант, то она в большей степени ответственна за развитие ус+ ловий человеческого существования и человеческого сообщества. У вас термин «гуманитарный» является синонимом термина «ненаучный», но это не так, хотя, безусловно, такие варианты возможны. Более того, по+ следнее может сознательно культивироваться и поддерживаться обще+ ством. Соответственно и строгость такой лженауки, если её кто+то вы+ страивает, представляет собой некую имитацию строгости, поскольку всегда существует критерий проверки — Истина. В то же время всё, что угодно, включая любые научные открытия (например, в физике и биоло+ гии), может быть использовано и используется кому как заблагорассудит+ ся. Это совсем другая проблема. В одной из своих книг я обозначаю её как проблему попсы в науке и философии.
Преподавание же философии вообще очень сложная деятельность. Например, Гегель — несомненная величина в философии — часть своих лекций читал по Вольфу, чья фигура несравненно менее значительная, но зато систематичная. И вполне вероятно, что для освоения философии студентами это было лучше. Любое научение реализуется через освоение апробированного материала, а не через демонстрацию новейших идей, последнее необходимо чуть позже. Я всегда привожу студентам такой пример: тройной тулуп вы можете исполнить на коньках, если научились азам катания как такового, иначе последствия будут плачевны. Препода+ ватели, особенно только начинающие работать, этого не понимают и за+ валивают студентов новейшими философскими дискуссиями, что приво+ дит не к освоению знания, а к «парению» между отрывочным знанием и незнанием. В чём парадокс системы образования? Вы не можете давать только вам или кому+то понравившееся, только новейшее, только попу+ лярное. А поэтому преподавателя всегда легко критиковать за отсталость и т. д. Своеобразная трагедия преподавателя как раз и заключается в том, что он обязан «наступать на горло собственной песне» и излагать то, что необходимо освоить как школу. Безусловно, что в некоторых случаях это позволяет недобросовестным преподавателям вообще халтурить и сво+ дить всё лишь к учебнику. И тогда появляется опасность превращения философии в упоминаемую вами помойную кучу.
— Как же тогда сегодня преподавать философию?
— Истории философии повезло больше — она идёт за конкретными персоналиями, тогда как перед кафедрами теоретического плана часто возникает проблема выбора литературы, выбора концепции, дабы студент не утонул в массе материала и океане плюрализма. Например, есть некое понимание предмета онтологии в философии. Студент должен его понять и освоить. Но «продвинутые» преподаватели сразу начинают с заявления о том, что онтология нынче в кризисе или же что онтологий множество. А поскольку формулировать определения не модно и нудно, да и простая подстановка определяющей части сразу бы подвергла сомнению сам тер+ мин «множество онтологий», то выдумываются онтология стула, онтоло+ гия тела, метафизика стола и т. д. Это страшно красиво, необычно, но столь же бессмысленно, хотя такое выдумывание проще, чем усвоение «скучного» материала. На недавних конференциях по этике и эстетике я выступал с докладами об онтологических основаниях этих дисциплин. Чем силён Кант в этом плане? Тем, что он выдвигает свои нравственные императивы не потому, что это хочется ему как Канту, а потому, что он пы+ тается обосновать соответствующее устройство мира. Его категорический императив — часть бытия. Классическая философия пытается выстраи+ вать Абсолют. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы мы не пото+ нули в плюрализме точек зрения. Обосновывая предельную онтологич+ ность, мы показываем строение мира, которое не зависит от своеволия мнений. Я понимаю слабую сторону этой позиции. В частности, можно подвергнуть сомнению сами основы. Но тем не менее такая позиция конструктивна.
Именно из вышесказанного вытекает популярность постмодерниз+ ма. И это не упрёк его авторам, а констатация факта имитации последне+ го на русской почве. Выхватить нечто, фразу, мысль из контекста и упраж+ няться, используя филологические возможности по данному поводу. По+ этому Деррида на несколько порядков выше наших имитаторов Деррида. Имитация постмодернизма на русской почве настолько вторична, что не заслуживает профессионального философского внимания. Например, когда я беру «Мифологии» Барта, то читаю именно текст Ролана Барта. Когда же я беру тексты популярного ныне питерского философа Секац+ кого, то мне бросается в глаза его вторичность. И таких примеров множе+ ство. Лучше уж быть академичным философом и честно исследовать мыс+ ли классиков, давать их интерпретации.
Ведь играть в философию очень легко. Приведу пример из области создания афоризмов. Чем нам запоминается афоризм? Конечно, это мо+ жет быть глубина мысли, схватывание ситуации, описание её остроты. Но зачастую он становится весомым благодаря фамилии автора. Если вы просто скажете: «В зимнюю стужу окна должны быть закрыты» — это бу+ дет скучная констатация факта. Но если вы прочитаете в книге: «В зим+ нюю стужу окна должны быть закрыты» (Л. Н. Толстой), то согласитесь, что последнее воспринимается очень «глубоко». Систематический текст написать гораздо труднее, чем ярко афористичный, ибо в основе лежат разные способы воздействия на читателя. В первом случае мы воздейст+ вуем на разум, а во втором благодаря форме на восприятие. Конечно, в идеале было бы здорово это совмещать, но это не всегда удаётся.
Для русского менталитета характерно делать выводы даже о том, о чём недостаточно представления. Помнится, Гиренок написал текст о погромах в Париже и разместил его в Интернете. Я его спрашиваю: «Фе+ дя, а ты был в Париже?» Он ответил: «Нет, а зачем?» В этом — типичная позиция русского философа. Человек ни разу не был в Париже, а в его тексте есть какая+то фраза о том, как он бредёт по одной из улиц города. Похожий случай был у меня в беседах с Александром Сергеевичем Пана+ риным. Он противопоставлял отечественное евразийство идеологии еди+ ной Европы, на что я ему возражал, что единая Европа — клише, что нет никакой единой Европы и не будет. Есть швед, и есть итальянец. Их мен+ талитеты разнятся больше, чем менталитет русского и итальянца. Я уже не говорю конкретно о Германии, где этническое различие между жителями страны ещё огромнее.
— Как вы думаете, почему у нас в стране отсутствуют публичные фило# софские дискуссии?
— Очень хороший вопрос. Отвечая на него, я затрону два аспекта. Первый связан с определённым вакуумом деятельности того или иного философа. Поэтому критика в его адрес часто может восприниматься бо+ лезненно. Другой аспект непосредственно связан с предшествующим со+ ветским опытом. Что в этом опыте самое удивительное? То, что в совет+ ское время философских дискуссий было на порядок выше. Философ+ ский факультет представлял собой постоянно бурлящий котёл мнений. В них принимали участие и студенты, и аспиранты, и преподаватели. С чем это было связано? Первое объяснение банальное — было больше свободного времени. Сейчас я веду кафедру два часа. Раньше заседание могло продлиться пять+шесть часов. Место работы было вторым домом. Второе объяснение связано с существовавшим дефицитом литературы. Литература дозировалась, и мы все одновременно её читали. Обмен мне+ ниями был на уровне отменного знания текстов. Сегодня всё выглядит по+другому. Книг навалом. Один прочитал Деррида, другой — Барта, тре+ тий — не дочитал того же Барта или Деррида. Все перебрасываются гото+ выми цитатами из наскоро прочитанных текстов. Отсюда — компилятив+ ность и фрагментарность всех возможных дискуссий. Помнится, Гегель, рассуждая о том, как изучать философию, определил царский путь — чи+ тать оглавление и два+три отзыва о книге. Тогда в каждом салоне вы буде+ те выглядеть хорошо знающим современную философию.
— Или устраивать дискуссии на основе книги#визитки?..
— Да, текст позволяет равноценно отнестись к его автору. Пока мы дискутируем, мы можем снять часть вещей за счёт симпатий и антипатий, за счёт погружённости в проблемное поле обсуждаемой книги. Текст за+ ставляет нас быть честными, потому что вы в тексте — или правы, или ошибаетесь. Если текст есть — он начинает жить собственной жизнью, независимой от личности автора.
— Работает ли категория диалога в вашей концепции развития филосо# фии, которая называется «сциентизм—антисциентизм»?
— Сегодня я уже пересмотрел часть своей концепции. Сухая схема всегда оказывается далека от эмпирического материала. Конкретные фи+ лософские фигуры всегда богаче. Например, у меня Витгенштейн одно+ значно отнесён к основоположникам сциентизма. Сегодня я бы уже так не сказал. Поздний Витгенштейн не вмещается в данную схему. На меня очень сильно повлияло то, что последние пять лет я работаю в тесном контакте с представителями точных областей знания. Если ранее я почти автоматически считал, что они представляют собой в основном сциенти+ стский лагерь, а гуманитарии ближе к антисциентизму, то сейчас я думаю по+другому. Среди гуманитариев сциентистов оказывается больше, чем в естественнонаучной среде. С чем это связано? Дело в том, что мировоз+ зренческие установки (а обе противоположности я обозначал именно как мировоззренческие типы) формируются не только на основе профессио+ нальной деятельности, но и тем, что лежит за её пределами. У естествен+ ников за этим пределом лежит именно гуманитарная сфера, и они на до+ суге пишут стихи и музицируют, занимаются свободным творчеством, а у гуманитариев свободное творчество — часть их профессиональной реф+ лексии. Не случайно то, что барды учились на физических факультетах. Тем не менее диспозиция «сциентизм—антисциентизм» существует, но деление здесь более сложное и не всегда напрямую связано со сферой профессиональной деятельности.
— Вы будете уточнять эту диспозицию? Что у вас планируется в бу# дущем?
— Несомненно, буду. Я хочу написать книгу на тему «Культура и ком+ муникация», чтобы в широком разрезе посмотреть, какое влияние оказы+ вают современные средства коммуникации на культуру.
— Согласны ли вы с тезисом о том, что философия по своей сути явля# ется антикультурной?
— Надо уточнить, что вы понимаете под «антикультурой»…
— Переоценку и разрушение старых культурных ценностей, включая и философские.
— В своей книге «Философия и метаморфозы культуры» я ставлю следующий вопрос: «Кто такой философ — хранитель или разрушитель традиции?» Мы знаем огромное количество античных философов, кото+ рые были осуждены за отрицание Бога, начиная с Сократа. Философ за+ нимает двоякую позицию. С одной стороны, он безусловный разрушитель традиции, а отсюда — эпатаж общественного мнения, различные филосо+ фские перформансы (например, бочка Диогена). С другой стороны, фи+ лософия выполняет функцию сохранения традиции — человеческой муд+ рости. Столь двойственная ситуация философии разрешается довольно просто — в самой среде философов происходит соответствующее деление. По Кнабе и Лотману, мы имеем дело с внутрикультурной оппозицией. Позиция философа — не контркультурна.
— Какие философы никогда не будут включены в историю философии именно по контркультурным соображениям?
— Трудно сказать. Мы обозначили настолько широкие полярности, что при желании можем легко уложиться в них.
— Это#то и пугает... Или речь может идти только о мизософах и истории мизософии?..
— Могу привести пример контркультуры как таковой. Приведу два фрагмента — о стриптизе у Барта и рассуждения о сексуальной револю+ ции у Лотмана. По Лотману, признаком классической культуры является оппозиция «прикровенность/откровенность». Об этом же пишет позже Кнабе в своей «Диалектике повседневности». Данная оппозиция означа+ ет, что в культурном сообществе часть отношений между людьми являет+ ся закрытой, не выставляется на всеобщее обозрение, хотя она сущест+ вует. Поэтому в известных отношениях близости между мужчиной и жен+ щиной вряд ли мы можем выдумать что+то принципиально новое, по сравнению, например, с «Камасутрой» (может быть, кроме некоторых технических средств). Она не предназначалась для чтения вслух или для массового читателя. В чём, по Лотману, контркультурный смысл сексу+ альной революции? В том, что она разрушает указанную оппозицию по+ средством вынесения на всеобщее обозрение того, что должно быть со+ крыто. Поэтому это контркультурное явление, ибо направлено против культуры в целом, в том её виде, в котором она существовала как локаль+ ная культура.
Барт подходит к проблеме с другой стороны. Для него любое явление, даже самое откровенное, может носить культурный характер, но опять же — если соблюдается некая дистанция, иначе говоря, если оно созна+ тельно скрыто. Всё зависит от формы подачи. Существует классический французский стриптиз. Объект, который раздевается на сцене, для вас не+ доступен. Более того, представление устроено так, чтобы ближе чем на три+четыре метра вы не могли подойти. Вы не можете дотронуться до объ+ екта, сунуть в соответствующие атрибуты одежды деньги — как часто по+ казывается в американских фильмах. Объект вожделения, таким образом, принципиально недоступен. Затем, пишет Барт, он выходит из одного за+ ведения и заходит в другое, в котором его секретарша делает то же самое, но совершенно в других условиях. Одежда не столь хороша, публика сто+ ит вплотную к объекту и дотрагивается до него, что+то там вовремя не снимается и т. д. Первое явление культурно, поскольку недоступно, а вто+ рое — принципиально антикультурно. Когда мы говорим о клиповости, подростковости и фрагментаризации культуры, то всё это следствия це+ лой серии контркультурных явлений. Я не хочу лить крокодиловы слёзы. Как философы, мы должны оценить новые явления, порождаемые разви+ тием глобальной системы коммуникации.
— Что за история существует по поводу того, как вы в учебнике по фи# лософии просклоняли фамилию Деррида, которую наши философы предпо# читают по#снобски не склонять?
— По+моему, я ничего не склонял… Может быть, это опечатка?..
— В вашем тексте фамилия «Деррида» склоняется несколько раз…
— Что ж, раз так получилось — пускай остаётся. Русский язык есть русский язык. Иностранцы не переделывают свои языки под нас, поэто+ му здесь нет ничего страшного. В принципе это правильно. Например, мою жену+немку очень часто коробило, что мягкое немецкое «х» в фами+ лии «Хейне» по+русски произносят как «Гейне». Почему это произошло — сейчас уже трудно сказать. Но вряд ли следует переучиваться и письму, и произношению. В связи с этим мне вспоминается один интересный эпи+ зод из детства, когда нам объяснили фашизм через четыре «г» — Геринг, Геббельс, Гиммлер, Гитлер. А на самом+то деле они пишутся по+разному — Геринг через «г», а Гитлер через «х».
У меня трое детей, и все они граждане Германии. Было занимательно наблюдать за некоторыми филологическими вещами. Например, когда мой сын хотел сказать «хороший чай», произносил по+русски — «чай», а когда «плохой чай» — «tea». «Чай» — это что+то вкусное, а «tea» — суррогат.
— Ещё один интересный эпизод был на IV Российском философском конгрессе, который практически весь прошёл под критикой Жака Дерриды. Помню, как выступление Садовничего сопровождалось слайд#шоу и послед# ней фигурой в нём был Деррида. Призрак Дерриды витал над конгрессом. Почему в нашей философской среде такое пренебрежительное отношение к французскому деконструктивисту? Это сказывается даже на уровне анек# дотов и смешных стишков о нём («От Жака Деррида — ни пользы, ни вреда» и т. д.).
— Странно, а я этого не заметил. Мне, наоборот, казалось, что все им увлечены. Если, конечно, его не примитивизировать. Но у меня достаточ+ но взвешенное отношение к Дерриде — постмодернизм скоро (а может быть, уже) займёт своё место на философской полке рядом с Платоном и Кантом. В философии было всё. Когда я встречался с Кристевой, то всё время думал, глядя на неё, что передо мной живой классик постмодерниз+ ма, ухоженная и шикарная дама, которая в конце беседы спрашивает о том, где у вас в Москве злачные места и можно ли их посетить. Её книги, наверное, стоят в Париже в коленкоровом переплёте, и этот дорогой пе+ реплёт не противоречит эпатажу её произведений. Культура перемалы+ вает всё, но всему отводит своё место. В этом смысле, как мне кажется, постмодернизм принципиально нового в философию не внёс. Он просто попал в удачный период — ещё раз здорово заострил тот факт, что фило+ софию нельзя сводить к науке, к системе (куда деть массу произведений того же Ницше?) и обратил внимание на языковые проблемы, лишний раз их выпятив. У меня есть статья под названием «Конструктивизм де+ конструктивизма». Как бы это ни было обидно для постмодерна, но его позиция весьма конструктивна. Многие постструктуралисты — это быв+ шие классики структурализма. И это понятно. Но когда некоторые «исследователи» говорят о болезнях, о сумасшествии постмодернистских философов, о том, что они либо «голубые», либо «серые», то меня это аб+ солютно не волнует. Поскольку философия в классическом понимании является самосознанием культуры, постольку постмодернизм как фило+ софия отражает особый этап развития этой культуры — культуры постмо+ дерна. Мои выводы не могут обидеть представителей постмодернизма — когда я пишу о попсе в философии, речь идёт не о том, что Деррида прост (попробуйте его почитать!), а о том, что его использование как философа носит попсовый характер. Возникает фрагментарная философия, которая затем сводится к простой вещи — «Деррида за 90 минут».
— Кстати, сейчас в этой серии Пола Стретерна появились книги и о рус# ских философах (Леонтьев, Мамардашвили и другие).
— Это пример клиповой философии. На современного человека ока+ зывается столько коммуникативных воздействий, что он не может оси+ лить толстые книги и приучается мыслить клипово. Постмодернизм столкнулся с ситуацией Интернета — смерть автора (полно анонимных публикаций), фальсификация наподобие вашей гиренковской (думаешь, что читаешь Пушкина, а это Сидоров с соседнего этажа) — всё это внеш+ не кажется безобидным и даже интересным. Но есть одно очень серьёзное «но». Гарантией «качества», например, является твёрдая обложка. Текст зафиксирован. А представьте, что вы подросток. У вас хороший компью+ тер, Интернет. Вы лезете туда и хотите прочитать что+нибудь о войне. На+ тыкаетесь на трактовку Суворова. Другой — на другую трактовку. Когда мы с вами взрослые люди — ничего страшного в этом нет. Вы поймёте, что это подделанный Тютчев, если знаете настоящего. А ведь подросток мо+ жет изначально получить фальсифицированное знание. Постмодерн столкнулся с этой проблемой, а отсюда фрагментарность, чтение с любой страницы. Такая же попса существует и в науке, когда вместо поиска ис+ тины существует потребление истины, а сама наука превращается в серию заведомых дезинформаций и «сенсаций».
— Вы не считаете философию средством самовыражения автора?
— Человек может самовыражаться в философии, но всё+таки есть смысловая понятийная система. Философия не сводится к чистой эстети+ ческой функции от чтения. Если вы хотите, чтобы ваши идеи поняли (а внутри каждый философ этого желает), вам нужно говорить на понят+ ном другим языке. Ведь некоторые просто отмахиваются от читателей с формулировкой: «Это вам всё равно никогда не понять». Получается, что автор пишет текст для себя, и он в принципе не предназначен для других.
— Или вся последующая жизнь для такого философа становится бана# лизацией и тривиализацией собственного творчества?..
— Нужно уметь избежать этих двух крайностей, чтобы философ не смог уйти от критики. Я против принципа «двойной непрозрачности фи+ лософии». Философия не должна быть мутной и непонятной, исходя из логики — чем меньшее количество людей меня понимают, тем степень фи+ лософичности моего произведения выше. Всё можно довести до абсурда. — По#моему, автор всегда пишет для себя.
— Думаю, что у Дерриды не было никакой имитации, но есть ещё псевдопостмодернизм, когда начинается нечистоплотная игра. Я люблю приводить студентам такой пример: после перестройки стали много пере+ водить Хайдеггера. Были даже такие случаи, когда за переводы брались люди, изучившие язык за три месяца, хотя Хайдеггера нужно переводить на специальных семинарах. Работает логика, что Хайдеггер — философ сложный, и поэтому слово «Raum» в его текстах следует переводить не как пространство, а используя его 24+е значение из немецко+русского слова+ ря. Я в шутку советую: возьмите статью из «Московского комсомольца» и с помощью словаря Даля переведите её с русского на русский язык, ис+ пользуя 20+е и 30+е значения. Получится очень любопытная вещь.
— Хайдеггера испортил Бибихин, который создал именно своего Хайдег# гера. Когда я разговаривал с Хоружим, то он привёл для сравнения сделанный им перевод Джойса и бибихинский перевод Хайдеггера. Хоружий считает, что он адаптировал текст Джойса для русского читателя, а Бибихин, наоборот, усложнил Хайдеггера и сделал его нечитабельным…
— Согласен. А Витгенштейн в переводе Бибихина вообще вызывает массу сомнений. Помнится, я встретил профессора Грязнова незадолго до его смерти, он возвращался со спецкурса Бибихина о Витгенштейне. Настроение у него было печальное. Проблема перевода философских текстов — одна из самых сложных. За некоторыми текстами стоят такие пласты культуры, что переводами+однодневками трудно что+то понять, — нужны обширные комментарии. Попробуйте перевести американцу анекдоты про Штирлица. Для этого вам потребуется рассказать о Великой Отечественной войне, о том, что именно мы в ней победили, о периоде создания фильма «Семнадцать мгновений весны» и т. д.
— Метафорически выражаясь, постмодернизм закончился или близится к концу. Какой «изм» летает в воздухе?
— Может быть, феноменология?..
— Два года назад умер последний феноменолог — Рикёр…
— Я говорил о вторичном уровне феноменологических исследова+ ний. Все терминологические вещи в философии относительны. Я всё больше убеждаюсь в том, что если речь идёт о достаточно крупной фигу+ ре, прожившей долгую жизнь (наподобие А. Бергсона), то его трудно от+ нести к какой+то определённой области. Может быть, новый «изм» будет связан с философией коммуникации?..
— А новомодная философия сознания в рамках аналитической филосо# фии, лидерами которой являются американцы?
— Честно сказать, я не понимаю эту философию сознания. Мне она кажется надуманной. У меня такое ощущение, что всё это можно легко найти в дискуссии Ильенкова и Дубровского о природе идеального. Про+ фессор Васильев очень оптимистично относится к философии США. Его критерий — чтение философских книг в метро. По+моему, это не крите+ рий. У нас в метро тоже читают философию. Когда я приглашал Хаберма+ са в Россию, то в письме изложил следующий аргумент: приезжайте к нам, потому что Россия — единственная страна в мире, где философия присутствует в чистом виде, где о философии не стыдно говорить в любом месте. Конечно, я немножко утрирую, но, например, в Германии говорить о философии не с философом — признак плохого тона. Вас не поймут. Мы же знаем состояние их философии лучше, чем они сами. У нас огром+ ный философский потенциал, но нам необходимо уходить от сознания нашей вторичности, правда не впадая и в другую крайность, когда специ+ фика связывается с тем, что нас никто не понимает. Один мой знакомый, когда+то руководитель фонда Аденауэра в Москве, господин Боссен в конце 1990+х годов, устав от постоянного цитирования для необходимого понимания русской души фразы Тютчева «Умом Россию не понять» (а он очень любил Россию), воскликнул: «Но чем же вас понимать — ж… что ли?..» Россия очень философична, и в ней, конечно, есть и будет собственная философия.
Беседовал Алексей Нилогов
АЛЕКСЕЙ НИЛОГОВ
Философия — это сплошной ressentiment
Алексей Сергеевич Нилогов (род. 1981) — современный русский философ анти языка, литературовед, языковед. Автор таких книг по филологии, как «Система тестовых заданий по дисциплине “Историческая фонемология цепи славянских язы ков, связанных отношениями “предок – потомок”, от праиндоевропейского в лице его протославянского диалекта до русского”» (Абакан, 2003), «Языковеды мира: краткий биобиблиографический справочникуказатель» (Абакан, 2003), «Сборник задачник по “Слову о полку Игореве”» (Абакан, 2004).
Книга «Сплошной ressentiment (тенью странника)» (Абакан, 2004) посвящена дескрипции небытия и соответствующей ей методологии антиязыка. Антиязык в узком смысле (анти)слова — это совокупность классов антислов, номинирующих ре ференты, которые нельзя поименовать с помощью естественного языка. Антиязык можно сравнить с подводной частью айсберга, являющейся условием существования его надводной части — наличного языка, — причём под подводной частью мы пони маем в том числе и идеальную комбинаторность языка быть именно практически бесконечным инструментом создания языковых единиц, хотя обычно под языковой комбинаторикой понимается лишь механическое умножение сущностей — статис тическим увеличением количества высказываний, что может быть признано весьма спорным, учитывая принципы «произвольности языкового знака» и «двойного членения».
Автор проекта «Современная русская философия» и составитель первого тома книги «Кто сегодня делает философию в России» (М., 2007).
Беседа с Алексеем Сергеевичем состоялась в рамках проекта «Современная рус ская философия»29.
— Алексей, в своей книге «Сплошной ressentiment» ты делаешь совер# шенно чудовищные замечания в адрес Ницше. Не спрятана ли за ними твоя любовь к нему?
— Главное — это избрать правильный метод, чтобы не раскидываться словами просто так.
— История твоего знакомства с Ницше? Ты прочёл все работы или что# то выборочно? И вообще, как тебе дался твой разговор с Ницше, как ты по# говорил с ним?
— Сначала я познакомился с ним как со стереотипом, включая и связь его имени с фашистской идеологией. А потом начал читать, начал с «Еcce Нomo». Дальше — «Так говорил Заратустра» и, наконец, все осталь+ ные основные произведения. Он захватил меня своей манерой философ+ ствования, поскольку ни с чем подобным я ни разу не встречался. И хотя с афоризмами я, разумеется, был знаком, но это были скорее сентенции на некие житейские темы. Форма же ницшевского афоризма выделяется особо, афоризм Ницше под стать ницшеанству — ницшеанский, «ницше анствующий».
— Название книги «Сплошной ressentiment» и её подзаглавие «тенью странника» напрямую указывают на Ницше как на со#автора. Тема «Ницше» проходит красной нитью сквозь весь текст, а полемика с ним, обращение к нему составляют добрую половину повествования. Как это понимать: как отклик, как рецензию, как противопоставление, как магнит, как молот, как что? Ты нападаешь, пародируешь или смотришь со стороны?
— Ницше здесь не столько красная нить, сколько красная тряпка. А тема ressentiment'а, на мой взгляд, является квинтэссенцией философ+ ствования как такового. Любое философствование — это уруинивание предшественников, чтобы на руинах их «мысли» создать нечто новое (хо+ тя в последнее время «принцип руин» отрицается как постмодерни+ стский принцип — здесь мы имеем дело с уруиниванием самого «принци+ па руин»). Моей книгой заимствована доброжелательная форма, а не содержание и не пафос ницшевского философствования (всё ещё впере+ ди?). В этом смысле книга ревнует к философии, к стилю философствова+ ния против Ницше, против его монополии на такой способ философство+ вания. Так ре+активно, так взрывоопасно Ницше писал только в своей «Воле к власти». Моя же манера больше деструктимонная, основанная на постулате о деструктивной этимологии слова.
— Давай сначала поговорим о книге, а затем вернёмся к Ницше. В тво# ём тексте огромное количество новояза. Он буквально наводнён выдуманны# ми тобой словами и игрой с языком.
— Да, именно игра с языком, игра в язык, а не пресловутые языковые игры, которые общеприняты в философии, преобладают в книге. «Мой стиль — русский язык», поэтому я безответствен за своё словотворчество. К тому же это подспудная попытка переиграть известный принцип брит вы Оккама (запрет на умножение сущностей без необходимости), ведь не+ реализованные сущности как раз и умножают рессентимент, способству+ ют накапливанию злобы и мстительности и могут выливаться в нечто особое, что, вырвавшись на свободу, уже ничто не остановит — даже ни+ что. Я не хотел бы, чтобы философская мысль была ограничена не столь+ ко русским языком, сколько языком вообще.
Русский язык — это и мой дискурс философствования. Я не вижу се+ бя вне русского языка. Это является причиной того, что я не изучаю иностранные языки, о чём, кстати, советовал тот же Ницше, говоря, что человек, изучающий иностранный язык, лишается стилистических кра+ сот своего родного языка. В истории были две великие нации, которые стилистически превзошли все остальные, — это греки и французы, и именно эти нации не изучали иностранные языки, а совершенствовали свой собственный. Поэтому Ницше и сам постоянно обращается в языке за помощью к грекам и французам, постоянно критикует немцев за то, что они так и не создали ничего по+настоящему стилистического. (К слову, Карл Шпиттелер впоследствии не нашёл у Ницше ничего, кроме стилис+ тики. Апломб Ницше — это исключительно филологическая переоценка ценностей, воля к власти — в филологии.)
Меня всегда захватывала свобода философствования. «Сплошной ressentiment» — моя первая самодостаточная (по выражению Ф. И. Гирен+ ка) работа по философии, которую я не столько писал, сколько записывал в течение года.
— В твоём тексте большое внимание уделено физиологии, телу, которое везде даже выделено большими буквами. Ты хочешь этим сказать, что вся философия подспудно диктуется телесными проявлениями? Тело диктует фи# лософию?
— Философия диктуется не столько ТЕЛЕСНЫМИ проявлениями, сколько сдерживанием ТЕЛА в пределах философии. Философия есть предел для ТЕЛА. ТЕЛО хочет жить и радоваться жизни, а философия не даёт ему полностью реализоваться. Говоря словами Ницше, настоящую жизнь заслуживает тот, кто всё время отрицает саму жизнь; и любому че+ ловеку в конце его жизни, перед смертью, открывается шанс такой жиз+ ни, который, к сожалению, больше виртуален. Но если Ницше призыва+ ет вернуться к ТЕЛУ, то я собираюсь придерживаться классической тра+ диции — игнорирования ТЕЛА, аскетизма ТЕЛА, отчуждения ТЕЛА от человека и его философии. ТЕЛО — не союзник, а искуситель филосо+ фии, за счёт трения с которым, за счёт преодоления которого и возможно её развитие. ТЕЛО должно быть принесено в жертву философии. ТЕЛО, ПОХОТЬ, УСТАЛОСТЬ (слова, пишущиеся заглавными буквами) — это злые боги, которым нужно постоянно приносить жертвоприношения. Неужели книга пошли´т?
— Да, в книге создана атмосфера пошлости языка, какой#то экс# тремальной похабщины. Сортиры перемешаны с Сартром, а неподмываю# щиеся бабёнки с фундаментальными вопросами философии. Каша очень несъедобная.
— Таково моё философское мировоззрение. В книге должно быть ин+ тересным не то, какой человек её написал, а то, какое место в ней отведе+ но языковой свободе — лингвистической некомпетентности её создателя. Я был сориентирован именно на это, а не на сексуальные предпочтения, которыми сегодня почти никого не удивишь.
— Не является ли такая форма выражения последней степенью декадан# са и вырождения философии и её языка? Не является ли твоей скрытой целью доведение декаданса до того последнего уровня, с которого открыва# ется горизонт распада самого декаданса?
— Возможно, однако я не вполне уверен, что ниже некуда. Пока сло+ ва не упираются в вычитательные смыслы, когда любое прибавление толь+ ко вычитает, можно делать всё, что угодно. Этимология разрушения сло+ ва — это попытка сочетать его с такими словами, которые подрывали бы его внутреннюю форму, осуществляли его самораспад. Таким образом я веду борьбу против дискурсивной формы философствования, отстаиваю философию вне дискурса. Подспудная задача книги — полное разруше+ ние дискурса через поток сознания.
— Книгу читать не просто трудно, а невозможно. Мне понадобилось ог# ромное усилие воли для того, чтобы в неё вникнуть. Хотя к концу чтения я по# лучил странное удовольствие от прохождения по тексту, в котором язык бук# вально разваливается на глазах.
— Передо мной — девственный текст деструктивного типа, централь+ ной темой которого является проблема(тизация) небытия. Когда имеешь дело с небытием (или того хуже — с влечением к небытию, с влечением к концу), трудно писать как+то иначе. Тут действует обратная воля к власти. Если ты боишься отказаться от воли к власти и вынужден о ней постоян+ но грезить — рано или поздно понимаешь, что агентом этой воли к влас+ ти выступает именно ТЕЛО, стремящееся расширить себя во времени и пространстве.
— Тогда очень странно звучат предисловия#эпиграфы к книге, взятые из того же Ницше, причём из самых его сильных мест. Например, то место, где Ницше говорит о философах будущего как о великих искусителях. Такова новая философия? Таково сегодняшнее искушение?
— Нет, таково то общее место, которое мне под силу смастерить из Ницше. Среди философов очень мало филологов, мало знатоков языка, а тем более стилистов. Моя философия — это восполнение подлинной лингвистической некомпетентности в философии. Я могу даже говорить о лингвистической МЕТАФИЗИКЕ — прояснении не столько языка фи+ лософии, сколько философское осмысление общей теории языка (языко+ вости) и языка будущего — футурояза (метод лингвистической футуро+ хронии).
— Так у тебя появляется некое новое ощущение философии?
— Нет, это утопическая задача, особенно для русской философии. За+ дача+минимум — создание собственно философских текстов, впору браться за монографию по исследованию современной русской филосо+ фии. Когда западных постмодернистов от философии обвиняют за беско+ нечное количество симулякрных текстов, надо понимать, что в России никакого такого «количества» нет. Поэтому надо философствовать так, как не философствовали на Западе, но только на русском языке. Ещё раз: РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ — ЭТО ФИЛОСОФИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
— То есть ты хочешь продолжать в том же духе и формате?
— Я не оптимист. Чистоплотность — прежде всего!
— Мне трудно представить себе — что дальше? В конце концов, человек попадает в некий особый транс, который возникает из#за того, что его лиши# ли возможности понимать и воспринимать свой собственный язык.
— Это такой стиль философствования, который нельзя читать не только вслух, но и про себя. Его можно читать только тогда, когда он за+ писывается.
— Зачем же тогда публиковать одноразовость?
— Гипнотизирование текстом носит сверхтворческий характер, пото+ му что, когда вчитываешься, хочется продолжать писать прямо там, где читаешь. Философия рождается здесь и сейчас, здесь и сейчас воюет против языка.
— У тебя нет никакой связи с входящим сейчас в моду нейролингвисти# ческим программированием? Несколько мест в твоей книге содержат прямые соответствия методике НЛП.
— Нет. Я не собираюсь механически переманивать методику НЛП в философию. В моей книге рождается философия, которая борется против языка. И хотя эта задача достаточно абсурдна, она всё+таки необходима. Я опасаюсь не столько тех мыслителей, которые занимаются философи+ ей, сколько тех, которые занимаются определиванием, ограничением фи+ лософии, когда, согласно Канту, разум начинает довлеть над опытом. Для них уже всё написано и продумано, и ничего, кроме поверхностных интер+ претаций, нам от них не останется. Выдаётся одно: вышибать клин кли+ ном — бороться против языка языковыми же средствами, поскольку имен+ но в языке сосредоточена вся сущность человека и весь его потенциал.
— Но кроме задачи разрушения прежнего разве не стоит всегда за# дача созидания новых ценностей? У того же Ницше это заявляется и реали# зуется в полной мере. Разве могут нигилизм и декаданс быть ценностями сами по себе?
— Могут, если они доведены до логического конца. О моей книге, кстати, многие говорят как о самодостаточной. И то, что книга больше ничего не требует, на мой взгляд, очень хороший результат. Но на деле всё ещё гораздо сложнее — это текст#автовампир.
— Ницше часто ставит знак равенства между усталостью и серьёз# ностью. Им он противопоставляет смех и избыток как условия будущности. Ты писал книгу от избытка или из рессентимента?
— Писал, пока писалось, а главное — пока читалось. Подручными средствами, всухомятку, — вследствие огромного скарба нереализован+ ных возможностей. По мере сил стараюсь над тем, чтобы глубины своего одиночества расширить до границ личного опыта каждого.
— Чтобы все устали и, прочитав эту книгу, просто валились с ног?
— Если читать её на ночь — не заснёшь, будет мучить бессонница. Это странная, нервная УСТАЛОСТЬ. Книга рассчитана на философов с лингвистическим чутьём, с хорошим чувством языка, чтобы опознавать те каноны, которые нарушены гимном апофеозу лингвистической беспоч+ венности. Человек, не знакомый с лингвистикой, кроме МЕТАФОР и иг+ ры в слова, ничего другого там не найдёт. Кроме того, люди не склонны идти в чём+либо до конца, и в данном случае до такого конца, когда начи+ нает действовать вычитательная семантика. Например, чтобы попасть в поле тавтологии, обычно достаточно двух одинаковых слов подряд, а дальше начинает подташнивать. Опыт прочтения пяти тысяч трёхсот се+ мидесяти двух употреблённых кряду слов «философия» вряд ли у кого+то имеется, но уже в моей будущей книге будут обыгрываться аналогичные случаи вычитательных смыслов. Такой опыт прочтения уникален, по+ скольку пишущий или набирающий на компьютере все эти слова никог+ да не находит времени на то, чтобы прочесть текст целиком. Получается, что ни писатель, ни читатель не прочитывают книгу полностью, а просто пробегаются по ней диагональным взглядом.
— Так называемая «смерть автора»?
— То, что автор отчуждается в книгу, и то, что книга живёт своей жизнью, — давно общее место. Все подобные книги будут однажды стоять на очереди у костра в алфавитном порядке. Дожить до аллергии на пыль с собственных книг мало кому удаётся.
— Ницше: «Остаётся один вид деятельности, который охотно представ# ляют в качестве совершенно бесцельного, а именно игра и склонности, кото# рые сюда относятся. Игра противополагает себя духу серьёзности и кажется установкой, не пригодной к овладению чем#либо; она отнимает у реальности её реальность». Твоя игра с языком тоже отнимает у него его реальность. Книга была написана по внутренней необходимости, в сугубо сознательной игре или игре как способе пребывания бытия в избытке?
— Всё вместе. Это очищение сознания, выписывание его для того, чтобы мысли не держались в голове, не загнаивались, — законсервиро+ вать свои мысли в тексте, чтобы иметь возможность обращаться к ним постоянно и узнавать себя таким, каким ты был в то весёленькое время (например, сейчас вся работа сосредоточена вокруг проблемы АНТИ# ЯЗЫКА).
— Писать как способ избавиться от собственных мыслей… Писатель# ству как таковому тобой даётся отрицательная оценка. Раз кто#то сел пи# сать — значит, он уже не очень хорошо чувствует себя в жизни. И в этом ты не делаешь исключения и для себя.
— Да, конечно.
— Но разве такой книгой ты не хочешь прекратить своё писательство? Разве ты не хочешь ею послать на три буквы всех философов и писателей?
— Послать надо так, чтобы услышали, а написать так, чтобы прочи+ тали. В данном случае боюсь не столько непонимания, сколько понима+ ния. Когда большинство из прочитавших книгу говорит мне о том, что читать её невозможно, это хороший знак — я на верном пути.
— Да, к твоему языку очень трудно привыкнуть. Как к языку классичес# кой философии привыкаешь только после нескольких её томов, так и тут нужно привыкнуть к сверхлексике постмодернизма, в которой он сам вы# плёскивается из собственных же берегов и заливает восприятие чем#то не# воспринимаемым. Ведь постмодернизм, как известно, не открывает новых явлений и вещей, он их просто выдумывает. И весь этот поток новых терми# нов (различание, аберрация, симулякр, трансгрессия, логоцентризм и т. д.), вошедших в новые философские словари и переиначивающих привычные философские понятия, есть не что иное, как философские фантазии их авто# ров. А сам#то ты хорошо разбираешься во всех этих новых терминологиях или лепишь их у себя в тексте просто так?
— Мне кажется, что труднее лепить словосочетания не понимая, чем понимая. Пять лет каторги на филологическом факультете, который мы прозвали «гадючником филологического порока», выработали у меня очень бережное отношение к языку.
— Если проводить параллели к литературе, то бросается в глаза тожде# ственность твоего текста с текстами Владимира Сорокина. Та же самая де# вальвация связей между словосочетаниями и актуализация сексуальных от# правлений и соответствующих им мотивов языка (ведь раньше в философии присутствовало негласное табу на психоаналитический дискурс). Такова ме# тодология «нового слова» — разрушение всяческих ожиданий, разрушение всех традиций?
— Любой созданный текст есть сам по себе некая традиция, но я де+ лаю попытку невозможности создания на основе моего текста некоей но+ вой традиции, — отвергаю традицию и как таковую, и как таковую. Это непросто, и, видимо, мне придётся рано или поздно смириться с тем, что какое+то место в этом «разрушении» я всё же займу.
— Твоё письмо по настроению порою поражает и веселит: «Писать#как# на#фуршете#мазками#аппетита», «(Непревзойдённое: из ненаписанного.)». Можно сказать, что книга написана, писалась — «по настроению», и всё же в ней выдержано некое единое настроение…
— Книга посвящена небытию и попытке дать ему исчерпывающее определение. В ней дано 231 определение небытия (соответствующая гла+ ва), некоторые — рассыпаны по всей книге, а 469 дефиниций по+прежне+ му ждут+с.
— В книге часто звучит концепция «АКТУАЛЬНОГО БУДУЩЕГО», которое также текстуально выделено. Что это такое? Несколько месяцев, недель, дней, часов (последнее — для людей типа алкоголиков)?
— Меня всегда интересовал процесс постижения читателем смысла написанного, как он пытается понять какое+либо сочетание слов. Навер+ няка берёт словарь, выписывает значения слов… Моё «АКТУАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ» — это то будущее, которое лежит вне реализации, которым живёшь в статусе его нереализованности. Это то нереализованное буду+ щее, которое оказывает на тебя воздействие. Ты знаешь, что его никогда не будет, и этим осознанием подменяешь его в жизни.
— А что такое твоя «спонтанность»? Что означает у тебя «успонтан# ниться»?
— Моя спонтанность ближе всего к неадекватности. Это попытка ус+ кользнуть от всякой мотивации, от всякой предрешённости поведения. Спонтанность — это нахождение в состоянии хаоса, неупорядоченности. Успонтанниться — прийти в последовательное состояние хаоса. Это неч+ то противоположное глаголу «остепениться» (в том числе и во втором смысле — как указанию на получение всех возможных степеней, напри+ мер научных).
— «…изъять репрессивную заданность на прогрессивное развитие, на непременную смену формально#хронологических эпох». Плюс массив бес# примерного новояза… Не есть ли это самоактуализирующаяся потребность в языке? Может быть, это некий опережающий язык, то есть язык, отража# ющий мысли, опережающие существующий язык?
— Да, это так. Поскольку в философии очень распространён прин+ цип бритвы Оккама (на заметку: противоположный принцип — щетина Эпштейна), не позволяющий умножать сущности без необходимости. Но когда нереализованных сущностей накапливается слишком много, начи+ нает действовать диалектический закон перехода количества в качество, и эти сущности выливаются в нечто подобное. Они, говоря другими слова+ ми, начинают мстить из своей нереализованности, и… начинается фило+ софия. Возможно, это поле для новой жизни языка, а возможно — способ его отступления, способ стирания следов бесполезной мысли, которыми язык засорен, чтобы мысль дальше уже не пробралась.
— А нельзя ли назвать твой стиль филологическим абсурдом, ибо вокруг каждого слова ты ищешь или создаёшь некое поле абсурда. И этот абсурд в итоге взрывается так, что просто уничтожает язык.
— Абсурд — это другое имя барьера стереотипа. Когда человек пыта+ ется зайти за какой+либо барьер или преодолеть стереотип, он попадает в поле нехоженых троп, нехоженых возможностей и тем самым опутывает себя этой атмосферой абсурда. Когда ничего не знакомо, когда всё ново — тогда и возникает абсурд.
— У меня было ощущение, что все маски, которые приходят к тебе слу# чайным образом, ты насильно засовываешь в текст.
— Да, только маски эти не искусственные, а естественные. И я не знаю, какая из них настоящая. У Леца есть потрясающий афоризм: «Ког+ да хамелеон у власти, цвета меняют окружение». У меня есть похожий об+ раз, называемый Пигмалеон. Человек влюбляется в свою способность быть хамелеоном; некоторые предпочитают влюбляться во влюблённого Пигмалиона/Пигмалеона.
— За всем этим нагнетается марево деконструкции, нигилизма, небы# тия. Можно ли сказать, что за этой атмосферой в метафизическом смысле стоит попытка осознания/проникновения в такую область?
— Да, это попытка дать определение тому, чего нет. Языка не хватает как раз тогда, когда мыслишь о том, чего нет.
— У тебя есть твои личные подступы к небытию? Что лично для тебя оз# начает этот конструкт, что он в тебе движет?
— Это попытка показать языку его место. Языку очень трудно опери+ ровать тем, чего нет, но иногда ему это всё же удаётся. Когда ему это уда+ ётся — ты находишься с языком на равных, поскольку именно ты натас+ киваешь его на те области, на которые раньше его никто не натаскивал, а сам он не отваживался туда ступать. Это своеобразная охота за небытием, в которой язык используется как натаскиваемая борзая.
— Удачной ли бывает охота? Зверя#то чувствуешь?
— Потихоньку продвигается, языка всё ещё хватает. Зверя чувствую, но себя на его месте ещё лучше.
— Уходя от аллегорий: что такое «небытиё» для тебя лично? Дай своё сводное определение.
— В артикуляции «небытиё» — это моё. Например, В. В. Бибихин, пе+ реводя один из оттенков данного понятия у Хайдеггера, использовал по+ добную артикуляцию («бытиё»). Буквально небытие есть то, чего нет, ни+ когда не было и не будет. Проблема небытия — чисто лингвистическая (шире — лексикографическая) проблема, — для составления дефиниций заимствуются почти все ресурсы языка. Чем больше ты искушён в языке, тем больше тебе удастся.
Судьба слова — это звучная немота. Слово постоянно кричит о том, чего оно не может выразить. Слово — это тот костыль, на который чело+ век опирается и с помощью которого пытается придать своему отсут+ ствию некое подобие присутствия. Слово — это присутствие отсутствия. Ибо присутствие мыслей в ином виде, в виде какого+то образа или вещи, просто невозможно. То, с чем имеет дело конкретный живой человек, — это бытие. А небытие порождает только сознающее существо, которое пе+ рестало быть только ощущающим. При прекращении ощущений человек сталкивается с небытием, и парадоксальным образом именно тогда ему открывается подлинное бытие. Поэтому перед проблематизацией бытия необходимо поставить вопрос о небытии. Глава моей книги так и называ+ ется «Довесок о небытии: пролегомены к “Бытию и Времени” М. Хайдег+ гера». Может быть, доживу до того времени, когда мои пролегомены бу+ дут предварять текст Хайдеггера. У меня была идея написать в пику Хай+ деггеру «Небытие и Бремя», где Бремя выступало бы темпоральным соот+ ветствием познанию отсутствия. Очень рискованный шаг — отобрать у философии проблему небытия и перевести её в лингвистическую плос+ кость — в плоскость лингвософствования. Весь опыт Хайдеггера посвя+ щён лингвистике философии. Моя книга — прецедент такой лингвисти+ ки на русской почве. Если хотите — лингвистическая МЕТАФИЗИКА.
— Можно ли рассматривать твою книгу как критику Ницше?
— Да, но скорее это попытка изобрести метод для критики. Мне ка+ жется, что я его изобрёл. Это не столько критика a` la развенчание Ницше, сколько разочаровывание персоны Ницше и его философии в его же соб+ ственных прозрениях на будущее и на тех людей, которые наконец+то его прочтут, поймут и «всё встанет на свои места». Разочаровывание Ницше в его «слишком человеческих» надеждах — такой подход наиболее адеква+ тен самому Ницше. В этом я вижу исполнение его завещания.
— Ницше хотел обнести свои тексты некоей невидимой оградой, чтобы в них однажды не ворвались свиньи.
— Я не думаю, что этой мыслью закончилось его преодоление «слиш+ ком человеческого».
— Ещё у меня было ощущение, что ты примеряешь собственный костюм на Ницше и подозреваешь его в своих собственных тенденциях или настрое# ниях. Написанное Ницше для тебя есть такое же отвлечённое и умозритель# ное, то есть созданное без всякой веры в излагаемое, как и для тебя твоя собственная книга.
— Ницше интересен только на период чтения его произведений, ко+ торые захватывают тебя в контекстуальный плен. Когда же этого нет — нет и Ницше. Зачем вообще изучать его в университетах? Что нового он привнёс в философию? Какое право он имеет нас поучать? Достаточно ясно, что к Ницше может приобщиться лишь определённая категория лю+ дей. Необходима как достаточная критика ницшеанства, так и достаточ+ ная критика его последователей, тех самых читателей из будущего, кото+ рые якобы поймут его и будут проповедовать ницшеанские идеи в жизнь.
— Ты не пропускаешь ни одной темы — «Почемубыинетпредтечей фашизма?».
— Этот новый стереотип (обратный стереотип — «всё же не предте+ ча») меня тоже напрягает. Человек имеет право на стереотипы, которые успели о нём сложиться. Оскорбительно, что Ницше может быть или ниг+ де, или повсюду. По большому счёту его нужно вообще подвергнуть заб+ вению, чтобы вместе с ним для человечества исчезли и те пределы фи+ лософствования, которые были им обозначены, особенно в виде пре+ одоления человеческого, — чтобы каждому была открыта дорога философ+ ствования с чистого листа. И хотя «с чистого листа» вряд ли получится, однако есть надежда на уничтожение всего прошлого, — на то, что удастся научиться писать заново, храня в памяти всё то, что было создано до тебя.
— «Ницшеанство — mauvais ton par excellence». А ты действительно ви# дишь где#то некое движение в виде ницшеанства? Неужели ты встречал ниц# шеанцев в своей жизни?
— Ницшеанство — это скорее движение, которое сформировалось в истории философии XX века. Ницшеанцы — это такие читатели Ницше (и я в том числе), которые начинают возмущаться против действительно+ сти, когда им открывают на неё глаза, — начинают испытывать чувство положительного, благородного рессентимента против тех, кто до поры до времени держал их глаза закрытыми. Для меня ницшеанство — это рес+ сентимент тех людей, которые, прочитав тексты Ницше, обрели новое по+ нимание свободы, открыв мир для себя заново.
— Ницшеанцы — люди рессентимента, не способные к положительной нравственности?.. Что за ограниченный взгляд?
— Я побаиваюсь ницшеанцев в их практической жизни. Я за ницше+ анство в философии, за ту манеру философствования, которую заложил Ницше.
— Ты нутром не переносишь аристократов духа?
— Нет, я боюсь попасть в зависимость от их окружения, после обще+ ния с которым нужно будет часто подмываться.
— Потеют слабые, которым неуютно или неудобно, которым страшно...
— Когда человек находится наедине с самим собой, он никогда не потеет (и не только не потеет…), потому что никогда не находится в дис+ комфорте с самим собой. Когда же ему приходится рассеиваться на окру+ жающих, он начинает отчуждаться от самого себя, что сопровождается намеренной физиологией. Так что в моём контексте слово «подмыться» имеет значение «побыть одному, очиститься». Сам Ницше показал нам образ философа+ницшеанца, который становится ницшеанцем только во время письма, философствования, а в жизни может быть полным не+ удачником, совершенно лишённым какой+то приспособленности к жиз+ ни. Ницшеанская манера философствования приветствуется, практиче+ ское ницшеанство, как правило, не видит дальше пресловутого фашизма. Ницше и фашизм — вещи легко совместимые, нежели наоборот. Я не от+ вергаю Ницше вообще, я отвергаю его в связи с его предательством свое+ го пророческого дара, в связи с его надеждой на будущие поколения, ко+ торые являются таковыми лишь потому, что вечные современники Ниц+ ше есть вечные «маленькие люди». Гениальность Ницше заключалась в его даре предвидения истории на несколько столетий вперёд, однако в своих будущих потомках он так и не разглядел своих собственных совре+ менников.
— Так есть ли высшая жизнь? Преодолеваем ли рессентимент?
— В философии — нет. Философия — это сплошной ressentiment. Кроме того, рессентимент должен быть неискореним, чтобы каждый че+ ловек имел возможность совершенствоваться. Я не признаю людей, сво+ бодных от чувства рессентимента, а признаю сам рессентимент движущей силой человека. Индивид, полностью свободный от чувства рессентимен+ та, называется Богом, а философия есть не что иное, как попытка стать Богом, и этой попытке должна быть посвящена вся жизнь.
— Снова тебя цитирую: «Не повторить ошибки Брандеса: за#шестов# ская переоценка Ницше <...>».
— Мне непонятен тот восторг Ницше, который связан с первыми признаками Ницше+лихорадки. Ницше реагировал на это слишком по+ человечески. Его учитель Шопенгауэр занимал более стоическую пози+ цию. Непонятно, что же ницшеанцы ценят в Ницше, если он сам был «лишь человеком»?
— Они ценят тексты и того «лишь человека», который смог их создать. Ницше, безусловно, отнюдь не образец своей философии. А вот что ты вкла# дывал в такое выражение, как «Ницшеанствовал: (от Логоса к Венцу)»?
— Может быть, то, что Ницше двигался от власти дискурса к власти аристократизма духа? Время от времени я сам ницшеанствую в этом же «духе».
— «Философия Ницше предельно внетопонимична; место, которого нет, должно отсылать к заведомо насущному. Весь Ницше есть одно больное мыс# лящее ТЕЛО, то отхожее место, куда можно отойти, чтобы спрятаться».
— ТЕЛО всегда выполняет всю грязную работу, а мысль приходит на всё готовенькое. Этот результат — ницшеанствование в образе ницшеанца. — Ницшевское сверходиночество…
— У Ницше есть известная фраза о том, что нельзя быть абсолютно одиноким, вас всегда двое — ты и твоё одиночество. Сверходиночество — подлинное одиночестве (уединение, уединённость — по Розанову, едино+ чество — по Гиренку), которое существует в тебе не за счёт других, их при+ мера, а за счёт твоей внутренней возможности их не иметь. «Инстинкт ду+ ховного самосохранения» (Куклярский), духовный гомеостаз…
— Как ты оцениваешь основные философские концепции Ницше (волю к власти, вечное возвращение, сверхчеловек и другие): как метафизические выдумки, не имеющие отношения к реальности, или как наполненные смыс# лом достижения мысли и духа?
— Скорее второе?.. Больше всего меня заинтересовала категория «рессентимента». Концепция вечного возвращения заставила язык фило+ софии обнаружить такие провалы в понимании, которые я до сих пор не смог преодолеть. Что касается воли к власти, то я знаю более радикальную концепцию — влечение к концу. Это потребность избыть свою тему, уже появившись на свет, — совершенно невозможное влечение.
— И звучит она как настоящий апофеоз декаданса.
— Само бытие изначально опаздывает к влечению к концу (даже — к термину!). Появившееся раз — невозможно устранить. Можно не писать книги, не оставить никакого следа в истории, никаких потомков — и всё же неизбывно пребывать в бытии некогда состоявшейся фактичностью.
— Это влечение к смерти, к танатосу? Или глубже — стремление стереть следы своего пребывания в бытии?
— Да, ты назвал это. Это возвращение и стирание следов своего су+ ществования. И это стремление, как мне кажется, возможно только в язы+ ке, так как в физической реальности оно внепрецедентно.
— Это и есть чисто языковая выдумка. Точно так же ты относишься и к воле к власти?
— Не хочу ограничивать себя волей к власти. Я рассматриваю челове+ ка с позиций как его возможности, так и невозможности стремления к власти. В этом смысле стремление к концу — это концепция, прямо про+ тивоположная воле к власти, — концепция, стремящаяся стереть следы своего существования, включая сам процесс стирания следов. Это тоталь+ ное из+бытие себя, тотальное вторжение небытия в бытие.
— Ницше предложил свой универсальный критерий оценки любых кон# цепций, ценностей и настроений: служат ли они цветению и росту жизни (полноты бытия) или, наоборот, всячески жизнь подтачивают и отрицают (умаление бытия). В этих координатах концепция влечения к концу (к небы# тию) находит своё чёткое место как радикально противная жизни (бытию). Ницше подкупает всех своим критерием жизненности, наполненности бытия, проявленности, своей безудержной анафемой всему, что хочет спать, уйти, исчезнуть, раствориться.
— Я не последователь Фридриха Ницше и не намерен строить свои концепции в подражание его критериям. Ницше чаще всего показывает именно то, что не является жизнью, — на этих отрицательных примерах пытается говорить о «настоящей» жизни. Он философскими методами счищает красивую кожуру с яблока, но в глубине его зияет кочерыжка.
— Отрицательные примеры — не весь Ницше. Положительные примеры благородных и аристократических натур то и дело встречаются на страницах его книг. Это настроения, полагающие мерилом всех ценностей самих себя. «Хорошо то, что соответствует мне». Воля к власти (осознанная или неосо# знанная) есть движущая сила всех утверждающих жизнь натур. А вот проти# воположные им натуры стремятся к скромности, незаметности, непритяза# тельности, умалению, сжатию.
— Боюсь, что за волей к власти и аристократизмом духа может скры+ ваться самообман.
— Как ты думаешь, что сказал бы Ницше про твою книгу?
— Мне кажется, что он бы её перехвалил.
— Он бы спросил: «Теперь так пишут? Я, наверное, чего#то в своё вре# мя не понял».
— «К чему я подвёл будущую философию!» Он удивился бы таким своим последствиям.
— Неоконченный «Заратустра»…
— Я считаю Заратустру неоконченным текстом, потому что о многом Ницше умолчал. Но и здесь меня интересует не суть послания Заратустры, а его эксперимент над языком. Стилистическая революция в 24 года преждевременна.
— Наполеоновские планы?
— Хуже. Надеюсь определять собственные надежды. Единственная цель, которую мне под силу реализовать, — это создание ещё одного уни+ кального дискурса насилия в философии, усиление рессентимента в фи+ лософии и в жизни, и через это умножение рессентимента — реабилита+
ция и того, и другого. Пока приходится довольствоваться аллюзиями на Ницше, — не могу быть «странником» в собственном ницшевском смыс+ ле, но могу под стать его «тени».
— Если человек в 23 года пишет такой сложный текст, с выкрутасами за пределы современного дискурса, то что же будет дальше? Вейнингер в этом возрасте, например, застрелился. Майнлендер после опубликования своей работы «Философия искупления» повесился. Что будешь делать ты?
— Может быть, стану возвращаться к Богу? У философов одна доро+ га — преодоление философского Бога — Бытия — и возвращение к лично выношенному Богу. Процесс философствования есть процесс становле+ ния Богом. Отчуждаясь от прежних Богов, ты получаешь их отчуждение в свою пользу, а затем надеваешь на себя брошенные ими Божественные одежды. К Богу приходится возвращаться стезёй несовершенства, артику+ ляцией лингвистической некомпетентности в освещении проблемы не+ бытия. Когда не хватает языка, начинаешь обращаться к Богу. «Бог умер» — слишком констатативно, поскольку оператор Бога (место под Бога, потребность в Боге) неискореним даже из словаря дискриминации.
— Это лингвистическая казуистика. Понятно, что на этом пустом месте ты совершенно справедливо пытаешься разместить Ничто, этого нового Бога с вечно инфернальным дыханием.
— Отказавшиеся от Бога попадают в руки небытия. Таков мейнстрим современной мысли.
Беседовал Дмитрий Фьюче
ЕЛЕНА ПЕТРОВСКАЯ
Назвать себя философом — большая ответственность
Елена Владимировна Петровская (род. 1962) — современный русский теоретик, в том числе искусства (философия фотографии), культуролог. Кандидат философ ских наук, старший научный сотрудник Института философии РАН (сектор анали тической антропологии). Автор таких книг, как «Часть света» (М., 1995), «Глаз ные забавы» (М., 1997), «Непроявленное. Очерки по философии фотографии» (М., 2002), «Антифотография» (М., 2003). Редактор философскотеоретического жур нала «Синий диван». Наша беседа с Еленой Владимировной состоялась в рамках про екта «Современная русская философия»30.
— Елена Владимировна, давайте начнем с вашей философской само# индентификации. Обычно вас причисляют к школе В. А. Подороги, к числу так называемых «подорожников». Чувствуете ли вы себя «подорожницей»?
— Это деликатный вопрос. Я действительно являюсь ученицей Вале+ рия Александровича и начинала свои занятия философией под его пря+ мым влиянием (тогда он ещё работал в секторе философских проблем по+ литики Института философии АН СССР). Моим формальным научным руководителем он не был, но много мне помогал, учил меня философ+ ским «методикам» на этапе аспирантуры. Моя первая книга «Часть света» несёт на себе печать этого влияния и этого взаимодействия, в особенно+ сти глава, где разбирается роман Г. Мелвилла «Моби Дик». Название «по+ дорожники» мне кажется чересчур шутливым. О школе Подороги в вашем понимании — вы назвали М. К. Рыклина, О. В. Аронсона, упомянули и меня — следует говорить осторожно, ибо те люди, которых обычно зачис+ ляют в её состав, являются самостоятельными исследователями и теоре+ тиками. Это круг профессионалов, работающих вместе: их интересы пе+ ресекаются, они симпатизируют друг другу. Однако невозможно утверж+ дать, что Рыклин делает то же, что и Подорога. Конечно, всё начиналось с глубокого интереса к французской философии, но сейчас каждый вы+ брал свой собственный путь. Думаю, группу сплачивает бережное отно+ шение к философским текстам, их тщательная проработка.
— Не является ли «школа Подороги» сообществом культуртрегеров, за# нятых пропагандой современной французской философии на русской фило# софской беспочвенности?
— Такая пропаганда носит весьма опосредованный характер. Причи+ на возможных упрёков в культуртрегерстве связана, на мой взгляд, с тем, что было время, когда именно благодаря Подороге и Рыклину «раритет+ ные» французские тексты вводились в отечественный оборот. Вообще го+ воря, культуртрегерская функция постепенно отходит на второй план, поскольку первоисточники становятся всё более доступными благодаря системе переводов. В работе названных авторов интересно как раз то, как они сами, отталкиваясь от французов и одновременно вовлекая их в свою орбиту, прокладывают в философии свои пути.
— Культуртрегерство пугает как раз тем, что, будучи первооткрывателя# ми зарубежных авторов, его носители монополизируют философское проб# лемное поле, ссылаясь на те трудности, с которыми им пришлось в своё вре# мя столкнуться («железный занавес», советская цензура).
— Мне кажется, вы преувеличиваете сопротивленческий накал такой работы. Для профессионального созревания на ниве философии требует+ ся время. Нельзя, прочитав какой+то текст, сказать, что ты его освоил, да+ же если он доступен в русском переводе или если кажется, что к нему лег+ ко подступиться. Требуется время, чтобы выработать свою позицию, язык, методику, способы анализа. В качестве объекта исследования текст подлежит отдалению.
— В сумме у вас получается картина не философского творчества, а фи# лософской текстологии — философии как текстологической экспертизы.
— Нет, речь не идёт о текстологии. Подорога разработал метод анали+ тической антропологии, предложил свой понятийный аппарат — самое большое, что удается сделать философу. Подход Подороги трудно пере+ вести на знакомые нам языки. Его произведенческий анализ отличается и от структурализма, и от постструктурализма. Одна из его последних книг, где вводится, в частности, понятие элементов литературы, — это двухтом+ ник, посвящённый мимесису в русской литературе XIX–ХХ веков. Подо+ рога — образчик живого философствования, который у нас встречается очень и очень редко.
— Возможно ли вообще забыть философский опыт Подороги, используя постмодернистский жанр критики (вслед за «Забыть Фуко» Ж. Бодрий# яра — «Забыть Подорогу»)?
— Я согласна с тем, что у нас в стране нет серьёзной философской полемики, если вы говорите об этом. Книги падают в пустоту. Читатель+ ская аудитория по большей части остаётся неизвестной. Люди, работаю+ щие в одинаковых или смежных областях, не знают друг друга. Выходят, конечно, отклики, рецензии, так что можно говорить о признаках обрат+ ной связи, но с полемикой это несопоставимо. Да, можно сказать «забыть Подорогу», если понимать под этим разбор его трудов, полемику, включе+ ние в определённую традицию. На мой взгляд, весь пафос книги Бод+ рийяра в том и состоит, чтобы помнить философский опыт Фуко. Бод+ рийяр критикует Фуко за тотальность его концепции власти. Но Фуко, будь он жив, мог бы ему ответить, что так называемое попечительство о себе на фоне поголовного контроля — это попытка находить такие места, где мы оставались бы прежде всего этическими существами (благодаря собственным усилиям, стилю жизни, образу мысли).
— Как вы понимаете философский образ жизни?
— Любой гуманитарий находится в состоянии постоянного размыш+ ления, саморефлексии. Критическое отношение к окружающей реаль+ ности неотступно его сопровождает, со временем перерастая в естествен+ ную потребность, своего рода вторую природу: в этом смысле учёный всегда начеку.
— Я же продолжаю считать наоборот: человек рождается, а не стано# вится философом. Конечно, может им стать, но этот процесс всегда сопро# вождается чем#то противоестественным.
— Вы говорите по преимуществу о легендарном типе философа, воз+ можно, о мудреце. А я говорю об образе современного представителя гу+ манитарного знания, который не обязательно мудрец — быть мудрецом предполагает особую этику, — каким, к примеру, был Мамардашвили. Назвать себя философом — большая ответственность. Когда человек го+ ворит о себе как о философе, имея в виду лишь то, что он работает в этом дисциплинарном поле, здесь налицо явное несоответствие.
— И жена у меня философ — мы вместе с ней учились на философском факультете…
— Вот именно. Вспомните строчку из Беллы Ахмадулиной: «Жена литературоведа, / Сама литературовед...».
— Сейчас в русской философии возникла уникальная ситуация — борь# ба за философскую антропологию. Ф. И. Гиренок хочет зачистить её от В. А. Подороги и С. С. Хоружего. Как вы думаете, ему это удастся?
— Слово «зачистить» прозвучало загадочно... Я не без симпатии отношусь к Гиренку, хотя он не является моим кумиром. Знаю, что на фи+ лософском факультете МГУ он пользуется большим авторитетом. Об Институте философии такого сказать не могу: у нас в секторе, к примеру, Гиренок не является предметом обсуждения. Никакой серьёзной конку+ ренции с ним не ощущается. Его труды, возможно, занятны, но далеко не безусловны.
— Каких ещё русских философов вы можете назвать?
— Хочу назвать Нелю Васильевну Мотрошилову как человека, кото+ рый недавно обратился к изучению постсоветского периода в русской фи+ лософии. И это при том, что она — известный специалист по феномено+ логии. Мне любопытна деятельность людей из сопредельных сфер: на+ пример, Татьяны Чередниченко, ныне покойной, или композитора Вла+ димира Мартынова, который пытается осмыслить положение музыки в наше время. Нередко солидаризируюсь с Борисом Дубиным.
— Не переживает ли современная русская философия «бронзовый век»?
— В смысле первобытных народов, когда они занимались собира+ тельством?
— И в таком смысле тоже — собирательством чужого (американского, английского, немецкого, французского)…
— Нет, с таким определением не соглашусь. То, что делается в Рос+ сии, вторичным не является. Всему виной — наш политический невроз. Когда+то мы были в центре — одним из двух мировых полюсов, — а сей+ час оказались на геополитической периферии...
— Но, по#моему, в отношении философии Россия всегда была на пери# ферии. Нас как не знали, не знают, так и не хотят знать. Наших философов мало переводят на иностранные языки, мало цитируют.
— Есть точка зрения, согласно которой именно наша эмигрантская философия сыграла положительную роль в пропаганде русской мысли. Эта философия по+прежнему недооценена, но уже нами самими. Конеч+ но, многие из тех философов находились под сильным воздействием за+ падной философии, и тем не менее им — этим культуртрегерам понево+ ле — удалось многое сделать. Сначала, как вы знаете, был советологиче+ ский интерес к русской философии и культуре. Теперь же мы скатились до уровня так называемой славистики (её подчас конъюнктурно объеди+ няют с германистикой и прочими локальными дисциплинами), — это факультеты именно что славистики, не философии. Наши философы практически не интегрированы в мировой философский контекст, и в этом их драма. Как недавно заметила Н. В. Мотрошилова, наша пробле+ ма — в местной культурной политике, которая не воспринимает русскую философию как национальный приоритет. Для сравнения упомяну прог+ рамму французского Министерства иностранных дел (у нас она называет+ ся «Пушкин»), имеющую целью распространять культурное влияние Франции по всему миру. Это гранты, совершенно целенаправленно выде+ ляемые Министерством иностранных дел — заметьте, не Министерством культуры — на поддержку культурных инициатив по продвижению фран+ цузских достижений за границей.
— В своей последней книге «Антифотография» вы исследуете нераскры# тый потенциал фотографии как возможности преодоления социальных сте# реотипов. Не кажется ли вам стереотипным само название книги? По#моему, время «анти#» принадлежит философскому прошлому. Тот же М. Н. Эп# штейн советует нам употреблять приставку «амби#» (двойственность).
— Если говорить о том, как возникло название книги, то мне на ум приходил только «Анти+Дюринг» Ф. Энгельса. Стереотипы не нужно пре+ одолевать — с ними нужно разбираться. К тому же я не очень доверяю языковым экспериментам, за которыми не ощущается потребности в изобретении понятий, продиктованной самой рефлексией. Словотворче+ ство как таковое не приветствую.
— Хотите сказать, что в современном оцифрованном мире фотография не отменяется, а приобретает новые (двойственные?) черты?
— Валерий Подорога как+то справедливо заметил, что все, кто пишет о фотографии, всегда пишут о чём+то другом. Возьмите того же Барта и его книгу о скорби и утрате. Мне хотелось раскрыть потенциал фотогра+ фии навстречу множественности, а не Другому с большой буквы и в един+ ственном числе. Иначе говоря, тем смыслам, которые ещё не могут себя выразить или проявить. Фотография же позволяет им это сделать — речь идёт об опережающем самовыражении, о том, что предшествует готовым семантико+идеологическим формам.
— Похоже, что вы, так же как и я, работаете в традиции антиязыка. Но давайте вернёмся к социальным стереотипам. Доступно ли современному че# ловеку понятие нерегламентированного досуга?
— Несколько неожиданный переход. Конечно, можно вслед за Джей+ мисоном говорить о том, что происходит унификация культурной про+ дукции с последующим превращением её в товар. И это доводится в рав+ ной мере испытывать всем. Сюда же, по+видимому, относится и досуг. Где же возможны зоны свободы? Или есть что+то в самой этой шаблонности, что нас и объединяет? Энди Уорхол одним из первых обратил внимание на непроизвольную общность. Помните его банки кока+колы, которую пьёт и американский президент, и человек с улицы? В массовой продук+ ции есть уравнивающий, демократический потенциал.
— Но разве кока#кола может выразить извечную сущность человека?
— Мишель Фуко и другие философы показали, что никакой универ+ сальной человеческой природы нет. Само понятие человеческой природы есть некий социальный конструкт, возникший и использовавшийся в оп+ ределённое время. Но коль скоро наша природа социально детерминиро+ вана, то давайте разбираться с этими детерминациями. Возвращаясь в со+ циальный контекст, давайте исследовать, что в нём является частью на+ шего Я. Это как с бессознательным: казалось бы, что может быть ближе, чем собственное Я? Но оно уже расщеплено бессознательным, этим дру+ гим внутри «меня самого»...
— На мой взгляд, только философствование может быть самым ярким примером нерегламентированного досуга…
— Согласна. В момент философствования вы совершаете эпохе по отношению к окружающему миру.
— Но ведь можно пойти ещё дальше и говорить уже о досуге от филосо# фии, а не наоборот — для чего#то более крупномасштабного и содержатель# ного, чем философия.
— Вы говорите о практике? Марксист вас понял бы именно так.
— Уорхол как великий художник всего лишь закрепил культурные штам# пы своей эпохи, сами носители которых не в состоянии этого сделать.
— Мне кажется, что в первую очередь он работал с аффектами. Он показывал, как возможна близость в зоне, которая кажется предельно отчуждённой.
— Что это за близость?
— Это такая форма общности, которая складывается через штамп. Мы все вовлечены в структуры потребления, и оно является неотъемле+ мой частью нашей повседневной жизни. Мы формируем общее тело в са+ мом акте потребления, который стирает какие бы то ни было индивиду+ альные характеристики.
— Когда я вместе с вами пью кока#колу, то не свожусь к этому процессу потребления…
— Да вы вообще ни о чём не думаете в этот момент. Никто не думает. Мы просто объединены этим фактически. Это наш сегодняшний способ существования. Ведь и вы потребитель! Мы все живём в обществе массо+ вого потребления. И это такая же наша сущность, как и та глубинная, первородная, о которой вы только что говорили. Только это надо пони+ мать не как попытку легитимировать общество массового потребления, а как возможность проанализировать его: что мы будем делать — оплаки+ вать его или же находить коммуникативные зоны внутри сообщества по+ требителей? Это то, что оказывается очень близким каждому из нас, то, что в хорошем смысле нас уравнивает как индивидов, а не нивелирует. Ес+ ли коротко, то речь идёт о новом типе социальной связности.
— Критика такой социальности возможна через нахождение какой#то новизны её стереотипов?
— Нужно иметь в виду объективированные и необъективированные стереотипы. Постмодернистская критика оперирует с объективирован+ ными стереотипами как формами идеологического программирования: это результат унификации культурного продукта. Тем не менее есть такая область штампа или такой уровень его существования, который ему же предшествует: если угодно, это новый штамп, который о себе ещё ничего не знает. Например, вы неожиданно попадаете в опыт коллективной па+ мяти того, о чём помнить не можете. (Что американцы помнят сегодня о 1950+х? Это и обнажают фотографические серии С. Шерман.) В этот мо+ мент вы свободны, и ваша свобода проходит по линии штампа в его до+ объективированной форме. Не следует торопиться опредметить новый штамп, думать о нём в терминах некоей состоявшейся объективации. Ва+ жен сам жест такого различения.
— Но в сумме опять же выходит, что именно повседневность человека является тем пластом неотчуждаемого в нём, в рамках которого он и может чувствовать себя свободным?
— Сейчас проблеме повседневности уделяется очень много внима+ ния, и она этого заслуживает. Упоминавшиеся ранее практики самопопе+ чения располагаются в горизонте повседневности. Но философия всег+ да подозрительно относилась к этой области, потому что это область невидимого. Понять же, по каким законам она функционирует, крайне любопытно. Это можно сделать, используя разные артефакты. К их числу относится и фотография: с одной стороны, это прямой артефакт, а с дру+ гой — познавательный механизм, переключатель, позволяющий нам об+ наруживать специфику этого невидимого.
— Хотите сказать, что в отношении проблемы повседневности филосо# фия занимает снобистскую метапозицию?
— Да, но философия — это анонимная, имперсональная деятель+ ность. Лучше скажем так: есть отдельные философы, которые оберегают философию от массовой культуры, от повседневности как независимого проблемного поля. Философия — в целом, исторически — исключает проблему повседневности из своего рассмотрения.
— История философии учит противопоставлять философа и толпу…
— С другой стороны, Сократ ходил на рыночную площадь, а Диоген спал в бочке. Примеров схожих или аналогичных можно привести нема+ ло... В XX веке в философии произошли радикальные перемены, которые затронули основные философские вопросы, а главное — произошло пере+ определение самой философии, которое выявило её множественный ха+ рактер. Принципиальный вопрос, пожалуй, в том, что является предме+ том философии в XX веке.
— Бадью на него ответил — философия ради философии.
— Вместе с тем, как продолжает Бадью, есть и сопредельные филосо+ фии области, где производится истина: это наука, любовь, искусство и по+ литика. Четыре взаимоподкрепляющие сферы. Новейшая философия вторглась в нетрадиционные для себя области, тогда как история филосо+ фии просто не опознавала их в качестве своих. Произошло размывание философии, её привычного предмета. И я не стану оплакивать такое по+ ложение вещей. По моему мнению, это вполне позитивно, потому что есть особый тип постановки вопроса, вопрошания, свойственный только философии, и если он будет перенесён в другие области, то они от этого только выиграют. Ответ Бадью — один из возможных ответов... Филосо+ фия может иметь флёр совсем одинокой науки, но сегодня это касается всего гуманитарного знания, которое не спасает даже университетская традиция. Проблема востребованности гуманитарного знания общест+ вом — одна из ключевых.
— Вы пишете об эффекте (аффекте?) дежавю при восприятии фотогра# фии. А возможно ли дежавю наоборот (припоминание старой ситуации в ка# честве новой)?
— Вы можете припоминать то, чего не видели, и то, чего не знаете, — речь идёт о такой памяти, которая приходит к вам в момент припомина+ ния. Это не культурная память, а аффект. И это совершенно другая систе+ ма времени — нелинейного, несоциального.
— Аффект выступает против эмоции?
— Да, это не одно и то же. Но зачастую люди путают одно с другим. Аффект — в смысле аффектологии — трудноопределим. В отличие от эмоции, его вы не переживаете: не остаётесь наедине с самим собой, сле+ дя как личность за своим переживанием. Напротив, вы перестаёте быть инстанцией сознающей, контролирующей, рефлектирующей — аффект всегда, по Ж.+Л. Нанси, приходит извне. В этот момент субъективность ретируется, отступает. Если мы и можем говорить на каком+то языке о бессубъектной философии, то на языке аффекта в том числе. Интересна интерпретация Беньямина: аффекты разлиты во всех вещах или прикреп+ лены к ним. Стоит только эти вещи увидеть, как аффекты тут же атакуют нас. Это к вопросу о материальной составляющей аффекта...
— Получается, что поскольку вы пишете о безэмоциональности совре# менного человека, — аффект в вашем понимании выступает как суррогат эмоционального?
— Я не стала бы так говорить. Вы привносите в ваш вопрос значи+ тельный элемент психологизма. Современный человек эмоционален. Просто у нас имеются разные уровни рассмотрения — разные пороги эмоционального. Линии коллективных аффектов помогают выстроить новое понимание социального — то, что объединяет ещё до всякого зна+ ния о каком+либо объединении, до любых сложившихся институциональ+ ных форм. Фактически здесь имеется в виду критика представления, или конец представления. А это то, чем, собственно говоря, и занимается со+ временная нам философия.
— Что такое коллективное воображение? Как оно соотносится с инди# видуальным?
— Не вижу здесь никакого напряжения. Мне интересно вскрывать формы коллективного воображения, поскольку их трудно обнаруживать. Существуют разные способы делать это: например, когнитивное карто+ графирование. Это анализ структуры определённых утопических ожида+ ний и желаний, как они преломляются в наличных произведениях искус+ ства. Фотография — один из такого рода объектов.
— Может ли существовать чистая фотография как разновидность чис# того искусства, независимая прежде всего от фотографа?
— Меня вообще не интересует фотография как искусство. На ваш вопрос может ответить арт+критика, которая обсуждает ценностный ста+ тус произведения искусства. Однако ценностный статус творений искус+ ства не входит в область моих профессиональных занятий. Ведь и худож+ ники интересны тем, как они сопротивляются архивированию в широком смысле слова: музей их всякий раз пытается присвоить, а они этому не поддаются, ускользают, изменяют навешиваемым ярлыкам. Фотография, как я её понимаю, выполняет функцию свидетельствования, и нам нужно понять, о чём именно она свидетельствует. Здесь мы всерьёз соприкасаем+ ся с такой формой реальности, как историческое время. Ролан Барт, как известно, не любил большую историю, противопоставляя ей аффект ин+ дивидуального времени. В своей книге, полемизируя с ним, я пытаюсь пе+ реинтерпретировать категорию времени так, чтобы включить её в состав не индивидуальной, а коллективной жизни.
— Но ведь фотография является наиболее чёткой функцией среднего класса, по П. Бурдьё?
— Бурдьё — социолог, который испытывает явное раздражение, ког+ да рассматривает механизмы легитимации всего наиболее «среднего».
О фотографии он тоже говорит в терминах усреднения, видя в ней источ+ ник социального конформизма на уровне буржуазной семьи. Мне хочет+ ся успокоить Бурдьё словами: давайте об этом среднем поговорим более спокойно; давайте по+другому отнесёмся к банальности — она может ока+ заться ближе, чем самое близкое. Я за освобождение среднего от высоко+ мерной оценки, которая прокралась даже в социологию.
— Ролан Барт много писал об упорстве референта. Со своей стороны, Фёдор Гиренок приводит пример синдрома зеркала — если долго смотреть на себя в зеркало, то вскоре находишь себя безобразным. Но за безобразной оценкой себя (за обесцениванием внешнего и внутреннего вида) стоишь не ты сам, а Другой, который сидит в тебе и смотрит на тебя чужими глазами. Мож# но ли то же самое сказать и о восприятии себя на фотографии?
— Взгляд Другого является безусловно конституирующим в отноше+ нии Я. В фотографии же чаще всего подразумевается психологический план: вы — живой человек, а на снимке вам предъявляют выхваченное мгновение вашей жизни, вы видите себя объективированным — вот он, своеобразный момент вашей смерти.
— А как же быть с фотогенией: есть люди, которые на фотографии вы# глядят лучше, чем в жизни, и наоборот?
— В истории кино есть много исследований, специально этому по+ свящённых. Фотогения, а вслед за ней и киногения подробно изучены. Существует, к примеру, версия киногении, которая отрицает личную привлекательность. Вернее, эта привлекательность оказывается эффек+ том самого кадра, игры означающих. Не ваше лицо обладает этим свой+ ством само по себе, а кадр выстроен таким образом, что делает вашу внешность киногеничной.
— Можно ли обнаружить за неприятием себя на фотографии неприятие в себе именно художника, который творит идеальные (совершенные) формы, а на фотографии оказывается разоблачённым, то есть псевдохудожником?
— В современном искусстве очень сильны постановочные формы. Трудно говорить о каком+либо разоблачении, когда сама практика искус+ ства не говорит о подлинности: о персонажности — да, а вот о подлинно+ сти — нет. Художник в современном искусстве являет себя часто как не+ кий персонаж. Любопытно, что когда Борис Михайлов снимает бомжей, то он их заставляет принимать определённые позы, а не снимает напря+ мую. Ему нужно придать им ракурс искусственности, чтобы проступило их «натуральное» существование: для этого что+то должно быть транс+
формировано, искажено. Момент искажения всё время присутствует здесь как сознательный, поэтому я не стала бы настаивать на разоблаче+ нии. Предпринимается много усилий, чтобы разоблачения не произош+ ло... Там, где ты себе нравишься на фотографии, — это одно, а там, где фо+ тография состоялась как фотография, — это другое. Ты себе можешь сов+ сем не нравиться — а фотография, однако, состоялась. Прямой зависи+ мости тут не наблюдается.
— А вы сами занимаетесь фотографией?
— Иногда снимаю для себя.
— Ваш прогноз: цифра победит?
— Многие профессиональные фотографы находятся сейчас на пере+ путье. Это связано с переходом к цифровой фотографии. Тип изображе+ ния, демонстрируемый цифровой камерой, технологически отличен от фотографического. Это и другие скорости регистрации и дальнейшего распространения. Скорее можно говорить об образах, производных от современных медиа. Верно то, что многие фотографы+практики воздер+ живаются от комментариев к своей работе. Но особенностью современ+ ного искусства является то, что оно предельно рефлексивно и самореф+ лексивно. Даже если фотографы и не пишут комментарии к своим рабо+ там, они тем не менее очень много сил тратят на продумывание каждого проекта. Фотография завершилась как определённая технологическая ве+ ха в развитии цивилизации, и в этом смысле её потенциал практически исчерпан. Ставить её «смерть» в один ряд со смертью Бога, Автора, Исто+ рии или Философии, как это предлагаете вы, неправомерно. Ведь фото+ графия, как она нам известна, — отнюдь не концепт. Это мы с вами по ходу рассуждений наделяем её такой познавательной силой.
Беседовал Алексей Нилогов
АЛЕКСАНДР ПЯТИГОРСКИЙ
I. Честно говоря, никакой русской философии нет...
Александр Моисеевич Пятигорский (род. 1929) — современный русский философ «никакой культуры», эмигрировавший из России в 1974 году, буддолог, культуролог, языковед, профессор Лондонского университета. Исследователь индусской мифоло гической и философской традиции. Друг и соавтор М. К. Мамардашвили («Символ и сознание»). Один из основателей московскотартуской семиотической школы (вместе с Ю. М. Лотманом). В феврале 2006 года Пятигорский прочитал цикл лек ций по политической философии в РГГУ и Фонде эффективной политики, которые вызвали ожидаемый интерес. Наша беседа с Александром Моисеевичем состоялась в рамках проекта «Современная русская философия»31.
— Александр Моисеевич, хотелось бы начать нашу беседу с ключевой темы как вашего философствования, так и современной философии — с проблемы человеческого сознания. Сегодня в лидеры философии сознания вырвались американские философы, такие как: Сёрл, Деннет, Чалмерс, Макгинн. Что вы можете сказать об этом?
— Для меня философия сознания началась и закончилась на Гуссер+ ле. Сёрл сделал какие+то шаги, но он не был в состоянии произвести эле+ ментарные операции введения в тему онтологии сознания, — в тему тех онтологий сознания, к которым всю жизнь стремился Мамардашвили и с которыми так и не смог справиться последний исторический феномено+ лог Поль Рикёр.
— Неужели вы не чувствуете, что современная американская филосо# фия лидирует в философии сознания?
— Чьи имена вы можете мне назвать? Только не упоминайте Сёрла. Хомский уже отошёл от дел. Деннет так и не преуспел дальше своего лингво+логического метода. С таким методом в мышлении о сознании ничего сделать нельзя. Здесь нужно введение новых онтологий.
— С языком в изучении сознания пора заканчивать?
— Оно давно себя закончило. Сознание, выродившееся в язык, не сознание.
— Получается, что нам по#прежнему не хватает адекватного языка для описания сознания?
— В этом вопросе я витгенштейнианец. Нужно постоянно думать, чтобы выработать такой язык, а не выдумывать язык к факту написания книги о теории сознания.
— Какова альтернатива языку в изучении сознания?
— Единственная альтернатива — разработка самых простых онтоло+ гических структур, в которых сознание увязывалось бы с мышлением. С мышлением как таковым.
— В «Трёх беседах о метатеории сознания», в «Символе и сознании» вы как раз и пытаетесь говорить о мышлении как таковом.
— Это было очень давно. С этой темой меня уже больше ничего не связывает.
— Переключились на политическую философию?
— Господь с вами!
— Почему вы приехали в Россию с такой темой?
— Этой темой я занимался последние полтора года. На самом деле я занимаюсь буддийской философией, из которой я и пошёл в философию сознания. Политическая философия заинтересовала меня только воз+ можностью введения каких+то новых онтологий.
— Как вас встретили в Москве? Вам известна реакция на ваши лекции?
— У меня нет времени на подобную реакцию. Меня интересует такое мнение в порядке светских разговоров, которые я терпеть не могу. Не хо+ чу никого обижать…
— А почему бы не обидеть?..
— Мыслительно это очень редко бывает продуктивно. Не никогда, но очень редко.
— Но ведь философия — это и есть самый искушённый, самый изощрён# ный дискурс насилия… Почему бы им не воспользоваться?
— Конечно, можно воспользоваться, чёрт дери! Зачастую это бывает, как правило, эффектно, но не эффективно. По теме сознания у меня вышла книга «Мышление и наблюдение», в которой излагается теория обсервационной философии, а также вопрос, почему до сих пор нет тео+ рии мышления ни в физическом, ни в биологическом, ни даже в лингвис+ тическом смысле.
— Кто вас пригласил в Москву с лекциями? Павловский?
— Меня пригласили РГГУ и Фонд эффективной политики. Проспон+ сировал приезд ФЭП (более идиотского названия я в своей жизни не при+ помню).
— Вас использовали или вы кого#то использовали?
— Я так скажу. Если говорить серьёзно, человека используют только тогда, когда он этого хочет. Когда он этого не хочет, то его никто не может использовать: ни Павловский, ни Буш, ни Блэр.
— Павловский вас опекает?
— Он мне платит деньги. Смешно предположить обратное.
— На одной из своих лекций вы поклялись упасть в ноги тому, кто даст вам точное определение политической власти. Но ведь определение «Падай# те в ноги!» и есть реальное определение политической власти?..
— Я дал очень частное, феноменологическое определение. Мне оно опять же феноменологически нравится, тем более что не я его придумал, а Гефтер, старый дурак, социолог. Да, с моей стороны это был феномено+ логический жест. Когда тот же Павловский сказал: «Вы действительно в это верите?» — я узнал в нём ученика Гефтера. Павловский — это выкор+ мыш Гефтера и его единственный наследник.
— Как вы относитесь к современной русской философии? Какие имена из ныне живущих философов вы бы назвали?
— Решительно никого не хочу обижать, поскольку нахожусь в таком же трудном положении, как если бы меня спросили: «А кого бы вы назва+ ли философами в США?»
— Так и не назовёте?..
— Могу назвать, но для этого нужно много думать.
— Русская философия — это философия на русском языке или это фи# лософия, использующая лишь западные терминологии?
— Честно говоря, никакой русской философии нет, как нет никакой английской, германской. Есть одна философия.
— Философия универсальна, а не региональна…
— Она просто философия. Когда человек входит в философию, то это случай, что он говорит на русском языке.
— Этот случай случаен?
— Мераб любил говорить о совпадении, — о том, что он философ и русский. Поэтому, как это утверждал Витгенштейн, философу желательно мыслить на двух языках, что он и делал, — для того чтобы легче самому осваиваться с предметом своего собственного мышления.
— Чтобы иметь возможность взглянуть на себя со стороны, с метапо# зиции?
— Конечно. Поэтому Витгенштейн давал сразу два текста — на не+ мецком и английском.
— Почему русскую философию не хотят переводить на другие языки?
— Что значит не хотят?
— Буквально отказываются издавать русских философов за рубежом, переводить их тексты на иностранные языки, пропагандировать её.
— Философию ни в коем случае нельзя пропагандировать. Философ найдёт философа.
— Американцы пропагандируют американскую философию…
— Простите, при чём тут американцы? Это их собачье дело. Однаж+ ды в Америке меня спросили: «Есть ли философы в Москве?» Я ответил, что их всего четыре. А мне ответили, что это дико много, поскольку у нас всего три. Философов и не должно быть много. Из ныне живых могу на+ звать Владимира Калиниченко. Это настоящий философ. Единственный прирождённый русский философ, который в строгом смысле слова ни+ когда не был философом, никогда философией не занимавшийся, кото+ рый всю жизнь боролся в себе с филологом, с журналистом, — это Роза+ нов. Философа более тонкого ума и большей смелости в русском мышле+ нии не было. Соловьёв проиграл борьбу. Самостоятельных русских фило+ софов, кроме Розанова (философ религии), не было.
— А Леонтьев?
— Не путайте таланта с философией. Леонтьев — человек феноме+ нально талантливый, но во всех своих философских попытках абсолютно беспомощный. Он не смог сформулировать ни одной онтологической по+ сылки. Даже когда он говорил о конкретных вещах. Можем ли мы упре+ кать человека в том, что он не был философом? Толстого, например?
— Георгий Дмитриевич Гачев — философ?
— Вы что, с ума сошли?
— Валерий Александрович Подорога?
— Валерия знаю. Блестящий философски образованный культур+ трегер.
— Александр Александрович Зиновьев?
— Настоящий философ. Александр Александрович — удивительный, замечательный человек, очень много сделавший для русской философии. Но, поскольку я не являюсь русским философом, лишь в малейшей сте+ пени — по языку, постольку мне трудно судить в целом о современной русской философии.
— По сути дела, в России всегда существовала философомания, но не было философии?
— Конечно не было.
— И не будет?
— О, это, простите, уже ваше дело. Это вы уже будете сами решать.
— Что нужно сделать для того, чтобы в русской философии появилось понятие «философской традиции»?
— Для этого нужно расчистить смотровую площадку сегодняшнего дня. Только с неё можно будет говорить о традиции. Ещё раз подчеркну, что русской философской традиции пока нет. Её можно выдумать.
— Все философские традиции выдуманы?
— Конечно же! Мой хороший друг в Лондоне, китаист (недавно умерший), написал статью о великой китайской выдуманной философ+ ской традиции. В ней он показал, в какие периоды времени она выдумы+ валась, затем довыдумывалась, потом перевыдумывалась. Китайская культура больше всех проникнута духом историзма. Те, кто понимали рус+ скую философскую традицию, в основном врали. Враньё — фундамент европейского самовыражения, а на русской почве оно превратилось в абсолют.
— Соотношение русской литературы и русской философии… Кто кому проигрывает? Должна ли русская философия быть литературой?
— Простите, давайте для начала уберём слово «русская».
— Давайте…
— Так случилось, что русская литература, едва став русской, стала в экстренном порядке превращаться в мировую. Как и германская фило+ софия, едва став философией, стала превращаться в мировую. Для этого нужен феноменальный уровень качества. Русская философия не может претендовать на самостоятельность.
Начиная с конца XIX века литература во многих странах взяла на се+ бя работу манифестирования философских идей, выдуманных писателя+ ми, иногда — проводником собственно философских идей. Я могу при+ вести в пример двух писателей XX века — Кафку и Борхеса. Ни тот ни другой и близко не относились к профессиональной академической философии. Они оба её презирали. Борхес — ещё и академическую фило+ логию, поскольку сам был филологом и знал, о чём говорил. Любой слу+ чай, когда философия себя манифестирует, пускай и в бардаке, — это хо+ рошо. Философия выигрывает, потому что не становится литературой. Это литература становится источником манифестации философии. Беда философии в том, что она ничем не становится.
— Почему сама философия себя не манифестирует?
— Философия уже со времён Декарта ищет автономии. Это не фило+ софский, а человеческий поиск. У философии не может быть цели. Вы мыслите, и может быть только продолжение. Если у вас есть цель, то вы не философ.
— Философия как служанка философии?
— Философия как ничья служанка. Философия как желание фило+ софствовать. Прежде всего. Потом вы это желание можете переинтер+ претировать.
— Что это за странная потребность всё время мыслить?
— Индивидуальная потребность. Один всё время хочет играть в по+ кер. Другой не может жить без крикета. Но философия должна быть жи вым мышлением. Поскольку философия не востребована, её приходится всегда возобновлять с нуля.
— Не кажется ли вам, что вы заигрались с философской рефлексией?
— Нет, не кажется. Нужно определиться со словами. Как философ, вы должны видеть перед глазами случай употребления каждого слова. Но это не контекст употребления, для которого потребуется контекст кон+ текста и так далее в дурную лингвистическую бесконечность. Нужно избавляться от языка — от русского, от какого угодно, чтобы научиться пониманию.
— Какая#то лингвистическая нищета?
— Нет, это нищета нашего мышления о том, что мы не можем мыс+ лить без языка. Сделать выжимку можно только из языкового богатства, а не наоборот. О ком я говорю? Конечно же о Декарте. А вот когда его трак+ тует Деррида, то это уже неинтересно. Что+то придумать на своём языке можно, только отрефлексировав его.
— Как вы относитесь к постмодернизму?
— У меня большое недоверие ко всем префиксам. Модернизм — постмодернизм. Структурализм — постструктурализм.
— У вас проблемы с постмодернизмом?
— Никаких проблем с постмодернизмом у меня нет. Мне нравится жить с этим неприятием.
— Очередная зависимость от своего образа жизни?
— Не нужно универсализировать каждую фразу. Будьте экономнее.
Жёстче. Скупее.
— Используете бритву Оккама?..
— Почему бы и нет?
— Но ведь на бритву Оккама всегда найдётся щетина Эпштейна… — Это уже не ново.
— Разве обыденный русский язык приспособлен для философских проблем?
— Конечно же не приспособлен. Но тем хуже для философии. Не+ отрефлексированный философский язык часто принуждает нас к вра+ нью, — к попятному, — ко вторичной рефлексии.
— Кто сейчас в мире лидирует в философии?
— Спросите о чём+нибудь полегче.
— О соотношении мусульманского мира и христианского… Кто внушил исламскому миру иллюзию его исторической пассионарности?
— Можно обойтись без дурацких терминов, выдуманных моим по+ койным товарищем Львом Гумилёвым?..
— От этих дурацких терминов уже невозможно избавиться…
— Теория пассионарности — безобразно аргументированная теория, философски+вульгарная вещь.
— Можно ли говорить об исламской ветви цивилизации как о тупи# ковой?
— Никакого исламского мира не существует. Это выдумка кретинов из российского Министерства иностранных дел и из американского Гос+ департамента, набивающих свои карманы за счёт фундаментального не+ вежества современной интеллигенции практически во всех странах. Если говорить о тупике, то я могу сказать только одно — сейчас мусульманская религия, а никакая не культура или тем более цивилизация, находится в таком же жалком состоянии, как и современное христианство, как и со+ временный буддизм. Ислам сегодня — это эффект запоздалой секуляри+ зации, религиозный исламский фундаментализм — это реакция на секу+ ляризацию конца XIX—начала XX века. Не более того. Никакого проти+ вопоставления мусульманства и христианства нет, если отвлечься от текс+ тов, порождаемых жуликами. Оно выдумано в мошеннических полити+ ческих целях и ещё отзовётся рикошетом по тем самым кретинам, кото+ рые пустили в оборот эту дихотомию.
— Будет ли секуляризирована исламская религия? Ждёт ли нас аналог исламской Реформации?
— Она происходит на наших глазах. И это далеко не первый шаг.
— Как вы думаете, останется ли имя Пятигорского в истории фило# софии?
— Это вопрос к истории философии. Например, когда Хайдеггер го+ ворил о том, что не знает истории философии, он профессионально лука+ вил. Или когда говорил, что ему стыдно заниматься философией. Оста+ ваться всё время в философии и не переходить в историю философии —
это радикальное решение. Это совершенно другое мировоззрение. На сегодняшней смотровой площадке происходит кризис исторического самоощущения.
— Как перестать быть зависимым от своего времени? Как удержаться от соблазна быть историческим?
— Время — это функция нашего мышления. Времени как онтологи+ ческой категории не существует. Нельзя говорить: «Он так думал, потому что он был человеком своего времени». А нужно: «Его время было таким, потому что он так думал».
Беседовали Алексей Нилогов и Сергей Чередниченко
II. Я гедонист, а не нарциссист!
В октябре 2006 года А. М. Пятигорский прочитал цикл лекций по буддистской философии в Государственном музее Востока. Вторая часть беседы с Александром Моисеевичем в рамках проекта «Современная русская философия»32.
— Александр Моисеевич, как вы прокомментируете смерть А. А. Зино# вьева?
— А сколько лет было Саше? Не могу подсчитать?..
— Он умер на 84#м году. Мы записали беседу с А. А. Зиновьевым в рамках проекта «Современная русская философия» ещё в конце января 2006 года. Но редакция газеты «Завтра», узнав, что Зиновьев сильно болен, попридержала его, опубликовав спустя неделю после кончины в качестве последнего. Сам Александр Александрович написал на нашей расшифровке словосочетание «последнее интервью». Правда, некоторые нечистоплотные журналисты, узнав о его тяжёлой болезни, вовремя подсуетились и интер# вьюировали его уже на пороге смерти. Я слышал аудиозапись одного интервью, сделанного 3 апреля 2006 года радиожурналисткой «Говорит Москва» Светланой Духаниной. В нём Александр Александрович страдаль# чески#больным голосом в течение 15 минут резюмировал свой жизненный путь…
— Понятно. Какой же замечательный это был человек!
— Ещё из недавно умерших русских философов — Юрий Мефодьевич Бородай...
— Но наверняка вы пропустили ещё одного замечательного русского философа…
— Кого же именно?
— Его Россия пропустила! Я имею в виду Владимира Вениаминовича Бибихина.
— Почему же это? Мы хорошо знаем и помним Бибихина…
— Самой большой потерей для меня в последнее время стали три смерти моих друзей и необыкновенных людей — В. В. Бибихина, В. Н. То+ порова, М. Л. Гаспарова. Но давайте уже перейдём к беседе.
— Как вам наша предыдущая беседа, опубликованная 16 июня 2006 го# да в «Литературной России»?
— Я точно не помню её содержание. Так замотался с этими лек+ циями…
— Тогда лучше начать с фигуры М. К. Мамардашвили. Сейчас в наших философских кругах происходит переоценка творчества Мераба Константи# новича…
— Кем же?
— Я уже долгое время общаюсь с современными русскими философами, и многие из них называли имя Мамардашвили как яркий пример чересчур разрекламированного философа, искусственно пропиаренного на Западе в статусе европейского философа.
— Кто же его разрекламировал?
— Прежде всего французы…
— Полная чушь! Никакие французы его не рекламировали. Никаким французам он до сих пор неизвестен. Это одни разговоры.
— Ну хорошо. Я приведу вам цитату о Мамардашвили из интервью с та# ким отечественным философом, как Давид Израилевич Дубровский. Вы его знаете?
— Мне очень стыдно, но не знаю…
— Неужели вы не помните знаменитый спор в советской философии о природе идеального между Э. В. Ильенковым и Д. И. Дубровским?
— О Боже мой! Но ведь Дубровский — психолог.
— Да, конечно, психолог, философ, методолог науки.
— Простите, вот именно — методолог…
— Итак, цитата: «Многие сейчас превозносят Мамардашвили, считая его выдающимся философом. Я знал его лично, он был хороший, интересный человек, блестящий лектор. Но что, собственно, создал Мамардашвили в об# ласти философии? Каковы критерии оценки его работ? Давайте зададимся общим вопросом о критериях значительности того или иного философа?.. <…> Он, конечно, личность незаурядная. Однако его книги, изданные в по# следние годы, это не совсем Мамардашвили. Это чаще всего обработки его лекций, записей, выполненные его друзьями. При жизни он очень мало писал, был ориентирован прежде всего на разговорный жанр, на устную философс# кую традицию. Его лекции собирали значительные аудитории, он был артис# тичен, касался многих вопросов, которые были если и не табу, то явно не в фаворе у идеологического начальства. Эти лекции учили мыслить, учили лю# бить и хранить высокие ценности. Для того времени Мераб Мамардашвили был крупным явлением философской жизни. Но я должен прямо сказать, что в изданных текстах Мамардашвили я не нахожу каких#либо существенных концептуальных новаций. Мне претят его медитативность, повторы, долгие «диалектические» периоды и коловращения, содержание которых уже давно знакомо, довольно высокая степень неопределённости суждений. Я, конечно, не отрицаю пользы этих изданий. Людям другого ментального склада, чем мой, это может нравиться, и — на здоровье. Для меня труд философа — это напряжение мысли, экономия слов, высокая степень интеллектуальной отве# тственности, воля к постижению смыслов бытия, сверхзадача».
— Не хотелось бы это комментировать, потому что всё здесь очень пристрастно. Я имею в виду не субъективность (поскольку мы все субъек+ тивны, и я в первую очередь), а именно пристрастность. Я был бы готов согласиться с этим, если бы сам Дубровский сказал о своей философской сверхзадаче.
— У него есть такая сверхзадача — проблема субъективной реальности.
— Мамардашвили был больше ориентирован на говорение, чем на письмо. Может быть, поэтому трудно суммировать Мераба в какую+то систему или концепт.
— Хорошо, оставим Дубровского. Но вы же согласны с тем, что тексты Мамардашвили по#прежнему остаются без строгого осмысления. Есть ли какая#то философская критика на Мамардашвили?
— Единственный человек, который не сказал, а написал о Мамар+ дашвили, попытавшись реально разобраться с его философской методо+ логией мысли, был Владимир Валентинович Калиниченко — последний московский философ, который в настоящее время живёт в Вятке.
— И в прошлый раз вы его также называли…
— Да. Настоящих философов становится всё меньше и меньше…
— Выборка проекта «Современная русская философия» насчитывает около 30–40 имён, хотя вы сами говорили, что даже 3–4 философа на целую страну уже слишком много. Вы сами мне предложили образ обсервационной площадки, с которой можно обозреть ландшафт современного философство# вания в России.
— А мой бы американский друг воскликнул: «Вы что, с ума сошли?! Безумно много! Это толпа!»
— Согласен с вами. Эта толпа философов будет собрана в одной книге в алфавитном порядке — от А. В. Ахутина до М. Н. Эпштейна. С другой сто# роны, философов во все времена было очень много… Тысячи философов — если брать всю историю философии!
— Мой дорогой, вы ошибаетесь. Ни в одно эпоху не было тысяч философов.
— Я беру в целом всю историю философии.
— Какие там тысячи?
— Простой пример — давайте возьмём какую#нибудь философскую энциклопедию и посчитаем… — Но ведь это же не философы… — А кто это?..
— Это люди, которые были теоретиками, историками философии. Философ — это сам философствующий! Пытающийся делать свою фило+ софию, философствующий сам. Вот моё определение философа! Другого не знаю!
— А если бы вам предложили проект по написанию альтернатив# ной истории философии, то какой бы она получилась? Из каких бы имён состояла?
— Я бы не назвал это историей философии. Скорее всего это была бы попытка создать картины вспыхивающей философской мысли в разных местах.
— Нечто наподобие истории локальных «осевых времён»?
— Какая, к чёрту, история, если вся древняя философия, включая древнегреческую, древнеиндийскую и древнекитайскую, была создана, насколько мы знаем, в течение каких+нибудь 250 лет!
— Мой вопрос об альтернативной истории философии был задан пото# му, что в традиционной истории философии неоправданно забыты многие имена тех философов, которые в своё время пользовались популярностью, а сейчас почти никому, кроме по#особому эрудированных историков филосо# фии, не известны. Например, почему в философии победила кантовская, а не вольфианская ветвь? Порой трудно даже нащупать альтернативное развитие философской мысли в её истории, поскольку победитель забивает все альтер# нативные философии.
— Я не считаю Х. Вольфа философом. Каждый философ проблема+ тизировал и радикализировал мышление своего времени, потому что его осознавал. Христиан Вольф такой работы не сделал. Её сделали англий+ ские эмпирики и Иммануил Кант.
— В связи с обострением российско#грузинских отношений из Мамар# дашвили нахватали цитат и объявили его теоретиком грузинского милитариз# ма. У него есть известные цитаты про русских и грузин, в которых грузины предстают господами, а русские — рабами. Видится ли вам Мамардашвили как идеолог грузинского национал#милитаризма?33
— Реагировать на подобного рода оценки я не могу, потому что тогда я уйду в нефилософскую полемику, то есть начну заниматься кухонным разбором. Это ниже нашего с вами разговора. Давайте оставим эту тему.
— Хорошо, а как же всё#таки быть с цитатами?34
— Понимаете, для этого надо знать самого Мераба, — то, какими ма+ терными словами он ругал русских и какими матерными словами ругал грузин! Он был свободный человек!
— Например, он пишет, что «русские готовы есть селёдку на кусочке газеты»…
— А вот это от меня. В этом виноват я!
— Вы его к этому приучили?
— Я говорил: «Мерабчик, знаешь что, сейчас посуду мыть не будем, да и времени нет. Давай+ка лучше на кухне положим газетку под селёдку?» Это была просто шутка!
— Шутка, в которой оказалась и доля нешутки…
— Мераб был человеком феноменальной языковой открытости, в отличие от Зиновьева, от того же Дубровского. Он мог сказать всё, что угодно, а именно — что хотел в данный момент. Мераб не был напыщен+ ным философом, несущим своей миссией ответственность за каждое ска+ занное слово.
— Отличаются ли, по вашему мнению, Мамардашвили лекций (в том числе и аудиолекций) и Мамардашвили, изданный в академическом форма# те? Тождественны ли они друг другу? Не перемамардашвилил ли Ю. П. Се# нокосов аутентичного Мераба Константиновича?
— Давайте постараемся избавиться от слова «тождественный», кото+ рое я не люблю. Что значит «тождественный»? Вы можете и обо мне спро+
сегодня той мерзостью, в которую они её скорее бы всего превратили, — куда бы они ни переместились, они рабство несли на спинах своих»; «Существует грузинское достоин+ ство. Мы не хотели принимать эту дерьмовую, нищую жизнь, которой довольствуются русские. Они с ней согласны, мы — грузины — нет. Посмотрите на тбилисские дома, тро+ туары. Грязные дома, обветшалые ворота, зато внутри благоустроенные квартиры, забитые вещами, высококачественной импортной аппаратурой. Это атмосфера отражает самоува+ жение грузин, которое отсутствует у русских. Русские готовы есть селёдку на клочке газе+ ты. Нормальный, не выродившийся грузин на это не способен. Внутренняя поверхность раковины отражает образ самоуважения грузина, его чувство собственного достоинства»; «Я долго жил в России и пишу не только по+грузински, но и по+русски. Но во мне намно+ го сильнее антирусское начало, чем в наших антирусских политиках, поскольку они при+ нимают исходные данные проблемы, саму зависимость от внешнего врага, на которой они слишком сосредоточились. Они не замечают, что зависят от решений русских относитель+ но самих себя. С этим надо решительно порвать. Мы должны отделиться. Хватит вместе с русскими страдать и вместе с ними жить в дерьме!»; «Русским присущ специфический нюанс, связанный со старой русской традицией, восходящей к исторической интерпрета+ ции христианства. Русскому православию свойственна подавленность, почти эмбрио+ нальное состояние духа. Это — своего рода болезнь подавленной духовности, находящей удовольствие в своём эмбриональном состоянии, всегда более богатом, чем состояние, уже облечённое в форму. Исторически так сложилось, что русская культура всегда избега+ ла форм, и в этом смысле она ближе хаосу, чем бытию».
сить после интервью, был ли я тождествен сам себе? Выбросьте это слово! Оно мешает думать!
То, что нам выдал Сенокосов, я буквально считаю его подвигом. Это Мераб. Об этом мы, кстати, говорили с покойным Бибихиным, который жаловался, что создана целая монополия из Мамардашвили. К его педа+ гогической деятельности Владимир Вениаминович относился весьма критически. Бибихин был философом другого склада, — строго говоря, редчайшим в наше время философом западного типа. Так, как философ+ ствовал Бибихин (а не перепевал, что с восторгом делают наши филосо+ фы по поводу Ж. Делёза, Ж. Деррида и других), никто другой не фило+ софствовал. Бибихин знал западных философов в оригинале. Он как раз и говорил, что было мало людей, у которых, употребляя ваш термин, речь так не была тождественна их личности, как у Мераба.
— Можно ли назвать Мамардашвили несостоявшимся Сократом XX ве# ка, которого испортили именно опубликованные тексты?
— Ни в коем случае!
— Почему?
— Кстати, я вовсе не думаю, что полулегендарного Сократа испорти+ ли публикации Ксенофонта и Платона. Это глупость.
— Я имею в виду саму устную философскую традицию, ориентирован# ную на непосредственную передачу знания от учителя к ученикам.
— Ничто не портит истинное философствование. Да вы его на эски+ мосский переведите — оно останется философским.
— А разве вы не видите проблемы в фиксации философской мысли на письме?
— Вы знаете, к сожалению, эта проблема была утрирована. Когда мне рассказали о том, что второй по популярности книгой в Синде (самая от+ сталая, полуфеодальная по сегодняшний день провинция в Пакистане, где говорят на архаическом языке — синдхи и где до сих пор существует кровная месть и практически рабство) является «Идиот» Достоевского в двойном ужасном переводе — с русского на английский и с английского на синдхи (!). Неописуемый перевод! А почему они перевели именно «Идиота»? Синдхи сказали, что «Идиот» про них. И князь у нас такой был. А мы говорим о проблеме перевода, о его теории! Надо редуцировать эру+ дицию мыслящего.
— Этот же самый вопрос можно переадресовать и Бибихину по поводу его перевода Хайдеггера. Бибихин напридумывал массу терминов, которых у самого Хайдеггера не было…
— В том+то всё и дело, потому что Бибихин — философ, а не профес+ сор философии в университете!
— Не сводилась ли его работа к техническому переводу Хайдеггера на русский язык без философско#терминологической отсебятины?..
— Ни в коем случае! Особенно бибихинизированной является его последняя книга о Витгенштейне.
— Но согласитесь, что бибихинское поколение — это в основном поко# ление филологических философов?
— Не думаю. Конечно, Бибихин был прекрасным античником, но это была та филология, которой неизбежно притворялась философия. Так, как Бибихин объясняет Витгенштейна, никто в мире больше не объ+ ясняет, — поскольку это был его Витгенштейн, позвольте мне судить, го+ раздо интересней, чем Витгенштейн самого Витгенштейна.
— Имеет ли какие#то негативные последствия укрывательство филосо# фии под масками наук?
— Настоящий философ не боится этого — он может быть кем угодно. Философию можно даже в бизнес загнать. Кстати, один мой ученик сей+ час работает над теорией денежного обращения. Это безумно интересно, потому что он работает над ней как философ! Запомните, философ — это не профессия, чёрт дери! Это склад личности и ума!
— Каков критерий выявления этих философских способностей (напри# мер, в качестве поступления на философский факультет)?
— Сам Хайдеггер жаловался, говоря о себе, что на первом курсе уни+ верситета даже бы тройки не поставил за античную философию. Знал же он её, конечно, гениально, потому что чувствовал по+другому, а для этого нужно сначала знать.
— У нас есть такой философ, как Фёдор Иванович Гиренок, которого я называю последним выдающимся (пост)советским философом…
— А разве есть русская философия?
— Конечно есть!
— А вот и нет! Как нет ни русской, ни английской, ни немецкой! Фи+ лософия есть философия! Постарайтесь стать философом, чтобы отбро+ сить всю эту вонючую чепуху!
— А как же быть с языком, на котором философствуешь?
— Опять вы про язык! «Идиот», переведённый на синдхи, остаётся «Идиотом»!
— Я с вами согласен, но ведь многие считают как раз наоборот…
— Ну и пусть. Я вообще не люблю спорить. Неважно, что судьба за+ бросила вашего Гиренка в советское время. Если он настоящий философ, то определение «советский» не играет в этом никакой роли. Вот, напри+ мер, Ж.+П. Сартр — дерьмо, а не философ! Французский нефилософ! А мог бы по таланту быть замечательным философом…
— На определение Гиренка в качестве «советского» философа нужно реагировать иронией, поскольку я немного утрирую…
— А я реагирую скандалом, как говорит моя жена…
— Давайте тогда перейдём к скандальным вопросам... Не кажется ли вам, что вы зачастили с визитами в Россию? Публика, которая ходит на вас посмотреть, видит в вас прежде всего философа#маразматика, любящего шо# кировать…
— Почему сразу шокировать? Я тихий человек.
— Потому что по своей манере чтения лекций и философствования вы очень сильно выделяетесь на общем болотно#стеснительном фоне современ# ной русской философии. Приходят поглазеть на само представление, чем на содержание.
— Потому что я не люблю слушать чушь! Я вовсе не собираюсь оправ+ дываться. Объясняю. Разумеется, любой автор должен писать, а любой го+ воритель — говорить о том, что он любит. Без любви к предмету у вас ни+ чего не получится. В этом смысле Мераб говорил только о том, что он лю+ бил. Заметьте, как мало у него критики.
— И ещё меньше критики на самого Мамардашвили, что является ярким примером отсутствия всякой философской традиции в России?
— Философская традиция не обязательно вырастает из критики. Хо+ тя философия в кантовском стиле — это критика понятий мышления лю+ бой философии, однако это не критика по принципу «правильно/непра+ вильно», а аналитическая и синтетическая критики. Когда я кричу — так я реагирую на неотрефлексированные суждения людей. Однажды, когда меня попросили приехать на какую+то европейскую конференцию, по+ свящённую самотождественности, я там так разорался, что больше не ез+ жу на конференции. «Тождественность», «самотождественность», «анг+ лийская тождественность», «немецкая тождественность» — всё это вздор для философа!
— Я заметил, что на лекциях диалог с аудиторией не является для вас чем#то важным. Вы часто используете слушающих в качестве неодушевлён# ных предметов, к которым обращаетесь как к каким#то ширмам.
— Очень интересное замечание! А может быть, вы и правы. Честно, я об этом ещё не думал.
— Как же здорово поймать философа на том, о чём он ещё не подумал!.. Лично для меня философ начинается там, где он останавливается, словно в мыслительном ступоре, а не жонглирует готовыми ответами на все случаи жизни. Ваша лекционная форма перехлёстывает обратную связь, диалог с аудиторией.
— Дело в том, что понятие диалога является самым оглупляющим в философии с конца XIX века, служа своего рода коммуникационной затычкой.
— Равно как и проблема Другого в философии…
— Вот именно! Проблема Другого — философская халтура!
— Тот же Фёдор Иванович Гиренок выступает с радикальной позиции «Убей в себе Другого!», критикуя традицию Бубера–Сартра—Левинаса.
— Я тоже уважаю этих хорошо эрудированных людей, но они смер+ тельно скучны.
— Бум на Э. Левинаса уже докатился и до России. Мне кажется, что совсем скоро грядет такая же волна паломничества к Левинасу, как в своё время волна паломничества к Хайдеггеру практически затопила отечествен# ное философствование.
— Нет чтобы самих себя осваивать! Но не русскую философию, а то, что есть в собственной голове! Изучать других философов надо — это луч+ ше, чем полное невежество. А может быть, сначала взяться за Парменида или Августина Блаженного?..
— В методическом плане в истории философии появилась тенденция изучения философии не с пресловутого начала, которого, по сути, нет, а с кон# ца — с современников, идя через их интерпретации к реконструкции истока.
— Никогда не буду против такого подхода. Это имеет свой смысл, но он ограниченный. Я, например, думаю: а не стоит ли начинать образова+ ние философа с И. Канта, который дал совершенно гениальный энцикло+ педический синтез? А уже затем от Канта идти как вперёд, так и назад, — вообще в разные стороны, включая и так называемые альтернативные ли+ нии как линейного, так и нелинейного развития философии.
— Кант как такая реперная точка?
— Да.
— Кантоцентризм?
— Да, Кант как условный центр философствования.
— Кстати, недавно у нас вышло двуязычное издание «Критики чистого разума», одним из эдиторов которого является Н. В. Мотрошилова.
— Замечательно! Н. В. Мотрошилова сделала очень многое — бездну вещей — для развития философской культуры в России, равно как и В. В. Бибихин. Хочу назвать ещё и третью фамилию — Свасьян. Его двух+ томник Ницше издан так, что любое немецкое издание позавидует.
— Ха! Свасьян! Я вам могу много рассказать о Карене Араевиче.
— Я его в жизни ни разу не видел.
— Он так же, как и вы, зачастил в Россию, — был в прошлом году на IV Российском философском конгрессе, на котором прочитал публичную лекцию о «Смерти истории философии», а в этом году я записал с ним скан# дальную беседу.
— Почему же скандальную? Ведь он должен быть ещё тише, чем я.
— Я вывел его из себя — и он разозлился. А та антропософская публи# ка, которая сбежалась его послушать, после нашей беседы на повышенных нотках буквально заставляла меня стереть аудиозапись, чтобы я её не рас# шифровал и не опубликовал. Однако я поступил наоборот, и она совсем ско# ро будет опубликована в «Литературной России»35.
— Могу сказать одно. Комментатор он блестящий! А дальше мне го+ ворили о его увлечениях Р. Штейнером и другими антропософами. Ради Бога! Это молодцу не в укор. Человек, который делает такую замечатель+ ную работу, хочет побаловаться антропософией — пожалуйста. А как вам сама лекция Свасьяна?
— На конгрессе было две публичные лекции — Зиновьева и Свасьяна?
— Какая была лучше?
— Свасьян прочитал классическую лекцию. Публичная лекция Зиновь# ева представляла собой воспоминания, и ажиотажа на ней было больше. На Свасьяна пришла поглазеть вся философская и околофилософская публика, чтобы наконец#то узнать, кто же такой этот Свасьян, которого включили в официальную программу конгресса... Заметьте, в качестве русских филосо# фов вы привели имена Бибихина, Мотрошиловой и Свасьяна. Но ведь они всего лишь переводчики и комментаторы. А какие собственные философские концепты остались и останутся после их смерти?
— Простите, у Бибихина философия была.
— Да, философия языка…
— Не только! У него есть такие пояснения к Хайдеггеру, которые стоят самого Хайдеггера. Вообще не преувеличивайте. Хайдеггер не был философским светилом. Поймите меня правильно — я неисправимый учитель, — быть уже философом — это замечательно, а каким именно — хорошим, плохим, понятным, непонятным, не так важно. В этом смысле Хайдеггер был философом. Отсюда — моя глубокая чуждость русскому отношению к творчеству, например, того же Бибихина, которого обвиня+ ют в неточном переводе Хайдеггера. Судить надо самого человека и за его человеческие качества, — за то, что он сделал и дал, а не за то, что он не сделал и не дал.
— В прошлый раз я говорил вам, что считаю Хайдеггера своим уче# ником…
— Ха+ха+ха! По чисто философскому содержанию выше Хайдеггера я бы поставил Анри Бергсона. Я не говорю о Гуссерле. Но надо отдать долж+ ное Хайдеггеру, который был настоящим философом. Я его не люблю, а мало ли что… Я не судья философии. Кто+то может быть всю жизнь от не+ го в восторге.
— А какая философия у Калиниченко?
— Это философия сознания. Причём у него есть несколько очень оригинальных мыслей, которые я сейчас не буду излагать. В конце кон+ цов, он написал несколько статей. Он философ чётко выраженного фено+ менологического направления. Если говорить о феноменологах, то я на+ стаиваю, он — единственный феноменолог в России.
— Но ведь у нас есть ещё и В. И. Молчанов?
— Не хочу никого обижать. Молчанов, я думаю, лучший знаток феноменологии, а Калиниченко сам феноменолог. Вы понимаете раз+ ницу?
— Да, понимаю. Но вы сами себя выдали, сказав, что у Калиниченко есть какие#то оригинальные мысли. Когда Д. И. Дубровский говорил о кри# териях оценки того или иного философского достижения, идя по нисходя# щей — система, концепция, идеи, то Мамардашвили он определил как тако# го философа, у которого, кроме личных философически#обаятельных качеств, ничего новаторского нет.
— Мамардашвили бы в гробу перевернулся, если бы узнал о том, что кто+то сказал о нём то, что он хотел сделать какую+то философскую сис+ тему! Он не хотел систему! Он был антисистематологом по натуре.
— А если проводить параллель с таким постструктуралистским поняти# ем, как «дессиминация» (рассеивание смыслов), то не кажется ли вам, что Мамардашвили в философском смысле был рассеивателем тематичностей марксизма#ленинизма?
— Не только марксизма+ленинизма. Систематичность — это особая задача. Помнится, профессор истории философии В. Ф. Асмус спрашивал о том, кто же из философов сделал настоящую систему. Что ж, давайте считать…
— Если по пальцам — то тогда Гегель…
— Исторически — нет. Аристотель — раз, Фома Аквинский — два. Декарт — хотел, но не сделал, а вот уж Кант — категорически не хотел превращать «Критику чистого разума» в философскую систему. Поэтому мы можем сказать, что после Аристотеля и Фомы Аквинского первым систематологом был Гегель, сделавший классическую закрытую систе+ му, — талантливую, но смертельно скучную. Написал одну гениальную книгу — «Феноменологию духа».
— А затем — Гуссерль?
— Да, но это так — между нами, — замечательно хотел, но, пардон, ничего не получилось… Если серьёзно разобраться — это я обычно гово+ рю студентам, — то, в конце концов, и Гуссерль, и Хайдеггер — написали по одной книге. Это что — мало? Гуссерль написал «Идея феноменоло+ гии», а Хайдеггер — «Введение в метафизику». Если бы ни тот ни другой больше ничего не написали — этого было бы вполне достаточно.
— Как вы думаете, появится ли вновь мода на философские системы или даже — потребность в систематическом мышлении?
— Я думаю, что она может появиться в результате больших сдвигов в системности научного знания.
— А в рамках аналитической философии?
— Нет. Аналитическая философия как философия языка пришла нынче в полный тупик. Но что значит этот тупик? Два слова. Дать вам определение?
— Дайте, пожалуйста…
— Стало неинтересно! Неинтересно! Иногда — логично изложено, но неинтересно. А если вы читаете книжку — будь то роман, или новел+ лу, или трактат — и говорите «неинтересно» — это означает поражение пишущего.
— Вам интересно читать Жака Дерриду?
— Иногда — да. Тридцать страниц идут — блеск! А затем начинается такая муть!.. Первая книга «О грамматологии» — весьма интересна. Ведь придумывал старик какие+то вещи! Затем, по мере его распространения по текстам, начинается то, что один мой друг называл самотривиализа+ цией. В тот момент, когда философ, или учёный, или романист говорит о самоочевидности, — о том, что остаётся лишь прилагать его достижения, то он кончился. Именно это и произошло с Деррида.
— Ещё у нас есть такой исламский философ, как Гейдар Джахидович Джемаль. Знаете его?
— Не знаю. В исламе я человек невежественный.
— Помнится, под завязку нашей предыдущей беседы я спросил вас о том, как вы относитесь к исламской цивилизации, а вы ответили, что ника# кой исламской цивилизации не существует. Когда же я беседовал с Джема# лем, то привёл ему ваши слова, на которые он отреагировал следующим об# разом: «Я знаком и со стилем Пятигорского, и с ним лично. Это очень специ# фический субъект в области философии, который использует философию как трамплин для чисто индивидуалистической самореализации. В своём ро# де — он такой «рыжий» на философской арене. Его фразы весьма эпатажны, но не более». Далее Джемаль проводит различие между исламской цивилиза# цией, исламской культурой и исламской религией…
— Можно дать один комментарий?.. Как философия может не быть трамплином для самореализации?! Один идёт в эстраду, другой — в биз+ нес, третий — в философию. И не подумаю обижаться на господина Джемаля! Уж если пошла речь об исламе, то — прошу вас не вычёркивать этого — в России и в мире об исламе не имеет права говорить ни один че+ ловек (если он не полный трепач и халтурщик), не прочтя внимательно Коран. Сейчас появился прекрасный перевод Корана на русский язык — первый реальный перевод, сделанный моим приятелем по институту Магомедом+Нури Османовым.
— Ещё Джемаль известен тем, что вхож во многие исламские круги ми# ра (Иран, Судан, Турция).
— Я тоже был вхож в православные круги, но при этом не стал пра+ вославным, и в еврейские (особенно в Англии), отчего верующим евреем также не являюсь… Отвечаю на замечания Джемаля. Уверен, что это оча+ ровательный человек. Если мы пойдём за О. Шпенглером и будем квали+ фицировать цивилизации в их фазах развития по религиям, то тогда — да. Но не дело философа заниматься цивилизациями. Философ занимается мышлениями.
— Вы сказали, что никакой исламской цивилизации нет, а существует только исламская религия, влияние которой в мире слишком преувеличено.
— Если дошло до этого, то я, конечно, иду за комментариями О. Шпенглера на «Закат Европы». Строго говоря, отождествлять цивили+ зацию с религией можно только в определённой фазе и в определённых масштабах. Абсолютное отождествление оказывается бессмысленным. Интереснейший мыслитель о религии — английский писатель К. Льюис — говорил, что в конце XIX века произошло исчезновение христианской цивилизации. Точка! Не христианства как такового (оно как религия ос+ талось), а европейской христианской цивилизации больше не существует. Я целиком за этот второй комментарий к Шпенглеру. Если кто+то скажет, что в России давно произошла гибель православной цивилизации, то я с ним полностью соглашусь. Это не значит, что погибло православие, а зна+ чит — что погиб светский образ жизни, в котором православие играло роль основного цивилизирующего фактора. Неужели это непонятно?
— Джемаль указывает на то, что в исламе нет слова «религия»: «Всё, что сказал Пятигорский, не имеет к исламу никакого отношения. В исламе нет слова “религия”, но есть слово “дин”, означающее фундаментальный смыс# лообразующий закон, но не просто закон, а критерий, по которому будет оце# нен смысл всего сущего».
— О, простите, это неважно. В буддизме тоже нет слова «религия», но ведь мы же говорим с вами, господин Джемаль, на современном русском языке! Это очень тривиальная аргументация. Мало ли чего нет! В эски+ мосском тоже, наверное, нет слова «религия», но мы говорим на нашем описательном языке, и не надо тут валять дурака.
— Какова ваша реакция на ислам?
— Наши реакции ситуативны. Реакция — это не мышление. Сегодня моя реакция на ислам чётко положительная.
— Уступит ли христианоцентричный мир место исламоцентричному?
— Я не думаю, что сегодняшний мир христианоцентричен. Себя он хочет описывать идеологически, а не религиозно — как христианоцент+ ричный.
— Но ведь вы согласитесь с тем, что, с точки зрения рефлексии, христи# анский мир отрефлексирован намного чётче, чем все остальные?
— Когда?
— К настоящему моменту.
— Катастрофически плохо! Конечно, вы можете сказать, что ислам ещё хуже… Если что+нибудь может быть хуже этой дебильской христиан+ ской рефлексии. С этим бредом я не желаю иметь дело — ни с христиано+ центричным, ни с исламоцентричным.
— Не кажется ли вам, что так называемая буддистская и в целом ин# дийская философии всегда будут оставаться маргинальными, непризнавае# мыми в качестве философий на европейский манер?
— Не забывайте, что буддийская философия никогда в Индии гос+ подствующей не была и никогда не признавалась за свою. Я вообще за ту философию, которую никто в своей отчизне за свою не признаёт. Любое свойство враждебно философии! Если она чья+то — значит, это не фило+ софия! Это крайняя точка зрения, но у нас короткое интервью.
— Ну хотя бы по крайней мере человеческая?..
— Не обязательно. Сколько мыслителей было рассмотрено в наш шарлатанский XX век!
— Назовите эти имена, чтобы хотя бы заикнуться об альтернативной ис# тории философии?..
— Нет никакой альтернативной истории философии! Это выдумано дураками в XX веке.
— Кто же был забыт?..
— Не забыт, а не услышан при жизни! Был замечательный англий+ ский писатель Олдос Хаксли, который говорил о том, что существует две разновидности философии — антропоцентрическая и теоцентрическая. Для меня вся философия не возводится к человеческому началу. Не хочу.
А почему не хочу? А потому что надоело!
— А может ли тогда философия быть философоцентричной?
— Безусловно! Мыслецентричной! Сознаниецентричной! Я не ис+ ключаю появление таких философов, которым надоел весь этот жидкий и плюгавый гуманизм, глобализм, — вся эта чушь собачья!
— Вы в прошлый раз ответили, что философия перестала быть чьей#то служанкой, став ничьей служанкой.
— Это я сказал?
— Да, вы.
— Значит, забыл. Нам нужно освободиться от языковой шелухи.
— Поэтому лично я занимаюсь философией антиязыка…
— Любое «анти+» имеет смысл, если отрефлексировано всё, что вы отвергаете.
— Я решаю проблемы выхода к границам телепатического мышления…
— Не надо этого делать…
— Без комментариев… В вашей манере отвечания я заметил ещё одну отрицательную черту. На любой вопрос, какой бы вам ни задали, вы начина# ете непременно отвечать. Увидеть же вас задумавшимся очень трудно.
— По мнению моей дочери, я задумываюсь только тогда, когда пере+ хожу Пикадилли, — когда меня может сбить машина, что однажды и слу+ чилось.
— Можно ли вас увидеть в задумчивой позе? Повторюсь, для меня фи# лософ начинается тогда, когда он над чем#то задумывается и не в состоянии дать быстрый ответ.
— Точно! Я думаю, что все ответы на все вопросы у меня появляются тогда, когда я задумываюсь, а отвечаю — когда меня спрашивают. И нена+ вижу (что многих раздражает) отвечать на риторические (подразумевае+ мые) вопросы. Сказал «исламская цивилизация» — и теперь давай отве+ чай, где ислам, а где цивилизация. Я часто мыслю в классе и понимаю тог+ да, когда сам что+то объясняю.
— Как вы реагируете на собственную манеру (или даже — манерность с обильной жестикуляцией и эмоциональными всплесками) философство# вания, когда, например, видите себя на видео? Всё это вами отрефлекси# ровано?
— Я вам честно скажу, не видел себя на видео. Терпеть всего этого не могу!
— Значит, никакого философского нарциссизма у вас нет?
— Чего нет — того нет. Я вообще не смотрю телевизор. Ни разу не ви+ дел о себе фильмов. Мне это неинтересно. Я люблю вестерны и детекти+ вы. Я гедонист, а не нарциссист!
— Своими публичными лекциями вы вносите в наше антиинтеллекту# альное пространство мыслительную суету.
— Да, да, ажиотаж. Но раз меня приглашают — я приезжаю. Не при+ глашают — не приезжаю. Так легче жить. Согласны?
— Не совсем. И ещё: а почему за вход на ваши лекции стали брать плату?
— Простите, ко мне это не имеет ни малейшего отношения. Я об этом узнал четыре дня назад. Это не моё дело. Если мой импресарио так ре+ шил — значит, так нужно.
— А вообще на Западе принято брать деньги за публичные лекции по фи# лософии?
— В США — сплошь и рядом. Я бы прочёл свои лекции и бесплатно. Например, и в Англии, и в Америке я читал их бесплатно, не говоря уже о многочисленных уроках в школе, которую очень люблю.
— Может ли сам философ быть собственным антрепренёром? Или ан# трепренёром других философов?
— Нет, если он не возглавляет какое+то (со)общество. Хорошо, что вы мне сказали насчёт денег, потому что сейчас я подумал о том, что, мо+ жет быть, в этом есть свой смысл, но он мне пока неизвестен.
— Что у вас вышло на русском языке в последнее время?
— Уже больше полугода я работаю над переводом своей книги «Вве+ дение в буддийскую философию». Последней была книга «Наблюдение и мышление», которая также фактически была переводом с английско+ го. Мне очень тяжело выпускать из своих рук книги. Какое+то внутрен+ нее ощущение профанации. Почему все мы должны непременно печататься? Например, один из своих романов («Древний Человек в Городе») я писал в течение 17 лет в лондонских пабах и даже не заметил, как это произошло.
Беседовал Алексей Нилогов
ВАДИМ РУДНЕВ
Гипотеза множественности психических миров
Вадим Петрович Руднев (род. 1958) — современный русский филолог, философ, семиотик, психопатолог, культуролог. Доктор философских наук. Ученик Ю. М. Лот мана, Б. М. Гаспарова и В. Н. Топорова. Автор более десятка книг — по литерату роведению, философии, психопатологии, среди которых «Винни Пух и философия обыденного языка» (М., 1994), «Энциклопедический словарь культуры XX века: Клю чевые понятия и тексты» (М., 1997), «Морфология реальности: Исследования по фи лософии текста» (М., 2000), «Прочь от реальности» (М., 2000), «Метафизика фут бола: Исследования по философии текста и патографии» (М., 2001), «Характеры и расстройства личности: Патография и метапсихология» (М., 2002), «Божествен ный Людвиг: Витгенштейн — формы жизни» (М., 2002), «Тайна курочки Рябы: Безу мие и успех в культуре» (М., 2004), «Словарь безумия» (М., 2005), «Диалог с безу мием» (М., 2005). «Методологически опираясь на основные эпистемологические заво евания науки и философии XX века, Руднев разрабатывает и применяет междисцип линарную исследовательскую парадигму — “философию текста”, — синтезирую щую значительный спектр современных интеллектуальных технологий: семиотика, аналитическая философия, постструктурализм, различные версии психоанализа, теоретическая поэтика, исследования по мифологии и характерологии и т. д.»36. На ша беседа с Вадимом Петровичем состоялась в рамках проекта «Современная рус ская философия»37.
— Вадим Петрович, какие основные темы можно выделить в вашем фи# лософском творчестве?
— Людвиг Витгенштейн, философия текста и философия психопато+ логии.
— Начнём с самой последней темы. В своей книге «Диалог с безумием», которая, несомненно, является настоящим философским бестселлером, вы выдвигаете гипотезу о множественности психических миров. В чем её суть?
— Гипотеза представляет собой отказ от маркированного психиче+ ского мира, который бы соотносился с действительным психическим ми+ ром, соответствующим психически нормальному человеку. Гипотеза не размывает понятия психической нормы, поскольку признаёт за ним тот тип психического мира, который оказывается свойствен сангвинику+ циклоиду. Для сангвиника, истерика, ананкаста, параноика и шизофре+ ника не существует общей фундаментальной реальности — для каждой из этих групп имеется своя реальность. Благодаря моей гипотезе удаётся постулировать существование множества психических миров для каждо+ го характера или расстройства. Патологическое увлечение нормой приво+ дит к выделению особого психического типа — нормоза, не признающего иных психотипов. Истоки семантики возможных психических миров можно проследить в рамках антипсихиатрического направления 2+й по+ ловины XX века (Р. Лэйнг, Г. Бейтсон, Т. Сас), а также под влиянием се+ мантики возможных миров, разработанной американским логиком и фи+ лософом С. Крипке и финским логиком Я. Хинтиккой.
— На протяжении всей книги вы в буквальном смысле рассеиваете по# нятие нормального (психически здорового) человека, ставя под радикальное подозрение здравый смысл. Не кажется ли вам, что сама возможность акту# ализации вашей гипотезы является таким идеальным психическим миром, который заключает в себе зачатки разных психических типов, включая науч# ный (объективный) психотип? Нельзя ли индивидуализировать вашу гипоте# зу до гипотезы о множественности психических миров в психике каждого конкретного человека? (На мой взгляд, в психике любого человека присут# ствует представление о мире, адекватном объективной действительности, что и позволяет людям пребывать в общем психическом поле (соблюдая принцип психической коммуникативной целесообразности), который до недавнего времени признавался исключительно конвенционально#нормальным.)
— Ваше уточнение очень полезно. Спасибо, что подсказали новую проблемную область.
— Учитывая сказанное, выходит, что весь пафос вашей книги «Прочь от реальности» оказывается простым выпусканием психиатрического пара. Ес# ли допускается существование множества психических миров, то от какой именно психической реальности следует бежать восвояси?
— От реальности сангвиника+циклоида, который монополизирует иные психотипические реальности.
— Лингвосолипсизм как доминанта восприятия реальности? Что это такое?
— Это моя философская позиция. Лингвистический идеализм, пони+ мающий под реальностью прежде всего текст, но в русле британской ана+ литической философии (Витгенштейн, Остин, Мур) и гипотезы лингвис+ тической относительности Сэпира—Уорфа.
— Существует ли единый биологический базис для существ, владеющих языком, и для существ, не владеющих языком, который предполагает нали# чие объективной реальности?
— Я считаю, что у животных нет никакой реальности. Понятие о ре+ альности у человека возникло довольно поздно — с момента овладения им языком, поэтому даже у первобытных доязыковых людей представле+ ние о реальности отсутствовало.
— Какой суррогат реальности существовал у древних людей и сущест# вует у животных?
— Дикие животные ограничены стимулами и реакциями (бихевио+ ризм). У доместиков (домашних животных) появляются какие+то следы реальности, но это особая проблема. Первобытные люди живут в мифоло+ гическом мире (Л. Леви+Брюль, А. Ф. Лосев), в котором не различаются язык и реальность, — фраза языка является одновременно и частью реаль+ ности.
— Не являются ли мир первобытного человека и мир современного чело# века всего лишь модусами общей реальности с присущими ей физическими константами?
— Возможно… Однако что такое физические константы? Если мы го+ ворим о гравитации, то очень трудно предположить влияние гравитации на сознание первобытного человека, не отличающего сна, в котором воз+ можны полеты (левитация), от бодрствования. Различение сна и бодр+ ствования произошло сравнительно поздно. В философии же до сих пор существует подобная проблема. Первое явление сознания — это бредя+ щее, галлюцинаторное сознание.
— Вы не согласны с чувственным пониманием реальности, потому что такое её понимание ничем не отличает реальность гусеницы от реальности че# ловека? Какое определение человеческой реальности вы предлагаете?
— Моё определение человеческой реальности следующее: «Реаль ность есть не что иное, как знаковая система, состоящая из множества знаковых систем разного порядка, то есть настолько сложная знаковая сис тема, что её средние пользователи воспринимают её как незнаковую. Но ре+ альность не может быть незнаковой, так как мы не можем воспринимать реальность, не пользуясь системой знаков». Животные живут в примитив+ ных знаковых системах, для которых существует специальная наука био+ семиотика. Благодаря амбивалентности знаковой системы в мире челове+ ка возможен выбор. В мире животных выбор невозможен.
— Готовы ли вы говорить о существовании в естественном человеческом языке пласта неязыкового, за счёт которого и функционирует язык?
— Думаю, что не готов.
— Чем можно объяснить ваши пансемиотизм и панлингвизм в определе# нии человеческой реальности? Что мешает вам избавиться от языка как от антропологической доминанты?
— Наверное, тот факт, что я являюсь учеником Ю. М. Лотмана. Кро+ ме этого, на меня очень сильное влияние оказал французский философ+ психоаналитик Ж. Лакан с его пониманием языка как бессознательного.
— Сожалеете ли вы о том, что человеческий мир по#прежнему является недостаточно семиотическим, порождая тем самым смысложизненные воп# росы, когнитивные диссонансы, семантические дисфункции?
— По моему мнению, у человека всегда должен быть выбор. Челове+ ческая реальность предельно знакова. Я согласен, что депрессивная проб+ лематика (вопрос о смысле жизни) возникает из семиотического дефици+ та вследствие десемантизации и десемиотизации, однако у неё могут быть и неязыковые причины. Человек появился вместе с языком, который ни+ чем не отличался от реальности. Эволюция человека — это эволюция рас+ подобления языка и реальности. В качестве яркого примера можно при+ вести инкорпорирующий строй языков, представляющий собой объеди+ нение в одно синтактико+морфологическое целое («слово+предложение») двух и более основ, автономных по своему лексическому значению. «Охотник+убил+оленя» — это одновременно и «убивание+оленя+охотни+ ком», и сама реальность. В этом примере нет никакого противопоставле+ ния между языком и реальностью. Оно появится намного позже. Ни для кого не секрет, что инкорпорирующие языки существуют и в наше время: чукотско+камчатские, абхазско+адыгейские и другие.
— В чём, на ваш семиотико#психотерапевтический взгляд, заключается аутистичность языка?
— Я не утверждаю, что язык первичен, а реальность вторична. Я счи+ таю, что они связаны отношением принципиальной (первичной) коорди+ нации (махистское определение). Первичная координация развилась из первобытного мифологического синкретизма между языком и реаль+ ностью. Когда появился номинативно+каузативный строй, позволяю+ щий сказать «Охотник убил медведя», то тогда появилась и реальность: появился охотник как абстрактный субъект, медведь как абстрактный объект, убийство как абстрактное действие (марристско+лосевская точка зрения).
— Какова роль воображения в языке и вообще в понимании человека?
— Я не работаю с незнаковыми понятиями, к которым можно от+ нести и воображение.
— Могло ли употребление каких#либо психоактивных средств спрово# цировать дивергенцию языка и реальности?
— Вряд ли. Лингвогенез не связан с изменёнными состояниями соз+ нания, которые вызываются галлюцинаторными веществами. В онтоге+ незе (индивидуальное развитие организма) можно проследить такой ре+ гресс как в эмоциональной, так и в мыслительной сферах до первобытных состояний человеческого сознания, до мифологического синкретизма. Об этом — ЛСД+практика трансперсонального психолога Станислава Грофа, чьи пациенты наблюдали мифологические картины предельных исторических событий, но описывали свои состояния на номинативно+ аккузативном языке. Полное погружение в мифологическое состояние сознания непереводимо на современный язык.
— Закрыта ли для вас тема Л. Витгенштейна или вы время от времени обращаетесь к ней?
— Надеюсь, что витгенштейниана стала моей сквозной темой.
— Почему именно фигура Витгенштейна стала для вас ключевой в фи# лософском творчестве?
— Всей жизни не хватит, чтобы ответить на этот вопрос. Мне показа+ лось, что это самый умный человек XX века. Для Витгенштейна философ+ ствование и жизнь нераздельны в отличие, например, от Гуссерля или Хайдеггера, которые занимались философией отдельно от бытовой жиз+ ни. Вся жизнь Витгенштейна — это проверка жизни философией, а фило+ софии — жизнью. Молодой Бертран Рассел отмечал, что логические заня+ тия Витгенштейна глубоко экзистенциальны. Моё непонимание францу+ зского философствования менее продуктивно — фрустрированно, чем непонимание текстов Витгенштейна, всегда преисполняющее надеждой на будущее понимание. Весь мой философский проект о Витгенштейне — это попытка комментирования его «Логико+философского трактата».
— Крайне странно, что вы так отрицательно относитесь к французской философии, которая по своей сути вся шизофренична?
— Я её не понимаю. Мне она ничего не говорит.
— Какие ещё философы так сильно повлияли на ваше философское ми# ровоззрение?
— Шопенгауэр, Диоген Синопский, Остин, Мур, Рассел, Фреге.
— Продолжаете работать в прокрустовом ложе аналитической фило# софии?
— В последние годы я занимаюсь философией психопатологии. Философская система Фрейда играет в этом занятии огромную роль, в це+ лом — вся психоаналитическая, а не психиатрическая, традиция, в осо+ бенности Жак Лакан.
— Вы считаете себя главным учеником Ю. М. Лотмана. Проясните своё ученичество.
— Лотман был настоящей эпохой, собравшей вокруг себя много та+ лантливых людей (В. В. Иванов, В. Н. Топоров, А. М. Пятигорский). Он был знаменем и локусом 60–70+х годов XX века. В Тарту было возможно то, что было невозможно в Москве. Однако у школы была одна странная особенность — отказ от подготовки учеников. Наиболее талантливых ста+ рались подавить, выгнать. Мой случай один из радикальных (аналогичны судьбы Григория Амелина, Алексея Плуцера+Сарно). Независимо мысля+ щие люди подавлялись прежде всего самим Лотманом. Как было в Мос+ кве, я не знаю. Сейчас остались шестидесятилетние люди (Р. Д. Тименчик, М. Б. Ямпольский, А. К. Жолковский, Б. М. Гаспаров), которые уже не так философски образованны, как предшествующее поколение семиоти+ ков. Моего поколения как научного единства не существует. Можно отме+ тить лишь формальные встречи, продолжающиеся до сегодняшнего дня.
— Давайте вспомним успех вашей книги «Винни Пух и философия обы# денного языка» (1994). Какова история этого интеллектуального бестселлера?
— Это была постмодернистская акция, мой первый сознательный ус+ пех, однако я не считаю её веховой. «Энциклопедический словарь культу+ ры XX века» принадлежит к этому же числу. Книги, которые приносили мне наибольший успех, я меньше всего ценю. Говорят, что мой словарь является официальным пособием в культурологических вузах, что даже экзаменационные билеты пересекаются с ним. С моей стороны это был скорее коммерческий (несерьёзный) проект. Книги же, которые никако+ го успеха не имели у широкой публики — например, «Прочь от реальнос+ ти» (2000), «Диалог с безумием» (2005), — для меня являются знаковыми. – Вы готовы констатировать, что мода на Руднева прошла?
— Думаю, что нет. Я сместился в психологические круги. Сейчас пе+ чатаюсь в таком известном журнале, как «Московский психотерапевти+ ческий журнал». Последняя из опубликованных статей называется «Ис+ тина и безумие». Она продолжает фукианскую традицию понимания ис+ тины через безумие. Я не считаю себя философом в узком смысле. Труд+ ность в профессиональной самоидентификации, на мой взгляд, является наиболее плодотворной.
— Из философии семиотики через аналитическую философию в фило# софию психопатологии…
— Ещё я могу поделиться своим прозаическим опытом. Немногие знают, что я был прозаиком. Это происходило в брежневское время, — мои модернистские тексты кое+где публиковались. Тогда я увлекался тео+ рией музыки и называл свои произведения опусами (всего было около 50 опусов). Ключевой из них назывался «Opus secundum» («Опус второй», в котором рассказывалась история о том, как писатель написал роман, а один из его персонажей обнаружил себя живым, выпытывая у своего создателя встречу, — такое вот текстологическое франкенштейнство).
Если бы я не увлёкся философией, стал бы прозаиком. Эти тексты хра+ нятся в Риге. Их сквозная стилистика — развитие художественного языка: гипертекст от предельно усложненного, наполненного цитатами и реми+ нисценциями, до запрета на цитатность с нарушением связности текста (текстовая додекафония). Далее следует бихевиористское письмо. Писать романы очень легко, а научные или философские работы сложно. Писа+ тельство мне кажется бессмысленным. Место главного современного прозаика занято В. Г. Сорокиным, а быть вторым или третьим я не хочу. У меня другая сверхзадача — прорвать трясину в области какого+нибудь философствования.
— Вы философствуете по необходимости — наперекор Витгенштейну, для которого философия была образом жизни?
— Я не мыслю жизнь без письма. Она теряет для меня всякий смысл. Мой учитель в психиатрии Марк Евгеньевич Бурно предлагал мне напи+ сать работу «Язык и характер», но пока я над этим думаю.
— Гипотеза лингвистической относительности сейчас не в моде. И Вит# генштейна, и Сэпира—Уорфа можно легко обратить, сфальсифицировать в утверждение о том, что не границы моего языка определяют границы моего мира, а, наоборот, границы моего мира определяют границы моего языка.
— Витгенштейн говорил, что материализм и идеализм, доведённые до своего логического конца, суть одно и то же.
— Что можно сказать о мире, который ограничивает мой язык?
— Это мир диалектического материализма. Предшественники Вит+ генштейна — участники первого Венского кружка — очень любили книгу В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм».
— У американского лингвиста Н. Хомского есть известный принцип лингвистической компетенции. Но на этот принцип претендует другой — лингвистической некомпетенции, совмещающий в себе некомпетентность в освоении языка как условие освоения языка и выступающий по отношению к нему как родовое понятие. Лингвистическая компетентность всегда ограни# чена контекстом, уместностью употребления языка, тогда как лингвистиче# ская некомпетентность отсылает к недостаточной степени владения челове# ком языком, — речь в данном случае идёт о принципиальной нескоординиро# ванности (о предустановленной дисгармонии) между потенциалом языка и его использованием. Для Хомского любой носитель языка является его хорошим носителем. Узусный подход к языку максимально однобок. Этимология язы# ковой некомпетенции — принцип традитабельной относительности (статис# тическая потеря мысли при облачении в словесную материю). В соответствии с лингвистической некомпетенцией моё знание естественного языка настоль# ко совершенно, что я со всеми носителями языка до конца их жизни могу косноязычить, пренебрегая нормами и правилами русского языка, а также его исключениями и распространёнными ошибками. Я за окказиональный подход к ошибочному употреблению русского языка, — за творческую по# грешность.
— Принцип непонимания является одним из фундаментальных. Лот+ ман высказывал мысль о двух полях коммуникации: полюс, когда всё по+ нятно, и полюс, когда всё непонятно. Коммуникация возможна только в середине, когда что+то понятно и что+то непонятно. В этом — принцип золотой середины коммуникации.
— Но ведь эта золотая середина входит в противоречие с языковым за# коном недостаточной бессмысленности в языке. Бессмысленность в языке невозможна.
— С этим я готов согласиться.
— Вы говорите о преимуществе текста над реальностью в его борьбе с физической энтропией. Текст борется с энтропией за счёт увеличения коли# чества смыслов, значений. Бесконечное увеличение смыслов вызывает уже семиотическую энтропию, которая даст фору физической. Не в этом ли ко# рень всех гуманитарных кризисов — в невозможности переварить наприду# манные смыслы, в невозможности остановить производство смыслов, по# ставленных на конвейер?
— У меня сохраняется семиотический оптимизм.
— Не оборачивается ли ваш плюрализм всего лишь монизмом?
— Согласен, что тексты, превращающиеся в физические объекты, способствует возрастанию энтропии. Только представьте себе, что в ва+ шей библиотеке накапливаются тексты на таких языках, которыми вы не владеете…
— Это и называется межкультурной коммуникацией?
— Скорее, его оборотной стороной.
— На принцип энтропии и даже негоэнтропии (П. А. Флоренский) есть принцип антропии (А. С. Нилогов) — ещё большее увеличение энтропии, че# ловеческий (антропологический) вызов самой энтропии. На каждый происк энтропии человек всегда отвечает несимметрично — качественнее.
— Удачный термин.
— Художественные тексты увеличивают энтропию в отличие от науч# ных, которые запрещают двусмысленность, интерпретации…
— Да, возможно, что в философии текста нужно сделать соответству+ ющие поправки.
— Кого вы можете назвать современным русским философом?
— Александра Иосифовича Сосланда («Фундаментальная структура психотерапевтического метода»). Традиционно считается, что в России беда с интеллектом, в том числе и с философским. Скорее всего, у нас есть одна полноценная философская традиция — отсутствие всякой фило+ софской традиции.
— Почему в России невозможно организовать философскую традицию?
— Честно говоря, я считаю, что сейчас приключается кризис гумани+ тарного знания во всём мире. Парадоксальным образом ничего не проис+ ходит. Нет никаких новых идей. Идеи, которые носятся в воздухе, не нуж+ но специально отслеживать. Они сами себя заявляют.
— Но, может быть, всё дело в информационной бомбе? Информация достигла такого порогового уровня, что любая гениальная идея тонет в не# проницаемом массиве…
— Я так не думаю. Например, идея английского психиатра Тимоти Кроу о том, что шизофрения является видовым отличием homo sapiens'a, необычайно популярна. Согласно ей, человеческая сущность предопреде+ лена шизофренической природой. Это очень провокативная гипотеза.
— Равно как и ваша гипотеза о множественности (относительности) психических миров, исполненная в лучших традициях гуманистического пафоса?..
— Надеюсь на неё.
— Есть ли у вас формула успеха в гуманитаристике?
— Надо иметь талант, много работать и не думать об успехе. Ни в ко+ ем случае не пиариться. Например, меня летом 2005 года пригласили пре+ подавать в Сорбонне. Но я не поехал. Не люблю бытовые хлопоты: покуп+ ка билета на самолёт, переезд, языковой барьер.
— Расскажите поподробнее о вашем телевизионном опыте.
— Этот опыт связан с программой А. Г. Гордона на телеканале НТВ, а также с программой «Чёрный квадрат» на телеканале «Культура». С Гор+ доном было очень интересно (с сентября 2001 по март 2004). Со мной лич+ но было записано 8 передач. Всё шло к тому, чтобы мы стали соведущи+ ми. Но вмешались внешние обстоятельства — его молодая жена, которая стала ревновать, да и сам он не решился разделить славу. Быть обыкно+ венным редактором стало неинтересно, моя жена заменила меня под мо+ им же именем. Я не понимаю, почему он прекратил этот проект. Россия впервые узнала своих героев. Но ему это надоело. Никто передачу не за+ прещал, она имела хорошие рейтинги. Учёные делились на тех, кого уже пригласили на передачу, и на тех, кого ещё не пригласили. Опыт на теле+ канале «Культура» был более безнадёжным. Нас часто ругали за интеллек+ туализм. Договор был заключён на 20 передач и был выполнен. Но даль+ ше не пошло. Неподтверждаемый успех тут же забывается. Совсем недав+ но я попытался сделать что+то наподобие лотмановского цикла лекций, но из+за технических проблем ничего не получилось. Пару месяцев назад меня разыскал театральный режиссёр Владимир Мирзоев. Он читал мои книги и решил сделать фильм о футболе по моей «Метафизике футбола».
Сам я палец о палец не ударю, кроме издания книг.
— Переведены ли ваши книги на иностранные языки?
— Пока нет.
— Не рискуют ли они превратиться в книги для внутреннего пользо# вания?
— Я бы так не сказал, поскольку весьма спокойно отношусь к их при+ жизненному признанию. В безвестности жить тяжело, но и безвестность может быть амбивалентной.
— Как вы относитесь к философской эзотерике?
— У меня особое отношение к Г. И. Гурджиеву, который предельно чётко отграничивал себя от Блаватских и Рёрихов. Через несколько меся+ цев выйдет моя книга о нём.
— Что ж, прочь от Руднева, и назад к реальности?!
— Ничего не имею против.
— Какой темой вы занимаетесь сейчас?
— Нарциссизмом. Любовь к себе — естественное чувство. Я не пони+ маю обыденного неприятия нарциссизма. Надеюсь и дальше быть аполо+ гетом всего «плохого» как в психологии, так и философии.
Беседовали Михаил Бойко, Алексей Нилогов и Сергей Чередниченко
МИХАИЛ РЫКЛИН
Произведение философии в эпоху
«суверенной демократии»
Михаил Кузьмич Рыклин (род. 1948) — современный русский философ. Канди дат философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН, член НьюЙоркской академии наук. Автор таких книг, как «Террорологики» (Тарту, 1992), «Деррида в Москве» (в соавторстве с Ж. Деррида: Париж, 1994; М., 1993), «РАМА» (в соавторстве с Анной Альчук: М., 1995), «Искусство как препятствие» (М., 1997), «Деконструкция и деструкция. Беседы с философами» (М., 2002), «Пространства ликования. Тоталитаризм и различие» (М., 2002), «Время диагноза» (М., 2003), «Свастика, крест, звезда. Произведение искусства в эпоху управляемой демократии» (М., 2006). Наша беседа с Михаилом Кузьмичом состоялась в рамках проекта «Современная русская философия».
— Михаил Кузьмич, я искренне рад, что у нас в стране есть люди тако го интеллектуального уровня, как вы. Ваша философская аналитика на зло бу дня помогает пересмотреть вечно опаздывающий статус философии… Ка кой философский жанр доминирует у вас? Философская публицистика?
— Разные. Книга «Время диагноза» представляет собой сборник ста тей, написанных для берлинского журнала Lettre International. Это эссе по 10—12 страниц каждое. Нередко я пишу для научных сборников, на бо лее академические сюжеты. Я написал предисловия ко многим перевод ным текстам — к тому переписки Ясперса и Хайдеггера, роману Роб Грийе «Проект революции в НьюЙорке», перевёл и откомментировал работу Р. Барта Camera lucida и т. д. В моей работе нет ничего уникального для европейского философа. Так работал Жак Деррида, так работают Агамбен и Слотердайк.
Для России это, возможно, пока необычно, однако я работаю также в европейском культурном пространстве и не считаю себя философом русской традиции. Моими учителями были Мераб Мамардашвили и Жак Деррида. У меня в иные годы больше текстов выходит в Германии, чем в России. Я хотел бы больше печататься в своей стране. Кстати сказать, 10 лет назад такие возможности существовали.
— Давайте поговорим о вашей последней книге «Свастика, крест, звез да», в которой анализируется итог судебного разбирательства о выставке «Осторожно, религия!». Если перефразировать название этой скандальной выставки в название для выставки «Осторожно, философия!», то какие экс понаты могут быть на ней представлены?
— Философия не обладает таким насильственным потенциалом, как религия. Профессионально философией занимаются немногие, хотя фи лософами себя считают довольно много людей. Если говорить о профес сиональной философии, то это относительно элитарная практика — уни верситетская, академическая. Философия не представляет собой такого взрывоопасного вещества, как религия. Какая угроза исходит от филосо фии? Что вы имеете в виду?..
— Мне всегда казалось, что философия является самым искушённым дискурсом интеллектуального насилия, аргументация которой изощрённее и религии, и мифологии?
— Я согласен с вами, но сколько людей могут прочитать философ ские тексты? Да, тексты Фуко, Бодрийяра, Деррида обладают насильст венным потенциалом. Но сколько людей могут реально эти тексты про читать? Религиозные тексты читаются в церквях в расчёте на сотни тысяч, иногда миллионы людей. Эти тексты состоят из нарраций, которые име ют эзотерический смысл, но большинство людей этот смысл вообще не понимают. Зато они улавливают будто бы буквальный смысл этих нарра ций и им тогда кажется, что они их понимают. Часто этот буквально, то есть неверно понятый смысл побуждает людей к насильственным действиям.
Мне кажется, что если человек сможет прочесть насильственный текст Ницше или Фуко или сам написать такой текст, его прямой насиль ственный потенциал будет несущественным; он не возьмёт в руки дубину и не пойдёт громить выставку.
— Но вы же знаете известную фразу Кожева о том, что между филосо фом и тираном нет существенной разницы, и лишь суета будней не позволяет быть одновременно и тем, и другим?..
— Гегель, видя, как Наполеон въезжал в Йену, сказал, что это въез жает Абсолютный дух. И так как в гегелевской философии завершается бытие духа, то какоето отождествление, бесспорно, имело место. Так же как Хайдеггер, в своей ректорской речи и в других произведениях 1932– 1934 годов, в какойто мере отождествлялся с Гитлером, с духовным пра вом вождя отдавать приказы нации. Но что это доказывает?..
— Какую книгу из вашей библиографии можно назвать визитной?
— Думаю, что «Пространства ликования. Тоталитаризм и различие», посвящённую осмыслению 1930х годов — националсоциализму, стали низму.
— Кого из московских концептуалистов вы бы отнесли к философ ствующим?
— А что вы называете философией?.. Например, если бы я спросил Мотрошилову о том, считает ли она философией то, что делает Монастыр ский, она бы, вероятно, ответила «нет». Если бы я спросил Бодрийяра, то он бы наверняка ответил «да». Есть академическая философия, которая блюдет своё право на дискурс, и практически является историей филосо фии. И, соответственно, пытается контролировать современную филосо фию, давая первичные классификации. Как правило, история филосо фии очень нетерпимо относится даже к выдающимся философским явле ниям. Например, Бодрийяр в нашем с ним интервью подчеркнул, что дав но не называет себя философом, однако тот, кто прочтет его книги, вряд ли ответит так же. Феликс Гваттари тоже скептически относился к акаде мической философии. Может быть, то, что делаю я, странно с точки зре ния современного российского контекста. Философы унаследовали позд несоветскую концепцию философии — достаточно асоциальную, особен но ярко проявившуюся в московскотартуской школе. Изза того, что в советское время в философии как институте был силён политический и идеологический крен, многие серьёзные люди уходили либо в историю философии, либо в логику, как Зиновьев, либо в философию естествозна ния и философию науки. Всё остальное было занято историческим мате риализмом, научным коммунизмом, диалектическим материализмом.
— Расскажите о ваших беседах с ведущими современными философами, собранных в книге «Деконструкция и деструкция».
— Основная цель этих бесед — попробовать заставить западных фи лософов говорить о проблеме советского, шире социалистического, опы та — о том, как он отразился на их творчестве (о значении Октябрьской революции 1917 года в их становлении философами). Говорить о том, о чём они в своих книгах прямо не пишут. Достаточно интересной вышла полемика с Ж. Деррида.
— А как насчёт опыта советской философии?
— К сожалению, они не знают этого опыта, кроме, может быть, Жижека, который сам является выходцем из социалистической стра ны, и Гройса — нашего соотечественника. Советская философия мало известна.
— Каков вкратце ваш опыт сожительства с советской властью?
— Опыт нельзя отождествлять только с прямыми формами советской ритуальности — вступление в октябрята, пионеры, комсомольцы. Опыт — довольно длительная вещь. Например, история с выставкой «Осторож но, религия!» показала, насколько мы в плане опыта близки даже к ста линскому периоду. Мы затронуты этим периодом ещё очень и очень сильно.
— Религия является наиболее эффективным средством манипуляции массовым сознанием. Власть её активно использует. Зачем же изобличать власть в этом?
— И что же из этого следует?..
— То, что все наши постмодернисты сидят не в Институте философии РАН, а в Администрации Президента РФ — от Суркова до последнего клер ка. Под постмодернистами я подразумеваю таких людей, которые пытаются деконструировать идеологемы и мифологемы, чтобы с их помощью манипу лировать общественным сознанием…
— Французы охотно называют себя постструктуралистами, а термин «постмодернизм» выдуман журналистами. «Постмодернизм» сблизил лю дей, которые между собой имели мало общего (например, Бодрийяра и Деррида, Вирилио и Делёза). Для Деррида понятна обойма из структура листов ЛевиСтросса, Барта, Альтюссера, Лакана, а вот название «пост модернизм» может быть применимо разве что к его влиянию на более ши рокий массмедийный контекст. Я одно время работал во Франции и знаю, что никакого постмодернистского французского контекста нет. Вирилио и Бодрийяр тогда были близки друг другу. У Деррида своя школа — Лаку! Лабарт, Нанси. Делёз — другое направление. Да, можно говорить о связи Делёза с Фуко.
Под словом «постмодернизм» образуется целая свалка из самых раз! ных философов. Сколько значимого пропадает из!за такого вульгарного обобщения! Мне кажется, что в философской литературе мы должны во! обще отказаться от этого термина, оставив его для нужд интеллектуаль! ных публицистов, когда те обращаются к многомиллионной аудитории. «Постмодернизм» придуман для огромных масс — для читателей массо! вой философии, которые не хотят напрягаться, — которые никогда не поймут разницу между, например, Лиотаром и Бодрийяром, между Лиота! ром и Делёзом, между Делёзом и Вирилио. А разница эта огромная! Почи! тайте книгу бесед с философами «Деконструкция и деструкция». Когда спрашиваешь Бодрийяра о Деррида, то для него последний оказывается совершенно чуждой фигурой. Вирилио — вообще носитель другой куль!
туры философствования.
Человек, готовящий себя к профессиональной карьере, должен на!
учиться работать пинцетом, а не палицей, а «постмодернизм» — это палица. Я никогда не употребляю это слово в своих текстах.
— Для меня слово «постмодернизм» является лакмусовой бумажкой, при произнесении которого вы видите, как одни сразу же отворачиваются от вас, а другие берут за руку и идут с вами дальше.
— «Постмодернизм» — один из иллюзорных терминов, которые лишь по видимости что!то объясняют. Между Курицыным и Бодрий! яром — сходства никакого, хотя кто!то и того, и другого может называть «постмодернистом». Из!за того, что в России культура чтения философ! ских текстов пока ещё низкая, приходится постоянно сталкиваться с та! ким невежеством в виде отождествления и обобщения. Во!первых, нужно знать язык оригинала, а во!вторых, понимать академическую, массме! дийную, революционную и экстремистскую подоплёку многих из этих текстов. Генезис текстов — обязательная вещь. Я читал их ещё в 1960!е го! ды, но когда приехал во Францию, то понял, что многие аспекты этих текстов оставались для меня туманными.
— Ваше непонимание было существенным?
— Конечно. Так же и американцы накладывают на эти тексты свои гигантские клише, и оказывается, что десятки философов, которые меж! ду собой не имели ничего общего, объединяются под каким!то общим яр! лыком. Может быть, с точки зрения массмедийной оптики между этими людьми нет разницы, однако между Деррида и Делёзом она велика. Дер рида и Делёз пытались провести публичную дискуссию по поводу своих разногласий, но эти разногласия в конечном счёте были настолько серь ёзными для них (о чём Деррида написал в некрологе на смерть Делёза), что публичная дискуссия так и не состоялась. С точки зрения американ ского студента, изучающего французскую философию в университете, разница между ними незначительная или вообще нулевая. К сожалению, в России пока тоже ощущается дефицит вдумчивого, интеллигентного читателя. С другой стороны, свежепереведённых текстов много, бум пере водов буквально захлестнул нашу философскую аудиторию.
— Под «постмодернизмом» на русской почве сейчас понимается практи ка свободного философствования и преодоление идеологичности советской философии.
— Почему же это тогда «постмодернизм»? Это просто попытка совер шения некоего философского усилия в необычных и сложных обстоя тельствах, в которых находились и Мамардашвили, и Ильенков, и другие. — О каком философском читателе вы мечтаете? О проницательном?
— Да. Проницательный философский читатель должен знать язык оригинала, а также по возможности институциональную инфраструктуру (контекст), из которой возникают те или иные философские тексты. Он должен употреблять микроскоп, а не читать по принципу — «Курицын — постмодернист», «Дугин — постмодернист», «Сурков — постмодернист». Термин «постмодернизм» — это вода. А чем вам Геббельс не постмодер нист («Ложь должна быть чудовищной, чтобы ей поверили»)? Геббельс был политтехнологом не менее высокого уровня, чем большинство совре менных политтехнологов. А почему же Радек не постмодернист? Или ПарвусГельфанд? Названные мною персонажи — особые явления интел лектуальной жизни. Если бурно развиваются они, то публичные интел лектуалы, к которым я отношусь, постепенно лишаются возможности ра ботать. Геббельс, Сурков, Радек и подобные им разрушают сами условия интеллектуальной работы. Они знают, как можно уничтожить публичную сферу, не вызывая мощного протеста со стороны общественного мнения. Но они беспомощны без содействия силовых структур — полиции, проку ратуры, армии, спецслужб.
— Но ведь нам несвойственна такая публичная интеллектуальность?..
— Кому нам?
— Есть ли какаято традиция публичности в России или это только европейская традиция? Кто кроме вас ещё может назвать себя публичным интеллектуалом?
— Например, Мераб Мамардашвили читал публичные лекции. Всег да говорил, что интеллект может выступать только на агоре. Эта публич ная практика зарождается в Древней Греции не случайно. Она не зароди лась в Персии эпохи Ксеркса, а проявилась в Греции эпохи Перикла. Свя зана с определёнными институтами демократической направленности.
— Вас можно назвать учеником Мамардашвили?
— Да. Я в студенческие и аспирантские годы был учеником Мамар дашвили — если, разумеется, не упускать из виду, что сам Мераб Констан тинович не стремился создавать какуюто школу. Он повлиял и на меня, и на Подорогу, и на Калиниченко, и на многих других.
— А вы участвовали в разделе философского наследства Мамарда швили?
— Что это за наследство?.. Что — разве Мамардашвили оставил сво им ученикам какойнибудь счёт в банке?
— А неопубликованные лекции?
— Ни я, ни Подорога не имели к ним никакого отношения. Этим занимался Юрий Сенокосов. Сейчас ими занимается дочь Мамардашви ли — Елена, которая запланировала издать 19томное собрание сочи нений.
— Не страшно быть белой вороной интеллектуальной публичности?
— Я не считаю себя белой вороной. Не один я остаюсь в сфере интел лектуальной публичности. Из молодых философов могу назвать Нину Сосну, Дениса Голобородько, Оксану Тимофееву, Алексея Пензина. Это недавние аспиранты Валерия Подороги и Елены Петровской.
— Книга «Свастика, крест, звезда» является вашим обобщающим тру дом о выставке?
— Моя жена — Анна Альчук — и известный правозащитник Алек сандр Подрабинек делают документацию всего процесса. Скорее всего, будет издана книга текстов с реакцией на выставку. Книга «Свастика, крест, звезда» — это мой персональный анализ судебного процесса над участниками выставки, поскольку среди обвиняемых была моя жена. Я просидел около пяти месяцев в суде. Я бы не стал писать эту книгу, ес ли бы не оказался вовлечённым. Среди художников у меня было и есть много друзей — Олег Кулик, Елена Елагина, Ирина Вальдрон, Валерий Орлов, Александра Митлянская и другие. Я должен был ходить в суд, по тому что там собирались чудовищно агрессивные люди — в том числе сто ронники господина Шаргунова, который внушил своим адептам, что речь идёт не о художественной выставке, а об очередном распятии Иисуса Христа. Всё, что говорят люди, подобные Александру Шаргунову, можно прочитать в Протоколах Сионских мудрецов. Ничего нового они не изоб рели. Я был вынужден читать все эти тексты просто потому, чтобы понять и объяснить себе поведение людей, которые собирались на суде. Они кри чали «Вы убили тысячи наших детей! Вы убили царскую семью!» — и са ми искренне верили в это...
— Весьма печальная ситуация… Если бы за последние 15 лет было пост роено столько же библиотек, лабораторий, институтов, сколько было восста новлено церквей и храмов, то, быть может, накал между светским государ ством и клерикальными сатисфакциями верующих не был бы столь резким.
— Чтобы экспортировать газ, нефть, алюминий, марганец и калий ные удобрения, не нужно обладать какойто развитой современной куль турой. Плюс дикий, ни с чем не сравнимый консюмеризм, который овла дел российским обществом в самой примитивной форме.
— А что вы можете сказать о консюмеризме в философии? Можно ли считать его проявлением переводческий бум и культуртрегерство?
— Мало самостоятельного мышления и непонимание роли свободы, в том числе и личной, права на профессиональный язык. Забвение того, что делает интеллектуальную работу интересной. Вот что такое консюме ризм в философии.
— Вы слышали когданибудь в свой адрес обвинения в культуртрегер стве? Во франкомании?
— У меня только в Германии вышло 120 текстов! Немецкая публика читает человека, который реферирует французские источники?! Да это смешно! Зачем тогда им нужно переводить эти 120 текстов? Индустрия интерпретации философских текстов в Европе развита очень хорошо. Мои тексты не сводятся к компиляции или культуртрегерству. На Западе я воспринимаюсь как человек, который интеллектуально пытается осмыслить коммунистический опыт. Этим же во многом занимаются Гройс и Жижек.
— Кого из современных русских философов вы бы могли назвать?
— Кроме круга Подороги могу назвать Бориса Гройса.
— Можно ли говорить о потреблядстве западной философии? Какова ваша роль в этом процессе?
— Я не вижу ничего плохого в культуртрегерстве. Любой серьёзный философ — культуртрегер, то есть такой культурный человек, который может прочитать тексты на языке оригинала. Настоящее варварство — об винять философов в культуртрегерстве. Философ в принципе должен знать древнегреческий язык, латынь, немецкий, французский, англий ский и итальянский.
— А если только русский?
— Такой человек вряд ли сможет стать профессиональным фило софом.
— А разве Деррида нужно было знать русский язык, чтобы состояться как философу?
— Но ведь Деррида никогда не комментировал русские тексты. У не го было жесткое правило: работать только с теми текстами, которые он мог читать в подлиннике. Он всегда читал и оригинал, и перевод, пре красно понимая, что их статусы разные. Если человек не может прочитать оригинал, то он не может комментировать перевод. В любой своей книге Деррида комментирует текст через перевод или перевод через оригинал. В его семье были слависты и русисты, но русского языка он не знал. Вы не найдёте текста Деррида о Достоевском. Я пожелаю всем тем, кто рассуж дает на тему культуртрегерства, быть понастоящему образованными, чтобы уметь прочитать текст на языке оригинала, уметь говорить с колле гами из других стран на языке, который те хотя бы чутьчуть понимают. Да, культуртрегерство — это необходимое, но недостаточное условие для того, чтобы заниматься интеллектуальной работой.
Назовите мне такого оригинального философа, который бы не знал ни одного иностранного языка, кроме русского?
— Розанов?..
— Нет, Розанов не философ! Он был оригинальный мыслящий чело век, возросший на русской литературе.
— Но ведь у нас литература переигрывает философию?..
— Хорошо, назовите мне таких людей в современной ситуации?..
— Например, Фёдор Иванович Гиренок. Вы знакомы с его творче ством?
— Незнаком. Такого имени я не знаю.
— Гиренок — профессор кафедры философской антропологии на фило софском факультете МГУ.
— У меня не осталось никаких связей с философским факультетом МГУ. Я никогда там не преподавал.
— Я упомянул Гиренка потому, что в нашей философской антропологии сейчас выделилось три крупных направления — археоавангард, представлен ный Гиренком, аналитическая антропология Подороги и синергийная антро пология Хоружего.
— Понятно.
— А разве вы не чувствуете в этом какойто полиглотской дискримина ции философии и в целом русского языка? Не кажется ли вам, что главное — это мыслить и писать пофилософски, а не на древнегреческом, латыни или французском?
— Как же вы представите себе, что такое английский, итальянский, немецкий или французский текст без знания соответствующих языков? Значит, вы должны полностью доверять переводчику. Вот перед вами три перевода Хайдеггера — Бибихина, Борисова и, допустим, Петрова. Вы ви дите ключевую фразу, которая переведена в трёх случаях поразному. Ори гинала вы не знаете. Как же вы будете интерпретировать?
— А какой же тогда вопрос вы сможете адресовать всем этим трем пере водчикам? Насколько тогда хорошо они знают язык оригинала, если все пе реводят поразному? Мне кажется, что именно плохие переводчики кидают отрицательную тень на немногочисленных читателей философских текстов. — Если вы знаете немецкий язык, то можете сами попытаться пере вести эту фразу и понять, почему Бибихин перевёл её так, а переводчик Борисов иначе.
— Философская работа — не филологическая и не переводческая…
— Эти вещи взаимосвязаны. Например, Деррида и Беньямин делали философскую и филологическую работу одновременно. Ницше был клас сическим филологом. В основном все философы — это интеллигентные люди, культуртрегеры. Давайте возьмём Кассирера, Шелера, Гартмана. Среди философов вы не найдёте игнорамусов, которые гордятся тем, что ничего, кроме французского или немецкого, больше не знают. Я уважаю культуртрегеров, историков философии, учивших меня, — Асмуса, Бого молова, Гайденко, Мотрошилову, Нарского, Чанышева. А есть «оригина лы», наподобие Галковского, которые только и находят что матерные сло ва для любого образованного человека. Для них оригинальность — это камлание в какойто бочке.
— Повашему, Галковский — это не философ?
— Повторяю ещё раз — я не имею права определять, кто является фи лософом, а кто нет.
— Почему?
— Потому что это ничего не изменит. Разве Галковский перестанет считать себя философом, если я скажу ему, что он никакой не философ? Галковский может то же самое сказать и в мой адрес.
— Значит, для философа важна не самоидентификация, а идентифика ция со стороны, например, философским гением, уводящая его от интеллек туальной патологии?
— В своей жизни я не знал ни одного человека, который называл бы себя гением.
— Хотите сказать, что вам не повезло встретить такого человека?..
— Может быть…
— Философ является производителем концептов, тогда как культуртре гер — лишь эрузитом (термин Ф. И. Гиренка), паразитирующим на чужих текстах?..
— Не согласен с вами и с Гиренком. Например, Жак Деррида был из начально философомкомментатором и создал всю свою концепцию на текстах других философов. Деконструктивизм — фундаментальное на правление в философии XX века. И у Делёза вы не найдёте так называе мых аутентичных текстов. И у Фуко. Смешно представление, будто ори гинальность лежит исключительно в области самовыражения философа.
Другой всегда предшествует нам.
— А разве Другой не препятствует нашему самовыражению?
— Если вы будете игнорировать или уничтожать Другого, то умрете раньше его. Другой является свидетелем нашей смерти.
— Вы принимаете участие в публичных философских дискуссиях?
— Конечно. Но большинство из них, к сожалению, в последние годы проходит за границей — в Германии, во Франции, в Англии.
Я готов говорить с любым, кто пишет для читателя, а не для началь ника. В целом же в России ситуация с философией сейчас плохая. Речь не идёт о какомто спонтанном ухудшении, а о том, что вся политика по следних лет способствует разрушению интеллектуальной жизни. Меня приглашали в полузакрытые политтехнологические клубы. Но о чём мне с ними беседовать? Я согласен дискутировать в публичном пространстве. С телевидением вообще беда. В отсутствие прямого эфира там лучше не появляться. Например, пригласят на телевидение поговорить о том, что такое философия, а в качестве оппонента дадут какогонибудь Маркова. О чём можно с ним дискутировать? Профессиональный человек должен приходить на телевидение и комментировать кремлёвского политтех нолога?
Интеллектуально я могу поддерживать форму благодаря сектору ана литической философии в Институте философии, а также европейскому культурному пространству.
Философия не должна замыкаться на себя. Она изначально связана с политикой, искусством, литературой, со всем контекстом. Философия не делается исключительно для какихто узких групп людей. Гегель реагиро вал на походы Наполеона, на события своего времени — на прусскую мо нархию, на события во Франции. Это обычная вещь. Проблема в том, как проявляется политизация — в публичном пространстве или методами по литтехнологии (уничтожение публичного пространства и создание на за каз специальных текстов, которые пишутся для заказчика, а не для обыч ного читателя). Мой главный упрёк к таким людям, как Марков и другие, в том, что они не пишут для читателя, а всё время имеют в виду заказчи ка, того же Суркова.
— Вы испытываете ревность к тому, что именно они занимают интеллек туальное пространство, а не вы?
— Я даже в кошмарном сне не захотел бы с ними поменяться места ми. Зачем мне надо занимать их «поляну»? Если бы я рвался поставить се бя на службу имперской или суперимперской идеологии, такие возмож ности скорее всего представились бы. Я им абсолютно не завидую. Более того — судьба этих людей ужасна, поскольку они разжигают в стране на ционализм. Например, нам на процессе Сахаровского центра каждый день орали: «Жиды, убирайтесь вон из России! Будет новый холокост!» Они разжигают страсти, которые их самих же пожрут.
— Вы говорите об их интеллектуальном забвении?
— Если Россия пойдёт по пути европейской страны — они будут со временем осуждены, как уже были осуждены идеологи тоталитарных ре жимов. То, что они делают, — беззаконие. Они это прекрасно понимают, и потому так страстно разрушают агору, интеллектуальное пространство, которое одно способно вынести им обвинительный приговор.
— Мне кажется, что уже не восстановится, — по крайней мере это будет зависеть от того, какая метафора победит — либо метафора конца истории, либо метафора Маркса о том, что история повторяется дважды: один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. В условиях конца истории нас может ожидать только трагедия.
— Если вы говорите: европейский путь для России закрыт, то вы сде лали неправильный выбор, занимаясь философией.
— Нетнет, он не закрыт. Мне кажется, сейчас сложилась такая ситуа ция, когда Россия должна посмотреть со стороны на то, как Европа преодо леет свою политкорректность и «переварит» арабов и турок. Иначе наш путь в Европу будет изначально тупиковым... Вас можно было бы пригласить на философский факультет с целью организовать дискуссию о философии? Или все так и останутся в своих норках — вы больше будете известны на Западе, чем в России?.. Для вас это естественно?
— Это вполне нормально. В отличие от советского периода, когда во обще нельзя было выезжать за границу, сейчас я активно езжу на Запад и публикую свои книги. У меня довольно много заказов.
— Каков ваш философский бренд? Что такое Рыклин? Что будет ассо циироваться с вашим именем?
— Я осознал свою тему ещё в начале 1990х годов — изучение различ ных террористических практик. Сейчас это слово стало модным, тогда как я приступил к этой теме задолго до её глобализации. Меня интересо вал террор Великой французской революции и фигура де Сада. В 1992 го ду я выпустил книгу «Маркиз де Сад и XX век». Моя следующая тема — националсоциализм и Октябрьская революция, их террористические практики.
— Давайте обратимся к вашей книге «Время диагноза». Не кажется ли вам, что с методологической точки зрения у вас очень бедный инструмента рий аргументации. Вы всё время используете аргумент от диагноза, аргумент травмы?..
— Однако это сборник текстов, которые читали 20 тысяч человек на протяжении 1995–2003 годов. Статьи публиковались в журнале Lettre International, который читает довольно культурная публика. Я давал им за рисовки того, что важного и любопытного происходило в России в эти го ды. Были реакции, обсуждения. Эти тексты составили мне в определён ном смысле реноме в Германии, Австрии, Швейцарии, Франции. Я писал свои тексты не для какойто философской конференции. Редактор про сил меня писать о конкретных эпизодах. Это дневник того времени. Труд но говорить о небогатой методологии в дневнике.
— У вас один инструмент критики — от диагноза, от комплекса непол ноценности…
— В предисловии к книге я попытался через Вальтера Беньямина и Ролана Барта объяснить своё отношение к интеллектуальной психопато логии.
— Вы хотите, чтобы была создана такая наука, в которой наконецто удастся проанализировать интеллектуальные эксцессы? О каком опыте мо жет идти речь — о преодолении опыта сумасшествия в интеллектуальной сфере (на примере М. Фуко)? О психопатологии интеллектуалов?.. Какой бы вы сами себе поставили интеллектуальный диагноз?
— Вы же сами сказали, что моё положение в России достаточно мар гинально. Мы живём в совершенно извращённой ситуации. В России со циализованы такие формы мышления и речи, которые в других странах относятся к области психиатрии. У нас политики говорят на языке, кото рый невозможен в сфере публичной политики. Но важно понять, что если психопатологическая речь осуществляет контроль над интеллекту альнокультурной сферой, то она и задаёт правила. Я в такой сфере ста новлюсь, естественно, маргиналом, моя речь превращается в извращён ную, а их собственная речь, которая, далеко не только с моей точки зре ния, является просто безумной, становится совершенно нормальной. Я попытался представить Европе эту речь, используя себя как призму, — преломляя через себя и посылая туда луч. Да, там она воспринимается как патологическая — я в этом убедился много раз. В России иногда безумие становится заявкой на политическую карьеру. Человек может безнаказан но писать, что убийство царской семьи было ритуальным, — что евреи со вершили его в ритуальных целях. Ему не надо ничего доказывать, он не открыл никаких новых материалов, а просто сказал об этом, и ему пове рили. Он не раз произнесёт это с кафедры, и тысячи фрустрированных людей побегут чтонибудь громить.
— Согласен с вами — должно смениться, как минимум, три поколения, чтобы советские люди больше не воспроизводились…
— Наверное… Я пишу свои эссе не для абстрактного западного чита теля, а для культурного европейца, который есть и в России, и на Западе. В России для таких людей, как я, каналы связи с читателями перекрыва ются. Например, при Ельцине такого не было — я одинаково коммуници ровал с российским и западным читателем (публиковал свои беседы с фи лософами в «Независимой газете»). Но сейчас Россия движется в другом направлении. Основная мысль наших кремлёвских идеологов в том, что России никто не указ, что наша демократия — это не обычная демокра тия, наше общество — это не обычное гражданское общество, — что у нас всё иное, всё своеобразное.
— Каких немецких философов вы бы могли назвать, кроме Хабермаса, Апеля, Слотердайка?
— Например, Фридриха Киттлера, Манфреда Франка, Бернхарда Вальденфельса, Рюдигера Сафрански. С десяток фигур точно найдётся. Но главное — не отдельные фигуры, а наличие в стране публичной сфе ры. Один раз обжёгшись на фашизме, немцы очень жёстко оберегают эту сферу.
— Вы знаете несколько европейских языков. Что можно сказать о рус ском языке как о философском в рамках такого направления, как философия языка?
— Русский язык мало кто знает из мировой интеллектуальной элиты. Когдато больше знали. Я не знал ни одного философа, с кем общался, кто бы мог прочесть текст на русском языке. Если твой текст выходит, например, на немецком языке, то его обычно может прочитать и францу зский, и американский философ.
— Но вы же согласны с тем, что главное содержание, а не язык, на ко тором он написан?..
— Важно и то, и другое. Кстати, иностранные языки не учат не толь ко наши философы, но и американские.
— Как и у нас — такой имперский философский перекос?
— Да, имперский. К тому же на английский переведено практически всё.
— Давайте представим себе такую фантастическую картину, когда рос сийское правительство будет поддерживать русскую философию и пропаган дировать её за границей…
— Не надо поддерживать только философию — надо поддерживать всю культуру.
— Я имею в виду проект «Пушкин» Министерства иностранных дел Франции, которое проводит культурную, в том числе и философскую, экс пансию в России.
– Конечно, если бы наш МИД озаботился аналогичной культурной политикой, то всё бы изменилось в лучшую сторону.
— Значит, речь идёт всего лишь о технической проблеме?..
— Нет, о политической. Строй, который существует у нас, несовмес тим с развитой культурой, демократией, публичной политикой. Старая структура должна уйти, демонтироваться.
— Разве философский язык является разновидностью какогото нацио нального языка (например, немецкого)?
— Есть тексты внутренне переводимые и внутренне непереводимые. Почему Бахтин переводим? Потому что он писал свои тексты под колос сальным влиянием Бубера, Хайдеггера, немецкой филологической тради ции, и западная мысль опознаёт в них своё, неважно, что они написаны на русском языке. Совершенно подругому обстоит дело с текстами, ко торые создаются из какихто автохтонных источников. Например, какое влияние Розанов имеет на развитие мировой философии? Думаю, крайне незначительное.
— Каково, на ваш взгляд, качество современного политического времен щичества?
— Советская система породила тотальную политическую несвободу, полностью разрушила духовную жизнь в стране, создала профессиональ ные союзы, но всё же сделала одну вещь, которая сейчас многими вос принимается как положительная — оплатила все издержки политической несвободы своих граждан. Она как бы сказала им: вы будете несвободны в нашем гетто, но зато мы гарантируем всем минимальные гарантии жиз ни — работу, ежегодную поездку на отдых, посещение родственников, продуктовый набор. Сейчас система другая — людям самим приходится оплачивать свою несвободу. Даже диссидентам в советское время был га рантирован минимум. Сейчас никто никому этот минимум не гаранти рует. Отдельные люди обогащаются за счёт нового тоталитаризма. Совет ская система исключала обогащение политических деятелей за счёт поли тики. Они получали от государства преимущества, но только будучи на госслужбе. Сейчас политика — это повсеместный бизнес.
— Вы знакомы с книгой «Мыслящая Россия», которая вышла летом 2006 года в издательстве «Евразия»?
— Незнаком. И что же она собой представляет?
— Книга построена в виде бесед с современными русскими мыслите лями, в числе которых нет ни одного профессионального философа, а одни политологи, социологи, менеджеры, издатели, журналисты, публицисты и прочая околофилософская публика… Я сравнивал выборку «Мыслящей Рос сии» со своим проектом «Современная русская философия» и не нашёл ни од ного пересечения.
— Понятно. Такое вполне возможно. Эти люди могут считать себя мыслителями, как, например, Сурков — самый мыслящий из них и од новременно их заказчик. Кстати, Сурковто там есть?
— Нет…
— Да, это слишком сакральная фигура, чтобы быть вместе с просты ми смертными… Я считаю, что никакой российской интеллектуальной табели о рангах сейчас создать невозможно. Она может создаваться толь ко в открытом европейском пространстве. Мы знаем, какое место зани мает Бахтин в мировой интеллектуальной иерархии: его книги переведе ны, его идеи обсуждаются. Мы знаем о влиянии его книг, посвящённых Рабле и Достоевскому. А вот, например, определить влияние Мамарда швили уже значительно труднее. Попытка создать рейтинг в совершенно извращённой ситуации — абсурдна. На интеллектуальных руинах нельзя создать рейтинг.
— Но вот Подорога ориентируется на рейтинг. Всё время отсылает к ка комуто Александру Неклессе.
— Наверное, вы друг друга недопоняли. Я считаю, что в современной России нельзя делать никакие интеллектуальные рейтинги. Рейтинг воз можен в сфере публичной культуры. Ещё 7–8 лет такой «зачистки» интел лектуального поля, и в России не останется места даже для политтех нологов.
— Вы всё время позиционируете себя как интеллектуала вообще? Тогда как я хочу увидеть в вас именно философского интеллектуала… Философ, который постоянно говорит о гражданском обществе, унижает философию до политологии.
— Всё взаимосвязано. Если исчезает гражданское общество, сфера публичности, то исчезает и философия.
— Но если всё время говорить о публичной сфере для философии, то фи лософия может так никогда и не появиться… (Всегда есть шанс писать в стол.)
— Посмотрите на наш Институт философии. Все учёные советы со стоят из 70–75летних людей. Ойзерману недавно исполнилось 90. Кому то 85, комуто 75. Нужно поддерживать определённый климат, когда учитель чтото передаёт ученику, нужны институции, традиции. Филосо фия — вымирающий жанр.
— С другой стороны, не жалко каждую неделю организовывать «фило софский пароход» и топить по сектору из Института философии?..
— Вы слишком суровы к ним. Например, один мой родственник ювелир недавно увлёкся философией и пишет книгу. Другой тоже сейчас философствует и даже прочитал в Институте философии какуюто лек цию. Иногда они присылают свои тексты.
— Что это — личная трагедия их жизни? В нашей стране 100 тысяч по этов. Как же на их фоне быть настоящим?
— Почему? Каждый всё равно знает профессионалов.
— Кто отсеивает философовграфоманов? Историк философии? Тот, кто пишет учебник по философии?
— Что касается современной философии, то отсев будет произ водиться временем. Для этого нужно 20–30 лет, когда всё устаканится и произойдёт рецепция текстов, которые обрастут примерными коммен тариями. Например, очень многие философы могут не изучаться и не комментироваться по 50–60 лет, а затем в какойто другой ситуации они приобретают свою актуальность. Каждый может сказать о себе, что он является философом, а других не знает. И будет прав.
— Ещё вы известны как первый философ, побывавший в состоянии не весомости. Возможно ли философствование в невесомости?
— В общей сложности я был в невесомости минут семь. Главное — нужно успеть вовремя приземлиться. Когда выходишь на перегрузки, то можно сломать себе всё, что угодно. Твоё тело будет весить 200 килограмм после нуля, хотя всё это и происходит в течение пяти–семи секунд.
— Вопрос о холокосте. В книге Делёза и Гваттари «Что такое филосо фия?» этот вопрос ставится следующим образом: «Почему мы попрежнему люди, если смогли пережить холокост?» Что философия может сказать о забвении событий холокоста?
— Мне кажется, что я ответил на него в книге «Пространства лико вания».
— Ваш прогноз о развитии России в ближайшем будущем? Не станет ли наше время белым историческим пятном?
— Ответ будет здравосмысловым, как и вопрос. В России, с моей точ ки зрения, развивается национализм. Однако я не считаю наше время бе лым пятном; методы, которые достались нашим правителям от советских времён, окрасят его в красный цвет. Богатство накопленных методов поз воляет им даже сегодня без всякой партии подчинять себе всё общество. В целом это пыточные техники, но советского человека в третьем поколе нии пытать уже не надо.
— Про вас ходит байка о том, что вы делили наследство Жиля Делёза с Олегом Аронсоном и Алексеем Руткевичем.
— Я с Делёзом два раза в жизни говорил по телефону, когда был в Па риже. Тогда он был уже очень болен. С Гваттари я подружился в 1991– 1992 годах. Деррида меня пригласил в Париж. Его можно назвать моим учителем. Я проработал в его семинаре больше года.
— Вы занимаетесь творчеством немецкого философа Вальтера Бенья мина. Планируется какаято книга?
— Беньямин — пример почти полной безвестности при жизни, но славы мирового масштаба в наши дни, когда он входит в число трёхчеты рёх крупнейших интеллектуалов XX века. Его тексты относительно недав но начали переводиться на другие языки. Сейчас я работаю над книгой, посвящённой его поездке в Москву, а также тому, как Октябрьская рево люция и сталинизм повлияли на всё его творчество. Такой вот академи ческий сюжет.
Беседовал Алексей Нилогов
ВАЛЕРИЙ САВЧУК
Геометафизика, или Топологическая рефлексия
Валерий Владимирович Савчук (род. 1954) — современный русский философ, арткритик. Доктор философских наук, профессор факультета философии и поли тологии СПбГУ. Автор таких книг, как «Кровь и культура» (СПб., 1995), «Из жиз ни доцентов» (СПб., 1997), «Конверсия искусства» (СПб., 2000), «Режим актуаль ности» (СПб., 2004). «В научных публикациях выдвигал и обосновывал идею о топо логической рефлексии, выступающей и завершающей ряд чувственной, эмпириче ской, логической, трансцендентальной, абсолютной, постструктуралистской рефлексии. Выдвигает положение о необходимости культивирования архаических элементов сознания; обосновывает положение, что боль и рана в искусстве есть условие самоидентификации современного человека. Разрабатывает идею постин формационного состояния общества. Если в информационном обществе гипертрофи рованы аудиовизуальные каналы передачи и получения информации, то в постинфор мационном реабилитируются репрессированные ныне каналы информации»38. Наша беседа с Валерием Владимировичем состоялась в рамках проекта «Современная рус ская философия»39.
— Валерий Владимирович, если бы вам предложили написать альтерна тивную историю философии, то какой бы она получилась? Из каких бы имён состояла?
— Знаете, над этим вопросом я размышлял и у меня есть на него ответ, который, несомненно, воспроизвёл бы, будь наша встреча персо нальна, а власть микрофона задавала бы форсированный темп речи.
Прочитав же «история философии», я поймал себя на мысли о не рефлексивности использования термина, под которым обычно мыслится история западноевропейской философии. Однако, и это очевидно, у каж дого континента своя история и своя же история философии. Философия везде заводится как плесень, будь тому соответствующие условия. Она отвечает на неопределённость, вызванную развалом нерефелексивных механизмов традиции. Но философия предстала в виде гном, поэмы, диалога, лекции и жеста. Мысль телом — важная, но не написанная ещё история философии и истории философов. Поэтому философ, как, впро чем, и поэт, не был инвалидом.
У каждого актуального философа своя философия и своя история. И чем больший охват своих предшественников, включая другие регио ны, тем статистичнее вероятность найти адекватный опыт выживания и идеологического оформления этого вы и проживания. Философ не мо жет быть вне места и тела. А если им декларируется всеобщность, то она, в полном согласии с диагнозом Маркса, суть выражение частных интере сов под видом всеобщих.
Если сегодня мы называем философом поэта, переводчика, учёно го — любого представителя интеллектуального или творческого труда, — то определение «философ» им добавляет нечто, скажем, «философскую глубину», философу же — ничто. Ибо философ как философ никому не интересен, да, пожалуй, и невозможен. Он всегда стремился быть кемто, оставаясь собой, иначе говоря, именно потому, что он хотел быть другим, он становился собой. Философ же как философ или философ, который хочет быть философом, предстаёт тем, кто одну систему мысли, отвечаю щую на конкретную ситуацию, отождествляет с философией как таковой и переносит в иное время и место. Например, современный последова тельный феноменолог, для которого жизненный мир пребывает в не изменности, напоминает классического «медвежатника», вооружённого чемоданом отмычек, с помощью которых он надеется помочь хакерам, откликнувшись на их призыв о помощи, взломать защиту базы данных Пентагона. Осознав свою неуместность, он тем не менее — даром, что ли, шёл — много и увлекательно рассказывал оторвавшимся от компьютеров хакерам о назначении каждой из отмычек, о легендарных ограблениях с их применением и смешных ситуациях, выпавших на его долю.
Парадоксальная неуместность странного гостя, возможно, даст пози тивное продолжение. В остекленевших от долгого сидения за мониторами глазах хакеров, — наслушавшихся историй о смелости и изобретательно сти медвежатников, отдохнувших и заразившихся мыслью профессиона ла о том, что нет такого замка, который нельзя открыть, и нет такой сиг нализации, которую нельзя отключить, — проснулся азарт: они тут же се ли за свои компьютеры и в два счёта взломали защиту. Университеты — дело нужное.
Завершу же, процитировав себя по книге «Из жизни доцентов»:
«Наша философия ещё не написана, история её ещё не состоялась, политкорректность не разоблачена, гуманизм не преодолён. Философия нашего дня — это философия латиноамериканская, древнекитайская, старо и новоиндийская и даже древнегреческая.
Она будет всякой: кровавой и кричащей, без стеснения местной, без агрессии мужской и жеманства дамской, новоархаичной и поэтической.
Быть может она шизоаналитической. Русской.
Ктото попрежнему будет говорить от имени всеобщего» (1992).
— Знакомы ли вы с таким течением современной русской философии, как археоавангард, наиболее ярким представителем которого является Ф. И. Ги ренок, отстаивающий мистериальную линию в философии сознания?
— Как один из основателей общества «Философии и искусства Новая архаика» (1989) и автор манифеста «От постмодернизма к новой архаике» (1990), я внимательно следил за работами Ф. И. Гиренка. То, что он разра батывал, было близко нам. Иногда встречались прямые совпадения, нап ример, этикоонтологическая максима «Всё, что есть, не может быть» совпадает с тезисом Ф. И. Гиренка «Человек есть то, что не может быть». Собственно, немецкий социолог и философ Дитмар Кампер с его призы вом, прозвучавшим в 80е годы прошлого века, двигаться одновремен но «назадвдо» миф и «вперёдза» современность, в постсовременность и Ф. И. Гиренок с концептом археоавангарда дают нам уверенность в том, что мы не одиноки в своих поисках.
— Вы выступаете как теоретик постинформационного общества. Мож но ли вас соответственно назвать постмедиафилософом — тем новым типом философа, который идёт на смену медиафилософу информационного обще ства? Есть ли какаято специфика у российского постинформационного общества?
— Продумывать контур постинформационного общества — одна из задач топологической рефлексии, а прежде и в иных терминах новоарха ического проекта.
В чём суть дела? Казалось бы, префикс «пост» имеют уже все ключе вые термины ХХ столетия: постиндустриальное общество, постистория, постмодернизм, постструктурализм. Однако, означивая нашу эпоху как время после смерти Бога, центра, субъекта, искусства и автора, мы всё же живём не в постинформационном, но в информационном обществе.
«Утративший безопасность человек сообщает облик эпохе, — писал К. Ясперс в 1931 году, — будь то в протесте своенравия, в отчаянии ниги лизма, в беспомощности многих, не нашедших выхода». На наших глазах существенно изменились как главные причины, определяющие облик эпохи, так и формы протеста против господства её главных настроений. Ныне поле культуры тотально обескровлено стерильными отношениями, которые являются не чем иным, как проекцией на него стерильности и зон ненасилия социума. В ситуации повсеместной безопасности отовсю ду ускользнувший, рассеявшись по дискурсивным практикам и раство рившийся в сетях и потоках информации, индивид ищет точку опоры — точку соприкосновения с подлинной жизнью, но натыкается на ватное безразличие окружающего мира, на отсутствие непосредственной власти и эмоционально значимых отношений — его настигает чувство безучаст ности. Фактически реализовался идеал стоиков — апатия, освобождение души от всех страстей. Однако реализация идеала влечёт непредвиденные проблемы, главная из которых — невозможность жить без страстей. Здесь мы сталкиваемся с известным разочарованием, перерастающим в смер тельную скуку воплотившегося в жизнь идеала. Если прежде апатия явля лась необходимым условием мысли, то сегодня она оказывается главным препятствием мысли телом. Ибо человек по природе своей — существо чувствующее, а следовательно, ранимое и ранящее. Любое архаическое общество жило жертвоприношением; жертва — условие существования культуры. Форма существования через жертву, через боль, через восхище ние, воодушевление и праздник, которые уравновешивали рану Земле, насилие над топосом — по большей части ныне неведома, как неведомо нам отдалённое будущее. Цивилизация стерильна — культура кровожад на. Последняя сопротивляется информационному опустошению естест венных условий жизненного пространства. Если информация безучастна к человеку, то постинформационный способ обмена волнующими чело века событиями — участлив, тактилен, органичен.
Современная цивилизация настойчиво соблазняет симулировать жизнь (высокие технологии весьма способствует этому), но реальное бы тие культуры настойчиво указывает на стихийное образование мест, где человек оказывается в личной зависимости от другого, несёт бремя уси лия по производству иерархии на микроуровне. Человек не хочет и не может проживать жизнь в стерильных условиях. У него есть жизненная потребность в сильных эмоциях и насыщенных переживаниях. Глубоко эшелонированная (за счёт многочисленных институтов и ветвей), адапти рованная к политической корректности и обставленная множеством гу манистических ловушек, власть провоцирует бунт тела, которое сражает ся за зоны зависимости, за зоны свободного воле и кровеизъявления. Люди идут к экстрасенсу, к гуру, в секты, сбиваясь в плотное коллектив ное тело, ради избавления от мучительного принятия решений, «подве шивают» себя к психоаналитику; за плотным и цельным ощущением, за обретением своего тела (пусть и через боль), за радость идентификации идут в экстремальный спорт или мазохистский клуб; отказываясь от сво ей независимости, порождающей острое чувство одиночества, они соби раются в рядах футбольных или рокфанов, сбиваются в сообщества ради калов. Внешние признаки и образ их жизни оперативно переприсваивает современная индустрия развлечений. Человеку необходимо периодиче ское забвение себя, мощь экзистенциального напряжения и риск. В этом режиме запускается механизм воли к жизни, который своим спонтанным целеполаганием репрессирует большие идеологии и актуализирует под линность переживания объединяющего всех события.
Актуальные формы высказывания в искусстве ставят диагноз: чело век сегодня в большей степени отлучён от боли, персональной зави симости, телесного контакта, — он индивидуален лишь в той мере, что и номер паспорта или ИНН. Человек неосознанно бежит от безличной власти, от мировой империи информации; он уходит в различные микро сообщества, где превалирует аспект межличностной коммуникации, где происходит формирование единого тела, переживаемого как своё соб ственное. Человек стремится туда, где власть олицетворена, а угроза оче видна, где более жёсткие, то есть более личные отношения, где, наконец, можно полнокровно проживать конкретные жизненные ситуации. Ибо человеку присущ страх пустоты, страх одиночества, страх разрыва с плот ностью человеческих связей. И хотя аристотелевский тезис «природа бо ится пустоты» наивен для современной физики, однако он верен в отно шении социального и психологического поля. Пустота, как и стериль ность, невыносима в жизни: чем чище рефлексия, тем более невыносима окружающая среда.
Парадокс информационной эпохи состоит в том, что в информаци онную эпоху мы имеем острый дефицит информации. Но не того перма нентного окутывания и легкого касания массмедиальной, а по сути аудио визуальной информации, но информации в подлинном смысле слова, заставляющей изменить способ видения, мироощущения, понимания, образ жизни. То есть информации неаудиовизуальной. В постинформаци онном обществе репрессированные каналы реанимируют себя. В резуль тате возрастает персональное сообщение. Это является знаком конца эпохи стерильной коммуникации. Другой путь решения проблемы — по средством мультимедийных проектов — утопичен. Он лишь пытается ин вентаризировать все каналы коммуникации и перевоссоздать их в искус ственных формах. Но создаёт лишь стерильный и нечеловеческий мир цифровой связи. В этом мире нет боли, запаха, крови, тактильного удо вольствия и эмоционального сопереживания. Они есть только знаки телесных проявлений. Самоидентификация себя как живого, чувствую щего, имеющего тело в аутодеструктивных актах обретается в искусстве акционизма. Осознание и культивирование тактильных ощущений — первая ступень к постинформационному обществу.
— Расскажите поподробнее о своём участии в «Проективном философ ском словаре» (СПб., 2003).
— Это чистая форма смены оппозиций, постмодернистский жест, прочтение будущего как ужеслучившегося. Традиционно словари от Р. Гоклениуса (1613) и И. Микраэлиуса (1653) до словаря «Современная зарубежная философия» (отв. ред. В. С. Малахов, В. П. Филатов, 1998) итожили то, что уже утвердилось в словоупотреблении, а потому вошло в словарь, архив, музей, приобретя статус словарноэнциклопедического консенсуса. Авторы этого проекта именуют собрание вводимых терминов проективным словарём, меняя местами начало и конец, причину и след ствие и производя тем самым концептуально чистый художественный жест: предлагая нам принять проект в качестве уже состоявшейся исто рии, истории, ставшей словарём. Моё участие помогло мне произвести инвентаризацию своих терминовконцептов. Их немного. Да и может ли быть иначе? Что из этого будет жить — покажет время.
— Вы являетесь автором топологической рефлексии — геометафизики. Могли бы вы концептуализовать данную рефлексию?
— Да, собственно, над этим и работаю в последнее время. Замечу только, что топологическая рефлексия — концепт, а геометафизика — ме тафора.
Топологическая рефлексия отрицает позицию незаинтересованного наблюдения. Реабилитируя субъект, который не редуцируется к социаль ным, экономическим, лингвистическим и прочим структурам, она исхо дит из того, что её предмет бессмысленно искать в мире объектов самих по себе. Посему столь же сильным, сколь и неверным было бы допущение постулировать уникальность и невыводимость субъекта, отказав ему в ос новании, с одной стороны, как и лишить его плотности тела — с другой. Иными словами, из верной посылки, что субъект, осуществляющий реф лексию, полностью не редуцируется к структурам языка, экономики, по литики, не следует: а) что они не воздействуют на него, б) что нет других (не тематизированных исследователями детерминаций) и в итоге что в принципе невозможен иной подход в объяснении смены типов рефлек сии. Так как именно в топосе уникальность находит свои действительные и достаточные основания, которые одни и те же и для человека, и для рефлексии, и для культуры в целом. Вспомним одно из важных значений термина рефлексия: «обращение назад, обращение внимания, забота, об ращение или пребывание в какомлибо месте, останавливаться и обора чиваться назад», но остановка и тем более пребывание в подлинном смысле слова может быть только в определённом месте, как в нём же только и возможен взгляд, ощущение, рефлексия. Отсюда и диалектика покоя и изменчивости; обращение назад — процедура, требующая конце нтрации и усилия. Она развёрнута во времени и им же ограничена. Но пребывание в определённом месте, вместе с ним, с его постоянством ге ографических координат, входящих в понятие контекста. Место — арена демонстрации интересов и почва для конфликтов. Поэтому понять и пе ресказать чужую философию намного проще, чем собственный топос. Отсюда же исток беспомощности и невнятность речи философа, когда он берётся рассуждать о современной культурной и политической ситуации.
Отказываясь от всеобщности, топологическая рефлексия не может не сопереживать топосу. Вынужденная брать ответственность за принятое основание, за вывод, практическое действие, она собирает вниманием, связывает жизнью, исцеляет трудом. Это движение от тотальности к ло кальности, от универсальности к контексту, от глобализации к регионали зации.
Топологическая рефлексия схватывает не только воздействия кон текста, но и импульсы, задающие конфигурацию данного контекста. Та кими импульсами могут быть слабые взаимодействия. Но слабые воздей ствия в определённых условиях оказываются более значимыми, чем воз действия очевидные, прямые, сильные. Если постструктурализм деза вуировал субъект рефлексии ею самою, заботясь о том, чтобы ускользнуть от определённости, занять позицию критики к любым инстанциям влас ти, к любой объективной истине, то топологическая рефлексия возвраща ет истину, ответственность за принятое решение в данном месте и данное время данным субъектом. Таким образом, топологическая рефлексия — это рефлексия из тела, из топоса, из их состояния.
— Кого из современных русских философов вы можете назвать?
— Процитирую Вячеслава Курицына, который задался своим рей тингом современных поэтов: «Первым, кто пришёл мне в голову, был Ар кадий Трофимович Драгомощенко», у меня же — Валерий Александрович Подорога. Кто второй, третий, шестой — вопрос открыт? Претендентов много, но все они, замечу, либо в Москве, либо, в существенно меньшей части, в Петербурге. Не думаю, что мой лист фамилий существенно отли чается от вашего. Разве что в вашем нет петербургского философа Алек сандра Николаевича Исакова с его антропологической концепцией исти ны и, к сожалению, рано ушедшего танатолога Андрея Витальевича Дё мичева.
Здесь вновь позволю себе сослаться на доцентов:
«Почвенники.
Философы подобны эстрадным певцам — много их. И чем больше, тем труднее стать популярным. Хотя… кто живёт в центре, кто пишет и публикует в центре...
Почемуто нет популярных певцов на грустном Нечерноземье, как нет там и философов, прости Господи (1991)».
Верю всё же, что эта ситуация в корне изменится.
— Какой, на ваш взгляд, предел маргинализации философии? Может ли существовать, например, философия педофилии или философия мизософии (или — мизософия мизософии?) или все философские дискурсы изначально приобщены к традиции?
— Меня смущает термин «маргинализация». Если нечто становится философией, если оно занимает умы философов или, скажем иначе, про изводит философскую работу, то это и есть основное направление фило софии. Так, для древних греков сочетание «философия искусства» или «философия науки и техники» были бы более чем странны, да и сейчас, пожалуй, «философия обмана природы» звучит сомнительно.
Я уже спрашивал себя однажды: как возможна философия чегото? Где граница области специального, за которой термин «философия» теря ет не только силу, но и смысл. Ибо чем, как не отсутствием смысла или, того хуже, вкуса, веет от словосочетаний «философия сельского хозяй ства», «философия фирмы», «философия вождения автомобиля»? Часто тность употребления слова «философия», вопервых, даёт повод подумать не только о том, что границы философии в каждую эпоху определяются заново, но и, невзирая ни на что, об аттрактивности ресурса философии, который использует реклама. Вовторых, в отношении всё той же фило софии искусства можно вспомнить жёсткую критику Ф. Шлегеля: «В том, что называют философией искусства, отсутствует обычно одно из двух, или философия или искусство», — сегодня же термин «философия иску сства» не вызывает возражения ни у философов, ни у интеллектуального, ни у художественного сообщества. Виной ли тому респектабельный спи сок авторов, написавших книги под одним и тем же названием: А. Банфи, В. Л. Кардозу, И. Тен, Б. Христиансен и, конечно же, над всеми витает ав торитет Шеллинга, а также существование разделов в курсе преподавания эстетики, истории и теории искусства?
— Вы констатируете смерть интеллектуала и приход ему на смену куль турала. Как с культуральностью обстоит дело именно в философии? Не явля ется ли культурал разновидностью культуртрегера?
— 1. Культурал, отбрасывая кредо добровольного парии, которому присягали радикалы предшествующей эпохи, явил собой массмедийную фигуру, соединяющую идеологию потребления и симуляцию искреннос ти. Его главная цель — власть, которая достигается популяризацией свое го образа за счёт создания интеллектуального и информационного ком форта потребителя. Культурал завоёвывает эфир и устанавливает режим всеобщей, то есть массовой информации.
Любой человек является носителем культуры. Дело другое — какой? Культурал — новый производитель на рынке интеллектуальной и массме диальной продукции. В ситуации обращённости коллективного внима ния к артефактам массовой культуры, поставляемым СМИ, он не только успешно конкурирует с интеллектуалом, писателем и куратором, но и за метно теснит их. Производитель получил имя культурал. Его проект — концептуализируется на глазах. Классический же интеллектуал, столк нувшись со всё более глобализирующейся медиадействительностью, либо трансформируется в культурала, либо становится специалистом. Побоч ным следствием этих процессов является ситуация, в которой новая мета форика отодвигает в тень старую метафизику, а культурал выступает суб ститутом интеллектуала. Вбирая в себя имидж последнего (самый про стой и в то же время самый распространённый приём культурала — узнать нечто из интервью с интеллектуалом, писателем, специалистом, чтобы предварить этим разговор, оставляя собеседнику лишь подтвердить его — культурала — мысль), культурал наследует его мыслящую — читающе слушающую — аудиторию, а используя технику и приёмы телеведущих, он — за счёт зрителей — увеличивает её во сто крат. Культуралы не только присваивают имидж и лексику интеллектуалов, но и достижения актуаль ных художников, их умение изобретать и реализовывать проекты. Чем масштабнее проект, тем больший резонанс он вызывает. Здесь открытия актуальных художников оказываются важными для культуралов. Способ ность искусства оперативно реагировать, давать имя непроявленным ве щам и не ставшим ещё массовыми явлениям перенимается культуралом, который добавляет умение найти того, кто может привлечь к себе внима ние и говорить с ним, а затем до и вместо него. Он формирует и удовлет воряет спрос. Это корпоративная стратегия культурала.
Авторский проект придаёт усилиям культурала легкоузнаваемый и усвояемый вид. Вид творчества. Долгодействующий проект превращается в авторскую программу, которая позволяет соединять коммерческие инте ресы и медийную идеологию. В итоге культурал внушает мысль о том, что он не только информирует нас о происходящем, но и сам создаёт событие, достойное внимания. Со временем сами художники видят в культурале образец успешной деятельности в реализации масштабных и капиталоём ких проектов. Работая на информационном рынке, культурал находит точные маркетинговые ходы для продвижения своих программ, своему массмедийному продукту. И чем активнее он, тем пассивнее зритель и тем более сужен горизонт его видения и репрессирована способность вообра жения и тем, наконец, активнее воспринимает и апроприирует телезри тель и радиослушатель (вот поистине магические слова заклинания, со провождающие подгонку аудио и видеопротезов к органам восприятия) стиль культурала в способ самоописания; он онтологизирует мир культу рала, как в декартовское время онтологизировали научную картину мира. Мир культурала дан не в форме рефлексии, но в форме высказывания. Местонахождение телезрителя — потребителя СМИ не имеет значения. Ибо культурал атопичен, он всегда поверх дискурсов, топосов, конкрет ных ситуаций. Модус его существования — скорость симуляции события. Он пересекает границы, соединяет несоединимое, выдавая видимость за существо дела. Возделывать, сохранять, брать ответственность за ситуа цию не его кредо. В силу того что с каждым днём символическая цена ми нуты массмедиального события возрастает, его сверхзадача — сфокусиро вать, удержать внимание и удержаться. Он идёт на всё, готов платить лю бую цену, чтобы остаться в зоне видимости масс. Но оставаться в зоне коммуникации культурал может до тех пор, покуда не истрачен ресурс до верия, покуда его личный интерес, представляющий собой интерес всего класса зрителей, покуда симуляция подлинности события и точно вы бранной интонации соучастия не раскрыта, покуда не найдена более эф фективная стратегия удержания внимания, покуда не раскрыты механиз мы его власти.
2. Меня привлекает определение Марселя Пруста: «Культура — это усилие во времени». Культурал не повышает градус усилий, не несёт куль туру; он выносит её лишь постольку, поскольку, предъявляя её, он при влекает внимание к себе. Чем активнее культуралы, тем ниже культура зрителей и их активность.
— Какова ваша концепция философии фотографии?
— В таких случаях говорят «спасибо за вопрос». К ответу, прозвучав шему на ваш вопрос о границе строгого и маргинального способа исполь зования термина философия, я нахожу для себя аргументы положительно ответить на вопрос, как возможна философия фотографии? Если кратко, то они следующие.
В отношении конкретного жанра, например графики или скульпту ры, термин философия употребляется лишь в расширительном, то есть неподлинном — смысле, в котором мы используем выражение филосо фия автомобиля, концерна, журнала. Почему же философия фотографии претендует на исключение? Отчего прежде фотография стремилась и вскоре стала жанром изобразительного искусства, а для теоретиков фо тографии предельные вопросы, призванные ответить на вопрос о приро де фотографии, обретались в рубрике «Онтология фотографии» (что под этим понималось — другой вопрос), а сегодня востребована философия фотографии? Вполне вероятно, что причину этого необходимо искать в специфике самого жанра фотографии, ставшего актуальным в эпоху, ко торую аналитики называют то цивилизацией образа, то иконического поворота. Всё есть образ, нами видит образ — таковы тезисы философии фотографии.
Во всех определениях современности позиция визуального образа неизменно лидирует. У неё есть история. Согласно Х. М. Маклюэну, с каждым исторически значимым открытием, с технологическим проры вом появляются новые «эпистемологические метафоры, структурирую щие и контролирующие способы нашего мышления». Аристотель в пер вых словах своей «Метафизики» указал на то, что люди от природы име ют влечение к чувственным восприятиям и ценят они «больше всех зрительные восприятия, ибо видение, можно сказать, мы предпочитаем всем остальным восприятиям». Печатная революция, начавшая отсчёт от изобретения Гутенберга, не только рассеяла политическое и физическое тело, освободив властителя от настоятельной необходимости непосред ственно присутствовать в момент изъявления его воли, но также и спро воцировала напряжённый дисбаланс между устной и письменной речью с последующей консолидацией визуального пространства в качестве доминирующей метафоры окультуривания.
В истоках нынешнего господства визуального образа стоит фотогра фия. Хотя она — художественная, серебряная, аналоговая — сама же пала первой жертвой ситуации, которую породила. Её развитие (воздержимся от термина «мутация», чтобы не выказать оценочного отношения) реаги рует на актуальное положение дел (прежде всего на развитие технологий), и в итоге она в него встраивается, наполняя цифровым содержанием фотообраз.
Здесь важно обратить внимание на демаркацию предметных облас тей теории и философии искусства (прочно ассоциирующей себя с эсте тикой). Замечу, если различные теории искусства, опирающиеся то на феноменологию и герменевтику, то на психоанализ и семиотику, опреде ляют специфику жанра конкретного искусства или художественного тече ния, то философия ставит вопрос, как через единичное (произведение искусства) проявляется целое, через данное (в нём) пространствовремя — всеобщее, каким образом в настоящем обнаруживается основание эстети ческого/критического суждения, то есть как в конкретных условиях соот носятся мысль актуального времени с горизонтом прошлого и будущего, как новый жанр искусства решает проблемы искусства как такового (или не решает — и тогда уходит со сцены искусства). Обратившись к фотогра фии как к конкретному жанру искусства, уместно привести мнение одно го из первых медиафилософов Вилема Флюссера, автора книги «За фило софию фотографии»: «Каждая философия фотографии должна по досто инству оценить неисторический, постисторический характер феномена фотографии». Он полагает, что «в XVIII веке философия машин была од новременно критикой любой антропологии, науки, политики и искус ства, а именно критикой с позиций механицизма. Не иначе обстоит дело и сегодня: современная философия фотографии могла бы стать критикой функционализма во всех его антропологических, научных, политических и эстетических аспектах».
Продвижению к существу дела философии фотографии поможет анализ обращения в ХХ веке философов к анализу конкретного произве дения искусства: картине, стихотворению, перформансу, фильму, что, од нако же, не привело к появлению философии картины, поэзии, перфор манса, кино. Это важно, как важно понимать, что мысль о бытии и бытие мысли совпадают лишь у досократиков и мерцают у Хайдеггера, в осталь ных же случаях неразличение их — симптом нерефлексивной, то есть не философской позиции.
В борьбе с философской позицией очень часто борется не здравый смысл, но прежняя философия, ставшая предрассудком, как и радикаль ное искусство сопротивляется не жизни и её нравам, а прежней радикаль ности, превратившейся в икону современности. С философом приходит инвестиция понятия в сферу жизни, в один из регионов, который по при хоти ли истории или хитрости мирового разума выходит на первый план. Акцент философа легитимирует интерес художника и в то же время, хотя это кажется взаимоисключающим, делает мысль философа об искусстве актуальной. К примеру, если философия «забывает» науку, то виновата не слабеющая память философов, а утрата общественного резонанса науч ных открытий. Наука всё более становится прикладной сферой техниче ского. Метафизических вопросов она не касается. Хотя прагматизм за падного общества инициирует решение «нравственных проблем развития науки», однако сфера свободного волеизъявления обнаруживает себя в иных областях. Не поддерживаемый субсидиями философ обретает акту альность в анализе изобразительного искусства. И нет ничего удивитель ного, что после поэзии и живописи интерес смещается к кино и фотооб разу, от соразмышления с Анаксимандром, Парменидом или Гераклитом (Хайдеггер) к размышлению вместе с кино (Делёз) и, добавлю, фотогра фией. Завершу вполне очевидным: философия фотографии размышляет над следствием из того, что всё стало образом.
— Расскажите о новоархаическом проекте контртекстуальности. Не кажется ли вам, что контртекст как оппозиция текстоцентризму не устраня ет бинарные схемы интерпретации контекстуальности, а привносит новый бинаризм «текст—контртекст»? Каков контекст контртекста?
— Это различные этапы, зафиксированные разными манифестами, которые привели к топологической рефлексии.
Контртекст — стратегия борьбы с текстоцентризмом, способ видения и рефлексии, неотчуждаемый от места и времени. Постструктурализм со вершил грехопадение, «разомкнув» структуру в контекст, обрекая после дователей на муку учёта обстоятельств. Однако, однажды увидев крова вую изнанку знака, рану тела, на котором знаки ставятся, необходимо сделать следующий шаг — снять философскую рефлексию с текста и бережно положить её на Землю. В этом цель радикального новоархаиче ского проекта. Эта задача конкретизируется Петербургским исследова тельским центром «Контртекст», который предполагает не столько акцентирование роли контекста, и даже не столько «забывания» главных оппозиций структура/натура, текст/контекст, означающее/означаемое, bios/logos и т. д., сколько продумывание их неразличимости, их неразрыв ности и цельности. Это становится возможным в силу смещения угла зрения с плоскости несопоставимости в пространство неразличимости в область практики тела, имеющей предметом вожделеющее, волящее, жертвующее (ранимое и ранящее) тело. «Контртекст» намеренно прово цирует состояния желания и способы (техники) его реализации, диаг ностируя интенсивность первого и скорость второй.
Сопротивляясь терроризму текста, «контртекстуалисты» пытаются обрести экзистенциальную искренность, серьёзность интонации и пози тивную продуктивность. Их «Контртекст» вызывающе центричен, так как ангажирован чувством единства и устойчивости «мы». Способ ускольза ния от любой формы позитивности (власти), предъявляемый постструк турализмом, вскоре становится интеллектуальной модой, диктатом. Со противление текстоцентричному режиму происходит путём отслежива ния того места, из которого проистекают или, что одно и то же, к которо му стягиваются силовые линии власти популярности. Разоблачение «незаинтересованности», «игры», «свободы» и «безответственности» об нажает заинтересованность в Единых правилах игры и увеличении числа играющих. Двойному кодированию иронии и свободы «контРтекстуа лист» противопоставляет авантюру искренности индивидуального про живания и ответственность коллективного.
— Возможен ли иконический поворот (отход в средствах коммуникации от вербального способа к визуальному) в философии? Насколько серьёзно размывание философии до одного из видов искусства? В чём состоит принци пиальное отличие философа от художника, понятого в самом широком смыс ле слова?
— 2. Начну с последнего. Когда философ избирает себе в собесед ники политика, учёного, поэта или художника, он не становится каж дым из них. Он ставит им свои вопросы, соразмышляет и инвестирует смысл. Так, после разговора Хайдеггера с Гёльдерлином последний уже не может вернуться в адамическое состояние, состояние чистого поэта. Мысль Хайдеггера входит в понимание Гёльдерлина. Последний стал по добен Венере Милосской — в нём меньше случайных деталей. Поэтому философ как геометр, как теолог, как художник остаётся собой, вернее, повторюсь, только так и может обрести себя в качестве философа. Через Другого.
1. Иконический поворот — означающее сдвига в социальнокультур ной ситуации, при котором онтологическая проблематика переводится в план анализа визуальных образов. Он следует за онтологическим, линг вистическим поворотами и фиксирует отход в средствах коммуникации от вербального способа к визуальному. Но господство нового средства коммуникации изменяет существо восприятия, что в конечном итоге ве дёт к изменению понятия реальности. В наше время перепроизводство визуальной продукции достигло столь небывалых масштабов, что перест роило критерии оценки событий: мы чаще доверяемся не букве и слову, а визуальному образу. Итак, лингвистический поворот подразумевал, что все вопросы философии — это вопросы языка. Иконический поворот подразумевает, что в истоке формирования актуальной реальности ис ключительна роль образа, воздействующего на этикополитическую и экономическую составляющую жизни.
После того как изображение стало возможно не только репродуциро вать, но и обрабатывать (вначале эти возможности даёт фотография, а се годня, стократ увеличив, цифровой способ обработки изображения), степень манипуляции визуальным документом возросла. Конструкция объективного отображения или изображения реальности утратила фунда мент. Референт изображения оказывается под вопросом. Идея адекват ности отступает перед свободным выбором представления одной и той же реальности, таким образом, хайдеггеровское представление реальности получает иконическое развитие. Мы не интерпретируем то, что видим, мы видим то, что представляем. Реальность выступает лишь как архив или склад, откуда отбирается или заказывается необходимое для производства образов. «Дайте мне образ, и я переверну мир» — такова максима, выра жающая существо иконического поворота в западной цивилизации. К то му же она говорит о том, что к фигуре интеллектуала, владеющего умами современников, добавляется фигура культурала, успешно овладевающего взглядами зрителей.
Если для Л. Витгенштейна «Образ есть модель действительности», то ныне в нём усматривают самостоятельную реальность. Мультикультур ный и многоуровневый характер производства визуальной реальности стал довлеющим. В этом контексте существо фотообраза как визуального образа эпохи новых медиа — одна из наиболее актуальных тем. Здесь скрещиваются интересы философов и теоретиков искусства, антрополо гов и медиатеоретиков. В истории проблемы более или менее достигнут консенсус: реальность визуального образа, которая не подвергалась со мнению в традиционных обществах, становится в эпоху модерна посред ством механизма десакрализации «отражением реальности» (сильные иллюзии породила впервые фотография), а затем в постмодерне — и са мостоятельной реальностью, часто определяемой как сверхзначимая.
Эволюционировала и трактовка образа. Если результаты понимания мира в новоевропейской культуре стали соотносить с картиной мира, то изображение реальности стали отождествлять с картиной. Привходящие значения художественного образа (то есть те, которые не входят в изобра зительные искусства) отданы на откуп неизобразительным искусствам: танцу, музыке, поэзии и т. д., которые не столько отражают мир, сколько выражают состояние человека. Вобрав в себя миф, порождённый оптико центричной перспективой, художественная картина мира — один из важ нейших символов западной культуры — стала прямо и непосредственно соотноситься с живописью. Завершённость и неизменность художествен ной картины — важный конструкт европейской самоидентификации и условие функционирования её в качестве шедевра, то есть товара, год от года повышающего свою стоимость. Спросим себя, что питает (по сей день) идею неприкосновенности уникальной картины? Ведь документа ция происходящего идёт перманентно, и мы имеем возможность видеть случайные события, например, как самолёт 11 сентября 2001 года вреза ется в башню, картины взрыва стоят у нас перед глазами, воздействуя с та кой силой, о какой не могли и мечтать ни автор «Герники», ни автор пла катов РОСТА.
— Как вы относитесь к философскому творчеству М. Н. Эпштейна? Не считаете ли вы, что большинство его концептов представляют собой мерт во(в)рождённые идеи?
— Вопервых, мне нравится — если он — ваш terminus novus, мерт во(в)рождённые идеи. Что же касается вашего негативного отношения к творчеству М. Эпштейна, то должен заметить, что он делает своё дело, философом себя не называя. Он филолог, работающий в поле философ ской мысли. А если его творчество воспринимается вами как философ ское, то вы, вопреки намерениям, относитесь к нему как к философу, по вышая к тому же его философский рейтинг. В его поиске я вижу попытку отразить актуальную ситуацию в актуальных же, здесь и сейчас изобре тённых терминах. Специально придумывать термины дело трудное и, как показывает история, непродуктивное. От всего Хлебникова осталось, ка жется, одно слово «лётчик».
— Какое место занимает ваш «закон симметрии ран архаического кос моса» в философии телесности? Как вы относитесь к феноменологии телес ности В. А. Подороги — в особенности после работ М. МерлоПонти?
— Непосредственное. В культуре всегда были пространственновре менные лакуны, в которых находило разрешение свободное волеизъявле ние или кровоизлияние. Они всегда рядом. Где ещё воля может так явственно проявить свою суть, как не в преодолении косности и инерт ности мира, живущего довольно или, лучше сказать, самовольно? Про ведение своего порядка есть насилие над волей первобытности мира, пре образование сегмента бытия, предоставленного наличному поколению для возделывания и устройства. Упорядочивая мир, распорядитель рас плачивается кровью за возможность открывать новые способы видения, новые пространства, новые степени свободы. Рана Земли от первой бо розды, проведённой на ней, — это рана начинающего действовать архаи ческого тела, не различающего ещё внутреннее и внешнее тело человека и природы. Кровавые уподобления тел, опирающиеся на симметрию ран телу Земли и телу рода, восстанавливают покой и уверенность в чувствах, мыслях, делах. Например, принесение человеческих жертв во время посе вов (то есть нанесению ран Земле) было обычным делом в самых различ ных регионах Америки, Африки и Индокитая. Кровь — универсальный чек оплаты богам за деяния человека. Она есть единственное условие «умилостивить духов Земли» за причинённое им беспокойство.
Рана — условие свободы человека не только в смысле расплаты за вы ход из самотождества и биокосмической целостности, но и в том, что кровь есть свидетельство контакта тел, есть результат выбора, есть воз можность иначе (осторожнее или смелее) действовать, есть, наконец, па мять выхода навстречу движению самовитых тел и сил, опыт борьбы со своим страхом, опыт действия наперекор естеству. Закон предков остав ляет на теле ритуальные знакиотметины (татуировки, проколы ушей и ноздрей, шрамы инициации и т. д.), производство оставляет свои следы, охота — свои. Сведённые воедино, раны составляют непрерывную цепь, которая окружает крепость человека рвом, проводя границу между своим и чужим, опасностью и безопасностью, силой воли и жёсткой необходи мостью, свободой и табу. Рубцы шрамов — стены бытия человеческого до ма. Символическое обозначение производится одновременно по всему (всеобщему) телу посредством отметин и зарубок — как на теле рода, так и на теле природы (территории).
Самый поверхностный слой метафоры «кровообращение в культу ре», отсылавший к школьному знанию о биологическом законе кровооб ращения, не был далёк от случившегося здесь поворота сюжета об упразд нении различий между жизнью культуры и жизнью организмов (недаром совокупность мельчайших из них — и это не случайно — зовётся культу рой), а также от желания представить свидетельства структурного по добия — до неразличимости, до близнечности — циркуляции крови по большому и по малому кругу; макро и микрокосмоса, культуры и натуры. В этом уподоблении строгости научного дискурса льстит словечко «за кон» в применении к кровотечению, которое с тем же, думаю, «успехом» можно употребить к кровотоку в культуре, к ритмам и пульсации крови, к прыжкам её давления, к гипертоническим кризам и гипертонической сла бости, к тромбам и ранениям тела культуры. Образ кровообращения в культуре собран по образу циркуляции крови в организме. Налицо два круга: большой и малый. Они сообщены. Метастазы в культуре отзывают ся метастазами на теле Земли и в теле человека.
Вторая часть вопроса. После работ М. МерлоПонти тексты о телес ности в западной традиции не могут не рассматриваться в свете его работ. Другой вопрос: а как отнестись к МерлоПонти после работ Хайдеггера, Гуссерля?
Беседовал Алексей Нилогов
АЛЕКСАНДР СЕКАЦКИЙ
Прикладная метафизика
Александр Куприянович Секацкий (род. 1958) — современный русский (а ещё и пе тербургский) философэссеист, публицист, писатель; софист по убеждению и при званию, магистр незримой имперской пропаганды и отложенного будущего. Посту пил на философский факультет ЛГУ в 1975 году, но через два года был исключён за антисоветскую агитацию и пропаганду (четыре месяца провёл в следственном изо ляторе КГБ). Отслужив в стройбате и получив навыки многих полезных профессий (сторожа, кочегара, киномеханика, сварщика, табунщика, осветителя и др.), укре пился на философской стезе. В 1988 году восстановился на факультете и закончил его. В 1995 году защитил диссертацию «Онтология лжи». Между делом преподаёт философию в СанктПетербургском университете на факультете философии и по литологии (доцент кафедры социальной философии и философии истории). Алек сандр Секацкий как публицист и философ — один из лидеров идеологической группы, получившей название «петербургские фундаменталисты». Основная область инте ресов: ложь, война, порнография, шпионаж, самозванство, недеяние. Автор книг ху дожественнофилософской эссеистики: «Моги и их могущества: Трактат» (СПб., 1996), «Соблазн и воля» (СПб., 1999), «Онтология лжи» (СПб., 2000), «Три шага в сторону» (СПб., 2000), «Прикладная метафизика: Эссе» (СПб., 2005), «Сила взрыв ной волны» (СПб., 2005), «Дезертиры с Острова Сокровищ» (СПб., 2006). Лауреат премии «Лучший критик» по версии «Борея» за 1995 год. Наша беседа с Александром Куприяновичем состоялась в рамках проекта «Современная русская философия»40.
— Александр Куприянович, в чём слабая сторона вашей философской методологии номадизма?
— Номадизм не является методологией в том же смысле, в каком можно говорить о методологической роли диалектики, герменевтики или, скажем, позитивизма, опирающегося на манию наглядности. Это не ком пактная философская техника, а, скорее, одна из решающих тематиза ций, определяющая направление «в какую сторону думать». И здесь есть принципиальная трудность, если угодно — даже слабость: она состоит в том, что бытие номада (так же, как и дух воинственности) очень плохо поддаётся объективации. Позывные чистого авантюрного разума, кото рыми движим номад, сами по себе не оседают в виде произведений, и по пытка их регистрации в этой форме неизбежно будет включать в себя по зицию наблюдателя.
Сказка странствий, даже рассказанная чрезвычайно искусно, не столько провоцирует номадический драйв, сколько предлагает субли мацию: «приключенческий жанр» в искусстве; это в значительной мере набор заклинаний, и притом весьма действенных, призванных пре дотвращать порывы бытиязаново. Обузданный, всецело подчинён ный дискурсу номадизм — это, говоря словами Стругацких, «суета вокруг дивана».
Может ли философия превзойти саму себя в качестве текста? — вот вопрос, который в равной мере волновал Маркса, Ницше, Витгенштейна и многих других существенных мыслителей. Как бы мы на этот вопрос ни ответили, очевидно, что самые значимые результаты связаны с попыткой такого превосхождения. С величиной преодолеваемой дистанции, когда специалист по словам проходит путь к иноприсутствию (как Маркс к про летариату), неизбежно теряя тонкости цеховой философии и всё же пыта ясь выразить в тексте опыт радикально иного бытия.
— Что вы понимаете под «философообразием без философии»? Как бы вы отреагировали на такое замечание в свой адрес?
— Слышал я в свой адрес и не такие высказывания. Реагирую на них достаточно спокойно. Огорчаться стоит в том случае, если твои усилия оказываются неразличимыми в общей массе написанного от имени фило софии. Тогда обычно и прибегают к самооправданиям в духе Незнайки: не доросли ещё, дескать, до моей музыки (то бишь философии), но рано или поздно настанет и мой черёд…
Стоит также отметить, что прекрасное определение искусства, дан ное Кантом, — «целесообразность без цели» уже лет двести не даёт покоя претендентам на лучшее bon mot: кто только не пытается блеснуть остро умием, а возможно, и метафизической крутизной, придумывая какоени будь очередное «чаепитие без чая». Вроде бы упражнения сами по себе бе зобидны, но результат неожиданно печален — благодаря многочислен ным эпигонам определение Канта несколько померкло…
— Кем вы больше себя считаете в философии, согласно вашей же клас сификации, — «эфемером» или «посмертником»?
— В области философии эфемеры, то есть обладатели широкой при жизненной славы, попадаются крайне редко. Но, что любопытно, если такое всё же случается, то все они, от Сократа и Диогена до Ницше, попа дают в ряды классиков — становятся посмертниками. Поэтому показное пренебрежение академических серых мышек к эфемерной известности коголибо из своих удачливых собратьев весьма забавно, хотя после Фрей да это не слишком интересный аналитический случай. Другое дело — ис тинное равнодушие к котировкам и классификациям: оно тоже встреча ется, но как редкий, заслуживающий уважения дар.
Вопрос получает нетривиальный смысл, если его переформулировать так: а можно ли вообще считать себя эфемером, занимаясь философией? Такую степень несчастного сознания трудно себе даже представить. Фи лософы, заслуживающие этого звания, обречены быть непризнанными посмертниками, в надежде на будущий счастливый для них вердикт.
— Как вы относитесь к хиромантии для философов?
— Под хиромантией, очевидно, опять имеются в виду мои тексты. Что ж, тогда я должен заметить, что отношусь к ним вполне сносно.
— Осталась ли в вас какаянибудь толика «слишком человеческого» или ваше философское «можество» не знает себе равных?
— Этот вопрос оставлю без комментариев.
— Существует ли сегодня русская философия? Какие имена вы можете назвать?
— Таблицы котировок вызывают, конечно же, наибольший интерес у читателей. Да и интервью как принципиально руморологический жанр обычно запоминаются благодаря игре имён, запоминают, кто кого назвал и кого пропустил. Я могу смело назвать ряд людей, продолжающих оказы вать влияние на мои собственные изыскания, правда, из них лишь один имеет отношение к дисциплинарной философии — Борис Гройс. Его ра бота «О новом» сделала бы честь любому европейскому мыслителю. Вооб ще тексты, которые содержат изложение мысли, а не только надежду на то, что язык сам вывезет, если с ним немножко поиграть, — такие тексты, увы, встречаются достаточно редко.
Неизменный интерес вызывают у меня работы математика Юрия Манина, психолога Л. М. Веккера, которого я помню ещё со студенческих лет, киноопыты Евгения Юфита… Философски поучительны фильмы но вой волны от Аристакисяна до Валерии ГайГеманики и, конечно же, но вые явления, возникающие во Всемирной паутине: fanfic, flash mob и сам сетеяз в целом как феномен.
На мой взгляд, к самым ярким образцам мысли ХХ столетия (в том числе и философской мысли) относятся работы М. М. Бахтина, Н. А. Берн штейна, Б. Ф. Поршнева и М. К. Петрова. Все они великие посмертники, не удостоившиеся прижизненной известности за пределами своих узких референтных групп (ну разве что Бахтин в последние годы), однако их книги и сегодня несравненно актуальнее чрезвычайно унылых изданий, выходящих под маркой НЛО. Если не считать отдельных ярких страниц, то русская философия во всемирном смысле, пожалуй, ещё и не начина лась. Пока стихия русского языка, этого главного чуда России, смогла по родить мировую литературу. Будем надеяться, что философия на очереди.
— Как вы можете прокомментировать оппозицию петербургского — по преимуществу диссидентского — философствования и московского — по преимуществу официозного?
— Для меня «философское противостояние» Петербурга и Москвы имеет несколько иной смысл. Если ограничиться двумя последними де сятилетиями (впрочем, подобная тенденция прослеживалась с самого на чала «спора» двух столиц), то Москва представляет более рациональное, вменяемое направление (точнее, настрой), куда органично входят недо стижимая для Петербурга степень цинизма и отработанная до автоматиз ма поза мудрости. Петербургская философия в моём понимании более гу манна. Конечно, не в том смысле, что она принимает всерьёз всякое там разумноедоброевечное. Философская атмосфера этого города позволя ет социализировать, ввести в приемлемые рамки множество шизотенден ций и проявлений безумия, спасая тем самым от «окончательного диагно за» сотни и даже тысячи проблематичных вменяемостей. Не будем забы вать, что, помимо всего прочего, метафизика фактически представляет собой единственную легитимную возможность войти в контакт друг с другом для тех, кто находится у самой черты шизофрении и даже пересёк эту черту. Все прочие контакты проходят по ведомству психиатрии, и лишь философский спор остаётся последним взаимоприемлемым полем.
Речь не идёт о клинической шизофрении, во всяком случае не о ней в первую очередь. Метафизика приглашает высказаться «шизофреника вомне», и её сообщения в значительной мере этому персонажу и адресу ются. Соответственно такой параметр, как рецепция маргинального язы кового и мыслительного опыта, позволяющая как можно дольше обхо диться без медикализации безумия (говоря словами Фуко), очень важен. В этом отношении московское поле несравненно уже петербургского, с которым по широте допуска может сравниться разве что Калифорния. На мой взгляд, СанктПетербург вообще крупнейший шизополис мира.
Ценность сохраняемых объективаций безумия ощущается интуитив но, хотя не сразу понятно, в чём она состоит. Ситуация предельно вмести тельного каталога идей отсылает нас к эпохе производства первичных текстов, когда господствующей техникой озарения был психоделический транс. Выбор пригодного и окончательную отделку всегда производит за писывающий третий (как, например, Платон по отношению к Сократу и его собеседникам), но ведь надо, чтобы было из чего выбирать. И сегодня сохраняется ощущение, что именно этот канал коммуникации, равнодо ступный для пророков и одержимых, остаётся единственным привилеги рованным каналом, который выборочно прослушивается Богом. При слу чае именно по нему передаётся Весть.
— Каковы фармакологические последствия вашей философии?
— О последствиях следует судить скорее читателю. Судя по вашим вопросам, главным метафармакологическим последствием является по вышенная раздражительность — отчасти это соответствует применённой рецептуре. Эффект провокации я не рассматриваю как самоцель, но его сопроводительную роль считаю важной. Впрочем, со времён Сократа тут мало что изменилось: утешительные микстуры производятся конвейер ным способом, и высокий спрос на них поддерживает внешний престиж философии. Зато скольконибудь запоминающиеся авторские вклады при первом применении, как правило, вызывают отторжение.
— Вас называют мастером философского эзотерического языка. Одна ко, как вы сами пишете, русская философия страдает смесью французского с нижегородским. Например, декан философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова — В. В. Миронов, читая ваши тексты, обратил внимание на их вторичность, больше напоминающую «философоваляние». Проясните, пожалуйста, вашу философскую стилистику.
— Ну, поскольку про философообразие и хиромантию уже было, по лагаю, что «философоваляние» можно оставить без комментариев.
— Вы определяете столкновение христианской и исламской цивилиза ций через понятия противовампирических и вампирических цивилизаций.
Адекватна ли такая параллель?
— Нет, не верна, и противопоставление вампирического, сверхви тального начала и начала консервативного, пресекающего чрезмерные порывы витальности, имеет совсем другой смысл, подробно рассмотрен ный в работе «Выбор вампира». Никакая устойчивая социальность, и уж тем более цивилизация, не могут существовать без «гарлических пред осторожностей», то есть мер, направленных на предотвращение спонтан ных выбросов суперанимации. Собственно говоря, обуздание «еlan vital» и есть социализация, хотя при этом далеко не безразлично, какую степень витальности удастся сохранить без ущерба для основ и устоев.
Что же касается экспансии ислама и неуклонной сдачи позиций христианским миром, то тут действуют причины совсем иного порядка. Следует отметить прежде всего сохранность трансцендентного, определя ющую победоносность воинства в пророка в условиях, когда западное христианство, поражённое всепрощенчеством и манией наглядности, как бы истощило себя в изображениях и бесконечных популяризациях. Циви лизация сокрытости и сокровенности закономерно торжествует над ци вилизацией шоу — но понятно, что скольконибудь серьёзное рассмотре ние этого вопроса невозможно в рамках короткой беседы.
— Каковы ваши философские контрфиксы (тайные идеи фикс)?
— Я бы сказал, что это мне пока не грозит. Ведь idеe fixe характеризу ется не только повышенной странностью, явным выпадением из привыч ных дискурсивных обменов, но ещё и зацикленностью. Иными словами, требуется мука непонятости и даже неуслышанности, определённое вре мя, необходимое для фиксации фикса. В силу сложившихся обстоятельств, всё ещё удивляющих меня, продуманные и написанные мной тексты, ска жем так, не залёживаются, печатаются «прямо с колес». Да и с откликами проблем не возникает. Самто я был готов к любой ситуации, моей «рефе рентной группой» могла быть группа студентов или попросту несколько друзей. Не думаю, что это изменило бы направление моей работы — ну разве что избавило бы от некоторых формальных задач. А то, что мои кни ги и статьи пользуются сегодня достаточно широкой востребованностью, я принимаю спокойно и не собираюсь никого за это благодарить.
Впрочем, я попрежнему с увлечением собираю коллекцию фиксов (в «Прикладной метафизике» приведено лишь несколько образцов), наде юсь со временем составить иллюстрированный каталог с комментариями.
— Почему в качестве героя недеяния в русской культуре вы выбрали именно Емелю, а не Обломова? Является ли русская философия по своей су ти философией недеяния? И можно ли в связи с этим назвать русских фило софов (недо)потерянным поколением мировой философии, парафразируя русскую пословицу в «Пусть философствует тот, кому лень сомневаться»?
— Емеля в своём недеянии совершенен, а в случае Обломова мы име ем дело с эстетизацией, хотя и весьма притягательной. Великая скрытая мощь недеяния — это глубоко репрессированная тенденция русской культуры. Если согласиться со Шпенглером, что при Петре Россия вошла в псевдоморфоз, отложив реализацию трансцендентного замысла о себе и приняв к временному исполнению чужую участь, то в первую очередь это касается философского завещания Емели. В частности, систематическое несчастье, хронический двухсотлетний невроз русской интеллигенции во многом обусловлены неумением достойно выносить праздность, не гово ря уже о том, чтобы по мере сил следовать примеру Емели — единствен ного даоса всея Руси…
В результате лихорадочная и не слишком осмысленная деятельность обрывалась буквально на полуслове и сменялась столь же лихорадочным бездействием, лишённым санкции абсолютного недеяния и весьма далё ким от совершенных образцов, вознаграждаемых золотой рыбкой или да же простой щукой. Лев Толстой выразил суть дела в коротком афоризме: лучше ничего не делать, чем делать ничего. Насколько органичен опыт недеяния для русской духовности, свидетельствует безусловный успех ге роев Шинкарёва и движения митьков в целом. Я полагаю, что этот опыт составляет одну из самых оригинальных страниц всей русской культуры ХХ века.
— Как, по вашему мнению, можно решить проблему сверхчеловека в гарлической и вампирической цивилизациях? Каковы шансы «Ноосферату» по сравнению с «Носферату»?
— Без комментариев.
— Как вы можете прокомментировать позицию современного русского композитора В. И. Мартынова о закате эпохи великих композиторов в перс пективе вашего проекта по озвучиванию музыки? Когда появятся композито ры ультра и инфразвука?
— Владимир Мартынов — одарённый человек, а его книга «Конец времени композиторов» интересна как редкий образец содержательного, со знанием дела проведённого анализа. Если вспомнить несколько рито рическое название известного труда Ницше «Как философствовать моло том», то творчество Мартынова, и уже без всякой риторики, можно снаб дить подзаголовком «Как философствовать музыкой». Мартынов, на мой взгляд, совершенно справедливо связывает появление принципа компо зиции в музыке (и самой фигуры композитора) с утратой достоверности спасения. Вот и поэзия возникает тогда, когда утрачивается безоговороч ная действенность мантры: распадается не допускающий никаких импро визаций порядок вещих слов, наступает эпоха поствавилонских наречий, несущая с собой свободу и безнаказанность. Однако настоящий худож ник, будь он живописцем, поэтом или композитором, вовсе не стремится увековечить оптимум условий, необходимых для собственного существо вания; напротив, он устремлён к тому, чтобы восстановить онтологичес кую принудительность символического. Иными словами, искусство ши роко пользуется открывшейся вариативностью символических порядков, но великое искусство распознаётся по глубинной интенции художника рубить сук, на котором он сидит… Так, утрата достоверности спасения рождает композитора, утрата надежды на спасение упраздняет причину бытия композитора и передаёт пульт управления, например, диджею.
— Что такое «пофигизм» — русский эквивалент нигилизма или его край няя степень?
— Нигилизм, во всяком случае русский нигилизм XIX века как исто рическое явление, был вызван отсутствием какойлибо самодостаточно сти, промежуточностью, неукоренённостью экзистенциальной позиции целого поколения — и не одного поколения. Возможно, что здоровая прививка пофигизма могла бы предотвратить цепочку исторических ката строф, переломить тенденцию к самоосквернению собственной духовной колыбели. Что и говорить, инъекция трансцендентальной беспечности не помешала бы и сегодня, хотя она, вероятно, привела бы к размыванию, расформированию интеллигенции в традиционном смысле этого слова. Ведь русская интеллигенция — это увековеченная промежуточность. Увы, приходится признать, что подобная духовная формация, при всей её из вращённости, обладает необыкновенным запасом прочности.
— Считаете ли вы Чеширского кота символом философии, вспоминая другие зоологические примеры — сову Минервы (Гегель), змею познания (Ницше), чёрную кошку познания (Нилогов), а «комплекс Демосфена» — символом философского комплекса неполноценности/полноценности по из вестной логике восполнительности?
— Тут хочется сказать: утютю… Утверждение мифологических винье ток, вроде бритвы Оккама, буриданова осла или даже совы Минервы, вы летающей в сумерках, свершается едва ли чаще, чем раз в столетие. Пе репроизводство сорных уподоблений, включая «зооморфные сравнения», кажется мне совершенно пустым занятием, уместным во время студенче ского капустника, но совершенно нелепым во всех прочих случаях. Труд но сказать, чего здесь больше, самомнения или наивности… С другой сто роны, даже фоновые языковые игры посвоему полезны, ибо способству ют сохранению священной праздности языка. Сама по себе автореферен
ция неустранима и даже необходима (например, философствование о том, что такое философия), но избыточная, паразитарная автореферен ция вызывает скуку. Это то, что так любимо пишущим, и, как правило, со вершенно не нужно читающему.
— Каковы ваши прогнозы на смену философских поколений в России? В своей книге «Прикладная метафизика» вы отмечаете, что современный студент философского факультета всё ещё вынужден держать фигу в карма не, но он уже никогда не признает в качестве своих предшественников или хотя бы коллег «ни Ойзермана с Глезерманом, ни Фролова со Стёпиным».
— В этом у меня нет никаких сомнений. Строки Мандельштама как нельзя лучше подходят для данного случая: «Своё родство и скучное со седство мы отвергать заведомо вольны».
Новое поколение, уже пробующее свои силы в философии (я имею в виду прежде всего студентов и аспирантов факультета философии и поли тологии СПбГУ) вызывает у меня большие надежды. Ни в Берлине, ни в Праге, ни в Гамбурге я не видел столь одарённых молодых людей — не бу ду пока называть имён… Я им благодарен, ведь я научился у них больше му, чем смог научить их.
Беседовал Алексей Нилогов
СВЕТЛАНА СЕМЁНОВА
Борьба со смертобожничеством
Светлана Григорьевна Семёнова (род. 1941) — современный русский литерату ровед, философ. Доктор филологических наук, главный научный сотрудник Инсти тута мировой литературы РАН, член Союза писателей России. Автор книг: «Вален тин Распутин», «Преодоление трагедии. Вечные вопросы в литературе», «Николай Фёдоров. Творчество жизни» (переведена на японский язык), «Тайны Царствия Не бесного» (переведена на сербский язык под названием «Философия бессмертия»), «Глаголы вечной жизни. Евангельская история и метафизика в последовательности Четвероевангелия», «Русская поэзия и проза 1920–1930х годов. Поэтика — Видение мира — Философия», «Философ будущего века Николай Фёдоров», «Метафизика рус ской литературы» (в 2 т.), «Мир прозы Михаила Шолохова. От поэтики к миропо ниманию». Также автор более трёхсот статей по русской и западной философии и литературе, ряда брошюр, вступительной статьи, предисловий к половине текстов антологии «Русский космизм» (переведена на японский язык), составления, коммен тариев (в соавторстве с А. Г. Гачевой), вступительной статьи к Собранию сочи нений Н. Ф. Фёдорова в 4 т., составления, вступительной статьи (в соавторстве с А. Г. Гачевой) к антологии «Н. Ф. Фёдоров: Pro et contra». Наша беседа со Светланой Григорьевной состоялась в рамках проекта «Современная русская философия»1.
— Светлана Григорьевна, для начала — как вы пришли к философии, как определились основные темы вашего раздумья и историкофилософской работы?
1С сокращениями беседа опубликована в газете «Литературная Россия» № 29 от
21.07.2006: http://www.litrossia.ru/article.php?article=567.
— Собственно, с отрочества я была, так сказать, стихийно философ ствующей особой — по жизни, в глубине себя, в общении с друзьями. И тогда уже главной душевной загвоздкой являлась для меня смерть, внутренненеизымаемым мотивом — размышления о ней. Предназначе ние философии, любви к мудрости, обычно видели в созидании систем познания и понимания мира, человека, Бога — а первоцарь философской мысли, возвышенный идеалист Платон так открыл глубинный исток фи лософии, смысл занятий ею: «Для людей это тайна: но все, которые по настоящему отдавались философии, ничего иного не делали, как готови лись к умиранию и смерти». Давно трюизмом стала мысль об удивлении как начале философствования. Впрочем, настоящая суть этого удивле ния, главного удивления высветляется в луче Платонова высказывания: как это я вдруг перестану существовать и что за такое я тогда явление, со знающее, чувствующее, творящее («я царь, я Бог») и вместе ничтожное, не владеющее своим бытием, жертва любой гибельной случайности («я червь, я прах»), почему я таков, откуда я пришёл и куда направляюсь, что за мир вокруг меня и есть ли в нём некие вещие знаки, намёки на моё предназначение. Вот такое удивление себе смертному и высекает филосо фическое раздумье, прежде всего горестное, зацепляющее сердце и ум не доумением, неразрешимостью, загадкой.
Если следовать Платоновой формуле, то моя внутренненеизыма емая тема была философической, такой она и осталась, только сейчас она не о том, как учиться умирать, а как не учиться умирать или учиться не умирать. Мысли о смерти — это мысли об онтологическом пределе нашей жизни, её трагической отгранённости. Они ведут за собой караван вечных вопросов — о смысле существования, о начале и конце, о времени и веч ности, об отношении духа и материи, человека и космоса, о природе самого человека, о судьбе и свободе, о культуре, о Боге… Этим кругом и определилось в основном моё творчество. Ещё будучи в аспирантуре, я недаром исследовала экзистенциализм — он ведь как раз сфокусировал видение вещей на факте смерти: только острое осознание конца как фун даментального измерения нашего бытия приводит к пробуждению, к вы ходу из неистинного существования. В своей кандидатской диссертации о философском романе Сартра и Камю, позднее значительной частью опубликованной в моей книге «Преодоление трагедии» (1989), я ещё и углублённо, с новыми результатами, вникла и в факт встречи философии и литературы, в такую французскую жанровую форму философствования, как афористическая проза моралистов, философский роман, возникаю щий в лоне мировоззренческой системы (просветители, экзистенциалис ты). Эта работа помогла мне позднее при рассмотрении особенностей уже русского культурного феномена: её литературы как, быть может, самой глубокой и экзистенциальнопронзительной формы национального са мосознания, философского освоения мира и человека.
Однако экзистенциализм остался на первой, отрицательной стадии переживания и осознания трагизма смертного бытия: лишь внутренне, гордо стоически стать выше губящих, непреоборимых сил и законов при роды! Никакого положительного, созидательного выхода эта философия не видит. Выход этот, на мой взгляд, даёт русская религиозная мысль, Николай Фёдоров, который не только стоит у истоков её взлёта, но и яв ляется, на мой взгляд, наиболее радикальнодерзновенным, практически ориентированным выразителем основных её оригинальных идей: Богоче ловечества как синергии, соработничества рода людского Богу в онтоло гическом деле искупления и возвышения творения в новый обоженный статус бытия; метафизики всеединства, строящейся на идеале космиче ской соборности, гармоническом единстве множества, в котором каждый элемент равноценен другому и целому, черпая свой прообраз, свою мо дель, если хотите, в Божественном Троичном, нераздельном и неслиян ном, питаемом любовью бессмертном и всемогущем бытии; наконец, идеи всеобщности спасения.
Собственно, моя встреча с мыслью Фёдорова произошла в 1972 году, когда я, уже пройдя экзистенциалистский искус, обернулась в своих заня тиях от западной философии и культуры к родной, русской. И вот в наш дом попадает книга Владимира Кожевникова о Фёдорове. Тогда я, как Татьяна Ларина, встрепенулась глубинами своего существа: «Это он!» Несколько месяцев безвылазно просидела в Ленинке, читала два тома «Философии общего дела», тщательно их конспектировала, высекая из чтения свои понимания. Моё до того достаточно эстетическиигровое от ношение к собственной жизни (правда, с трагической экзистенциальной подкладкой) изменилось радикально — на серьёзное и ответственное прежде всего перед этой мыслью, пронзившей меня как откровение эво люционного авангарда Земли, всего рода людского. Фёдоровское учение предстало мне ясным и стройным, как прекрасный Храм, зримо несущий богатство своего метафизического, этикоэстетического, практического послания сынам и дочерям человеческим. Буквально за одно духоподъём ное лето своего тридцатитрёхлетия я нанесла на бумагу в основных чертах своё видение этого Храма. Понадобилось более 15 лет, чтобы после бес плодных мытарств в запуганных советских издательствах книга «Николай Фёдоров. Творчество жизни» в 1990 году вышла в свет. А за год до того в том же «Советском писателе» — книга «Преодоление трагедии. Вечные вопросы в литературе», где уже работала обретённая мной новая фило софская оптика.
— Не могли бы вы привести хотя бы один пример такой оптики и некое го нового результата, который она дала?
— Так, мне удалось впервые чётко разделить два понятия «природы», два её лика и значения: с одной стороны, природа есть совокупность все го существующего, неживой и живой природы в многообразии её вещей и существ, куда входит и человек, сознательный представитель этого взаимосвязанного сообщества. С другой — это определённый порядок, принцип бытия, стоящий на рождении, половом расколе, пожирании, вытеснении последующим предыдущего, смене поколений, смерти инди видуума. Задача преодоления этого порядка (послегрехопадного, по биб лейским представлениям) вовсе не есть посягательство на природу в её первом значении совокупности всего живущего, напротив, её спасение из тисков жестокого закона борьбы и истребления, в котором, как сказано в Новом Завете, «вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» (Рим. 8:22) и «ожидает откровения сынов Божиих <…> в надежде, что и сама <…> освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8:19–21), иначе говоря, выведена будет к будущему преображённо му Собору всей твари. Такое разделение двух аспектов природы снимает полемическое уничижение христианства в его якобы гордынной ненавис ти к природе вообще, распространяющееся нередко и на активное хрис тианство Фёдорова и других религиозных мыслителей, отторгающих лишь сам природносмертный принцип бытия. Так же как это при анали зе философской лирики высветляет смысл явленного в ней противоречия между, с одной стороны, любовью к природе, отрадным чувством свида ния человека со всем живущим, с другой же — глубочайшим разладом че ловека с её порядком, «души отчаянным протестом» как раз против «гро бового лика» природы, враждебного запросам человеческой личности.
— А теперь не могли бы вы представить более глобальные из выдвину тых вами идей? Ввели ли вы какиенибудь новые философские понятия и термины?
— Да, скажем, разрабатывая концепцию «русского космизма», я вы двинула две его ветви, назвав одну — активнохристианской (Н. Ф. Фёдо ров, В. С. Соловьёв, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, П. А. Флоренский, А. К. Горский, Н. А. Сетницкий), а другую — активноэволюционной, на турфилософской, естественнонаучной (А. В. СуховоКобылин, К. Э. Ци олковский, Н. А. Умов, В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский, В. Н. Мура вьёв), обозначив при этом принципиально новое качество мироотноше ния, свойственное посвоему обеим этим ветвям, если хотите, определя ющий «ген» русского космизма, идеей активной эволюции (тоже мой термин). Утверждая направленный характер эволюции, восходящей ко всё более сложно в нервном отношении организованным формам, ко всё большему сознанию (цефализация), что как бы намекает на некую телео логическую программу развития, мыслители и учёные этого течения вы двинули необходимость нового творческого, сознательноактивного эта па эволюции, ведущего к преображённому состоянию природы человека и мира, которое получило различные названия: у религиозных мыслите лей — Царствия Божьего, Царствия Небесного, в научной стилистике у Фёдорова ещё и регуляции природы, как «внесения в неё воли и разума», у Вернадского — ноосферы. В традиции христианского космизма именно концепция Богочеловечества, богочеловеческого процесса обожения ста ла, на мой взгляд, своего рода аналогом, идеальноценностным дополне нием идей ноосферы и ноогенеза (становления ноосферы). Мною же бы ло предложено определение «органический прогресс», включающий дос тижение автотрофности, обретение долгожительства, вплоть до бессмер тия, творческого самосозидания своего организма, в отличие от техниче ского прогресса (с его лишь механическими приставками к человеческим органам), обрекающего человечество на протезную цивилизацию. Впер вые мною же были чётко противопоставлены ноосферные установки рус ского космизма положениям экософии, нового экологического мышле ния с их пафосом свёртывания человечества, сокращения его численно сти, изъятия претензий на роль сознания природы и преобразовательную активность.
Кстати, развивая в своих работах идею «активной эволюции», на правляемой религиозным идеалом, разумом и нравственным чувством, я ввела ещё два понятия: ноосфера как реальность и ноосфера как идеал. Это разделение помогает выйти из очевидного противоречия, рождающе гося из, казалось бы, несводимого подхода самих авторов ноосферной теории к центральному её понятию. С одной стороны, ноосфера, то есть биосфера, радикально изменённая трудом и творчеством человека, собственно вся хозяйственная, культурная деятельность его на земле — явление и процесс объективный, разворачивающийся всё с большим ускорением с самого появления homo sapiens. Это и есть ноосфера как реальность, которая, однако, вовсе не является синонимом чегото безусловно прекрасного и идеального. Вспомним хотя бы о хищническом вторжении человека в природу, о ложных, антигуманных теориях ноо сферного информационного потока, осуществление которых уже прино сило колоссальные несчастья человечеству или грозит ему ещё большими, вплоть до его самоуничтожения… Смертный человек во всех своих изме рениях — антропологических, социальных, исторических — существо ещё далеко не совершенное, можно сказать, кризисное. Но ведь сущест вует идеал высшего, духовного, обоженного Человека, который как цель и движет родом людским в превозможении им своей природы. Так и со здание человека — ноосфера — такая же дисгармоничная, находящаяся в становлении реальность и вместе с тем высший идеал этого становления со своими задачами и движущими силами, раскрытию которых, в свете достижений активноэволюционных, активнохристианских мыслите лей, посвящены многие мои работы (см., в частности, антологию «Рус ский космизм», 1993, и книгу «Философ будущего века Николай Фёдо ров», 2004).
Можно лишь перечислить те стержневые идеи этих философов, ко торые привлекли моё особое внимание и где есть мой вклад в их углублён ное синтезирование. Это и развитие фёдоровского проекта регуляции как внешней природы, вплоть до космоса, так и внутренней, самого человека (психофизиологическая регуляция), достижения бессмертия, имманент ного воскрешения, трансформации эротической энергии. Это и углубле ние — в контексте согласованной научной и религиозной картин мира, современных теорий — принципиально нового видения русских мысли телей и богословов (Н. Ф. Фёдорова, В. С. Соловьёва, С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева, Г. П. Федотова, А. К. Горского, Н. А. Сетницкого): идей Богочеловечества; Троицы как образца для устроения человеческого об щежития; активной творческой эсхатологии, нацеленной не на финаль ную катастрофу, а на постепенное, творческитрудовое преображение природы человека и мира; условности апокалиптических пророчеств, раскрытых лишь как угроза, а не роковой неотменимый приговор; апока тастасиса, всеобщего спасения, идущего ещё от ранней христианской мысли — от Оригена и св. Григория Нисского. Мною раскрыта и важность для современного мира идеи всеобщности спасения, убедительнее всего обнаруживающая жизнетворческие, универсальные потенции религии Христа. Когда человек принимает (верит в) Бога карающего, даже мсти тельного, сортирующего свою сознательную тварь, приговаривающего какуюто её часть на участь неисцеляемых грешников, неудачников бы тия, вредный сор, то это не может тонко, по психическим и ценностным каналам чувствующих и сознательных существ, не проецироваться на их земное, историческое поведение, на их как бы свыше санкционированное отношение к другим, не тем, недостойным и чуждо отвратительным ин дивидам и народам, на лёгкость осуждать их, карать, уничтожать. А такая установка неизбежно обрекает жителей Земли на губительную рознь, а в болееменее дальней перспективе на самоуничтожение — в силу невоз можности единения для противостояния глобальным планетарным и кос мическим угрозам.
— Что вы считаете наиболее существенным из написанного вами?
— Это прежде всего книга «Тайны Царствия Небесного», своего рода философия бессмертия — недаром под таким более точным, не метафо рическим заглавием она вышла в переводе на сербский язык в 2005 году. Писалась она в конце 1970–начале 1980х годов, опубликовать её в нашей стране в то время шансов не было никаких. И работала я принципиально в стол, без малейшей оглядки на цензуру, внешнюю или внутреннюю, в ориентации только на Истину и Абсолют. Книга в рукописи имела до вольно широкое хождение, её перепечатывали в Москве, Ленинграде, в Сибири, на Волге… У неё сложился круг поклонников, она прошла свой достаточно широкий философский самиздат (опубликована только в 1994 году).
Этапной я считаю и книгу «Глаголы вечной жизни. Евангельская ис тория и метафизика в последовательности Четвероевангелия», вышед шую в знаменательном 2000 году. В ней я, разумеется, опираюсь на тради цию евангельской экзегетики учителей и отцов Церкви, стремясь дать современному читателю обобщённую сумму их подходов и воззрений. Вместе с тем мною двигало и творческое философское и богословское за дание: на пороге двухтысячелетнего юбилея Рождества Христова прочи тать Евангелие глазами человека, усвоившего наследие русской религиоз нофилософской мысли второй половины ХIХ—первой трети ХХ века. И такой активнохристианский взгляд поновому высветил события, жесты, слова священной истории, смысл самого нашего явления в мир, суть евангельского задания венцу Божьего творения. А основным вкладом этой мысли в богословие, как я уже отмечала, была идея Богочеловечест ва, сотрудничества Божественных и человеческих энергий в деле спасе ния, когда род людской опознает себя активным орудием осуществления Божьей воли на Земле.
— Ну и как, удалось ли вам найти в Евангелиях начатки этой религиоз нофилософской идеи, некие указания, идущие в этом направлении, как и на чатки других установок активнохристианской мысли русских мыслителей?
— Безусловно, да. Сколько раз в Новом Завете мы слышим недву смысленный призыв к активности самих людей в стяжании бессмертно го, преображённого порядка бытия, Царствия Небесного, что «силою бе рётся» (Мф. 11:12), повеление не слышать только, а исполнять слово (Иак. 1:22)! Сам выход из статуса раба Божьего в сына и друга связан в проповеди Христа с этим условием реального исполнения Его метафизи ческого и нравственного задания людям: «Вы друзья мои, если исполняе те то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не зна ет, что делает господин его…» (Ин. 15:15–16). Сам Иисус определил три направления Своего земного служения: проповедь об этом новом строе бытия, который сменит нынешний смертновытесняющий тип существо вания (это и есть Его постоянное возвещение Благой Вести, «Евангелия Царствия Божия» — Мк. 1:14); нравственное Его учение, тесно увязанное с метафизикой преображения (именно в Нагорной проповеди появляется первоформула обожения, онтологического уподобления человека Богу: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» — Мф. 5:48); и наконец, то, что Спаситель называл Своими делами. А чудес ные дела эти обнимали весь круг властного покорения смертоносных сил мира сего: исцеление больных, воскрешение умерших и покорение при родных стихий. И тут же прозвучало поразительное Его слово, открываю щее смысл Его чудотворения как пророческого откровения о человеке, усыновлённом Богом, как примера и задания ему: «Истинно, истинно го ворю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит» (Ин. 14:12). Отправляя на самостоятельное служе ние апостолов, этих представителей низового человечества, правда под нятых Христовым избранием на огромную высоту, Он опять же напут ствует их на такие же дела: «Больных исцеляйте, прокажённых очищайте, мёртвых воскрешайте, бесов изгоняйте…» (Мф. 10:8).
При этом Христовы чудеса как бы лабораторное, показательное предварение будущего, ведь действуют они на время, радикально не исце ляя мира, не отменяя хода стихийносмертной природы: бури не переста ют бушевать, люди болеть, страдать и умирать, да и воскрешённые Им в конце концов умирают, как все смертные. Христос оставляет такое то тальное исцеление и такую отмену на будущее: и Своему новому прише ствию, и всем сынам и дочерям человеческим, вставшим на путь обоже ния. Чтобы предварение стало действительностью, нужно всеобщее учас тие в опыте чуда овладения стихийноприродным ходом вещей, когда человек, по Божьему замыслу, тварный Бог, осознаёт себя орудием осу ществления Божьего Дела, и в потоках Божественной благодати «больше сих сотворит»: не одного Лазаря воскресит, а всех, и не одного слепого прозрит, а весь мир выведет в свет преображения.
Мне удалось подтвердить евангельскую опору для фактически всех основных новаторских идей русской религиозной философии. Это и пе реход к Царствию Небесному не как разделительнокатастрофический, мгновенный процесс (таковым предстаёт он иногда лишь как угроза чело вечеству, отвернувшемуся от истинных, Божьих путей), а как органиче кипостепенный, так сказать эволюционный, настаивающий на неуклон ном созревании начатков нового строя бытия, на деятельнотворческой метаморфозе «мира сего» в иной онтологический порядок. Таковы еван гельские образы Царствия Небесного, явленные в притчах о посеве и всходах, о горчичном зерне, разрастающемся огромным ветвистым дре вом, о закваске (то есть принципах высшей бессмертной жизни), квася щей всё тесто (то есть человека и мир), преобразующей их не в миг, а в не коем длящемся процессе претворения.
Это и великое, можно сказать, космогоническое откровение о Боге, провозглашённое устами Бога Сына: «Отец Мой доныне делает и Я де лаю» (Ин. 5:17). Так ответствовал Иисус евреям, оскорблённым Его чудес ными делами исцеления в субботу, день покоя. Для сынов Израиля суббо та была ритуальной калькой того завершительного дня, кода Господь пос ле шести лет неустанной творческой работы на седьмой день, субботний, «почил от всех дел Своих» (Быт. 2:3). Вся тварь должна прийти в Царствии Божием к такому же покою созерцания, как Творец в день седьмой, — по лагали иудеи, и суббота была для них конкретным, каждую неделю пере живаемым прообразом этого чаемого блаженства покоя и неделания. А если оказывается, что Бог не почил, а делает и будет делать, то есть про должает и творить, и созидать, и поддерживать сотворённое (а значит, и Его творение в определённом смысле ещё не окончено), то и Царствие Небесное приобретает какойто другой, совсем не субботний, не созерца тельноблаженнопокоящийся вид. И тогда жизнь вечная открывает но вый эон творческого труда и совершенствования вселенной, как это пред полагали Фёдоров, Бердяев и другие мыслители.
Наконец, и идея всеобщности спасения пронизывает проповедь Иисуса, который не устаёт повторять, что Он пришёл «взыскать и спасти погибшее» (Мф. 18:11), «призвать не праведников, а грешников к покая нию» (Лк. 5:32) (вспомним и притчи о блудном сыне, о заблудшей овце, о потерянной драхме, о работниках последнего часа, дышащих этих духом). «Я пришёл не судить мир, но спасти мир» (Ин. 12:47) — слова Христа да ют основание полагать, что, грозя истреблением «соломе», «плевелам» че ловеческим, Он имеет в виду лишь природные, греховные качества лю дей, открывая всем возможность стать причастниками Божественного порядка бытия («…и будет вам награда великая, и будете сынами Всевыш него: ибо Он благ и к неблагодарным и злым» — Лк. 6:35). Это лишь не сколько схематически представленных примеров — большего не позво ляют рамки этого интервью.
— Женщина всегда считалась инстанцией материприроды, порождаю щей и умерщвляющей, бесконечно обновляющей мир в своих индивидуаль ных созданиях. Не является ли развиваемая вами философия борьбы со смертью, философия личностного бессмертия в чёмто антиженской (мизо гинной) мыслью?
— Мне кажется наоборот. Мужчина, точнее, мужская цивилизация нашла способ оправдания смертной жизни через творение культуры. Здесь, в этой галерее художественных образов, картин, скульптур, книг, мелодий, среди запечатлённых навечно мигов, образов, идей, человек на шёл компенсацию своего преходящего существования, культурный сур рогат бессмертия. Женщина, порождая через свою утробу, свои внутрен ности уникальное живое существо, больше, чем мужчина, озабочена им, то есть таким плодом, который не просто бессмертно пребывает в прост ранстве идеальной художественной вещи, а реально существует, движет ся, мыслит, чувствует, страдает и умирает. Таким образом, производя на свет бесконечно ей дорогую личностную жизнь, она же глубже пережива ет смерть не просто как исчезновение себя, единственного и любимого, а естественно расширяет это чувство на другого и других, ведь ей особенно знакома трагическая невозможность принять смерть своих детей… Твор чество бессмертия для неё может быть понятнее именно как творчество бессмертной индивидуальной жизни, а не бессмертного, но буквально не живого творения искусства. Как сетовал Сергей Есенин: «Не разбудишь ты своим напевом // Дедовских могил!»
Мужчины набросили на себя и мир густую мифологическую сеть: те орий, гипотез, уподоблений, метафор, мифологий — они и помогают ос мыслить окружающее и в нём действовать, они же часто запутывают и стреножат. Любят с ними, со своими культурными бирюльками, играться и их комбинировать: так повернуть или эдак, такое ассорти составить, это предпочесть или то. Мужчина больше, чем женщина, ответственен и за выбор культуры как высшего оправдания смертного бытия, и за орудий ное, внешнеманипулятивное отношение к миру, отбросившее человека субъекта на непереходимую дистанцию от мира, объекта приложения его технических операций. Женщине дано на путях инстинкта выткать своё дитя из зародыша, питая его собою. На бессознательном уровне она всег да занималась и занимается творчеством жизни. Она же, рожая в муках, знает, чует своими потрохами мучительную изнанку природного бытия, и ей должна быть внятнее идея преодоления его пожирающего, вытесняю щего, смертного порядка, кстати, и через этап вникания в творческий стан самой природы, владеющей на путях инстинкта тайнами органосо зидания и органических метаморфоз. Женщине присущ и дар большей любви и прощения, большей интуиции, возможно, даже большего мета физического оптимизма — как стоящей ближе к природноинстинктив ным ресурсам жизни, отторжение от которых так иссушает и подводит горделивое ratio.
Интересно, что свою женскую сущность я больше чувствую не внизу, а скорее вверху, в особой жизнетворческой логике, в женском логосе, как выражается Георгий Гачев. Кстати, мне кажется, что именно как носи тельница этого логоса я разработала в книге «Тайны Царствия Небесного» идею рассимволизации мира, путь разметафоризации нашего видения мира, выхода к прямому касанию вещей (что и сейчас более всего проис ходит в работе с материей), а затем и к новому способу понимания мира, общения с ним через глубокое вчувствование в вещь, вхождение в неё, отождествление с ней — стал облаком, деревом, травой…
— А что ещё вы можете сказать именно о глубинноэкзистенциальных ипостасях вашей мысли?
— Пожалуй, здесь несколько вещей наиболее для меня характерны, определяют мой душевный и духовный завиток. Сначала о первой: непри ятие онтологической силы зла. Во всех его самых раздирающих душу ма нифестациях я вижу большееменьшее «несчастье», ущерб, оскорблён ность природой, смертным законом, обстоятельствами, людьми того или иного злодея… И в универсуме я не восчувствую никакой драмы гордо сти, бунта, падения, противодействия Богу некоторых высших ангель ских чинов, отщепляющихся тем самым в демонические. Сатана, антаго нист Бога, для меня — интеграл противобожеского выбора человека, его онтологической капитуляции в борьбе с низшими инстинктами и страс тями. Поле брани добра и зла — в самом человеке. И зло — в эксцессах (о, сколь разнообразных и причудливых!) отчаяния в спасении. И, одухо творяя, гармонизируя природу человека, потесняя в ней права разруши тельных сил, тёмную, оскорблённую иррациональность, постепенно обессмертивая человека, мы тем самым будем укреплять в нём источники добра, расширять сферу света, разума, любви.
Сатанизм, циничное торжество издевательского, изощрённого зла, по моему мнению, рождается тогда, когда интеллект, богатый в своей фантазии и утончённости, подключается к обслуживанию низменной, злобной стороны в человеке, тем более ещё раздражаемой метафизиче ским отчаянием, отравляемой смертными токсинами. Интеллект, созна ние, разум, этот замечательный плод восходящей эволюции по самой своей природе призваны вести лучшую, растущую в человеке его часть, работать на одухотворение материи. Когда же разум противоестественно входит в нечистый союз с животным, страстносамостным низом челове ка, то это и порождает это новое, неизвестное собственно животной тва ри качество зла (там пределы зверского чётко отграничены инстинктом и природной целесообразностью), которое и можно назвать в его мифоло гической экстраполяции — сатанизмом.
Иначе говоря, я всем существом всегда ощущала и верила в выражен ный христианской мыслью принцип: зло — лишь недостаток, отсутствие доб ра. Для меня это не головной силлогизм, не философия, не богословие, а внутреннее, сердечное убеждение. Оттого так отстаиваю принципиаль ную установку: надо найти способы обратить зло в добро, разрушительно ориентированную волю и дела трансформировать в созидательные — без этого никакое всеобщее дело спасения невозможно. (Кстати, оттого так люблю и развиваю теорию доминанты на добро А. А. Ухтомского.)
Я не люблю отчаяния, любого, и жизненнобытового, и метафизи ческого прежде всего (тут оно мне кажется хулой на Духа Святого, на Бога): всякие окончательные фиаско, «гибели богов», «вечный ад», неиз бывное проклятие, добровольное а la Гартман самоуничтожение жизни и вселенной — всё это брр! для меня. Самые нелюбимые слова: ни за что и никогда, фиксирующие ситуацию, чувство, человека, универсум в мучи тельной точке неизбывного распяливания и поражения.
Я всегда хочу невозможного — в отношениях с людьми и миром. Для меня это невозможное вполне возможно — я верю в это, — только мало душие, слабость и ленивая корысть настаивают на обратном. Когда я бы ла моложе, особенно напролом пыталась штурмовать закрытость другого, надеясь, а вдруг рухнут непроницаемые перегородки и откроется блажен ство «взаимной прозрачности» (этой основы будущей психократии в фёдоровском проекте, которую я позднее развивала). Но потёмки чужой (потому и чужой) души осветятся в самых своих скрытоболезненных углах и тайниках лишь в преображённой природе, но, слава Богу, что хо чется этого уже сейчас — залог, что так и будет. Вспомним лермонтовское: «Когда б в покорности незнанья // Нас жить Создатель осудил, // Неис полнимые желанья // Он в нашу душу б не вложил…».
И ещё самое дорогое — спасение всех до единого, какойто мощный метафизический демократизм: нераздельность и неслиянность всех по типу Троицы, как идеал; во всеобщем деле психофизиологической регу ляции, объединяющей все усилия, от медикобиологических до нрав ственнодуховных и воспитательных, дать каждому возможность макси мального выправления всяческого несовершенства и уродства, а брако ванного человека (генетически, обстоятельствами рождения и существо вания, роковыми случайностями и несчастьями) не обрекать на труху, усушкуутруску бытия, а, напротив, на развитие и преображение — хоть из одной его ценной душевнодуховной молекулы, из самой малой искры его сознания, пусть зловонно зачадившей в обстоятельствах земной жиз ни. Вообще не люблю самодовольного иерархического принципа в мыш лении, как не люблю и мировое устройство на этих основаниях: ранги, этажи, перегородки, и ещё одно «никогда» и «невозможно», что сквозит в этих подразделениях. Кстати, аристократизм — более мужской тип обще ственного идеала, а вот источный матриархат — в примитивном ещё, ко нечно, виде — родовое, протособорное равенство: «со всеми и для всех».
Отмечу ещё одно, существенное: стремление вывести к свету, дать оптимистический, созидательный исход даже из самого скудного бытий ственного варианта. Как у человека размышляющего и пишущего — по требность и попытка обосновать необходимость и возможность реализа ции всех метафизических надежд, выраженных в великом христианском чаянии (воскресение мёртвых, преображение, выход в Божественный, творческий эон бытия) и при самом безблагодатном, самом худшем исходном пункте: когда и существование Бога, благого направляющего вектора развития мира, может выводиться за скобки, как и прочие поло жительные благоприятствующие величины, скажем, объективный закон восхождения духа в лоне материи, внутренняя эволюционная программа и т. д. могут ставиться под сомнение. То есть не отчаиваться и действовать в любом, любом случае. И чтобы просчитать и самый последний, самый бедный вариант — редукция к минимуму, к тому, что совершенно очевид но есть: а есть и человек, и его поразительные творческие возможности, его разум и сердце, есть огромный мир с колоссальными ресурсами мате рии и энергии, есть и идея Бога, Царствия Небесного с их по меньшей ме ре проективным богатством. И отсюда уже восходить и достигать, и если в ходе этого усилия обнаружатся с очевидностью благоприятные, помога ющие моменты — Высшие Божественные силы или препятствующие (а такие неотразимо очевидны в самом человеке прежде всего), — то надо или радоваться неожиданной, ожиданной помощи или преодолевать вто рые, не теряя отваги и терпения. «Методическое сомнение», сведение к последнему очевидному и движение уже от этого безусловного остатка ко Всему — такова тут траектория.
Кстати, пару слов дополнительно об этом, близком мне методологи ческом принципе (если хотите) подхода к реальности, который отправля ется от непосредственной достоверности, реальной очевидности, отбро сив все наиболее благосклонноутешающие представления, данные толь ко в акте веры, всю ту учёную и расхожую метафизику, что набрало, насо чиняло себе человечество. Методическим сомнением называл его Декарт. Принципом Фомы неверующего можно назвать его похристиански. Не удовольствоваться детской верой на слово и на авторитет, а вложить пер сты в раны, чтобы достоверно, опытно убедиться в наличии чуда, могуще го по благодати распространиться и на нас. Но не пасть духом, если даже этих ран не окажется и человек останется лицом к лицу лишь со своим же лаемым, со своим проектом (но ведь и это уже коечто, и немалое!).
Ещё из методологии, так сказать, домашней: я считаю важным с пре дельным духовным вниманием вчувствоваться и вслушиваться в себя, в то, что мне субъективно, на самой незамутнённой глубине моего сущест ва является как наиболее истинное и благое. Это и дерзаю чувствовать как всеобщее, идеально человеческое, Божественное, если хотите, как факт бытийственной ценности. Иначе говоря, систему долженствования, целей и задач я черпаю и из своего внутреннего колодца, полагая, что он бьёт моей струёй, но из одного большого общечеловеческого источника воды живой.
— Закончим, однако, ещё одним направлением ваших исследований, от разившихся в капитальном двухтомнике «Метафизика русской литературы» (2004), где вы рассматриваете роль русской литературы в религиознофило софском осмыслении человека и мира, в раскрытии русской идеи, тесно связанной с христианством, причём, как вы пишете, «христианством, выхо дящим за катехизическую букву, драматически углублённым, светящимся полнотой блага». Конечно, в русской литературе есть поэты и писатели, в творчестве которых несомненен глубинный христианский пафос. Достаточно назвать позднего Пушкина или Достоевского. Но ведь были писатели, вовсе далёкие от Церкви, такие как Лермонтов, Чехов, Платонов или, хоть и счи тавшие себя христианами, но высказывавшие еретические идеи, как Тол стой. Тем не менее и в их произведениях можно проследить философские мо тивы христианского идейного репертуара. Так в чём же, на ваш взгляд, кри терий христианского, религиознофилософского наполнения их творчества?
— Я бы для начала представила своё рассуждение о том, в чём крите рий христианской, религиозной души вообще в отличие от души языче ской, секулярной, всецело преданной мирским стихиям. Похоже, что по большому метафизическому счёту существует два типа человека. Один, целиком вписанный в практическую посюсторонность, на полном и единственном серьёзе внедрён в нужды, заботы и удовольствия мира сего, спокойнофатально принимает его природносмертные законы. Он — исключительно отмирен, его «духовный» потолок упакован без всякого просвета в реальности высшие, в дерзание к небу. Такой человек как бы ампутировал в себе главное религиозное качество человека, его духа — трансцендирование, перерастание себя, порыв к другой высшей природе. Везде, куда проникает подобный обезбоженный, сплетённый в наше вре мя с идеалом потребительского общества дух (а с глобализацией он про никает всюду), он подрезает крылья настоящей духовности, порыву и прорыву в более высокую онтологическую реальность. Если взять лишь область культуры, то идею и задачу преображения самой жизни и челове ка он забьёт эстетизмом, «искусством для искусства»; метафизическое беспокойство и воистину новое творчество — ироническим жонглирова нием деконструкциями и симулякрами… Идейный вектор этого духа — нет ничего абсолютного, всё временно и относительно. Созидательные философские идеи в нём обезврежены их, так сказать, библиотечным ста тусом — как один из элементов чистого знания, приличествующего обра зования, религиозные установки и идеалы заключены лишь в тщательно отгороженную от мира, закрытую территорию личной веры.
А теперь о втором типе человека — он, при такой же, как у первого, естественной причастности к условиям и требованиям земного бытия, чувствует себя в них значительно более неуютно, несчастно, глубинно трагически, не принимая их как окончательные и должные. Ему так или иначе внятно то, на что изначально и всегда указывал христианский взгляд: падшесть человека, его фундаментальная греховная порча, его смертная болезнь, царящие в мире законы пожирания и вытеснения, на которых не может быть построено самоопорным человеком ничего проч ного и гармоничного. Такой человек живёт в духовно динамическом, на тянутом пространстве, где работают два полюса — и земное здесь и те перь, и горний зов к лучшей природе, к «новому небу и новой земле». Собственно, только такой человек и может быть назван религиозным, ду ша которого — «христианка», даже если он прямо и не исповедует ника кой религии. В протестантском регионе таких людей назвали «анонимны ми христианами». Вот к ним, возможно, и принадлежат упомянутые вами Чехов и Платонов. Оба — каждый посвоему — передали проникающие в каждую пору людей и вещей скуку послегрехопадного статуса бытия, тос ку и недостоинство смертного обезбоженного мира. Правда, Чехов угне тён этим до тихого отчаяния, а Платонов естественно сохранил в себе христианский критерий детского чувства, детского чаяния всеобщего родства и спасения.
Так вот, возвращаясь к метафизике русской литературы, я бы сказала, что творцы её от Лермонтова, Тютчева, Достоевского до Клюева, Есени на, Платонова, Пришвина… выражали в своём творчестве как раз такую христианскую доминанту русской идеи и русской души, которая и отно сит её носителя к этому второму, метафизически ориентированному типу человека. А эту доминанту отечественные мыслители и богословы уже чётко определяли как особую устремлённость к абсолюту, к последним временам и срокам, к Царствию Небесному, где преодолён закон смерт ноприродного бытия.
Именно литература золотого, ХIХ века, в лоне которой и вызревала оригинальная русская мысль, выявила целый цикл идей, остававшийся в тени христианского мировидения и позднее выпукло явленный мыслите лями религиознофилософского возрождения: это и преодоление аскети чески одностороннего отношения исторического христианства к природе и плоти, на деле противоречащего глубинной сути христианского благо вестия, это и образ Вечной Женственности в её преображающесофий ном понимании, это и апокатастасические склонения образной мысли, не говоря уже о вперенности в загадку человека, созданного по образу и подобию Бога, но утерявшего это подобие в своём падшем качестве… В своей работе я выявляю и раскрываю эти философские грани творчест ва русских поэтов и писателей, и прежде всего парадокс человека, этого промежуточного, противоречивого, иррационально своевольного, с ядо витым жалом смерти в плоти и душе существа, его экзистенциальную тра гедию и вместе созидательные пути выхода из неё.
— Да, известно, что классическая русская литература всегда привлека ла своим замечательным человековедением, антропологической глубиной. В чём она, на ваш взгляд?
— Речь, разумеется, идёт о знаменитом психологизме русского рома на, исследовании психофизического параллелизма (отражение внутрен него во внешнем), самых поддонных импульсов поведения, всех тончай ших извивов и закутков психики героев, диалектических глубин души и духа. Познание человека шло здесь на всех уровнях: от природностихий ного, физиологического, от социально обусловленного (среда, воспи тание, эпоха) до душевного — и тут весь мир поражается Льву Толстому, этому великому «тайновидцу плоти», говоря словом Мережковского.
И наконец, достигало уровня духовного, где уже «тайновидцем духа», на стоящим пневматологом, заложившим новое антропологическое основа ние и литературе, и философии будущего, был, конечно, Достоевский. Причём самопознание человека, развернувшееся в русской литературе, движется по существу христианским пафосом просветления бессозна тельного, выходом из его дремучего хаоса, духом трезвения, покаяния, превращения злонаправленных энергий во благие.
И быть может, самый существенный русский вклад в это самопозна ние личности заключался в следующем. Фёдоров, гениально чуткий к де фициту понимания родовой, соборнородственной сущности человека, проницательно усмотрел в реализации формулы «познай самого себя» опасный уклон в «знай только себя», в эгоистическое самозамыкание. Достаточно вспомнить бесконечную шеренгу западных литературных ин дивидуалистов и имморалистов — на манер их философского собрата Макса Штирнера с его единственным бесконечно возлюбленным «я», для которого ты, другой — лишь предмет, потребляемый мною. Да уж как зна ют себя, копаются в себе и герой «Записок из подполья», и Свидригайлов, и Ставрогин, и как, однако, ужасно кончают эти последние — доброволь ноотчаянным устранением себя из бытия! Русская литература утвержда ла — конечно, никак не риторически, а трагедиями и прозрениями своих персонажей, тонкими сюжетными и мотивными наведениями: познать себя в христианском смысле значит одновременно знать другого, в смыс ле понятьпростить, любовно раскрыться навстречу ближнему, выйти в диалог и полилог, в понимание нерасторжимой взаимоувязанности всех людей в их общей земной и небесной судьбе, в их ответственности за всю тварь, за всё совершаемое в мире.
Вообще, оттого что в литературе философия живёт в особом статусе многоголосия, живого диалога, вопросительной открытости, незавер шённости, выигрывает живая стереоскопия метафизических подходов к вечным вопросам мирового и человеческого бытия, аннулируется одно значная линейность мировоззренческого взгляда. И существенно — за фи лософской полифонией сознаний стоит идея личности как высшей цен ности, как самоценности, идея в созидательной своей сути христианская.
— Есть ли у вас свой метод анализа русской литературы именно как об разнохудожественной, экзистенциальной формы философского освоения реальности?
— Это своего рода литературнофилософская герменевтика в её пер вичном значении искусства понимания и истолкования. Аналитические приёмы извлечения смыслов работают у меня в процессе очень медленно го, можно сказать, черепашьего чтения. Мировидение писателя, глубин ное ядро его экзистенции выявляются через вчувствование в его поэтику,
кропотливое вникание в сюжеты, образы, мотивы, стиль, из глубинного погружения в поражающую конкретику многообразных уникальных эле ментов произведения и, на чём я особенно настаиваю, его странных дета лей и каверзных мелочей, прячущихся в складках и по углам художествен ной ткани. В моих исследованиях работает принцип герменевтического круга (целое понимается из частей, а части получают свой истинный смысл из целого). С одной стороны, целостная метафизика писателя вста ёт из только что упомянутого вживания в интимновнутренние слои его текста, с другой — исследовательский луч может понастоящему извлечь глубинные смыслы конкретных частей, только когда он заряжён интуи цией и знанием целого: это и комплекс нередко прямо выраженных писа телем мировоззренческих установок и предпочтений, и сумма философ ских и литературных влияний, и контекст времени, и вектор поисков и целей национальной словесности в целом.
Беседовал Алексей Нилогов
ЕЛЕНА СМИРНОВА
Логическая семантика и вопросы обоснования логических систем
Елена Дмитриевна Смирнова (род. 1929) — современный русский философло гик. Доктор философских наук, профессор кафедры логики философского факульте та МГУ имени М. В. Ломоносова. Автор таких книг, как «Формализованные языки и проблемы логической семантики» (М., 1982), «Логическая семантика и философ ские основания логики» (М., 1986), «Основы логической семантики» (М., 1990), «Логика и философия» (М., 1996), «Логика в философии и философская логика» (НьюЙорк—Онтарио, 2000). «Смирнова развивает концепцию, согласно которой обоснование логических систем опирается на фундаментальные онтологические и гносеологические предпосылки; при этом обоснование систем с более «богатыми» вы разительными и дедуктивными возможностями предполагает учёт всё более глубо ких характеристик знания и познания»1. Наша беседа с Еленой Дмитриевной состо ялась в рамках проекта «Современная русская философия»1.
— Елена Дмитриевна, каково ваше отношение к вкладу А. А. Зиновьева в развитие логики, в том числе так называемой неклассической?
— Зиновьев сыграл важную роль в организации сектора логики в
Институте философии. (Сектор возглавил тогда П. В. Таванец.) В это вре
1 Алексеев П. В. Философы России XIX–XX столетий. Биографии, идеи, труды. — М., 2002. — С. 901.
2 Беседа опубликована на сайте www.censura.ru 08.04.2007: http://www.censura.ru/ articles/smirnovainterview.htm.
мя Зиновьев отошёл от работы в области диалектической логики и стал работать в области современной формальной логики.
Отмечу, что образование сектора логики, работающего в рамках современной логики, было в то время важным прорывом и в области фи лософских исследований, и в становлении и развитии логики в нашей стране. Достаточно посмотреть сборники, которые удалось выпустить в те годы.
— Каков вклад отечественных логиков в развитие логики в мире? Знают ли наших логиков за рубежом, цитируют ли их работы?
— Работы и результаты многих наших логиков за рубежом знают и ценят. (Я имею в виду и логиковфилософов, и математиков.)
Особо не прост был путь логиковфилософов. После гигантского провала в области логических исследований — превращения формальной логики в лучшем случае в «логику домашнего обихода» и критики её с по зиций противопоставления формальной логики как логики буржуазной «логике пролетарской», а также противопоставления формальной логики диалектической — возрождение логики в нашей стране, разработка логи ческих исследований на современном уровне, было нелёгкой задачей. Связи с зарубежными логиками фактически были утрачены.
В этой ситуации важно было держать высокую планку («гамбургский счёт», по словам В. А. Смирнова) современной символической логики, получать результаты высокого уровня. Этого, я считаю, мы достигли. Ис тория возрождения и развития логики в нашей стране весьма поучитель на и любопытна.
Важную роль сыграла работа сектора логики Института философии, а также ряда логиков кафедры философского факультета МГУ, таких, например, как Е. К. Войшвилло.
Особенно активизировалась работа в области современной логики (и её философских проблем), когда сектор логики возглавил В. А. Смирнов. Сложилась фактически определённая школа. Стал выпускаться ежегод ник «Логические исследования» — по сути логический журнал, стали вы ходить интересные сборники статей, с работами в том числе зарубежных авторов. Установились прямые научные контакты с такими крупными ло гическими центрами за рубежом, как Институт логики, языка и информа тики (Амстердам), а также с логическими центрами в Польше, Финлян дии и другими, с такими крупнейшими логиками мира, как фон Вригт, Я. Хинтикка (Финляндия), М. Данн, П. Суппес (США), К. Сегерберг (Швеция), И. ван Бентем (Голландия), Д. Батенс (Бельгия), Г. Прист (Австралия), Н. да Коста (Бразилия), Р. Сушко, Р. Вуйцицкий, Г. Мали новский, Е. Пежановский (Польша). Я привела эти имена, чтобы пока зать диапазон и уровень контактов наших логиков — я имею в виду в данном случае логиковфилософов. Упомянутые выше логики — круп нейшие логики мира. Они приезжали к нам, выступали на научноиссле довательском семинаре сектора логики (он, кстати, работал регулярно) и на научных конференциях у нас в стране. Традиция эта в известной мере продолжается.
Важным и показательным стало участие многих наших логиков в ра боте крупнейших международных форумов — таких, например, как Меж дународный Конгресс по логике, методологии и философии науки (ко торый проходит раз в 4 года), а также во многих международных конфе ренциях.
Существенные результаты получены в теории логического вывода, в области релевантных, паранепротиворечивых и многозначных логик, а также в современном подходе к силлогистике.
Важную роль играли контакты с логикамиматематиками (А. А. Мар ков, С. А. Яновская, А. В. Кузнецов, Л. Эскиа, Н. Н. Непейвода и другие).
Но это уже особый разговор.
— Каких современных русских логиков вы бы назвали?
— Не стану выделять и называть поимённо, чтобы не обидеть когото из ныне живущих. Сильные логики есть и в секторе логики Института философии РАН, и на кафедре логики философского факультета МГУ, есть и в СанктПетербурге. Ими разрабатываются актуальные проблемы современной логики. Я говорю опятьтаки о работе логиковфилософов.
А из тех, кто ушёл от нас, я назвала бы В. А. Смирнова, О. Ф. Сереб рянникова, И. Н. Бродского, З. Н. Микеладзе, Ю. Г. Гладких.
— Каких современных зарубежных логиков вы бы назвали?
— Назвала бы С. Крипке, Я. Хинтикку, ван Бентема, Д. Батенса, М. Дана. Можно, конечно, назвать и других, но меня привлекает в их ра ботах прежде всего связь с философскими проблемами.
— Как вы считаете, будет ли когданибудь создана универсальная логи ка, объединяющая в себе разрозненные классические и неклассические логи ки? Как она будет соотноситься с той трансцендентальной логикой, проект которой Л. Витгенштейн намечает в «Логикофилософском трактате»?
— Надо уточнять, что имеется в виду под «универсальной логикой» — разработка некоторой общей базы, обобщённого подхода к построению и обоснованию логических систем или нечто иное — создание логики осо бого типа.
Я различаю два круга вопросов: 1) обоснование формальных, логис тических систем — он связан с построением адекватных семантик (дока зательством, соответственно, непротиворечивости и полноты) и 2) обос нование типов логик, типов рассуждений.
Что касается Л. Витгенштейна, идей Трактата и трактовки логики в нём, то это, с моей точки зрения, очень интересный и непростой вопрос. В первой части Трактата рассматриваются вопросы, связанные с обычной формальной логикой, — трактовка тавтологий, отрицания, тождества, кванторов и т. д. И здесь уже намечаются заметные нестандартные момен ты, связанные с особой трактовкой образа и отношения отображения, с анализом в этом плане логической структуры элементарных высказыва ний. В дальнейшем у Витгенштейна речь идёт о логике не в плане логики как теории рассуждений, а как определённой основе познавательной дея тельности (см. тезис 6.13), как общей основе построения познавательных сеток (важнейшая идея Трактата).
В этом плане «изобразительная концепция языка», с моей точки зре ния, трактуется неверно. Я об этом писала. Язык своей структурой ниче го не отображает в мире, а наоборот, он — сетка видения, основа постро ения картины мира. Именно поэтому мир — это «совокупность фактов, а не вещей» (казалось бы, почему?). Мы идём от познавательных сеток, де терминируемых языком и логикой.
Именно логика и логическая семантика (как они строятся в Тракта те) — ключи к пониманию идей Трактата. Это как раз тот случай, когда без «логической сетки» не войти в суть, понимание ф и л о с о ф с к и х идей и концепций.
— Каково современное развитие логики в мире?
— Планка её развития высока. Но возникают проблемы, связанные с направлением, особенностями и перспективами д а л ь н е й ш е г о раз вития логики.
Точками роста в настоящее время является разработка логик, связан ных с компьютерными науками, а также методов логического анализа естественнонаучных теорий.
— Кто из логиков оказал на вас самое сильное влияние? Кого можно считать вашими учителями?
— А. Тарский и его труды по семантике, К. Гёдель, Д. Гильберт, Г. Фреге, Б. Рассел, А. Мостовский, Р. Карнап, С. Крипке.
Учителями моими можно считать В. Ф. Асмуса, П. С. Попова, С. А. Янов скую, А. В. Кузнецова.
— Можно ли вслед за теоремой К. Гёделя о неполноте дедуктивных сис тем (1931), а также после доказательства независимости гипотезы контину ума от остальных аксиом теории множеств П. Дж. Коэна (1963) надеяться на появление теоремы о неполноте уже индуктивных систем?
— Вопрос интересный, но поставлен недостаточно корректно. Преж де всего надо уточнить, о какой неполноте идёт речь. У К. Гёделя нет тео ремы о «неполноте дедуктивных систем». Спокойно существуют полные дедуктивные системы. Теорема Гёделя говорит о неполноте достаточно богатых систем, содержащих рекурсивную арифметику.
Чтобы вообще понять смысл так называемых теорем об ограничен ностях формализмов (в том числе данной теоремы Гёделя о неполноте), надо прежде всего уяснить роль и смысл формализации — построения формализованных систем. Формализовать некоторую теорию — значит представить её в виде исчисления, где в действиях с материальными объ ектами (символами) по строго заданным «механическим» правилам вос производятся содержательные связи и отношения. Смысл формализации не в замене обычных слов и предложений особыми значками, как неред ко это полагают, а в вопросе эффективности, в возможности эффектив ным образом с помощью механических действий со знаками представить содержательные утверждения теории. Формализм (формальные исчисле ния) — это лишь «механизм» исследования эффективной заданности предложений теории.
При формализации всякое доказуемое (полученное по формальным правилам) предложение при интерпретации становится истинным пред ложением рассматриваемой содержательной теории (семантическая не противоречивость). Другой вопрос — вопрос полноты формализации. Формальная система полна (например, относительно класса истинных предложений арифметики), если всякое истинное утверждение является доказуемым предложением формального исчисления.
Формализация является важным методом логикосемантических ис следований и имеет важные ф и л о с о ф с к и е аспекты. Так, теоремы об ограниченностях формализмов говорят об определённых свойствах клас са истин теории (это не теоремы о границах, ограниченности самих фор мальных исчислений: нельзя объять необъятное или эффективно пред ставить неэффективное). Так, теорема Гёделя, в частности, означает, что в п р и н ц и п е нельзя построить такой «механизм», такое формальное исчисление, чтобы все содержательные предложения арифметики были доказуемы в нём. Но это важнейшая характеристика самого к л а с с а и с т и н н ы х у т в е р ж д е н и й д а н н о й т е о р и и. Это означает, что класс истин данной теории не является эффективно перечислимым (рекурсивно перечислимым). А это означает, в свою очередь, что класс ис тин, например, обычной арифметики (и соответственно достаточно бога тых систем) неаксиоматизируем. Дело не в «формализме», а в характере класса истин этой теории. Теорема Гёделя это и выявляет, а не «неполно ту дедуктивных теорий» как таковых.
Относительно индуктивной логики вопрос стоит аналогичным обра зом: можно ли построить формальное исчисление, которое репрезентиро вало бы шаги индуктивных построений. Наиболее интересные шаги в этом плане я вижу у нас в работах В. К. Финна и его школы, в предлага емом ими ДСМметоде. Метод, в частности, содержит любопытные ходы в направлении формальной репрезентации индуктивных методов Милля.
— Какие идолы существуют в логике? Как с ними бороться средствами самой логики?
— Существует идол «формализации», подмены логик формализмами, формальными системами. Почему надо бороться с ними «средствами самой логики»? Потому что нужно исследовать и понимать основа ния самой логики, её принципов и структур. Надо р а з р а б а т ы в а т ь с е м а н т и ч е с к и е основы формальнологических систем.
— Что можно сказать о философских основаниях логики, чтобы развес ти их с логическими основаниями самой философии? Насколько сблизились онтология и логика в настоящее время?
— Я не знаю, что имеется в виду под «логическими основаниями фи лософии». Можно говорить об особой роли логических методов в анализе философских проблем. Логические методы играют, с моей точки зрения, важную роль в анализе концептуального аппарата теорий и возможности применения тех или иных логик, способов рассуждения в связи с этим. Можно также говорить о роли логических сеток в познавательной дея тельности, например, в смысле Л. Витгенштейна.
Вопрос о философских основаниях логики — это вопрос о природе логического знания, логических структур, принципов, форм, вопрос обоснования их аподиктического характера. Онтологические, теоретико познавательные предпосылки играют важнейшую роль в семантике, в обосновании логических систем.
— Как вы оцениваете вклад Е. К. Войшвилло в развитие логики?
— Оцениваю высоко. Им разработан своеобразный подход к теории понятий, внесён важный вклад в построение и обоснование релевантных логик, а также в применение логических методов к анализу определённых философских вопросов. Особенно велика его роль в преподавательской деятельности, в разработке и чтении курсов на философском факультете МГУ.
— Не провоцирует ли эволюция логической семантики умножение сущ ностей. Можно ли говорить о «щетине Эпштейна» (принцип умножения сущ ностей) в логике?
— Логические структуры и связи не являются отображением, зерка лом чеголибо в самой действительности. Ещё Э. Гуссерль отмечал — и со вершенно верно, — что связи тут идеальные, логика — не эмпирическая наука, в её основаниях лежат и д е а л ь н ы е связи.
В ходе познавательной деятельности вырабатываются определённые абстракции и идеализации, мы апеллируем к особого рода идеальным объектам — и всё это ложится в основу логических связей. Так, согласно Гильберту, применение обычных законов логики зависит от того, имеем ли мы дело с «действительными предложениями» математики или с «иде альными» (высказываниями об «идеальных элементах»).
Мир логики (её оснований) — идеальный мир, и семантики различ ного типа логических систем предполагают введение специального типа идеальных сущностей. Вопрос этот весьма интересен и сложен. Отсюда — и проблемы номинализма и платонизма в самой семантике, в обоснова нии логических систем. Останавливаться на этом здесь невозможно. Но тем не менее это важнейший аспект философских, теоретикопознава тельных оснований логики.
Так, построение семантик модальных, интенсиональных систем предполагает онтологию «возможных миров», введение возможных ми ров (учёт условий, ситуаций, истинностных оценок), классов таких ми ров, операций и отношений над такого рода объектами. В известном смысле это особая онтология «интенсиональных» сущностей («интенсио нальная онтология», по словам У. Куайна).
— Является ли логика попрежнему философской дисциплиной? Не место ли кафедре логики на естественнонаучном факультете (например, на мехмате)?
— Является по своей природе (куда ей деться?). Логика изучает опре делённый аспект, определённые процедуры интеллектуальной деятель ности и опирается на определённые же теоретикопознавательные пред посылки.
Применение точных методов в логике, аппарата исчислений или ал гебраических методов не отдалило логику от философии и н е и з м е н и л о е ё п р е д м е т а, но позволило расширить сферу логики, строить логические системы нового типа. Ещё Э. Гуссерль в начале своих «Логи ческих исследований» поставил важные вопросы о природе логики и её основаниях. Эти вопросы не утратили своего значения в настоящее вре мя. Анализ Гуссерля направлен против эмпиризма и психологизма в трак товке логических законов.
В принципе открытие кафедры логики на том или ином факультете (или подразделении) полезно. Логику важно изучать и гуманитариям и естественникам. В настоящее время это особо важно. Надо научиться противостоять процессам навязывания «массидей». Важно — чтобы всегда преподавание вели квалифицированные специалисты, чтобы оно отвечало требованиям современной логики. Не следует дискредитировать саму логику.
Но прежде всего кафедра логики принадлежит философскому фа культету в силу её неразрывной связи с философией. На мехмате в своё время существовала кафедра логики (возглавлял её А. А. Марков). Разра ботка математиками аппарата, применимого к целям логики, — важная задача.
— Как вы относитесь к попытке современного русского логика В. Л. Ва сюкова формализовать ведущие философские системы (Э. Гуссерль, М. Хай деггер, Ж.П. Сартр)?
— К работам В. Л. Васюкова отношусь положительно. Это интересно. Но, с моей точки зрения, речь идёт не о «формализации философских систем», тем более в вышеупомянутом точном смысле формализации. Не представляю, как можно «формализовать философскую систему»… Речь, скорее всего, может идти о применении формальных методов к анализу, репрезентации философских понятий, в том числе относящихся к опре делённой философской системе. Но и в этом случае всегда надо решать вопрос адекватности. Отмечу, что направление формальной онтологии активно разрабатывается в Польше рядом польских логиков.
— Какой путь в логике вам кажется предпочтительней — дальнейшая формализация естественного языка или дальнейшее оестествление формаль ного языка?
— Формализоваться могут научные теории (или их фрагменты), в том числе логические системы. Возможность и границы формализации — особый вопрос.
Для научных целей, естественно, могут использоваться как естест венные, так и искусственные, формализованные языки. Естественные и искусственные языки не противостоят друг другу, а дополняют друг друга, как глаз и микроскоп (сравнение Г. Фреге).
Другое дело — вопрос применения точных, формальных методов к анализу естественных языков. В этом направлении особо интересны работы Р. Монтегю, М. Крессвелла (например, работы Р. Монтегю English as a Formal Language и The Proper Treatment of Quantification in Ordinary English).
— Существует ли сегодня русская философия? Какие имена вы могли бы назвать?
— Философия есть поиск понимания мира, человека, его места в ми ре, условий и границ познавательной деятельности. В этом смысле нель зя говорить об особой английской, французской и т. д. философиях (как и об особой английской или французской математике, например). Можно говорить о тех или иных школах, направлениях, подходе в разработке фи лософской мысли (например, о немецкой классической философии или философии французского просвещения).
В России таким особым оригинальным направлением была, напри мер, религиозная философия, поднимавшая глубокие проблемы смысла и цели человеческой жизни в свете и на основании религиозных идей и Евангелия. Особо важно, что во главу угла ставились проблемы духовно сти — что, с моей точки зрения, верно. Из имён назвала бы прежде всего В. С. Соловьёва и Н. А. Бердяева.
В настоящее время у нас есть интересные философы. Я бы отметила недавно ушедшего из жизни Ф. Т. Михайлова (оригинальный подход к философии сознания: тонкий, своеобразный анализ проблем человече ского сознания; стержнем его философских исканий была «загадка чело веческого Я», с которой он и начинал), В. А. Лекторского (проблемы те ории познания). Рядом наших логиков интересно разрабатываются проб лемы в русле аналитической философии.
— Какие книги изданы у вас в последнее время? Что планируется в бу дущем?
— В 2000 году вышла моя монография «Логика в философии и фило софская логика» (НьюЙорк–Онтарио). Также выделю ряд статей, в ко торых поднимаются существенные, с моей точки зрения, вопросы логи ческой семантики и обоснования логических систем: «Обобщающий под ход к построению семантики и его методологические основания», «О за гадке контекстов мнения. Подход к семантике интенсиональных систем», «Кант и финитная установка Д. Гильберта» (ежегодник «Логические ис следования», выпуски 12, 8, 4 соответственно), «Теория семантических категорий и вопросы онтологии языка» (Труды научноисследовательско го семинара сектора логики ИФ РАН, 2006).
В центре моих рассмотрений — исследование природы логического (и тем самым аподиктического) знания, обоснование логических систем, построение семантик различного типа, разработка методов анализа смыс ла и значений.
В этом плане:
Исследуется понятие аналитической истинности (аналитическиистинных высказываний), его связь с аподиктическим знанием. Предло жен определённый подход к экспликации аналитической истинности на базе теории моделей.
Предложен нестандартный подход к теории семантических категорий, при котором тип семантических категорий зависит от к о н с т р у и р у ю щ и х операций — от т и п а операций построения сложных вы ражений из составляющих. На этой основе построена с и с т е м а с е м а н т и ч е с к и х к а т е г о р и й для языков с кванторами, модальны ми, интенсиональными операторами и предикатами.
Разработан обобщающий подход к построению семантики.
а) На базе этого подхода пересматривается известная схема А. Тарского, задающая условия истинностной оценки высказываний в рамках корреспондентской концепции истинности.
б) Основными понятиями при обобщающем подходе становятся понятия области высказывания — ϕT(A) (условий, верифицирующих вы сказывание) и антиобласти — ϕF(A) (условий, фальсифицирующих вы сказывание), позволяющие включать в рассмотрение определённые ас пекты к о г е р е н ц и и — в зависимости от оснований, по которым зада ются области и антиобласти высказываний.
в) Строятся нестандартные семантики и даётся их обоснование. Типы семантик (классическая, релевантная, с истинно значными прова лами, парадоксальные) зависят от отношений между областями и антиоб ластями высказываний.
г) На этой же основе возникают нестандартные отношения л о г и ч е с к о г о с л е д о в а н и я и т и п ы л о г и к; допускаемые прави ла вывода (типа modus ponens, правило дедукции и т. д.) детерминируют ся этими отношениями следования в сочетании с отношениями между областями и антиобластями. Так строится обоснование определённых ло гических систем, определённых видов рассуждений.
Строится семантика интенсиональных контекстов (контекстовмнения, пропозициональных установок и т. д.) на базе обобщающего под хода и особой интерпретации семантических категорий интенсиональных знаков.
На основе обобщающего подхода к семантике и с учётом не всюдуопределённости семантических предикатов (в том числе истинности) предлагается нестандартный анализ парадокса Лжеца.
Если будут возможности и силы, мыслю написать монографию «Язык, семантика, онтология». Мыслю также продолжить работу по не стандартным семантикам, обобщающему подходу к построению семан тик (и вопросам обоснования логических систем), поскольку возникно вение логических систем самого разного типа остро ставит вопрос их обоснования.
Беседовал Алексей Нилогов
НАТАН СОЛОДУХО
Теория «философии небытия»
Натан Моисеевич Солодухо (род. 1952) — современный русский философ, живу щий в Казани. Движение к философии у Натана Моисеевича не было прямым и прос тым. Окончил физикоматематическую школу Казани, затем физический факуль тет Казанского государственного университета. Пять лет работал инженером в технологическом НИИ вычислительной техники, параллельно сдавал экзамены кан дидатского минимума по философии. В педагогическом институте прошёл путь от ассистента до профессора, доктора философских наук. С 1996 года по настоящее время заведующий кафедрой философии Казанского государственного технического университета имени А. Н. Туполева (КГТУ–КАИ). Автор сборника стихотворений и поэтических эссе «От бытия до небытия» (Казань, 1999). Экспонировал на худо жественных выставках свои живописные и графические работы. Но главной своей заслугой считает разработку оригинальной «философии небытия». Опубликовал 150 философских, научных и учебных работ. Но главной заслугой можно считать разработку оригинальной теории, изложенной в книге «Философия небытия» (Ка зань, 2002). Наша беседа с Натаном Моисеевичем состоялась в рамках проекта «Современная русская философия»41.
— Натан Моисеевич, в чём главная особенность вашего взгляда на мир?
— Моя философская позиция отличается от других тем, что я пыта юсь увидеть то, чего нет в реально существующем мире, точнее говоря, — взять в расчёт то, чего нет, учесть наличное отсутствие. Естественно, что я не отрицаю существование того, что видят все, то есть того, что есть, просто к этому добавляю то, чего нет. И получается нечто иное в принци пе — обнаруживается значительно более широкая система реальности. Прибавляется ещё одна очень важная часть мира, которую, как ни стран но, философы не замечают или игнорируют.
Между тем всякий предмет есть то, что он не есть, и это «не есть» в бесконечно многообразных формах присутствует в каждом предмете как нерасторжимая с ним часть. Более того, если бы в каждом предмете отсу тствовало реальное несуществование каждого другого предмета, то ни один предмет не реализовался бы в качестве самого себя. Это совокупное наличие отсутствия образует гигантскую и очень действенную сторону мира.
Отмеченное позволяет утверждать, что отсутствие не менее реально, чем наличное присутствие, небытие — реальность отсутствия, реальность несуществования. Такое понимание небытия соотносимо с бытием, под ко торым понимается реальность существования. В конечном счёте бытие — это всё реально существующее, а небытие — всё реально несуществу ющее.
Выходит так, что бытие, то есть всё реально существующее, на самом деле выступает лишь частью большей системы, которую приходится рас сматривать. Но это прибавление даёт иную картину мира: оно позволяет посмотреть на мир ещё и с другой, обратной стороны, позволяет увидеть мир «с изнанки» (со стороны небытия), а не только с его «лицевой сторо ны» (со стороны бытия). Понимаемая мною таким образом картина мира не предполагает мистики, она вполне обходится без религиозной догма тики. Это чисто философский подход к представлению мира в его онто логометафизическом варианте. Здесь также вполне допустимо и полезно обращение к научному знанию. Поскольку проблема соотношения бытия и небытия шире основного вопроса философии (вопроса об отношении сознания к материи), то решение этой проблемы предшествует спору ма териализма с идеализмом.
В силу сказанного выше для меня мир представляется в виде онтоло гического единства бытия и небытия, которые взаимосвязаны между собой и оказывают влияние друг на друга. Казалось бы, всё достаточно ясно и просто: есть бытие и есть небытие, надо учитывать реальность того и дру гого. Тем не менее подавляющее большинство философов отказывают не бытию в онтологическом статусе; если они и признают небытие, то лишь в гносеологическом смысле. Небытие как непознанное, небытие лишь как логическая категория, вторичная и производная от категории бытия. За бытием же, естественно, признаётся онтологическая содержатель ность.
Надо сказать, что такое умаление статуса небытия и удивительно, и понятно одновременно. Удивительно непризнание реальности небытия, то есть отсутствующего, которое можно фактически ощутить с помощью органов чувств. И понятно также его неприятие, так как бытийные фор мы есть везде и очевидно, что между ними нет никаких небытийных про межутков, «прорех» в бытии. У неприятия небытия есть также психо логическое объяснение — проблема небытия обладает отталкивающей силой — с небытием человек связывает, прежде всего, конечность жиз ни — собственную смерть. Но ещё есть довлеющая над европейской куль турой сила традиции, идущая от Парменида.
Как известно, в середине первого тысячелетия до нашей эры Парме нид провозгласил, что есть только бытие, а небытия нет совсем. Более то го, он указал, что признание небытия есть путь ложный, ведущий к за блуждению в познании. Его аргументы показались столь убедительными, что европейцы перестали замечать небытие. Что касается восточной куль турной (мифологической и философской) традиции, то там дело обсто яло несколько иначе, но об этом должен быть особый разговор.
Говоря о европейской культуре, опирающейся на достижения Древ ней Греции, следует помнить, что здесь забвение небытийной онтологи ческой составляющей мира доведено до своей крайности, которая выра зилась в том, что наука вообще ничего не хочет знать о Ничто (выражение Хайдеггера). А вся европейская философия практически забыла о небы тии и занималась лишь бытием во всех его проявлениях. «К чему думать и говорить о том, чего нет? Пустое занятие!» — примерно так можно выра зить распространённое отношение философов к небытию. В результате сложилась онтология — учение о бытии как таковом, о его видах и атри бутах. Учения о небытии в истории философии не сложилось. И стоит те перь заговорить о небытии в рамках философии, как ему не находится здесь законного места. Говорят даже так: «Разговор о небытии — не фило софский разговор». И такая реакция в традиционном понимании филосо фии вполне справедлива. Следовательно, необходимо менять традицию, необходимо разрабатывать новый раздел философского знания, дающий содержательное конструктивное учение о небытии.
— Какие проблемы должен рассматривать новый раздел философии, посвящённый небытию?
— Прежде всего, разработка «философии небытия» влечёт за собой онтологический пересмотр философской картины мира. Итак, если мы признаем реальность как бытия, так и небытия, то необходимо с этих по зиций пересмотреть и основные принципы и законы, описывающие существующий двуединый бытийнонебытийный мир. Этой проблеме я посвятил II часть своей монографии «Философия небытия» (Казань: КГТУ, 2002. — С. 43–71) и назвал её так: «Систематика философии небы тия: понятия, постулаты, законы, принципы». Здесь сформулирован ряд законов бытийнонебытийного мира: законы (принципы) простран ственной и временной локализации бытия (нечто), закон пропорцио нального соответствия форм бытия (нечто) и небытия (ничто), закон од нократности бытия (нечто) и циклический закон регенерации бытия (как такового). К этому ещё добавлены принцип «масляного масла» как закон бытия; принципы относительного небытия и относительного бытия, принцип равномощной аннигиляции бытия и небытия и некоторые дру гие. Интересно, что, например, онтологическим законам пространствен ной и временной локализации бытия (нечто) соответствуют два основных закона формальной логики — закон тождества и закон непротиворе чивости, в то же время онтологический закон цикличности в системе «бытие—небытие» и закон однократности бытия (нечто) раскрывают диалектические закономерности реального движения и развития. Содер жательное представление этих и других законов и принципов позволило обнаружить, что существует небытийное (ничтойное) качество и сущ ность вещей (с. 58), что бытие вообще есть скрытая отрицательность (с. 60), а относительное небытие (инобытие) есть скрытая положитель ность (с. 61), что существующий мир имеет вечное и непрерывное начало, так как он начинается всегда и постоянно заканчивается, и постоянно и непрерывно возобновляется в вечной и бесконечной регенерации бытия
(с. 64) и др.
— Возникает вопрос, являются ли основные положения вашей теории «философии небытия» чисто умозрительными, спекулятивными или они подкрепляются конкретно$научными знаниями?
— Конечно, в качестве исходных основоположения метафизической теории небытия не могут не носить постулативный характер, как, впро чем, и аналогичные положения всех теорий. В то же время предложенные мной онтологические (метафизические) законы, принципы и модели на ходят своё подтверждение со стороны фундаментальных наук, таких как классическая физика, физика микромира и астрофизика. При этом под тверждение ищется как со стороны разработанных в науке положений, например принципа неопределённости Гейзенберга для соотношения энергии и времени жизни микрочастиц, так и со стороны проблемных си туаций в развивающейся науке (здесь я имею в виду, скажем, дискуссию о понимании начала развития Вселенной среди космологов или множест венность космологических моделей и их конкуренцию). Мною рассмот рена возможность и математической интерпретации основных положе ний «философии небытия». В то же время теория небытия позволяет усомниться в незыблемости законов сохранения, сформулированных в естествознании, или, по крайней мере, нетрадиционно их оценивать.
— Какое отношение должно быть к гносеологической стороне «филосо$ фии небытия»?
— На мой взгляд, гносеологический статус соответствующих поня тий находится в зависимости от онтологической теории, а не наоборот. В целом я придерживаюсь теории отражения в гносеологии и считаю, что категории «философии небытия» должны отражать онтологическое со держание мира. Правда, выходя в область исследования небытия, фило соф сталкивается с необычными трудностями. Если бытие находит своё достаточно адекватное выражение в разработанном понятийном аппара те, то небытие выразить с помощью логических форм мышления в прин ципе очень сложно. Это обусловлено тем, что мышление, понятийная структура, язык человека бытийны по своей природе. Мнение Мартина Хайдеггера, что «язык — дом бытия», хорошо характеризует познаватель ную ситуацию. Тем не менее, опираясь на реально существующее содер жание «бытийных» понятий, можно создать систему «небытийных» кате горий. Мною введены в обиход такие понятия, как «небытиедобытия», «небытиевбытии», «небытиепослебытия», «нечто и ничтоформы», «ничтоформыпроекты», «ничтоформыследы», «ничтоформыреали зации», «небытие как онтологическая неопределённость» и др. Такая опо ра на бытийный аппарат позволяет развернуть целую систему понятий, постулатов, принципов, концепций, законов, отражающих существова ние небытийного аспекта мира.
В целом область изучения небытия и связанных с ней проблем мож но было бы назвать «Метаонтология» или «Трасцендентология», учитывая тот факт, что сфера небытия выходит за пределы реально существующего.
— На основании каких доводов вы приходите к заключению об исход$ ном характере небытия (ничто)?
— Можно выделить по крайней мере три подхода, позволяющих го ворить об исходности небытия в этом мире.
Первый подход связан со следующими интуициями и логикой сужде ний. Мне всегда интуитивно казалось, что если бы в мире ничего не бы ло, то это состояние было бы более естественным, чем то, которое отяго щено присутствием реально существующего. Для того чтобы ничего не было, ничего и не надо. Удивление скорее вызывает, что мир есть в своём реальном многообразии, что в нём реально существуют разнообразные проявления нечто. Удивительно, что вообще чтото есть в мире. Ощуще ние такое, что для того, чтобы нечто было, необходимы какието или чьи то усилия. Вот почему странно не то, что мир может быть беспредметным, а то, что он наполнен всем реально существующим.
Эти суждения подтверждаются физическими представлениями: лю бая система, в том числе и мир, должна стремиться к состоянию с наи меньшей потенциальной энергией, но именно система, не имеющая ни каких реальных объектов, и будет обладать минимумом энергии, равным нулю, в отношении отсутствующих объектов. Таково же должно быть и исходное состояние мировой системы.
Другой подход опирается на доказательство от противного. Материа листы и идеалисты давно ведут спор о первичности в мире либо материи, либо сознания в широком понимании последнего — как человеческого, так и нечеловеческого, мирового сознания. Если допустить, что правы материалисты, то надо признать, что материя сама себя порождает в це лом, существуя вечно и бесконечно. Это бездоказательный тезис, кото рый носит характер постулата, он ничем не хуже и не лучше утверждения идеалистов об абсолютности идеального начала, его вечности и беско нечности. Если теперь допустить первичность идеального сознания, ми рового духа, то неизбежно встаёт вопрос о его происхождении, о его детерминации, так же как и относительно материи. Откуда само созна ние (мировой дух) в этом мире? Вопрос остаётся без ответа. Так как бытийные начала не удовлетворяют подобную логику, следовательно, в качестве первоначала приходится искать чтото иное, отличающееся от любых бытийных материальных и идеальных явлений. Таковым служит небытие.
Есть ещё один заход к пониманию основности бытия. Переводя раз говор в плоскость субстанциальной основы мира, следует заметить, что субстанция, по определению, не требует внешней детерминации для сво его существования и сама служит причинной основой всего реально су ществующего. Субстанция абсолютна, вечна и бесконечна. Возникает вопрос, чему присущи атрибуты абсолюта — бытию или небытию. На мой взгляд, — небытию. Занимаясь ещё в 1980е годы проблемой однороднос ти и неоднородности мира, я пришёл к выводу, что в реально существую щем мире нет абсолютной однородности и абсолютной неоднородности, в бытии они выступают в качестве ничто, следовательно, они присущи небытию (смотрите монографию «Однородность и неоднородность в раз витии систем». — Казань: КГУ, 1989). Аналогично, рассматривая проблему времени и пространства, я пришёл к выводу, что пространственная беско нечность и временная вечность свойственны лишь небытию, в бытии есть длящееся время и простирающееся пространство (смотрите монографию «Философия небытия», ч. I, с. 22–28). Вообще все абсолютные характе ристики оказываются в небытии, а потому само небытие абсолютно.
Распространено мнение, что абсолютным является бытие, которое следует отличать от сущего как конкретного проявления бытия (так, на пример, у Хайдеггера), что бытие — это «белизна фона холста» (Фуко), вечная основа и возможность проявления отдельных предметов и явле ний. Но таким образом понимаемое потустороннее, трансцендентное бы тие и есть искомое небытие, ничто по отношению ко всей совокупности взаимосвязанных между собой реальных предметов и явлений, образую щих мир. Это та самая реальность, не существующая в онтологическом плане, но составляющая мировую потенцию. Это то самое ничто в отно шении к реально существующему, из которого возникает всё. Подобного рода рассуждения привели меня к выводу, что небытие — это онтологиче ская неопределённость, в отличие от бытия, которое онтологически опре делено либо как материя, либо как сознание или дух. Переход от небытия к бытию и есть переход от онтологической неопределённости в онтологи ческую определённость. Неопределённость вообще неустойчива и имеет имманентную тенденцию к самопроизвольному переходу в свою проти воположность (это подсказано конкретными знаниями, в частности ин формационнокибернетическим комплексом наук). Можно предполо жить, что так спонтанно возникает бытие (бытийные формы — многооб разное нечто) из неопределённого небытия (из ничтоформ) на уровне физической реальности виртуальных частиц. Точнее говоря, совокуп ность виртуальных частиц образует виртуальную реальность самооргани зованного перехода из небытия в бытие и обратно. Недалеко от этих представлений и модель флуктуационного возникновения бытия из внут ренне неустойчивой небытийной основы мира (смотрите монографию «Философия небытия», ч. I, с. 21–22, 17–20, 33–42 и др.).
Конечно, надо осознавать принципиально модельный характер по добного рода концепций, касающихся области метафизики.
Беседовали Михаил Бойко и Алексей Нилогов
АЛЕКСАНДР СОСЛАНД
Философия сквозь призму аттрактив$анализа
Александр Иосифович Сосланд (род. 1957) — современный русский психотера певт, философ. Кандидат психологических наук, доцент кафедры мировой психоте рапии факультета психологического консультирования Московского городского пси хологопедагогического университета, старший научный сотрудник Института «Русская антропологическая школа» при РГГУ. Автор скандальной книги «Фунда ментальная структура психотерапевтического метода, или Как создать свою шко лу в психотерапии» (М., 1999), в которой подробно исследована структура психоте рапевтического метода, разработан язык, позволяющий адекватно описать любой психотерапевтический метод, намечены возможности проектирования новых пси хотерапий. В настоящее время работает над новым проектом, который называет «аттрактиванализ». Он ориентирован на выявление в тексте привлекательных структурных элементов. Наша беседа с Александром Иосифовичем состоялась в рамках проекта «Современная русская философия»42.
— Александр Иосифович, давайте начнём нашу беседу с самого наболев$ шего вопроса о будущем постмодернизма на русской почве.
— Я предпочитаю всё же говорить об отдельных авторах. Когда мы говорим о целом течении, то неизбежны натяжки и противоречия, как в своё время было с экзистенциализмом. Под одной шапкой объединили таких непохожих друг на друга философов, как Хайдеггер и Ясперс, Камю и Сартр. Очевидно, то же самое обстоит и с постмодернистами. Чем, на пример, похожи друг на друга Деррида и Джеймисон? Только левизной.
— Естественно, что понятие постмодернизма неоднозначно, отчего в его рамках и возник особый апокалиптический дискурс, завершающий историю на постмодерне, — отменяющий историю философии, — основывающий но$ вый жанр философской критики — жанр забвения («Забыть Фуко» Ж. Бод$ рийяра). Что вы можете сказать об этом апокалиптическом жанре?
— Я готов ответить на этот вопрос с позиции психологии философии, которая была полностью отменена на рубеже XIX–XX веков Э. Гуссерлем. Проект феноменологии элиминировал саму постановку вопроса о психо логической мотивации тех, кто пишет философские тексты. Однако Гус серль поставил всё это под вопрос, но не под запрет. Поэтому мы воль ны ставить вопрос именно так: психологи также могут разбирать фило софские тексты, думать над тем, чем они мотивированы, подобно тому, как они анализируют художественные тексты. Когда мы говорим, к при меру, об апокалиптических интенциях, то не приходится сомневаться, что философ даёт волю своей агрессии, своим властным интересам. Фи лософ точно так же втянут в межличностные отношения, как и другие лю ди. Философский спор, в сущности, мало чем отличается от уличной склоки.
— Но ведь философский спор всегда аргументирован?..
— В уличной склоке тоже не обходится без аргументов. Под жанр за быть, о котором вы сказали, подстраивается агрессивное желание фило софа. Пространство философской науки — это пространство борьбы за самоопределение, за присутствие, за влияние. Вне этого в философии аб солютно ничего нельзя понять. Аргументация от логики, от мысли — только часть философской полемики.
— У вас получилась какая$то радужная картина — и философов можно вылечить?
— Она вовсе не радужная, а кошмарная. А лечить можно только тех, кто этого сам желает. Против воли не поможешь.
— Мне же кажется, что жанр забвения появился как реакция на жанр смерти (Бога, Автора, Человека, Истории, Философии), — как неудачная попытка постмодернистов справиться с логоцентризмом логоцентристскими же терминами (в этом весь философский первородный грех Ж. Дерриды — невозможность с помощью деконструкции разрушить метафизику, избавить$ ся от метанарративов). Однако вопрос можно поставить и по$другому: не де$ конструкция не справилась с логоцентризмом, а сам логоцентризм оказался неадекватным по отношению к деконструкции, применив к ней стереотипные логоцентристские ответы?..
— От логоцентризма мы никуда не уйдём (даже в никуда). Проект Деррида был изначально обречён на провал, что история философии и показала (всё ещё жива!), — под стать известной шутке из 1960х годов на стенах Сорбонны: «Бог мёртв». Подпись: Ницше. «Ницше мёртв». Под пись: Бог. Все эти агрессивные, деструктивные стремления всегда про вальны. Думаю, что рано или поздно это поймут, и тогда начнётся триумф креативности философской мысли, — более активное производство фи лософских текстов. Отраден пример М. Н. Эпштейна, который заявил, что в гуманитаристике кончился век «пост» (XX век) и начался век «про то» (XXI век).
— Но согласитесь, что позиция Эпштейна немного наивна: с таким хро$ нологическим подходом весьма натянуто аргументировать зачинание новых философий.
— Я думаю, что он тоже свои некие желания пытается легитимиро вать этими квазиэпохальными соображениями. Если он хочет произво дить оригинальные философские концепты (а он ими занимается!), то хронологические привязки здесь не помеха. Эпштейн — очень креатив ный автор. Быть креативным — задача современного философствования. — Зачем использовать англицизм «креативность»?
— Я не настаиваю на нём. Влечение к новому (креативность, нова торство, творчество) я называю кайнэрастией. Апокалиптический дискурс как раз подавляет и разрушает это коренное человеческое желание.
— Почему апокалиптический дискурс не может пониматься как дискурс, благодаря которому и может развернуться борьба со старым, отжившим, ре$ прессивным? Разве апокалиптический дискурс определяется только как ри$ туальная практика компенсации грехов или какого$либо покаяния?
— Самое плохое в нём то, что он ставит некий последний предел, и после этого предела не может быть уже ничего. Начинается какаято постистория, в которой новые сущности не могут формироваться. Очень часто за конец истории принимается лишь очередная веха, а не тотальный конец времён, чего многие псевдотеоретики «эндизма» не понимают. Ти# пичная логическая ошибка — pars pro toto, часть вместо целого.
— Жанр забыть означает выбор альтернативного и вместе с тем тупико вого пути…
— В сущности, нужно сублимировать какую#то агрессивную филосо# фскую энергию в креативную. А забыть ничего невозможно. Лучше по# мнить всё и продолжать запоминание дальше. Радикализм — способ со# циального поведения автора только в начале формирования своего брен# да. Автор легитимирует своё творчество тем, что отвечает на те вызовы, на которые предшественники не дают ответа.
— Хотите сказать, что парадоксальная интенция припоминания (пере фразируя Франкла) невозможна?
— Думаю, что нет. Это и нельзя, и невозможно.
— Там, где нельзя и невозможно, и начинается философия… Как вы от носитесь к модной сейчас гипотезе возможных психических миров В. П. Руд нева?
— Положительно. Рудневская гипотеза очень плодотворна. Вадим разрабатывает семантику возможных психических миров на примере раз# ных клинических метафор. В своих исключительно ярких книгах послед# них лет, которые мы с ним интенсивно обсуждаем, он последовательно разбирает культурные корреляты психопатологических феноменов (худо# жественные тексты), а не ограничивается только клиническими характе# ристиками. Он вывел психиатрический и психоаналитический дискурс на совершенно новый уровень, придал ему черты большого стиля.
— Чувствуете ли вы весь антипсихиатрический (гуманистический?) па фос данной гипотезы?
— Рудневу абсолютно чужда антипсихиатрия. Он весьма «пропсихи# атрический» человек. Я считаю ложной оппозицию «антипсихиатрия—гу# манизм». Они вполне уживаются вместе. Антипсихиатрический левый пафос в духе 1960#х годов неоправданно радикален. Он потерпел полное поражение. Сейчас от антипсихиатрии почти ничего не осталось. Её ос# новная заслуга состояла в том, что работа в психиатрических стационарах существенно гуманизировалась. Лучшие достижения антипсихиатрии ра ботают в рамках классической клинической психиатрии.
— Почему антипсихиатрия потерпела крах?
— Потому что антипсихиатры утверждали, что никаких душевных болезней нет, а есть только особые формы существования. Почти всегда эти идеи были встроены в левый дискурс (душевная болезнь как след ствие капиталистической эксплуатации). Но правда заключается в том, что психические болезни — печальная реальность, которая существует вне системы общественных отношений.
— Тогда о какой гипотезе множественности психических миров может идти речь, если не выделяется никакого нормального психического мира? Как сосуществуют разные психотипы?
— По принципу дополнительности (аналогия на физический прин цип дополнительности Н. Бора). Об этом много пишет Руднев.
— Отменяется ли физикалистская объективная реальность вследствие принятия этой гипотезы?
— Скорее, она релятивизируется.
— Не кажется ли вам, что в XX веке психология, психотерапия, психо$ патология и психоанализ играли в опасные игры с человеческой душой? Не заигралась ли психология с человеческим сознанием, с нивелировкой челове$ ка до аутистических психотипов (в связи с гипотезой возможных психиче$ ских миров)?
— Я пишу об этом в книге «Фундаментальная структура психотера певтического метода». В любой психотерапевтической технике очень серьёзен и важен игровой момент, но тем не менее всё здесь игрой не ограничивается. Язык, вопреки утверждениям Ж. Лакана, вовсе не исчер пывает всей терапевтической работы. Эссенциалистски ориентированная практика не отменяется. Клиенту неинтересны наши теории. Для него главное — устранить страдание.
— Как соотносятся языковые игры Л. Витгенштейна и игра в понимании Й. Хёйзинги? Не кажется ли вам, что языковые игры Витгенштейна переиг$ рывают игру Хёйзинги?
— Хёйзинга занимался сущностью игры, а для Витгенштейна слово «игра» не более чем метафора. По Витгенштейну, игра обозначает способ и правила коммуникации в какойто определённой ситуации. Концепция игры Витгенштейна — довольно бедная (по сравнению с теорией игры Хёйзинги и особенно Роже Кайюа, пока ещё очень недооценённого у нас автора).
— Языковая игра Витгенштейна тотальна…
— Отчего теряет всякую специфичность…
— И не позволяет объявить теорию языковых игр одной из языковых игр?.. В отношении теории языковой игры Витгенштейна не действует прин$ цип автореферентности (обратимости на себя), а если и действует, то тогда такая теория становится образцовой?..
— Да.
— Вы сейчас работаете над проектом под названием «аттрактив$ана$ лиз». В чём его суть?
— Прежде всего мне важно понять те стратегии авторов, которые за ключаются в том, чтобы привлечь к тексту как можно больше читателей.
Меня интересует эмоциональный смысл текстов.
— Такая психологическая методология текстуальности?
— Да, но для этого пришлось сделать много нового в психологии мо тивации. В чём смысл наслаждения от текста? Много уже говорилось об удовольствии от текста, но никто специально не занимался теорией тако го удовольствия. Так дальше жить нельзя. Нужно разобрать разные виды удовольствия.
— Не переходит ли вам дорогу Эпштейн со своей категорией интерес$ ного?
— Ни в коем случае. Я включаю этот блистательный концепт Миха ила в круг категорий привлекательности, — в целом моя теория о гедонис тичности. Я рассматриваю наслаждение как социальный конструкт, назы вая его гедонистическитрансгредиентным нарративом (ГТН), связан ным вовсе не только лишь с телесным.
— Существует ли критика вашего подхода?
— Сперва его нужно доработать и записать, а потом уже критиковать.
— В чём его новизна, если его же аналитический потенциал не позволя$ ет создавать подобного рода привлекательные тексты? Не является ли ваша психологическая деконструкция над текстом неоправданным расточитель$ ством, поскольку творчество по преимуществу суверенно и антисублима$ ционно?
— Пространство философского дискурса — это зона тотальной уязвимости. Отношение к критике как таковой у меня двоякое. Она очень важна как креативный вызов, как возможность включения рефлективных аспектов в собственный текст. Хорошая критика — это та, которая может потом стать частью твоего текста. С другой стороны, можно к ней отно ситься и полегче. Автору поэтических произведений по большому счёту наплевать на всё стиховедение со всеми Жирмунскими и Гаспаровыми, вместе взятыми. Но ведь существует и культура анализа текстов, и от неё уже никуда не деться.
— Скорее вы занимаетесь текстологической психологией?
— Вернее, психоанализом текста, в том числе и психологического (психология психологии).
— Что в вашем подходе от психопатологии?
— Эту тему я почти не беру в расчёт. Психиатрическая критика текста меня пока не очень интересует. Тут у нас главный специалист — Руднев.
— Не является ли ваш подход психологической разновидностью декон$ струкции?
— Если бы мне ктонибудь, наконец, внятно объяснил, что это та кое… У дерридианского концепта нет ни чёткой дефиниции, ни процеду ры применения.
— Не в этом ли философская чистоплотность Дерриды?
— Нам от этого не легче. Мне кажется, что Деррида не позаботился создать полноценный философский концепт. Когда я слышу слово «декон струкция», я сразу начинаю скучать. Как говорил Витгенштейн: «О чём нельзя говорить, о том следует молчать».
— Именно о деконструкции и невозможно ничего сказать — в этом весь расчёт Дерриды. И кстати, многие философы XX века (тот же Эпштейн) на$ чинают своё философствование с преодоления этого афористического тупи$ ка Витгенштейна…
— Давайте поподробнее рассмотрим афоризм Витгенштейна с точки зрения аттрактиванализа. В чём его привлекательность?
— Во$первых, высказывание Витгенштейна экономит языковые сред$ ства (экономическая теория языка). Во$вторых, оно делает упор на доязыковое в языке, — на дословное, во многом благодаря которому и существует язык.
— Это я называю примаризмом — стремлением к первичному. Далее здесь происходит отсечение суетного, преходящего — антиванитатизм (vanitas — суета, соответственно антиванитатизм — противосуетное). Та ким образом, мы смотрим не на рациональное содержание фразы (в дан ном случае, кстати, довольно сомнительное), а на то, чем же она нас при влекает. В данном афоризме Витгенштейна мы находим противосуетные, мистические, созерцательные ходы (своеобразный спектакль мудрости). Философ не просто пишет, но и создаёт свой авторский образ, — часто ориентируется на образ некоего мудреца (самый яркий пример тому — Хайдеггер). Вот как сформирована его аттрактивность.
— На чём приостанавливается ваша аналитическая работа в аттрактив$ анализе?
— Пока речь идёт о рабочем проекте. Когда выйдет книга, тогда и бу дет ясно, к каким методологическим тупикам я с ним вышел.
— Если развивать ваш подход, то он потребует целой школы. Есть ли у вас такие ресурсы?
— Поработаем. Я наметил для себя два десятка авторов, тексты кото рых будут рассмотрены с позиций аттрактивистики. Соответствующая часть книги будет разбита на два столбца — слева текст оригинала, спра ва — аттрактивистский комментарий. Моя главная задача — разработать методологический инструментарий такой работы. Аттрактивность и вос требованность текстов — разные вещи. Первая связана с гедонистич ностью, вторая — с социальными установками, модой, вкусами и т. д.
— Если углубить ваш подход, то получается, что автор релятивизирует$ ся до текста и даже хуже — до наслаждения собственным письмом как вос$ полнением своих же комплексов неполноценности?
— Заметьте, что я нигде не пишу о комплексе неполноценности. Кро ме того, аттрактиванализ не сориентирован на выявление типа личности автора текста.
— Какова, на ваш взгляд, мотивация наслаждения от собственного текста?
— Она первична. Иначе никто ничего не писал бы.
— Я согласен с вами, поскольку меня всегда поражала навязчивая пре$ допределённость творчества как по преимуществу сублимационного. Как в своё время Плотин стыдился находиться в собственном теле, так и я стыжусь своего творчества как результата какой$то сублимации. Что вы можете посо$ ветовать? Есть ли в этом что$то редукционистское?
— Я подхожу к этой проблеме с точки зрения категории эксельсизма (дискурс, ориентированный на возвышенное). Дискурс, в котором низ менное и возвышенное противопоставлены, достаточно широко распро странён во всех разговорах о статусе творчества. Пора отказаться от этого бинаризма. Если подходить к сублимации оценочно, то она целиком встроена в эксельсистский взгляд. То, что сублимировано, принимается как высокое, а то, что связано с желаниями, потребностями, принимает ся как низкое. Во всём этом прослеживается некий гедонистический предрассудок.
— У вас очень революционное различение сублимации, позволяющее ос$ вободить её от налёта перфекционистской причинности.
— Я считаю, что существуют авторы, которые из низменного могут создавать низменное, а из возвышенного — возвышенное, из низменно го — возвышенное, а из возвышенного — низменное. Традиционное по нимание сублимации как преодоления низменного в возвышенное — од на из нарциссических иллюзий культурного героя. Низменное и возвы шенное вообще можно не различать. Где у Сорокина низменное отделено от возвышенного?
— Я согласен с вами, но ведь у Сорокина очень силён гуманистический (если не антропологический!) пафос, спасающий автора в чистом искусстве.
Борьба с вашим подходом может быть осуществлена в рамках понимания ис$ кусства как чистого искусства, — философии как чистой философии, — пси$ хологии как чистой психологии.
— Ради бога, но это совсем другая аналитика. И не аналитика даже.
— Можно ли назвать ваш подход вторичным к исследуемым текстам или он по существу является новаторским?
— Время покажет. Новаторство замышляет не только его автор, но и читатель, интерпретации.
— Как вы относитесь к современной русской философии?
— Я очень хорошо отношусь к кругу лаборатории аналитической ан тропологии ИФ РАН — Валерий Подорога, Олег Аронсон, Михаил Рык лин, Елена Петровская. Очень внимательно и с большим удовольствием читаю всё, что выходит изпод пера Вадима Руднева, после чего мы обо всём этом с жаром спорим. Высоко ценю тексты Михаила Эпштейна. Из более молодых выделил бы Виталия Куренного. Ясная голова и отличное перо.
— Философы ревнуют к психологам, а психологи к философам. Кто ко$ го боится сильнее?
— Мне кажется, что психологов боятся больше. В образе психологи ческой практики есть чтото опасное, проникающее, обесценивающее, снижающее. Известны разговоры о том, как поэты боялись пройти пси хоанализ, чтобы не потерять свой творческий дар (например, известен случай Рильке, которого Лу Саломе пыталась привести к Фрейду, в анало гичном духе высказывалась и Ахматова). Относящая себя к пространству возвышенного дискурса философия чувствует в психологии чтото низ менное. Философы вправе говорить всё то, что они хотят, но и мы — пси хологи — вправе это делать. Самые интересные проекты возникают на стыке гуманитарных дисциплин. В гуманитаристике ничего несовмести мого нет.
— Чему вы отдаёте первенство в XX веке — психологии или философии?
— Я бы не упрощал понимание этих дисциплин в духе О. Конта. Отношения между психологией и философией очень сложные и разно образные. В самом деле — психологии в XIX веке практически не было.
В XX веке она создала мощную экспериментальную базу, но и у фило софии осталась своя ниша, на которую никто не покушается. Тот, кто ста вит вопрос о смерти философии, нарывается на очередной повод пере смотра философских оснований, способов философствования, концепту ализаций. Психология не участвовала в умерщвлении философии, может быть, гдето её потеснила (психоанализ), гдето отбила позиции. Но ду маю, что философия завоевала себе новые фронты. Философия неунич тожима.
— Какая позиция предпочтительней — позиция философа, который имеет личного психолога, или позиция психолога, который имеет личного философа?
— Я не знаю ни одного философа, который бы имел личного психо лога, и знаю очень много психологов, которые относятся к философии как к чемуто высшему.
— Не превратилась ли психология в XX веке в научную схоластику, по$ родив бесчисленное количество школ? Не проигрывает ли философия в том, что всё время остаётся в рамках абстрактного знания (тот же экзистенци$ ализм), в то время как смысложизненными проблемами обычного человека занимается психолог?
— Специфика философии — в её абстрактности, метафизичности, этим она и интересна. Гуманитарное пространство требует предельного либерализма. Экспериментальная психология не является схоластикой, поскольку предполагает ловко поставленный эксперимент и минимум теории.
— Были ли в XX веке попытки отказаться от Фрейда, подвергнув психо$ анализ забвению?
— Такие попытки существуют в любом психотерапевтическом мето де (экзистенциальная терапия, гештальттеория, когнитивная терапия).
Но психоанализ попрежнему живёт и процветает.
— Что ждёт психоанализ в будущем?
— В настоящее время психоанализ испытывает большие трудности, связанные с приходом психологии в университеты. Психоанализ вытес няется из университетов когнитивнобихевиористской наукой (особенно в США). Эксперименты с когнитивными и поведенческими проблема ми легче организовывать, чем психоаналитические. Какой психотерапев тический процесс исследовать более сподручно — тот, что длится пять сессий, или тот, что длится 300 сессий (как в случае с психоанализом)? Психоанализ сильно развит в странах «третьего мира» за счёт дешёвого лакановского варианта (например, в Латинской Америке — в Бразилии, в Аргентине).
— Какие тенденции — правые или левые — победили сейчас в психо$ логии?
— Правые. Психоанализ (кроме лаканизма) сильно обуржуазил ся, а лаканисты очень сблизились с левыми (как, например, Славой Жижек).
— Возможны ли новые правые движения в психологии, которые бы под$ держивали линию Супер$Эго?
— С линией СуперЭго сейчас в психологии очень плохо. Я не знаю никакого маломальски интересного психолога, который бы выступал с консервативных позиций. В России есть движение православной психо логии, но тексты авторов этого направления, мягко говоря, оставляют же лать лучшего.
— Правда, что в XX веке на смену этике пришла психология?
— Неправда. У этики остался суверенный статус. В настоящее время очень актуальна сфера биоэтики (как реакция на биоинженерию). Мне кажется, что этика переживает сейчас своё второе рождение.
— Почему вы называете изменённые состояния человеческого сознания по преимуществу гедонистическими?
— Термин «изменённые состояния сознания» никуда не годится. Его я заменяю на термин «гедонистически ориентированный нарратив». Это не столько состояние, сколько определённый социальный конструкт (включая мазохистские и садистические апроприации).
— Какова причина наслаждения в страдании?
— Садомазохистские процедуры изначально сориентированы на на слаждение. Они предполагают определённую долю безопасности и свое образный щадящий режим. Нельзя получить мазохистское наслаждение,
когда тебе, например, отрезают ногу. Эти процедуры имеют чаще всего явную игровую аранжировку.
— Похоже, что ничего, кроме гедонизма, нам в будущем не светит?
— Боюсь оказаться правым, но ничего особенного, кроме управляе мого и дозируемого гедонизма.
— Встраиваемого в евгенические проекты (киборгизация, постчелове$ ческая персонология)?..
— Только без этого. Я бы не хотел жить в постчеловеческом будущем.
Беседовал Алексей Нилогов
ОЛЕГ ФОМИН
Русский поиск философского камня
Олег Валерьевич Фомин (род. 1976) — современный русский философ, издатель, композитор, писатель, художник, поэт, переводчик. Ученик В. Б. Микушевича, Е. В. Го% ловина и Ю. Н. Стефанова. В 2005 году закончил аспирантуру Российского инсти% тута культурологии. Тема диссертации: «Мифологические экспликации дописьмен% ной истории на материале междуречья Оки и Волги». Читает лекции по герметике, истории традиционализма, сакральной лингвистике и сакральной географии в Шко% ле молодого традиционалиста. Автор двух книг: монография «Священная Артания» (М., 2005) и сборник «Сакральная триада» (М., 2005). Также двух поэтических сбор% ников: «Лунный календарь» (Красногорск, 1999) и «Карпограф» (Красногорск, 2001), последний в соавторстве с В. И. Карпцом и О. Ю. Грановским. С 1993 по 2006 год вы% пустил 24 номера альманаха «Бронзовый Век», посвящённого различным аспектам традиционализма и мистической поэзии. Печатался в различных журналах и науч% ных сборниках как культурфилософ, теоретик литературы, поэт и прозаик: «Жур% нал ПОэтов», «История», «Литературная газета», «Литературное обозрение», «Наша школа», «Первое сентября», «Планета Internet», «Россия и гнозис», «Элемен% ты», «Языки культуры: взаимодействия». Наша беседа с Олегом Валерьевичем со% стоялась в рамках проекта «Современная русская философия»43.
— Олег Валерьевич, вы известны прежде всего как одна из ключевых фигур современного российского традиционализма. Расскажите, пожалуй ста, каков ваш путь в философии?
— Как философ я сложился на стыке неоплатоники, герметической философии, а также традиционализма геноновской формации. Совре менный российский традиционализм я пытаюсь примирить с античной и средневековой философией (что для последовательного традиционализ ма представляется возможным лишь относительно новоевропейской ин теллектуальной техники и языка). С моей точки зрения, конфликтность различных философских систем, начиная досократиками и заканчивая Хайдеггером, является мнимой, будучи обусловленной, с одной стороны, «позицией наблюдателя», а с другой — «меонизацией логосов». Таким об разом, множественность форм философских систем обнаруживает себя как продукт «порчи языка». При таком взгляде метаязык традиционализ ма (по определению А. Г. Дугина) представляется наиболее адекватным для описания бытия, поскольку, основываясь на изначальной нечелове ческого происхождения истине Традиции, учитывает помянутую «меони зацию логосов» и привлекает различного рода философские системы как окказионально оперативные.
В своих работах я предпринимаю «возврат к бытию», к онтологии, ут верждая, что последняя не только изоморфна гносеологии, но в конечном счёте с нею совпадает, так же как бытие совпадает с сознанием. Онтоло гический взгляд на мир может считаться более предпочтительным лишь в силу того, что он в большей степени коррелирует с традиционными воз зрениями. Отсюда проистекает возможность онтологической редукции понятий, заимствованных из гносеологии. В частности, кантовская «вещьвсебе» может быть опознана как чистая субстанция, меон. А фих теанская «точка равнодушия» как единство предела и беспредельного.
— Что представляет собой ваша философская система?
— Моя философская система большей частью наследует Плотину, александрийской герметике, Дионисию Ареопагиту, Василию Валентину, Фулканелли. Базовые начала этой онтологии: сущность (душа, сульфур), субстанция (дух, меркурий) и форма (тело, соль). Становление представ ляет собой сверхэротизм этих начал, обеспеченный беспрерывным актом абсолютной субстанции (дух, материя, хаос, меон). В этом акте беспре дельное (апейрон) или полюс растворения (меон) как первая субстанция и множественное приходит во взаимодействие с пределом (перас) или чисто потенциальным полюсом сгущения, каковой можно поименовать первой сущностью и Единым. Их совокупление порождает мысль первой сущно сти о себе самой, что можно именовать первой формой или Сыном, нусом. Но акт меона непрерывен, и он с неизбежностью ведёт к «философскому инцесту», порождая бесчисленные формы или «цепь миров». Такая после довательная и непрерывная «множественность состояний бытия», где оп ределённость последних для интеллигибельного взора искателя обеспече на лишь их происхождением от великого предела, предполагает субордина цию форм, при которой всякое «верхнее» может быть представлено как сущность, «нижнее» как субстанция, а то, что «между ними» — как форма.
Поскольку же всё в своём основании беспредельно, то можно сказать, что каждая из форм проницает все прочие («всё едино» — Εξ το παξ). Причём каждое из состояний бытия относительно прочих обнаруживается и как сущность, и как субстанция, и как форма. Что же касается Единого и меона, то они «с обратной стороны бытия» «выворачиваются» в «точке равнодушия», каковую предпочтительно полагать Великим Единством. Та ким образом, схематически всё сущее и несущее следовало бы изобра жать как сомкнутое кольцо, разумеется учитывая то обстоятельство, что «на самом деле» «там» протяжённость, а следовательно, и возможность какоголибо геометрического расположения или того или иного точного соответствия имеет место лишь на сравнительно «небольшом» «отрезке» «цепи миров».
— Каков ваш основной философский метод?
— Из вышеуказанных онтологических оснований органически выз ревают разрабатываемые мною философия языка, философия простран ства и герметическая философия, занимаясь которыми я применяю метод так называемого гностического структурализма.
Следуя за В. Б. Микушевичем, я говорю о сущностном единстве всех языков, составляющих на самом деле один язык, доступный различным народам лишь в частях своих только потому, что формы языка (собственно языки) постоянно меонизируются, являясь более или менее устойчивыми в своём первичном логосном проявлении (особенно это касается пара дигм, вообще системы флексий и т. д.). Всем явлениям в мире находятся не только эйдетические, но и логосные соответствия, причём не номинальные, а реальные. Эманируя в меон (на самом деле было бы правильно сказать, что «снизу вверх» эманирует сам меон), логосы «обжигают» его именами, как бы оставляя в материи отпечатки, которые впоследствии под воздей ствием «нижних вод» меона деформируются (время). Отсюда возникает и особая философия пространства. Пространство содержит в себе выпук лости и вогнутости, сверхэротически тяготеющие друг к другу (метафора как тождество разного) и друг от друга отталкивающиеся (повтор как раз ность тождественного). Отсюда возникают виды и роды, формы, подобные друг другу, но друг от друга отличные (например, деревья в лесу или вооб ще растения, столь различные в своих видах и родах, но единые по сущ ности как растения). То же самое можно сказать и относительно гносео логии. Сознание (эйдетический мир) и бытие (проекция эйдосов на мате рию) не параллельны друг другу, это фактически одно и то же. Никакого «умножения сущностей» здесь нет и умножать сущности действительно не стоит. Речь всегда идёт об одном, только на разных стадиях проявле ния. Что же касается собственно языкакакязыка, то здесь мы имеем де ло с акустическими (фонемы) и символическими (знаки) формами, не прос то изоморфными логосамименам, формирующим пространство, а едины ми с последними в своём эйдетическом истоке. Язык устный предшеству ет языку письменному (из Традиции хорошо известно, что звук более пер вичен, а значит, и более сущностен, чем образ), поэтому, разыскивая эйдетический исток имён, предпочтительнее обращаться к фонемам. Из компаративной и не только компаративной лингвистики хорошо извест но такое явление, как редукция, когда окказионально, находясь в опреде лённом фонетическом контексте, одна фонема может «перетекать» в дру гую (например, t — th — s). В повседневной практике используются фоне мы, имеющие чётко очерченные характеристики, что является залогом понимания. Незначительные акустические отклонения в речи допусти мы, но чем они сильнее, тем затруднительнее понимание. Однако в ко нечном счёте различение фонем становится возможным лишь благодаря фонетическому контексту. Сами же по себе отклонения от нормы таковы, что все фонемы фактически выстраиваются в субординативную цепочку форм, различаемых лишь по степени тех или иных параметров (глухость, твёрдость и т. д.). Эта цепочка представляема как круг, являющийся, как минимум, схематическим и формальным отображением всего сущего и не сущего. Соответственно, проводя условную дистинкцию устойчивых зву ковых паттернов (например, *tr — *rt, *pls) и зная всё поле их применения относительно тех или иных объектов и явлений, возможно нащупать се мантический ореол каждого из них. Эта сакральнофонетическая проце дура не имеет никакого отношения к исторической лингвистике (если угодно, лингвистике горизонтальной, «синтагматической»), обнаружива ющей, да и то в лучшем случае, не более чем продукт мифопоэтического творчества древних (бывших на самомто деле проводниками объективно существующих форм). Напротив, здесь открывается объективная пара дигма сакральных корней, представляющая собой также кольцевую сис тему. Эти корни формируют пространство, определяют объекты и явле ния. Одно и то же сочетание консонантов, обнаруживаемое в различных корнях, позволяет говорить об эйдетической общности обозначаемых ими объектов и явлений. Впрочем, не следует забывать о первичном («ва вилонское смешение») и вторичном (время) воздействиях меона. Учиты вая только что сказанное, следует крайне критически подходить к паро нимическим аттрактантам, понимая, что актуальная «корнесловная» связь может оказаться всего лишь мимолётным, по сути меоническим и ризоматическим переходом от одной формы к другой.
— Что такое ваша философия пространства?
— Что касается философии пространства, то помимо сказанного сле дует обратить внимание также на мою теорию зон, согласно которой лю бую географическую протяжённость можно представить как схематиче ский условный круг с полюсами солнцестояния (север и юг) и равноден ствия (запад и восток). Также очевидным образом обнаруживаются центр и периферия. Основные 9 зон (центр, север, северозапад, запад, юго запад, юг, юговосток, восток, северовосток) могут быть дополнены про межуточными по отношению к центру и периферии (всего 17 зон). Зная из компаративной Традиции символизм географических направлений, центра и периферии, можно создать идеальнокачественную карту прост ранственной протяжённости, которая, будучи наложенной на карту акту альную, — с учётом ландшафта (включая продукты человеческой деятель ности), топонимики, легенд, истории, — даст возможность «читать прост ранство» как связный мифологический текст. На «круг земной» возможно спроецировать и другие универсальные формы — сущности, формы и субстанции, фонемы, зодиак, рунический круг, герметические начала, что также даёт дополнительные возможности для «чтения». Вся земная по верхность может быть представлена как круг, содержащий в себе беско нечное множество кругов (подобно иезекиилевскому «колесу в колесе»), что создаёт бесконечное множество пересечений, «размываемых» к тому же непрерывным воздействием вод меона. Однако система не обрушива ется в абсолютную энтропию, поскольку остаётся более сильное эйдети ческое воздействие «основных» полюсов земной поверхности, а также того, что в интегральном традиционализме принято именовать «духовны ми центрами». «Совместить» малые круги с большим кругом позволяет общая теория геодетерминизма (от Гиппократа до Карла Шмитта), са кральная география (Николя ЛанглеДюфренуа, Рене Бюшер, Гастон Жоржель), геополитика (в особенности её общетеоретическая часть в том виде, как она содержится, например, в приложениях к «Основам Геополи тики» А. Г. Дугина).
— Актуальна ли сейчас герметическая философия? Продолжается ли алхимическая традиция поиска философского камня?
— Особенности моего исследовательского подхода к герметической философии напрямую связаны с описанной выше методологией. Философ ский субъект алхимии рассматривается как «чудо Единого», в каковом континуально соединены сульфур, соль и меркурий, соответствующие сущ ности, форме и субстанции. Алхимия — наука традиционная, сложная для понимания, по словам Фулканелли, только потому, что она есть «наука сокровенная». В алхимии не может быть «прогресса открытий». Суть ра боты герметического философа заключается, с одной стороны, в откры тии уже известных Адептам, вопервых, философского субъекта, вовто рых, режимов для себя самого. А с другой стороны, в открытии того и дру гого для прочих искателей, но только в таком виде, чтобы запутать празд нолюбопытствующих и злонамеренных и увести их от истинного знания.
Алхимия — наука «онтологическая», наука о бытии, чьей оперативной за дачей является повторение в микрокосме большого шестоднева Божест венной креации. Поэтому следует отвергнуть как спиритуалистическую («внутренняя духовная работа» над собой), так и материалистическую трактовку алхимии (спагирическая хризопея, получение золота). В этом отношении мои герметические взгляды по большей части наследуют ос новные положения французской алхимии XX века — Фулканелли—Эжен Канселье—Клод д’Иже. Оригинальным в своей герметической филосо фии я считаю лишь привлекаемый материал, а именно: русские изразцы, барельефы белокаменных церквей, некоторые иконы, русская топоними ка, русские легенды.
— Кроме ваших философских произведений вы популярны как музы$ кант. Расскажите о вашем музыкальном творчестве.
— В 2001 году я основал музыкальный проект «Злыдота». Я обраща юсь к протославянской музыкальной эстетике (гусли, лютня, колесная лира, жалейка), определяя стиль «Злыдоты» как «гетику». Исследуя доба ховскую музыкальную традицию, я вскрыл целый ряд ладовых, мелоди ческих и гармонических принципов, которые и были применены в «Злы доте». Результатом стал сплав плясовых скоморошин, гуслярских попе вок, античных мелосов, средневековой православной церковной музыки и хлыстовскоскопческих «розпевцев». Осенью 2004 года коллекционным тиражом был издан первый промоальбом «Злыдоты».
— Чем вы занимаетесь в настоящее время?
— В настоящее время я веду в издательстве «Энигма» алхимическую серию «Алый Лев», где под моей научной редакцией и с моими коммента риями уже вышли: «Алхимия» Эжена Канселье, «Философские обители» Фулканелли, «Убегающая Аталанта» Михаила Майера. Готовятся к печа ти «Новая Ассамблея химических Философов» Клода д’Иже и «Тайна собо ров» Фулканелли. Кроме этого готовлю 25й номер альманаха «Бронзо вый Век», который будет посвящён гностицизму.
Беседовал Алексей Нилогов
МИХАИЛ ЭПШТЕЙН
Умножение сущностей
Михаил Наумович Эпштейн (род. 1950) — русскоамериканский философ, филолог, культуролог, семиотик, писатель, эссеист. Основная сфера его интере сов: современные художественные и интеллектуальные течения, религиознофило софские искания поздней советской и постсоветской эпохи, русская литература и философия XIX и XX веков («Парадоксы новизны. О литературном развитии» (М., 1988), «“Природа, мир, тайник вселенной...” Система пейзажных образов в русской поэзии» (М., 1990), «Новое сектантство. Типы религиознофилософских умонастроений в России (1970–1980е годы)» (М., 1994) и др.). Профессор в универ ситете Эмори (Атланта, США). Автор таких философских бестселлеров, как «Фи лософия возможного. Модальности в мышлении и культуре» (СПб., 2001), «Проек тивный философский словарь: Новые термины и понятия» (СПб., 2003, в соавтор стве с Г. Л. Тульчинским), «Знак пробела: О будущем гуманитарных наук» (М., 2004). В издательстве «Высшая школа» вышел его двухтомник «Постмодерн в русской литературе: Учебное пособие для вузов» (М., 2005) и «Слово и молчание. Метафизи ка русской литературы» (М., 2006). В Самаре выходит его собрание сочинений «Ра дуга мысли. Собрание работ в семи цветах». Эта многотомная «Радуга» обнимает семь дисциплин: литературоведение, культурологию, лингвистику, философию, тео рию и историю идей, мифо и религиоведение и эссеистику («нулевую дисциплину»). Создатель творческого словаря русского языка «Дар слова. Проективный лексикон». Наша беседа с Михаилом Наумовичем состоялась в рамках проекта «Современная русская философия»44.
— Михаил Наумович, давайте начнём с самого провокационного вопро$ са — о возможности такой философской науки, как потенциология, основа$ телем которой вы себя считаете. Возможно ли ею пренебречь, исходя из её же внутренней логики?
— Пренебрегая ею, вы тоже пользуетесь ею. А пользуясь ею, вы мо жете ею же пренебрегать. В заключении моей книги «Философия возмож ного» сказано: «Читатель в конце концов может задать вопрос: а не есть ли перед ним ещё один вариант метафизики — метафизика возможного, как некоего первоначала, из которого исходят все другие начала, в том числе реальность сущего? На этот вопрос следует ответить: и да, и нет. Да, перед читателем ещё один вариант возможной метафизики, но сама эта метафи зика подчёркивает свой возможностный характер, полагает рядом с собой другие философские возможности, учреждает множественность метафи зик как самый радикальный способ устранения властного зла метафизи ки при сохранении и развитии её творческого потенциала. Принять данную метафизику возможного — значит принять её как возможность построения других метафизик». Нужно множить метафизики, а не устра нять метафизику как таковую, к чему стремился логический позитивизм и отчасти деконструктивизм. Критика метафизики обычно обусловлена тем, что «большая метафизика» трансформируется в тоталитаризм, в по литическую унификацию, интеллектуальный гнёт, авторитарность кате горий. Можно стирать следы метафизики, а можно множить её следы, создавать малые метафизики, работать над метафизикой для каждой ве щи, о чём в своё время мечтал Ницше. Это напоминает сказку Андерсена «Огниво». Старуха фрейлина выследила собаку, похищавшую королев скую дочь, и поставила на воротах того дома, куда была унесена добыча, меловой знак. Можно было стереть этот след, но умная собака придумала иначе — к утру на всех домах города стояли точно такие же меловые зна ки. Следы метафизики можно ставить на любые вещи, в том числе и на категорию возможного; тем самым нам удастся устранить зло метафизики как единоначальствующей категории. Избавиться же от неё вообще невозможно.
— «Вечное возвращение» метафизики?
— Можно и так сказать.
— Потенциология есть логическое продолжение деконструкции?
— Да, её можно так рассматривать. Но если деконструкция является по преимуществу критикой метафизики и её текстов, то философия воз можного — это положительная (де)конструкция, которая не подрывает доверия к данному тексту, ансамблю знаков или идей, а создаёт альтерна тивные ансамбли, расширяет область мыслимого. Деконструкция — это критический метод левого академического истеблишмента. Но крити цизм вообще — это уходящий способ философского обращения с предме том. Критицизм обусловлен представлением о редкости, онтологической бедности мира: чтото в нём заслуживает выкорчёвки, а на место непра вильного нужно насадить правильное, для множественных вещей одного ряда не остаётся места. Но если мы исходим из презумпции «щетины Эпштейна» (термин А. С. Нилогова), умножения сущностей, то пускай эта щетина не сбривается «бритвой Оккама», а растёт, топорщится во все стороны. В результате вместо критики как суда, суждения, осуждения мы обнаружим праздничное мышление, а именно — умножение сущностей. Потенциология — это конструктивное мышление, которое рядом с на личным — и благодаря ему — обнаруживает множество пустующих мест, подлежащих заполнению, потенциации. Это импульс овозможнить лю бой предмет, сделать мыслимыми, а значит, и возможными его инаково сти, альтернативы. Это не сомнение в том, что написанное соответствует истине или намерению автора, а предположение о том, что всё написан ное содержит в себе потенциал ненаписанного. Потенциология — третья важнейшая философская дисциплина, наряду с онтологией и эпистемо логией. Область её интересов — предикат мочь (а также — может быть, возможно), тогда как в центре онтологии — быть, эпистемологии — знать. Подробнее обо всём этом — в книге «Философия возможного».
— Почему у вас столь резкое неприятие критики, которая, например, в рамках той же самой деконструкции лишь показала тщетность разрушения логоцентризма логоцентристскими же терминами?
— Метафизику можно устранять только средствами самой метафизи ки. В этом — весь Деррида. Но сам он, следуя методологии осторожности, старался вычистить метафизику из своих высказываний, тогда как есть и методология дерзости, которая множит метафизику. Из метафизического круга вырваться невозможно. Критика должна иметь место, но вся гума нитарная наука ныне погружена в критицизм, в ней остаётся мало твор ческого, проективного, конструктивного. Критицизм убавляет бытие, всё время чтото вычёркивает из него, — в итоге можно оказаться перед бездной ничто. Мне как пишущему всегда хотелось чтото зачинать и рождать.
— В рамках деконструкции выработался свой собственный жанр крити! ки — «забыть», который придумал Ж. Бодрийяр («Забыть Фуко»). Филосо! фия забвения является реакцией на неустраняемость метафизики из филосо! фии. Подвергнуть всё забвению — не в этом ли пафос постмодернизма?
— Забвение невозможно. Как только вы пытаетесь чтото забыть, оно ещё больше врезается в вашу память. Забвение как сознательная уста новка — это творческая игра памяти, её самопреодоление и самовозгон ка. Можно стирать следы, а можно множить следы стирания, множить забвение, то есть попытки памяти уйти от себя, чтобы ещё сильнее пе режить незабвенность. Но почему «забыть», почему следостирание, а не следоумножение, не травмы рождения — благородные травмы? Мы не должны кровавить бытие «бритвой Оккама», мы призваны не уменьшать бытие, а, напротив, приумножать — не только существования, но и сущ ности.
— Негоэнтропийное, по Флоренскому, свойство культуры и философии?
— Место философии — в самом начале зачинания нового бытия, на его переднем крае. Мысль обладает онтологическим первенством, про кладывает путь бытию (в культуре, в истории). Мыслимое становится воз можным и только потом и потому — действительным. Философ, имею щий дело с мыслимым, должен быть особо чувствительным ко всему но вому, зачинательному.
— В гуманитарных науках существует мнение о том, что именно текст борется с физической энтропией, упорядочивая реальность и позволяя сохра$ нить идеальные смыслы после смерти их творцов. Не выродится ли «щетина Эпштейна» в «бороду Эпштейна», не боитесь ли вы запутаться в собственной бороде?
— Нелегко множить сущности и создавать новое, потому что то и де ло попадаешь в ранее существующую сущность. Я не хочу упрощать за дачи. Новые сущности создаются очень трудно, для них нужно искать глу бокие лакуны в культуре, а культура и так переполнена, в том числе оби лием мелочей.
— Не слишком ли аргументированно вы доказываете свою позицию?
— В этом я вижу смысл философии — наиболее строгое доказатель ство наименее очевидных утверждений. Если мы просто рассеиваем странные утверждения, не берясь их обосновывать, то они увеличивают хаос. Это умножение глупостей. Чтобы умножение было умным (зачина тельные логосы, «logoi spermatikos»), нужно к каждому утверждению по мимо его малоочевидности, странности, удивительности прилагать неко торую систему доказательств. В этом напряжении между невероятностью тезиса и достоверностью аргументации как раз и рождается категория ин тересного. Само по себе умножение сущностей неинтересно…
— Но почему же? Разве неинтересно умножать сущности, которые за$ прещают умножать сущности?
— Интересно то, что проходит через угольное ушко мышления. Само понятие «интересное» — от латинского inter esse, «быть между». Строгость доказательства и странность доказуемого вместе образуют критерий инте ресного, предполагающий бытие между взаимоисключающими вещами.
— Тогда именно строгость доказательства выступает своеобразной раз$ новидностью «бритвы Оккама»?
— Конечно, но иначе мы обречены на произвол бреда, бессмыслицы, пустословия, умножения пустот.
— Но ведь в языке невозможна бессмысленность… Семантическая замкнутость языка не позволяет высказывать абсурд.
— Позволяет. Под бессмысленностью я имею в виду следующее: на пример, Велимир Хлебников придумал более десятка тысяч новых слов, в том числе ряд гениальных, но далеко не все из них обладают внутренней напряжённостью сочетаемых морфем. Напряжение — это неслиянность и нераздельность, то есть одновременно и неожиданность, и осмыслен ность сочетания трудносочетаемых частей. Не любое новое слово или высказывание осмысленно. Нужно различать — в этом наша святая обя занность.
— Но каков критерий различения?
— Смысловая взрывчатость — и при этом внутренняя необходи мость, органика целого. Если я скажу «траммасам» или «дрнукша», то это просто бессмыслица, и совсем другое, если у Хлебникова рождается сло во вещьбище — место, где лежат вещи, пребывают в стадном состоянии, пасутся; по аналогии с пастбищем и лежбищем. Абсолютный критерий ос мысленности суждения дать невозможно. Творческий акт непредсказуем. Я создал больше тысячи слов в рамках проекта «Дар слова» и знаю, что каждый раз это случается поновому.
— Планируется издание словаря?
— Да, у меня есть договор с издательством «Русский язык». Возмож но, словарь будет называться «Языководство. Словарь лексических и кон цептуальных возможностей русского языка». Или: «Дар слова. Проектив ный словарь русского языка». Образование новых слов всегда происходит поразному. Но есть одна особенность — новые слова приходят гнёздами, ассоциативно. Я также работаю с грамматическими категориями, пытаясь расширить их потенциал в языке (например, категория переходности, причастия будущего времени). Желающие могут посмотреть «Дар слова» в Интернете http://www.russ.ru/antolog/intelnet/dar0.html.
Там же есть форма для подписки (разумеется, бесплатной). Выпуски рассылаются раз в неделю по электронной почте.
— У вас есть какая$то творческая лексикографическая школа? Эпштей$ нианцы?
— Я занимаюсь этим самостоятельно. Есть люди, которые сочувству ют и сомыслят моим проектам, я поддерживаю с ними диалог. Читатели отвечают, предлагают свои слова. Стараюсь поддерживать язык в разгоря чённом, энергийном состоянии словотворчества и мыслетворчества. По тенциология сама должна находиться в потенциальном состоянии, не за стывать в систему.
— Может быть, это кропотливая работа скорее не философа, а фи$ лолога?
— Философия XX века вся пропитана проблемами языка, лингвоце нтризмом. Я ставлю ударение на философском синтезе, а не анализе. Это синтезирование — из языкового вакуума, из несловности — новых члено раздельных, энергийных по смыслу единиц философской речи. Это смеж ная работа — на грани философии и филологии, в духе междисциплинар ных исследований. Сейчас границы философии и филологии сильно раз мыты. Кто такой Жак Деррида — филолог или философ? Долгое время он числился филологом и лишь в 1990е годы стал считаться философом.
В американских энциклопедиях он проходил по графе «literary criticism». — Всё$таки кто вы больше — философ или филолог?
— Трудно рассечь себя на части, да и выбор этот необязателен. Слово «филология» отсутствует в американской научной номенклатуре. Зато есть такие специализации, как «cultural theory», «cultural studies», «critical theory», «literary theory», «comparative literature». Моё официальное зва ние — профессор теории культуры и русской литературы.
— Не является ли культурология гуманитарной лженаукой?
— На Западе нет такого термина «культурология», а есть «cultural theo ry». Думаю, что культурология не является лженаукой, поскольку именно ей удаётся наиболее эффективно заниматься междисциплинарными ис следованиями в гуманитарных областях.
— Не является ли потенциология разновидностью протеизма в фило$ софии, позволяющего каждому философствующему человеку порождать свои собственные философские миры (семантика возможных философских миров?).
— Не было бы ничего плохого в таком миропорождении. Модаль ность «мочь» действительно связана с актом порождения нового, с «про то», откуда и «протеизм». Я писал об этом в другой своей книге — «Знак пробела. О будущем гуманитарных наук».
— По прочтении книги «Философия возможного» создаётся такое впе$ чатление, что философия только тем и жила, что создавала возможные миры.
— Так оно и было, но философия редко осознавала себя в этой роли. Из великих классических мыслителей, пожалуй, только Николай Кузан ский последовательно ставил возможное выше действительного. Вера, надежда, любовь, страх, сомнение, воображение — все эти способности ума и духа обращены именно в область возможного. Но потенциологиче ская проблематика философии была до сих пор заслонена онтологиче ской и эпистемологической. Потенциология пробивала себе путь через теорию акта и потенции, теорию вероятности, квантовую механику, фило софию статистики, теорию игр. Пришла пора слить эти разрозненные линии возможностного мышления в специальную дисциплину — потен циологию, проблемы которой невозможно решить ни в онтологии, ни в эпистемологии. Надо вникнуть в категорию мочь, ни в коем случае не онтологизируя и не эпистемологизируя её. Основные модальные катего рии — возможное (то, что может быть), невозможное (то, что не может быть), случайное (то, что может не быть), необходимое (то, что не может не быть). Потенциологический срез ортогонален срезам бытия и познания. — Возможны ли онтология и эпистемология возможного?
— Да, точно так же, как возможны потенциология бытия и потенци ология знания. Конечно, они могут друг на друга накладываться, пересе каться. Но всё дело в том, чтобы не сводить одно к другому.
— Нашли ли вы сторонников своей потенциологии в США?
— Нужно учитывать специфику американской цивилизации. Сказать о том, что какаято философская идея распространяется в американском обществе, практически невозможно. Распространяются образы, фильмы, политические идеи. Философские идеи вообще не имеют никаких шан сов на распространение.
— К какой философской традиции вы себя относите?
— Я выделяю условно две разновидности философии: Filosofia — творческая, смыслопорождающая философия и Philosophy научная, смыслоописательная философия (filosofia — это философия поиталь янски, поиспански, да и порусски латиницей, тогда как philosophy — англоязычный термин). Отношу себя скорее к первой, равно как и рус скую и континентальную философию, хотя в ней есть свои philosophers. Но вообще philosophy — это в основном англоамериканское изобре тение, хотя есть и в этой традиции свои filosofers (например, Г. К. Честер тон, К. С. Льюис). Можно это разделение задним числом спроецировать и на античность. Кто такой Платон, как не представитель именно filosofia (любовь к мудрости, радость мышления). Аристотель — это уже скорее philosophy.
— Кем в США быть институционально почётнее?
— Конечно же, представителем philosophy. Там господствует аналити ческая философия. Европа местами также американизирована.
— Вы преподаёте в университете Эмори (Атланта), в котором в своё вре$ мя преподавал и авгур постмодернизма — Жан$Франсуа Лиотар. Вы были с ним знакомы?
— Да, я пересекался с ним на лекциях, профессорских собраниях, вечеринках. Пригласил его в члены редколлегии журнала Symposion. A Journal of Russian Thought — он дал согласие. Это был единственный жур нал на английском языке, посвящённый целиком оригинальным трудам о русской мысли (есть ещё один, где печатаются переводы русской филосо фии). Вышло четыре выпуска с 1996 по 2001 год. Сейчас издание приоста новлено.
— С какими американскими философами вы знакомы?
— С Томасом Флинном, с Дж. Лакоффом, с Майклом Джонсоном, с Дагласом Хофштадтером, Ричардом Рорти (кстати, впервые я его увидел в России). В США другая психология профессиональной среды — люди в акте личного знакомства мало что прибавляют к тому, что публикуют. — Чувствуете ли вы, находясь в Америке, что американская философия сейчас выбилась в мировые философские лидеры?
— Не знаю, как на это ответить. В США происходит постепенное вы теснение континентальной философии с философских кафедр, побежда ет аналитическая философия. На мой взгляд, это тупиковый путь. Фило софия в США — достаточно тонкая академическая прослойка. Философы не обладают политической властью.
— А Хомский?
— Но ведь он же лингвист, а не философ. Его лингвистические дос тижения фундаментальны. Политические взгляды Хомского прошли ми мо меня.
— Выходит, что американская философия не такая уж и влиятельная?
— Она влияет на состояние мировой философии, но не на состояние американского общества. Академические книги в США воздействуют на общественное мнение ещё меньше, чем в России. Средние тиражи — до 500 экземпляров.
— Помогает ли вам знание английского языка в продвижении своих фи$ лософских взглядов, в целом мышлению? Или это лишь техническое сред$ ство перевода мыслей?
— Конечно, помогает. Когда один язык накладывается на другой, мир становится объёмнее. Я вообще оперирую таким понятием, как «сте реотекстуальность». Как нам даны два глаза, два уха, чтобы воспринимать мир и звук объёмно (отсюда стереокино, стереомузыка), так же и два язы ка, чтобы воспринимать объёмно мысль.
— Вы думаете на двух языках?
— Да, но родной язык всегда остаётся на первом месте.
— Мне кажется, что в вашей философской личности проявляется дис$ сонанс между революционностью высказываемых вами идей и человеческой сдержанностью, скромностью, интеллигентским комплексом? Например, вы говорите, что вам приходится стесняться.
— А что плохого в интеллигентности и даже в стеснительности? Че ловек внимательно выслушивает, старается аргументированно отвечать… — В науке это приветствуется, но всё$таки в философском поле есть и профетический пафос, и физиология, и образ жизни.
— Философы чаще были застенчивыми людьми. Плотин стыдился того, что обременён телом. Гегель считал свою мысль венцом самопозна ния Абсолютного Духа, но при этом мямлил на лекциях. Трудно держать в голове весь мир и ощущать себя его крошечной, уязвимой частицей, су ществом с руками, ногами, ушами. В вашем вопросе содержится русское представление об интеллигенте как о человеке, размахивающем руками. Западные интеллектуалы, которым у нас подражают, как революционе рам мысли, — это, как правило, мирные, тихие люди.
— Чтобы ваша потенциология получила широкое признание, её должен реализовывать философ$варвар.
— Нет, почему? Варвар разрушает. Я не хочу ничего разрушать или силой навязывать. Посмотрите на фигуру Ницше. Такой уж ниспроверга тель, однако в жизни был тишайшим, смиреннейшим человеком. Буйных философов нет, они в палатах для умалишённых.
— Вы не признаёте за философией дискурс насилия? Весь XX век фило$ софия прошла под лозунгом воли к власти, в том числе и в философии.
— Послекантовская философия являет собой сочетание критицизма и активизма. Активистская философия (Ницше, Маркс, Фуко) действи тельно превращалась в дискурс насилия — левого, правого. Я не поклон ник Фуко. Особенно его взглядов на интеллект и власть. По Фуко, интел лектуал должен осознавать себя прежде всего выразителем определённых политических взглядов. Это реакционный жест. Истина не есть режим власти, не есть винтик в государственной или партийной машине. Наобо рот, сама политическая власть — это лишь один из элементов культуры. Интеллект нуждается в универсальности, его нельзя политизировать. Нужны вневластные рычаги, чтобы освободить человека от режима поли тической власти (левой, правой, какой угодно). Истина делает человека свободным.
— Делёз и Гваттари в книге «Что такое философия?» заочно ответили Фуко, сведя философию как производство концептов к сверхдоксе (urdo$ xa) — сверхмнению, принципиально ничем не отличающуюся от науки или народной философии.
— Что же тогда отличает интеллектуала от политика, демагога, демон странта? Очевидно, сам интеллект. Я признаю апофатическую универ сальность, а не догматическую; универсальность не как определённый набор ценностей и императивов, но как способность двигаться за предел любой исторически данной и политически закреплённой системы цен ностей. Именно универсальность позволяет нам занимать критическую позицию не только по отношению к другим, но и по отношению к самим себе. Она же, кстати, позволяет осуществлять сравнительную оценку раз ных культур именно по степени их универсальности. Когда американские интеллектуалы критикуют американскую культуру за то, что она многого не вмещает, то это признак её достоинства. А какаянибудь полинезий ская культура себя за это не критикует.
— Я согласен с вами, что европоцентризм обратим против самого себя. Именно это и делает его более универсальным критерием, чем, например, азиоцентризм или исламоцентризм.
— Да, европоцентризм — это акт самокритики, контраформативный речевой акт. В момент самокритики я уже другой. Есть культуры бо лее универсальные и менее универсальные. Лиотар считал, что именно засилье универсальности привело к величайшим бедствиям в истории XX века. Это неверно. На самом деле вовсе не просветительский «универ сальный разум» несёт ответственность за трагедии XX века, а партий ность, классовость, национализм, то есть попрание всечеловеческой универсальности: один класс или нация выше других, против других. Отсюда — фашизм, нацизм, коммунизм. Какая же это универсальность? С какой стати они решили, что это наследие Просвещения?
— Но с другой стороны, поскольку европоцентризм обладает свойством автореферентности, что и позволяет ему поставить себя же под вопрос, по$ стольку он и принимает на себя серьёзное основание решать за остальные центризмы.
— Превосходство заключается не в диктате, а в акте самокритики, са моснятия, самотрансценденции, способности вобрать в себя иное. Разу меется, если либерал считает, что каннибальская культура выше его либе ральной, то он имеет право отдать себя на съедение. Но только себя, не других.
— Зачинание нового… Значит ли это, что зачинание нового возможно только на английском языке?
— Нет, дух дышит — и пишет, где хочет. Благая весть может прихо дить на любом языке. Я родился в русской культуре, предпринимаю уси лия по расширению русской ноосферы, лингвосферы. Но в современной геополитической ситуации русский язык претерпевает стагнацию или да же отрицательную динамику. Ареал русского языка сжимается, скукожи вается. Всё время возникает чаадаевский вопрос: «Чем мы обогатили че ловечество?» Какие русские слова в XX веке вошли в английский язык? «Водка, КГБ, Гулаг, большевик…» Из хороших слов, пожалуй, только «спутник». А сколько английских слов (англицизмов) в русском языке? Тысячи! А ведь слова — это вести и мысли, которыми обмениваются народы.
— Вы отказываетесь называть себя современным Далем. Почему?
— Я занимаюсь другим делом. Даль описывал сокровища живого ве ликорусского языка. Но ведь их почти не осталось. Ничего за последние десятилетия на русской корневой основе не было сделано. Пришла пора не столько описывать, сколько создавать.
— Разве это проблема русского языка? Может быть, проблема отсут$ ствия мысли?
— Конечно, и отсутствие мысли. Да, современному русскому языку нужен новый Даль. Как русскому обществу нужен Конфуций, который считал, что изменение общества нужно начинать с исправления имён.
— Ощущаете благодарность?
— Ощущаю.
— Не является ли ваше знакотворчество отрицанием «бритвы Оккама», поскольку сущности умножаются в отсутствие всякой необходимости?
— Сущности умножаются по мере возможного. Это не значит, что всё возможно и что всё возможное интересно.
— Но всё$таки вы не исключаете понятие «бритвы Оккама» из филосо$ фии? Она имеет какую$то сферу применения?
— Её влияние снижается. Мир становится разнообразнее, многомер нее. Ни одной сущности нельзя отказывать в возможности бытия, не иск лючая «бритвы Оккама». Философия не должна превращаться в теоло гию, становиться односущностной (теология идеи, материи, огня, воды, воздуха, земли), перерезать себе горло «бритвой Оккама». Философия призвана работать и играть с разными сущностями.
— Какими критериями должно быть ограничено применение «бритвы Оккама» в философии с учётом «щетины Эпштейна»?
— «Бритва Оккама» уже сыграла свою роль в философии. Давайте больше думать о «щетине Эпштейна».
— Но ведь и щетина должна быть солидной, чтобы затупить «бритву Ок$ кама». Не являетесь ли вы просто$напросто оптовым поставщиком сущнос$ тей без необходимости для «бритвы Оккама»?
— Обещаю тщательней следить за своей щетиной.
— Я парировал на ваше умножение сущностей понятием «щетина Эп$ штейна» ещё и потому, что нереализованные сущности являются источником ресентимента (злобной мстительности) в философии. Именно критическая масса такого отрицательного сгустка и вырождается в идеологические и по$ литические преступления посредством философии.
— Совершенно с этим согласен.
— Вы чувствуете свою философскую славу?
— Я желаю быть востребованным, как и всякий человек. Я не стрем люсь сознательно к созданию своей школы, потому что школа предпола гает консервацию мысли. Примеров много, в том числе свежих, например школа Г. П. Щедровицкого. Да и школы Ю. М. Лотмана, Ж. Деррида… Когда оседает пыль, остаются только работы основоположников. Мысль должна быть неожиданной для самой себя, удивляться и удивлять.
— Внесла ли советская философия какой$то вклад в мировую фило$ софскую мысль?
— Как ни странно, на Западе её ещё иногда считают по инерции чуть ли не единственным вкладом России в мировую философию XX века. Диалектический материализм был последовательной доктриной, разраба тывал свою систему категорий, вот со стороны он и воспринимается как философия, по крайней мере, её симулякр, от Ленина до Ильенкова… Всё, что вне левой марксистской традиции, признаётся публицистикой, журналистикой, эссеистикой, теологией…
— Что вы думаете о постсоветской русской философии? Возможна ли у нас новая качественная философия — вне идеологических запретов?
— Ещё в 1992 году я начал писать книгу на английском языке о рус ской философии второй половины XX века — «Феникс философии». Я замыслил эту книгу в ответ на то, что русскую философию обычно заканчивают на Н. А. Бердяеве, как будто дальше ничего не было. Напи сано 600–700 страниц. Я выделяю 7 основных направлений позднесовет ской и постсоветской русской мысли, среди которых марксизм, рациона лизм (включая структурализм), персонализм, религиозная философия, философия национального духа, философия культуры, постструктура лизм. Книга до сих пор не опубликована, да и не отделана. Коекакие гла вы печатались в журналах. Отдельная статья вышла в «Континенте» («Третье философское пробуждение»). Переводить себя на русский нет смысла. Я писал её для американского читателя. Работал 2—3 года. Мно го в неё вложил. Теперь нужно найти силы и время завершить работу.
— Работа под стать современному Зеньковскому?
— Не мне судить.
— Что у вас планируется в будущем?
— У меня выходит нечто вроде собрания сочинений «Радуга мыс ли» — семь серий (по названию цветов), охватывающих следующие дис циплины: красная — лингвистика, оранжевая — литературоведение, жёл тая — культурология, зелёная — эссеистика, голубая — идеография (тео рия и история идей), синяя — философия, фиолетовая — мифология и религия. В каждом цвете предполагается выход 2—3 книг. Всего задумано 20 книг.
— Что такое эпштейновщина? Вы предчувствуете, что в ответ на ваш проект «Дар слова» может возникнуть обратный проект — карикатурное за$ мусоривание русского языка?
— Всякая скольконибудь определённая идея или стиль напрашива ются на пародию.
Беседовал Алексей Нилогов
философские
манифесты
ГЕОРГИЙ ГАЧЕВ
Философская исповесть
(самопредставление)
Георгий Дмитриевич Гачев (род. 1929) — современный русский критик, лите ратуровед, философ. Окончил в 1952 году филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, работал учителем в Брянске. С 1954 года по настоящее время в системе Академии наук: с 1954 по 1972й в Институте мировой литературы, с 1972 по 1985й — в Институте истории естествознания и техники, с 1985го по насто ящее время — ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН; доктор филологических наук, членкорреспондент РАЕН, член Союза писателей. Автор бо лее 30 книг и более 300 статей в областях истории и теории литературы («Содер жательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр» (М., 1968), «Жизнь ху дожественного сознания. Очерки по истории образа. Часть I» (М., 1972), «Немину емое: ускоренное развитие литературы (на материале болгарской литературы пер вой половины XIX века» (М., 1989), эстетики и искусствознания, культурологии и науковедения. Целая серия книг Гачева посвящена национальным художественным образам мира, а также русской философской мысли («Русская Дума: Портреты рус ских мыслителей» (М., 1991), «Русский Эрос («роман» Мысли с Жизнью)» (М., 2004).
— Вы известны как человек энциклопедических интересов. Каков ваш путь в философии?
— Задание интересное мне предложено: объективировать себя и по смотреть извне на некий персонаж, которого приписали по ведомству фи лософии. Таковым стали меня квалифицировать в итоге жизни и работ, хотя начинал я как филолог, литературовед, и не было думки поступать на факультет философский, в эту профессию. Ну и слава Богу: в те годы, ког да поступал в МГУ (1946), философия была под колпаком строго марк сизмаленинизма и шаг вправо, влево, вглубь или ввысь — расстрел! Так что литература и язык — более свободная область. А тянуло постичь мир и культуру, историю и человека. И это через литературу и искусства спо собнее было познать. Но всё равно косился взглядом уже на Монблан в Духе, чем высилась философия — сбоку, в тумане. Но отпугивала языком и требованием логичности и последовательности в движении рассужде ния. А я как к математике трудно способен, так и уставал в принудитель ности последовательного мышления, а всё скашивался ум вбок, в образ, слово живое в картинное представление. Да и вырос я в климате гумани тарнохудожественной семьи: отец, Гачев Дмитрий Иванович, автор кни ги «Эстетические взгляды Дидро» (1936), мать, Брук Мирра Семёновна, музыковед, автор первой у нас книги о Бизе (1938), и сам музыке учился и даже сочинял… Так что заквашен я на чувственноэмоциональное по стижение мира и духа.
— Ну всё же, а явились ли какие путеводители вас в философию?
— С возрастанием и уже первые исследования в литературоведении написав, стал понимать, что недостаёт целостной картины мира, Бытия, всего — и закопмлексовал перед философией. Стал подозревать: что вот где и кто ЗНАЮТ — и смысл жизни и всего!.. Но не знал: как подступить ся к сей горе. И тут, во второй половине 1950х годов, попал на лекцию Э. В. Ильенкова у нас в ИМЛИ, — и пошёл за ним, и приник, и четыре го да вникал в Гегеля. Главное потрясение было — уразумение: что все абстрактные категории и построения — это чтобы взойти, схватить конк ретное, живое, материальнотелесное: с помощью понятий и идей пост роить, реконструировать его состав, из чего состоит как сумма сомыслов, сделать перевод вещи на идеи. Что каждое существование есть телоидея, что чувственность сочится идеями, что понятие есть итог, собор идей, а определение возникает в конце истории, развития вещи, явления… Осо бенно «Лекции по эстетике» и «Философия природы» повлияли: вошёл во вкус толкований всех чувственнотелесных предметов, явлений жизни, обихода — как сомыслов. Даже затеял писать «Философию быта — как Бытия» и многое в таковом ракурсе протолковал. Почитайте книгу мою: «Вещают вещи. Мыслят образы» (М., 2000) или «Беседы по философии быта разных народов. Уроки чтения национальной предметности» в кни ге «КосмоПсихоЛогос» (М., 1995).
Но в этой работе скос из рассудочного мышления в образное произо шёл во мне, скос в УМОЗРЕНИЕ, смешанный язык, где понятие перехо дит в метафору и наоборот: переливаются они, переплетаются. И пример тут — Платон с его философскими мифами («пещера» — в «Государстве»; человек — как повозка из двух коней с возничим в «Федре» и т. п.). Ну и — досократики: через них вышел на язык «четырёх стихий». Гипноз Ге геля и его логицизма помог одолеть М. М. Бахтин, к кому мы, «три муш кетёра» сектора теории литературы ИМЛИ: С. Г. Бочаров, В. В. Кожинов и я, — летом 1961 года ездили в Саранск — и с тех пор его возрождение — в культуре пошло…
Так совершался отход от того Единого миропредставления, «моноло гического», в коем вырастали люди в тоталитарности советской цивили зации, социума и идеологии — ко Множеству и Разнообразию, к изоби лию Бытия, Духа. Этот поворот ума ещё и в резонанс с ходом истории шёл. После смерти Сталина и с XX съездом КПСС история, что дотоле будто прекратила течение своё, — снова задвигалась, и спектр вариантов стал представать уму.
— Георгий Дмитриевич! Не с обострившимся ли тогда ощущением Исто* рии связана та теория ускоренного развития культуры, которая принесла вам первую известность?
— Да, это так. Я разработал её в своей кандидатской диссертации «Становление художественного сознания в условиях ускоренного литера турного развития». Защищена в 1959м и издана книгой «Ускоренное раз витие литературы. На материале болгарской литературы первой полови ны XIX века» (М., 1964).
В зачатии этой теории было озарение: что один и тот же век — Девят надцатый, например, совсем не для всех страннародовкультур есть та ковой, а для одних — Семнадцатый иль эпоха Ренессанса, для других — Средневековье, для третьих — Античность, а для иных — вообще время первобытности, когда история ещё и не начиналась.
Так, Болгария, что 500 лет находилась под турецким игом, вступив в конце XVIII века в полосу национального Возрождения, начинает с гоме ровского сознания: «История славеноболгарская» Паисия Хилендарско го — это героическая эпопея, «Илиада» (по стадии художественного раз вития): то есть XVIII век для них = IX век до нашей эры. Затем «Житие» Софония Врачанского — аналогично жанру житий святых, но уже и плу товскому роману (= Средневековье и Ренессанс); затем проходит созна ние их писателей — рационалистическую стадию (= «классицизм»), Про свещение, сентиментализм, романтизм — и всё за полвека, стяжённо, — и в середине XIX века у них реализм в духе европейского XIX века (почти).
В моём уме это был прорыв в категории Времени — создалась как бы «теория относительности» применительно к гуманитарной культуре. Пол века Болгарии в XIX веке стадиально аналогичны трём тысячелетиям европейского литературного развития и тысячелетию российского.
Но таким образом путь болгарской литературы представал как близ кая нам по времени лаборатория, в которой можно наблюдать общие закономерности духовного развития — «норм», что совершается и в аномальной исторической ситуации. Через «феноменологию духа» Бол гарии воспроизводилась феноменология духа Европейского цикла Культуры.
Когда я прочитал в 1961 году повесть киргизского писателя Чингиза Айтматова «Джамиля», то был поражён, как она органично вписывается в мою концепцию «ускоренного развития», и написал рассуждение «Миро вая литература — в одном произведении». Этот писатель для своего наро да и мифотворец, осуществляет и гомеровскую фазу, и Ренессанс, и ро мантизм, и реализм, вплоть до модернизма. Теория ускоренного развития применима к культурам Азии, Африки, Латинской Америки, запоздало подключающимся к единому мировому процессу и стремительно «на гоняющим» его. Так онтогенез — индивидуальное развитие особи — в стяжённом виде воспроизводит филогенез, то есть фазы развития вида и рода.
Итак, пафос истории, закономерности развития литературы и искус ства, но уже в гегелевском повторе: единство исторического и логическо го, — одушевлял мои работы первого периода — в области истории и теории литературы и эстетики. В этом русле — книга «Жизнь художест венного сознания. Очерки по истории образа. Часть I» (М., 1972). Здесь дана панорама западноевропейского литературнохудожественного цик ла. Далее — «Образ в русской художественной культуре» (М., 1981). Это — опыт философии русской литературы; иное название — «Слово России»: Слово — как Русский Логос. В русле философии искусства и книги «Твор чество, жизнь, искусство» (М., 1980), где искусство выводится из более широкой субстанции — творчества и жизни. Вообще экзистенциальный поворот проблем культуры меня волновал с самого начала, и это сказа лось в книге «Логика вещей и человек. Прение о правде и лжи в пьесе Горького “На дне”» — написана в 1960м, а издана в 1992м. Кстати, и «Слово России» написано в 1960м, а издано в 1981м. Это обычно у ме ня: отдаваясь вольному мышлению напропалую, я опережаю возможно сти и «допуски» печати и пишу, утоляя своё любомудрие, в никуда, в не ориентированном мышлении, целясь на Истину лишь. И, как оказалось, написанное так — не тухнет и годится и в иные Времена. Но такому выбо ру поведения и стилю творчества мне помог и социум. В 1968 году вышла моя книга «Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Те атр». В ней я сошёл с исторической точки зрения и задался вопросом: ес ли всё развивается, то ЧТО развивается, то есть стоит, пребывает? То есть о константах задумался — и применительно к литературе усмотрел их в родах и жанрах, формах, которые — не оболочка, но структуры, что излу чают содержания и смыслы первого порядка. «Форма — как отвердевшее содержание» — так поставлена тут классическая проблема содержания и формы во всём. А затеялось исследование — в ответ на неприятие моих текстов коллегами, редакторами, цензорами. «Это ни в какие ворота не лезет!» — говорили мне. «Ага! — смекнул я. — Значит, «ворота», то есть формы, имеют свой ум и способны различать: какие «это», то есть идеи и значения, входимы в них, согласны, сосмысленны с ними, а ка кие «что» — нет?»
Книга прошла »дуриком» — и за её издание была кара. В «Известиях» от 3 марта 1969 года появилась разгромная статья «Вензеля выделывает моя мысль» — моя самохарактеристика. Поступил донос в Комитет по пе чати, было заседание, на котором сняли директора издательства, редакто ров… Тут же у меня был рассыпан набор книги в «Искусстве» объёмом в 30 листов — и, ещё мало известный читателям, я стал хорошо известен из дателям как автор опасный, с кем не надо связываться.
— И как же вы перенесли этот удар?
— Вначале я страдал от остракизма. Но удар вышел мне во благо: «и щуку выбросили в реку». Изгнанный из печати, я перешёл к абсолютно свободному, бескомпромиссному мышлению и писанию. Где ничего нельзя — там всё можно. И я себе позволил: и писать на запретные темы (например, про национальные образы мира в эпоху казённого интерна ционализма), и про свои психологические и физиологические тревоги… Всё это я спарил и смешал жанры. Так и вышел я на жанр «ПРИвлечён ного мышления» или «жизнемысли». Основной мой текст стал жизнен нофилософский дневник, «исповесть» (повесть + исповедь = мой неоло гизм), а внутри него — научные и философские сочинения. Так что жанр свой осознаю как помесь Пруста (или Розанова) со Шпенглером: идёт по ток самосознавания моей жизни, сомыслы мИгновений постигая, а в нём — трактаты и исследования.
И понял себя: я — как приборинструмент, которым некто или нечто (История? Бытие? Бог?..) ставит эксперимент, а я ему секретарствую: за писываю опыты жизни и мысли каждого дня. Или — как штурман в пла вании по океану существования — веду судовой журнал.
Круцификсный опыт с разгромом книги стал мне и нравственным научением: «враг»то мой, доносчик, оказался мне благодетелем, ибо по мог обрести себя и создать свой жанр. Он меня «уинтравертил» = загнал внутрь себя, нацелил писать «всебятину», «в стол». Жертвой пешки, как в шахматах, иль даже слона — публикаций, я стяжал захватывающую игру, которой предаюсь почти полвека («Содержательность форм» написана в 1961 году). Так что на своём опыте я изведал перспективную мудрость христианской заповеди «возлюби врага своего!».
— Расскажите о главном труде вашей жизни и ума — многотомной серии сравнительных описаний культур и миропониманий разных народов — «На* циональные образы мира». Как вы вышли на эту тему?
— Большая цитата из «Национального КосмоПсихоЛогоса» // Воп росы философии. — 1994. — № 12. — С. 62–7045.
В начале был Логос — то есть над вопросом о национальных логиках задумался я — и вот как. С 1955 по 60е годы грыз я Гегеля под руковод ством Э. В. Ильенкова (ещё и Канта, Фихте, Шеллинга), осиливал их фи лософский жаргон, проникся и полюбил, но чтото во мне бунтовало: не ужели мне, в России середины XX века, чтобы понять Абсолют, Бытие и смыслы всего, обязательно ум именно по этим траекториям — немецкой классической философии, этого великолепного, но готического собо ра, — двигать? Так ли уж всеобща и универсальна эта претендующая быть таковою логика и систематика? Не лежит ли на ней локальная печать именно германского склада мышления? И так ли уж чист Чистый Разум? И зародилось предположение, что у каждого народа, культурной целост ности, есть свой особый строй мышления, который и предопределяет картину мира, что здесь складывается и сообразуясь с которою и развива ется история, и ведёт себя человек и слагает мысли в ряд, который для не го доказателен, а для другого народа — нет.
Национальные логики, однако, мне выявить не удалось: не по зубам орешек. Принялся я было сравнивать в лоб логику с логикой: Аристотеля с Кантом, Декарта с Бэконом и т. п. — все работают вроде однотипной формальной логикой (силлогизмы, индукциядедукция…), доказывают свои положения и строят систему; отличия же могут быть объяснены раз ностью и исторических эпох, и индивидуальных миросозерцаний. Тогда я отступил и с философского синтаксиса перешёл на лексику, что проще. Вслушиваясь в термины, различил залёгшие в них метафоры, образы: они не могут не изгибать мысль философа в своём силовом поле и не излу чатьизливать интуиции. Например, изучая философию Декарта, русский узнаёт, что у него две субстанции: «протяжение» и «мышление». Отчего, почему, какая связь? Никакой логики в этой паре. Но вот открыл фран цузский текст — и что же? Там Extension и Extendement. Оба — от латин ского tendere или французского tendre, что значит «тянуть». Так что — вытяжение и втяжение, как выдох и вдох. Материальный мир = такт выдоха Бытия, саморасширение Духа. Мышление = такт вдоха Бытия, его вбирание в себя, аннигиляция пространства в точку и вообще в иммате риальность. Как всё просто стало — и очевидна интуитивная основа их спаривания! И красиво: симметрия и баланс, что есть эстетический крите рий во Французстве и проступает в дуализме Декарта, тогда как герман ский вариант дуализма — это антиномии = «противозакония», противо положности. И это тоже в терминах очевидно. «Предмет» понемецки — GEGENstand, то есть «противостой», а значит — враг, противник, кото рого надо осиливать Волей — сие Представление. Тут же и WIDER spruch — «противоречие», что fuhrt = «ведёт», по Гегелю. А из простран ственных ориентировоккоординат Вертикаль мира подчёркнута: «стоя ние» и в GegenSTAND и в VorSTELLung — «представление», тогда как у Декартафранцуза, скорее, горизонтальный вектор превалирует, как в русском «предмет» (калька с латинского objectum от iaceo — «метать»). Важные акценты национальных предпочтений и склонностей улавлива ются в терминах для «истины», как это ещё Павел Флоренский промеди тировал в «Столпе и утверждении истины». Греческое aletheia — «несо крытость», то есть — что очевидно зрению — как видеи Платоновы. В ла тинском veritas (французское veritе) — аспект веры слышится. А русская «истина» = естина, то есть аспект Бытия, склонность к тождеству Бытия и Мышления, онтологизм русской мысли…
Следующий шаг — уловить интуиции, созерцания и видения под сис темнорассудочными выкладками философов. Они проступают в нагляд ных примерах, сравнениях, иллюстрациях, к каким прибегают мыслите ли, поясняя свои логические построения. Шар, Сферос — модель мира для эллинов (Пифагор, Платон, Плотин, Архимед, Птолемей…). Дом, Haus — модель мира для немцев. Кант закладывает фундамент для воз можной будущей Метафизики и строит здание Разума — постоянны эти образы у него, вдохновляющие. Смотрите про это мою книгу «Осень с Кантом. Образность в “Критике чистого разума”» (М., 2004, — написана в осень 1968). Здесь подкоп Филологии под Философию: «разоблачение» образного подспуда будто бы «строго научной» терминологии философа, что при сравнении немецкого оригинала с русским переводом проступа ет. Например: Рассудок (der Verstand — «стояк», Вертикаль), мужчина ориентирован у Канта на опыт (die Erfahrung — «поездка», движение, Горизонталь), на женщину. Он и Она. В русском же переводе сей естест венный Эрос стёрт: Он да Он — гомосексуальная пара выходит… По Хай деггеру, язык = Дом Бытия. По германской интуиции, развёрнутой Кан том же во «Всеобщей естественной истории и теории неба», Вселенная = Мироздание46. По Шеллингу, даже Бог = Дом: он полагает «Основу» (= фундамент) в Боге («Философское исследование о сущности челове ческой свободы»). Другой частый образ в германском умозрении — Расте ние, Дерево, Stammbaum = «генеалогическое древо», в том числе и родства языков индоевропейских. А Гегель свою «триаду» поясняет так: зерно = те зис, стебель — антитезис, первое отрицание; колос — синтезис, отрица ние отрицания; то же зерно, но «самсто». Подобные же архесимволы: ПутьДорога, Даль — у русских, Корабль и Ковчег — у англосаксов (Бэ кон, «Левиафан» Гоббса и т. п.). Эти интуиции натекают в ум философа — из национального Космоса.
Значит, есть некий образный априоризм, что залегает под рассудочным и понуждает в своём силовом поле опилки рассудочных выкладок так, а не иначе располагаться. Но это силовое поле — уже сверх или под логи кой: оно истекает из всего бытия данного народа, включая и особый склад природы (материю, вещество), быт, язык, историю (культуру), этнос и ха рактер (психику). Так я вышел к понятию — национальный КосмоПсихо Логос. Подобно тому, как каждое существо есть троичное единство: тело, душа, дух, так и всякая национальная целостность есть единство местной природы (Космос), характера народа (Психея) и склада мышления (Ло гос). Следовательно, чтобы проступила особая национальная логика, на до целостность бытия одного народа сравнивать с аналогичной целост ностью другого. На этом фоне и логики, как верхушки сих айсбергов, раз личимы и понятны станут. Таким же образом и «национальный характер», и «национальный дух» — эти трудноуловимые сущности, импрессионис тически описываемые, — можно посадить на более объективные основа ния: тип природы, культуры, языка… Подход к национальным логикам со стороны языка намечен в гипотезе Сэпира–Уорфа. Но сам язык должен быть опущен в целостность национального бытия: он — её глагол — Логос.
В КосмоПсихоЛогосе три элемента («уровня») национальной цело стности находятся в отношении и соответствия (тождества), и дополни тельности (противоположности и уравновешивания) друг с другом. В описании и анализе тут требуется тонко работать, ассоциируя и расчле няя, дифференцируя.
Мой подход — Космософия, то есть «мудрость Космоса» (по анало гии с «историософией», которая — «мудрость Истории». Слово «космос» берётся в первичном, эллинском смысле: как «строй мира», гармония, но с акцентом на природном, материальном. Природа, среди которой народ вырастает и совершает свою историю, есть первое и очевидное, что опре деляет лицо национальной целостности. Она — фактор постоянно действующий. Тело земли: лес (и какой), горы, море, пустыня, степи, тундра, вечная мерзлота или джунгли; климат умеренный или подвержен ный катастрофическим изломам (землетрясение, ураган, наводнение…); животный мир, растительность — всё это предопределяет и последующий род труда и быта (охота, бортничество, скотоводствокочевье, земледе лиеоседлость, торговлямореплавание и т. д.), и модель мира: устроен ли Космос как мировое яйцо, Мировое Древо (ясень Игдразилль в скандина вском эпосе), как тело кита (Левиафан и Моби Дик), как священный Конь или Верблюд (у кочевников, в символике киргизского писателя Чингиза Айтматова, например)… Здесь коренится арсенал символов и ар хетипов, национальная образность литературы и искусства, которые весь ма стабильны.
Природа каждой страны — это не географическое понятие, не «окру жающая среда» для нашей эгоистической человеческой пользы, но мис тическая субстанция — ПРИРОДИНА (мой неологизм: Природа + Роди на в одном слове), Матьземля своему Народу, кто в отношении её одно временно и Сын, и Муж — как в древнегреческой мифологии Гея (Земля) рожает себе Урана (Небо), кто ей и сын, и супруг. Что же тогда История? История есть супружеская жизнь Народа и Природины за смертный срок данного национальноисторического организма. Культура же — чадоро дие их брака.
Ныне ахнули: что сделали с природой! — и возникло слово «эколо гия». Но оно, научненькое, — тоже гуманистичноэгоистично: будем жа леть природу, как рачительный хозяин жалеет кобылу: не загоняет конягу в усмерть. Нет, вернуться к благоговению перед Природой как сокровищ ницей сверхидей тайного разума. Природа — это текст, скрижаль завета, которую данный народ призван рассчитать, понять и реализовать в ходе истории.
Здесь является новый актор в национальной космоисторической драме — Труд, который — создатель Культуры на этой Земле. Труд работа ет в соответствии, в гармонии с Природой — и в то же время восполняет искусством то, чего не дано стране от естества. Например, в Нидерландах, где Природа отказалась дать достаточно земли своему народу, последний расширил себе территорию по вертикали и по горизонтали благодаря сво ему труду.
Другой пример — Россия. Она — страна равнин и степей, без значи тельных гор, так что Природа как бы отказала ей в вертикали бытия. И вот, как бы в компенсацию за это отсутствие, в России в ходе истории выстроилась искусственная гора гигантского Государства с его громозд ким аппаратом, и жизнь страны обрела таким образом вертикальное измерение.
Уникальный пример являет собой Еврейство. В то время как другие национальные целостности сочетают Космос, Психею и Логос, этот На род смог существовать в ходе истории без своей Природы. Благодаря этой уникальности (в частности) они — «избранный народ». Еврейский вари ант я определяю как «ПсихоЛогос минус Космос». И как в математике минус, отрицательное число есть не просто отсутствие, но значащая вели чина, так и «минусКосмос» есть весьма значащее отсутствие. Те субстан ции и энергии, которые в других народах распространяются экстенсивно на их территориях (уходят в возделывание земли, постройку городов, тра тятся в войнах с соседями…), здесь содержатся в Психее и в Логосе, делая их необычайно активными и дифференцированными. «Тора» — их терри тора. Природа еврейства — это его народ. Космос оказался как бы вдавлен в Этнос. Главная заповедь здесь — жить, выжить: «Быть живым, живым и только, до конца», — как это выражено Пастернаком. И кстати, когда в России после разделов Польши оказались миллионы евреев, тут же воз никло метафизическое «влеченье — род недуга»: минусКосмос привился к такому сверхКосмосу, как Россия. И этот восторг — в Левитанепейза жисте, а у Пастернака — так просто плотоядная влюблённость в русскую природу…
Если национальный КосмоПсихоЛогос может быть понят как Судьба данному народу, то Труд, История и культура могут быть поняты как его Свобода. Или, точнее — как Творчество в силовом поле между по люсами Судьбы и Свободы.
Тут важнейший пункт и акцент. Всё бытие человека и человечества — между Предопределением (природа, тело, этнос, смертный срок, тради ция…) и Свободой (личность, дух, воля, творчество…). И то, что я взялся описывать: национальный КосмоПсихоЛогос, — это, в общем, зона Судьбы. Я пытаюсь понять волю объективного бытия — до моего входа в мир, преданность, как бы Ветхий Завет каждому народу. Но также равно мощно действует Новый Завет — Свободы, Личности — в каждый данный миг, и будущее созидается в их диалоге. Но Новый Завет пишется по скри жалям Ветхого, и резец Свободы гравирует по табло Судьбы. Последнее (как бы Предопределение) я и усиливаюсь рассчитать. А значит, только один аспект и сторону каждой национальной целостности.
Другую важную ограниченность своего подхода выражу изречением Гераклита: «Для бодрствующих существует единый и всеобщий космос, из спящих же каждый отвращается в свой собственный» (фр. 95). Так что на циональные образы мира — это как бы сны народов о Едином. Зачем же заниматься снами? А чтобы не принимать их за действительность, отда вать себе отчёт в ограниченности и локальности наших даже самых общих представлений. В то же время через сопоставление и взаимную критику разных «снов» есть надежда и до образа истинной реальности докопаться. Ведь Инвариант Бытия видится каждым народом в своём варианте, как единое Небо сквозь атмосферу, определяемую разнообразием поверхно сти Земли. И тот «Космос», который я для каждого национального мира описываю, прежде всего понизовый: земляной, а не звёздный…
Для работы такого рода понадобился метаязык, которым можно бы характеризовать и Космос, и Психею, и Логос. В качестве такового я ис пользую древний натурфилософский язык «четырёх стихий». «Земля», «вода», «воздух», «огонь» (в двух ипостасях: «жар» и «свет»), понимаемые расширительно и символически, суть слова этого метаязыка, а синтак сис — Эрос (Любовь и Вражда Эмпедокловы, притяжениеотталкивание естествознания). Давно уже, и в XX веке особенно, бьются над тем, чтобы создать поверх естественных национальных языков, слишком обременён ных п(л)отной, тяжкой вещественностью, и поверх жаргона научнопро фессиональных, искусственных языков — метаязык, которым можно бы обозначать всё единое, всепроникающее. И вот изобретают язык условно договорных знаков: А, В, С… Но они даже не символы. От этого языка нет перехода к реалиям, к вещественности, от нашего гнозиса — к логосу. Язык же первоэлементов не надо выдумывать, он есть и незыблемо пре бывает в смене времён, в прибое племён. Его термины внятны и эллинс ким натурфилософам, которые назвали их «стихиями» (= устоями) бытия, и индийским Упанишадам, где они выступают как «махабхута» (= великие элементы), правда, там их пять: ещё и акаша (= «эфир»), а в разных систе мах и ещё больше. Но и современное научное знание не станет от них от крещиваться. Ведь что такое «четыре агрегатные состояния вещества», как не «земля» (твёрдое), «вода» (жидкое), «воздух» (газообразное), «огонь» (как бы плазма)?
Но они расширимы и в духовную сторону: языки обиходный и по этический непрерывно производят это зацепление Духа баграми метафор, и вся художественная образность в искусстве и литературе может быть распределима и классифицируема по гнёздам четырёх стихий. Смотрите мои работы: «Космос русской поэзии» — по Тютчеву, где я развил «физи ку поэзии», и «Космос Достоевского», где перевёл его «сюжеты и пер сонажи» на сей язык стихий, — в книге «Национальные образы мира» (М., 1988), а также книгу «Музыка и световая цивилизация» (М., 1999). Но и дальше в зону духовного с ними можно углубиться. Например, Арис тотелевы «четыре причины» (категории уже чисто духовного порядка) до пускают приуроченье к стихиям, и вероятное распределение может вы глядеть так: «земля» — причина материальная, «огонь» — деятельная. Это кажется безусловным. «Вода» — целевая причина, энтелехия (ибо — тече ние, процесс, откуда и куда). «Воздуху» остаётся формальная причина — воздуховны, невещественны эйдосы, идеи, хотя ещё и световы они, «ог ненны».
Таким образом, на языке стихий можно выразить и физику, и мета физику, идеальное. Он универсален. Более того, он демократичен, поня тен даже ребёнку и простолюдину: каждый может опереться на вещест венный уровень и понимать на нём, о чём речь идёт, позволяя в то же вре мя отвлечённым умом воспарять по стихиям и эмпиреям духа и мыслить под ними его реалии. И поскольку никто не отлучён от этого метаязыка, по его каналам может и наше сознание подключаться к любому явлению и тексту и, читая его, как бы сотрудничать в представлении разных вещей и в толковании их значений посредством некоторого совоображения. Сам акт наложения древнего языка четырёх стихий на современность, заарка нивая и отождествляя концы и начала духовной истории человечества, есть фундаментальная метафора (перенос) и образует поле, с которого снимается богатый урожай образов и ассоциаций посредством дедукции воображения и воображением (иль «имагинативной дедукции» — обозна чим это дело так для любителей иностранных терминов: тогда оно пребу дет в «научном законе»).
Свои подходы к реконструкции национальных космологосов пред лагает фонетика стихий. Естественные национальные языки трактуемы — как голоса местной природы в человеке. У звуков языка — прямая связь с пространством естественной акустики, которая в горах иная, чем в лесах или степи. И как тела людей разных рас и народов адекватны местной природе, как этнос — по космосу, так и звуки, что образуют плоть языка, в резонансе находятся со складом национальной природины. Рот и есть везде такой резонатор, микрокосм — по космосу. В нём небо = небо, язык = человек, индивид, единица, «огонь»стихия. Губы = мягкое, женское, влажное, волна, Двоица, стихия «воды». Зубы = кость, твердь, горы, мно жество, стихия «земли». Дыхание = «воздух». Гласные = чистые координа ты пространственновременного континуума: А = вертикаль, верхниз, открытое пространство. Е = ширь. И = даль. О = центр. У = глубь, нутро недро. Согласные заполняют чистый космос разнообразием. Глухие смычные = мужское начало, «огнеземля». Звонкие и носовые, а также со норные «л» = женское, «вода». «Р» = «огонь» (звук тРуда, истоРии и гоР дыни, «я»). Фрикативные = «воздух»: струя ветра трётся в С, З, Ш, Ф… Выясняя удельный вес этих элементов в фонетике данного языка (ещё учитывать передне, задне, верхне и нижнеязычные звуки), удаётся в лаборатории рта просчитать иерархию ценностей в данном простран ственновременном континууме, что здесь важнее: верх/низ, даль/ширь, перед/зад, зенит/надир, мужское/женское и т. п.
Во рту совершается таинство перетекания Космоса в Логос, материи в дух: язык ещё веществен (звуки), но уже и спиритуален (смыслы). В фо нетике каждого языка имеем портативный космос в миниатюре: имен но — переносимый, так что можно и не ездить в чужую страну, чтоб по стичь её менталитет, а вслушиваться в язык.
— По каким же параметрам дифференцируете вы национальные космосы?
— Да, теперь рассмотрим элементы разнообразия. Существенны на циональные варианты Пространства и Времени. Под латинским spatium (откуда французское l'espace и английское space) лежит интуиция шага ния: глагол spatior — «шагать», ср. немецкое spazieren; значит, простран ство мыслится рубленым, дискретным. Немецкое же Raum (от raumen — «очищать») — есть «чистое», «пустое». В картине мира здесь приемлема пустота, тогда как романский гений преследуем «страхом пустоты» (horror vacui), и здесь внятны континуум и полнота (plein air, пленэр буквально «полный воздух») — такова космогония по Декарту и Лапласу. В русском же «проСТРАНство» явно слышится «страна» = ширь, бок, край, «роди мая сторонка»…
Вообще в паре: Пространство и Время русскому интимнее, роднее — Пространство. Недаром и священное слово «страна» — того же корня. И показательно, что проникшийся русским КосмоПсихоЛогосом поэт Пастернак так обожал слово «Пространство» — очень частотно оно у не го, а вот насчёт Времени — высокомернопренебрежительно к нему: поэт, «Вечности заложник у Времени в плену», вопрошает: «Какое, милые, у нас Тысячелетье на дворе?» — так фамильярно. Когда же Россия вступает в контакт и клинч с Западом (как после Первой мировой войны), тогда истерика ускорения: «или мы догоним, или нас сомнут!» — и подстёги ванье Времени: «Время, вперёд!», и Маяковский заигрывает с Временем: «Время, начинаю про Ленина рассказ» и «Время — вещь необычайно длинная…» — как о чёмто весьма экзотическом тут и искусственно фор сированном.
А вот в Германстве Время первее Пространства (которого, «жизнен ного», здесь не хватает). Пространство, по Канту, — форма внешней чувственности, а священна для немца область Innere — «внутреннего», и Время как раз априорная форма внутренней чувственности, жизни души и строительства личности и «я». И у Хайдеггера главный труд и проблема «Бытие и Время» (Sein und Zeit).
Англосаксонское уравнение «Время = деньги» не могло бы прийти в голову русским. Что же до Соединённых Штатов Америки, то страна эта столь же обширна, как и Россия. Но англосаксы прибыли сюда с принци пом Труда — и Временем как его мерой. Так что отношение Пространства ко Времени — идея Скорости важнейша для американца, нового кентав ра, «человекавмашине», — успех…
Конечно, все элементы, которыми описываются национальные кос мосы, присутствуют в каждом, но — в разных пропорциях, акцентах и ка чествах. Ихто уловить — и есть нам задача.
Или возьмём преобладание горизонтального или вертикального изме рений. Для России, страны «бесконечного простора» (выражение Гоголя), горизонтальные (в)идеи: Даль, Ширь, Путьдорога — превалируют в шка ле ценностей. То, что в гористом космосе Болгарии «горедолу» (букваль но: «вверхвниз»), порусски — «приБЛИЗительно». Для Германии же основные символы: Глубь (Tiefe) и Высь (Hohe), модель Древа и структу ра Дома (Haus) усматриваются априори во всём. Тут вертикальное измере ние преобладает в координатах КосмоПсихоЛогоса.
То же самое — в Италии, где комната — stanza, что значит «стоянка» (ср. с французским logement = «лежанка» — «протяжению» Декартову аналог, горизонталь…), а приветствие «Как живёшь?» — Come sta? — «как стоишь?»… Но тут проступает различие уже внутри вертикальной ориен тации. Италия — космос нисходящей вертикали. Сравним архитектуру. В Италии купол, арка суть образы неба, опускающегося на землю. В Гер мании — готический собор со «стрельчатостью», кирха со шпилем — всё выражает усилие земли, низа — взобраться вверх (протестантизм!), прон зить, завоевать небо, как Вавилонским столпом, построяя свой «дом бы тия». В немецком языке — восходящие дифтонги: auf, aus, ein, а в италь янском — нисходящие: ua (quanto), ue (questo), ia (mia)… В Италии Гали лео Галилей изобрёл в механике теорию «свободного падения» тел. И в итальянской музыке мелодия вида «вершинаисточник» (как этот тип ме лоса именуют в музыковедении), ниспадающая арками, часта. Вспомним неаполитанскую тарантеллу, «Санта Лючия», арию ЧиоЧиосан и т. п. Все они — секвенции нисходящих арок, как в итальянских палаццо. В германской музыке, напротив, восходящее усилие преобладает (в их бо лее суровом космосе, требующем Труда, а не так дарово и благодатно жить, как под небом Италии…). Сопоставим аналогичные по настроению и выразительности — предсмертный дуэт Аиды и Радамеса у Верди и смерть Изольды у Вагнера. В последней — взбирание, даже карабканье ввысь, завоёвывая ступень за ступенью новый этаж бытия (небытия). Это же мускулистое стремление (Streben, Schwung — «порыв» — тоже из гер манских архетипов) ввысь — и в разработках бетховенских сонат и сим фоний…
Культуры и ментальности различаются и по тому, как в них понима ется происхождение мира и всего. Порождаются ли они Природой или производятся трудом? ГЕНЕЗИС или ТВОРЕНИЕ? Для греков возникно вение всего — это Теогония и Космогония: существа и явления мира рож даются титаншами и богинями в бесконечных совокуплениях с титанами и богами. Для евреев же безусловен акт Творения мира Богом — креацио низм. Эти два принципа я называют ГОНИЯ и УРГИЯ: первое — от греч. gone¯ = «рождение», а второе — от греч. суффикса делания — ourg, как в «демиург», или как в моём имени «Георгий», что значит «возделываю щий землю».
В Германии ургия превалирует. Немцы славны как мастера в труде и форме и в инструментальной музыке, не вокальной, что более натураль на, «гонийна» (и в Италии торжествует). Ургия в Германстве перехватыва ет и продолжает гонию. Даже слово Baum = «дерево» — означает в то же время нечто «построенное»: есть причастие от глагола bauen — «строить». И «крестьянин» понемецки — это Bauer, то есть «строитель», конструк тор с землёй… В России возникновение вещей понимается более пассив но, с нашей, человеческой стороны: Бог знает, как всё произошло… Может быть, само собой или рождено Матерью=землёй… И вообще нет маниакальной вперенности германского ума в происхождение, причи ны, начала всего, отчего каждый немецкий научный труд открывается обширнейшим введением в историю вопроса. Кстати, сам термин «исто рия» — Geschichte = буквально: «сослойность», набор, объединение пластов«шихт» — интуиция народа горняков, посвящённых в недро и нутрь, в фундаментоснову, туда автоматически наводится немецкий Логос, притягиваемый этим полюсом тяготения.
В Англии обитает selfmademan = «самосделанный человек». И там спрашивают не «Как поживаешь?», а «How do you do?» = «Как ты делаешь деланье?» — с двумя do, выражая интерес к тому, как тебе работается. И даже в молитве Господней «да будет (у нас просто идея Бытия, как и в ИстинеЕстине) воля Твоя» звучит как Thy will be done = «Твоя воля да бу дет сделана». Вообще универсальность и всеприсутствие глагола do как вспомогательного («акушеркой») при каждом акте мысли — как раз и выражает ургийное наклонение Английского Логоса. В США орудует не только «самосделанный человек», но он произвёл ещё и selfmade world = «самосделанный мир» искусственной цивилизации. Так что там — абсо лютное преобладание принципа ургии, труда — над природой, естеством, гонией.
Рассмотрим теперь соотношение Мужского и Женского начал (ки тайские Ян и Инь). Россия = Мать сыра земля, и наша главная река Вол га — «матушка», и кукла наша — «матрёшка». Германия же — Vaterland — «отцова земля», и их река Рейн — Отец: Vater Rhein. Существуют страст ные отношения между странами в историческом Эросе: в сексуальных сношениях, в объятьяхсоитиях и отталкиваниях их историй. Германия выступала как мужское начало в отношении к России, Англия — как са мец по отношению к la douce France = «сладкой Франции» с её девой Жан ной д’Арк. Вообще, страны романскокатолического Юга с их культом Божьей Матери, мадонныдевы, — женские по отношению к германским, англосаксонским, протестантским странам Севера, как и в Новом Свете Соединённые Штаты — мужское по отношению к Латинской Америке.
Тут мы выходим на сюжет: национальные образы Бога и варианты религиозного чувства. Все мировые религии: христианство, буддизм, ислам — локализуются, когда попадают в ту или иную страну. Их обвола кивает национальный КосмоПсихоЛогос и в своём силовом поле одо машнивает, пропитывает и преобразует на свой лад и стиль — и догматы, и основные символы, и обряды. Рассмотрим варианты христианской Инварианты. Тут уловим геокосмический акцент догматических различе ний. Материковые страны: Византия, Россия склонились к православию, Средиземнороманский регион — к католицизму, германский Север Европы — к протестантизму, а США — к плюрализму религий и сект.
А Бог как понимается? В Нём две главные ипостаси: Творец и Отец. В Средиземноморье, сплавом гонийного эллинства и ургийского иудей ства, возник Новый Завет, где Бог Отец потеснил БогаТворца и Бог по нят как Любовь и Эрос, как благой Отец Сына единородного — все «го нийные» акценты. И сюжет Богородицы тут развился. Когда же христиан ство стало пропитываться Германским Космосом, где Природа скудна и человек призван к Труду, к ургии, совершилась Реформация, в коей умале ны природные акценты в христианстве. Телесность иконописи, живопи си заменена на абстрактность Слова и чтения Библии; померкли образ Богоматери и Отцовство в Боге (вместе с «папой»), зато нарастать стала ипостась Бога как Творца, что освящает Труд и протестантскую этику бес конечного производства в бесчувствии к МатериПрироде. В англоаме риканском варианте вообще сдвиг в сторону Ветхого Завета. Недаром и имена там: Исаак (Ньютон), Адам (Смит), Давид Копперфильд, Урия Гипп (у Диккенса), Ребекка Шарп (у Теккерея). Библейские сюжеты раз рабатывали Мильтон («Самсонборец»), и Байрон (мистерия «Каин»), да и у Рембрандта их более новозаветных. В Германиито ещё есть Вечно Женское, Das Ewig Weibliche у Гёте, и Muttersprache: родной язык понима ется как «материнский», а в Англии и США ореол святыни содран с Женского начала.
А в Троице — каков удельный вес каждой ипостаси: Отец, Сын и Свя той Дух — в разнонациональных христианских мирах? Догмат filioque, что Святой Дух исходит «и из Сына», повышает роль последнего в Божестве. Но Сын есть Богочеловек: тем повышен сан человека — и вот гуманизм, самочувствие человека повышено в романских странах: атеизм, социа лизм, богоборчество. Кстати, вообще Новый Завет есть проявление Эди пова комплекса во религии: Сын, Иисус Христос, оттеснил в поклонении БогаТворца, Отца, и пара Мать и Сын выступила на первый план. Нагор ная проповедь: «Вам сказано… а Я говорю вам…» — формула Эдиповой отмены Ветхаго деньми…
Зато в балансе Троицы при filioque понижен сан Святого Духа: Сын привёл с Собой и Мать в круг Божества. Напротив, в германоанглийском протестантизме главное событие — Пятидесятница: сошествие Св. Духа, и дар пророчествования каждому дан. И чтение, и толкование Слова — тоже дело Духа. Отсюда — и рационализм в лютеранстве и англоамери канских сектах. В Троице превалируют БогТворец и Св. Дух, умалён же и всё более очеловечен Иисус, так что негры его называют просто brother Jesus, «братец Иисус» (как «братец Кролик») — тепло и домашне, но не божественно, не трансцендентно.
Ну а какие акценты в Троице на Руси? Вопервых, как нерасчленён ное Целое Божества переживается. Св. Сергий храмы Троице настроил. Но когда я спросил соседку по деревне Анюту (а она религиозна), когда день Троицы подошёл: «А что такое Троица?» — она не реагировала на число «три», «Троица — она и есть Троица. На Троицу надо огурцы са жать» — то есть в сторону Материземли обращена идея. И как Георгий Федотов в книге про русские духовные стихи показал, в слове «Тро ица» реагируют на окончание «ица» и слышат в ней иное название Бого родицы.
Если всё же дифференцировать слитный образ Троицы порусски, то Бог здесь не столько как Творец, и даже не как Отец, но как Пантократор, Вседержитель: статуарная внеисторическая космическая мощь. Как Царь — самодержец. Далее: Христос совсем мало чувствуется как СЫН Отца, но разве что как Сын Божьей Матери. Но главное: Он — Царь Не бесный и Судия. Основная икона — Спас в силах. Нам Он — Страшный Судия, перед кем лишь Матерь Божия нам заступница.
Христос мало человечен в русском сознании — в отличие, например, от тоже православной Болгарии, где имя «Христо» даётся массово, одо машнен и фамильярен Бог Сын; и не человек тут этим возвышен, а Бог лишается трансцендентности и пиетета, как и БогСлово лишён тут неис поведимости — тем, что имена себе понятные, славянскикорневые да ют: «Божидар» (а у нас «Феодор»: корнято и смысла не слышим на Руси в имени с чужого плечаязыка), Пламен, Здравка, Снежана, Стоян, Доб рин и т. п. Болгария — где Фракия, и не эллинский ли в этом антропомор физм сказывается?..
Если на Западе Распятие — у изголовья, домашний образ и очелове ченность Христа, то у нас — лик Спаса, трансцендентный образ у Христа. Рождество там главный праздник — домашняя интимность и семейность, у нас же — Пасха, и акцент не на Страстной неделе, а на «Христос вос кресе!» — торжество и изукрашенность Космоса и небес, и опять Спас в силах, мощи и величии.
Также и Святой Дух мыслится более космичным: как Свет и возДух в традиции неоплатонизма, Дионисия Ареопагита. Также исихазм, «стя жение Святого Духа» Серафимом Саровским — озарение, просветление плоти. И мир на Руси — «бел свет», и народ — Светер (Свет + Ветер — мой неологизм) — плоть Святого возДуха…
Но все ипостаси Божества меркнут на Руси перед Богоматерью. Здесь, где космос Матери сырой земли, Богородица переняла на себя эти качества: Природа, Мать, Родина, земля рожающая и могила. И Она же — Покров = белая Русь под снегом, на Покров выпавшим. Она — лестница мост между Небом и Землёй, единение Духа и Материи. Она осуществля ет то, что не делает здесь слишком трансцендентный ИисусБогочеловек именно потому, что он — мало свойск: не дитя и не человек распятый, но Царь, Судия и Спас.
Так что идея Богочеловечества, которую выдвинул В. С. Соловьёв, не случайно перекочевала в интуицию Софии и Софийности: не в мужской, а в женской ипостаси присуще в Космосе русском воссоединяться При роде и Духу. Как Богородица затмила всю Троицу в Бытии, так и София вместо Логоса тут встала (на правах четвёртой ипостаси — у Сергея Нико лаевича Булгакова). Искомое превозможение меры человека в Германстве явилось в мужском образе Сверхчеловека, а у нас — или в Богочеловече стве как соборном целом (бесполом, среднего рода), или вот в женском варианте Софии, а попросту — бабы русской, трёхжильной и мудрой, что «вынесет всё…».
Богородица = ДеваМать. Во Франции акцент на том, что она Дева (как и Дева Орлеана). В Италии она — мадонна, молодая мать, очень бы товая, mamma mia, как и Богочеловек тут одомашнен, и Бог Отец — в «па пе». В Польше Она — скорее Пани: молодая женщина. Матка Бозка Чен стоховска носит ожерелье, как колье. И она — «королева Польши», то есть Кесарево начало в неё введено. Поляк любит её почти мужской любовью. Ведь польский народ уподоблен у Мицкевича Христу — по своему крест ному пути, и он даже соперник Христу — как одноуровневому себе брату. Тут вообще — «Ромулов комплекс» (так его означу): брат на брата — и в «Пане Тадеуше» Мицкевича, и у Ивашкевича в «Березняке»… В России же Богородица именно Мать и в этом качестве заТМИла прочие ипоста си Божества, оСВЯТив тем материю и тьму вещества, землю. Недаром МА + ТЬ = ТЬ + МА в здешнем Логосе: из перестановки одних слогов слова.
Через малое исследование в национальных образах Бога мы прибли зились от Космоса к национальному Логосу. И здесь важно вникнуть, ка кой из основных вопросов первосуществен для ума и понимания. Что это за вопросы? Что? Почему? Зачем? Как? Кто?..
Что есть? Ti to on? — вопрос греков — о бытии.
Почему? Warum? — вопросы немцев: их интерес направлен к проис хождению, к причинам вещей. И причины ищутся в глубинах прошлого, где корни древа бытия залегают. War um? — это Was um? = «что вокруг?» Мир предполагается состоящим из двух частей: «Я» и «НеЯ» (как это в философии Фихте), то есть оппозиция: Haus — Raum = Дом — Простран ство, субъект — объект.
Для французов тот же самый вопрос «Почему?» имеет вид Pour quoi? = Для чего? Зачем? Тут Цель важнее Причины. Сущность всего пола гается лежащей гдето впереди, в будущем. Отсюда французские теории Прогресса (Руссо, Кондорсе), эволюции (Ламарк, Бергсон, Тейяр де Шар ден), социальные утопии (СенСимон, Фурье, Конт). Между прочим, и польское «почему?» звучит как dlaczego = для чего? Тоже. И есть взаимное притяжение между Польшей и Францией в политике, в культуре и в оттал кивании от Германии (католицизм и там и сям; Шопен + Жорж Санд…).
А вот для англичан и особенно для американцев основной вопрос — «Как?» How? Как вещь работает, как сделана? Принцип «Ноухау» (know how = «знать как»: не скептическое «как знать?», но бодроуверенное «знать как») распространился по миру отсюда. Бесконечное количество книг про How to… Как сделать что? Как добиться успеха? «Как приобре тать друзей и влиять на людей?» — стиль бестселлеров Дэйла Карнеги…
Ну а что же будет основной вопрос для русских? О, это — самое труд ное: определить то, что близко, в чём сам обитаешь, — как трудно опреде лить себя самого. Может быть, «а какой?» — вроде бы тоже «зачем?», но без позитивного интереса ни к «за», ни к «что», будучи априори уверен, что это не стоит усилия и не выйдет, так что лучше уж и не делать ничего…
Или вопрос «кто?», «кто виноват?» — знаменитый вопрос повести Герцена. И стиль взаимных подозрений: кто ты? каков? «А ваши кто роди# тели?..» Анкеты, вопросники, расследования твоей подноготной в наших бедах? Кто бес, искуситель, враг?.. Но есть и благородный, возвышенный аспект в этом интересе к «кто?». Это — гуманизм русской классической литературы, её открытия во внутренней жизни души, духа: Толстой, Дос# тоевский…
Но в последнее время, когда будто выбивается из#под тебя платфор# ма, на коей стоял, расползается земля, тает льдина, где мир#космос твой, по коему прописан ты и язык, и труд твой, а именно: русско#советская цивилизация, вслушиваясь в своё мироощущение, на своём опыте, слов# но в доказательстве от противного состояния, убеждаюсь, что основной вопрос в России — чей? Оказавшись теперь ничей, человек ощущает, что будто стержень, тягу и смысл жить из#под тебя выбивают. Недаром и фа# милии русские поссессивны, родительны, как бы суть ответы на вопрос: чей ты? — ИванОВ, ВолгИН, ВяземСКИЙ… Человеку тут потребно чувствовать свою принадлежность какому#то Целому больше его: к роду, Родине, Идее, Богу. Человек здесь, в разряжённом космосе и сыро#мёрз# лом, не может самостоять совсем один (потому так редок тут и мечтан рус# ской женщине «самостоятельный мужчина» — то, что так запросто в Анг# лии, где «самосделанный человек», self#made man), но в некоем «мы»: до# ма#семьи, села, общины, страны. «Мы — псковские!» А «один в поле не воин» — но потому что «в поле», в голой Шири#Дали, в плоскости Балто# славянского щита…
Человек в философии общего дела Н. Ф. Фёдорова определяется как «сын человеческий» и в братстве — по родству. И патриотизм на Руси — живая пуповинная связь. Понимаешь слова песни: «Была бы только Ро# дина!..» — тогда я прикаян, на месте, при пространстве#времени. Это «чей?» слышится даже в песенке милой детской про чибисят: «Ах, скажи# те: чьи вы?..» И если и могли обличать русскую и советскую цивилизацию и хорошо творить русскую культуру блудные сыны бессемейные — там Ча# адаев, Лермонтов, Гоголь, Ленин, Мандельштам… — то это потому, что крепко стоял Отец (дворянская цивилизация, а потом российско#совет# ская) и при нём Сын послушный (служивый: крестьянин, солдат, чинов# ник, партаппаратчик), и было куда возвращаться, припасть#каяться, где на радостях и тельца подадут… Так что на привязи памяти чей он себя и Блудный Сын (шалун#люмпен, диссидент…) осознавал, содержим был и содержателен мог быть… Но ныне у нас ни отцов, ни сынов послушных, а из одних сынов блудных на принципе «человек человеку — вор» уповаем страну, хозяйство и культуру построить. «Патернализм» и «инфантиль ность» — эти ругательные слова фигурируют вместо «патриотизм» и «сы новство»…
Однако проблема есть: речь «не мальчика, но мужа» — когда на Руси раздастся?..
Назову другие важные элементы различений. Растительный или жи вотный символизм преобладает в культуре? В России и Германии — более с растением, деревом, лесом отождествление, а в Элладе, в Италии (Вол чица Ромула и Рема, три зверя в песне «Ада» Данте…) и, естественно, в ко чевых народах — человек есть более животное, хотя бы и «политическое» (по определению Аристотеля).
Национальные интуиции сказываются и в физических теориях — в частности, строения вещества и света. В странах германского региона, где пространство мыслится дискретным, преобладают корпускулярные тео рии (Ньютон, Планк…), а во Франции, где по душе континуум, — волно вые (Декарт, Френель, де Бройль…). И т. д.
Разумеется, все эти элементы: Пространство и Время, вертикаль и го ризонталь, мужское и женское, «ургия» и «гония», четыре стихии, основ ные вопросы и прочее существуют в каждом национальном миропред ставлении. Но я выясняю акценты, пропорции, что преобладает. Вот, на пример, набор основных элементов, по которым Французский образ мира отличается от Германского, причём в каждой оппозиции (в духе пифаго рейских пар) французский акцент подчёркнут. Иерархия четырёх стихий: вода, огонь, земля, воздух (германский вариант: огонь, земля, воздух, вода), причём огонь — как свет или жар; мужское или женское; «ургия» или «гония»; прямая или кривая; вертикаль или горизонталь, даль или ширь; зенит (высь, полдень) или надир (глубь, ночь); французская иерар хия времён года: лето, весна, осень, зима; иерархия 5 чувств: осязание, вкус, обоняние, зрение, слух (германский вариант: слух, зрение, осяза ние, обоняние, вкус); музыка или живопись; рисунок или цвет; свет и ве щество — как частица или волна; время или пространство; дом или среда; форма или материя; Труд или Жизнь; происхождение или назначение; ис тория или эволюция; причина или цель; лекция или беседа; система или афоризм; мысль как здание или мысльпробег (discours); доказательство или очевидность; рефлексия или авторитет; опосредствование или до стоверность; внутреннее или связиотношения; индивид или социум; необходимость и свобода — или судьба (предопределение) и случай; пус тота или полнота; дальнодействие или близкодействие; интравертность (психики) или экстравертность; внутреннее или внешнее; объём или по верхность; «тяни» или «толкай» как причина движения и т. п. Для фран цузского Логоса характерна фигура баланса, или симметрии (а не анти номия).
— Выработались ли у вас какието максимы, которыми следует руко водствоваться при описании национальных образов мира?
— При описании национальных типов и умов полезна презумпция непонимания как руководящее правило. В самом деле: если я, придя в иную страну или знакомясь с новым человеком или идеей, заранее пола гаю, что здесь встречу то же самое, то я уже знаю, но с некоторыми нюан сами, — я слишком самоуспокоен, а мой мозг ленив и самодоволен и под сунет мне привычную схему мира, — я так и доложу, что здесь всё то же са мое, лишь свою расцветку дают да орнаменты вышивают по одной и той же канве и одному рисунку главного, — ничего существенно интересного и особенного нет, значит, и поучиться здесь нечему. Но если я войду с тре петным ожиданием встретить неведомое, парализую свои привычные схемы, попробую превратить свой ум в tabula rasa, чтобы новый мир там беспрепятственно писал свои письмена, и буду вслушиваться — о! тогда больше гарантии, что я постигну здешний образ жизни и мыслей. Сказав себе: «Я не понимаю», мыслитель всегда в итоге работы добывает более глубокое знание, чем сказав себе: «Я понимаю».
А в суждениях и оценках критерий — возлюбленная непохожесть: что в данной стране и культуре видят так и понимают, как я, мы, в своём, — не вполне видим и понимаем, — так что взаимно дополняем друг друга. И так в современной цивилизации, с её глобализацией и опасностью стандартизации, представить каждый мир — как особый инструмент и тембр в симфоническом оркестре человечества…
Более 40 лет посвятил я описанию национальных образов мира, и вы лилось это предприятие в 20 томов, из коих около 10 уже опубликованы. Так я утолял свою потребность в путешествиях. В советское время за гра ницу мало кого пускали, а видеть мир мне страсть как хотелось. Вот и вы работал я жанр интеллектуальных путешествий, — чтением и воображе нием. На годдругой погружаюсь в Италию, Германию, Англию, Фран цию, Америку, Индию, страны Востока, описываю Космос Ислама, Ев рейский образ мира… Читаю про природу, быт, историю, изучаю литера туру, философию, науку, религию, искусство, смотрю кино… Записал свои соображения — и как будто съездил в страну, а в итоге некий портрет национальной культуры вышел. В Эросе угадывания я доискивался до не коей константы, идеипризвания каждого национальноисторического организма, его «энтелехия» = «целевой причины», его судьбы, ради осу ществления чего он возникает, творит свою культуру и затухает…
— Большой корпус ваших работ — на перекрёстке между Гуманитар ностью и Естествознанием. Каким образом вы, «лирик», перешли к размыш лениям над «физикой»?
— Описание целостности каждого национального мира могло осуще ствляться в ходе междисциплинарных исследований. И потому я, фило лог, описав несколько образов мира на гуманитарном материале, естест венно, задался вопросом: а в естествознании как? Сказывается ли нацио нальная ментальность в теориях учёных, в изучении природы, в физике, даже математике? Устыдясь гуманитарной односторонности своего обра зования, принялся в середине жизни я, «лирик», заново штудировать фи зику, математику, химию, биологию… и стал строить мост (рыть туннель?) между гуманитарностью и естествознанием — этими так далеко разошед шимися ныне сферами культуры. Постулат такой: Инвариант Бытия предстаёт в двух вариантах: на языке наук о природе и о человеке, — и на до обратить их лицом друг ко другу на Узнавание родни, сродства между сюжетами Духа и проблемами Природы. И стал я проводить гуманитарно естественнонаучные параллели и соответствия, например: электромагне тизм — и романтизм, строение вещества — и психологический анализ, аг регатные состояния вещества — и общества, полупроводники — и полу кровки… В этом русле мои книги: «Книга удивлений, или Естествознание глазами гуманитария, или Образы в науке» (М., 1991), «Наука и нацио нальные культуры (Гуманитарный комментарий к естествознанию)» (Рос товнаДону, 1992), «Гуманитарный комментарий к физике и химии (диа лог между науками о природе и о человеке)» (М., 2003), «Математика гла зами гуманитария» (М., 2006). Написаны: «Зимой с Декартом. Француз ский образ мира и стиль мышления. Опыт художественного исследования естествознания», аналогичный том про Англию, где Шекспир и Ньютон, Байрон и Дарвин глядят друг на друга…
Все эти мои сочинения: и про национальные миры и умы, и те, что на перекрёстке между гуманитарностью и естествознанием, — написаны в руслежанре ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ, что я разра батываю с 1961 года. Это — мышление без отрыва от жизни и личности мыслителя. И это — в стиле науки XX века. Экспериментальная физика обратила внимание на активность прибора в процессе опыта: его устрой ство и состояние неизбежно влияют на ход опыта, так что на его «поме хи», на привносимые знания должен учёный делать поправку при вычис лении результата. Ну а в теоретическом мышлении — что прибор? А я сам, человек живущий и мыслящий, и это не без значения: какие свои потай ные загвоздки и сюжеты я могу решать и какой личный интерес преследо вать на сублимированном уровне данной отвлечённой проблемы или об думывая данный факт культуры. Он уже перестаёт быть «данным», но ста новится и произведённым (фактомактом), сотворённым моей душой в контексте личных проблем моей жизни. И не только «помехи» из этого проистекают, но и жизненнострастная, эросная энергия, что одушевляет предмет и своей волей направляет ассоциации, понимания, самоё логи ку — двигаться в том именно, а не ином направлении. На всё это и делает
рефлексию экзистенциально мыслящий учёный. Им творится ПРИвле чённое мышление (к ответственности и перед собой — как человеком жи вущим), и с его помощью извлекаются новые смыслы, каких не откроет в предмете и факте мышление ОТвлечённое. И таковое, где субъектив ность не припрятана стыдливо в поддон, но на виду (карты — на стол!), более объективно и правильно, нежели в этикете чопорной науки, где твои «сопли» — никого не интересуют, а суть «твоё собачье дело». И поче му к культуре я должен подходить в мундире и во фрунт — как слуга? Пус кай и она служит мне: нажитое образование и диалоги с «оракулами ве ков» помогают мне решать проблемы моего существования!
Соответствен и слог мой. В нём не только понятие переплетается с метафорой, но и отвлечённая терминология — с просторечием. Свобод нотворческое отношение к Слову рождает по надобности, ad hoc и нео логизмы философические. Вот некоторые: СВЕТЕР (Свет + Ветер = таков состав русского человека); ПРИРОДИНА, ИСПОВЕСТЬ, ЛЖИЗНЬ (Ложью живая жизнь, что — женское начало, гибкое и лукавое, спасает сяувиливает от прямолинейных мужских рассудочных правд, секущих на «да» или «нет»); МАТЬМА и ТЬМАТЬ (расслышал в 1969 году)…
Подготовил Алексей Нилогов
ФЁДОР ГИРЕНОК
Философия — это наше ужесознание1
Фёдор Иванович Гиренок (род. 1948) — современный русский философархеоа вангардист. Доктор философских наук, профессор кафедры философской антропо логии и комплексного изучения человека философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Автор таких книг, как «Экология, цивилизация, ноосфера» (М., 1987), «Русский космизм» (М., 1990), «Судьба русской интеллигенции» (М., 1991), «Ускользающее бытие» (М., 1994), «Метафизика пата» (М., 1995), «Патология русского ума. Картография дословности» (М., 1998). Фёдор Гиренок является фило софом археоавангарда. Согласно археоавангарду, философия близка литературе. «И это накладывает на философа дополнительные обязанности. Точность фило софского мышления достигается не только разработкой специальной техники язы ка, но и поэтической организацией философского текста, а также использованием глубинных ресурсов языка: пословиц, поговорок, сказок, языка повседневности, на циональных идиом. Археоавангардисты ориентируют свои философские тексты на чтение вслух, на голос. И поэтому тексты должны быть краткими и заниматель ными. Они должны не скрывать лежащие в их основе метафоры, а показывать их, что требует определённого синтаксиса. Идеальный философский текст является, по мнению Гиренка, бессловесным, а речь — немой. Бессловесность текста и немота речи задают, как он полагает, такой горизонт рассмотрения проблем, внутри ко торого устанавливается сопряжение «архе» и авангарда. Реализация идей фило софского археоавангарда привела к необходимости пересмотра всей системы фило софских понятий, и прежде всего понятия «Бытие». Бытие — это не присутствие, не то, что связано со временем или местом, а то, что существует в режиме усколь
1С сокращениями текст опубликован в газете «Литературная Россия» № 44 от
03.11.2006: http://www.litrossia.ru/article.php?article=881.
зания. А если бытие ускользает, то что же остаётся? Остаётся нечто временное, преходящее и в этом смысле условное. Во временном обнаруживаются следы присут ствия слова. Решивший пойти по следам слова никуда не придёт в силу ускользания бытия. Пути условного ведут в бесконечный тупик, в пространство пата. Это пространство создаётся обменом знаками между дуальными структурами. Архео авангард исходит из того, что жизни достаточно языка чувств, а истине — языка мышления. Но язык мышления, считает Гиренок, неприменим к жизни. И в момент отсутствия истины, её децентрирования этот язык образует самозамкнутое симу лятивное пространство культуры. В основе любой культурной симуляции лежит другой, отношение к другому. Симуляция и временное, условное обнаруживают фун даментальное тождество. Что же противостоит временному? Дословное. Бытие ускользает в быт. Дословность чувства начинает противостоять симуляциям реф лексивного сознания, временному. Симуляции ума могут привести к безумию. Дослов ность чувства — к бесчувствию. От безумия человека спасает заумь. От бесчув ствия — задушевность, сердечность. В поисках сердечности зауми и состоит, по мнению Гиренка, смысл философского археоавангарда»47.
1. Забавы современной философии
Современная философия представляет собой довольно забавное зре лище. В ней есть несколько динозавров и ещё есть охотники на этих ди нозавров. Динозавры погибают, охотники остаются. Погиб Делёз, умер Деррида. И ничего. В философском сообществе могильная тишина. Ни какой реакции. Отдали Богу душу Бибихин, Зиновьев и Бородай. Слабое шевеление.
Философы, как маленькие дети, привыкли играть с любимыми поня тиями. Забавляясь, они, как ёлку, украшали истину, пели очаровывающие песни субъекту, наряжали в разноцветные одеяния реальность. Но тут пришли злые дяди постмодернисты и отобрали у них эти игрушки. Рас сердились философы, подняв страшный вой. Возненавидели они пост модернистов, ругая их последними словами за то, что они придумали какуюто философию без субъекта, без истины, без реальности, без сущ ности.
Я не постмодернист. Я археоавангардист, то есть для меня прошлое не умерло. Я соединяю архаику и авангард, имея в виду, что прошлое го ворит на языке будущего. Будущее без прошлого не имеет силы. Знание — это не сила. Чтобы дать ему силу, его нужно соединить с первобытной эмоцией, с дикой страстью. Это действие и составляет смысл археоаван гарда.
Но сегодня я хочу утешить тех, кто любит играть в классику, в акаде мическую философию. Бог с вами, играйте. Мы подарим вам новые иг рушки. Только не мешайте нам работать. Умерьте свой догматизм.
Постмодернистов же я хочу поблагодарить за то, что они сделали не сколько великих вещей.
Первое. Они научили нас различать мыслящее и разумное. Разум ное — не значит мыслящее. Таков девиз современной философии. Пост модернисты поставили под сомнение весь тот идейный багаж, который накопила Европа и тем самым ослабила притягательность европейского интеллектуального пространства. Постмодернизм дал нам редкий шанс быть самими собой, самоопределиться.
Второе. Теперь очевидно, что античный проект философии и совре менный радикально отличаются тем, что в античности стремились к ра зумному, сегодня же мы обеспокоены сохранением своей мыслящей при роды. Сегодня мы знаем, что быть разумным — не значит мыслить. А мыслить — не значит быть разумным.
Третье. Кто хочет мыслить, тот должен перестать играть в классику, рассуждая о сущностях, законах, субстанциях и прочем. Не основания, а пределы возможного интересуют нас сегодня. То, что есть, на пределе пе рестаёт быть тем, что оно есть. В пространстве предела мышление носит не понятийный характер, а парадоксальный. Здесь нельзя сохранить яс ный взгляд субъекта. Здесь нет ни истины, ни лжи. Приблизившись к пре делу возможного, нельзя следовать логике бинарных отношений. Здесь ты, как сплавщик леса, прыгаешь с бревна на бревно, а не подчиняешься априорным предписаниям разума.
Четвёртое. Постмодернизм — это не мода, которая приходит и ухо дит. Это отчаянный жест европейских интеллектуалов, открывший нам новый горизонт мысли. Лишь самые безнадёжные поклонники рацио нальности всё ещё продолжают строить систему, лишённую противоре чий. Они ищут то звено в цепи знания, которое превратит их знание в сис тему: мы же ищем то, что не позволяет системе стать системой.
До сих пор философия существовала в трёх измерениях. Она могла быть либо проективной, или деятельной, как у Фихте и Щедровицкого. И тогда в ней доминировал субъект. Либо же она была опытной, как у Шопенгауэра или у Мамардашвили. И тогда в ней объект доминиро вал над субъектом. Либо же она была половинчатой, как у Декарта и Кан та. И тогда в ней количество действий приравнивалось к количеству испытаний, и тем самым достигалось подобие какогото равновесия суб станций.
В таком сонном состоянии философия могла бы просуществовать ещё очень долго. Если бы не одно обстоятельство. Она перестала кому либо быть нужной. Ею перестали интересоваться не только образованные люди, но даже еврейские девушки. Философия ещё по инерции чтото го ворила, но никому ничего уже не могла сказать. Поэтому её сдали в архив, отправили на склад, как хлам, как старую ненужную вещь. Тут же на шлись историки, которые составили из философов, как из бабочек, герба рии, пронумеровали их, подшили к делу, и эти дела стали показывать на факультете ненужных профессий.
Поскольку философии не стало, а философов ещё было много, по стольку им надо было чемто заняться. Самые умные стали экспертами, убеждающими легковерных в том, что всё, что существует, существует как текст. А поскольку текст — это лабиринт, или, как выразился один писа тельотщепенец, бесконечный тупик, постольку в нём без специальных знаний не обойтись. Эксперты разработали технологию чтения и стали мастерами игры в бисер. Другие же занялись искусством, пошли к худож никам, полагая, что люди искусства сообщены с миром иного и их устами говорит высшая истина. А поскольку самим философам сказать нечего, постольку часть из них толпится около поэтов и художников, слушая их и толкуя.
Среди философов появились мастера по телам без локализации, по теням. Появились теоретики фотографий, специалисты по кино и визу альной антропологии, дизайнеры поверхности и визажисты образов. Ко мизм положения состоит в том, что и художникам уже сказать нечего. Никто через них ничего не говорит. Они самовыражаются. Искусство ста ло производством, эстетика — технологией, а художник — инженером. Режиссёр строит спектакль, как инженер строит мост. Авангард расширил границы искусства до предела, до невозможного. Оно вышло из музеев, концертных залов и переместилось на улицу, на обложки глянцевых жур налов, в дома, переходы метро, в места массовых скоплений людей.
Большая часть философов стала историками и методологами, кото рые, как нищие на паперти, встали около храма науки, полагая, что им чтонибудь да перепадёт от её щедрот. Продвинутая часть интеллектуалов переместилась поближе к политике, к власти, создавая информационные шумы. Политтехнологи размножились, как крысы, став членами ордена золотого тельца.
Тёмное облако скуки накрыло Галилею философии. Философия се годня забавляется тем, что она продолжает мыслить мыслимое, встретив шись с немыслимым.
2. О входном билете в философию
Греки научили нас мыслить мыслимое, предупредив, что мыслить не мыслимое нельзя. Если мы это сделаем, то станем жалкими аутистами, а не успешными реалистами. Всё это значит, что они тождество бытия и мышления сделали входным билетом в философию. Если у тебя есть би лет, то входи в круг посвящённых. Не будь дураком и верь, что мир устро ен так, что взаимодействием его частей воспроизводится и мир, и мысль в мире. И у тебя есть место в этом мире, за которое нужно заплатить тем, что границы твоего сознания будут всегда, как говорил Витгенштейн, очерчены языком. И ты всегда сможешь сказать то, что хочешь.
Человек понимает больше, чем язык может ему это позволить выра зить. Иногда слова не нужны нам для понимания. А это значит, что не гра ницы сознания очерчены языком, а границы языка очерчены сознанием. И к этому сознанию мы обращаемся за помощью, когда нам нужно по мыслить немыслимое.
Поскольку мысль — это всегда новая мысль, а бытие — это всегда одно и то же бытие, постольку мышление и бытие не могут встретиться. И поэтому мысль может начинать себя всякий раз заново без оглядки на бытие. В итоге входным билетом в современную философию становится не тождество бытия и мышления, а идея самоактуализации самости. Бла годаря свойству самоактуализации самости возникает реальность.
Но только пусть не говорят нам, что мы субъективные идеалисты, ибо мы скажем в ответ: лучше самость без «я», чем «я» без самости.
3. Зачем нам самость без «я»?
Самость без «я» — это «младенец», то есть мыслящий хаос, то, что мо жет стать иным, только воздействуя на себя. Это мыслящая, но не разум ная субстанция.
Сегодня честный человек поставит в центр не местоимение «я», не его активную форму, а пассивный оборот, страдательный залог. Он не ска жет: «Я вижу деревья», он скажет: «Это они смотрят на меня». Правильнее говорить не «я почувствовал», а «мной чтото почувствовало себя».
Несовершенный вид действия оттесняет совершенный вид. Усколь зающее «что» обессмысливает предметность, ибо никто не может сказать, что он сделал. Ты можешь говорить только о том, что находишь себя в ре жиме делания. Ты больше не субъект, а значит, и не мыслитель. И самовы ражаться тебе ни к чему.
Если ктото всё же говорит: «Я думаю», то это не значит, что в этот момент сознание встретилось с языком, а это значит, что «я» встало на место «оно». В тебе подумала себя какаято инстанция. И ты торопишься заменить её рефлексивным штампом, ибо «я» никогда не думает, оно только рефлектирует. А думать и рефлектировать одновременно невоз можно.
Освободив себя от надзирающего ока «я», современной философии удаётся приостановить действие трансцендентальной иллюзии, суть кото рой состоит в том, что она возможное наделяет преимуществами по отно шению к наличному.
Трансцендентализм вообще оправдывает агрессию условного по от ношению к обусловленному. И эта агрессия будет совершаться до тех пор, пока действует магия реальности, пока мы не избавимся от порядка, на вязываемого бытием. И следовательно, пока мы не откроем горизонт ак туализации действия нереального, невозможного, которое представлено нашей самостью. Самость без «я» — это невозможная фактичность или, что то же самое, актуальная нереальность. Самость виртуальна, ибо в ней фактическое всегда равно возможному. Самость без «я» нам нужна для то го, чтобы был мыслящий хаос, чтобы не возникло разумное, но не мысля щее начало.
Распад «я» лишает феноменологию причины её существования. Фе номенология имеет смысл при сопоставлении возможного и наличного в порядке реальности. Если актуальное выходит за пределы реальности, то опыт выходит за пределы вербального. Современная философия отказы вается понимать опыт как всегда вербальный опыт, а сознание как непре менно языковое сознание.
Чтобы кристаллизовались смыслы актуального, требуется не Фрейд, не психоанализ речи, а визуализация и театрализация невозможного, то есть внутреннего опыта. Наши сны не столько говорят, сколько актуали зируют невозможное, пересекая пределы внутреннего опыта. Предель ным пунктом внутреннего опыта являются так называемые симулякры, беспредметность которых разрушает объективирующие функции созна ния, лишает смысла его интенциональную структуру. Сознание — это уже не целесообразность без цели, не надежда, структурирующая мир, а чистая самость, спонтанное раздражение себя своими галлюцинациями. Применительно к «самости без “я”» бессмысленно говорить, вышла она как бессознательное на поверхность или не вышла, зацепилась она за сло во или она зацепилась за случайную материю. Бессознательное — это не удачное сознание. Самость же — это не вместилище мыслей и чувств, удач и неудач сознания. Это присутствие себя по отношению к себе. Это на пряжение, которое, как морская волна, исчезает и вновь появляется. Са мость обладает свойством самоактуализации. Благодаря этому свойству она существует вне и помимо индивидуальных усилий человека стать че ловеком. В самости можно пребывать или не пребывать. В ней возникают структуры без всякого воздействия извне. Сознание является результатом её самоактуализации, а не высшей степенью возможного в составе реаль ного. Одно и то же множество эмоциональных, спонтанно действующих элементов есть актуализация подобного внутри самости.
Когда я бодрствую, я автомат, мои действия ускользают от меня само го. Например, я читаю, но я не понимаю прочитанное, то есть мои действия развёртываются в пространстве сознанияязыка и не развёрты ваются в пространстве самости, действия себя на самого себя. Поэтому я могу смотреть и не видеть, слушать и не слышать.
Сознание — это, как хорошо сказал Мамардашвили, не глубинные структуры языка и не последовательность внешних действий. Это неожи данное «вдруг», это твоё взбрыкивание, когда от тебя ждали одно, а ты предложил другое. И в этом предложении находится твоя свобода и твоё сознание.
В эмоциональном воздействии на себя всегда есть ужесознание. В воздействии на другого образуется его знак. Ужесознание — это внут реннее знание, которое достигается серией уподоблений с невозможным, а внешнее знание достигается приспособлением к реальности.
4. Почему философия нуждается не в опыте, а в воображении?
Сегодня ещё живут люди, которые всерьёз полагают, что только по средством соотношения с западной мыслью можно обеспечить себе пре бывание в сфере мыслительной культуры. Но западная мысль основана на таких понятиях, как реальность, бытие, сущность, субъект. Отказ от этих понятий, их переосмысливание составляет содержание тех способов, ко торыми существует современная философия. То есть современная фило софия доопределяет себя вдали от центра устойчивости, именуемого «за падной мыслью». Когдато Булгаков понял, что Карл Маркс не прав, что капитализм и земледелие несовместимы, что крестьяне — это не рабочие, а православные — это не протестанты. И написал книгу «Капитализм и земледелие». А затем два тома этой книги представил на Учёный совет как докторскую диссертацию по экономике. Но Маркс — это европейское светило, а Булгаков — никто, моська, которая лает на слона. И Учёный совет приравнял его работу не к докторской, а к магистерской диссерта ции, ибо Булгаков хотел обеспечить своё пребывание в мысли без соотне сения с западной культурой. Булгаков поумнел, перестал критиковать ев ропейских мыслителей и написал новую диссертацию под названием «Философия хозяйства». Смысл этой работы мало кто понял. Но доктор скую степень по экономике Булгакову присудили. Хотя в ней мало было экономики и много рассуждений о всеединстве и софийности хозяйства.
Философия перестала быть картиной мира. Она не отражает мир, а изобретает его. Не царское это дело — обобщать случайные содержания наук. Её дело — бродить в поисках пределов возможного.
Предел возможного — невозможное. Предел реального — нереаль ное. Возможное и реальное — интеллектуальные двойняшки, близнецы братья. За их пределами находится невозможное и гиперреальное. С ре альным сопоставим опыт. С гиперреальным — воображение. Опыт всегда идёт по следам воображения.
Современная философия нуждается не в опыте, а в воображении, по тому что опыт линейно упорядочен, вербально выразим. Опыту нужна па мять. Воображению нужна галлюцинация, вневременная одномомент ность, то, что не раскладывается в последовательности знаков. Поэтому любой текст, даже если он проглотил бесконечность, является ущербным, ибо в нём нет представленности целого. В нём есть плоскость, но нет объ ёмности воображения. Глупо приравнивать мир к тексту. Мир — это не текст, а объективированная галлюцинация. Если когданибудь филосо фия прекратит поиск пределов мысли, то она перестанет мыслить, пре вратившись в банальность, в коммуникативный шум. От такой филосо фии, как чёрт от ладана, будут бежать все порядочные люди.
Философия — это, конечно, имена. Нет имён, нет философии. По этому нам нужны имена. И глупо искать философов в институтах, энцик лопедиях, учебниках и словарях. Её там нет. Социальная институция — это морг мысли. Прибежище для анонима, для культурологов, то есть лю бителей зонтиковедения.
А поскольку анонимной философии не существует, постольку нет причин для существования школ и традиций. Хотя они иногда и сущест вуют. Но относятся они уже не к философии, а к культуре, которая всегда анонимна и невменяема. Философская школа — это прежде всего точка расхождения ума и безумия, место умирания философии.
Мысль — это не замена одних знаков другими, не поиск одного и то го же. В мысли соединяются воображение и опыт. Предел мысли — в не мыслимом, в безумном или, как хорошо сказали обэриуты, в заумном. Поэтому история философии — это не история ума, а археография связей опыта и воображения, ума и безумия. Многие «умные вещи» не могут фи лософией восприниматься всерьёз в силу их недостаточной безумности, в силу того, что в них мыслится мыслимое, возможное и не мыслится не возможное, немыслимое.
5. Почему ум тоскует по безумию?
Сам по себе ум осторожен. У него есть социальный статус, учёная степень. Он знает, что можно, а что нельзя. Ум — филистер, который го тов всё оправдать задним числом.
Безумие опасно. Его боятся. От него бегут, потому что оно не знает меры и нарушает социальный порядок. Безумие резвится где хочет, не считаясь с правилами публичности и логикой. В безумии мысль не соеди нена со словом, воображение — с опытом. В нём ум расплавлен страстью.
Проблема же состоит в том, что истоки ума находятся в безумии. Бе зумие — это не отсутствие ума. Это то, что может подарить себе ум. И по этому куда бы ум ни пошёл, он будет идти по пути, структура которого ве дёт к месту его рождения. И только заумность человеческой жизни спаса ет ум от полного безумия, от полного разрыва между воображением и опытом, между словом и мыслью.
Любовным трением ума о безумие создавалась мысль. Любой фило соф освобождает безумие, таящееся в уме, и одновременно прививает ум безумию. Это не нравится власти и русской интеллигенции, которая пы тается отделить ум от безумия, от необходимости мыслить немыслимое.
Власть сажает безумие, как злую собаку, на цепь, изолирует его в доме для дураков. И поэтому власть всегда глупа. Причину глупости всякой власти нас научил понимать М. Фуко, согласно которому ум — это безумие, ко торое философы приручили, сделали домашним. В русской философии я знаю два примера одомашнивания безумия. В одном случае — это Сергей Булгаков. В другом — Андрей Белый.
В начале ХХ века в России все интеллигенты были марксистами. Как сегодня интеллигенты — постмодернисты. Но Андрей Белый не пошёл на поводу у моды. Не стал называть себя марксистом без исследования марксизма. Он пошёл в магазин, купил три тома «Капитала» и стал счи тать. Жить ему оставалось 8 лет. Это он знал мистериально. Из них три года ему нужно было отдать на изучение Маркса. Кроме этого Белому нужно было написать один том по истории символизма, да ещё один том поэзии, да ещё проучить Блока, действовавшего ему на нервы. Подумал подумал Белый и решил не изучать Маркса. Так Белый не стал марксис том. И это было единственно верное решение, ибо марксистов у нас мно го, а Белый один.
Марксизм без Маркса, фрейдизм без Фрейда, христианство без Христа — это как кофе без кофеина. Пустой знак, симулякр. И многие из нас сегодня вовлечены в этот обмен пустыми знаками, ибо скорость сме ны событий так велика, что смыслы нами не успевают извлекаться и мы ничего не успеваем понять. Так мы и живём в режиме неизвлечённых смыслов и расширяющихся симулятивных пустот культуры. Этой пустоте может противостоять только ужепонимание, но оно ограничено воздей ствием себя на самого себя. Чтобы достать из глубины смыслы ужепони мания, нужна визуализация теоретического дискурса, а также его театра лизация. Ибо в них объект дан вместе с языком его понимания, то есть объект дан в горизонте субъективирующего мышления. А это значит, что кризис понятийного мышления состоит в отделённости объекта от языка его понимания.
Ближайшим следствием визуализации и театрализации теоретиче ского дискурса является изменение характера философии. Философия не может быть больше такой, какой она была ещё в ХХ веке. Философия на чинает осознавать себя как драматургия. У неё появляется сценарный план. Она должна упаковать себя в ясные минималистские формы. В фи лософии слово начинает выходить за свои пределы, образуя философ ские просодии, то, чего нет в языке, но что мы понимаем. Что может нас радовать, печалить или веселить.
Сказанное философией может иметь смысл только на фоне не сказанного, недоговорённого и одновременно на фоне сверхсказан ного. Вот онито и подлежат символизации. Тогда как понятия ограни чиваются сказанным, вернее, тем, что может сказаться в бесконечности.
Итак, ум тоскует по безумию потому, что это его родина.
6. Почему история философии губит философию?
1. Предмет философии — сама философия. Суть философии состоит в её самооговаривании. Но самооговор нельзя редуцировать к разговору, а философию нельзя свести к истории философии. Если история — это по вествование, рассказ, то философия — это испытание пределов возмож ного. К сожалению, философия состоит из индивидуализированных, ав торских знаков. Авторский знак — это не знак, а символ, который нельзя перевести на язык знаков. Если бы его можно было перевести, то тогда философию можно было бы свести к истории философии. Но, слава Бо гу, искусствоведы не могут заменить искусство, а историки философии — философию.
Поэтому Гегель, например, попрежнему воспринимается не как ис торик философии, хотя он написал историю философии. Гегель — фило софиллюзионист. Он галлюцинирует персонажами из истории, раздра жает себя ими, возбуждается и мнит себя Наполеоном. Историк же со здаёт оптическую иллюзию, заставляющую видеть историю мысли в том, что мыслью не является.
Историк философии появился недавно. Ему исполнилось всего какихнибудь 150 лет. Но социальная роль его велика, хотя он и является простым хранителем того, к чему не имеет никакого отношения. Поэто му, например, Диоген Лаэртский — это не философ, а свидетель, кладов щик идей и текстов.
Когда Мамардашвили читает Канта, он страшно далёк от профессии историка. Для него Кант — это не текст, а набор метафор, универсальная индивидуальность. Если Делёз пересказывает Лейбница, то не потому, что он историк философии. Он философ, то есть пионермичуринец, чело век, который делает прививки одного смысла другому, заставляя Лейбни ца говорить не то, что он сказал, а то, что подумалось Делёзу. Делёз при водит в движение Лейбница, оживляет его, заставляя его быть в качестве суррогатной матери своих идей. И мы слышим живой, а не могильный голос Лейбница. Когда же Лейбница читает Куно Фишер, он создаёт из него кладбище мыслей. Мы слышим голос только Фишера. Лейбниц молчит.
Фишер — историк философии, а не философ. Он не прививает смыс лы. Он их как орехи выколупливает, он мошенничает, то есть достаёт из текста то, что туда подложил. Историк создаёт оптическую иллюзию, за ставляющую видеть мысль в том, что мыслью не является. Вывод: фило софию понимают только философией, а не историей. Историки знают, но не понимают. Знание убивает понимание, рефлексия убивает мысль.
История — чистая репрезентация философии, означающее без означаемого. Это присутствие, которое не указывает на отсутствие. Немно гие почувствовали, как совершился переход из пространства мысли в пространство текста, производство и потребление которого может суще ствовать, в свою очередь, лишь имитируя мысль, создавая иллюзию её су ществования. История философии ничем не отличается от истории пуго виц и шляп.
Историк производит симулякры, которые, как ракушки, налипают на интеллигибельное тело философии и мучают его, паразитируя на нём, расширяя симулятивные пустоты культуры. Историкам философии не нужна больше философия. Им нужны детали, обстановка. Им надоело быть посредниками и проводниками к истине, причиной которой они не являются. Они хотят быть поверенными истины, её творцами. Сообще ние о философии они сделали философией. Но пусть они не мешают тем, кто черпает из источников самого разума. Пусть они, как говорил Кант, подождут, пока мы делаем своё дело, чтобы потом возвестить миру о слу чившемся. Историк — страж культуры, а философия — занятие антикуль турное. Историки, презрев необходимость искать пределы мысли, взяли реванш, навеяв золотой сон культуры на неискушённые умы.
Если бы философия говорила о том, что лежит за пределами философии, то она говорила бы не своим голосом. Однажды философия не удержалась, сфальшивила, заговорила чужим голосом, и в результате этой ошибки возникла наука. Ещё раз ошиблась, и возникла теология. Ошиб ки философии упоительно плодотворны. Но не об этом сейчас речь.
Свой голос был у философии только в юности, в обворожительной античности, в момент, когда светлый день возрождения пришёл на смену ночи греческого Средневековья. В этот день у греков появился мало азийский акцент. Гомера потеснил Фалес, а «Илиаду» стали затмевать разговоры философов, пришедших с берегов Малой Азии.
Чарующий голос философии стал искажаться уже у римлян. Типич ный пример искажения — Цицерон. А затем он у неё и вовсе пропал.
Тысячу лет философия испытывала репрессии всемогущей теологии. Затем власть переменилась. Теолога сменил учёный. Авторитаризм науки раздавил хрупкую энтелехию философии, и она стала наукообразной. В ней появилось чтото холодное, металлическое, фабричное.
У философии нет отличного от неё предмета, нет своего языкаи нет специального метода. Представления о методе, языке и предмете философии выдумали преподаватели философии. А поскольку препода ватель говорит анонимно, не от своего имени, а от имени своей дисцип лины, постольку он не философ, а дисциплинарный историк.
Беспредметность философии ставит под вопрос любое знание, которое всегда случайно. Философия ничего содержательного сказать не может. Но это от неё никто и не требует. Важно, что она бытийствует в мо мент исполнения своего бытия, в момент своего говорения. И это её гово рение не имеет внутри себя смены состояний. Философия — это длящая ся вечность выговариваемого ею смысла. Это как бы уже пройденная бес конечность. Историк измеряет бесконечность конечными началами. Ему тяжело нести философские смыслы, бесконечность надламывает его, и он отказывается от неё, хватаясь за спасительную соломинку случайного исторического знания «здесь и сейчас».
Философия не нормирована, своевольна. Историк философии —транслятор норм. Это лазутчик культуры, соглядатай власти.
Ему не нужно длить немоту бесконечного смысла, и поэтому он же лает прервать самооговаривание философии, её сакральное бормотание. Он хочет заставить её замолчать, чтобы дать себе слово. Для историка фи лософия хороша, когда она молчит.
Историк философии — это душегуб философии, тот, кто втайне ле леет мысль о её смерти и уже видит себя её патологоанатомом. Для него философия была всегда вчера, в прошлом. Поэтому последнее слово ис торик оставляет за собой. Любая история философии — это набор некро логов и медицинских диагнозов идей.
Философия несистемна, фрагментарна. Её мышление парадоксально. Её мысль не завершается знанием. Она о невозможном. Чтобы поместить философию в представление о философии, её нужно упрос тить. Историк философии, создавая схемы упрощения, ищет то, что поз воляет мысли завершиться, стать системой, то есть умереть.
Без философии, без её безумия человек задохнётся в скорлупе своей субъективности. Историк лишает философию её безумия. Философ — это «волонтёр духа», способный разогреть себя до плазменного состояния своей самости. Историк видит в философии какието знания о мире. Но философия — это не знания, а один из важных органов самопорождения человека, орудие самосоздания человеком в себе человеческого.
Философия — это наше ужесознание. История философии — это событие языка, шум которого заглушает сознание.
7. Почему в современном мире мыслит не мыслитель, а менеджер?
В рассказе Гофмана «Угловая комната» парализованный человекпытается научить здорового человека смотреть на тех, кто движется. Суть его визуальной антропологии состоит в отказе наблюдателя от движения, в уподоблении себя тому, кто разбит параличом.
Так вот мыслитель — это человек, сознательно потерявший спо собность двигаться. Это символический паралитик, наблюдающий за жизнью из угловой комнаты своего «я».
Все мы парализованы, когда сидим на лекции, на концерте, в театре, в библиотеке, в грузинском ресторанчике на Волхонке. Но не все мы при этом попадаем в угловую комнату своего «я», пребывая только зрителями или слушателями, а не участниками индуцированного внутри нас самих процесса мысли.
Тот, кто мыслит, производит сегодня не мысли, а тексты. Текст, всвою очередь, производен от публикации. Мысль же не зависит от того, выставлена она на всеобщее обозрение или нет.
Публикация — это социальный акт, затрагивающий множество ин ституций, ролей и статусов.
Публикация может иметь стратегию, но она лишена самости, как утюг лишён души.
Крах позиции мыслителя говорит о том, что глупо выглядит тот, кто всё ещё пишет в стол, кто надеется, что потом, когданибудь его мысли будут найдены и обнародованы. Мысль — это не то, что подумал мысли тель. Это то, что опубликовано менеджером в качестве мысли.
Поэтому мыслит не мыслитель, а менеджер мысли. Текст же — это убийца мысли. Понимать мир как текст — значит накладывать запрет на внутреннее знание, на то, чтобы ктото пытался освободить ум своего безумия.
3. Что значит мыслить? И так ли уж необходимо сохранять простран ство мысли? Мыслил ли Раскольников, когда брал в руки топор и шёл убивать старуху? Мыслил ли Коперник, пришедший к выводу, что Земля вращается вокруг Солнца? Мыслил ли Галилей, когда отказался от этой мысли? Мыслю ли я, зажигая в сумерках лампу? Мыслит ли художник красками на полотне? Мыслит ли мошенник, обманывая свою жертву? Мыслит ли мой сосед, когда он с трудом подбирает слова для того, чтобы выразить смуту своей души?
Мысль — это простое, далее неразложимое действие. Оно, как атом, неделимо и дано сразу полностью и целиком. Например, вот мне грустно. Грусть — это мысль или не мысль? Грусть — это не мысль, это настроение, которое объясняется не указанием на какуюлибо реальность вне её, а аутистическим самовоздействием, раздражением себя. Для того чтобы себя раздражать какойто галлюцинацией, нужно сознание. То есть грусть раз вёртывает себя в плане событийности и одновременно в плане сознания. Оно и событие, и сознание события. А это значит, что грустить — не зна чит мыслить. Но чтобы мыслить, нужно грустить. До сознания нет собы тия грусти. А без эмоции нет сознания. Сознание нам нужно не для того, чтобы чтото отражать, а для того, чтобы воздействовать на себя при по мощи образов и символов.
Грусть дана нам вместе с языком её понимания. Когда мне грустно, я не ищу в словаре статью под названием «Грусть», чтобы узнать, что значит грустить. Грусть относится к ужесознанию, к тому, что уже понятно. Что бы мне было грустно, нужно, чтобы вообще была возможность самому действовать на себя до «я», без всякого «я».
Тождество типа «я есть грусть» в дальнейшем может быть заменено субъектпредикативной структурой «я грущу». Или «мне грустно». Затем я понимаю, что «мне грустно, потому что пришла осень». Но и в этот мо мент я не выхожу за пределы субъективирующего мышления. А вот когда я отделяю то, что развёртывается в плане события, от того, что развёрты вается в плане сознания, я получаю чистый событийный ряд, который я познаю, но который не дан мне вместе с языком понимания. То, что осень пришла, никак тогда не связано с тем, что я грущу. Я вдруг оказываюсь в мире, в котором собаки бегают, кошки мяукают, а солнце всходит и захо дит. И всё это совершается вне связи со мной, на меня это не действует. Вернее, всё это не связано с сознанием, с воздействием меня на самого се бя. Собака лает, а мне и не грустно, и не весело. И вот этот мир я начинаю познавать, я начинаю его мыслить, оказываясь в мире суждений.
Себя можно чувствовать, а вот мир нужно мыслить.
Первые мысли были бессубъектными. Они не завершались знанием. Затем появились авторские мысли. Некоторые из них завершались знани ем. А в конце концов появилось знание, не нуждающееся в мысли, давая понять, что мыслить и познавать — разные вещи, что мыслят невозмож ное, а познают то, что есть. Чувство всегда предваряет мысль, ибо чувство даёт существование невозможному, а мысль воображает несуществующим то, что есть.
Если мысль дана нам сразу, полностью, в один момент времени, то одно суждение сменяется другим суждением. Но этот момент может сме нить другой момент. Время — это поток, волны которого смывают следы мысли. И вот тогда появляются те, которые могут удержать себя в мысли, и те, которые не могут удержать. Первых называют мыслителями, вто рых — свидетелями мысли. А ещё есть пророки.
Вот, например, Пифия. Она без сомнения имеет отношение к мысли, воспроизводя её в себе. Но разве она мыслит? Пифия разогревает свою са мость до светоносного состояния, до утраты различий между своим телом и чужим, до неразличимости сна и яви, до уподобления идеи и материи. И начинает говорить. Вернее, она не говорит. Она предоставляет себя тому, что через неё говорит. Ею говорит само Бытие или сам Бог, что одно и то же.
Ценой косноязычия, сакрального шёпота ею высказывается истина, то есть мысль, не завершённая знанием. Но Пифия не является субъектом относительно этой мысли. Пифия — не автор. Следовательно, она не мо жет сказать: «Я мыслю». Её истина, как контрапункт в музыке, диплас тична и, следовательно, в ней целое представлено так, как оно есть само по себе в один момент времени.
Мысли Пифии сакральны, но не операциональны. Они складывают ся у неё вне субъектобъектной структуры, то есть в мистерии.
Греческие философы научились удерживать мысль. Но Пифия безум на в своей мудрости. Она уподобляет себя сверхреальному и пророчеству ет. А философы умны. Они рассуждают о реальности и различают, разла гая простоту целого до множественности.
Аналитические операции над частями целого лишь изредка прерыва ются у греков круговыми вихрями сознания, разогретого эмоциями. В эти моменты им являет себя абсурд, упакованный в неделимое целое, в образ, называемый позднее у Канта синтетическим априори. И в эти моменты они подобны Пифии. И всё же усилиями греков мысль была отобрана у бытия и стала принадлежать мыслителю.
А поскольку мысль удерживается во времени благодаря усилиям то го, кто мыслит, постольку появляется автор мысли, её субъект. А это уже ни у кого не оставляет никаких сомнений относительно того, кто говорит. Пифия удерживает себя в мысли, а греческие философы пытаются удер жать мысль.
Но тот, кто говорит, нуждается в языке, при помощи которого мож но выражать свои представления о мире. Упорядочивая представления, располагая их в последовательности, язык заполнил все норы бытия. Всё стало языком. Но язык различает, а не склеивает. То, что было целым, он дробит и рассыпает в последовательность слов, уходящую в бесконеч ность.
Крах позиции мыслителя начинается в момент осознания того, что всё, что им может быть сказано, уже сказано. В этот момент начинают го ворить о языке говорения, начинают самовыражаться или самопредстав ляться. Тем самым язык обнаруживает свою некреативность. Современ ная философия не может не отказаться от представлений о какойто язы ковости мира. Есть только один язык. И это язык сознания.
Философия, отказавшись от «я», смещая его из центра, приводит нас к состоянию, в котором нам нужно уже не мыслить, а быть подобными Пифии. Поэтому современный философ не мыслит, а пророчествует. Он удерживает не мысль во времени, а себя в мысли. Он не эксперт, а Пифия, поэт, пророк.
8. Почему человек — это аутист, а не реалист?
Кризис современной антропологии состоит в том, что философия, поставив под вопрос существование реальности, тем самым лишила смысла идею приспособления к ней. Теперь невозможно стало мыслить человека как высшую степень возможного, как то, что было подготовле но эволюцией. Человек — это не реалист, а аутист. Даже реалисты должны мыслиться как бывшие аутисты. А это значит, что представление о биосо циальной природе человека лишено смысла, что не труд создал человека, а абсурд. Что в основе искусства лежит не принцип мимесиса, а бессмыс ленность реакций галлюцинирующего сознания. Поэтому реализм в ис кусстве является неплодотворной метафорой искусства. В изобразитель ном искусстве важно не изображение, а воображение. Реальность — это продукт самоактуализации самости человека. И в этом смысле она ничем не отличается от сознания, которое появляется не для отражения мира, а для воздействия на самого себя, для причинения себе ущерба.
Внутреннее знание, достигаемое симуляцией, предшествует внешне му знанию, получаемому имитацией. Симулируют невозможное. Имити руют наличное. Поэтому симулякр — это не подделка, а способ общения без сообщения. Аутист освобождает своё существование от необходимо сти отсылать к другому существованию. Человек относится к невозможно му в составе наличного. При этом следует иметь в виду, что если возмож ное реализуется, то невозможное актуализируется.
Визуализация современной культуры и систем мышления свидетель ствует о реанимации статуса эмоции, о поисках приемлемых механизмов включения самовоздействия человека. В этом самовоздействии «я» не иг рает или почти не играет никакой роли.
Каждый человек, теряя самость, цепляется за другого, за среду своей жизни. Реалист не может помыслить себя без другого, без социума. Если в коммуникации реалиста с другим, со средой обитания происходят раз рывы, то у него меняется аппетит, дезорганизуется сон, появляются пси хоневрозы, нарушается связь с социальной средой.
Сосредоточенность на другом заменяет сосредоточенность на «я». Центром человека оказывается не его «я», не мистическое «мы», а соци ум, множество поименованных других. У героев Платонова на месте «я» оказывается идея революции, государства, партии. Эти идеи, как молит ва, непрерывно творимая, пронизывают всего человека, окрашивая его личную жизнь, семейные отношения и сновидения.
Центрированный социумом человек должен быть в постоянном дви жении, в действии. Его работа не должна прекращаться ни на минуту. Да же во сне он должен работать. Его действия исключают всякую паузу, со зерцание, размышление. Во всякое время он готов ко всему. В нём ценит ся эмоция риска, поиск нового, желание быть первым.
Реалист порывает отношения с тем, что его окружает. Он не может ни с кем иметь долгие близкие отношения. Внешнее становится неотчужда емым от его «я». То есть между внешним и внутренним человеку нельзя поставить своё «я», ибо оно дано уже вместе с внешним. При разладе меж ду «я» и средой происходит распад в «я», в душе. У реалиста нет самости. Он человекфункция, его «я» сращено с его ролью.
«Я» — это просто мировая дыра, поименованное другим несущество вание. Ибо в социуме каждому «я» присваивается имя, которое не являет ся актом самонаименования. Именованное другим «я» говорит на языке другого. Собственная речь «я» пуста.
Язык создан не столько для обмена мыслями, сколько для защиты внутреннего знания, то есть ужесознания. Язык — это кожа на теле са мости без «я», модель сознания. Поэтому в языке всегда два языка: риту альный и практический.
Языком пользуются, а не живут. Язык — не дом бытия, а проходной двор. Сам по себе язык — это великий немой. В нём нет ни мыслей, ни сознания. Без воображения в нём нельзя построить и двух предложений, а тем более связать их между собой.
Только речь соединяет язык и воображение, результатом которого яв ляется мышление. Поэтому мысли в речи не от языка, а от ума. Посред ством языка можно обмениваться мыслями. А это значит, что люди пони мают друг друга только лишь потому, что никто не имеет своего языка. Непонимание — это факт присутствия сознания по отношению к самому себе. Поэтому либо мир заставит тебя говорить на своем языке, либо он заговорит на твоём языке.
Подготовил Алексей Нилогов
АЛЕКСАНДР ДУГИН
Короткий путь к абсолютному знанию
Александр Гельевич Дугин (род. 1962) — современный русский философтради ционалист, политолог, публицист. Лидер Международного «Евразийского движения» (МЕД). Ректор Нового университета. Православный (единоверец — старообрядче ское согласие, приемлющее священство Московского Патриархата). Стоял у исто ков НБП (вместе с Э. В. Лимоновым и Е. Летовым). Основатель неоевразийства. Автор таких книг, как «Пути Абсолюта» (М., 1990), «Конспирология» (М., 1992; 2005), «Гиперборейская теория» (М., 1993), «Консервативная Революция» (М., 1994), «Тамплиеры Пролетариата» (М., 1996), «Мистерии Евразии» (М., 1996), «Метафизика Благой Вести» (М., 1996), «Основы Геополитики» (М., 1997; 2001), «Абсолютная Родина» (М., 1999), «Наш Путь» (М., 1999), «Евразийский путь» (М., 2002), «Русская Вещь» (М. 2001), «Эволюция парадигмальных оснований науки» (М., 2002), «Философия Традиционализма» (М., 2002), «Основы Евразийства» (М., 2002), «Проект “Евразия”» (М., 2004), «Евразийская миссия Нурсултана Назарбаева» (М., 2004), «Философия Политики» (М., 2004), «Философия войны» (М., 2004), «Попкультура и знаки времени» (СПб., 2005) и др.
Библиография как биография
Итальянский консервативный философ Юлиус Эвола в своей книге «Путь киновари» высказался таким образом: «Моя биография — моя биб лиография».
Это целиком справедливо в случае Александра Дугина, чей интеллек туальный портрет легко выстроить на основе анализа его произведений.
Причём не столь важно, чему конкретно посвящено каждое из них — иде ям традиционализма, религиоведения, политологии, философии науки, культурологии или геополитики. Разнообразие рассматриваемых объек тов и дисциплин лишь подчёркивает единство метода, который является осью всей философии данного автора.
Последовательность написанных и опубликованных книг позволяет распознать внутренний план жизненного философствования, вычленить в нём движение от поглощённости созерцанием метафизических принци пов ко всё более частным и прикладным аспектам, вплоть до анализа текущей политики и современной попкультуры. Это не этапы философ ского созревания, но, напротив, траектория движения от общего к част ному, от фундаментального к прикладному. Конечно, исследование каж дого отдельного объекта аффектирует в определённой степени изначаль ную метафизическую картину. Но эта аффектация лишь корректирует её детали. И всякий раз укрепляет и усиливает базовый метафизический фундаментал, лежащий в основе всей философии.
Удобнее описать комплекс идей Александра Дугина в хронологиче ской последовательности, постоянно имея в виду, что хронология в данном случае является выражением планомерного перемещения философского внимания от онтологического центра к феноменологической периферии.
Неизданное$1: поэзия против поэзии
Первые философские тексты Дугина написаны в начале 1980х го дов — в 1983—1985м. Большинство этих работ не только не были напеча таны, но и не сохранились в рукописном виде. Однако идеи, в них выра женные, получили развитие в дальнейших книгах и статьях.
Началось всё со статьи «Поэзия против поэзии» (1983). В ней утверж далась фундаментальная оппозиция двух типов поэтического творчест ва — солярного и лунарного.
Солнечная поэзия, по мысли Дугина, представляет собой особое ме тафизическое явление, «кусок онтологии», похищенный из сферы объек тивных небесных идей, откуда логически вытекает теургический и ини циатический характер поэтического творчества.
Лунарная поэзия — это влечение имманентной души к созерцанию тех же небесных идей. Но это созерцание остаётся внешним и гадатель ным. «Лунный» поэт не способен оторваться от земли даже в пик своего высшего экстаза. Тогда как «солнечный» поэт вынужден, напротив, по стоянно цепляться за земные вещи, чтобы энергия небес не утащила бы его обратно к истокам онтологической инспирации.
Дугин иллюстрирует эту пару образом двух деревьев: одно из них ухо дит корнями в землю; другое — в небо, но кроны их переплетены.
Мы понимаем поэзию как нечто единое, поскольку наш взгляд при кован именно к кроне, а фундаментальный дуализм между «лунными» и «солнечными» корнями поэтических вдохновений нам удаётся схватить только в особом метафизическом настрое, через воспалённый поиск пре дельной ультимативной истины.
Парой, типологизирующей «лунного» и «солнечного» поэтов, избра ны Артюр Рембо и Поль Верлен, исторически связанные узами гомоэро тической дружбы. Рембо, по Дугину, — чистое воплощение солярного по этического безумия, существо совершенно не от мира сего, открывающее в возвышенном логичном и абсурдном бездну солнечного бытия заведо мо превышающего оппозиции смыслы и противоречия дольнего мира. Верлен же есть высшая тоска теллурических сил, отражающих движение чистых идей, облекающих и свой порыв в пронзительную ностальгию. В стиле «il pleure dans mon coeur» или в вакхическом смятении «dancons la jigue».
Неизданное$2: онтология сверхчеловека
Следующей программной статьёй была статья «Сверхчеловек».
В ней Дугин отталкивался от такого определения Ницше сверхчело века: «Сверхчеловек есть победитель Бога и Ничто». Ницшеанская «побе да над Богом» толковалась ранним Дугиным не как атеистическое устра нение религиозной догматики, но как обнаружение дезонтологизации концепции Бога в западноевропейской позднепротестантской среде, в которой творил Ницше. Таким образом «победу над Богом» Дугин рас шифровывал в методологии французского традиционалиста Р. Генона и историка религий Мирчи Элиаде, которые учили о десакрализации как основном феномене западной цивилизации в эпоху Нового времени. Сверхчеловек Ницше, побеждающий «Бога», является тем, кто осознал сущность процесса десакрализации и нашёл в себе мужество смотреть этому страшному явлению прямо в глаза, не строя иллюзий и не выдавая то, чего нет, за то, что есть.
«Смерть Бога» (как удаление сакрального) превращает мир в ничто, лишает его онтологического основания. Мир, созданный Богом, не спо собен пережить «смерть» (сокрытие) его создателя. И он обнаруживает немедленно свою нигилистическую сущность. Ницше называл это «евро пейским нигилизмом».
Самое главное философское событие в метафизической программе раннего Дугина заключается именно в победе над ничто, которое и отли чает философатрадиционалиста, философа «консервативного револю ционера» от самих нигилистов и которые, собственно, активно способ ствовали «смерти Бога».
Здесь Дугин закладывает основы всей своей философской програм мы. Он строит свою философию сверхчеловека или «сверхфилософию», которая и будет заключаться в преодолении ничто современного мира, обнажившегося после удаления из него сакральной подосновы.
В статье «Сверхчеловек» отмечена и ещё одна важнейшая составляю щая мысли Дугина: догадка о намеренном удалении сакрального, необхо димого для обнаружения какойто высшей трансцендентной инстанции, которая способна обнаружить своё присутствие не в эпохи полноты бы тия и торжества сакральности, но в момент предельной нищеты и онтоло гической катастрофы. В этом мотиве очевидно влияние современного философа Гейдара Джахидовича Джемаля, учившего (в частности, в своей книге «Ориентация — Север» и в частных беседах с А. Дугиным в начале 1980х годов) об особом метафизическом значении конца времён, превы шающем по своей фундаментальности эпоху «золотого века».
«Сверхчеловек», осмысленный таким образом, является носителем и воплощением именно этой неочевидной метафизики, которая становит ся возможной только в момент тотального кризиса бытия, в «последние времена», когда завершается весь деструктивный процесс десакрализа ции — когда логика «европейского нигилизма» достигает своей последней черты.
Неизданное$3: радикальный субъект и эсхатологический радикализм
Более подробно эта тема развита Дугиным в другом раннем произ ведении «Тамплиеры Иного», сохранившемся в рукописи. Эта книга в 500 машинописных страниц написана в 1986–1988 годах. Автор считает изложенные в ней метафизические идеи слишком радикальными и выпа дающими из контекста и пока воздерживается и от её переработки, и от её публикации. «Тамплиеры Иного» представляют собой развёрнутое изло жение тех же идей, которые сконцентрированно наличествовали в статье «Сверхчеловек».
Дугин в этой работе предлагает систематически сформировать кор пус «новой метафизики», которая строится на трёх фундаментальных концепциях — «радикальный субъект», «постсакральная воля» и «невоз можная реальность».
Смысл «новой метафизики» заключается в парадоксальном пере осмыслении процесса десакрализации и дезонтологизации, которые со ставляют суть процессов «модерна» (и «постмодерна») в глазах предста вителей школы традиционализма. Полностью оставаясь на позициях тра диционалистов и соглашаясь с ними в качественной оценке феномена десакрализации, Дугин вместе с тем пытается расшифровать смысл, те леологию этого процесса. Не просто осознать «современность» как дегра дацию и расширение «зла», но зафиксировать ускользающий вопрос: «За чем происходит то, что происходит?» И так как никакого сомнения во всевластии Абсолюта или метафизического дуализма здесь нет по опреде лению, всё сводится к разгадке Божественного послания, заключённого в процессе добровольного «сокрытия» Божества, волевой и сознательной «смерти Бога» (удаления сакрального).
Дугин предлагает следующую схему. Божественное присутствие по кидает бытие. Современный мир есть результат этого фундаментального явления. Мир «расколдован», сакральное измерение исчезло. И мы име ем дело с этой стихией смешения и извращения, с тотальным нигилиз мом. Сакральное и его носители исчезают из мира, и небесные энергии, составлявшие суть мира Традиции, перестают оживлять и оплодотворять человечество и земную среду. Люди, лишённые связей с небесным пла ном, превращаются в «недолюдей», становятся «скорлупами». Но в этой ситуации «онтологической зимы» остаются особые избранные существа, которые чётко дифференцируют себя со стремительно остывающей сре дой, бросают вызов нигилистическим тенденциям, испытывают глубин ные метафизические судороги от контакта с «расколдованным» миром. Дугин полагает, что этот особый тип личностей может представлять собой либо остаточное сакральное, которое ещё не выветрилось окончательно (и тогда большого метафизического значения это не имеет), либо заро дыш того парадоксального явления, которое может обнаружиться только в момент наивысшего кризиса бытия, в предельной точке «полуночи». Этот второй случай и есть «радикальный субъект» (он же «сверхчеловек», как «победитель Бога и Ничто»).
Радикальный субъект есть особая метафизическая категория, кото рая проявляется только тогда, когда сакральное окончательно исчезает из мира, и нигилизм начинает доминировать повсюду. Не раньше. Дугин описывает феноменологию «радикального субъекта» как неспровоциро ванную внутреннюю трансцендентность, как проявление особого сущест ва, отличного от сакрального тем, что оно способно существовать тогда, когда самого сакрального нет. Но при этом оно не менее фундаментально отличается и от нигилистической стихии современности.
Загадочный и трудный для понимания «радикальный субъект» про буждает сам себя с помощью другой категории — «постсакральной воли». Это явление также парадоксально, так как описывает действенную и ак тивную реальность, возникающую в эпицентре онтологического кризи са, но направленную не на возврат к нормальным сакральным пропор циям, а перпендикулярно им, хотя и против «онтологического ада» конца времён.
С помощью «постсакральной воли» «радикальный субъект» заявляет о своём существовании и порождает третье явление — «невозможную ре альность». Это состояние реализации того, что отсутствует в мире мета физических возможностей, но тем не менее — вопреки логике структу ры Всевозможности (в терминологии Р. Генона) — заявляет о себе как о безальтернативной стихии.
Этот комплекс парадоксальных идей «новой метафизики» оперирует со столь неясными реальностями, относимыми конвенциональными ме тафизическими и теологическими системами к периферии или вообще к запретным темам, что их описание требует скорее не ясных логических конструкций, но интуитивных ассоциаций и метафизических образов.
Книга «Тамплиеры Иного» дают развёрнутую панораму «новой мета физики». Делается попытка описать «невозможную реальность», цикли чески возвращаясь к тому, в каких условиях и в каком контексте она реа лизуется.
Изложенные по ходу дела теории о смысле исторического процесса воспроизводят в общих чертах классический традиционалистский дис курс в духе Юлиуса Эволы («Восстание против современного мира», «Йога могущества», «Оседлать тигра», «Герметическая традиция» и т. д.) и Рене Генона («Царство количества и знаки времени», «Царь мира», «Вос ток и Запад», «Кризис современного мира», «Символизм Креста» и т. д.), с некоторыми авторскими добавлениями. Преемственность классической логике традиционалистов (Ю. Эвола) ответственна за толкование смысла политических процессов, в частности за категорическое отвержение ком мунистических идей и приравнивание «советского строя» к самой про двинутой форме десакрализации и вырождения (даже в сравнении с либе ралкапитализмом). Эта установка на эволаистский и геноновский тезис о том, что пролетарская революция есть приход к власти «четвёртой кас ты» — «шудр» — и последняя стадия процесса переворачивания нормаль ных пропорций и десакрализации, послужила одним из главных основа ний, чтобы данную книгу не печатать, когда для этого представилась воз можность. Так как Дугин в начале 1990х фундаментально пересмотрел классическое для традиционалистов и целиком негативное отношение к советской системе.
Введение в традиционализм: «Пути Абсолюта», переводы Генона и Эволы
Неизданная книга «Тамплиеры Иного» представляла собой развёрну тый комментарий на статью «Сверхчеловек», её толкование. Но результат был тем не менее чрезвычайно далёк от интеллектуальных возможностей философской среды эпохи перестройки. И Дугин принимает решение предварительно познакомить публику с общим контекстом традициона листских идей, без которых концепции «новой метафизики» не могли быть адекватно поняты. Так рождается книга «Пути Абсолюта» (1990), представляющая собой, по замыслу автора, введение к «Тамплиерам Ино го». «Пути Абсолюта» воспроизводят основные положения из книг Рене Генона, основателя современного традиционализма, «Человек и его становление согласно Веданте», «Формы Традиции и космические цик лы», «Великая Триада», «Инициация и духовная реализация», «Множест во состояний Бытия», «Символизм Креста», «Король мира», «Царство количества и знаки времени», «Фундаментальные символы сакраль ной науки». Основную часть «Путей Абсолюта» занимает изложение тра диционной метафизики, антропологии, инициации, символизма и цик лологии.
С точки зрения «новой метафизики» важным является введение особой категории «необходимость» в триаде «необходимость — возмож ность — действительность», тогда как концепция Генона ограничивается лишь двумя категориями «возможность — действительность».
По Генону, высшей реальностью является Всевозможность (Небы тие), которая сама по себе является непроявленной и поэтому «недей ствительной», «преддействительной». Возникающая из Всевозможности (Небытия) действительность (в форме Чистого Бытия и его последующих проявлений), по Генону, является логическим выражением одной из возможностей, заложенных в лоне Всевозможности, — а конкретно, «воз можности возникновения действительности». Вопросом «зачем эта воз можность появления бытия реализуется?» Генон не задаётся, его удовлет воряет метафизическое объяснение, почему всё обстоит именно так. «Почему?» даёт объяснение метафизическое осмысление пары возмож ность — действительность, где возможность фундаментально превосхо дит действительность и обладает высшей степенью реальности, будучи бесконечной и абсолютной, лишённой — в отличие от действительно сти — любых границ и пределов, а следовательно, и «определений» (апо фатический подход — развитый также в православном богословии «Арео пагитик»).
Дугин в «Путях Абсолюта» с первых строк этой книги ставит перед собой именно вопрос «Зачем?», то есть «Зачем Всевозможность, как без граничный Абсолют, исторгает из себя действительное бытие как пара доксальное первоограничение?». В этом жесте Дугин видит первый акт метафизической драмы, ведущий к лабиринтам мировой истории и, нако нец, к апокалиптическим условиям «последних времён». Для объяснения этого парадокса Дугин вводит категорию метафизической Необходимо сти, которая является ещё более трансцендентной и изначальной, нежели Всевозможность, и онато и выступает скрытым и тайным импульсом, побуждающим Небытие порождать Бытие. Таким образом, у Бытия (действительности) появляется не одна предшествующая матрица — воз можность, а две — возможность и необходимость. Имманентно действи тельность проистекает из возможности, потому что это возможно. Но трансцендентно оно возникает также по необходимости, так как оно не обходимо. Зачем? Затем, чтобы показать неабсолютность Всевозможно сти, «над» которой существует ещё одна — на сей раз — понастоящему последняя инстанция. Такого рода ход мысли совсем не свойствен Генону и его последователям, но, напротив, отличает метафизику Гейдара Дже маля, который, развивая эту интуицию, пришёл позже к критике Генона и традиционализма, опознав близкий ему революционный метафизиче ский настрой в теологии крайнего радикального ислама салафитской и ваххабитской направленности (развившейся из утрирования предпосы лок ханбалитского мазхаба). Но развитие этой интуиции, изначально описанной Джемалем, у Дугина в «Путях Абсолюта» и в позднейших кни гах существенно расходится с интеллектуальным путём мысли самого Джемаля.
Спустя несколько лет Дугин найдёт в одном трактате иранского мис тика Сохраварди («Рисала фи итикад альхокама» — «Символ веры фило софов») весьма сходную со своей системой метафизическую концепцию относительно «необходимого существа» — «Ваджиб альвуджуд».
Второй важный момент, несколько отклоняющийся от классическо го генонизма, запечатлён в последней главе «Путей Абсолюта», посвя щённой «эсхатологическому гнозису». На примере исмаилитской эсхато логии и её парадоксальной проблематики Дугин подходит вплотную к те ме «радикального субъекта». Но на этой границе останавливается.
Смысл «эсхатологического гнозиса» сводится к тому, что процесс де сакрализации ведёт к точке кульминации, к точке «омега», в которой осу ществляется дифференциация того, что в действительном было лишь воз можно, а что — необходимо. Это типологизируется в эсхатологическом мифе о финальном столкновении двух фигур — в христианстве Христа (во Втором пришествии) и Антихриста, у самих исмаилитов — «ка'има» («воскресителя») и «дадджала» («лжеца»), у иудеев — «машиаха» и «наро дов великого смешения» («эрев рав»). «Радикальный субъект» подразуме вается как концентрированное эсхатологическое воплощение «необходи мости», которое сотериологически восстанавливает (излечивает) всю ме тафизическую иерархию, имеющую некоторую тайную ущербность на её высших уровнях — что и послужило стартом драмы проявления в телео логически заострённой метафизике. Это происходит через битву с эсхато логическим же воплощением «возможности».
Во втором издании в 1998 году автор снабжает текст «Путей Абсолю та» аппаратом комментариев, которые помогают расшифровать отдель ные моменты этой метафизической конструкции в терминах, близких к христианскому троическому богословию. Эсхатологическая проблемати ка в различных традициях позже была обобщена Дугиным в сборнике «Конец Света» (журнал «Милый Ангел», № 2–3), вышедшем под его ре дакцией в 1998 году.
«Радикальный субъект»
В этот период 1990–1992 годов Дугин способствует переводу и изда нию на русском языке книг традиционалистов — «Языческий империа лизм» Ю. Эволы (перевод А. Дугина), «Кризис современного мира» Р. Ге нона (перевод Н. В. Мелентьевой, под общей редакцией А. Дугина), ста тей этих авторов. Традиционалистские тексты публикуются в журнале альманахе «Милый Ангел» (1990; 1994; 1998), журнале «Элементы» (1992–1998), издаваемых Дугиным, в широкой прессе. Так постепенно выстраивается традиционалистский контекст, необходимый для коррект ного осмысления «новой метафизики», которая может быть понятна лишь при учёте идей классиков традиционализма и обширного материала по истории религий.
Конспирология и рунология: маргиналии традиционализма
Параллельно внимание Дугина привлекает ряд более конкретных тем, таких как история тайных обществ и реконструкция палеоэпиграфи ческих систем. Из этого интереса появляются книгиконспекты «Кон спирология. Теория заговоров, тайные общества и оккультные факторы в истории» (1992) и «Гиперборейская теория» (написана в 1989м, а издана в 1992 году), где даётся изложение идей и открытий немецкого специалис та по древним системам письма профессора Германа Вирта.
Идеи Вирта об «изначальной протописьменности человечества», сформировавшейся на основании наблюдений за природными явления ми арктического ареала, существенно повлияли на методологию исследо вания символизма Дугина и стали основой его трактовки «единства тра диций» и «примордиальной Традиции». Дугин вслед за Виртом полагал, что это единство, стоящее в центре всей концепции Р. Генона и его после дователей, есть не метафизическое, но структурносимволическое явле ние. То есть это единство есть единство протоязыка. Методику рекон струкции проторунического символизма у Вирта Дугин позже активно применял к анализу мифологических, ритуальных и символических комплексов различных традиций и религий.
Тематика «тайных обществ» является классическим элементом тра диционалистских систем, и их изучение вписывается в общий интерес к традиционализму. В книге «Конспирология» излагаются различные тео рии «параллельной истории», куда входят как экстравагантные системы оккультистов, так и теории «инициации» и «контринициации» самого Генона и его последователей. В части «Великая война континентов» в пуб лицистической и отчасти «детективной» форме впервые в русскоязычной прессе даётся представление об основных принципах геополитики.
В 2005 году «Конспирология» переиздана в расширенном виде с об ширными критическими комментариями и публицистическими иллюст рациями из числа событий последнего времени.
Создание неоевразийской философии
С середины 1980х годов Дугин начинает развивать философию нео евразийства, заинтересовавшись идеями первых евразийцев, которые во многих аспектах оказались созвучными традиционализму. Первые прог раммные статьи по неоевразийской философии, которая впоследствии станет визитной карточкой философа, были написаны и опубликованы в 1988–1989 годах в сборниках и журналах («Континент Россия», «Совет ская литература», «Панорама Азербайджана» и т. д.): «Континент Россия», «Подсознание Евразии», «Россия Дева солнечная», «Империя рая — Си бирь» и т. д.
Идеи неоевразийства, сформулированные Дугиным, представляют собой развитие классических концепций русского евразийства (Н. С. Тру бецкой, П. Н. Савицкий, Н. Н. Алексеев, В. Н. Ильин, Я. А. Бромберг, Э. ХараДаван и т. д.) в сочетании с геополитическими концепциями, те зисами Р. Генона о превосходстве цивилизаций Востока над современной цивилизацией Запада, социальнополитической системой взглядов евро пейского течения «Консервативной Революции», применением евра зийских принципов к конкретной советской и российской политической ситуации.
Неоевразийство приобрело статус одной из самых развитых, разрабо танных и привлекательных систем политической философии в современ ной России, сочетая в себе традиции русского консерватизма (от славяно филов, Достоевского и Леонтьева), идеи народничества, социальной справедливости, антибуржуазной и антикапиталистической критики «Новых левых», авангардный цивилизационный проект, отрицающий од нополярный мир и предлагающий альтернативную модель мироустрой ства, на основании многополярной концепции «больших пространств». По мере исчезновения инерциально коммунистических представлений и краха либеральнодемократических реформ неоевразийская философия стала выдвигаться как единственная продуманная и систематизированная модель развития российской государственности.
В эпоху 1980–1990х годов, когда существовало повальное увлечение либеральными теориями Запада, это направление имело остро оппозици онный характер и находилось на периферии общественного и научного внимания. Но со второй половины 1990х влияние неоевразийства стало неуклонно расти.
Сборник первых текстов Дугина по неоевразийству вышел на испан ском языке в 1989 году в монографии Rusia. Misterio de Eurasia и на италь янском языке в 1990 году в монографии Continente Russia. На русском язы ке эта монография в расширенном виде появилась лишь несколькими го дами позже в монографии «Мистерии Евразии» в 1996 году.
Развитие неоевразийских концепций отразилось во множестве ста тей и выступлений Дугина в течение всех 1990х годов. Систематизиро ванное изложение этих идей появилось в 1998м в монографии «Наш путь», позже, в 2002 году, в евразийской антологии под редакцией Дугина «Основы Евразийства», в авторской брошюре «Евразийский путь как на циональная идея» и в самом полном издании «Проект “Евразия”» (2004), где собраны все основные доктринальные и программные материалы и манифесты неоевразийства.
С 1995 года под редакцией Дугина и с авторскими предисловиями из дательством «Аграф» выпущена серия базовых текстов классических евра зийцев — П. Н. Савицкий («Континент Евразия»), Н. С. Трубецкой («На следие Чингизхана»), Н. Н. Алексеев («Русский народ и государство»), Я. А. Бромберг («Евреи и Евразия»), Э. ХараДаван («Русь Монгольская»). В этом же издательстве была выпущена серия трудов историка Г. В. Вер надского, также принадлежавшего к «Евразийскому движению».
Сегодня Дугин единодушно признан основателем идейного течения неоевразийства, на разных этапах оформлявшегося в различные органи зационные структуры — Движение «Евразия», партия «Евразия», Между народное «Евразийское движение», Евразийский союз молодёжи и т. д. под его руководством.
Основатель школы современной российской геополитики
Уже первые статьи, опубликованные Дугиным в широкой прессе в конце 1980х годов, постоянно обращаются к геополитике. Это направле ние автор изучал начиная с середины 1980х годов в ходе общего интере са к течению «Консервативной Революции», одним из активистов кото рого был крупнейший немецкий геополитик Карл Хаусхофер. Идеи Хаус хофера вывели Дугина на знакомство с другими классиками геополити ческой мысли — англичанином Хэлфордом Макиндером, шведом Ру дольфом Челленом, современными геополитиками, австрийским генера лом Йордисом фон Лохаузеном и бельгийским публицистом Жаном Ти риаром. Первое общее изложение геополитического метода изложено в тексте «Великая война континентов» («Завтра», 1991). Позже это направ ление мысли Дугина получило развитие в его фундаментальном труде «Основы Геополитики» (1997), где давалось впервые на русском языке де тальное описание геополитической методологии.
«Основы Геополитики» считается некоторыми исследователями творчества Дугина главным трудом, в силу того влияния, которое, выдер жав 4 издания на русском языке и будучи переведённым на многие зару бежные языки (грузинский, арабский, турецкий, сербский, румынский и т. д.), он оказал. В этой книге излагается не только история и методология геополитики, но закладываются основы особой геополитической фило софии, где основной акцент ставится на пространственном факторе (в от личие от временного, который преобладает в классической философии Нового времени). Эта книга снабжена оригинальными хрестоматийными текстами зарубежных и российских геополитиков, либо переведёнными самим Дугиным, либо в переводах, отредактированных им. Во многих выс ших учебных заведениях России и других стран (США, Турция, Украина, Грузия, Армения, Ливан, Югославия, Польша, Венгрия, Румыния и т. д.) «Основы Геополитики» Дугина приняты в качестве учебного пособия.
Философия пространства, вытекающая из генерализации геополити ческого подхода, основана на рассмотрении отношений между объектами в симультанном аспекте, с точки зрения их позиционирования в качест венном пространстве. Согласно этой философии, смысл того, что проис ходит, зависит в огромной мере от того, где происходит то, что происхо дит. Этот общий принцип применим к истории цивилизаций, культур, политических режимов, идей и даже религий. В более узком аспекте фи лософия пространства проясняет логику отношений западной цивилиза ции (Европы и США) с Россией, подчёркивая уникальность и самоцен ность семантического поля, развившегося в России как самостоятельном цивилизационном пространстве. Это напрямую подводит к Евразийству и точно соответствует специфической концепции первых евразийцев (П. Н. Савицкого) о «месторазвитии».
«Новая метафизика» и традиционалистский ревизионизм
В русле дальнейших подходов к «новой метафизике» Дугин пишет в начале 1990х годов книгу «Метафизика Благой Вести», которая представ ляет собой сопоставление идей Р. Генона с богословской догматикой Православия. В результате этой работы были выделены те позиции фило софии традиционализма, которые несовместимы с принципами Право славия, что привело к существенной коррекции Дугиным некоторых мо ментов геноновской метафизики. В частности, была продемонстрирована неприемлемость метафизического принципа о «трансцендентном един стве традиций», расшифровка геноновской «христологии» и профетоло гии как криптоисламской формулы, утрачивающей своё значение в пра вославном контексте.
Отталкиваясь от антропологических взглядов Генона на «совершен ного человека», Дугин выдвинул предположение о том, что соответствую щую роль в православной традиции играет Пресвятая Дева Богородица, что может быть развито в самостоятельную антропологическую теорию «Femina Maxima» (вместо «Homo Maximus» иных традиций). «Метафизика Благой Вести» является важной вехой в развитии фи лософии Дугина, так как несколько видоизменяет начальные условия раз вития традиционалистского дискурса в российской интеллектуальной среде. В этом смысле идеи «Метафизики Благой Вести» корректируют предшествующие тексты по изложению традиционализма, в частности «Пути Абсолюта» и цикл статей, опубликованных в «Милом Ангеле» и «Мистериях Евразии».
В переиздании «Путей Абсолюта», «Мистерий Евразии» и «Метафи зики Благой Вести» в рамках единой книги «Абсолютная Родина» аппарат авторских сносок и комментариев детально отслеживает этот процесс, показывая на конкретных примерах, в чём именно более углублённые ис следования Православия видоизменили представления Дугина относи тельно классических формулировок европейского традиционализма.
В 1998 году это направление православной метафизики получило дальнейшее развитие в программном тексте «Илия пылающий» в рамках сборника «Конец Света» (под редакцией Дугина), представляющего со бой комбинированное издание второго и третьего номеров «Милого Ан гела». Позже этот текст воспроизведён в новом расширенном издании «Конспирологии» (2005).
Старая Вера
В 1996 году происходит обращение Дугина к проблематике русского старообрядчества, что заканчивается его переходом в единоверие (1997). Единоверие, или «православное старообрядчество», — направление в рамках МП РПЦ, практикующее церковную службу по старому донико новскому чину, двуперстие и т. д.
Осмыслению старообрядческой проблематики как наиболее аутен тичной версии русской православной традиции посвящены программные статьи «Сторож, сколько ночи?», «Кадровые», «Возвращение бегунов», «Такое сладкое “нет”» и т. д., вошедшие позже в сборник «Русская Вещь» (2001). Старообрядческая экклесеология и циклология, а также отчаянное понимание староверами остроты апокалиптической проблематики сдела ли именно это направление приоритетным для Дугина.
Дугин регулярно выступает на старообрядческих соборах и симпози умах, публикует в прессе статьи на эту тему.
Текст «Метафизика Благой Вести» был переработан во втором изда нии («Абсолютная Родина») и контекстуально, и орфографически с учё том старообрядческих норм (в частности, правописание имени Исус с одним «и», имени «Евва» с двумя «в», сверка цитат из Библии по Острож скому изданию и т. д.). С конца 1990х годов Дугин начинает восприни маться как один из наиболее активных представителей старообрядческо го движения, философ, защищающий основы Старой Веры.
Диалектика естественнонаучных парадигм
Несколько в стороне от основного направления мысли Дугина лежит сфера философии науки, которой посвящена книга «Эволюция парадиг мальных оснований науки» (2002), на основе текста кандидатской диссер тации с одноимённым названием (по специальности философия науки). Дугин выделяет здесь три базовые парадигмы, аффектирующие не только гуманитарные структуры познания, но и активно влияющие на естествен нонаучные представления. Это парадигмы сферы, луча и отрезка.
Традиционному обществу и его представлениям о мире соответству ет парадигма сферы, холистское миросозерцание, основанное на принци пе «всё во всём» (пан то пан).
Монотеизм (иудаизм, христианство и ислам) вносят новые элементы в структуры миросозерцания, связанные с идеей креационизма (сотво рённости мира). Дугин описывает это как переход к парадигме луча. Мир креационизма начинается с отделения творца от твари, основан на прин ципе радикальной трансцендентности творца. В пределе же (в эсхатоло гическом цикле) бытие интегрируется в изначальную стихию (возвраща ется к творцу). Это порождает натурфилософские методы креационист ских религий.
И наконец, Новое время обрезает эту эсхатологическую перспекти ву парадигмы луча, переходя к парадигме отрезка, лежащей в основе модерна.
Такой анализ естественнонаучных представлений помогает просле дить логику десакрализации мира, что составляет, по мнению Дугина и всей традиционалистской школы, главное содержание Нового времени.
Трансцендентный национал$большевизм:
трансверсальная политология
Другое направление развития философии Дугина — на сей раз применительно к российской политической ситуации — произошло в 1991 году, когда августовский путч и развал СССР существенно повлиял на его мировоззрение. Дугин воспринял это как фундаментальную исто рическую и онтологическую катастрофу, что противоречило его ранним взглядам относительно целиком негативной миссии пролетариата и ком мунизма (в оптике Эволы и Генона).
Рефлексии на эту тему получили своё воплощение в сборнике статей «Консервативная Революция» (1994), в книге «Тамплиеры Пролетариата» (1997), а позже в двухтомнике «Русская Вещь» (2001).
Это направление можно назвать «метафизикой националбольше визма», по одноимённой статье, написанной изначально пофранцузски и вышедшей в итальянском сборнике «Идеология националбольшевиз ма» (А. Дугин, К. Террачано. Милан, 1996).
Позже основные тексты по данной теме были опубликованы в жур нале «Элементы» (1997, № 8б), специально посвящённом тематике на ционалбольшевизма — «В комиссарах дух самодержавья», «Катехон и ре волюция» и т. д.
Смысл этого направления заключается в развитии интуиций левых евразийцев и русских националбольшевиковсменовеховцев (Н. В. Уст рялов) относительно того, что романовская Россия представляла собой пародию на традиционное общество, и, напротив, большевистская рево люция несла в себе иносказательно выраженные, но глубинно традицио налистские (эсхатологические, мессианские) энергии. Фундаментально му пересмотру подверглась классическая традиционалистская теория об относительном преимуществе правления третьей касты (либералкапита лизм) над четвёртой кастой (пролетариат) и о «финальной победе комму низма» как предела циклической деградации. Осмысленный традициона листским сознанием Дугина крах советской системы был воспринят как побуждение к пересмотру взглядов Эволы и Генона о логике кастовой де градации с тем, чтобы обнаружить в коммунизме пусть девиантное, но сакральное измерение, превосходящее либералкапитализм, полностью лишённый какой бы то ни было сакральности.
Дугиным делается вывод о том, что в коммунизме и социализме име ются сакральные корни, и скрытая в них метафизика может быть интег рирована в общий контекст традиционализма, главным противником которого и наиболее чистым воплощением нигилизма оказывается либе ралкапитализм. Этот фундаментальный вывод подтверждается логикой самих либеральных авторов — К. Поппера и Ф. фон Хайека, которые сближают между собой антибуржуазные идеи — как крайне правые (кон серватизм, традиционализм), так и крайне левые (коммунизм). (Позже, в конце 1990х годов, к сходному выводу, но следуя совсем иными путями, придёт Гейдар Джемаль, также бывший изначально антикоммунистом, но увидевший в крайне левой идеологии возможность революционного аль янса радикальных исламистовсалафитов с мировым пролетариатом про тив глобалистской гегемонии Запада, «большого шайтана».)
На основании метафизического осмысления националбольшевизма Дугин закладывает основы политической философии, предлагающей особый взгляд на политическую историю России и на те процессы, кото рые протекают в настоящее время.
Это направление метафизики националбольшевизма дополняет неоевразийскую теорию и логично вписывается в структуру геополити ческого анализа.
Философия политики: эсхатологический взгляд
Более подробно и основательно в систематическом виде это излага ется автором в учебнике «Философия Политики» (2004), который пред ставляет собой переработанный вариант курса лекций на эту тему.
На основании фрагмента этой монографии Дугин защищает док торскую диссертацию по политологии на тему «Трансформация полити ческих структур и институтов в процессе модернизации традиционного общества». На основании этих политологических теорий Дугин развил и подробно описал специфику своего видения процесса десакрализации политического.
Философия политики Дугина, изложенная в одноимённом труде, представляет собой последовательное рассмотрение фаз перехода от са кральной политики к политике современной и десакрализированной, а от неё к постполитике, явлению, описанному в книге только в самых общих чертах.
Дугин приводит разнообразные формы Политического к базовым парадигмам, связанным с фундаментальными философскими установка ми — представлениями о времени, пространстве, человеке, бытии, уст ройстве мира. Эти парадигмы в ходе политической истории смешиваются между собой, видоизменяются, но до определённого момента это проис ходит в рамках наиболее общей парадигмы, которую можно назвать «па радигмой Традиции» или «сакральной политикой».
Сдвиги монотеистических парадигм
Важнейшим отступлением от этой наиболее общей «парадигмы Тра диции» является приход монотеистических религий — вначале иудаизма, позже христианства и ислама. Эта же тема подробно разбирается автором в книге «Эволюция парадигмальных оснований науки» и в сборнике лек ций «Философия Традиционализма» (2002).
Согласно Дугину, идея творения (креационизм), составляющая осно ву монотеизма, фундаментально аффектирует весь строй метафизики Традиции и соответственно влияет и на философию политического. По литическая философия монотеистических обществ представляет собой, по мысли Дугина, промежуточную стадию между собственно «сакральной политикой», полноценно развитой в политеистических культурах в форме кастовой системы, основанной на принципе «онтократии» — убеждён ности в качественном различии бытия высших и низших каст, — и поли тической парадигмой эпохи модерна, основанной на идее тотального ра венства (как в её либералкапиталистическом, так и в марксистском по нимании).
Особое место в книге «Философии Политики» занимает часть, посвящённая политической философии христианского мира, где подчёр кивается фундаментальное различие парадигм понимания сущности Политического у православных и у католиков. Большое внимание уде ляется политическим идеям русского Православия, дополняя и развивая определённые идеи относительно структуры русского церковного само сознания, изложенные в других работах («Метафизика Благой Вести», «Русская Вещь», «Консервативная Революция», «Абсолютная Родина», а также во множестве публицистических и полемических статей и выступ лений).
В целом Дугин выстраивает оригинальную и законченную филосо фию русской истории, рассмотренную через этапы переосмысления хрис тианских (византийских) идей применительно к национальному контекс ту во времени и пространстве. Эта философия представляет собой синтез общих принципов европейского традиционализма, взглядов русских мыслителей евразийцев (включая Льва Николаевича Гумилёва) и неко торых эсхатологических и историософских концепций русских старо обрядцев.
Глобальный либерализм как метаидеология последнего человека, постполитика
Центральным моментом «Философии Политики» Дугина является выяснение того, какая политическая и философская форма точнее всего соответствует наиболее чистой парадигме модерна. Эта тема стоит в цент ре внимания целого цикла работ Дугина от первых статей, продолжающих традиционалистское отождествление коммунизма с наиболее продвину той формой десакрализации Политического (как у Эволы, Генона и т. д.), через попытку связать либерализм и коммунизм с различными метафизи ческими установками (программная статья «Метафизические корни по литических идеологий» написана в 1988 году, в последней версии опубли кована в книге «Конспирология» в 2005 году) до выработки национал большевистского метода.
С начала 1990х годов это направление мысли Дугина всё больше оформлялось в окончательный вывод о том, что чистая парадигма модер на в его политикофилософском выражении проявляется в либералкапи тализме, а большевизм, марксизм и иные социалистические концепции и исторические режимы являются завуалированными, гетеродоксальными проявлениями «сакрального» общества, хотя и в редуцированном и иска жённом виде (в форме «секулярных эсхатологических ересей»). Это на правление сопряжено с осмыслением факта краха социалистической сис темы в начале 1990х годов. Пересмотр классического для традициона листов отождествления коммунизма с более продвинутой фазой деграда ции, нежели капитализм, существенно аффектирует всю сферу полити ческой эсхатологии и апокалиптики, которая представляет собой важней ший элемент всей традиционалистской мысли.
Выступления и публикации Дугина в Европе, в традиционалистских кругах, стали серьёзным интеллектуальным выводом для этой среды и гармонично резонировали с эволюцией идей основоположника движения «новых правых» философа Алена де Бенуа, с которым Дугин поддерживал и развивал конструктивный интеллектуальный диалог начиная с 1989 го да. В частности, Дугин организовывал единственный визит Алена де Бе нуа в Россию в 1992 году и цикл его выступлений.
Выступление Дугина в Риме в 1994 году на коллоквиуме, посвящён ном 20летию со дня смерти Юлиуса Эволы, «Юлиус Ювола, взгляд сле ва» (выступление было изначально составлено автором на итальянском и в оригинале звучало как Julius Evola, visto da dinistra — как аллюзия на из вестное эссе самого Эволы с критикой фашизма Il Fascismo visto da destra), стало важнейшей вехой в осмыслении всего традиционалистского насле дия и до сих пор бурно обсуждается в традиционалистской прессе и в кри тических исследованиях мысли Эволы (например, предисловие профес сора Джорджо Галли к переизданию книги Julius Evola L’Arco e la clava. Рим, 1995).
Эта тема переосмысления логики политического выражения деса крализации нашла окончательное выражение в «Философии Политики», где идея тождества парадигмы модерна и либеральной политической фи лософии берётся как аксиома, на которой строится анализ политических учений Нового времени. Этот анализ исходит из предпосылки, согласно которой политическая история представляет собой процесс универсали зации и тотального распространения либеральной демократии как выра жения чистой парадигмы десакрализации, а консервативные режимы, по литические идеологии «третьего пути», коммунистические теории и даже умеренные формы социализма, такие как социалдемократия, постепен но преодолеваются, обнаруживая своё недостаточно «современное», то есть слишком «традиционалистское» содержание.
На базе такого подхода Дугин описывает явление «постполитики» как особое развитие либеральной политической философии, которое возникает в эпоху глобализации, после того как основные конкуренты либерализма за наследие духа Просвещения (коммунизм, социализм и т. д.) терпят историческое поражение, и либеральная демократия стано вится не просто доминирующей, но практически единственной и пара дигмальной политической формой.
Социальные, антропологические, экономические, институциональ ные и идеологические предпосылки, заложенные в либерализме, получа ют полное и окончательное развитие, и цикл политической истории Но вого времени, смысл которой состоял в конкуренции либерализма с аль тернативными политическими системами, завершается. Нечто подобное имел в виду американский философ Фрэнсис Фукуяма в программной ра боте «Конец истории». При личной беседе с Дугиным в октябре 2005 года в Вашингтоне и в последних работах Фукуяма пересматривает этот тезис.
Согласно Дугину, тождество либерализма и политической филосо фии эпохи постмодерна, равно как и выигрыш этой политической фило софией права на ортодоксию парадигмы Нового времени, является фун даментальным и неоспоримым, подтверждённым реальным развитием исторического процесса. Это сближает Дугина с философами либераль ной школы (последователями Поппера и Фридриха фон Хайека) с той лишь разницей, что Дугин, в соответствии с традиционалистскими уста новками и общим настроем философовевразийцев, рассматривает это тождество как «приговор» и как политическое выражение завершённой десакрализации (что для традиционалистов однозначное зло), тогда как сами либералы видят в этом свой исторический триумф.
Переводы, издание, комментарии и популяризация зарубежных и русских философов и деятелей культуры
Помимо разработки оригинальных философских концепций и сис тем Дугин, начиная с середины 1980х годов, занимается переводами и популяризацией различных зарубежных философов. Возглавляемое им издательство «Эон», позже «Арктогея», журналы «Милый Ангел» и «Эле менты» публикуют переводы Дугина (или под редакцией Дугина) книг и статей Р. Генона («Кризис современного мира» — пер. Н. В. Мелентьевой, фрагменты из книг «Формы Традиции и космические циклы», «Заметки об инициации» — пер. с фр. А. Дугина и т. д.), Ю. Эволы («Языческий им периализм», фрагменты из книг «Мистерия Грааля», «Йога могущества», «Оседлать тигра» — пер. с ит., нем., фр. А. Дугина и т. д.), тексты и анализ работ немецкого исследователя палеэпиграфики Германа Вирта (Г. Вирт, «Символы Нового года»; А. Дугин, «Гиперборейская теория», «Космиче ский спаситель» и т. д.), Карла Шмитта («Земля и море» — пер. Ю. Крин ца), «Планетарная напряжённость между Востоком и Западом», «Новый номос земли» — пер. с нем. А. Дугина), М. Элиаде («Мефистофель и Андрогин» — пер. Н. В. Мелентьевой), Алена де Бенуа, Жана Тириара, К. Хаусхофера, Э. Юнгера и т. д. Идеи большинства этих авторов традици оналистского и консервативнореволюционного направления в русском контексте были ранее практически неизвестны, равно как и та сфера идей, которую они исследовали и разрабатывали.
Популяризацию европейских философов и поэтов в 1997—1998 годах Дугин осуществлял в форме авторских часовых радиопрограмм на FM Радио101 в цикле Finis Mundi. Театрализованные музыкальнофилософ ские постановки были посвящены Фридриху Ницше, Карлу Хаусхоферу, Жану Бьесу, Лотреамону, Жану Рэ, Густаву Майринку, Жану Парвулеско, Герману Вирту, Рене Генону, Юлиусу Эволе, Мирче Элиаде, Ги Дебору.
В этом же цикле программ вышли передачи, посвящённые современ ному православному богослову архимандриту Киприану (Керну), евра зийцу Петру Савицкому, поэту Николаю Клюеву.
Новый университет
С 1998 года Дугин организует регулярные занятия в Новом универси тете, интеллектуальном образовательном учреждении, в центре внимания которого стояли проблемы традиции, парадигмального анализа, филосо фии культуры. Помимо самого Дугина в работе Нового университета при нимали участие писатель Ю. В. Мамлеев, культуролог Е. В. Головин, фи лософ Г. Д. Джемаль. На основании лекционного цикла Дугина была на писана книга «Философия Традиционализма» (2002), куда вошло боль шинство материалов за 1998—2002 годы.
В этой книге Дугин описывает традиционализм как самостоятельный язык, оперирующий с парадигмами, радикально отличными и часто пря мо противоположными основным парадигмам языка Нового времени.
В 2003 году лекции Головина в сочетании с оригинальными статьями этого автора были выпущены под редакцией и с предисловием Дугина в сборнике «Приближение к Снежной Королеве».
В 2004–2006 годах лекции Дугина в рамках цикла Нового универси тета были посвящены приоритетно «ситуации постмодерна» и её метафи зическому осмыслению. Лекции на тему «(Пост)ситуация постмодерна», «Постпространство и чёрные чудеса», «Радикальный субъект и его дубль», «Ночь и её лучи», «Енох омрачённый» представляют собой возвращение на новом витке к философским идеям, заложенным в самых ранних рабо тах Дугина, включая ненапечатанные статьи и книгу «Тамплиеры Иного». Проделав сложную траекторию от пронзительной эсхатологической мета физики через политологию и прямую политическую публицистику, через отстранённый академический анализ и методологические отступления в сторону популяризации неизвестных или малоизвестных авторов и дис циплин (таких, как «геополитика», «сакральная география», «конспи рология», «эсхатология» и т. д.), через оригинально переосмысленный и развитый парадигмальный анализ, Дугин снова подошёл к основным проблемам его философского творчества — статус субъекта ситуации пре дельной десакрализации, онтологические и антропологические аспекты «конца времён», обречённость человеческой истории, волевое утвержде ние постсакральной альтернативы.
Важным моментом этого циклического возвращения была краткая статья Дугина, опубликованная в 2002 году в «Литературной газете» в ав торской рубрике «Ацефал» — «Новая программа философии». В этом
тексте, а также в других текстах серии «Ацефал», опубликованных в этом же издании в 2002 году, излагается философский модуль возврата к изна чальной для автора тематике.
Вместе с тем движение Дугина к метафизической интерпретации действительности, независимо от того, имеем ли мы дело с её возвышен ными или, напротив, низменными аспектами, свойственное всему фило софскому творчеству Дугина, — отсюда интерес к политике, социологии, экономике, культуре и т. д., — нашло своё предельное воплощение в сбор нике текстов и интервью «Попкультура и знаки времени», где герменев тическому и метафизическому анализу в традиционалистском эсхатоло гическом ключе подвергнуты банальные эстрадные шлягеры, театраль ные постановки и даже рекламные ролики. Название книги есть прямая аллюзия на основной труд Рене Генона «Царство количества и знаки вре мени». Эта книга представляет собой, по мнению Дугина, иллюстрацию традиционалистского подхода к проблематике постмодерна.
Дальнейшее и более детальное развитие темы метафизики постмо дерна и радикального субъекта Дугин заложил в курсе лекций «Постфи лософия», прочитанном для студентов философского факультета Моско вского государственного университета имени М. В. Ломоносова в весен нем семестре 2006 года.
В популярной форме философские, исторические, геополитиче ские, религиозные и политические взгляды Дугина находят своё отра жение в авторской программе «Вехи», которую Александр Дугин выпус кает еженедельно на общественном православном телеканале «Спас»
(с 2005 года).
Метафизический тренд$сеттер
Философские идеи Дугина с трудом поддаются квалификации, так как не вписываются ни в какие классические схемы. Подчас их характе ризуют как «неоевразийство», но это название весьма условно. Это весь ма своеобразное сочетание традиционалистской метафизики, революци онного консерватизма, антиглобализма, социальной критики, постмо дернизма, маньеристской герменевтики и религиозной апокалиптики.
В терминах постмодерна Дугина как философа можно назвать trend setter'ом.
Подготовил Алексей Нилогов
КОНСТАНТИН КРЫЛОВ
Проба пера: философия после приватизации
Константин Анатольевич Крылов (род. 1967) — современный русский философ, публицист, журналист, общественный деятель. Автор таких книг, как «Поведение» (М., 1997), «Особенности национального поведения» (М., 2001, в соавторстве), «Нет времени. Статьи и рецензии» (М., 2006). Крылов — автор большого числа ра бот, в основном посвящённых вопросам социологии, политологии, философии и теку щей политической жизни. С 2003 года — главный редактор газеты «Спецназ Рос сии». С 2005 года — президент Русского Общественного Движения. С 2007 года — главный редактор газеты «Русский марш». Политические убеждения — русский на ционалист (русист). Религиозная принадлежность — благоверный (зороастриец)48.
Когда человеку выпадает случай (или, наоборот, приходит нужда) заявить о себе, он обычно понимает это как приглашение к рассказу о своей неповторимой личности либо как повод к перечислению достиже ний и успехов. Это, впрочем, разнонаправленные движения, но вдоль одной и той же оси. Можно прямо идти от корней — неотчуждаемого, личного, лишь слегка приоткрываемого читателю, — и до пышных ветвей и вкусных плодов: «в детстве я боялся мышей, особенно лабораторных, осмысление этого страха обусловило мой интерес к бихевиоризму, Мар кузе и радикальному экологизму, что нашло своё завершение в моей кни ге “Антропотератодинамика”». А можно, напротив, конструировать свой образ из внешнего, прежде всего из блёсток и медалек, а также из ракушек и зелёных лягушек — чтото вроде: «закончил философский факультет МГУ, работал забойщиком на птицефабрике и пиарщиком в “Никко ло М”, изучал латинский и ладино, а сейчас пишу кандидатскую о фило софии аниме и манги». Можно ещё использовать оба приёма поперемен но, умело балансируя между исповедью и резюме. Остаётся неясным од но: стоит ли всётаки читать «Антропотератодинамику» и с какого пере пуга мы должны интересоваться детскими страхами какогото незнако мого дядьки. Вдруг да чушь? Кстати, так оно в большинстве случаев и ока зывается.
Но есть и другой подход: о себе и своих трудах промолчать, а прямо на глазах почтеннейшей публики показать себя в деле. Токарь может вы точить детальку — не самую сложную, но дающую представление о том, откуда у человека руки растут. Художник — набросать эскиз портрета или шарж, может быть, не самый лучший, но позволяющий судить о таланте и набитости руки. Философ может порассуждать на какуюнибудь не скучную тему. Учитывая же, что показывать предполагается всётаки себя, то и саму тему, и способ рассуждения желательно избрать такую, которая, что называется, характеризует.
Я намерен проделать именно это. То есть разобрать на пробу — без сложного зубоврачебнопонятийного инструментария и птичьего говор ка, на пальчиках, простейшей риторикой — какойнибудь вопрос, разбор которого говорил бы нечто о самом разбирающем. Нечто такое, что он сам хотел бы сказать о себе и своих занятиях.
* * *
Сначала тезис.
Теодору Адорно приписывают фразу «После Освенцима нельзя писать стихов». Можно ли философствовать после ваучерной привати зации?
Прежде чем отвечать, — или демонстративно недоумевать по поводу постановки вопроса, — освежим в памяти смысл слов Адорно. Оставим при этом в стороне всё то, что можно сказать о послевоенной западной «антифашистской» мифологии, о «культе Освенцима», о его жрецах и служках, о самом Адорно. Не это нас интересует. Сосредоточимся на са мой конструкции суждения, на ходе мысли.
Что, собственно, утверждается? «После Освенцима нельзя писать стихов». В каком смысле «нельзя»? Имел ли в виду автор, что после ужа сов Освенцима стихи перестали интересовать читателя, пользоваться спросом? Ничуть не бывало: банальный житейский опыт убеждает нас в обратном.
Но, может быть, образы невыразимых страданий как бы запечатыва ют уста поэтов, делают невозможным вдохновение? Нет, с чего бы. Вдох новение возникает в пространстве пережитой опасности: таково проис хождение всякого искусства. Во всяком творчестве есть нечто батальное. Гомер возможен только после Трои. Etc.
Или же имелось в виду, что писать стихи после Освенцима амораль но, безнравственно, неприлично? Быть может, Адорно хочет сказать, что рифмоплётство — занятие легковесное и досужее и перед нависающим над Европой шестимиллионьем жертв баловаться стишками гадко? Опять не так. Ясно же, что именно поэзия увековечивает память, завершает миф. Todesfuge Пауля Целана в этом смысле весомее всех «антифашист ских» и «гуманистических» сочинений того же Адорно — и не нужно ду мать, что последний об этом совсем уж не догадывался.
Так что же имелось в виду? «После Освенцима нельзя писать стихов». Адорно говорит, что Освенцим — это особый опыт, необратимо меняю щий отношение к некоторым вещам. В том числе и к поэзии. И дело не в желании, способности или моральном праве это делать. Всё как бы оста ётся на месте — но возникает нечто, всё это обесценивающее.
Чтобы было понятно, о чём идёт речь, прибегнем к традиционному примеру. Изнасилование. Сам этот факт не влияет на дальнейшее наличие у женщины «половой потребности» — физиология остаётся физиоло гией, — ни на способность её удовлетворять естественным способом, ни тем более на моральное право это делать. Но «полноценная половая жизнь» после пережитого (прежде всего — пережитого в воображении) насилия зачастую становится невозможной, даже при наличии физиоло гического желания. «Хочу, но не могу». Потому что секс после изнасило вания становится воспроизведением травмы. Да, это решаемая пробле ма, — не всегда и не сразу решаемая, — но все способы её решения пред полагают растождествление секса с травмой, а это требует времени и специальных усилий. Каковые сводятся всего к нескольким возможным стратегиям — «забыть», «отомстить», «простить», «стать другим челове ком». Или, другими словами, убедить себя, что «этого не было», «этого больше нет, потому что больше нет тех, кто это сделал», «это для меня больше ничего не значит», «это было не со мной, я теперь другая».
Теперь вернёмся к Европе. В ходе послевоенной идеологической ра боты над историей Освенцим был понят как предельное оскорбление и поругание всех европейских ценностей разом. Это понимание не являет ся безальтернативным — например, из России эти вещи выглядят иначе. Но Европа приняла именно такую интерпретацию. Освенцим стал мери лом этих европейских ценностей, их «абсолютным нулём». Освенцим оп ределяется как место, где эти ценности подверглись предельно возможно му поруганию.
Далее, это поругание осталось неотмщённым (хотя бы потому, что не Европа победила во Второй мировой, и сама знает это). Его также невоз можно забыть и простить — именно в силу того, что Освенцим использу ется как мерило социальной морали. Наконец, «измениться», «стать дру гой» Европа тоже не может — поскольку истерически цепляется за иден тичность.
Что остаётся? Смотреть. Непрерывно, не мигая, смотреть на экран, где европейцам показывают Освенцим.
Такое изнасилование зрения описано, кажется, у Джона Фаулза в «Волхве», где главного героя привязывают к стулу, фиксируют голову, приклеивают веки ко лбу и заставляют смотреть, как его любимая женщи на самозабвенно трахается с негром. Фактически, негр насилует героя — «трахает в глаз». Аналогичной по силе сценой была бы публичная пытка героини.
В случае с «европейским самосознанием» всё ещё круче: привязанная к креслу — не будем опять же задаваться вопросом, какие именно «за интересованные силы» её привязали, — Европа вынуждена бесконеч но смотреть архивное кино о том, как насиловали и пытали её саму. В ли це шести миллионов её избранных представителей. В чём и состоит Освенцим.
Какое отношение всё это имеет к стихам? Прямое. Стихи — традици онное катарсическое средство, снимающее (в смысле aufheben) пережива ние через его возвышение. Но в описываемых обстоятельствах возвыше ние невозможно в принципе, на него наложен прямой запрет. Игнориро вание невозможно тоже, и по тем же причинам.
То есть формула «После Освенцима нельзя писать стихов» означает, что, вопервых, об Освенциме нельзя писать стихов, но и стихи «не об Освенциме» тоже нельзя писать. «Ничего нельзя».
Заметим, что всё это не пустые разглагольствования, так как слова Адорно оправдались — не то чтобы в точности, но очень близко. Класси ческое стихосложение в Европе «прекратило течение своё». Нынешний европейский «высокий мейнстрим» — стерилизованный общеевропей ский верлибр, главным достоинством которого является отсутствие требований к поэтической технике, удобство перевода, а главное, сте рильность, свобода от «поэтического». А один из его основателей, уже по мянутый автор Todesfuge, утопился в Сене в семидесятом году. Официаль ная интерпретация — «страдающий еврей», «отложенная жертва Освен цима» (основания для такого мнения были — Целан прожил три года на оккупированной территории и выжил почти чудом). Я же подозреваю, что он остро чувствовал нечто подобное тому, о чём я говорил выше: поэзия становилась невозможной — на его глазах и, как он мог бы подумать, не без его участия…
Впрочем, дальше уже догадки, а догадки, как правило, гадки. Оста новимся на достигнутом. Можно спорить о доказательной силе этих рас суждений, но сама картинка, я думаю, ясна.
Теперь, наконец, о философствовании. Я, конечно, буду говорить о местном изводе этого занятия — называть ли его «русской философией» (кажется, это словосочетание забито за творчеством нескольких авторов конца позапрошлого — начала прошлого века?) или «российской» (это слово используется, чтобы указать на современных россиянских читате лей «мировой дерриды»). То есть как оно: можно ли философствовать после российской приватизации девяностых годов?
Сперва нужно сказать, чем была приватизация. Прямо и недвусмыс ленно.
Пропустим для ясности всю риторику, обычно разводимую патрио тически настроенными журналистами — «обман», «ограбление народа», «разворовали страну» и т. п. То есть всё это, конечно, верно, даже триви ально истинно, но задевает нас в приватизации не это.
В чём дело?
Народ относится к стране, как душа к телу. В самом что ни на есть классическом смысле слова «душа» есть мыслящее начало, приводящее в движение косную материю. Народ движет страну, «крутит колёса», «сеет и пашет». Можно, впрочем, понимать это и как труд, приложенный к капи талу, но это «нужно сузить до экономической кишки». Если же чуть рас пахнуть глаза, то мы увидим: страна — тело народа.
Эта связь народа со своим телом, кстати, сама по себе не подразуме вает права владения или распоряжения им. Тело раба, например, ему не принадлежит. Связь души с телом иная, чем собственническая. Тем не ме нее именно эта связь делает возможной любое владение и любую систему собственности. Собственность — вторична по отношению к этой связи.
Так вот. Именно поэтому приватизация — как центр, сердце «ре форм» — была не просто «воровством» или «ограблением народа». Здесь как раз применим либеральный аргумент: формально рассуждая, «леса, поля, заводы и пароходы» народу не принадлежали. Нет, приватизация была именно изнасилованием. Нас — как целое, как народ — поимели. И все это чувствуют, «знают нутром». «Чего уж там».
Пути отработки травмы тоже известны. Они связаны с теми же самы ми — «забыть», «простить», «отомстить» и «растождествиться». И, в отли чие от европейской ситуации, нам никто не мешает отрабатывать непри ятные ощущения — если это не угрожает интересам насильников.
Дальше я намеренно оставляю лакуну в рассуждениях — на том мес те, где надо бы поговорить о философии вообще, её социальной роли в
частности и прочих таких вещах. Это всё можно, но займёт место, которо го у меня нет, и время, которого нет у вас.
Поэтому просто напомню, какая именно философия ныне процвела в нашем пока ещё Отечестве.
Вопервых, переводная, читайте — дающая возможность интеллекту алу позаниматься самым сладким, то есть западными проблемами. Это самое вкусное: проблемы людей, у которых нет проблем (на наши деньги нет). На минутку чувствуешь себя человеком. То есть французом. Читай те: «нет, я не русский». Опять же — все серьёзные мыслительные челове ки в России занимаются именно этим. То есть переводами и комментари ями к переводам. В самом лучшем случае — писанием книг, единствен ным достоинством которых является то, что они похожи на переводы.
Вовторых, жива ещё философия «русская», то есть «православие, са модержавие, духовность», настаиваемые то на Ильине, то на Булгакове. Насморочная кондовость этого, с позволения сказать, дискурса не ме шает ему быть востребованным в определённом качестве — а именно: для выквохтывания того, что русский православный народ не ищет себе со кровищ на земле, а хочет быть изнасилованным и мёртвым во имя чего нибудь. Читайте: «прощеньице».
Втретьих, постмодернизм пороссийски. Это не философия, а раз новидность так называемого «современного искусства» — то есть инте ресная чушь. Кстати, это непросто — сделать чушь интересной, так что не нужно относиться к этому совсем уж неуважительно. «Вы сами так смогите».
И наконец, есть классический Дугин, «имперство» и ему подобное философствование реванша, «когданибудь мы поднимемся и ударим Третьим Римом по вражьей морде» — главным условием которого явля ется демонстративная утопичность. Мечтания поиметого об оборотке должны быть грозными, но безобидными.
Существуют стратегические союзы между «духовностью» и «импер ством», с одной стороны, и постмодернизмом и переводняком — с другой. В первом случае получается «гиренок», во втором — какиенибудь «евро онтологии». Случается, впрочем, и свальный грех, смешение всего со всем.
Ну так что? Как возможно приличному человеку заниматься чемто из вышеперечисленного?
Вот и я недоумеваю.
Подготовил Алексей Нилогов
ВАСИЛИЙ КУЗНЕЦОВ
«Концептуальный переводчик»: подступы к программе49
Василий Юрьевич Кузнецов (род. 1968) — современный русский философ. Канди дат философских наук, доцент кафедры онтологии и теории познания философско го факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. «Кузнецов представил в новом ключе проблему единства мира и связал её с единством культуры: мир — самое, наверное, неопределённонеопределимое и в то же время всеобъемлющесамоочевидное, охва тывающее не только всё мыслимое, но и всё немыслимое — в своём единстве отобра жается разве лишь всей целостностью культуры как универсума смыслов, предза данных любому усмотрению и полаганию. Разрабатывает способы различения клас сических и неклассических стратегий философствования, концептуальные принци пы построения мультимедиальных средств синтетических и междисциплинарных исследований, проблему целостности космоантропосоциотехнонатурного комплек са, философские основания образования и методологии преподавания философии, а также философию фантастики»50.
[∅00]
Начало
Начинать можно с чего угодно — это абсолютно неважно [∅01.6]. Если начинаем с чегото одного, обязательно цепляемся за чтото другое. Значит, нужно обратить внимание на само это сцепление [∅04]. Неустра нимость сцеплённости раскрывает универсальную связность проблема тики и любой предметности [∅09.3], вязкость философских вопросов [∅01.5].
Почему мы хотим называть философией [∅01] то, чем мы занимаем ся? Тихая и незаметная, мягкая и гибкая, мысль, возникающая каждый раз заново и делающая каждый свой шаг [∅01.4] всегда как первый [∅00] (последующие шаги — технические следствия, промышленное производ ство), совершенно не обязательно должна именовать себя «Филосо фия®», хотя именно в философии принято было постоянно отказываться от привычного и обычного способа мысли и действия или, по крайней ме ре, подвергать его критическому переосмыслению. Ибо здесь важнее дви жение обнаружения и преодоления неявных предпосылок, установок и допущений, выявление неодолимостей [∅09.1] и принятие этого вызова [∅02], нежели соблюдение ритуалов ради них самих или в силу отсут ствия очевидной альтернативы.
Что такое философия?
Философия — странная штука, она постоянно трансформируется и мутирует, отказывается от самой себя, чтобы затем опять к себе вернуться [∅01.5], распадается на различные течения, которые затем снова слива ются и переплетаются, сходятся и расходятся. Непрерывный динамичный процесс.
Если у нас есть всезнание или откровение, нам не нужна философия. Если же нет — тогда нет и абсолютных точек опоры [∅09].
1.1. Философия как проект
Крупнейшие философские концепции представляют собой более или менее разработанный замысел, расчерченный проект — неважно да же, реализуемый или нет. В любом случае он остаётся нереализованным. Для философии выполнение (производство, тиражирование) неважно и неинтересно (этим занимаются другие доминионы культуры). В той сте пени, в какой мы вообще различаем одно от другого — проектирование от строительства, слово от дела. Ведь проект должен быть всётаки создан, а слово может стать делом. Следовательно, и создавать надо [∅02.1] про ективную философию.
1.2. Философия как оператор
Если философия предпринимает рефлексию предельных оснований всей культуры, претендует на критическое рассмотрение всего разнообра зия мира в целом, то тем же самым жестом, обеспечивающим её универ сальность, она обрекает себя также вникать и в специфику каждой от дельной культурной формы, каждой сферы и области мира. Философия пускает побеги: наряду с философией науки появляются отдельно фило софия математики, философия физики и философия биологии, а наряду с философией природы и философией культуры — ещё и философия ис тории, философия права, философия искусства и т. д., и т. п.
Поэтому философию — в аспекте её бесконечных областей приложе ния, причём потенциально порождающих не только отдельные направле ния, но и целые дисциплины — уместно рассматривать в качестве опера тора: «философия Х» или даже «философия ( )», где в качестве переменной аргумента может выступать всё, что угодно. Другое дело, что простой подстановки, образующей голый лозунг или манифест, будет, само собой разумеется, совершенно недостаточно — для формирования исследова тельской программы потребуется более или менее разработанный и реф лексивно выписанный проект [∅01.1]. Так реализуется один из способов взаимодействия различных культурных доминионов [∅06] — отобража ясь [∅08.1] один на/в другой, оба видоизменяются и тем самым получают возможность распространяться, выполняя свои программы на всё новом материале. Таковы, например, философия образования [∅07.3] и фило софия фантастики [∅07.1].
1.3. Философия как конфигуратор
Тематизация неосознаваемого и проблематизация очевидного — главная задача философии. Если у нас уже есть принятые правила, то на до по ним играть — но тогда уже мы никогда не выйдем за их рамки, хотя и будем порождать всё новые и новые партии (таковы тривиальная или изощрённая комбинаторика логики, где эволюция исследовательской дисциплины совсем не следует правилам логических исчислений). Если правил нет или мы готовы отказаться от имеющихся, то тут и появляется философия, предлагающая правила для игры без правил, правила для выбора или предпочтения правил за рамками правил, правила для нару шения правил и т. д. Изящным жестом развеяния иллюзий философия создаёт новые иллюзии, жест разоблачения метафор порождает иные метафоры.
1.4. Философия пути как путь философии
Для самостоятельного развёртывания и удержания мысли нужна смелость и решимость найти пути, по которым ещё никто не ходил, отправиться в неизведанное, которое вовсе не гарантирует успешных результатов.
Чтобы пойти, приходится нарушать неподвижность и оставлять сле ды; чтобы чтото сказать, приходится нарушать молчание и делать выбор [∅02.1] какихто слов и ходов — иначе ничего не получится.
Сначала мы научимся ходить правильно (по нахоженным дорожкам известных концептуальных пространств, где картами будут выступать разнообразные прочерченные развёртки [∅05.2]), затем — будем ходить неправильно (по неизвестным пространствам). А как иначе можно будет пойти туда, не знаю куда, чтобы принести то, не знаю что?
1.5. Вязкость философии
Любая философская проблема, как известно, уже содержит в себе всю философскую проблематику в целом. А любой философский вопрос может быть задан только так, что спрашивающий как таковой неизбежно оказывается под этим же вопросом.
Мало того, философия затягивает и не отпускает, даже концептуаль ный отказ от философии неизбежно совершается средствами самой фи лософии. Отказ от культуры средствами самой культуры — это одно, а от каз от культуры вообще (даже с учётом его невозможности) — это совсем другое, подобно тому как можно философствовать о кризисе или кон це философии, а можно вообще философией не заниматься. Начало и конец совпадают или, по крайней мере, стремятся к этому — философия замкнута.
1.6. Философия как крохоборство
Вроде уже понятно, что интересно не только и не столько типиче ское, постоянно повторяющееся, характерное, хотя всё равно до сих пор крайне редко встречается обращение к редкостям. И то же с мелочами, хотя именно на них всё стоит и именно в них скрывается дьявол.
1.7. Система тотальной аргументации
Стремясь к невозможному, непостижимонепостигаемому, постоян но запредельному, человек создаёт новые пласты, виды, формы, направ ления, мотивы и оттенки мысли, словно машина на гусеничном ходу, всегда возящая с собой свою дорогу и прокладывающая себе путь в любом направлении.
Мёртвая петля философской аргументации охватывает саму себя собственным конституирующим жестом и затягивает — иначе всё разва лится. По меткому замечанию Хесле, действенность самого знаменитого аргумента философии — декартовского когито — базируется на том, что его отрицание ведёт к перформативному противоречию.
1.8. Философия как концепции
Существует множество различнейших, взаимоисключающих, не сравнимых и несоизмеримых позиций. Эти позиции, как и соответствую щие перспективы, неизбежно оказываются односторонними. Целое [∅04] собирается целью [∅02.2], разные цели порождают разные концеп ции. Сцеплённость [∅09.3] же сохраняется всегда. Потянув за неё, мож но по ниточке вытянуть различные связи. Может быть много разных с(о)боров. Если же всё рассыпается, мы ничего не можем сказать. Или всё, что мы говорим, оказывается равнозначным. (И ещё неизвестно, что хуже.)
Мы уже не можем (как классические [∅03] мыслители) утверждать: «существуют только мои истинные высказывания и прочие заблужде ния». Чтото вижу я, другое увидит другой, остальное — для остальных.
1.9. Что"то ещё
Подобно иллириону в определении Плавиневского, философия — это всегда чтото ещё. Конечно, любой текст можно интерпретировать поразному, но только ключевые философские произведения, продолжая традицию и никогда не исчерпываясь номинальной темой, самим своим внутренним контекстом задают новые перспективы и раскрывают новые горизонты. Философия постоянно норовит ускользнуть от любой предза данной определённости. Пытаясь схватить и удержать философию жёст ко фиксирующими средствами, мы обязательно или промахнёмся, или останемся с пустым слепком своего предубеждения на руках.
Остаётся открытым сакраментальный вопрос — нужно ли всё доду мывать до конца или надо вовремя остановиться?
Вызов и ставки
Задача [∅02.2] создания философского проекта [∅01.1] — всегда вы зов, причём — предельный, радикальный, то есть формирующий каждый раз всё более грандиозную, беспримерную претензию. Претензию не просто создать ещё одну очередную концепцию, встроенную в ряд других, предшествующих и/или современных, но претензию совершить перево рот, необратимо меняющий сам строй мысли. Игра философии ведётся на высочайших ставках.
2.1. Выбор
Философия как процесс представляет собой перманентный выбор — вызова [∅02], ставки, цели [∅02.2]. Однако предельным случаем выбора окажется выбор отказа от выбора — последовательное ускользание от вся кой определённости. Выбор, не уменьшающий, а увеличивающий раз мерность концептуального пространства [∅08.2] возможностей. Изнан кой проблемы выбора вариантов будет выбор оснований, критериев, ко нечных целей и поля для выбора.
2.2. Цель
Если уж решать задачи [∅02], то те, которые решения не имеют. За ведомо имеющие решение задачи тривиальны и неинтересны. А ведь ра дикальный жест необходимо одноразового применения должен породить ошеломляющий эффект — удивление.
Что должно быть целью философии — неужели самотождественность (Яидентичность)? Или даже решение жизненных проблем? Или всего навсего тексты?
Мы должны работать одновременно со всеми различнейшими кон цепциями, направлениями и т. д. Однако во все стороны сразу идти нель зя [∅09.1]. (Какого рода эта невозможность?) Остаётся только свора чивание и разворачивание [∅05.2] по разным линиямполюсам [∅05.4], кодировка/раскодировка [∅08], суперпозиция взаимоотражений [∅06] и т. п.
2.3. Непозиционная позиция
Например, любое предисловие — это странная попытка разместить некоторые слова до слов, чтото сказать до говорения; попытка предупре дить и предвосхитить дальнейшее, причём уже сказанное, уже написан ное, уже напечатанное (и тем самым начать текст до его начала). Так и фи лософия стремится занять странную, необычную позицию вненаходи мости — сделать чтото до и вне всякого действия.
2.4. Несистемная система
Противостоя так называемому здравому смыслу, философия всегда несистемна, выпадает из расчерченных полей и расписанных правил, ра ботает в зазорах между системами или во внутренних просветах самих систем, разворачивает неизотропный лабиринт, клубок расходящихся тропок [∅04.1] со множеством входов и выходов, меняющихся благодаря разнообразным условным модификаторам.
2.5. Провокация
Вырожденный случай провокации, понимаемой как манипуляция («На воре шапка горит!»), концептуально неинтересен — поскольку представляет собой тривиальный рикошет, пусть даже и от ментальных представлений. Намного интереснее провокативная (а не провоцирую щая!) ситуация, которая заставляет действовать, но не задаёт ограничен ного набора возможных вариантов выбора [∅02.1].
Философия вовсе не должна оправдывать наши ожидания; наоборот, философия должна каждый раз нас удивлять [∅02.2] и заставлять пере сматривать наши взгляды (хотя и не обязательно их менять).
2.6. Тайна
Зачаровывающая притягательность таинственного намечает ключе вые фрагменты мира, своего рода стыки, швы, скрепляющие и оттеняю щие основные, яркие, наиболее заметные компоненты. Из тайны находят и в тайну уходят начало [∅00] и конец всего. Тайна присутствует везде, от тайны невозможно избавиться [∅09.3], чтобы взглянуть со стороны. Именно ускользающая неопределённость, маскирующая не только само потаённое, но и таинство его особого статуса, создаёт и удостоверяет тай ну как тайну. Настоящая тайна всегда утаивает собственное наличие. По добно тому как исчезает из поля зрения предмет, образ которого на сет чатке глаза попадает на слепое пятно, сохраняя при этом неразрушенной иллюзию полноты и непрерывности сферы визуального восприятия.
Постклассика
По аналогии с типологическим разделением на классику и неклас сику стоит уже саму неклассику разделить на классическую и некласси ческую. Классически неклассические мыслители утверждали принципи альную зависимость и предопределённость субъекта (сознания, знания, понимания, истины…) от фундаментальных бытийственных обстоя тельств — таких, к примеру, как экономические отношения (Маркс) или бессознательные порывы (Фрейд)… — но вместе с тем также и возмож ность для выделенного субъекта (политэкономамарксиста или психоана литикафрейдиста…) все эти обстоятельства отчётливо и ясно увидеть, правильно учесть и тем самым стать de facto независимым от них, то есть в неклассической ситуации [∅03.1] продолжали нерефлексивно реализо вывать вполне классическую стратегию. Неклассически неклассические мыслители стремятся отрефлексировать и критически переосмыслить установки классики, чтобы при необходимости от них отказаться.
3.1. Ситуация
Постклассическая ситуация провокативна [∅02.5]. Уже вроде бы яс но, что проект [∅01.1] классики не только невыполним, но и не стоит вы полнения, что классические подходы практически нигде не работают. Од нако совершенно непонятно, что же со всем этим делать — то ли не заме чать, то ли объявить несущественным извращением, то ли начать в луч ших академических традициях описывать, то ли решить, что теперь всё можно…
А ведь само разделение классики и неклассики нельзя по понятным причинам представлять классически, в виде бинарной оппозиции. Это разделение проективно и конструктивно; оно типологическое, а не исто рическое; вдобавок требует введения нового уровня рефлексии [∅03.2] для тематизации и проблематизации разрыва посредством целого веера стратегий второго порядка.
3.2. Порядки рефлексии
Для того чтобы отрефлексировать своё видение какоголибо предме та, мы должны сконцентрировать своё внимание уже не на предмете; что бы отрефлексировать свою рефлексию (рефлексия рефлексии, рефлексия второго порядка), надо забраться ещё на один рефлексивный этаж, уви деть который можно будет только с более высокого — когда мы восприни маем сам предмет, наше восприятие остаётся для нас невидимым… Не классика [∅03] работает на более высоких рефлексивных этажах.
3.3. Релятивизм
Если всё относительно, то же относится и к этому утверждению. Ре лятивизм — это вовсе не произвол и никоим образом не вседозволен ность. Просто отсутствие абсолюта.
3.4. Так называемый постмодернизм как завеса
Поразительна иррациональная ненависть к постмодернизму — у рев нителей «чистого» рационализма, потрясающа сила априорного оттор жения постмодернизма — у поборников спокойного критического анали за, изумительна агрессивная неприязнь к постмодернистам — у сторон ников невозмутимой академичности, удивительна апелляция к авторам и к социокультурному контексту постмодернизма — у приверженцев абсо лютной и бессубъектной объективности. Вполне достойные невежествен ной неразборчивости «защитников» оного. В результате постмодернизм воспринимается как завеса, за которой ничего не видно. Что же представ ляет собой так называемый постмодернизм — изысканное и тонкое изде вательство над читателем, здравым смыслом, традицией и господствую щими представлениями, ниспровержение общепринятых ценностей, па разитирование на классических текстах и социокультурном контексте, разрешение на самовольное самодурство, отбрасывание и забвение пре одолённой метафизики или же серьёзное и трудное обсуждение принци пиальных и фундаментальных проблем и вопросов, кропотливая работа мысли по выслеживанию незаметных и неуловимых сил, воплощение настойчивого и неутолимого стремления к правде? (Кстати, можно ли так ставить вопрос?) Открытым оказывается вопрос и о достойном ответе на этот провокативный вызов [∅02].
Единство мира
Изначальный замысел философии — охватить всё. Однако всё появ ляется в результате осуществления этого акта, задаётся самим этим жес том. То, что было охвачено, и есть всё. Остального просто нет. Поэтому любые философские концепции — это различные способы описания единства мира. В этом смысле единство мира — это не утверждение, а ус ловие возможности философии как таковой, подобно тому как абсолют представляет собой конструкцию, не зависящую от собственного сущест вования.
Попытки концептуального отрицания единства мира при ближай шем рассмотрении оказываются отрицанием только вульгарнонатура листического или классически монистического его понимания, рассмат ривающего мир как монолитную глыбу субстанции, поскольку всё равно нечто утверждается о неизбежно подразумеваемом мире в целом.
4.1. Мир
Самое, наверное, неопределённонеопределимое и в то же время все объемлющесамоочевидное — мир — постоянно присутствует везде и отовсюду неизбежно ускользает, как только мы пытаемся его схватить и зафиксировать. Отдельные части мира это ещё не весь мир. Изза своей тривиальной очевидности и неохватной грандиозности мир как таковой фактически и практически так и не стал специальной проблемой или да же хотя бы отдельной темой традиционной философии, которая в лучшем случае ведёт свои речи скорее о понятии мира, об эволюции мировоззре ния, о различных картинах мира.
Говорить о мире трудно, почти невозможно избежать риска запутать ся в мелких частностях или попасть в замкнутый круг рассуждений, где всё связано со всем. Не имея возможности сразу обладать целым и одно моментно выразить это целое, мы вынуждены проводить различия, выде ляя [∅05.4] бинарные оппозиции, триады, тетрады и т. д., и т. п. Освоение мира выступает одновременно освоением самого себя, и наоборот: одно без другого невозможно.
4.2. Единство
Разнообразие концептуализируется разными путями. Получившееся единство может схватывать некую множественность и системно, и вне системно [∅02.4] — как парадигмальный или метапарадигмальный [∅03.2] концепт, который, правда, обычно рассматривался в традиции как служебная, операциональнотехническая философская категория.
4.3. Полиэкранность
В последовательно неклассическом [∅03] философском смысле бу дет неважно, то ли некоторый подразумеваемый мир [∅04.1] «сам по се бе» раскладывается на отдельные [∅05.4] срезы и ракурсы [∅06], которые вдобавок могут проецироваться [∅08.1] друг в/на друга, то ли разные изображения на разных экранах могут быть сложены в некоторый интег ральный голографический образ, который и окажется в этом случае до ступным нам миром, созданным или открытым.
4.4. Полиморфность
Более того, философские высказывания являются всегда в принципе переинтерпретируемыми [∅08], перемодулируемыми, что даёт им воз можность встраиваться практически в любую философскую систему, хотя и с некоторыми искажениями. Иначе говоря, все философские конструк ции проецируются [∅08.1] друг на друга, каждая посвоему. Поэтому со вершенно неважно, что положено в начало [∅00] размышления — бытие, идея, время, структура, текст, воля, понимание, власть или любое другое. И подобно тому как при чтении романа фиксируется не фактура бумаги и вид использованного шрифта, а перипетии сюжета и действия героев, основная задача восприятия философского текста заключается, наверное, в том, чтобы выделить не отдельные особенности концепции того или иного мыслителя (это специальная, конкретная и сама по себе небезын тересная проблема), а попытаться всётаки уловить хотя бы контуры того, что проступает за каждым таким текстом.
Технологии
Вообще, самое простое — действовать по правилам, особенно если эти правила есть и ими многие руководствуются. Но откуда берутся сами эти правила? Например, существуют законы, описывающие, как должны приниматься разные юридические нормы. Но откуда законодатели долж ны узнавать, что конкретно они должны предписывать или запрещать? Вот философия и занимается разработкой правил для самих правил или правил для игры без правил. Вообще, любая концептуальная система, достигшая определённого уровня сложности, неизбежно начинает отоб ражать и представлять, повидимому, какойто аспект мира, всё равно как в любой достаточно хорошо отполированной поверхности начинает отра жаться окружающее.
5.1. Отождествление и различение
Фундаментальные (поскольку простейшие и далее неразделимые) операции составляют одну из глубочайших проблем философии — о сход стве несходного и о несходстве сходного.
5.2. Развёртки
По разным направлениям, линиям, полюсам [∅05.4] происходят и могут быть отслежены складывания и раскладывания взаимных проекций [∅08.1] — одновременность и последовательность, синхрония и диахро ния, пространственные и временные последовательности, локальноре гиональные области и отдельные цивилизациикультуры.
Аналогичным образом стоило бы, скорее всего, расположить и зер кальные поверхности всех доминионов культуры [∅06] — не в виде запу танного лабиринта с разветвляющимися коридорами, убегающими в раз ные стороны, а в виде просторного зала: тогда можно ожидать проявления своего рода голографического изображения как результата интерферен ции отблесков соответствующих ячеистомозаичных структур.
5.3. Магматика
Предложенный Касториадисом для обозначения многообразия не перечислимых компонентов концепт магмы удобно использовать для описания технологии размягчения жёстких застывших конструктов и расплавления их в ту изначальную допонятийную магму, из которой они выкристаллизовались. Такого рода магма неизбежно оказывается универ сальной, единой безосновной основой [∅09.2] мира [∅04.1].
5.4. Многополярность
Полярность выступает специфическим способом внутренней орга низации какоголибо единства (целостности, предмета, явления, собы тия, универсума рассмотрения), характеризующегося наличием особых выделенных точекполюсов, которые фокусируют предельнограничные экстремальные значения соответствующих, принципиально несводимых друг к другу параметров. Вырожденными случаями полярности выступа ют: вопервых, моноцентричный и унитарный фундаментализм класси ческих представлений (монополярность), а вовторых, дихотомия бинар ных оппозиций, задающая минимальные опорные модули любой струк туры (биполярность, дуальность — частным случаем которой будет диалектика). Онтологические, гносеологические и аксиологические ос нования и установки неклассических и постнеклассических концепций существенно базируются на принципах полифундаментальности, гетеро генности и альтернативности (многополярность). Полярность символи зирует противостояние контрастных компонентов мира и концептов тео рий (полюса координатные, магнитные, географические, климатиче ские…), метафизических сил, стихий, ценностей (Свет—Тьма, Хаос— Космос, Инь—Ян, Огонь—Вода—Земля—Воздух, Истина—Добро—Кра сота…), божественных личностей (Осирис—Сет, Ормазд—Ахриман, Брахма—Вишну—Шива, христианская Троица…) и т. д., и т. п. Ана логичным образом постепенно появляются в языке специальные слова для обозначения разных цветов, причём сначала выделяются самые яр кие, основные цвета — красный, зелёный, жёлтый, синий, а только затем уже — коричневый, оранжевый, серый и т. д.
5.5. Ошибки
Давно известно, что ошибаться человеку свойственно, но и сегодня попрежнему принято (за единичными исключениями) ошибаться отно сительно значимости ошибок. Великие философы прошлого велики и своими ошибками, и противоречиями — ведь новое п(р)оявляется всегда неожиданно. И прежде всего — там и тогда, где и когда ничего необычно го, казалось бы, и быть не может. Ищем одно, а находим совсем другое. Главное — не пройти машинально мимо, а заметить и остановиться. Од нако именно это оказывается самым трудным.
5.6. Неочевидные очевидности
Самые очевидные очевидности — именно в силу своей самоочевид ности — мало того, что остаются, как правило, почти незаметными, то есть практически незамечаемыми, и потому не подвергаемыми рефлек сии, но ещё и оказываются — при ближайшем рассмотрении — совсем не такими уж очевидными.
5.7. Неуловимые различия
Внимание к мелочам [∅01.6] позволяет нам попытаться сопрячь на вязчивость вязкой связности [∅04] с раскалывающим разделением [∅05.4], чтобы увидеть различное в повторении (бывают вопросы и воп росы), отделить интерпретацию от искажения, отличить наполовину пол ную бутылку от наполовину пустой и т. д., и т. п.
5.8. Поэтика аналитики
Философия — поэзия мысли, воспевающая поэтику бытия. Парадок сальным образом это наглядней всего видно на примере тех фантастичес ки вдохновенных примеров, которые придумывают аналитики для обос нования своих безумно храбрых и непредставимо идеализированных ми нималистических концепций.
5.9. Эклектика
Сегодня принято с осуждением называть эклектикой свалку и/или помойку, куда набросаны в хаотическом беспорядке любые куски любых концепций. Однако это совершенно не мешает любить разного рода сала ты и винегреты. А ведь исторические эклектики прославились тем, что от казались выбирать [∅02.1] между Платоном и Аристотелем, заявив, что они оба правы, — и оказались не так уж не правы.
Доминионы культуры
Попытки концептуального отрицания единства культуры отрицают только определённое прямолинейномонотонное её понимание, тракту ющее культуру как нечто однородное и по большому счёту неизменное, ибо концепции автономных и локальных культурцивилизаций нуждают ся, как минимум, в творце, способном их все обозреть и увидеть в их раз личии сходство.
Имеет смысл выделить пять доминионов культуры — филосо фию, науку, религию, искусство и мистику — по признаку охвата каждым из них всего мира в целом, хотя и своим собственным способом в своём специфическом ракурсе, и построения своими собственными характер ными средствами соответствующей картины мира. Причём любой цело стный компонент любого доминиона обладает аналогичной способ ностью. Каждый из доминионов (в своих компонентах) отображает тогда не только сам мир, но и все остальные доминионы с их своеобразными картинами мира — подобно монадам Лейбница или элементам ожерелья Индры. Поскольку других средств восприятия и освоения мира у нас нет, постольку ничего другого, помимо доминионов и их картин, мы уви деть не в состоянии, подобно тому как не можем выпрыгнуть из сфе ры собственных представлений (хотя и можем их менять), чтобы поми мо наших органов чувств (любых!) разглядеть, как там всё обстоит на самом деле.
Приложения
Философия, будучи свободной творческой мыслью, критически от носящейся ко всем догмам и очевидностям, вовсе не предполагает авто матически и с необходимостью получение какого бы то ни было утили тарного продукта; наоборот, задача философии, скорее, — развеивать и преодолевать иллюзии, в том числе и относительно традиционных и обычных прикладных схем и программ действия. Поэтому использование философии должно быть адекватно её собственной задаче — культивиро вать чистое неангажированное мышление — в той степени, конечно, в ка кой это вообще возможно.
Попытки же превратить философию в прикладной инструмент для получения утилитарных практических выгод неизбежно приводит к унич тожению философии как таковой. Изначально раскованное и живое, фи лософское мышление кристаллизуется сначала в концепцию, из которой очень соблазнительно и просто оказывается извлечь мировоззренческую позицию, которая затем застывает и необратимо отвердевает, становясь идеологией. Возможно, без идеологии невозможно обойтись политику для решения своих собственно политических задач, но умный правитель ведь должен стремиться к эффективной организации общества. Причём общество, даже будучи оптимальным объединением людей, по большому счёту вовсе не самоцель и самоцелью быть не должно; социальность — только средство. Конечно, ктото должен всегда заботиться и об общест ве, поддерживать его функционирование и совершенствовать его устрой ство, но система целей определяется в конечном счёте системой ценнос тей, восходящих к тому или иному пониманию смысла жизни, а смысл жизни созданием даже идеального общества не исчерпывается.
7.1. Философия фантастики
Благодаря своему неразрушительному разнообразию фантастика притягательна, она открывает новые концептуальные пространства и ув лекает к удивительному, чудесному, таинственному, неведомому, необыч ному, сверхъестественному, выходящему за любые границы. Как часто бывает при попытках локализовать фантастику в жёсткой понятийной сетке, все определённости начинают расплываться и, более того, размы вают стереотипные схемы восприятия и мысли.
Фантастика творит особые миры — и её безудержное варьирова ние миров вскрывает некоторые инварианты. Ситуация априорной и на первый взгляд абсолютной свободы творца в фантастике парадоксальным образом обнажает некие странные внутренние необходимости, ограниче ния, которые определяются не только и не столько спецификой избран ного языка представления или последовательностью дискурсивной развё ртки, но и с какимито, повидимому, онтологическими условиями условностями. Например, инопланетянин — это радикальная инстанция остранения, позволяющая занять максимально внешнюю позицию и разглядеть то, чего иначе вообще не видно: условность обычного, при вычного, традиционного и неочевидность самих очевидностей. Фантас тическое моделирование демонстрирует возможности максимально гиб кого мышления и неординарных способов постижения мира. Фантастика предоставляет также уникальные возможности для переоценки всех цен ностей или хотя бы для оценки иных версий ценностных иерархий и предпочтений. Предельный эскапизм остаётся неизбежно связанным с основным потоком жизни — вопрос всегда в том, от чего хочется убежать и куда. Фантастика почти незаменима и в демонстрации принципиальной условности всех форм человеческих взаимоотношений, пусть и воспроиз водящих каждый раз устойчивую безусловность соответствующих необхо димых функций.
Главный вопрос в том, какие предпосылки и допущения необходимы для существования фантастических произведений как именно фантасти ческих, то есть не принимаемых за наглую ложь, попытку ввести в за блуждение или рассказ о реальной действительности. А ведь фантастика ещё выражает изначально ограниченными средствами (обычный язык — может быть, минимально модифицированный или надстроенный) то, что эти средства заведомо превосходит (реалии, понятия, конструкты, кон цепты…), причём фантастические произведения в отличие от чисто фор мальных поисковых экспериментов авангарда и модернизма, с одной сто роны, и от научнопопулярной литературы, с другой, поддерживают неу ловимо неустойчивый баланс контрастов привычного и необычайного, объяснённого и чудесного, традиционного и нового, естественного и ис кусственного… Наиболее широко распахнутый и предельно заострённый (хотя опять же не до радикального излома) дискурс фантастики становит ся порождающим источником для заполнения выявленных лакун в приз нанных дискурсах или картинах мира. Подобно мысленным экспери ментам в физике, фантастика провоцирует построение неожиданных концепций в других науках, среди которых уже впечатляющая коллекция воображаемых конструктов.
7.2. Непрямая референция
Принимаемый по умолчанию способ рассмотрения предметности предписывает непосредственно схватить и описать искомое. Но как воз можно прямо и непосредственно зафиксировать то, что как раз исключа ет прямое соотнесение? Ведь для точного отображения чегото неопреде лённого, зыбкого и размытого потребовалось бы использовать не менее расплывчатые средства — не в том, разумеется, смысле, чтобы для живо писного изображения облаков воспользоваться кисточкой из тумана: тут уместнее вести речь о технологии и технике. С другой стороны, примене ние косвенных указаний при всей своей тонкости и гибкости привело бы к нечёткости результатов, порождающих бесконечное множество интер претаций. Интуитивная ясность избранного фокуса нашего мысленного взгляда начинает немедленно замутняться при первых же попытках тща тельно с ней разобраться.
Классический и, пожалуй, самый известный случай непрямой рефе ренции — это метафора, буквальное перенесение языковых значений, которое становится в некотором смысле модельным для всех случаев кос венного употребления слов. Однако даже метафора понимается через со отнесение с прямой референцией, через своего рода иерархическую суперпозицию различных прямых референций, когда эффект переноса достигается путём комбинирования и перекомбинирования смещаемых друг относительно друга смысловых векторов.
Как возможна непрямая референция? Зачем она могла бы быть нуж на? Наверное, ответ на эти вопросы один и тот же. Если возможно балан сировать между прямым указанием на конкретную предметность и беско нечной регрессией символических отсылок и отсрочек, то в таком случае оказывается возможным косвенное, непрямое свидетельство о том, на что никаким иным образом взглянуть не удастся. Иначе говоря, непрямая ре ференция должна не просто кивать в сторону чегото иного, могущего быть выраженным также и прямо, но должна оставаться единственным способом намекнуть на недоступное схватыванию, на постоянно усколь зающее. Ведь если мы можем нечто переформулировать, выразить прямо или косвенно, назвать или метафорически описать, локализовать непо средственным указанием или изобразить, то совершенно незачем изыс кивать какието ещё изощрённые средства освоения. Когда мудрец, изъясняющийся, по обыкновению, обиняками, изрекает, что, мол, если тебе на нечто указывают, то надо смотреть на указанное, а не на указую щий перст или сам по себе жест указания, — это вовсе не универсальный рецепт всегда правильного действия (в конце концов, описанная ситуа ция может быть образцом как раз того, как надо указывать) и не инвари антный алгоритм понимания происходящего (возможно, совершенный жест был сигналом для группы захвата, сидящей в засаде), равно как и не тривиальный пример демонстрации действенности остенсивного опреде ления, базирующегося на всё той же пресловутой прямой референции, и уж тем более не способ блеснуть метафорическими красотами стиля, а по пытка обратить внимание на недостижимое прямым указанием.
Таким образом, непрямая референция принципиально не укладыва ется в ряд риторических фигур. Она присутствует там и тогда, где и когда прямая референция бессмысленна или невозможна, — например, в свя щенных текстах, произведениях художественной литературы (прежде все го — в стихах), философских трактатах. Достаточно несложно бывает ска зать, как и с помощью чего непрямая референция разворачивается, но со вершенно бессмысленно спрашивать, к чему именно она отсылает — ведь даже сама возможность ответа на такой вопрос превратила бы её в прямую референцию. В отличие от метафоры, которую можно уподобить, пожа луй, мосту к другому берегу предметности — как вычурный и ажурный ви адук, заменяющий упрощённоутилитарный и чисто функциональный прямой мост простой референциальности, — непрямая референция похо жа скорее на навесной, консольный мост над пропастью, наращиваемый в неизвестность, к невидимой цели…
07.3. Философия образования
Философия [∅01], которая сама строится как коралловый риф и/или социальная эстафета, цепочка учителей — учеников, не может не отсле живать вопросы преподавания. Задачи классического [∅03] образования просты и тривиальны: имеются некоторая сумма уже достигнутого знания и универсальный метод получения знания нового, которые и надо пере дать следующим поколениям. Собственно, вся идеология Просвещения и базируется на такого рода представлениях — если человеку объяснить, то он обязательно всё правильно поймёт и будет действовать в соответствии со своими знаниями, предсказуемо, рационально, справедливо. Опыт последних столетий свидетельствует, однако, что всё не так просто. Ока зывается, на самом деле никакого «на самом деле» нет, а поэтому прямо линейные механизмы просвещения не работают. И если даже работают, то не так, как замышлялось: к примеру, человек научается читать, но не по нимает прочитанного — так называемый синдром функциональной не грамотности.
Радикальная смена представлений о мире [∅04.1] требует и соответ ствующего пересмотра взглядов на человека, его развитие и образование. Подумать за другого нельзя, даже если очень хочется, поэтому не стоит и пытаться — каждый сам должен совершить акт мысли, хотя помощь со стороны и возможна и желательна. Ребёнок, конечно, не маленький взрослый, но и не заготовка для взрослого, а болееменее (как и все лю ди — вместе и по отдельности) самостоятельный человек, субъект собственной активной деятельности. Нет смысла навязывать никому ка ких бы то ни было знаний и представлений, даже с самыми лучшими на мерениями, — надо просто создать условия внутренней необходимости в знаниях или умениях и внёсшей возможности эти знания или умения найти и освоить для решения собственных (опятьтаки не навязанных) задач и проблем, возникающих в процессе личной активности, в процес се реализации собственных интересов и потребностей. Незачем механи чески загружать память набором сведений — лучше показать, где и как эти сведения можно найти и получить, ещё лучше дать возможность само му сделать открытие. Образовательный процесс осуществляется всегда во взаимодействии, поэтому учитель и сам должен быть заинтересован учиться, в том числе и у своих учеников. И не должен изображать из себя сверхчеловека, который всё знает и всё умеет. Не надо закрывать глаза на ошибки [∅05.5], трудности и проблемы — ведь это критические точки роста; наоборот, надо им радоваться — сложнее всего как раз увидеть проблему, вообще задуматься над очевидным, привычным и в силу этого незаметным, невидимым. Поэтому нужно не только слушать, но и слы шать; не только смотреть, но и видеть. Владение и оперирование целым спектром возможных схем и моделей, путей и способов, стратегий и прак тик позволяет более свободно ориентироваться в любой ситуации и нахо дить эффективные решения и выходы. (Хотя, конечно, мудрый не попа дёт в такую ситуацию, из которой умный найдёт успешный выход.) Ис следовательский интерес неразрывно связан с творческим порывом, а гибкость познавания позволяет избежать стереотипных мыслей и действий.
Перевод
Полагание относительной автономности или даже абсолютной изо лированности каждого отдельного социокультурного ареала по любым измерениям, казалось бы, совершенно отрицает общекультурное един ство, утверждая, напротив, принципиальную фрагментарность и мозаич ность различнейших компонентов. Действительно, об этом свидетель ствуют на первый взгляд и афористический стиль письма Ницше, пере полненный мифологическими символами, странными персонажами, необычными сценическими сюжетами, и как бы случайное эпизодичес киассоциативное построение текста у Пруста, представляющее поток сознания, и концепции локальнорегиональных культур — цивилизаций Данилевского, Шпенглера, Тойнби, и гипотеза лингвистической относи тельности Сэпира–Уорфа и т. д., и т. п. Но одновременно эти же примеры самым парадоксальным образом подтверждают и единство культуры, по скольку неявно предполагают так или иначе возможность непрерывной процедуры — стратегии чтения — восприятия — интерпретации, стягива ющей и связывающей все разрозненные элементы. Несопоставимость и несоизмеримость различных образов, картин мира преодолевается путём адаптирующего (и тем самым искажающего) проецирования, переноса оригинального содержания в иную смысловую среду, в чужую категори альную сетку. Своего рода интерференция разных подходов, взглядов по рождает новые смыслы, пересечение различных социокультурных эста фет приносит открытия, неожиданные идеи. В этом и заключается схема концептуального перевода.
8.1. Проекции
Предположим, мы говорим об одном и том же. Если нет, никакая коммуникация не предполагается. Разные видения [∅06] образуют раз личные проекции друг в/на друга [∅04.3]. Однако чтобы всё работало, не обходимы взаимодействие и сопоставление различных концепций. Даже коммуникативная катастрофа значима, а нонсенс — не бессмыслица (ко торая невозможна).
8.2. Концептуальное пространство
Так формируется вполне технологически просматриваемое полива риантное и многоразмерное концептуальное пространство, позволяющее прослеживать с необходимой и достаточной степенью подробности меха низмы взаимовлияния и взаимодействия всех философских концепций в частности и доминионов культуры [∅06] вообще в различных порядках рефлексии [∅03.2].
8.3. Понимание как непонимание
Что такое понимание? Понимаем ли мы это? Даже когда нам прино сят желаемое по нашей просьбе. Только непонимание продуктивно. Надо это понять.
Классические [∅03] философы искали или пытались создать ситуа цию, где понимание не является проблемой, поскольку достигается авто матически; вместо того чтобы исследовать условия возможности действи тельной и действующей коммуникации и вырабатывать соответствующие
методы и процедуры. Они устраняли проблему вместо того, чтобы её ре шать.
Границы и пределы
В постклассике уже отсутствуют беспредпосылочные [∅09.2] (по)знания, высказывания и позиции (включая само это утверждение). И даже противоречие в некоторых положениях может оказаться мнимым, фиксируя разные части замкнутой траектории, подобно тому как мы, ка жется, видим две стороны односторонней поверхности Мёбиуса.
9.1. Неодолимости
Условия возможности осмысленного говорения неизбежно огра ничивают нас — хотя бы в той степени, в какой мы не собираемся отказы ваться от смысла и/или претендовать на молчание. Заявка на всеохват ность предполагает отсутствие изнанки (другой стороны просто нет) и ли шает нас возможности оттолкнуться от чегото другого.
9.2. Предпосылки и основания
В силу отсутствия абсолютов, на которые всегда можно опереться, приходится очень осторожно подходить к критическому рассмотрению и переосмыслению собственных точек опоры — хотя бы потому, что страш но их потерять. Как можно рубить сук, на котором сидишь, или вытаски вать изпод себя ковёр?
9.3. Сцеплённость проблематики
Выбор [∅02.1] между рациональным и иррациональным не может не быть иррациональным, равно как предпочтение дискурса внедискурсив ному не может быть дискурсивным — ибо ни рацио, ни дискурс просто не могут действовать за своими собственными пределами. Поэтому прихо дится делать добро из зла, а точности достигать неточными средствами (действенность такого подхода демонстрирует, например, Интернет). На ши достоинства суть продолжение наших же недостатков, как и наоборот, впрочем.
Подготовил Алексей Нилогов
ЮРИЙ МАМЛЕЕВ
Судьба Бытия и Последняя Доктрина
(автоинтервью)51
Юрий Витальевич Мамлеев (род. 1931) — современный русский драматург, пи сатель, поэт, философ. С 1974 года в эмиграции (США, Франция). В романах «Мос ковский гамбит» (М., 1993), «Шатуны» (М., 1993) — быт городской интеллигенции, религиознофилософские искания, интерес к глубинным началам человеческой приро ды. В рассказах — гротеск, чёрный юмор, сюрреализм. Книги: «Утопи мою голову» (М., 1990), «Голос из Ничто» (М., 1991), «Блуждающее время» (СПб., 2001), «Россия Вечная» (М., 2002), «Мир и хохот» (М., 2003), «Другой» (М., 2006), «Судьба Бытия. За пределами индуизма и буддизма» (М., 2006). Член Союза писателей, русского и французского ПЕНклуба. В СССР не печатался, его произведения распространялись в самиздате. Издавался на английском, французском и других европейских языках. С 1989 года начинает публиковаться на родине. В 1991 году вернулся в Россию. Лидер «метафизического реализма».
Философия
— Философия, даже самая самобытная и необычная, как, например, ва$ ша, не создаётся на пустом месте. К какой философской традиции вы себя относите?
— К ведантийской. Веданта является высшей концентрацией ин дийской мысли, она изучается на Западе и считается одним из величай ших достижений человеческого духа. Я как индолог преподавал индий скую философию, включая Веданту, в 1990х годах в МГУ имени М. В. Ло моносова на философском факультете, в магистратуре. Следует отметить, что Веданта, не являясь, конечно, религиозной системой, не относится также и к рационалистической философии западного образца. Веданта представляет собой ту великую сферу, которую Рене Генон обозначил как чистую метафизику. Особенность этой метафизической философии, к ко торой, собственно, относится вся так называемая восточная мудрость, заключается в том, что она опирается и вытекает из огромного океана зна ний и духовного опыта, которые накопила Индия за все тысячелетия сво его бытия. В основе её лежит, как считал Рене Генон, некая Вечная Тради ция, в разной форме проявляющая себя и в других духовных течениях. С моей точки зрения, такая Вечная Традиция не может быть чемто за стывшим, ибо совершенно очевидно, что она далеко не вся проявлена в человеческом духовном опыте. Она может расширяться по мере раскры тия или манифестации в человеческом разуме.
— Какие основные ваши философские работы и о чём они?
— Главные работы — «Судьба Бытия»52, «За пределами индуизма и буддизма»53и «Россия Вечная»3 , а также «Невидимый град Китеж» (совме стно с Т. М. Горичевой).
Начнём с «Судьбы Бытия». Основной мотив «Судьбы Бытия» (кроме главы «Последняя Доктрина») — самопознание; точнее, речь идёт о по знании бессмертного, вечного, неуничтожимого начала в человеке, назы ваемого в «Судьбе Бытия» «Высшим Я». Это Высшее Я следует отличать от «Эго», временного «я» в человеке, с которым он обычно себя отождест вляет, говоря «я — инженер», «я — имярек», «я — учитель», «я — человек». Высшее Я, таким образом, выходит за пределы человеческого бытия. Понятно, что Высшее Я — понятие чисто метафизическое, не имеющее никакого отношения к психологической реальности, характеру человека и его индивидуальности, так как всё это относится только к ограниченно му временному существованию. Высшее Я — это чистое, свободное от всех ограниченных определений «Я».
Высшее Я, таким образом, является абсолютным субъектом, неунич тожимой реальностью, в скрытом виде присутствующей в каждом челове ке. Цель бытия состоит в реализации этого «Я» и отождествлении себя с Ним, а не с временным эго. Такова высшая цель самопознания и метафи зической реализации.
Высшее Я познаётся в определённом духовном опыте или раскрыва ется в человеке как дар. Обычно же оно скрыто.
— В чём же различие между концепциями Высшего Я в вашей филосо$ фии и Атмана в Веданте?
— Безусловно, во всём этом наличествует параллелизм с понятием Атмана в индийской философии при существенном, однако, различии, конечный смысл которого становится ясным при рассмотрении «Послед ней Доктрины» в моём тексте.
Но начнём с других различий. В Веданте Атман (Высшее Я) тождест вен Брахману (объективизированному Абсолюту54). Шанкара поясняет, что Атман — един по отношению ко всему множеству людей и его «скры тое» (по большей части нереализованное) присутствие в людях не нару шает Единый Атман. Короче говоря, Он — един на всех. Хотя это мнение и подвергалось различным коррекциям в индийской философии — оно преобладает.
В «Судьбе Бытия» речь идёт о несколько другом подходе, когда доми нирует «субъективистский» подход, и Высшее Я рассматривается с точки зрения индивидуума, который стремится к его реализации; по сути, это Высшее Я является им самим, «принадлежащим» именно ему.
Вводится также совершенно новое понятие — «корень самобытия», который пронизывает все формы бытия человека, в том числе и выходя щие за пределы его индивидуального существования. Корень самобытия означает единство бытия всех форм существования, от человеческой до любых других, включая самые высшие — реализацию Высшего Я. Собственно говоря, этот луч бытийного единства исходит от Высшего Я, которое является в «Судьбе Бытия» верхним уровнем метафизического самопознания. В этом и состоит главная тема этой работы.
Второе, более существенное различие, состоит в том, что обычно в индийской философии Атман может быть понят как Чистое Сознание и Чистое Бытие (и метафизически бесконечное блаженство), во всяком случае, Атман както связан с этими понятиями55. В «Судьбе Бытия» гово рится о том, что Высшее Я может выходить за пределы своего отношения к Чистому Сознанию и входить в сферы ещё не открытые, неописуемые, оставаясь при этом Высшим Я, неким «проколом» в Абсолюте.
Что касается «Последней Доктрины», аналогов которой нет в миро вой традиции, то здесь Высшее Я моей метафизики вступает в контакт с Бездной.
— Кроме того, вы вводите ещё один новый термин — «утризм». Что это такое?
— Утризм — это понятие, которое сочетает в себе метафизику (как способ познания) и веру, но веру, конечно, не в религиозном смысле. Эту внутреннюю веру следует определить скорее как интуитивное предвиде ние. По аналогии это можно сравнить, например, с ситуацией, когда, ска жем, молодой юноша верит, убеждён в своём предназначении в качестве великого поэта или учёного.
Утризм необходим, когда речь в моей книге идёт о Высшем Я, по скольку оно выходит за пределы традиционного понимания концепции Атмана. Это предполагаемое вхождение Высшего Я в запредельную сфе ру уже и есть предмет внутреннего предвиденья, интуитивной веры.
— Что же нового вы раскрываете в «Последней Доктрине»?
— Дело в том, что конечная реализация Высшего абсолютного Я (или, выражаясь языком Веданты, — реализация Абсолюта) является не коей метафизической возможностью, данной человеку (как образу и по добию Божьему). Абсолют включает в себя всю Реальность как таковую, в том числе и так называемое Божественное Ничто (святую тьму Абсолю та), которое не является, конечно, Пустотой. Это Божественное Ничто заключает в себе все потенции, все зёрна, которые могут быть проявлены (в той или иной форме мироздания, помимо той, которую мы имеем) или вообще никогда не проявляться по самой своей сути. Следовательно, это Ничто наоборот является некоей метафизической Полнотой.
В «Последней Доктрине» речь идёт о некоей Бездне за пределами Аб солюта. Эта Бездна, естественно, «находится» и за пределами Реальности как таковой. Она, следовательно, вообще не может быть описана в «кате гориях» и «понятиях» бытия и небытия. «Находясь» (тут приходится при менять условный язык) за пределами Реальности, эта Бездна не может быть познана нами, это не дано нам (в отличие от Богопознания). Эта Бездна не может быть ни реализована, ни познана. Принцип реализации, который естествен «в мире Абсолюта», вообще не существует в этой Безд не, поскольку сама она — по ту сторону Реальности.
У нас нет «орудия», «средства», с помощью которого можно было бы выразить, чем эта Бездна является. Однако косвенный контакт всё же воз можен.
Вопервых, зададимся вопросом: почему может возникнуть предви денье этой Бездны? В «Судьбе Бытия» такое предвиденье связано с прин ципом метафизической тоски. Но эта тоска не связана с принципом обла дания, как это бывает в мире Реальности (Абсолюта), поскольку никакое «обладание», никакая реализация по отношению к этой Бездне невоз можна.
Представим себе ситуацию реализации Абсолюта. В самом Абсолюте (в БогевСамомСебе) достигается высшая степень полноты, единства, гармонии и т. д. В Абсолюте, разумеется, не может быть никакой неудов летворённости, Абсолют включает в себя все возможности бытия и пол ноты Ничто, все зёрна той или иной формы творения, которая по сущест ву является манифестацией, проявлением Абсолюта. Метафизическая тоска, о которой говорится в «Судьбе Бытия», не есть тоска по чемуто, чем можно обладать (или что можно реализовать). Она присутствует при наличии самой полной реализации всех возможностей, это — трансцен дентная тоска непостижимого и необъяснимого характера, и она имеет позитивный смысл, который состоит в том, что эта трансцендентная тос ка является одним из косвенных путей, дающих представление о Бездне за пределами Абсолюта, за пределами Реальности.
Человек, реализовавший Абсолют56, должен обладать некоторыми ап риорными качествами, чтобы вступить в контакт с Бездной. Абсолютная реальность настолько всепоглощающа, что в ней немыслим переход к че муто иному, чем она сама. Только человек, обладающий некоторыми ка чествами, в том числе такими, как метафизическая тоска ещё до реализа ции Абсолюта57, сможет сохранить тайное стремление к Иному. Но осле пительная мощь Абсолютной Реальности, непостижимое для человека вечное счастье, бессмертие таковы, что осуществить это стремление мож но только при условии выхода из Абсолюта, из Центра на периферию, в состояние, отдельное от Абсолюта, в состояние некоторой «лишённости» при полной избыточности58. Тогда это стремление может перейти в мета физическое, точнее, утристическое, духовное действие.
При всём этом, разумеется, реализованное Высшее Я сохраняется. Несмотря на то что прямой контакт с Бездной, «путь» к которому не дан, естественно, невозможен, ибо ключ к этому контакту «не дан». Но кос венный контакт — с помощью интеллектуальной интуиции и медитатив ного опыта — вполне вероятен. Поскольку внереальностью нельзя обла дать, метафизическая тоска сама по себе приобретает позитивную окрас ку. Негативное может стать позитивным.
Бог и Бездна становятся тогда знаками этой ситуации. Само Высшее Я, которое входит в косвенный контакт59, неизбежно приобретает иные, дополнительные черты и становится, таким образом, «Я Бездны», «Я», да леко ушедшим от Атмана. Существо Бездны — это «существо» в чёмто принципиально иное, но сохранившее при этом все блага метафизичес кой реализации, реализации Абсолюта. Реализация Абсолюта или высше го Я в традиционном понимании является лишь необходимым подготови тельным этапом к возникновению Я Бездны («существа» Бездны). Реали зация Высшего Я (в любом его понимании) тем не менее совершенно не обходима, ибо, чтобы иметь хотя бы просто взгляд в неописуемую Бездну по ту сторону Абсолюта, надо обладать неуничтожимым вечным бытием, вечным Я. Обо всём этом довольно подробно, насколько это возможно, написано в главе «Последняя Доктрина». Последняя Доктрина и являет ся доктриной Бездны60, ибо дальше идти некуда.
«Судьба Бытия» касается, естественно, и других проблем, таких как метафизика искусства, загадочные сферы метафизики и проч. Приведу некоторые высказывания об этой работе:
«Как и в своём литературном творчестве, в «Судьбе Бытия« автор без экиво ков и туманных аллюзий поднимает проблемы, сама мысль о которых должна шокировать непосвящённых.
«В Мамлееве, в его романах, в его личности, мистически просвечивает неч то преонтологическое», — говорил о Мамлееве Жан Парвулеско».
Журнал «Милый Ангел»
№ 2, 1996
«…Но не подстерегает ли нас и за этой чертой этой «Последней Доктрины» какаято неожиданность? И это тем более вероятно, что, по словам самого Юрия Мамлеева, и в этой самой откровенной и самой эксплицитной книге он ещё не сказал «всего».
Таковы четыре концептуальных блока данной книги, которая является на стоящим праздником для всех, кто озабочен сферой Абсолютного и кого помимо своей собственной жалкочеловеческой судьбы интересует экстравагантная и ис полненная виражами чудовищности Судьба Бытия, осмысляемая его верным, но всё же удивительно метафизически независимым Свидетелем, Юрием Мамле евым, рыцарем веры в Иное, веры бескомпромиссной, но так жаждущей загля нуть глазом гения за последний предел».
А. Г. Дугин. Пристрастный свидетель кошмара реальности
«Метафизика Мамлеева, как и его литература, также является сугубо рус ской. Она целиком основана на парадоксах, аналогичных заключениях, предель но странных постулатах. Но именно такое видимое умаление рационального на чала позволяет снять ложные и иллюзорные аксиомы, усвоенные нами в процес се «адаптации» к принципиально антидуховной среде, и обратиться к развитию сверхрационального, собственного духовного начала».
А. И. Карагодин. Вкус подлинного бытия
— Один из ваших философских трактатов называется «За пределами индуизма и буддизма». О чём здесь идёт речь?
— Как известно, высшим духовным достижением человека на Восто ке считается так называемое «Освобождение». В отличие от «Спасения», которое означает бытие человека в тварном мире, но освящённом Богом, «Освобождение» означает нечто иное. А именно: полное освобождение от тварного мира и реализация жизни в самом Абсолюте. На Востоке хоро шо известна духовная практика реализации Абсолюта. В буддизме нечто подобное называется вхождением в шуньяту, то есть в неописуемое выс шее начало.
Надо отметить, что между Упанишадами и Ведантой, с одной сторо ны, и буддизмом, с другой, существует определённая разница, касающая ся трактовки Атмана. Первая часть этой работы как раз посвящена этому различию и преодолению его. Основанием для этого явилась для меня знаменитая работа Кумарасвами «Индуизм и буддизм».
Но во всех этих двух традициях в основном «описан» «путь Освобож дения» и его реализация, но Традиция почти не касается того, что проис ходит с душой после её вхождения в Абсолют, какова сама жизнь в этой Абсолютной реальности.
Фактически это вхождение является только первым шагом. Но ос тальное: сама неописуемая духовная жизнь, вернее, более чем «жизнь», в Абсолютной реальности — человеку практически неизвестна, да и не мо жет быть известна, если не говорить о какихто маловероятных исключе ниях. Тем не менее некоторые намёки возможны.
Итак, вторая часть этой работы посвящена некоторым загадочным сферам метафизики.
— Теперь необходимо коснуться такой фундаментальной и исклю$ чительно важной вашей книги, как «Россия Вечная». Её тема говорит сама за себя.
— «Россия Вечная» начинается с глобального исследования рус ской культуры, в особенности поэзии, литературы и философии. Оно включает в себя, разумеется, предыдущее развитие русской идеи на фило софском уровне, например, в работах Бердяева. Огромное внимание уде ляется наиболее глубинному и малоисследованному полю русской куль туры — мистическому мировоззрению русской поэзии. Кроме того, есте ственно, подчёркивается величайшая роль православия.
Я также подключил к этой работе метафизические изыскания, осно ванные на использовании (до некоторой степени) проверенных тысяче летиями «методов» духовной Традиции (в генонистском понимании этого слова).
«Из духовного исследования русской патриотической лирики сле дует, что в России можно различить её исторический аспект, космологи ческий и метафизический. На более глубоком уровне — Россию истори ческую (то есть Россию, существующую в пределах земной истории, в её прошлом, настоящем и будущем), Россию космологическую и Россию метафизическую или Вечную Россию.
Что же понимается под космологической Россией?
Мы утверждаем, что русская идея, не постигаемая обычным умом, как бы выходит за пределы мира, рамки человеческой истории слишком узки для неё. Однако дальнейшее истолкование этого тезиса, точнее, этой доктрины может быть дано на основе метаисследования всей русской культуры в целом, а также на постижении Русской Души во всех её безд нах и на методах, применяемых в восточной метафизической практике.
После этого необходимо напомнить, что (согласно принципам вос точной метафизики) любая нереализованная возможность, несущая в се бе метафизический смысл, неизбежно должна реализоваться, ибо для Аб солюта в его бесконечных манифестациях нет различий между возмож ностью и реализацией. Иными словами, русская идея, поскольку более или менее детерминированный ход человеческой истории, с её началом и концом, узок для неё, неизбежно должна реализовываться в иных бесчис ленных сферах и планах Космоса (в учении же о Космосе и Абсолюте мы опираемся на принципы индуистской метафизики, наиболее полной из существующих).
Следовательно, в Космосе (в его разных пространственновремен ных планах) должен быть аналог земной России (точнее, аналоги её), при чём эта космологическая Россия должна быть связана с существами, яв ляющимися метафизическими аналогами человека.
Собственно, сама историческая Россия, с этой точки зрения, являет ся одним из вариантов всей космологической России, существующей как совокупность «конкретных» Россий и как их подоснова. Следовательно, под космологической Россией должны пониматься также и те элементы в исторической России, которые несут в себе космологические возможнос ти. Кроме того, из самых недр исторической России возможно некоторое «космологическое строительство», но эта тема, эзотерическая по сущест ву, конечно, тоже вне пределов этой работы.
Под метафизической или Вечной Россией понимается сама первона чальная сущность России, её «первообраз», «первоидея», как она потен циально содержится в самом Абсолюте и которая «исходит» из Абсолюта во Вселенную.
Эта Вечная Россия является метафизической (духовной) основой и исторической России, и любого иного варианта космологической России.
Русская идея, взятая на её высшем уровне, и есть проявление этой Вечной России (в более узком смысле под Вечной Россией понимаются только «вечные» черты исторической России)».
В дальнейшем идёт детальное изложение самой России Вечной, её духовной сущности и её манифестации на разных уровнях бытия. Таким образом, эта книга посвящена духовной и космологической сторонам русской идеи.
Метареализм
— Вы являетесь основателем нового литературного течения — метафи$ зического реализма. Каковы его основы?
— Теоретические основы этого течения разработаны мной в «Судьбе Бытия», именно в её послесловии, озаглавленном «Метафизика и искус ство». В этом литературном течении предполагается включение в художе ственное произведение (роман, рассказ, поэма и т. д.) тех или иных эле ментов метафизики, понимаемой, однако, в несколько расширительном значении. Таким образом, имеются в виду не только так называемые веч ные вопросы бытия, но и вся скрытая реальность в целом. Сюда входят, например, как неизведанные, скрытые, тайные стороны человеческой ду ши, так и та невидимая реальность, которая окружает нас. Фактически речь идёт о проблемах расширения реальности.
Метафизический реализм исходит из относительной исчерпанности социальнопсихологической стороны человека в мировой литературе и предполагает проникновение в те самые глубины человеческой души, ко торые могут даже изменить наше представление о человеке.
Слово «реализм» здесь не случайно: вопервых, метареализм предпо лагает вполне реалистическое описание обыденной жизни, но с присут ствием в нём метафизических реалий. Но главное — сами эти метафизи ческие реалии не могут и не должны быть результатом игры воображения или фантастики. Эти «реалии» почёрпываются: а) из того океана опыта и знаний о невидимом мире, который приобрело человечество за свою ис торию, б) путём той способности, которую Рене Генон определял как ин теллектуальная интуиция (или, в конце концов, мистическая). Например, в романе «Мир и хохот» говорится:
«Речь шла о том, что на землю опустилась, как туча из невидимого, новая реальность, уничтожившая, закрывшая всё то, чем жило человече ство в своём сознании до сих пор. Всё исчезло, провалилось, ушло — па мять об истории, прежняя духовная жизнь, искусство, наука, культура, да же язык и способ мышления. Новая реальность, спустившись на землю, отстранила всё, даже сновидения. Но немного людей осталось, и осталась их душа — её остаток, её глубь, непонятная, незнаемая, и надо было жить, начинать всё сначала, а главное — понять новую, непостижимую преж ним умом реальность, а может быть, непостижимую вообще. Прежнее че ловечество кануло в бездну. И то, что осталось, уже не могло иметь с ним почти ничего общего. Эти люди барахтались в непостижимом, как слоны на луне. Но всё же была какаято возможность вступить в контакт с иной реальностью, пробудив не угасший ум, а нечто безумноновое в своей ду ше. И главное — не убить, не сожрать друг друга в спустившейся тьме».
Разумеется, поскольку само метафизическое и философское знание необъятно, то писатель выбирает из него те элементы, которые его непос редственно волнуют и о которых он тем или иным путём имеет представ ление. Он может опираться на свой личный опыт или использовать, даже в сатирическом ключе, целые мистические учения, если видит в них ка киелибо изъяны.
Таким образом, сам писатель определяет направление своих интере сов. И конечно, писательметафизик может включать в свои произведе ния как самые ужасающие тёмные стороны жизни, так и наиболее свето носные проявления, и даже тоскливообыденную повседневную жизнь, если он обнаруживает в её разломах, в её подтексте метафизическую подкладку.
Метафизические воззрения с убеждающей силой присутствовали в древней, традиционной литературе (особенно в поэзии), нередко в форме так называемых мифов. Но в то время и мир, и человек были совершенно другими, чем сейчас, и, собственно говоря, такое искусство было гениаль ным выражением мистических или символических взглядов их авторов (Данте, персидская поэзия). Метафизика заполняла собой всё простран ство литературного произведения, которое было далеко от того понима ния реализма, которое возобладало впоследствии, в ближайшую к нам эпоху, когда литература заключила союз не с мифологией, а с текущей жизнью человека.
Писателиметареалисты уже с совершенно других позиций, не поры вая с достижениями традиционного реализма XIX и XX веков, возвраща ют метафизике её достойное место в современной литературе. Метафизи ка становится частью бытия современного человека. И образуется таким образом сложнейшее единство социальнопсихологического аспекта че ловеческой жизни и бездн человеческой души, которые в конце выводят человека за пределы того узкого мира, в который он был помещён, как в клетку, по существу поступательным торжеством позитивизма, агности цизма и в конце концов практического материализма XVIII–XIX веков.
В этой связи следует отметить, что по существу метафизический реа лизм является не только литературным течением или даже скорее фило софсколитературным направлением. В принципе это — целое мировоз зрение, меняющее направление человеческого ума в сторону более глубинного, запредельного познания реальности. Метареализм не возвра щает человека, например, в античный мир или в другой подобный (в тра диционалистском смысле) период. В нём ориентация на современный мир, с его катаклизмами, войнами и раздирающими противоречиями, со четается с иными, присущими новому тысячелетию, поисками духовного бытия. Метареализм обращён в будущее, а не в прошлое, в вечное, кото рое виднеется за панорамой временного (неуничтожимое в изгибах поги бающего).
Литература
— Ваши художественные произведения наполнены философским смыс$ лом. Но, видимо, они — нечто в значительной степени иное по сравнению с вашими чисто философскими работами. В чём отличие и в чём сходство?
— Здесь есть, конечно, и сходство, и различие. Но прежде чем гово рить об этом, надо обратить внимание на одно обстоятельство. В литера туре, в искусстве вообще, всегда присутствует некий элемент или уровень, который ускользает от всяких попыток его философского или даже вер бального определения. Назовём этот уровень «Неописуемым». Каждый, кто живёт в искусстве, в литературе, обычно чувствует присутствие этого «Неописуемого». Скажут, что это тайна, тайна искусства. Но в метафизи ке также наличествует тайна, однако это иная тайна. Так или иначе, но философское раскрытие художественного произведения отнюдь не абсо лютно (оно относительно).
Теперь можно ответить на ваш вопрос. Здесь каждый рассказ или ро ман имеет, естественно, свою метафизическую окраску, подоплёку. Не сравнимую ни с чем роль в создании моей метафизики сыграл мой же рас сказ «Боль № 2», написанный в 1965 году в России, так сказать, в некон формистском подполье. Именно в этом рассказе (впоследствии он вошёл как глава в целый роман) впервые речь идёт о некоей Бездне за предела ми Абсолюта. Именно такое метафизическое представление легло потом в основу «Последней Доктрины» из «Судьбы Бытия», где оно наиболее полно представлено. Таким образом, метафизическая идея в литературе породила парадоксальную, почти немыслимую философскую доктрину.
В романе «Шатуны», при всей «неописуемости» его подтекстов, до минируют две метафизические идеи, а именно: иллюзорность этого мира и истерический поиск бессмертия, своего неуничтожимого «я», причём этот поиск сопровождается беспределом отчаяния и надежды. Относи тельно иллюзорности — в западной печати писали о герое «Шатунов» Фё доре Соннове: «Он убивает, чтобы понять вечное». Иллюзорность здесь понимается не только как временность, текучесть, уничтожимость всего, что находится в этом мире, но и как гносеологическая иллюзорность. От носительно метафизики «я» в «Шатунах» можно сказать, что она явно присутствовала там, но поданная через восприятие героев, иногда иска жённое.
Известный американский писатель Джеймс МакКонки так писал о «Шатунах»: «Виденье, лежащее здесь в основе, — религиозное; и комедия этой книги — смертельна по своей серьёзности».
Следует отметить, что литературное произведение по своему сущест ву не может быть неким комментарием к какимлибо философским воз зрениям. Идеи в нём проходят через опыт живых героев, их жизни, их ярости, гнева и прозрения. Иначе это не литература.
Даже когда в рассказе речь идёт о целой мистической концепции (как в «Голосе из Ничто») она даётся как переживание падшего человека. Есте ственно, именно в душе такого человека и могла только зародиться идея тотального падения.
В философском плане важнейшим романом последних лет является «Блуждающее время» (М., 2001). Между прочим, одна из тем этой книги — проблема времени. Провалы во времени и возможность попадания как в прошлое, так и в будущее — теоретически сейчас обоснованы так называ емой «новой физикой», я уже не говорю о некоторых наблюдениях, зафик сированных, например, в Великобритании. И в «Блуждающем времени» эти попадания в прошлое показаны не как фантастическое (или чисто ли тературное) событие, а как реальность. Но важнейшие метафизические проблемы здесь носят совсем другой характер. Одна из них — это теория и практика реализации Абсолюта или Атмана, так как это практикуется в адвайтеведанте (в недуалистической веданте). Разумеется, это подано через художественные образы и связано с сюжетом романа (описываются учитель и его ученица). Эта практика касается самого глубинного Само познания, но в согласии с ведантийской традицией (не больше).
Другая метафизическая ситуация — ещё более сложная. Речь о том, что, согласно традиционным религиям, прежде всего христианской, Бог открыл человеку и миру всё, что нужно для Спасения, но многое иное, как известно, мир не мог вместить. В «Блуждающем времени» описан че ловек, который, видимо, владеет тем, что как будто закрыто для челове ческого постижения, описан круг людей, обрамляющих последствия та кого вторжения в метафизическую жизнь людей.
Несмотря на все парадоксы «Блуждающего времени», вокруг опреде лённого противопоставления этих двух вышеописанных тенденций вра щается одна из сюжетных линий романа. Естественно, всё это передано через судьбы, жизни, метания и переживания героев романа. Метафизи ческие идеи, как и религиозные, по существу являются сверхценными идеями, и мы знаем из истории, до какой степени люди могут быть захва чены, погружены в них, ибо они указывают на выход из тюрьмы этого ми ра с его дамокловым мечом смерти.
Другой роман, «Мир и хохот», на примере жизни совершенно нео бычных персонажей посвящён онтологическим проблемам. Бытие, а не запредельность там главное. Кроме того, в романе есть важный персонаж, молодая женщина Оля Полянова. В её образе осуществлена попытка изображения настолько чистой, христианской любви к людям, что даже некоторые окружающие с недоумением воспринимают этот поток Света и даже боятся его.
«Самым глобальным фактом была Любовь, но не та любовь, которой ограничивались люди. Это была любовь не к «любимому», а ко всем, к са мому бытию, к образу и подобию Божьему, скрытому в глубине челове ческой души, к Свету сознания и к его Источнику, к великой тайне в че ловеке».
Во всяком случае, эти два романа объединены надеждой и верой в по беду над смертью (над смертью в широком смысле этого слова, не только над физической смертью).
По существу, в «Блуждающем времени» даны ответы на наиболее больные вопросы человеческого существования, которые поднимаются в «Шатунах». Как пишет в своей статье французский исследователь и пере водчик Анна Колдефи, «эти три романа образуют трилогию».
...Что касается рассказов, то в них выражен по большей части не сколько иной аспект. Правда, как и в романах, Смерть присутствует и здесь, и главной движущей силой является всегда стремление к бессмер тию и вера в него. Не смерть там царит, а бессмертие, несмотря на весь драматизм жизни.
В рассказах обнаруживаются также определённые архетипы челове ческого отношения к высшим силам, и, имея в виду эсхатологическое со держание нашей эпохи, эпохи духовной инволюции и страсти выбраться из неё, эти отношения порой принимают гротескный характер. Таковы эти герои, бредущие по миру, одурманенному материализмом, патоло гией и бредом саморазрушения. Таков герой рассказа «Человек с лошади ным бегом» — он совершает одно за другим нелепые, порой чудовищные действия, но в конце концов не выдерживает и кричит: «Господи, когда же я к тебе улечу!»
В рассказе (в форме сказки) «Ерёмадурак и смерть» герой Ерёма так расправляется со своей личной смертью:
«Явилась Смерть к Ерёме разом в горницу поутру. Глянула на Ерё му — и только тогда осенило её. Нет для него ни смерти, ни бессмертия, и жизнь тоже по ту сторону его. Не из того он соткан, из чего мир небесный и мир земной созданы, ангелы да и мы, грешные люди. И есть ли он вооб ще? И видит Смерть, что Ангел, стоящий за её спиной и мерящий жизнь человека, отступил. Словно в пустоте оказалась Смерть, однаодинёшень ка. «Но видто его ложный, человеческий, должен пропасть, раз я приш ла», — подумала Смерть. А самой страшно стало. Но видит: действитель но, меняется Ерёма. Сам внутри себя спокоен, на Смерть и внимания не обращает, а облик человеческий теряет.
Но что такому облик? Вдруг засветился он изнутри белым пламенем, холодным и как бы несуществующим. Вид человеческий распался, да и облика другого не появилось. Сверкнули только из пламени глаза, обо жгли Смерть своим взглядом так, что задрожала она, и ушёл Ерёма в своё царство, — собственно говоря, он в нём всегда пребывал. Но что это за царство и есть ли оно, не людям знать. Ни на земле, ни на небе, нигде его не найти. Только вспыхнуло пламя, сожглась изба, Смерть одна стоит сре ди угольков, пригорюнилась. Платочек понизала, нищенкой юродивой прикинулась и пошла. Обиделась».
В «Дневнике собакифилософа» изображены философские метафи зические страсти человечества, но пропущенные через разум и эмоции собаки.
Несколько странная ситуация отражена в рассказах «Макромир» и «Неприятная история». Герои там совершают абсурдные поступки, объяс нимые частично инерцией сознания, которое не может поверить в своё уничтожение, ибо в принципе оно действительно бессмертно (имеется в виду Сознание как таковое), несмотря на то что на феноменальном уров не, на уровне «убеждений» человек может и отрицать бессмертие. Эта инерция, имеющая корни в самой природе сознания, заставила героиню «Неприятной истории», докторшу, укоренённую в физическом мире, к тому же обжору, неожиданно спокойно принять решение — помереть. Также ни с того ни с сего кардинальное решение принимает Вася Жут кин — герой рассказа «Макромир». Но всё это делается для того, чтобы показать, что смерти не существует, а существует бессмертие и некое ве ликое Неизвестное.
Таким образом, для такой литературы характерно постоянное «со скальзывание в бездну». Это может выражаться в поведении героев, нако нец, в характере самого текста.
Подводя итоги, надо подчеркнуть, что второй важнейшей чертой моей литературы является наличие так называемой второй реальности, которая существует параллельно первой, обычной. Мои герои живут как в первой, так и во второй реальности, последняя из которых для многих из них становится наиболее грозной и главной. Иногда она сплетается с первой, образуя единый поток чутьчуть «сверхъестественной» жизни. Но в конце концов должна победить новая, безграничная жизнь.
Подготовил Алексей Нилогов
ОЛЕГ МАТВЕЙЧЕВ
Страна господ
1
ОЛЕГ МАТВЕЙЧЕВ
Страна господ
1
В течение тысячелетий философы, политические мыслители задава лись вопросом: кто достоин управлять, кто достоин иметь власть? Дава лись разные ответы. Ну, например, достоин тот, кто самый знатный, чей род состоял из лучших людей. Да, это, конечно, страховка, что и дальше будут лучшие получаться, но управляетто конкретный человек, а не умерший уже род, тогда как единичный представитель рода может быть и дегенератом. Или другой ответ: управлять должен богатый. Ведь на него и так все работают. Но оказывалось, что богач заложник своего богатства, он склонен откупаться в случае нападения завоевателей, и в споре между златом и мечом выигрывал меч. Тогда, может быть, управлять должен са мый сильный, тот, который с мечом? Да, но… оказывалось, мягко говоря, что в здоровом теле не всегда самый здоровый дух, то есть разум, а управ ление без разума, тем более при избытке силы — это тирания. Тогда, мо жет быть, самый мудрый? Но у него может не хватить воли и твёрдости в случае чего, да даже если они и есть, советы и действия мудреца трудно объяснить массам, им всё время кажется, что происходит чтото непости жимое их умом, ведь мудрец видит на десять шагов вперёд, а они на один. А раз непонятно, то такое управление тоже своего рода — деспотизм. Тог да, может, править должен тот, кто умеет нравиться толпе, кто умеет объ
1В нескольких частях текст публиковался в интернетовском «Русском журнале»:
от 28.04.2007 http://www.russ.ru/politics/lyudi/strana_gospod, от 04.05.2007 http://www.russ.ru/ politics/lyudi/strana_gospod_chast_2, а также в книге «Суверенитет духа» (М., 2007. — С. 55–104).
яснять свои действия, кто сам умеет слышать, что хочет народ, и выражать его интересы? Да, но мнение народа переменчиво, и как часто народ хо чет того, что ему же вредно. Народ, как маленький ребёнок, может хотеть потрогать огонь, не подозревая, что обожжётся. Иногда для пользы наро да надо идти против народа, как врач, делая операцию, делает больному больно, но для его же здоровья. Дискуссии нет конца.
Различные философы выдвигали различные теории власти и идеалы, пока, наконец, великий Г. В. Ф. Гегель не сказал, что философия не долж на довольствоваться творением пустых идеалов и мечтаний. Если филосо фы изучают сущность всего сущего, то уж наверняка эта сущность не нас только бессильна, чтобы просто витать гдето в воздухе и никак не мочь воплотиться в действительность. Идея не есть простое благое пожелание или требование «как должно всему быть», идея есть сущность, а сущность себя являет! Следовательно, если мы хотим, например, найти сущность власти, то мы не должны городить какието химерические идеальные об щества, утопии, теории, в которых все счастливы, а потом сравнивать действительность с этими утопиями и брюзжать, что такаясякая действи тельность теориям, видите ли, не соответствует. Если мы хотим найти сущность власти, мы должны посмотреть: а кто и как действительно гос подствует и получает власть? Кто это делает и почему? Что оказывается решающим, какое качество помогает? Найдя это, мы найдём и сущность господства, кто имеет это искомое качество, тот и должен быть госпо дином.
И вот представим себе, говорит Гегель, двух свободных людей, чьи интересы пересеклись по поводу завладения какойто вещью или кто, мо жет быть, по какомулибо вопросу имеет разное мнение. Кто настоит на своём, а кто уступит? Самый богатый, самый умный, самый сильный, са мый знатный? Нет, тот, кто готов идти до конца, кто готов отдать жизнь, тот, кто за своё убеждение или амбицию готов пойти на смерть, тот, кто ценит свою волю выше жизни, тот, кто, может быть, даже и умрёт, но ум рёт свободным, то есть самостным, желающим, чтобы верх взяла его воля. В конце концов, что такое свобода, если не демонстрация независимости духа от тела и возможность при необходимости этим телом пожертвовать? Так кто же властвует и достоин властвовать? Ответ таков: самый бруталь ный, тот, кто готов рисковать, кто готов играть на самую большую ставку в игре, кто играет со смертью. Он, играющий со смертью, неуязвим, пото му что его невозможно напугать. Считается, что нет ничего страшнее смерти, но еёто он и не боится. Кто становится рабом? Тот, кто говорит «я пас», тот, кто не готов поднять ставку до уровня игры на жизнь, кто считает, что жизнь дороже, чем та или иная вещь, за которую идёт спор, или то или иное убеждение. Проигрывает тот, кто, в конце концов, счита ет, что жизнь дороже воли, самости, той или иной собственной амбиции. Кто считает, что лучше уступить, что не стоит убеждение или вещь того, чтобы за неё так рисковать. Тот, кто не готов заплатить жизнью за свобо ду, тот её и не достоин, а значит, он пользуется свободой ровно до перво го господина и в тех границах, которые господин ему отведёт. Или уж пусть сам становится господином или гибнет.
В своей первой серьёзной работе «Феноменология духа» (и, конечно, в других работах) Гегель специально посвящает целый раздел диалектике взаимоотношений господина и раба, ибо всё, что описано выше, это толь ко слишком абстрактный взгляд на проблему. Давайте и мы проследим все хитросплетения отношений во всех подробностях.
Итак, некий свободный встречается с другим свободным. Уже этоудвоение отрицает его свободу, потому что на самом деле, если хочешь уничтожить вещь — удвой её, утрой, умножь, и она потеряется, переста нет быть уникальной, личностной, оригинальной. Поэтому тот, кто про тивостоит мне, должен признать мою свободу, я хочу быть признанным в качестве свободного. Но вот в чём шутка: точно такие же «чувства» испы тывает и противоположный мне свободный. Чтобы доказать свою свобо ду, каждый хочет снять свободу другого. Это способ и убрать соперника, и проверить на прочность себя, удостовериться в себе, доказать, что свобо да не призрак, раз она может разделаться с иной свободой. Вот вам и по единок. Движемся дальше.
Ну вот ты решил рискнуть жизнью, пошёл на смерть за свою свободу и ты… убит. Поэтому твоя свобода кончилась, не успев начаться. Ра бом ты не стал, но и свободным тоже, ибо трудно назвать свободным ко ченеющий труп. Это открывает нам, что само по себе бестолковое и бес шабашное поведение, связанное с риском для жизни, не есть ещё прояв ление свободы. Этак можно всех самоубийц записывать в герои. Но герой и самоубийца, очевидно, разные люди. Даже полностью противополож ные, ибо самоубийство это часто как раз трусость. Герой идёт на риск там, где есть шанс на выживание и победу, самоубийца, наоборот, не оставля ет выживанию шанса, он отдаётся на волю случая, судьбы, снимает с себя ответственность, бежит от невыносимости тяжёлой ситуации. «В этой жизни помереть не трудно, сделать жизнь значительно трудней», — как сказал Поэт… Как от великого до смешного один шаг, так и от трусости до мужества. Они могут быть очень похожи внешне, но бесконечно далеки по сути. Но движемся дальше.
Теперь рассмотрим вариант, когда ты рискуешь жизнью за свободу, так же рискует другой, но на этот раз везёт тебе, и ты убиваешь сопер ника. С чем же ты остаёшься? Ты ничего не доказал, потому что твой ви зави умер свободно, как герой, и получается, что ты убил героя. К тому же твоя свобода осталась не подтверждена и не признана. Её некому призна вать. То есть всё вернулось к тому, с чего начиналось, только на новом эта пе. Поэтому поединок, который кончается убийством, — не цель. Важно понять, насколько две суверенные воли готовы постоять за себя и пойти до конца. Коли такое удалось продемонстрировать, собственно убийство не нужно, наоборот, возникает момент взаимного признания. Стороны с уважением расходятся в стороны, и каждый остаётся при своей террито рии, они могут заключать договоры чести, дарить друг другу подарки, ид ти на демонстративные уступки, показывая уважение, а заодно и власть над вещами, показывая, что не в той или иной амбиции было дело, а в принципе. Вежливым считается отвечать на уступку уступкой и на пода рок подарком. Так не возникает зависимости. Тот, кто не может отдарить ся, должен идти и воевать, чтобы забрать себе то, что принадлежало уби тым. Поэтому поединки смертельные, хоть они и не самоцель, будут воз никать, пока есть суверены духа.
Совсем иное дело, когда из двух вступивших в поединок ктото вконце концов покоряется, то есть демонстрирует, что готов идти только до определённого предела, не готов за себя постоять. Один идёт на смерть до конца, до упора, другой испытывает страх смерти, говорит себе, что он не самоубийца, что смертью лично себе свободу не купишь, и… сдаётся. На ми лость победителя. Итак, возникли господин и раб. Отныне раб не имеет собственной цели и ценностей, он всецело принадлежит воле господина.
Но на что можно употребить раба? Воевать вместо себя ты его непошлёшь, ведь он потому и стал рабом, что дорожил жизнью, трусил. Сле довательно, первый же попавшийся господин просто заберёт его себе, а раб с радостью сбежит. Нет, воевать и рисковать жизнью дальше так и ос таётся делом господина. Раб же занимается обеспечением жизнедеятель ности господина. Он холит лошадей, он носит и делает оружие, он растит хлеб и доит коз, он работает, обрабатывает сырой материал природы. Весь продукт его труда полностью принадлежит господину. Господин сам ре шает, сколько оставить рабу, это его право. Как правило, остаётся столь ко, сколько нужно для воспроизводства жизни раба и поддержания его здоровья. Всё остальное потребляется господином.
Дело господина — война, риск жизнью, защита уже имеющихсярабов от других господ, покровительство рабам, суд над ними и их проб лемами, а также завоевание новых рабов. В промежутках между всем этим потребление произведённого продукта труда рабов. Поэтому только гос подам, а не рабам, разрешается носить оружие, только господам, а не ра бам, разрешается служить (до какой степени падения надо дойти, чтобы от права воевать, которое принадлежит только господам, людишки отка зывались, избегая, «кося»).
Раб, как мы видели, создаётся страхом. Но страх содрогает личность и приводит в движение дух, а движение духа — начало мудрости. Тот, кто заглянул в Ничто, способен сопоставить Ничто и Сущее, поло жить их на разные чаши весов, а значит, задать вопрос: «Почему вообще есть сущее, а не Ничто, ведь могло бы ничего не быть, ведь Ничто легче и проще?» Тот, кто задал этот вопрос «почему» об основании сущего, полу чает выход к сущемувцелом, объемлет его. Отвечая на этот вопрос, он получает мировоззрение. Причём мировоззрение, непоколебимое ника кими событиями внутри сущего, ведь вопрос о сущемвцелом так глубок, что охватывает и будущее, и бывшее, и величайшее, и мельчайшее. Миро воззрения могут быть различны, но все они совершенно универсальны, применимы ко всему, объясняют всё.
Далее, раб трудится, то есть формирует материю природы. Каждаяприродная вещь имеет две стороны, с одной стороны, она нечто самосто ятельное, с другой стороны, дух может, приложив усилия, сделать её тем, чем хочет. Раб сталкивается с самостоятельностью вещи, перерабатывает её, а господин сталкивается уже с несамостоятельной стороной вещи, он преимущественно потребляет. Переработка вещи отсрочивает потребле ние, раб научается терпеть отсрочку между желанием и удовлетворением. Кроме того, постоянно подчиняя себя воле господина, он научается гос подствовать над своими вожделениями и желаниями, он копирует госпо дина, интериоризует его. Постепенно раб сам становится господином, пока ещё господином себя.
Наоборот, господин, который всё меньше воюет и всё больше потребляет, избаловывается. Он капризен, он получает всегда всё готовое, он не терпит отсрочек в удовольствиях. Он не снимает форму вещи, обраба тывая её в труде, и, следовательно, не умеет ничего делать, так как умение и есть владение техниками, то есть снятыми формами… Он становится всецело зависим от раба. Более того, само его господство держится по большому счёту только на том, что у него есть рабы, он называется госпо дином только в противоположность рабам. Убери противоположность, вместе с ней уберётся и другая, если убрать ночь, не будет и дня. То есть господство, основанное на рабстве, не самостоятельно, оно не самодоста точно. Господство не независимо, а, наоборот, зависимо, оно само есть рабство.
Раб, почувствовавший себя господином, видит господина толькос той стороны, которой тот к нему повёрнут, со стороны потребления, он представляется всего лишь паразитом. О военной стороне дела, о риске жизнью, об охране жизни раба речи не идёт, это «само собой разумеюща яся услуга». Поэтому раб всё больше презирает своего господина и стре мится избавиться от его господства. Но он пока не умеет держать оружия, он труслив. Поэтому сила в количестве. Рабы побеждают, потому что их больше. Восстания, как правило, случаются в минуту слабости и неготов ности господина. Бунты и заговоры никогда не бывают честным вызовом на поединок, они всегда предательские, они всегда подлые, они всегда ис подтишка. Вообще путь к свободе — это всегда путь неблагодарности, ведь господин есть тот, кто даёт, в частности он дал рабу самое большое, что раб ценит, — жизнь, но раб платит восстанием. Чего иного можно ждать от раба? У него нет чести и славы, он не приобретал её в поединках и не защищал её, он не знает, что это. Возможен другой вариант освобож дения: господин умирает сам внезапно от чрезмерного потребления либо поверженный другим господином. Тогда этот другой воспринимается как освободитель. Наконец, третий вариант освобождения: господин может сам освободить раба. В любом случае для раба всё кончается свободой.
Для господина тоже всё кончается свободой. Господин в концеконцов осознаёт, что его признание господином со стороны раба не есть истинное признание, в этом признании нет никакой чести. Настоящее признание господин может обрести, если его признает другой господин. Тот, кто не признан другим господином, сам ещё не вполне господин. Бо лее того, только тот, кто не имеет рабов и не зависит от них, может быть признан настоящим господином. Таким образом, настоящий господин есть господин, признанный другим господином, и оба они, будучи само достаточными, уже не имеют рабов. Это один из главнейших факторов, толкающий господ к освобождению рабов.
Раб, который видел господина только с потребляющей и господствующей стороны, не имеющий опыта господства, становясь свободным либо в результате освобождения своим господином либо чужим, либо в результате бунта, первым делом пытается воспроизводить внешнюю не истинную сторону господства, а именно сам пытается вести себя как гос подин, как это ему кажется. Он прежде всего пытается завести себе рабов (сладко, если это будет прежний господин), заставить других трудиться и начинает потреблять. Это может затянуться надолго, пока не потребуется нового освобождения и понимания всеми сторонами, что настоящее гос подство есть взаимная признанность господами, а не рабами, что настоя щее господство — это самодостаточность и самообеспеченность, самосто яние, независимость от рабов.
То, что написано в пунктах с 1 по 5, есть принадлежность дикого«естественного состояния». То, что написано в пунктах с 5 по 10, мы при выкли называть «феодализмом». То, к чему мы приходим в самом конце, а именно: к взаимной признанности всех господ господами, без всякого рабства, — это новая история и «современное государство». В «современ ном государстве» изначально человек признан в качестве свободной лич ности, он имеет права, в его отношении действуют законы и пр. Если вос точная деспотия знала свободу Одного Господина, а все были рабами, ес ли античный и средневековый мир знал свободу Некоторых Господ и его государства всё же держались на рабстве, то новый мир и новые государ ства — это государства, где каждый гражданин есть господин, где каждый есть князь, где все господа. Это государства, состоящие из одних только «монархов», которые тем более свободны, чем более самодостаточны, поскольку у них нет рабов. Но всем воздаются «королевские почести», то есть все друг с другом вежливы, все принимают участие в управлении го сударством и его жизни, они включены в него через профессии, сословия и пр. Если ктото ведёт себя ещё как в диком состоянии, то есть не видит в других гражданах свободных людей (например, преступники), то и в нём отказываются видеть свободного и либо приводят его существование в согласие с его сущностью (лишают свободы), либо уничтожают. Он рис кует жизнью, хочет умереть за свою незрелую, неистинную свободу? Вот ему эта возможность! Поэтому Гегель признаёт смертную казнь.
Есть ещё одна проблема: нельзя сразу оказаться в ситуации свободы и господства, свобода не даётся от природы, она завоёвывается. По этому весь описанный путь был необходим. Было важно, говорит Гегель, чтобы Афины, например, получили сначала законы от Солона, а потом тиран Писистрат принуждал их исполнить. Тому, кто не научился повино ваться, не умеет властвовать, этап рабства обязателен. Только через под чинение и рабство, через труд и образование, через страх и творение ми ровоззрения человек идёт к истинной свободе.
Но как же быть в современных обществах, где правовые государства уже созданы? Мы не можем с каждым поколением разрушать их и воссоздавать заново, чтобы новые граждане набрались истинно «господ ских» добродетелей. Для воспитания свободным гражданином человек в онтогенезе должен повторять филогенез, в воспитании должна быть пройдена история рода, человечества в скором, свёрнутом виде. Для это го только, вообще говоря, и существуют воспитание и образование. Дети, рождаясь, живут как в «естественном состоянии», причём на положении «рабов», то есть тех, кто учится подчиняться и чьи цели определяются взрослым. Дети обязаны родителям и жизнью, и поддержанием оной, и защитой, и целями жизни. В своей теории воспитания Гегель является жёстким «антигуманистом»: ребёнок от рождения зол, то есть имеет дур ную произвольную, а не свободную волю, ему ещё только надлежит стать свободным, через умение подчинять себя разуму. Лишь по достижении совершеннолетия ребёнок обретает права свободного гражданина. Он, конечно, может бунтовать в «переходном возрасте», показывая свою взрослость и копируя у взрослых то, что ему кажется признаком взрослос ти, но этот этап юношеского бунта важен так же, как революции в исто рии, а взрослая жизнь постепенно его поправит.
Казалось бы, всё: совершенная система, но, однако, остаётся вопрос, что происходит с этим современным государством, если оно стал кивается на международной арене с другим государством. Нанесение ос корбления одному члену государства есть нанесение оскорбления всему государству, здесь действует принцип «один за всех — все за одного». А ос корбления могут быть нанесены легко, ведь противное государство может быть ещё из феодальной эпохи. Может, это ещё то незрелое государство, что ищет себе рабов. А может, это другое свободное государство свобод ных граждан, и тогда мы возвращаемся к пункту 1, с которого начался этот разбор, то есть к поединку между двумя свободными не на жизнь, а на смерть. Только теперь мы имеем дело не с отдельными личностями, а с целыми государствами. А судьи над ними нет, все межгосударственные институты именно межгосударственные, а не надгосударственные, то есть существуют, пока сами государства их признают. Итак, в этом заключает ся громадная проблема. Мы бы с радостью могли решить её, если бы просто для государств повторили бы ту же историю, ту же диалектику, что и для личностей, и заявили бы, что в итоге, дескать, на Земле должно су ществовать некое «государство государств», в котором все государства бу дут признаны, наделены правами, будут нести свою функцию… Но…
Однако государства окончательно самодостаточны и не нуждаются в признании, как «в нём не нуждается Солнце» (так Наполеон сказал о Франции). Никакое международное право не в силах ничего сделать… И слава Богу. Гегель говорит, что если бы не этот факт, то не было бы войн, а ведь только войны позволяют умирать за свободу и защищать её. Без войн государства бы заросли тиной, как озеро превращается в болото без ветра. А кто кого победит, кто исчезнет с лица истории, кто останется — это дело Абсолютного Духа, то есть Бога, а не человечье, — это судьба на родов в их истории.
Впрочем, сама история, собственно говоря, уже закончилась. Чтоозначает эта загадочная фраза? А то, что диалектика господства и рабства, которая описана выше, просто не имеет продолжения, она закончена. Нет ничего иного, кроме встречи двух свободных, их столкновения, превра щения в господина и раба, деградации господина, освобождения раба, создания государств и войн свободных государств между собой. Всё: даль ше мысли развивать некуда. Чем же человечество будет заниматься всю дальнейшую историю? Гегель был далёк от мысли представлять «конец истории» как некий обрыв. А всю дальнейшую историю все народы, кото рые ещё считаются дикими, то есть находятся в «естественном состоя нии», будут подтягиваться к народам, находящимся в авангарде (немцам, французам, англичанам). Эти дикие народы, проходя через стадии рабства и господства, будут наконецто совершать свои освободительные революции и в конце концов превращаться в свободные государства свободных граждан, которые периодически будут воевать. А поскольку нецивилизованных народов много, то процесс подтягивания арьергарда к авангарду может быть очень длинным, займёт несколько столетий. Глав ное, что сам авангард уже никуда не двинется, совершеннее и лучше современного свободного суверенного государства свободных граждан всё равно уже ничего нет. Подтягивать дикарей до высокого уровня силой Гегель тоже не рекомендует. Наполеон уже давал конституцию испанцам, но те не смогли принять её, хотя она была лучше, чем то, что они имели раньше. Нужно, чтобы законы вырастали из народных нравов медленно и верно. А это процесс долгий. Значит, и окончание истории — процесс тоже долгий.
Отдельно стоит сказать о России, которая, по Гегелю, осталась внеистории. Когдато авангардом был Восток: там впервые произошла вели кая революция, то есть переход от «естественного состояния» к государ ству. Потом лидером истории были античные народы, понявшие, что сво боден не один, а многие, и придумавшие демократические и правовые институты общения свободных между собой. Потом лидерами истории стали европейские, и прежде всего германские, народы, усвоившие исти ну христианства о свободе каждого и перенёсшие её в политику. А по скольку дальше ничего не будет происходить, кроме подтягивания отстав ших народов к передовым, то Россия, равно как и Африка, и пр., никогда не будет «исторической», то есть «делающей историю», страной. Когда состязание закончено и финишная лента сорвана, неважно, кто прибежит вторым, десятым или тридцатым. Наполеон уже прибежал. Все остальные обречены на то, чтобы его копировать. Копии могут быть лучше оригина ла, даже обязаны быть лучше, так как они уже имеют возможность не впа дать в ошибки предшественников, учитывать их уроки и всё делать совер шенным образом, однако всё равно это будут копии. Казалось бы, Россия в отличие от Африки, где и господа и рабы изнежены, где бананы растут на деревьях и не надо трудиться, наоборот, через труд должна была одной из первых прийти к всеобщему господству и освобождению. Множество войн и нашествий также должны дать много людей духа. Но, видимо, во всём нужна мера: слишком тяжёлые условия нехороши так же, как и слишком мягкие. Россия оказалась привязана к своему антиматериалис тическому, господскому духу, как Африка к своему рабскому и телесно материальному. Суровые условия вынуждают жить общинами, чтобы ум ножать силы за счёт интегрального эффекта, поэтому идея самостоятель ности в смысле независимости ни от кого здесь не прошла. Россия не смогла перейти к обществу, где единицами будут свободные личности. Пафос разочарования в России как стране, которая уже не войдёт в исто рию, унаследовал и обучавшийся в Германии Чаадаев.
Всё это Гегель, в общем и целом, в разных работах изложил чутьменьше двухсот лет назад. И если бы он был жив, то, взирая на бурные XIX и XX века, он сказал бы, что ничего выходящего за рамки его метафи зики не произошло. Все революции, освободительные и национально освободительные войны есть процессы избавления рабов от рабства, становления их свободными, другие конфликты — это конфликты суве ренных свободных государств, обычная толкотня локтями. Не случилось ничего нового! Вот, скажем, переход человечества от природного состоя ния «войны всех против всех» к феодальному (эпохе господства и рабства) был революцией, причём революцией не шуточной! Или переход от со стояния господства и рабства (деградация господ и освобождение рабов и их взаимное признание друг друга свободными)! Это тоже была револю ция огого! Целый этап в истории! А сейчас что случилось? Где переход к чемуто новому? К какойто новой форме? Как и предсказывалось, ос новное содержание эпохи — это продолжающийся последний этап, то есть продолжающееся освобождение человечества, продолжающаяся эмансипация… Особенно бы порадовала Гегеля американская Граждан ская война, война за то, чтобы вопреки экономической эффективности люди освобождались от владения рабами только потому, что ИМЕТЬ РАБОВ НЕ ДОСТОЙНО ГОСПОДИНА. Гегель, скорее всего, привет ствовал бы и революцию в России, если бы она была просто избавлением от сословий, настаиванием на господском положении всех.
Недаром все гегельянцы XX века поддерживали тезис о «концеистории», хотя и делились на лагеря. Те, кто выделял у Гегеля тему, связан ную с суверенитетом государства, с его независимостью от международ ного права, с оправданием войн, со смертной казнью и жёстким воспита нием (такие, как Джентиле, Кроче, Ильин, Кронер, Глокнер, Шмитт), были паттерналистами вплоть до поддержки фашизма. Те, кто настаивал на темах, связанных со свободой, с эмансипацией (Кожев, Батай, Колинг вуд, Ипполит, Фукуяма), были в разной степени «либералами». Надо об ладать тупостью, пошлостью и бездарностью Поппера, чтобы считать Ге геля неким прислужником власти. На самом деле Гегель всю жизнь был настоящим последовательным либералом (то есть тем, кто считает сущ ностью человека — свободу и на этом строит, как мы увидели, все соци альные теории и историософию). Он даже приезжал специально пожать руку умирающему наполеоновскому генералу. В 1808 году Гегель был од ним из немногих немцев, кто приветствовал приход Наполеона, в па триотическом угаре его голос звучал как голос «диссидента», «пятой колонны», «предателя», «западника», «вольтерьянца». Бог свободен, зна чит — истинный либерал должен верить в Бога. Государство возникло как свобода одного, развивалось далее как свобода некоторых (Греция, Рим) и пришло к тому, что служит защите прав и свободы всех. Значит, истинный либерал должен быть государственником. Собственность есть проявление свободной воли и власти человека как свободного существа над вещью природы, собственность делает свободным. Значит, истинный либерал должен быть за собственность, против всяких коммунизмов. Так что и ли бералы, и государственники одинаково являются «гегельянцами», часто сами того не зная, равно как и многие «прогрессисты» с «консерватора ми». И оттогото так трудно классифицировать самого Гегеля. Его, кото рый объемлет всё целое, стараются сделать частью себя же самого, то ли бералом объявят, то фашистом, то коммунистом. А он просто всё это, вместе взятое. Ведь главный принцип его диалектики в том, чтобы при знавать истину за всем сущим, только понимать и устанавливать границы. Все люди правы, но, в кругу определённых феноменов, когда какойто принцип начинает вылезать в чуждые ему сферы, то он из истинного превращается в ложный.
Особо, в связи с большими историческими заслугами, надо отметить Маркса, который, безусловно, также был гегельянцем. Маркс признаёт тот же взгляд на историю человечества, что был изложен выше, но последний этап, государство свободных личностей, он называет ком мунистическим, так как там все люди не только господа, но и братья: нет рабов и господ, нет и экономической эксплуатации: ни прямой, ни де нежной. Когда процессы эмансипации человечества будут доведены до конца, то войн не будет, так как все свободные народы признают свободу других. Маркс отказывается говорить о «конце истории». Начиная с сере дины XIX века классический либерализм и сам начинает впадать в кри зис. Да, конечно, молодёжь и интеллигенция стремились быть «прогрес сивными» и «современными» в плане политических свобод и разного рода эмансипаций, но гораздо моднее и современнее было быть… социа листом или коммунистом. Весь мир видел успехи капитализма, весь мир видел успехи науки и промышленности, весь мир понимал, что прогресс неумолим, и весь мир стал понимать, что и этот капитализм так же уйдет, как ушёл мир, который был до капитализма. Тот, кто первым покажет, что это будет за мир, кто нарисует призрак будущего, кто заполнит вакантное место могильщика капитализма, тот обречён на великую любовь всех прогрессивных людей. Маркс прекрасно составил свой «Манифест». Он спекулировал на том, что все видели вокруг — как буржуазия расправи лась с феодализмом. И он показывал, что абсолютно та же судьба ждёт буржуазию. Пролетариат не придумывает ничего нового, он просто про должает дело, начатое буржуазией, и уже скоро без неё. То, что пролета риат берёт у буржуазии пример во всём, сквозит в каждой строчке «Ма нифеста». Ничто не вечно: не вечно и нынешнее состояние истории. Наоборот, говорит Маркс, только теперь начинается самое интересное, только теперь человечество вступит в «царство свободы». История преж де развивалась принудительно как судьба, согласно изложенной выше «диалектике господина и раба». Теперь кончилась эта диалектика вместе с господством и рабством, кончилась история как рок, началась история, в которой человечество само себе хозяин, само делает себя. Человечество за время своей истории показало всё, на что способно, методом проб и оши бок оно нащупало правильный путь, теперь будущее поколение уже из бавлено от необходимости искать самому, можно взять готовые «методы» (погречески методос — это дорогаколея), готовые «техники» (технэ — погречески — искушённость, опыт, которому можно научить, который можно алгоритмизировать). Собственно, прогресс свободы и эмансипа ции в истории и определяется тем, насколько тот или иной народ или че ловек уже способен мыслить технологически и методологически. Кадры и техника есть производительные силы — базис общества, все остальное — надстройка. Сам Маркс, вслед за Гегелем, говорил о «естественном состо янии», а вот состояние «господства — рабства» для него было разнообраз ным. Признавались азиатская, наиболее откровенная форма «господст ва — рабства», чуть более прогрессивная античная форма, ещё более продвинутая — феодальная, европейская форма, и… современная капита листическая форма, которая всё ещё есть господскорабская модифика ция, правда, замаскированная. Гегель, дескать, поторопился назвать современное ему государство и общество обществом свободных людей, кроме политической эксплуатации и политического «рабства — господ ства» надо убрать экономическую эксплуатацию. А сделать это способен нынешний современный раб, пролетарий, который, трудясь, становится свободным, в отличие от капиталистагосподина, который деградирует, потребляя. Вот когда этот процесс настоящей эмансипации закончится, тогда и будет всеобщее счастье, коммунизм. Тут, кстати, появляется шанс для России ещё успеть войти в историю, коль скоро современные госуда рства это ещё не конец, ещё господскорабская форма, то мы можем скак нуть в царство свободы, обойдя Запад на повороте. Сам Маркс поначалу скептически к этому относился, но в конце жизни русские марксисты его скепсис поколебали. Чем чёрт не шутит? Итак, мы можем видеть, что марксизм просто вариация гегельянства, поэтому то, что XIX и XX века прошли под знаком марксизма, только укрепило бы Гегеля, будь он жив, во мнении, что он видит предсказанное им же долгое окончание истории, понятой как прогресс свободы.
Когда какойнибудь невежда услышит сегодня о том, что какойто Гегель когдато 200 лет назад чтото там говорил про «конец истории», то единственное, что мелькает в его голове, так это то, что «Гегель — сума сшедший маразматик, считающий, что знает абсолютную истину, одер жимый манией величия… вон же она, история, за окном… как можно нес ти какойто бред про какойто конец истории…». Тем не менее этот па рень, верящий в США как образец для подражания, борющийся за права человека (или же парень, верящий в Маркса и эмансипацию, или же па рень, верящий в геополитику и государственный суверенитет и пр.), сам не зная того, и является, в гегелевском смысле, типичным продуктом это го «конца истории».
Мне понадобилось несколько страниц, чтобы наполнить смыслом этот тезис о «конце истории», и надеюсь, что все, кто это прочитал, как минимум, понимают, что Гегель хотя бы «в рамках своих представлений» имел право так говорить (не будем пока требовать от публики большего и доказывать, что философ потому и философ, что вообще не имеет «своих представлений», а глаголет истину, которая не считается чемто далёким, а носится каждым человеком с собой, собственно истина и делает челове ка человеком, иные существа на истину не способны). Гегелю же для разъ яснений того, о чём он говорит, понадобилось не несколько страниц, а де сятки томов.
Сами великие философы воспринимали других великих философов всерьёз. В частности, тот же Ницше, в отличие от своего куда менее вели кого учителя Шопенгауэра, только по молодости позволял себе хамские замечания в отношении Гегеля. Чем старше и глубже он становился, тем больше он понимал, насколько серьёзен «конец истории» и как непросто самому стать «утренней зарёй», то есть началом нового этапа. У Ницше тоже, как и у Гегеля, есть фраза, которую посредственности считают «бре дом сумасшедшего, одержимого манией величия»: «То, что я пишу, есть история ближайших трёх будущих столетий». Философское мышление — это мышление в пределе. То есть тот же Гегель понимал прекрасно, что «конец истории» может длиться дольше, чем сама предшествующая исто рия, но поскольку он её всю схватил и определил, то дальше она была ему уже неинтересна. Так же рассуждает и Ницше. Он допускает, что Гегель прав, он принимает эстафетную палочку там, где Гегель её оставляет. Ницше тоже, в отличие от Маркса, уже неинтересны процессы эмансипа ции человечества, процесс окончания истории, процесс подтягивания арьергарда к авангарду, диких народов к цивилизации, эксплуатируемых к эксплуататорам… В принципе понятно, как и сколько это будет происхо дить и к чему всё это придёт… Но что будет дальше и есть ли это «дальше», возможно ли оно??? Чтобы ответить на эти вопросы, надо вглядываться в зародыши тех процессов, которые уже идут в «авангардных обществах», в развитых странах Европы. А также надо ещё раз более тщательно, быть может, исследовать проблемы диалектики господства и рабства на пред мет обнаружения там непомысленного, незамеченной проблемы, кото рая может стать определяющей в будущем.
Для того чтобы понять, как Ницше размежёвывается с Гегелем (и в его лице со всей предшествующей метафизикой), мы должны увидеть подрыв той логики, которая вела Гегеля, а для этого Гегель специально был изложен «по пунктам». Конечно, если вы уже всё знаете в этой жиз ни и просто так развлекаетесь, почитывая «умные» статьи просто для то го, чтобы и самому себя поощущать «умным», в чёмто соглашаться, а в чёмто поспорить, если ваша цель некое самоудовлетворение, а не жела ние разобраться в самой сути дела, то нет необходимости возвращаться к гегелевским пунктам и перечитывать их параллельно с тем, что будет ни же говориться о Ницше. Если же вас интересует именно суть дела, а не времяпрепровождение в клубе умников, посредством чтения чегото ум ного, которое только подчёркивает статус «члена клуба» и не более того, то лучше возвращаться к началу и сравнивать позиции Гегеля и Ницше.
Пункты 1–6, пожалуй, идентичны. Здесь Ницше не видит причин расходиться с Гегелем. Свободный и раб тестируются в смертельном пое динке. И для Гегеля, и для Ницше это банальность, общее место. Заметим вскользь, что это свидетельствует о принадлежности Ницше к западной метафизике вопреки тому мнению слишком яростных поклонников Ниц ше, которые утверждают, что Ницше «всё преодолел и всё перевернул», что он какаято абсолютно новая страница. Истина — такое серьёзное де ло, что тут любое отклонение в интерпретации уже революционно, поэто му не надо оказывать Ницше медвежью услугу, преувеличивая и без того великие заслуги.
Пункт 7. Здесь всё очень серьёзно. Уже сам Гегель настаивал, что ужас, который потрясает того, кто рискует жизнью, кто в поединке идёт на смерть, должен быть максимально глубоким. Но у Гегеля ужасается и страшится раб, тогда как господин — бесшабашен. Ницше, наоборот, счи тает, что ужас, далёкое заступание в смерть до предела пронзает господи на, а вот раб не доходит до предела, он боится ужаса и останавливается на страхе. Ницше верит в великую силу ужаса, которая пробуждает в челове ке текучесть мышления, которая содрогает его существо. Поэтому Ницше считает, что текучее мышление есть полное отражение текучести самого Бытия, а значит, нет и не может быть никаких раз и навсегда данных ми ровоззрений, ценностей, истин, идеалов, богов. Тот, кто понял смерт ность всего, в том числе и богов, сам становится выше богов, и ценностей, и идеалов, его сердце теперь бьётся в согласии с самим Бытием, он сделал сутью себя саму суть Бытия, он называется сверхчеловеком, в отличие от всего лишь человека, который боится ужаса и от страха придумывает себе уютные непротиворечивые мирки, иллюзии, истины, ценности, методы, которые должны страховать его, внушать иллюзию стабильности, вечнос ти, какогото порядка, чтото ему гарантировать… Жизнь бесцельна и бессмысленна, только это понимание и позволяет рисковать жизнью. Вот что открывает ужас и что само ужасает ещё больше. «Грек знал ужас Бы тия», — говорит Ницше уже в «Рождении трагедии», но греки были для Ницше господским народом. Рисковать жизнью и испытывать этот ужас обязательно, и это как раз дело господина. А вот раб испытывает не ужас, а страх. Страх есть способ избежать ужаса, есть реакция на ужас, есть его извращенная форма. Страх есть способ избежать содрогания. Поэтому вся мораль и философия, родившаяся из страха, философия поклонения собственным же иллюзиям, есть мораль и философия рабов, а это и есть, по Ницше, вся предшествующая мораль и философия. Господин мог бы убить труса, но дарит ему жизнь, трус всю жизнь отрабатывает «долг». Вот отсюда и берётся понятие «должного», центральное и матричное для всей морали. Из морали вырастает и религия с её «ритуалами и культами». Из морали вырастает и наука с её «правилами» и «методами», с её принуди тельностью. А сейчас методы и правила погубили и саму науку, ибо в пер вой науке ещё была поэзия, ещё был смелый бросок в истину, сейчас же, наоборот, истина свелась к безошибочности. Боязнь ошибки, желание га рантированно получить истину через соблюдения всех процедур есть бю рократизация и смерть духа исследования. Рабское мышление, выросшее из страха, из «долга», кончается бюрократической моралью, бюрократи ческой наукой и бюрократической политикой.
Пункты 8–9. Раб не становится господином, по Ницше, через терпе ние и труд. Терпение и труд только закрепляют рабскость мышления, превращая его в «мудрость» терпения и всепрощения, в жизнь по «прин ципу реальности», как позже скажет Фрейд. С вечной отсрочкой, вечным «откладыванием на потом», откладыванием до «загробной жизни», с по ниманием своих границ, с делением всего по категориям (границам), с невозможностью преступить границы, рискнуть, пойти в неведомое. Та кое рабское мышление не знает господского «хочу», хочу сейчас, именно сейчас, в данное мгновение, того, что тот же Фрейд называл «принципом удовольствия». Наоборот, господская жизнь настоящим, а не отсрочен ным, жизнь мгновением есть основа новой «морали», если так можно вы разиться. Принцип этой морали таков: живи так, чтобы ты хотел повто рить бесконечное количество раз каждое прожитое мгновение (учение о «вечном возвращении одного и того же»). Задавай себе вопрос: а достой но ли то мгновение, которое я сейчас переживаю, того, чтобы бесконеч ное количество раз повторяться? Если нет, то это «плохое мгновение» и надо искать иного. Ницше как гётевский Фауст ищет мгновения, которое было бы достойно того, чтобы его остановить. Господин ищет удоволь ствий, но эти удовольствия не удовольствия рабов. Поскольку господин много их испытал, то он знает в них толк, он не прельстится первыми по павшимися, грубыми. Раб трудится, чтобы потом отдохнуть, предавшись безобразным грубым удовольствиям. Господин находит удовольствие в творчестве, от которого не требуется отдыха, так как тут нет противопо ложности труда и отдыха. А вот труд и творчество принципиально различ ны. Труд есть формирование природного сущего по неким формам, а творчество есть производство самих форм. Труд есть преобразование при роды, творчество — преобразование культуры, творение целей и ценнос тей. Вот тут и понятно, что господин никак не может зависеть от раба, по тому что формы для формирования, цели и ценности ставит и предостав ляет рабу он. Он определяет его дух, всё его сознание, его «культуру», всё человеческое в нём. Ведь не может быть копий без оригинала, а значит, не может быть рабов без господина. Сам же господин не нуждается в ра бах с материальной стороны: он аскет, он довольствуется не многим, он способен обслужить сам себя, он одинок. Напрасно Гегель говорит о пре сыщении и деградации господина. Настоящий господин ищет новых и новых опасностей, он повышает ставку в игре, его девиз: больше власти, ещё больше власти. Воля, которая приказывает себе расти и расти, и есть «воляквласти», она только и есть настоящая воля. Воля, которая пере стаёт расти, уже перестаёт быть волей. Да, господин может пасть и стать рабом, но это не необходимая судьба, а случайная, необходимым же, на оборот, является бесконечный и бесцельный рост воли.
Пункты 10–14. Раб не способен сам освободиться, считает Ницше. Его освобождает господин, свой или чужой — неважно. Все революции и бунты, по Ницше, смешны. Ты называешь себя свободным? Тогда ты дол жен открыть новую истину, должен уметь повести за собой, похитить ме ня. Если ты не можешь, значит, ты и не освобождался и лучше бы тебе бы ло оставаться в рабстве, так ты хотя бы имел истины и ценности от свое го господина. Собственно, господство только в том и заключается, что оно есть постоянное освобождение раба! Господство над рабом держится не на силе и страхе смерти, а на том, что господин всё время освобождает раба, всё время его эмансипирует, всё время дозированно облегчает его участь. Раб хочет жить легче и проще, господин даёт ему это. Раб не уме ет творить цели и идеалы, господин даёт ему их. Без целей и идеалов жизнь раба была бы невыносима. Он постоянно боится ужаса бессмыс ленности существования. Он бежит от Истины, которая заключается в том, что мир бессмыслен, бежит, ища смысла, ценностей и идеалов. Эти идеалы, эти ценности и образцы для подражания предоставляет госпо дин, и раб боготворит его за это. Какаянибудь звезда спорта или топмо дель потому и являются звездой и моделью, что они являются образцом, неким новым стилем, новой формой, согласно которой раб уже начинает формировать свою природу. Сам же господин природу не формирует, он её раскрепощает, освобождает. Господин вообще освобождает всё, к чему прикасается. Он раскрывает внутренние потенции, он стремится реали зовать всё, что возможно. Он хочет пойти во все уголки, в которые ещё никто не ходил, он пересекает все границы, нарушает все правила, он пробует всё, но не для «проб и ошибок», а просто потому, что всё возмож ное должно осуществиться, чтобы было изобилие и богатство путей и воз можностей! Чтобы из них был выбор. Чтобы этот богатейший выбор уве личивал степени и пространства свободы. Рабы постоянно нуждаются в увеличении выбора идеалов, путей, ценностей, истин и образцов. Если ктото им их не предоставляет, то они начинают волить Ничто, то есть разрушать, бунтовать. Поэтому, если господин деградирует, сам становит ся рабом, его воляквласти не растёт постоянно, не предоставляет новых степеней свободы, то рабы свергают этого господина на основании того, что он уже не господин, а раб, то есть такой же, как они, и они ищут себе нового господина, того, кто будет ставить им новые цели, вдохновлять новыми идеалами. Только рабы бунтуют, революция не есть признак сво боды, а полное доказательство рабства. Рабы переменчивы, их бунт по стоянен, он закрепляется в таких политических формах, как выборная демократия, которая есть упорядоченный бунт. Для Ницше нет ничего отвратительней выборной демократии, этого общества рабов. Господин и аристократ всегда волкодиночка, всё истинно великое и подлинное ред ко, только копии и подражания бесконечны и представлены во множест ве. И вот эта множественная убогость, эта рабская масса выбирает себе господ, вырабатывает критерии хорошего и плохого, доброго и злого, ис тинного и ложного. Но как низшее может судить о высшем? Всё дело в том, что историческое преобразование в современную демократию стало возможным благодаря наличию иллюзии, что современный раб более свободен, чем прежний господин. Ведь современный раб якобы знает больше, владеет огромным количеством методов и образов, техник и на ук, идеалов и норм, его степени свободы и выбора значительно превосхо дят возможности древних. Прежний господин — ребёнок в сравнении с любым нынешним заурядным человеком! Это ли не прогресс? Нет, отве чает Ницше. Тут только регресс. Господин способен к творчеству и риску, нынешний раб, пусть он знает и умеет больше, пользуется плодами, про изведёнными не им, а другими господами. Он слишком много знает, ему надо научиться забывать. История есть не прогресс, а сплошной упадок, торжество декаданса, нигилизма. Если в «естественном состоянии» люди жили полнокровной жизнью, здоровыми инстинктами, встречали смерть, радовались жизни, то уже переход к государству есть некий упадок. Зако ны придумали слабые в защиту от сильных, какието нормы и категории уже есть уступка толпе. Преступников же, то есть людей с прежней дикой волей, с хваткой господ, это бюрократическое скучное государство пере малывает. Но и в феодализме всётаки есть своя прелесть. Есть иерархия, то есть понимание, что есть верх и низ, есть культура аристократии, есть великие идеи, безумства, великие страсти и великие дела. Есть войны, ос нования и разрушения царств, творения целых языков, миров и мифов, великие подвиги и великие предательства. Но современное государство — это государство рабов и для рабов. Современные люди не способны ни на что великое, они думают только о комфорте и здоровье, у них не страсти, а страстишки, у них не грехи, а грешки. Их пугает война, и даже малые жертвы вызывают ужас и толки. Их мышление зашорено «методами». Их государство бюрократизировано и скучно. Они уже не способны ничего породить. Это стадо без пастыря, бредущее неизвестно куда, колышуще еся, блуждающее и обречённое на медленное умирание. Из этой массы уже не родится господин, а если и родится, то будет неузнан и затоптан. А без новых целей, ценностей и идеалов масса рабов постепенно дегради рует. В процессе истории рабы исподволь подрубили сук, на котором си дели, борясь с господами, эмансипируясь, они в итоге убили и творческие силы истории. Мир кончится не взрывом, а всхлипом, как скажет позже Элиот. Поразительно, как в истории воспроизводится одна и та же матри ца. В Церкви, например, были священники, которые имели возможность читать Писание, отпускать грехи, иметь на себе Святой Дух, и была тол па, которая за всем этим обращалась к священникам. В реформацию про исходит так, что все становятся священниками, то есть получают возмож ность читать Писание, быть самим себе совестью, отпускать грехи, об щаться с Богом без посредников, причащаться под обоими видами. На долго ли все рабы стали господами? Нет, скоро все опустились до уровня рабов, до полного атеизма. Ровно то же самое повторилось с переходом от феодального строя к капитализму. Сначала все рабы получили привиле гии господ: право выбирать власть, право носить оружие, право называть ся господами. Надолго ли? Скоро общество господ деградировало до об щества рабов. Так происходит всегда, когда уничтожается высокая план ка. Устранение различий привело не к тому, что низшие стали тянуться к высшим, а к тому, что высшие спустились до низших.
Пункты 15–18. Современное воспитание не создаёт господина, а, на оборот, всё оно только и заточено под создание раба. Везде стандарт, вез де уничтожение индивидуального и творческого, обучение умению следо вать образцу, а не создавать его, бесконечные упражнения в повторении, а не в неповторимом. Воспитание скучно, оно заражено «немецкостью», муштрой. Действительно, история индивида в воспитании повторяет ис торию рода, но только в смысле деградации, упадка. Ребёнок от рождения благороден, он свободный Маугли, его детство — это война всех против всех, это опыт героизма и предательства. В юности он познаёт риск и страсть, лелеет идеалы, мечтает изменить мир, любит и ненавидит. Потом он проходит школу и университет, ломается и причёсывается, превраща ется в скучного филистера, чеховского персонажа, который больше ни на что не претендует. Так что воспитание — не школа господина. Что ещё ос таётся из гегелевского арсенала, придуманного, чтобы всётаки както сделать свободу не естественным качеством, а качеством, за которое бо рются? Войны государств? Они всё более редки и менее кровопролитны, к тому же это войны трусов. Это не поединок, где всё решала доблесть ры царя. Современные войны ведутся оружием, а оно таково, что победа в них достаётся не самому смелому, а многочисленной или вооружённой армии. Трус с пулемётом эффективнее героя с мечом. Так что нынешняя война не способствует росту количества героев и господ, она способству ет прогрессу оружия и техники. А прогресс подгоняется трусами в очках, которые его производят, чтобы иметь возможность не встречаться с опас ностью лицом к лицу. Современные государства типа Англии или Герма нии, граждан которых Ницше сравнивает с быдлом, с коровами или осла ми, обречены. Это действительно конец истории, и это её тупик. Нет, эти государства не умрут завтра, они будут гнить ещё 300 лет, не меньше, от равляя вокруг всё понастоящему свободное и творческое. История не бу дет, как этого хотел Гегель, подтягиванием арьергарда к авангарду. По скольку авангард зашёл в тупик и деградирует, то он станет лёгкой добы чей тех, кто ещё не успел деградировать, кто шёл следом за авангардом. Граждане цивилизованных стран — идеальные рабы, все их добродетели — это добродетели рабов. Точность, аккуратность, законопослушность… Кто же откажется от таких подданных? Вектор сменился, история не просто кончилась, она потекла вспять. Последние станут первыми, а пер вые — последними! В этой связи Ницше видит довольно большие пер спективы у страстных и игривых романцев (итальянцев, испанцев, фран цузов), у авантюристов и аферистов — американцев, у отважных бруталь ных исламских народов, у благородных арийцев иранцевзороастрийцев, у разделённых до сих пор на касты, хранящих чистоту индусов, у пылких природных африканцев, упрямых монголоидных азиатов, у евреев, умею щих выживать без государства, всё ещё хранящих родовые привычки, и, конечно, у русских, с их открытой широкой душой. История началась где то в Азии, на Востоке, дошла через античность до современной Европы, потом медленно она начнёт проходить тот же путь с Запада, опять на Вос ток, через новое средневековье к смерти государства как такового, к «естественному состоянию». Так будет свершён круг Бытия.
Пункт 19. О русских подробнее. Из предыдущего пункта мы видим, что Ницше «приговорил» к смерти в первую очередь протестантские стра ны, те, что Гегель считал авангардом истории. Протестантизм, из которо го вышли капитализм и демократия, есть особое искажённое христиан ство, христианство подлых жрецов — Лютера и апостола Павла, религия рабов. Католицизм (которого держатся романские народы), а тем более православие, гораздо лучше. Так как в католицизме живёт римское, а в православии ещё более благородное — греческое. Это великое античное, хотя оно уже есть начало конца, начало закатазаходаЗапада, начало кон ца истории, но всётаки не в таких декадентских формах, как современ ность. Поэтому ближайшие эпохи будут отданы именно этим странам. У Ницше много учеников французов, его пленяют итальянцы и испанцы, но славян, и особенно русских, Ницше просто боготворит. Он сочиняет себе легенду о том, что сам принадлежит к потомкам польского аристо кратического рода Ницких. Он влюбляется в русскую авантюристку Лу АндреасСаломе, он встречается и переписывается с Мальвидой Амалией фон Мейзенбуг — воспитательницей дочерей А. И. Герцена, которая, кстати, сватала одну из дочек Герцена за Ницше. Ранний Ницше с упо ением читает позднего Герцена, а некоторые исследователи даже находят в ранних работах Ницше плагиат. Ницше восторгается Достоевским: называет его самым тонким психологом, превосходящим его самого. У Тургенева Ницше заимствует слово «нигилизм» и делает одним из цент ральных в своей метафизике. Если культурная Европа видит в русских недочеловеков, за дикость и нецивилизованность, — видит, говоря слова ми Гегеля, народ, состоящий, ещё из неосвобождённых рабов и несозна тельных господ, то Ницше как раз эта дикость и восхищает. Только рус ские, если верить разбросанным там и сям по различным афоризмам ха рактеристикам, выступают для Ницше народом сверхчеловеков, страной господ! Ницше восхищён русской внутренней свободой, благородством, отношением к женщине, решимостью, широтой, буйством, игрой, прес тупностью, аморализмом, витальностью, казачеством, авантюризмом, музыкальностью. История России — это история освоения огромных, са мых больших в мире, северных пространств, самых диких и суровых. По лю бимой Ницше легенде, здесь, в северной стране, живут гиперборейцы — сверхчеловеки, самые сильные духом. История России — это история бес конечных войн, никто не воевал так часто и так блистательно, как рус ские. Если война — дело господ, то все бесстрашные русские — это госпо да. Безусловно, большее количество войн и набегов, пережитых Россией, воспитывает огромное количество людей, которые не боятся смерти, ко торые готовы идти на смерть, что является основным условием господ ства. Русские бесстрашны: они не дрожат за своё тело и вообще не доро жат материальным. Ведь на своём веку каждый из них не раз видел всё разрушенным то суровой погодой и природой, то нашествиями и война ми. Тщета всякого уютного мещанского мирка настолько призрачна, что в России никогда надолго не может прижиться ничто низкое и мещан ское. Война, голод и холод — это повседневность, — они не страшны, поэтому у русских и нет рабского страха и вырастающей из него декаден тской философии и морали Запада. Казалось бы, суровые условия хозяй ствования в России и постоянное напряжение сил для борьбы с захватчи ками должны давать не только господскую, но и рабскую психологию, психологию, устроенную по принципу реальности, психологию того, кто в работе подчиняет себя предмету. Но дело в том, что именно разрушение от войн, голода или холода, неурожая показывает обитателям этой стра ны бессмысленность и бесполезность усилий, работы. А это и есть откры тие тайны Бытия. Она — бессмысленность сущего — знакома русским. Поэтому они не работяги, как немцы, не стараются выучить и запомнить все формы, методы, техники. Русские не сильны учёными, но зато силь ны писателями, композиторами, поэтами, полководцами, святыми, под вижниками. Даже знаменитая русская лень есть признак того, что народ не способен к кропотливой изнурительной работе по «принципу реаль ности», по которому живут рабы. Всякая работа для русского слишком мелка, ему бы державами править, а тут предлагают забор красить. От ре монта забора или сидения на службе, без великого, русский начинает пить, а когда пьёт, то наружу выходит всё его широкое господское, непро явленное, загнанное внутрь, бессознательное. Водка заменяет русским искусство, ведь единственное предназначение искусства, по Ницше, — пьянить, разрушать границы, делать всё зыбким и текучим, как само Бы тие, поднимать над самим собой. В пьяном веселье хлещет через край са ма жизнь, режется последний огурец, дух торжествует над материальными благами. В нормальной стране соотношение господ и рабов нормальное: господ мало, а рабов большинство. В России это соотношение явно нару шено, тут каждый второй «Аятолла и даже Хомейни», как пел Высоцкий. Россия должна кудато девать избыток господ. Иначе внутри скапливает ся большое количество «преступников»: эта любовь к блатной романтике в России также свидетельство господской сущности её народа. Какоето время проблема избытка господ решалась за счёт колонизации, казачест ва. Какоето время за счёт эмиграции культурной, творческой элиты. Иногда помогали войны и катаклизмы. Но они только решали проблему временно, каждый раз давая новое поколение не боящихся смерти. Вой на только и может постоянно решать и порождать эту проблему, снова ре шать и снова порождать. «Вечное возвращение одного и того же» в посто янно растущей волеквласти.
Пункты 20–21. В отличие от Гегеля, который уже в расцвете лет был назначен «главным немецким Философом» (для немцев XIX века это то же самое, что главный футболист для бразильцев, главный хоккеист для канадцев, самый богатый человек — для американцев и пр.), Ницше не был признан при жизни. Лишь умирая, он получил известия о том, что в разных европейских странах появились первые ученики, пропагандирую щие его философию… «Они нашли меня, теперь их проблемой будет, как меня потерять…» Первые ученики Ницше восприняли его предельно вульгарно — как всего лишь очередного бунтаря против господствующих укладов, очередного модного либертинианца, очередного «фармазона». Не было в Европе в начале века негодяя, который не называл бы себя ницшеанцем, вспоминал Ясперс. Бога нет, значит, всё позволено. Раз всё позволено, то бей, круши, эпатируй. Такие «сверхчеловеки» квалифици ровались бы самим Ницше как рабы, поскольку они не творят новых форм и ценностей, а бунтуют по старым сценариям или в творческом бес силии волят Ничто, разрушают. Настоящий сверхчеловек не находится в конфликте с прошлым, он жаждет и волит его. Да, примитивная воляк власти на ранних стадиях брыкается и не хочет быть определяема ничем, и прежде всего прошлым. Почему это я не выбирал страну и время, где мне родиться, язык, родителей, религию? Всё это мне досталось извне, и я им определён, стеснён. Я сам хочу выбрать религию. Страну прожива ния, друзей и врагов, даже тело, даже пол я должен мочь создать себе сам, не говоря уже про конструирование духа. Но борьба с прошлым, со вре менем, с «это было и это не изменить» есть некая противоволя внутри во ли. Такая воля будет не чистой и не абсолютной, такая воля мешает себе расти. Наоборот, настоящая воля желает, чтобы прошлое было ещё раз, настоящая воля относится к приданному как к корням, и чем они боль ше, тем выше дерево. Рост в вышину постоянно сопровождается возвра том к истоку, питанием корней, чтобы они проникали глубже. Так, посте пенно, оказывается, что определённость своего места и времени рожде ния преодолевается за счёт того, что родиной становится весь мир и вся история, свои корни находятся во всех религиях, свой пол в каждом поле и каждом теле. Высокая воля не выбирает, она волит всё зараз. Где есть выбор, там ещё нет свободы, где есть выбор, там ещё есть невыбор, а зна чит, вина и нечистая совесть, стремление вернуться в точку развилки и выбора. Поскольку же истинная воля не выбирала, а волила как есть, она и не мучается виной за невыбор, прошлое её совершенно, ей не нужно другого. Говорил раньше «всечеловек» (по признанию Достоевского) А. С. Пушкин: «Не желал бы переменить ни судьбу, ни отечество». Разни ца между примитивной волей (с её желанием всё основывать на себе и пропускать через себя, с её борьбой с прошлым и с её самоконструирова нием) и совершенной волей (с её всежеланием, принятием прошлого и превращением его в ресурс) и есть разница между тем, что во второй по ловине XX века будут называть «модернизмом» и «постмодернизмом». Именно 100 лет понадобилось, чтобы важнейшие интенции мысли Ниц ше были поняты и начали усваиваться человечеством. До этого Ницше просто считали очередным бунтарём, эмансипатором и эпатирующим ху дожником в череде таких же «оригиналов». Понадобилось сто лет, чтобы ницшевские слова о том, что «искусство выше истины», что «истина род заблуждения», превратились в действительность через мир рекламы и виртуальные цифровые миры. Потребовалось сто лет, чтобы стала действительностью ницшевская теория изобильной разнообразной жиз нихаоса: она стала действительностью через социальные технологии управляемого хаоса и производственные технологии добычи газа (газ — искусственное слово, состоящее из слов «хаос» и «гейст» — понемецки — дух). Как нефтяники и газовщики добывают энергию природы и она пи тает весь материальный мир человечества, так пиарщики и политики до бывают энергию масс и культуры, чтобы она наполняла социальные ин ституты и двигала историю. Современный мир газовых войн, топмоделей и Интернета, пиара и мультикультурности — это мир Ницше. Настоящие революционные творческие мысли, настоящие вещи, которые изменяют мир, приходят тихо, на голубиных лапках, задолго до признания, говорит Ницше. В этом смысле его, как и Гегеля, также не удивил бы XX век. Ниц ше увидел бы в нём свою сбывшуюся философию. Естественно, как и вся кая великая философия, ницшевская требовала своих интерпретаторов и вульгаризаторов. Как было гегельянство, так было и ницшеанство. Ниц шеанцем был Оскар Уайльд и его героиэстеты, художники и аристокра ты, ницшеанцем был Горький со своим Данко, вынимающим сердце, и Арцыбашев со своим сексуальным Саниным. Первые ницшеанцы (а это, как правило, культурная богема Европы) видели своих «сверхчеловеков» именно такими. Потом пришёл железный век и возник вопрос: а может, настоящий ницшеанец — это Мартин Иден из одноимённого романа Джека Лондона или коммунист Губанов из фильма «Коммунист»? А мо жет, эсэсовец, ни одна струнка души которого не дрогнет, когда он отп равляет детей в газовую камеру? А может, араб, направляющий самолёт на Всемирный торговый центр? Всё это настоящие «белокурые бестии», всё это настоящие суверены в соответствии с теорией суверенитета, разрабо танной ницшеанцем Ж. Батаем. Но вот пришла гуманная виртуальная послевоенная эпоха: и может быть, настоящие сверхчеловеки — это мир ные герои виртуальной вселенной, сделавшие себя сами, — звёзды Швар ценеггер и Майкл Джексон? Может быть, спрашивали представители вто рой волны ницшеанства — постмодернисты (Барт, Делёз, Фуко и др.), сверхчеловек — это «диалогичный карнавальный человек» Бахтина? Этот шизоидный Достоевский, воплощающийся во всех своих персонажах, этот «всечеловек» Пушкин — ходячее дионисийство, столь любимое Ниц ше? Может, наоборот, ставящий на традицию эзотерик, герой Элиаде, Ге нона и Эволы? Вся эта галерея, имея в себе те или иные черты того, о чём говорил Ницше, тем не менее не удовлетворяет краткому определению сверхчеловека: «Цезарь с душой Христа». И это значит, что настоящий тип нам ещё не явлен, да и прошло только 100 лет из тех 300, что Ницше определил как сферу господства своей философии. Потенции ницшеан ства ещё не раскрыты.
Пункт 22. Об отношении к Марксу надо сказать отдельно: не только потому, что мы в соответствующем пункте выясняли его отношения к Ге гелю, но и потому, что марксизм сыграл не последнюю роль в судьбе на шей Родины. Сам Ницше не читал Маркса, потому что с предубеждением относился ко всякому социализму и экономизму. Сама идея, что матери альные потребности правят миром, могла бы показаться ему чудовищной глупостью. Материальное интересует только глупого раба, который, есте ственно, ничем не правит. Все решения принимает элита, а элиту матери альное, которого у неё в избытке, волнует меньше всего. Указание на то, что мелкие людишки, желающие материального, объединяются в классы и массы, а это уже сила, вызвало бы у Ницше возражение, что этоде и есть тот самый нигилизм и упадок, о котором он всё время говорит. Марк сизм, таким образом, религия рабов, симптом и выражение мирового за ката, декаданса, самая низкая и опустившаяся форма христианства, кото рая уже даже обходится без Христа. В идеалах коммунизма господствует рабочий, рабский принцип реальности, отсрочка, откладывание на по том, ради идеала, сказки, фикции. Забывается истина этого мира, истина о том, что все идеалы и ценности полагаются волей и служат ей. Мир иде алов, которым надо служить, придумывают жрецы, всякие Платоны, апостолы Павлы и Лютеры; это полугоспода, живущие за счёт того, что «продают» свои ценности и идеалы рабам, питают их сладким ядом, даю щим забвенье от реальности. Честная политика состоит в том, чтобы тол кнуть падающего, а не помогать ему социальными программами и сказка ми о будущем рае. Ницше пророчил, что в XX веке человечество содрог нётся от мировых войн, которые будут вестись не за материальные блага, а за жизненное пространство. Миллионы будущих жертв его не пугают, всё великое рождается из крови и судорог старого мира. «Любовь к ближ нему» Ницше предлагает заменить на «любовь к дальнему», к тому сверх человеку, что придёт после окончания эпохи нигилизма и декаданса.
После окончания европейских демократий и социализмов с комму низмами.
Сравнив две позиции — Гегеля и Ницше — по разным вопросам, ка сающимся власти, современности, истории, мы не можем не обнаружить некую неувязку. Она касается России и марксизма.
С точки зрения и Гегеля, и Ницше, а в первых пунктах они согласны друг с другом, Россия — страна, состоящая из господ. В самом деле, госу дарственность её идёт от викингов, которые по профессии были воинами. Как ни одна другая страна мира, Россия чаще всего отстаивала свой суве ренитет в смертельных поединках. Даже период монгольского ига (хотя многие учёные склонны называть это скорее геополитическим союзом, так как Орда развивала коммуникации, защищала границы, в то же время не уничтожала Церковь, государственную княжескую власть, в пересчёте на нынешние деньги и даньто была смешной — два доллара с человека в год) можно трактовать как период юношества России, когда учение и подчинение (без слома) полезно будущему господину. Тяжёлые условия северной жизни, частый голод и холод воспитывали тех, кто постепенно через работу овладевал предметом и становился господином. Отсюда по стоянные пассионарные толчки, колонизация земель, вольнолюбивое ка зачество, бунты и пр. Одним словом, если прав Гегель и путь к господству лежит через рабство, то Россия была бы идеальная страна, в которой пер вой должен был бы произойти переход к «современному государству», — опять же в трактовке Гегеля. Государству атомарных самодостаточных гос под, свободных граждан. Однако этого не произошло. Она так и осталась страной социальной, то есть страной, в которой господа и рабы завязаны друг на друга. С другой стороны, если прав Ницше и именно русские со хранили в себе феодализм и свойственную ему аристократичность и пер возданную дикость, то гниющая Европа должна была бы стать добычей славян. А Россия впала в коммунизм, что наверняка бы разочаровало Ницше, доживи он до этого момента. С другой стороны, очень большой вопрос: тот ли марксизм, который реализовывался в СССР, критиковал Ницше? Похожи ли герои Второй мировой, идущие на смерть, на «ра бов»? Нет. Да и эмансипаторский пафос и международная политика СССР по освобождению рабов есть чисто «господская» политика. А мир ный атом и первый спутник? Это духовное лидерство в мире, которое ни как не может осуществлять народраб. Одним словом, в лице СССР мы имеем феномен, который никак не вписывается в рамки метафизики Ге геля и Ницше. Поразительно же ещё и вот что: Россия не только обману ла ожидания и теории двух великих философов, но также и выиграла две войны. Одну у Наполеона, которого Гегель считал воплощением и идеа лом своей философии, другую у Гитлера, который, как ни крути, был до вольно ярким воплощением ницшеанской воликвласти и таким же, как Ницше, ненавистником коммунизма.
Вот уж поистине: Россию «аршином общим не измерить» (Тютчев). Нет, какието феномены, безусловно, и Гегель, и Ницше объясняют. С ис тинами (а их теории — это истины) всегда так. Можно сказать, что чело век — это «двуногое и беспёрое существо». Это будет истина. Можно ска зать, что человек — «единственный примат, имеющий мочку уха». Это то же истина, и она верна. Но ни то ни другое не схватывает сути. Чтото очень важное пропускается этими теориями. В таких случаях феномено логия предписывает взять сам исключительный феномен за основу и раз вивать соответствующую теорию из него самого. Возможно, тогда через российский опыт можно будет объяснить не только собственную исто рию, но и историю других стран.
Подготовил Алексей Нилогов
АЛЕКСЕЙ НИЛОГОВ
Философия антиязыка
АЛЕКСЕЙ НИЛОГОВ
Философия антиязыка
Игорю Игоревичу Бобыреву
Никто не может быть субъектом языка. Потому что ни кого из нас ещё не было, а он уже был. И ждал. Никто не минует его. Язык, как разбойник, поджидает каждого. И либо ты сумеешь создать свой язык, либо тебя ждут готовые значения и смыслы. Следы миллионов в языке. Но если ты создаёшь свой язык, то ты создаёшь барьер пониманию. И ты выходишь из модуса забвения. Есте ственно, что люди понимают друг друга. Потому что никто не имеет своего языка. И поэтому непонятно, как возникает непонимание у безъязыких. Удивительно, что иногда когото ещё нельзя понять.
Ф. И. Гиренок.
Философский манифест археоавангарда
Человеческий рок. Но больше — рот, шмыгающий аппетитом голодов ки, — рот, перемалывающий всеядность в привычку всеядной голодов ки, — в диету поста, отзывающийся в желудке пиршеством голодовки, — пиршеством дурного вкуса голодовки, — рот, из которого высунут язык с врождённой автореферентностью говорить о самом себе до собственно языковой автореферентности, — до возможности метаязыка, — язык изо рта и представляет собой собственно естественный метаязык, — язык, физиологически приправленный, — язык, насиженный на типуне, — рот, обсиженный вокруг языка, способного вдохнуть в рот настоящий челове ческий голос, — голос человеческого одиночества в языке, — в языке, ог раниченном миром («Границы моего мира означают границы моего язы ка»), — в языке, рассчитывающем только на себя, — голос человеческого сообщничества с одиночеством, — голос одинокого языка, сожительству ющего с человеком на иждивении мира, — язык, нашпигованный всеядо востью, — змеями, которым прописано переливание яда, — язык, расска зывающий о человеческом одиночестве на языке различий, — язык, отли чающий человека от его же одиночества, — язык, отличающий одиноче ство от одиночества человека, — язык, присваивающий человека вопреки его одиночеству в мире, — язык, сохраняющий о человеке память его оди ночества в мире, — рот, приспособленный под язык, на котором рот впер вые узнаёт о своём одиночестве, — о своём резонёрстве резонатора, и только, — рот, выродившийся в человеческий язык, — в типун бытия, — рот, зажевавший в себе слишком много противоядий, — рот, проглотив ший слишком много типунов, — аппетит на языковой типун, нагулянный изза языковой всеядности в языке в язык же, — типун, проросший в че ловеческий язык в виде бритвы Оккама, которая колется всякий раз, ког да соприкасаешься с новым словом, — типун, переросший человеческий язык в языковую автореферентность, — в неспособность языка быть тож дественным самому себе, — в симуляцию языка, заключающуюся в по стоянной нехватке новых значений, — в игнорировании языководства — в целом, а слововодства — в частности, — в провторении готовых слов, лишь переодетых в новые одежды, — слов, больше напоминающих мане кенов, переодеваемых в новые одежды, а не живых людей, меняющих свои гардеробы по внутреннему лексикографическому чутью, — слов, синтаксически, а не морфемно, скомбинированных, — слов, скоопериро ванных не по лексикографическим интересам, а по интересам комбина торики языка, нагнетающей автореферентность языка без увеличения автореферентности бытия, — то, с чего начинается мысль, выдаёт в ней затемнение деструктивной этимологии тех слов, на которых формулиру ется мысль, — философствовать без эрекции сомнения, — без эрекции полового члена, сомневающего философию в оргазмическое пережива ние истины, — сомлевающей философию в оргиастическое вживание в истину, — в торопящуюся оргазменность, которая может быть сродни только удержанию истины, — сродни удержанию истины оргазма, — сродни удержанию истины в оргазме — в момент пика оргазма, — в физио логическую невозможность удержания истины оргазма, — в физиоло гическую невозможность удержания истины в оргазме, — истины об ор газме в оргазме, — Бодрийяр, — «Мы — культура поспешной эякуляции», — «Мы — культура спермной закваски», — «Мы — культура акцента при ор газме», — «Мы — культура акцента истины», — чем воздержаннее — тем поспешнее оргазм, — акцент истины — несвоевременное вопрошание об истине, всегда завершающееся несвоевременным ответом, — ответом, ещё больше отвлекающим истину от приманки вопроса, — ещё больше отдаляющим истину от ответственности метода, — ответом, делающим истину стыдливой в своей правдивости, — такое вопрошание, которое консервирует истину в анахронизме ахронности, — уповает на призму преломления светлого будущего, — выжидает истину в её просроченность с тем, чтобы сэкономить на процентах лжи, выплачиваемых сразу же пос ле освидетельствования останков истины, — выкраивает истину под лека ло про чёрный день из дня сегодняшнего, уповая на этимологию метода как своего пути по достижению истины, — определяя несвоевременность истины из столь же несвоевременных рассуждений, но не своевременных даже для своего времени, для которого ещё не существует собственного времени. («5.4732 Мы не в состоянии придать знаку неправильный смысл», — АнтиВитгенштейн.) (Неправильный смысл знака — в дест руктимоне знака, — в деконструктимоне деструктимона знака, — привить знаку бессмыслицу можно на примере ОПЕРАТОРА БЕССМЫСЛЕН НОСТИ, благодаря которому бессмысленность проникает в язык, — пус кай и компромиссно, но всё же не бесследно для самого языка, — ОПЕ РАТОР БЕССМЫСЛЕННОСТИ требует невозможного — семиотическо го примера бессмысленности, — который был бы языковым образом оформлен, — выражен при помощи лингвистической интенционально сти, — история с так называемым самым последним словом в языке весь ма поучительна — контекст уничтожения данного слова закрыт от нас из за своей автореферентности, — знак, которому нельзя приписать бес смысленность, не может быть автореферентным языку.) (Лист, раскалён ный не до бела, а до белизны, — до абстрактности, — до белоручковости белоручки, собравшегося написать о белизне листа, — чёрным по бело му, — белым по чёрному — именно этого требует культура письма, — нельзя научиться переписывать белое в чёрное, а чёрное в белое, — нелегко на учиться писать по написанному — по палимпсестности письма, наследив шей в собственной автореферентности, — манера письма, которая соот ветствует примату черновика над беловиком, упраздняет само понятие черновика, выступая деструктимоном последнего, — манера письма, ко торая соответствует примату беловика над черновиком, упраздняет само понятие беловика, выступая деструктимоном последнего, — философ ский черновик мысли — «мусорологическое» удержание мысли, создавшее позади себя богатый словарь «мусорологизмов» — антислов и антислово сочетаний, — в допуске других антисловных единиц не отказано, — анти слово или антисловоформа? — в антиязыке нет места грамматике, — грам матика антиязыка — грамматика по остаточному принципу, — вероятно, собственно протописьменная грамматика, — протописьменная грамма тика в чистом виде, — грамматика, существовавшая в протописьме до возникновения языка, — а может быть — собственно антиязыковая грам матика (протописьменная грамматика антиязыка), состоящая из анти языковых грамматических категорий, — из антикатегорий, — например, из категории непримерности конкретного антислова как в языке, так и в антиязыке (?), — например, из категории отождествления антислова во обще и конкретного антислова (?), — например, из категории не времени, а бремени (для «мусорологизмов», футурологизмов и других), — напри мер, из категории не числа, а цифры (для разновидностей гапаксологиз мов), — например, из категории не лица, а личины (для таких антислов, которые являются названиями физических объектов, соответствующих принципу неопределённости Гейзенберга, «доказывающего невозмож ность одновременного точного измерения координаты и импульса эле ментарной частицы»61), — на страже от самообмана — пожалуйста, обма нывайтесь насчёт меня сколько хотите, но не обманывайте своим самооб маном меня же, — электронные антислова — слова, стираемые при word'овской редактуре текущего текста, — слова, обозначающие слова, которые являются названиями для операторов антислов, — досуг от до суга — сделать запас цейтнота, которого бы хватило для невозможности запастись ещё, — дефицит философских штампов — штамп на презумп цию перформативного парадокса, — на презумпцию непонимания для тех, чей принцип традитабельной относительности рискнул отнестись к прин ципу лингвистической некомпетенции, — если носителю языка не удаётся вербализовать свои мысли, — можно предположить, что он пытается вер бализовать чужие мысли своими вербальными средствами, — что он пы тается вербализовать свои мысли чужими вербальными средствами, — что он пытается вербализовать чужие мысли чужими вербальными средства ми, — не существует никакой трудности для того, чтобы вербализовать свои мысли своими же вербальными средствами, поскольку принцип линг вистической некомпетентности предполагает свою разновидность — принцип индивидуальной (аутистической) лингвистической некомпетенции, согласно которому конкретный носитель языка в некоторой степени не компетентен в освоении языка, — гипотеза индивидуальной (аутистиче ской) лингвистической относительности, согласно которой конкретный носитель языка неприспособлен к проживанию в мире, не сформирован ном его системой индивидуального языка, — его матрицей индивидуаль ного языка, наложенной на принцип индивидуальной (аутистической) линг$ вистической некомпетентности и презумпцию индивидуального (аутистиче ского) непонимания, — принцип индивидуальной (аутистической) традита бельной относительности — всё о том же, — об особенностях перевода мысли конкретного носителя языка на язык такого конкретного языково го носителя (Ницше — «Мысли и слова. Даже свои мысли нельзя вполне передать словам»62), — лингвистическая аксиоматика — не существует мыс ли, которая не могла бы быть вербализована в языке, — потребность в мысли, которая не могла бы быть вербализована в языке, легко списать на бесконечность языковой комбинаторики, — на бесконечную открытость естественного языка (принцип двойного членения Бубриха), — на бесконеч ную открытость автореферентности естественного языка, — нелегко предположить мысли на антиязыке внутри естественного языка, однако нет ничего невозможного для перформативного парадокса, — то, что не может быть выражено в языке, существует в языке же в неавтореферента$ бельном виде, — в форме не(ре)презентируемости в неязыковом же (sic!), — неязыковое — это не то, за счёт чего существует язык, поскольку язык су ществует в языковом для языкового, — а то, за счёт чего существует все ещё не автореферентное, а также все неавтореферентабельное, — всё ещё не автореферентабельное (?), — языковая роскошь жертвовать языком же для будущего языка — только приветствуется, — за время существования языка человечество смогло выразить в нём такое многообразие смыслов, которое не успело бы выработаться вне языка, — например, в сфере прес ловутого неозначенного, — в мире неязыковых смыслов, пребывающих не поименованными самими собой, — беспризорными в самих себе, — брошенными на произвол предпосылок возникновения языка, — остав ленными наедине с самими собой, для которых даже одиночество не по карману, — для которых оно беспрецедентно, — бесцеремонно, — беза пелляционно, — безалибно, — неозначенное до существования языка — в этом кроется та этимология нонсенса, которая в рамках языка потерпела свою актуальность сразу же с затеей языка, — неозначенное до существо вания языка — под предлогом неязыковой коммуникации, сохранившей ся до настоящего времени на периферии неязыкового, будучи вытеснен ным из неязыкового языком же, — неозначенное после возникновения языка — неозначенное по преимуществу для неязыкового, — сфера раз межевания языкового и неязыкового, — трансгрессивный буфер, — зона отчуждения между заделом языка и будущим неязыкового, — неозначен ное после смерти языка — неязыковое в провокации языкового, — неоз наченное, охваченное языковой утробой времени, которое, именуя вещи, назначает им срок побывки в языке, а не в бытии, — как только их срок истекает, вещи оказываются просроченными, — отпущенными в бытие, — в присутствие, — присутствующими, — пропущенными через отставание от бытия в языке, — через отставание в семиотической презентации, — вещи, презентированные в языке через семиотическиинтенциональное отставание, — не через семиотическое интенциональности, а через ин тенциональность семиотического, — не могут возвратиться в присутствие присутствующими из языка, — такие вещи подлежат забвению в бытии, — утилизации в небытие, в котором различие между отсутствием и отсут ствующим не столь очевидно, но не к спеху проблематично, — зазываю ще, — поверхностнее, — вопрошающе, — восклицающе, — различие меж ду которыми может свестись к тавтологии различия и подобия, — к бес примерной — несемиотической и неинтенциональной — разнице присут ствия и присутствующего, — к запрету на опережающее отставание при сутствия от присутствующего, — к запрету на возмещение отставания присутствующего до присутствия, — такие вещи избыточны даже для са мих себя, поскольку поименованы вопреки само(на)званию, — не са мо(на)званны, — а самозванны, — вопреки самозваному самозванству, — поскольку переименованы в само(на)звания названий, — названий как вещей, — слов как вещей, имеющих собственные виды на само(на)зва ния, в отношении которых автореферентность языка слепа до авторефе рентного же само(на)званства, — до автореферентного самозванства, предшествующего само(на)званству в презумпцию перформативного па радокса для понятия «изначального опоздания» (Деррида), — спасти мир от красоты — предупредить отчуждение человеческого начала в эстети ческую погрешность, — предупредить жертвенность во имя красоты, — вопреки красоте, — воспитать индивидуальный эстетический вкус на контрпримерах — на неразличении прекрасного и безобразного, — на по давлении природной склонности к ранжированию сексуальнопривлека тельных людей, — на внесении раскола между биологической репродук тивностью и сексуальной привлекательностью, — на эстетическом разме жевании нарциссизма одного человека от нарциссизма другого человека, влекущем за собой настоящие кровопролитные войны, — войны изза нарциссизма, которых в человеческой истории до сих пор не было, — на эстетическом анархизме, — эстетической инфляции, — инфляции эстети ческой трансгрессии, — на эстетической неразделённости с неразделён ной любовью, — на неразделённой красоте, — на неразделённом безобра зии, — сохранить человека в эстетическом целомудрии, — в эстетическом аутизме, — в первородном эстетическом грехе, заключающемся в эстети ческом сомнении о красоте, — в этическом сомнении о морали — перво родный этический грех, уступающий право на генезис — этимологическо му искушению, — этимологическое искушение — причина всякой перво родной греховности, — искушение, переспрашивающее свою возмож ность в свою же невозможность, — в недостаточное основание, — в без ответственность, — в остенсивную квадратуру круга в определении, — в фатализм истока, — в финализм побега, — в фаллибилизм сбрасывания листвы, — в фанатизм короба, — преждевременная спонтанность, но прежде — упование на естественное предположение вещей, пребываю щих в подавленном состоянии невсебе, — в отождествлении до и после спонтанности, — ветер, гуляющий в ветряной мельнице, — бракованный товар с продлённым сроком негодности, — произвольность без освиде тельствования в индетерминизм, — словоохотливость о словоохотливос ти, — косноязычие о косноязычии, — зомбирование на самозомбирова ние (деструктимон зомбирования), — гул сомнения, отстающий от гула языка в досмысловое, — от гула протописьма в протонеозначенное, — идол сомнения — из рода идола идола, для которого не найти подходящего жреца, — все давнымдавно расхватаны по философиям, — настоять на выкающем этикете — вернуть этикету спонтанность его нарушения, — ав тореферентность его зарождения, — неуместность его соблюдения, — тер петь назло терпению — по траектории опережения источника, — в опере жение деструктимона терпения, — неязыковые последствия языкового аутизма, — всё ещё помедлить со своим делом (отсоветование Ницше), — с брожением себя, — не зазевав пуститься в расход, — не выкристаллизовав несвоевременность себя в окружении таких же несвоевременников, — таких же темпоральных прокажённых, — таких же подельщиков себя, — таких же поддельщиков тебя, — лишних по преимуществу, — на всё безвре менье, — лишённых экзистенциальной прописки, — оклеветанных с кафедр онтологии, — загнанных в гетто истории на правах рабов истори цизма, — склонённых к выдумыванию собственного моралите на помой ке этических предрассудков, — до сих пор выдумывать себя из самого се бя — не в этом ли основной предрассудок философии экзистенциализма, больше всего обнищавшей под эгидой своей философичности, нежели в амплуа секрета Полишинеля? — мизософия экзистенциализма — не упус тить шанс обмануть сложившуюся ситуацию к лучшей практике жизни, — к утилитарному пониманию утилитаризма, — к геометрической прогрес сии в непонимании дурной лингвистической бесконечности, — к экзис тенциальному шантажу философии экзистенциализма, попахивающей фуршетным столованием, — обжорством диеты, — идиосинкразией ко всему неофранцузившемуся, — вырождением всего слишком человеческо го, — всего среднестатистического в философии, — всего впопыхах отло женного в самый дальний угол, — этическая автономия от аристократиз ма духа, — от благородных натур, умудрённых активным эмпиризмом во ли к жизни, — автономия по юрисдикции неподсудности победителя («Vae victis теоретикам морали!»), даже если этим победителем оказываются ра бы в морали, слабосильные хитрецы, перехитрившие прирождённые на туры, — в таком случае история морали предстаёт в виде сменяющихся, а не чередующихся (о чём весь поздний Ницше) побед, а не поражений (о чём весь поздний Ницше), — побед, безотносительных к их субъектам, — к их вершителям, — к судьбам их участников, состязающихся с этической игроманией, — история, которая не может быть сфальсифицирована, — забыта, — отдана на суд историкам морали, поскольку в ней не найти рав нодушных, — отсиживающихся в пустом месте, — инакосомневающихся, — пораженчески настроенных индивидов, — слова, обозначающие слова, которые являются названиями референтов, исчезнувших к моменту воз никновения естественного языка, называются ретроинкогнитологизмами, — вербализовать весь поток человеческого сознания — для чего необходимо будет увеличить лексикон языка в несколько раз, — придумывать слова на ходу, — не щадя «мусорологизмов», — выхватывая означающие из наив ного звукоподражания природе сознания, — нарушая принцип контекс туальности употребления слов, контексты которых окажутся непрезенти руемыми, — чтобы вернуться к предыдущему контексту употребления слова в динамическом потоке сознания, придётся создать новый кон текст, который накроет собой предшествующий, усилив интерференцию контекстуального опрощения (АнтиВитгенштейн), — сверхзадача для сверхфилологии, — для сверхлексикографии, творящей слова одновре менно с интенциональным актом, — пускаясь наперегонки за предмет ностью, — надстраивая над общим интенциональным потоком пассив ный запас слов, страхующий на случай лексикографической депривации, — слова, обозначающие слова, которые являются названиями непрерыв ностей между интенциями в интенциональной последовательности сознания, называются интеринтенциалологизмами [например, интенция на цветок — непрерывность1 (название непрерывности1 — конкретный интеринтенциалологизм) — интенция на будильник — непрерывность2 (название непрерывности2 — конкретный интеринтенциалологизм) — интенция на холодильник — непрерывность3 (название непрерывности3 — конкретный интеринтенциалологизм) — интенция на книгу — непрерыв ность4 (название непрерывности4 — конкретный интеринтенциалоло гизм) — интенция на данную интенцию — непрерывность5 (название неп рерывности5 — конкретный интеринтенциалологизм) — интенция на данную непрерывность], — слова, обозначающие слова, которые являют ся антонимами для антислов [например, антонимфутурологизм для футурологизма (антоним для слова, которое появится в языке завтра, — антоним, который встраивает футурологизм в систему антиязыка, — контрпример — синонимологизм как бывший футурологизм (как слово, появившееся позже вышеприведённой записи), существовавший наряду с несинонимологизмом как бывшим антонимомфутурологизмом, а в це лом — как бывшим антонимологизмом)], антонимпотенциалологизм для потенциалологизма (антоним для слова, существующего в языке в возможном виде, — на примере названий чисел в диапазоне от семидеся ти пяти квадрагинтиллионов (75◊10123) до двадцати девяти треквадрагин тиллионов (29◊10132), — название для числа 66◊10128 с приставкой не — пример антонимапотенциалологизма, а также пример потенциально бывшего антонимологизма) и т. п., — парадигматические отношения внут$ ри антиязыка, — называются антонимологизмами (соответствующая клас сификация антонимов, а следовательно, и антонимологизмов, — на со вести моих учеников), — слова, обозначающие слова, которые являются синонимами для антислов, называются синонимологизмами [например, синонимфутурологизм для футурологизма (синоним для слова, которое появится в языке завтра, — синоним, который встраивает футурологизм в систему антиязыка, — контрпример — омонимологизм как бывший футу рологизм (как слово, появившееся позже вышеприведённой записи), су ществовавший наряду с омонимологизмом в латинской кальке как быв шим синонимомфутурологизмом, а в целом — как бывшим синонимоло гизмом, но в отличие от антонимафутурологизма, всегда предполагаемо го с той или иной отрицательной приставкой (показатель антонимичнос$ ти), — синонимфутурологизм даже в контрпримере представлен с боль шой натяжкой, — сказывается известная искусственность в образовании такого синонимологизма, которую можно определить как антисловную непрозрачность, не позволяющую предусмотреть тот или иной показатель синонимичности для того или иного синонимологизма, то есть синонима как антислова)], синонимпотенциалологизм для потенциалологизма (синоним для слова, существующего в языке в возможном виде, — на примере названий чисел в диапазоне от семидесяти пяти квадрагинтилли онов (75◊10123) до двадцати девяти треквадрагинтиллионов (29◊10132), — название для числа 66◊10128 с использованием латинской кальки (разно видность показателя синонимичности) — пример синонимапотенциа лологизма, а также пример потенциально бывшего синонимологизма) и т. п., — (соответствующая классификация синонимов, а следовательно, и синонимологизмов, — на совести моих учеников), — слова, обознача ющие слова, которые являются омонимами для антислов, называются омонимологизмами [например, омонимфутурологизм для футурологизма (омоним для слова, которое появится в языке завтра, — омоним, который встраивает футурологизм в систему антиязыка, — контрпример — сино нимологизм (в синонимичном значении термину синоним, — синонимо логизм как то же самое, что и синоним) как бывший футурологизм (как слово, появившееся позже вышеприведённой записи), существовавший наряду с синонимологизмом как бывшим омонимомфутурологизмом, а в целом — как бывшим омонимологизмом)], омонимпотенциалологизм для потенциалологизма (омоним для слова, существующего в языке в воз можном виде, — на примере названий чисел в диапазоне от семидесяти пяти квадрагинтиллионов (75◊10123) до двадцати девяти треквадрагинтил лионов (29◊10132), — название для числа 66◊10128 с иным ударением в его составных частях — пример омонимапотенциалологизма, а также при мер потенциально бывшего омонимологизма и т. п.), — (соответствующая классификация омонимов, а следовательно, и омонимологизмов, — на совести моих учеников), — антисловная лексикографическая совесть, — слова, обозначающие слова, которые являются названиями непрерыв ностей между интенциями, возникающих по ходу чтения данного опре деления, — с автореферентным наростом, — рефлексийным флюсом, — называются контекстуальными интеринтенциалологизмами, — интеринтен циалологизмы представляют собой такие антислова, которые предшест вуют самому антиязыку, поскольку обозначают непрерывности между интенциональными актами людей до возникновения у них естественного языка, — такие антислова, которые являются предельно конкретными единицами протописьма, пребывающие в нём наряду с идеей антиязы ка, — о взаимоотношениях протописьма и антиязыка может быть сказа но следующее — ещё раз о методологической объективации протопись ма из общей теории языка, которую проделал Деррида в «О грамматоло гии», — возможность самостоятельного сосуществования в протописьме антислов (например, интеринтенциалологизмов) и антиязыка свидетель ствует о том, что идея протописьма предшествует языку как самая первая из доступных объективаций языка посредством языка же, — как объекти вация, с которой в языке поселяется автореферентность, — автореферент ность языка не может быть объективирована в протописьмо, имея в виду парадокс третьего человека (Аристотель), — идея о протописьме в прото письме же подлежит объективации намного позже (например, с создан ного мною прецедента), — интеринтенциалологизмы наличествуют в ви де антислов до лингвогенеза, ставя под подозрение сферу неозначенного, но не сферу досмыслового, до которой мы вотвот доберёмся и дефлори руем её в самку, — если некоторые разновидности антислов предшеству ют как, возможно, протописьму, как антиязыку, — так и языку, — то об ласть неозначенного лишается своего автономного статуса хранилища всех смыслов бытия до возникновения естественного человеческого язы ка, который способен рано или поздно означить всё неозначенное, — по дарить каждой вещи её имя, — вызволить вещи из непоименованного однообразия доантропоморфного мира, — интеринтенциалологизмы опережают антиязыковость на основании антиязыковой автореферент ности, — антислова условно (уантисловно?) объединены под брендом антиязыка, — могут существовать независимо от системного характера антиязыка (примеры парадигматических отношений были приведены вы ше) до появления естественного языка, — до тех пор, пока антиязык рас квартирован в языке, сохраняется искушение постулировать индетерми низм антислов от антиязыка как до лингвогенеза, так и после смерти всех естественных человеческих языков, — слова, обозначающие слова, кото рые являются словами естественного языка потенциальных инопланет ных существ, называются уфологизмами, — слова, обозначающие слова, которые являются антисловами естественного языка потенциальных инопланетных существ, называются уфоантилогизмами (?), — перехва тить инициативу у антиязыка — например, подсказать антиречь, пред ставляющую собой произнесение определений классов антислов, — вы сказываний по типу «Завтра в русском языке появятся пятнадцать футу рологизмов», «Общую теорию антиязыка можно будет экстраполировать на инопланетные естественные языки», «Количество потенциалологиз мов в числовом диапазоне от одного новемнонагинтиллиона (1◊10300) до одного центиллиона (1◊10303) равняется разнице между одним центиллио ном и одним новемнонагинтиллионом [(1◊10303) — (1◊10300)]», — слова есте ственного человеческого языка с точки зрения общей теории инопланет ного естественного языка — антислова до первого контакта с людьми, — антислова естественного человеческого языка с точки зрения общей те ории инопланетного естественного языка — метаантислова (?), — антия зык одного естественного человеческого языка может быть богаче анти языка другого естественного человеческого языка, — особый спрос на ан тиязыки мёртвых языков, — слова, обозначающие слова, которые могут появиться на Земле с возникновением нового языка после гибели всех естественных человеческих языков, называются реинкарнатологизмами, — слова, обозначающие слова, которые являются названиями классов ан тислов в искусственном антиязыке, — симулякроантилогизмы (?), — иску$ сственный антиязык — такой антиязык, который функционирует внутри естественного антиязыка на правах его автореферентности, — в отличие от метаязыка внутри антиязыка (антиметаязыка внутри антиязыка) — автореферентность естественного антиязыка предполагает не столько антиметаязыковость, сколько попытку создать антиязык на основе ис ключительно антиязыка, — без участия естественного языка и его же автореферентности, — автореферентность искусственного антиязыка — ха! — искусственный антиметаязык (?), — искусственная антиметаязыко вость, — общая теория искусственного антиязыка, — искусственная ан тиязыковость, — антиязык для искусственного человеческого языка имеет ряд преимуществ перед естественным языком — в факте создания того или иного искусственного языка можно засвидетельствовать такие клас сы антислов, которые уже не удастся загипотетизировать в рамках живо го естественного языка, — благодаря искусственному языку получится верифицировать аналогичные классы антислов в живом естественном языке, — общая теория искусственного языка, — искусственная языко вость, — метаязык внутри искусственного языка, — искусственная мета языковость, — слова, обозначающие слова, которые входят в состав само го первого класса антислов, называются адамоантилогизмами, — о соотно шении адамоантилогизмов с адамологизмами будет сообщено чуть поз же, — слова, обозначающие слова, которые составят самый последний класс антислов, называются апокалипс(ис)ологизмами [финитологизма$ ми (?)], — в данном случае имеется в виду футурологизм как название для самого последнего класса антислов, — антислово — слово, отсутствующее в языке в виде конкретной словоформы, — беспримерное слово, — мета языковое антислово — такое антислово, которое отсутствует в антиязыке до своего отсутствия, — сонесуществующее с антиязыком, если у последнего находится манёвр для собственной автореферентности, — слова, обозна чающие слова, которые являются названиями мёртвых названий классов антислов, — мёртвые названия классов антислов — несостоявшиеся назва ния классов антислов, — мортологизмы, — слова, обозначающие слова, которые являются названиями мёртвых антислов, — мёртвые антислова — антислова, не состоявшиеся в классы, — мортоантилогизмы (?), — мёртвые классы антислов, — классы мёртвых антислов, — мёртвый искусственный язык, — мёртвый антиязык — антиязык, в котором полностью реализова на его автореферентность, — слова, обозначающие слова, которые явля ются названиями несуществующих антислов в пределах того или иного класса антислов, — антиалогизмы, — слова, обозначающие слова, которые являются названиями несуществующих названий классов антислов, — вокабулоантилогизмы, — слова, обозначающие слова, которые являются названиями невозможных антислов, — называются «невозможнологизма$ ми», — слова естественного человеческого языка не являются антислова ми для человека, который не владеет ни одним естественным языком, — на примере этой аналогии мы легко научимся представлять себя людьми, не владеющими навыками антиязыка, — мы знаем о существовании анти языка приблизительно так же, как животные знают о существовании че ловеческого языка, — реакция животных не идёт дальше попугайского языка, — дальше нашего попугайничанья в ответ на попугайский язык, — антиязыковая практика открывает доступ невербальному мышлению, — через стадию антисловного мышления к телепатическому обмену мысля ми, — не только неартикулируемые слова, но ещё и неартикулируемые названия для классов антислов, — но ещё и телепатическое общение антисловами, — проблема лингвистической автореферентности при теле патической коммуникации, — не трудно предположить, что даже при теле патическом общении сущность антиязыка останется столь же неприкос новенной, как и при нетелепатическом общении, — некоторые характе ристики телепатического языка могут совпадать с некоторыми характе ристиками антиязыка, но полностью раствориться друг в друге такие языки не могут, — при телепатической коммуникации возможны пере крещивания естественного антиязыка с телепатическим антиязыком (в классе «мусорологизмов»), — телепатический антиязык — антиязык, словарь которого состоит из антисловных названий классов антислов, — принцип антилингвистической некомпетенции (КоНилогов) и принцип ан тилингвистической компетенции (КоХомский) — ничего, кроме обмолв ки, — дерзайте сами! — антиязыковость следует признать антипонятием, — а все антислова — псевдопустыми, — антипонятие — это эквивалент поня тия на антиязыке, — поскольку не вся автореферентность антиязыка мо жет быть выражена в антиязыке, а только та её часть, которая может быть выражена в естественном языке (перформативный парадокс антиязыка — при переходе на логику естественного антиязыка отпадает необходимость в антиязыковом алогизме), — постольку антиязык не зависит от конъ юнктуры творческого употребления языка, — творческое употребление антиязыка откликается на отчуждение носителя антиязыка в антиязык, — на упреждение антиязыка в естественном языке, — на врождённое вето на антислова, — «Таким образом, мысль, которая желает идти до своего собственного предела, идти в своём языке до конца того, что она подразу мевает под именем изначальной конечности или конечности бытия, должная была бы оставить не только слова и темы конечного и бесконеч ного, но и — что, конечно, невозможно — всё то, чем они управляют в языке в самом глубоком смысле этого слова. Эта невозможность не озна чает, что та сторона МЕТАФИЗИКИ [заглавные мои. — А. Н.] и онто теологии недостижима; наоборот, она подтверждает, что такое безмерное превосхождение обязано опираться на саму МЕТАФИЗИКУ [заглавные мои. — А. Н.]. Эта обязанность была ясно осознана Хайдеггером. Она отмечает тот факт, что фундаментально само различие, так что бытия не вне сущего»63, — творческое неупотребление языка (АнтиХомский) — по смертный слепок с no comments, — стилизация под косноязычие — стыдли вые трудности совершенного владения языком, — ситуация по проформе «если не получается косноязычить», — обстоятельство косноязычия, от казывающего в ответ на языковую компетенцию окружающих, — «Ваше владение языком настолько банально, что даже мне косноязычие показы вает свой язык», — в ответ на языковую некомпетенцию окружающих, — в ответ на пользовательский снобизм языком, — на бихевиористское вла дение естественным языком, при котором реакция говорящего получает неотвратимый нагоняй от стимула слушающего, — слова, обозначающие слова, которые являются названиями непоименованных референтов, воз никающих в будущем, — ресофутурологизмы, — слова, обозначающие слова, которые являются названиями переименованных референтов, су ществовавших непоименованными в прошлом, — ресокрипторетрологиз$ мы (?), — языковая некомпетенция предполагает безупречное невладение языком, — стремление свести на нет врождённую способность человека к усвоению языка, — языковая некомпетентность преследует разрушение устойчивых грамматических структур, — так называемую органическую форму языка, — её идеалом является органическая праформа языка — прецедент языка в мире («Границы моего мира означают границы моего языка»), — слова, обозначающие слова, которые являются названиями непоименованных референтов прошлого, появляющихся с известной пе риодичностью, — футурокриптологизмы (?), — из запасника скрытых фи зических параметров (криптологизмы) — референты, которые остаются неопределённонепоименованными, — «неизвестнологизмы» (?), — здесь же — ксенологизмы (понятия, используемые для обозначения чуждых на шему восприятию и сознанию «adhocнеосознаваемых», но объективно существующих реалий, — Монтегю: «По крайней мере некоторые осозна ваемые нами сущности, или универсалии, обладают существованием и в то время, когда мы их не осознаём», — АнтиМонтегю о криптологизмах: «По крайней мере некоторые неосознаваемые нами сущности, или уни версалии, обладают существованием и в то время, когда мы их не осозна ём», — криптологизмы — понятия, используемые для обозначения скры тых параметров (например, в физике; о чём «не имеется ни знания, ни незнания» (Хайдеггер) вне зависимости от направления темпоральнос ти), — «По крайней мере некоторые осознаваемые нами сущности, или универсалии, не обладают существованием и в то время, когда мы их не осознаём», — «По крайней мере некоторые неосознаваемые нами сущ ности, или универсалии, не обладают существованием и в то время, когда мы их не осознаём»), а также понятие о скрытых физических параметрах для инопланетных существ (ксенокриптологизмы), — новость бегущей стро кой — «Бог воскрес», — лаконично, — без восклицания, — ссылки на ис точник информации, — мимоходом, — почти конспективно, — на полях ещё не написанного, но уже прочитанного между строк, — в апокрифи ческое предварение, — в соревнование по фальстарту, — в черновик гра фомана, — без теодицейских последствий, — атеистических анафем, — невежественного воображения Гиренка, который первым обмолвился о воскресшем Боге на лекции по философскому кощунству, — Гиренок, прокосноязычивший: «К а к? Р а з в е н е з н а е т э т о т с в е р х ч е л о в е к, ч т о Б о г в о с к р е с?!», — без лишних словоблудий, — богослов ского стёба, — похмельных пророчеств, — деистических молитв, — псалмов под караоке, — демонстративных постукиваний («Ах, если бы простуки ваний!»), — с которых можно было бы взять ницшеанский пример, — сверхчеловеческий ориентир, — жест навстречу языку жестов, — но не тутто было — много шуму из ничего некрасивыми жилистыми руками, под чьи крестьянские складки распахана вся русская философия, — чей почерк пристыдит опытного графолога, — под ногтями которого скомка на пыль книжной философии, — от которого на некроложную память ос танутся минутки эмоциональности, запоры косноязычия, стыд без при чины (наивничанье как комплекс философской неполноценности), вылазки самоиронии, антропологическое опрощение, импровизированные со мнения, — философская манера Гиренка миметична от начала и до кон ца, — скроена из бесчисленных подражаний, закамуфлированных под мистериософичность, — из подражаний, от которых их реальные прототи пы стараются как можно быстрее избавиться, — поскорее отречься, — от сидеться в собственной тени, — забежаться по кругу в определении, — пе реадресовать по плохому философскому телефону, — из негигиенических примерок на себя чужих философий, — сродни философскому трансвес$ тизму (Гиренок как философский трансвестит, — с оговорки В. В. Василь ева), — переодеванию в грязное бельё, — нередко в нижнее, — иной раз снятое с трупов философов, — наподобие философской кальки, с которой можно снять не один симулякр Гиренка, — философская калька — филосо фема или философия, образованная путём буквального перевода ино
язычной философемы или философии, — немимикрабельный — не подда ющийся мимикрии, — в философский миметизм (миметизм — вид мимик рии, выражающийся в сходстве внешнего вида или поведения неядовито го или съедобного животного с животным другого вида, ядовитым, несъ едобным, или иным образом защищённым от врагов), — из накладных философских масок — от лица всех философов, — в образе среднестатис тического философа, после которого философия больше не удивляет, а лишь развлекает, — забиячит, — рассеивает внимание, — тешит философ ское самолюбие, — врезается в беспамятство, — в ностальгию забвения, — в Ноев ковчег философии, который с лихвой перебалластит Периодическую таблицу (систему) возможных философий имени Р. Штейнера, — насильно лишает философской девственности, — растлевает философофилией, — в философофила, — философоманией, — в философомана, — философого гией, — в философогога, — в философских альфонсов, живущих на содер жании у мудрости, — на иждивении сомнения, — на дармовщинку смыс ла, — на задворках адюльтера истины, — сродни философскому сутенёр$ ству (Гиренок как философский сутенёр), признающему философию исключительно в роли любовницы, — предрассудочной проститутки, со вращающей философских простачков в философских новичков, — фило софу на выданье, — философубесприданнику, — философу прописного аморализма, — философскому эрузитству (Гиренок как философский эру зит), — «На безрыбье современной русской философии и Гиренок философ» (русская философская пословица).
Примечания
1 Деррида Ж. Письмо и различие. М.: Академический Проект, 2000. — 496 с. — («Концепция»).
2 Ницше Ф. Избранные произведения / Сост., авт. вступ. ст. К. А. Свась ян. — М.: Просвещение, 1993. — 574 с.
3 Руднев В. П. Диалог с безумием. — М.: Аграф, 2005. — 320 с.
ДМИТРИЙ ПРИГОВ
Зоны выживания в культуре
Дмитрий Александрович Пригов (род. 1940) — современный русский поэткон цептуалист, художникграфик, арткритик, философ. Один из лидеров русского «неофициального искусства». Автор более десятка поэтических сборников, среди которых — «Слёзы геральдической души» (М., 1990), «Пятьдесят капелек крови» (М., 1993), «Явление стиха после его смерти» (М., 1995), «Запредельные любовники» (М., 1995), «Сборник предуведомлений к разнообразным вещам» (М., 1995), «Дмит рий Александрович Пригов. Собрание стихов, в двух томах» (Вена, 1997), «Написан ное с 1975 по 1989» (М., 1997), «Советские тексты» (М., 1997), «Евгений Онегин» (М., 1998), «Исчисления и установления. Стратификационные и конвертационные тексты» (М., 2001), а также прозаических — «Живите в Москве. Рукопись на пра вах романа» (М., 2000), «Только моя Япония» (М., 2001). Лауреат Пушкинской пре мии Фонда Альфреда Тепфера. Член Союза художников СССР, участник московско го Клуба Авангардистов (КЛАВА). Является, наряду с Ильёй Кабаковым, Всеволодом Некрасовым, Львом Рубинштейном, Франциско Инфантэ, Владимиром Сорокиным, одним из основателей и идеологов русского концептуального искусства, или москов ского романтического концептуализма (как в его литературном, так и в изобрази тельном ответвлениях). Концептуализм — направление в искусстве, придающее приоритетное значение не качеству исполнения произведения, а смысловой оснащён ности и новизне его концепции, или концепта.
Я не буду, вернее, не смогу сказать здесь чтолибо иное, чем то, что говорю всегда и повсеместно, уж извините. Да и кто бы похвастался иным? Надеюсь, что немногие в этой аудитории чтолибо слыхали или читали из мной написанного по данному поводу. К тому же, как мне представляется, произносимое и артикулируемое таким образом подле жит изменению разве что на длительном промежутке времени, превыша ющем если не длительность конкретного человеческого пребывания на этой земле, то уж, во всяком случае, длительность культурного поколе ния, которое нынче достигло продолжительности примерно в 10 лет. То есть, для краткого пояснения, если в старые времена (не углубляясь в са мые дремучие древности) культурное поколение могло покрывать три биологических, когда к последнему идеалы дедов приходили уже в каче стве почти небесных истин, то к концу XIX века культурное поколение совпало с биологическим. Стало как бы необсуждаемой нормой, что каж дое новое поколение приходило в мир с новой идеей. В наше же время культурное поколение перестало совпадать, полностью разошлось с био логическим, укорачиваясь, сокращаясь, наподобие шагреневой кожи. И если раньше сквозь почти незыблемые идеи и идеалы текли поколения людей, то ныне, наоборот, человек за свою жизнь проносится сквозь мно гочисленные модусы стремительно меняющегося мира. Соответственно, мобильность стала почти необходимым качеством выживания в пределах мегаполисных культур и в качестве культурной вменяемости стала если не основным, то неотъемлемым качеством артистического профессионализ ма. Но это мы забежали несколько вперёд.
Так вот, перед всеми и повсюду всегда стоит простая проблема выжи вания: как биологического, так и социального. Ну а у художника, сущест ва лукавого, амбициозного и не чуждого властных претензий, всё это, ес тественно, обретает своеобразный облик и стратегию.
Другое дело, как понимать это самое выживание.
Как правило, по итогам долгой жизни в искусстве подсчитывается баланс некоего уровня реализации культурных амбиций, финансовой обеспеченности существования и всё ещё продолжающейся искренней заинтересованности в своей творческой деятельности. То есть, условно говоря, подобный подсчёт можно было бы сравнить, скажем, со способом существования в пределах американских университетов, где результат оп ределяется по сумме баллов. И если ты, скажем, выдающийся пловец, то всё равно невозможно заработать все требуемые аттестационные баллы одним твоим плаванием — по всем остальным необходимым позициям должны быть результаты не ниже критериального уровня. Так и в нашем случае с итогом художнической жизни. Хотя, конечно, известны первер сивные случаи, когда всем жертвовали ради славы, ради денег или гибли во имя некоего невыразимого высокого идеала. Но мы не об этом.
Рассматривая названные позиции в пределах как бы экзаменации ху дожнического существования, попробуем разобрать их в отдельности.
Первое — так что же может предоставить ныне поэтическое служение для реализации культурных амбиций служителям словесности? Буду изъ ясняться болееменее сухим языком как бы некой социальной квазина уки, вполне неподспудным мне как литератору, но и простительным в своей неточности и приблизительности мне тоже как бедному неразумно му поэту.
Для начала нехитро сравним нынешнее положение данного рода ли тературного служения с буквально недавним прошлым. Или же бросим краткий сравнивающий взгляд на статус поэзии в ряду современных ей иных видов культурной деятельности (то есть то, что называется рассмот рением в диахронии и синхронии, уж извините).
Не надо особенно напрягать память, чтобы припомнить недавние времена, когда наша родная поэзия была одним из основных ресурсов всеобщего цитирования, главной составляющий общекультурной и наци ональной памяти. Поэтические строки служили заголовками статей, эпиграфами научных исследований, проскальзывали в речах руководите лей. В качестве разговорных цитат поэзия служила способом опознания друг друга и склеивающим наполнением бесед. Ну, это вполне банально. Не будем преувеличивать, но отметим всётаки, что критическая масса населения, пользовавшая поэзию подобным образом, была достаточна, чтобы определять культурную атмосферу. Я уж и не говорю про памятные многим вечера студенческих компаний или вечеринок вполне пожилых людей, когда после естественных выпивокзакусок участники засижива лись далеко за полночь, предаваясь чтению своих или чужих стихов. Их знали, без преувеличения, сотнями, если не тысячами. Для полной безу тешности нынешней картины помянем, что поэты в своей массовой по пулярности вполне даже могли сравниться с нынешними супер и мега старами, извините за жаргон. Ну, если не подобная картина, то немалая популярность и влиятельность поэтов была вполне обычна и для всех стран европейской культуры конца XIX—начала XX века. В наших же пределах такая ситуация задержалась до недавних времён по причине соз нательной архаизации культуры и выстраивания её по некоему подобию просвещенческоаристократической модели старого образца, в которой поэзия доминировала в качестве наиболее актуальной и креативной сфе ры художественной деятельности. Сему немало способствовали, естест венно, система образования и цензура, не столько в своей политико идеологической функции, сколько культурноохранительной.
Собственно, несколько подмороженный тип социума с весьма дав них времён породил в наших пределах такой феномен, как интеллиген ция. В пределах развала жёсткого сословного общества, развития урба нистической культуры и отсутствия развитых социальных институций, служивших бы посредниками между обществом и властью, каждой соот ветственно своему роду служения и с собственным языком, роль такого посредника взяла на себя эта, как её обзывали, социальная прослойка, транслировавшая претензии народу к власти и власти к народу. Как и вся кий посредник, она обрела естественные властные амбиции быть перед властью народом и народом перед властью. Поскольку все идеологии и поныне артикулированы вербально и в исключительно беллетристском обличье, то, естественно, главными в обществе стали владетели и мастера языка — писатели. А среди них — властители тайной магической сути языка — поэты. В таком образе и статусе поэзия и стала всекультурой ква зирелигиозных образов и сообщений, а также, по примеру первых, уже с незапамятных дней её возникновения почти ритуальномагическим спо собом приведения аудитории в изменённое состояние сознания. Ну, не мне вам напоминать одинаковую, почти единую на всех манеру чтения российских поэтов, напоминающую подвывание шаманов или муэдзи нов. Посему при нынешнем возникновении тех самых пресловутых соци альных институтов понятно, что интеллигенция превратилась в разроз ненных профессиональноориентированных интеллектуалов, которых, в их единстве, поверх профессиональных интересов, могли бы объединить вполне структурно оформленные общественные движения и гражданские институции. Ну да ладно.
Вот поэзия и стала не больше, чем поэзия, учитывая то, что её экста тические формы существования и попгеройство переняли на себя рок и попкультура.
Конечно же, никогда не исчезнет со свету определённое количество людей, пользующих язык неконвенциональным способом, один из кото рых и есть поэзия. И в этом смысле она станет существовать, да и уже существует наряду и наравне со многими иными родами культурной дея тельности, не являя собой скольконибудь выделенную зону особой прес тижности, порождения значимых социальных, культурных и эстетиче ских идей, выходивших бы за её пределы. Возможно, этот почти приват ный модус существования поэзии может быть оценён и положительно. Возможно. Всё зависит от того, какие наличествуют амбиции и какие преследуются цели.
Но ведь непременной составляющей деятельности художника явля ются как раз амбиции (порой неуёмные!) и возможности их реализации. Посему наиболее энергетийные личности, не ощущая дополнительной подпитки в этой сфере, уходят в зоны большей интенсивности и престиж ности. Поэзия, бывшая раньше смыслом и наполнением жизни, ныне становится побочным занятием людей, серьёзно погружённых в другие рода деятельности. Заметим, что на нынешней культурной сцене нет по этов, перешагнувших бы в своей популярности за границы чисто поэти ческих кругов. Все сохранившиеся поныне, так сказать, поэтические поп фигуры — доживающие могикане, продукты разнородных культурных процессов предыдущих времён.
И вообще, представляется, что литература с её способом порожде ния текста, явлением определённого образа автора, местом предъявления читателю своих продуктов и читательским ожиданием онтологически положена в XIX век и в наше время просто длится как любой художест венный промысел или же традиционное творчество. И в этом качестве, поменяв свой социокультурный статус, она может существовать почти бесконечно.
В сём нет ничего странного и необыкновенного. Мало ли чего на протяжении человеческой истории возникало, становилось безумно акту альным, претендовало на вечное своё доминирование и благополучно сходило на нет, оставаясь в человеческой практике некоторыми бытовы ми привычками и традиционными обрядами.
В возможном исчезновении литературы (в упомянутом «высоком» смысле и статусе) нет, по сути, ничего необыкновенного и трагического. И вправду, явилась ведь она человеку не в его мрачную первобытную пе щеру, а вполне даже, по историческим меркам, недавно. Соответственно, вполне может и исчезнуть. А почему нет? Надо сказать, что исчезновение из культуры и вещей не менее фундаментальных, без которых, как пред ставлялось в своё время (особенно людям, связанным с ними своими судьбами и профессиональной деятельностью), просто и помыслить че ловеческое существование невозможно, оказывалось и не столь уж невоз можным и не таким уж болезненным. А через некоторое время всё это благополучно забывалось. К примеру, ещё в 20х годах прошлого века почти 90 процентов населения земного шара в своём быту и трудовой де ятельности было тесно связано с лошадью. Даже во Вторую мировую вой ну конные армии совершали свои архаические походы и прорывы, броса ясь с саблями и копьями на железных чудовищ Нового времени. Ныне же редкий городской житель (кроме узких специалистов) припомнит назва ние предметов конской упряжи. И это при том, что лошадь доминирова ла на протяжении более чем трёх тысячелетий в человеческой культуре, войдя значимым, если не основным структурообразующим элементом и образом в основные мифы и эпосы народов всего мира. Ничего, позабы ли. Ходят в зоопарк, с детишками дивятся на неё как на некое чудище на равне со всякими там слонами, жирафами и верблюдами.
В своё время одним жарким летом прогуливались мы с приятелем вдоль местной дороги его подмосковной дачи в районе Абрамцево, ведя на поводке огромного чёрного дога. Вдруг изза поворота показалась обычная усталая деревенская лошадка, везущая немалый хвороста воз. Дог на мгновение замер и затем, вскинув кверху все свои четыре неслабые ноги, брякнулся в обморок. С рождения в его ежедневном городском бы ту ему не доводилось встречать четвероногой твари крупнее себя. А вы го ворите — литература! Уж какая тут литература!
Так что на уровне широкого функционирования текстов в современ ной культуре нынешний поэт вполне неотличим от всех, работающих в сфере развлечения. Тут не приходится различать тексты или произведе ния на традиционные, кичевые, высокие и поптексты (в данном случае под текстами понимаются не только вербальные, но и визуальные и музы кальные). Все они одинаковы в своей функции развлечения и заполнения свободного времени, хотя и обитают в различных сферах, обслуживая чи тателей и зрителей разной степени продвинутости в области культуры их восприятия и интеллектуальности, правда, уже в меньшей степени, чем в прошлые годы, служа тестами социальной дифференциации и опознания. В названных пределах, естественно, функционируют категории эстети ческих оценок и эмоционального восприятия, понятия красивого, захва тывающего, изящного, грубого, потрясающего, повергающего в транс, отвратительного, милого и забавного. Один и тот же потребитель вполне может пользовать тексты различного уровня и направленности. Повер гать в транс, восприниматься как откровеннические и высокодуховные могут практически любые тексты. В неземной экстаз можно прийти как от Баха, так и от Анжелики Варум, как от Малевича, так и от расписной матрёшки, как от Пастернака, так и от опусов соседа по лестничной пло щадке. При нижайшем уровне престижности и финансовой состоятель ности людей академической и интеллектуальной сферы экспертные оценки мало чего стоят — примером тому абсолютно неработающая сис тема литературных премий.
Стоило бы отметить общую, почти тотальную, архаичность литера турного типа мышления (и не только здесь, но и по всему свету) относи тельно того же, к примеру, изобразительного искусства. Если сравнить ис теблишмент нынешнего изобразительного искусства (определяемым по выставкам в музеях, известности и ценам на рынке) с истеблишментом литературным (определяемый, скажем, по тем же Нобелевским преми ям), то мы получаем весьма показательную картину. Эстетические идеи, разрабатываемые литературным истеблишментом, проецируются на проблематику, волновавшую изобразительное искусство гдето, самое позднее (если и того не раньше), в 50–60х годах прошлого века. Учиты вая же, что, как поминалось выше, нынешний культурный возраст реши тельно разошёлся с биологическим и составляет теперь гдето 7–10 лет, то визуальное искусство отделяет от литературы (презентируемой её истеб лишментом, в отличие от отдельных радикальных экспериментаторов в её пределах, так и не вписавшихся в мир и рынок литературы) примерно пять культурных поколений.
Я говорю о литературе высокой и радикальной. В отличие от изобра зительного искусства, производящего единичные объекты, литература и литератор могут существовать только тиражами. И, естественно, гораздо легче отыскать 5, 6, 7, ну 10–20 ценителей и покупателей неординарного и уникального визуального объекта, чем отыскать миллион изысканных и продвинутых читателей, делающих литературную деятельность подобно го рода в пределах рынка рентабельной. В этом смысле рынок изобрази тельного искусства сходен с рынком эксклюзивной роскоши, в то время как литература с её тиражами включена в массовый рынок.
И в этом своём статусе поставщика уникальных объектов изобра зительное же искусство дошло до того, что сподобилось продавать и му зеефицировать уникальные же поведенческие проекты, артистические жесты, перформансы, акты, единственно среди прочих родов художест венной деятельности радикально оторвав автора от текста и весьма дис кредитировав самоценность любого текста (и визуального, и вербального, и поведенческого) и его онтологические претензии.
Соответственно, если наиболее радикальные деятели изобразитель ного искусства последних лет с их неординарными произведениями могут найти и вполне находят себе покупателя (даже на нашем, непривычном к тому рынке), поднявшись до неимоверно высоких рыночных цен, сподо бились стать на рынке активными агентами и престижными личностями как в пределах самого авангардного искусства, так и широкой культуры, то подобного же рода литераторы, производящие подобного же рода не ординарные произведения и, назовём так, вербальные проекты, вряд ли могут рассчитывать на скольконибудь окупаемые тиражи, довольствуясь грантами, стипендиями, премиями — то есть оставаясь маргиналами и паразитами на открытом рыночном пространстве. И в этом смысле: именно в своём явлении культуре и обществу образа художника (до вся кого ещё текстового оформления) в качестве социальноадаптивной мо дели в современном мире они, в отличие от деятелей изобразительного искусства, являют весьма архаическую и малопрестижную модель (увы, всё это говорится не с интонацией порицания, но ностальгического сожа ления!) культурного поведения отторгнутых от основных властных сфер и возможностей прямого влияния на общество. В отличие, скажем, от вре мён дорыночного владычества, когда основными потребителями подоб ного рода творчества была властвующая элита и об основной массе насе ления, с его малым рыночным и властным влиянием, можно было просто не думать ни в смысле влиятельности на определяющие процессы в обще стве и культуре, ни в смысле финансовой составляющей этого дела и спо соба существования. Тем более что именно поэзия входила в состав прес тижных занятий властной верхушки, наряду, скажем, с музыкой, верховой ездой, фехтованием и пр. Кстати, социокультурную судьбу последних то же можно проследить в наше время, сравнив с теми же футболом и роком.
Конечно, в качестве представителей некоего рода эзотерической де ятельности, влияющей на общество не впрямую, но некоторым сложным способом многочисленных посредований и редукций (как те же космоло ги, вообще неведомые широкой публике), поэты вполне даже и уместны в современном обществе. Но в данном случае у большинства из них уро вень и содержательное наполнение текстов, а также атавистические со циокультурные амбиции вполне не соответствуют подобному образу.
Правда, конечно, у них есть мощный аргумент в нынешнем проти востоянии массмедиа, попкультуре и прочим соблазнителям слабых че ловеческих душ. Это прекрасно сформулировано в за мечательной немец кой поговорке: «Говно не может быть невкусным — миллионы мух не мо гут ошибаться».
Однако продолжим не о столь одиозном, но всё же малоутеши тельном для нашего любимого стихотворчества и серьёзной литературы вообще.
В наше время, когда поведенческая модель в сфере искусства выхо дит из тени просто неординарного поведения в свет значимого культурно эстетического акта (его следует различать с социокультурным поведени ем, связанным в глазах широкой публики с традиционным богемным поведением), первичного по отношению к тексту, возникает вопрос: а не есть ли именно явление нового образа художника специфической и исключительной задачей художника? Отчасти.
Хотя, конечно, подобное виртуальное явление некоего образа, типа художественного поведения требует и особой культурной оптики. Зачас тую же для адептов привычного восприятия акта искусства как явления текстов подобное предстаёт некой если не выдуманной специально для их обмана, то просто фантомнонеразличимой областью.
Как, помните, в том анекдоте славного советского прошлого?.. «В магазине над стерильнопустующим прилавком задумчивый поку патель уже без всякой надежды, просто так, чтобы удостовериться в соот ветствии явленной ему реальности с описывающим её дискурсом, вопро шает:
— У вас мяса нет?
— У нас рыбный отдел. Мяса нет в мясном отделе, а у нас нет рыбы!» Ответ, исполненный почти мистикоапофатической мощи.
И теперь, отвлёкшись от внутренних, глобальных и почти вечных распрей внутри самого искусства и его разнообразных родов, обратимся к суровой конкретике наших дней. Это к вопросу о возможности творчес кого и финансового выживания вообще. И что же мы видим сегодня, обозревая (не к ночи быть помянутой!) социальнополитическую и, след ственно, социокультурную ситуацию? А обнаруживаем, даже не особо изощряя зрение, отсутствие какихлибо иных зон социального влияния и престижности, кроме, увы, финансовоэкономической и социальнопо литической. Увы — конечно, с нашей сугубо пристрастной точки зрения. Так вот, при их же тотальной сращённости (причём если и наблюдается какаялибо динамика в обществе, то лишь по направлению возрастания этого трогательного и почти нерушимого союза, правда, с, опятьтаки, всё время возрастающим перекосом в сторону доминации власти) фактичес ки существует один, единый центр, источник власти, влияния и престиж ности, к которому пристёгнуты массмедиа и отчасти шоубизнес и поп культура. Во всяком случае, последние сильно искривлены относительно поименованного выше мощного центра гравитации.
И тут следует отметить интересный феномен (памятливые ещё пом нят!): даже при советской власти существовали (естественно, при их весь ма различной степени вовлечённости во властные и идеологические структуры) такие отдельные зоны престижности, как академическая, творческоинтеллигентская и андерграунднодиссидентская. И степень соревновательности, закомплексованности и даже зависти одних к дру гим и одних относительно других во многих случаях почти не зависела от материальной состоятельности и властных возможностей соревнующихся сторон. Конкретные примеры приводить не будем. Но были и весьма не редкие случаи ревности официальных и удачливых писателей и художни ков к бедным и почти несоциализированным обитателям сырых подвалов и тёмных мастерских. Сейчас просто даже и смешно представить себе по добные драматургические, почти шекспировские, коллизии. Всё стало го раздо проще.
То есть, как оказывается на поверку и как вроде бы нелегко себе это было вообразить либералу и поборнику демократии, советский строй в его поздней модификации структурно оказался ближе к чаемому западно му образцу (в этом узком, но весьма болезненном для культуры аспекте рассмотрения), отличаясь конкретным наполнением этих структур, в то время как нынешний строй своим конкретным наполнением напоминает западные массмедиа, поп и потребительскую культуру, структурно весь ма и весьма, даже, можно сказать, катастрофически отличаясь. Что луч ше? Можно было бы сказать, что всё хуже. Но попытаемся сохранить хо лодную отстранённость и доброжелательную наблюдательность если не этнографа, то неугрюмого созерцателя.
При отсутствии гражданского общества, развитого и артикулирован ного левого мышления и движения, развитой университетской среды и зоны академической престижности — основных потребителей питатель ной среды и поставщиков деятелей интеллектуальной мысли и оппозици онного мышления — весьма затруднителен осмысленный интеллектуаль ный и оппозиционный жест. Заметим, что, опятьтаки, со времён совет ской власти, при наличии неких аналогов всего перечисленного, оппози ционный и интеллектуальный жест был вполне осмыслен и прочитываем. (Ну, не будем идеализировать недавнее прошлое и забывать людскую и нравственную цену подобной несколько парадоксальной социальной конфигурации. В данном случае мы обращаемся, повторяюсь, к узкой и специфической стороне социального бытия просто для некой эффектив ности и даже эффектности сравнения.)
При нынешнем состоянии общества возможны, собственно, две ос новные социокультурные и, более узко, литературные стратегии. Первая (с очень высокой гарантией успеха и при наличии всех прочих творческих и профессиональных составляющих) — оседлание одной из двух сторон социальнополитического процесса — политикофинансовой или поп медийной (последняя при внимательном рассмотрении является всё таки редукцией первых, хотя и обладает некой самостоятельностью в пре делах нами рассматриваемых стратегий). И, естественно, эта стратегия, при всех оговорках, личных творческих особенностях и отрефлексиро ванности позиции автора, в результате работает на стабилизацию, укреп ление и узаконивание нынешней ситуации. Плохо? Хорошо? Каждый сам решает для себя.
Вторая стратегия рассчитана на весьма длительный процесс с сомни тельными гарантиями успеха — мы говорим отнюдь не о духовноиспове дальной стороне творчества и культурной деятельности, которая вообще не оперирует понятиями больших социокультурных стратегий, и не о тех редких случаях узкокружковой замкнутости со своими культовыми фигу рами. Так вот, она ориентирована если не на создание, то на способство вание возникновению сферы гражданской и интеллектуальной активнос ти — гражданского общества, левой мысли, влиятельной академической и университетской среды. Причём проблема именно в их комплексности, параллельном зарождении и развитии, так как левое движение без граж данского общества и академической среды моментально вырождается в террористические и инсургентские группы и движения. А в случае побе ды мы имеем результатом какуюнибудь Кампучию. Академическая же среда без двух остальных легко становится простым придатком финансо вополитических групп. Гражданские же институции без двух составляю щих имеют тенденцию приобретать черту государственнокорпоративных образований.
Почти уже осуществлённой задачей этой власти является концент рация всей политической власти, отдавшей в пользование обществу не большие площадочки всяких клубов по интересам, всевозможные наи авангарднейшие художественные (просто невозможные бы при советской власти) малопосещаемые проекты и немногочисленные социальноради кальные образования. В пределах небольшой олигархической группы собран и весь основной капитал, оставляя прочему бизнесу с некритери альным для неё годовым оборотом (ну, не знаю, я же не экономист какой нибудь — может, в 500 тысяч долларов) разбираться самим между собой, мелкими властями и всякими претендующими на него самостоятельными криминальными группами. Аналогичным образом и все средства массо вой информации, покрывающие, скажем, группы населения числом не более однойдвух тысячи человек пока власти не волнуют. Причём надо заметить существенное отличие нынешней власти от власти тоталитар ной, которую интересовал каждый отдельно взятый человек. В этом отно шении её можно было бы назвать властью человеческой. Собственно, из всего вышеизложенного выходит, что зоной возможного выживания ин теллектуалов и зарождения гражданского общества являются зоны сред него бизнеса и малых сообществ, совпадая с ними стратегически и идео
логически в противостоянии претензий на тотальность крупного капита ла и власти.
Ясное дело, что нигде интеллектуалы не вправе рассчитывать на мил лионные тиражи, но в обществах с развитыми гражданскими института ми влияние их малотиражных высказываний вполне ощутимо и на уров не власти, и на уровне большого бизнеса.
Вспоминается, как в какомто интервью Селинджер, спрошенный о его отличии от всемирногремевшего тогда Евтушенко, отвечал: «Ему интересно, что думает о нём Брежнев. А американскому президенту инте ресно, что Селинджер думает о нём».
Так вот мне представляется… На этом и завершим наш неверный и во многом некорректный экскурс как в сферу культурноэстетических, так и социокультурных стратегий.
В общем, в итоге всего вышесказанного получается, как в том анек доте:
«— Хочется на фортепьяно сыграть.
— Вот оно, играй.
— Да? А я его себе както подругому представлял».
Подготовил Алексей Нилогов
(в жанре исповеди научного работника, находящего утешение в методологии)64
Владимир Николаевич Романов (род. 1947) — современный русский историк культуры, философ. Кандидат исторических наук, профессор РГГУ. Автор таких книг, как «О композиции “Махабхараты”. — Древняя Индия. Язык. Культура. Текст» (М., 1985), «Историческое развитие культуры. Проблемы типологии» (М., 1991), «Историческое развитие культуры. Психологотипологический аспект» (М., 2003).
ВЛАДИМИР РОМАНОВ
Об устроении человека
ВЛАДИМИР РОМАНОВ
Об устроении человека
Научную работу принято начинать с историографии, изложение ко торой позволяет отдать должное предшественникам и одновременно по могает самоопределиться самому исследователю, то есть различить себя и соответственно свою позицию среди других позиций, точек зрения, мне ний, подходов и т. п. Отступая сейчас от этой общепринятой практики, я испытываю чувство неловкости перед моими коллегами за формальное нарушение этой, помимо всего прочего, ещё и просто почеловечески добропорядочной традиции. Я вполне сознаю, чем обязан моим очным и заочным собеседникам и оппонентам, и единственным серьёзным оправ данием для меня может служить лишь то обстоятельство, что в данном случае непосредственный спор я вынужден вести не с ними, а преимуще ственно с самим собой — с моими собственными предмнениями и пред расположенностями, за которые они никакой ответственности нести, ес тественно, не могут.
Случилось так, что неожиданно для меня самого и помимо моей во ли в ходе эмпирического анализа ряда конкретных культур всё более сом нительными стали постепенно оказываться мои же собственные исход ные и наиболее общие представления (о познании, мышлении, культуре и т. п.), которыми я оперировал вначале столь же уверенно, сколь, как по нимаю сейчас, и неосмысленно. Постепенно ко мне стало приходить ощущение собственного незнания, что в конечном счёте привело к более предметному отношению к нему. Итогом этого изменения и являются предлагаемые ниже чрезвычайно пристрастные заметки, касающиеся уст роения человеческой субъектности и ряда методологических принципов её гуманитарного исследования. Понятно, что в силу своей исключитель ной пристрастности они никак не могут претендовать на какую бы то ни было общезначимость и должны, скорее, рассматриваться просто как факт научной автобиографии. Хотелось бы только надеяться, что этот факт исповедального, в сущности, характера не сочтут за медицинский — за анамнез испорченного тягой к философствованию историка, ни с того ни с сего взявшегося за совершенно чуждое его глубоко эмпирической природе дело.
Начнём с самого начала, а именно с той фразы, которая, сколько се бя помню научным работником, казалось, совершенно однозначно и не двусмысленно выражает суть моих занятий: «Я познаю мир». Пережива лась она приблизительно так: «Вот есть я, а вот противостоящий мне мир, и вот с этимто миром я вступаю в особое, познавательное, отношение. Очевидно, что уже одна только словесная форма фразы (и точнее — навя зываемое ею разбиение) провоцировала восприятие себя и мира в качест ве двух изначально не пересекающихся данностей, из которых так или иначе, но ещё только предстояло собрать целостную структуру познава тельного опыта. Тут же для описания этого события на ум спонтанно при ходили другие, более отвлечённые, но с той же смысловой направлен ностью понятия: субъект, объект, отражение (активное, пассивное, опере жающее) и т. п. А рука уверенно и без колебаний начинала выводить схем ки типа: S ∅ O.
Человек философского склада ума (и тем более систематически изу чавший историю философии), скорее всего, лишь посмеётся над наив ностью подобных построений, предельное основание и конечное оправдание которых являются целиком проблематичными. И я, навер ное, тотчас же присоединился бы теперь к нему, если бы не помнил (при чём совершенно точно), что никаких построений, собственно говоря, и не было вовсе, а было лишь смутное ощущение некоей опоры, вполне достаточное, однако, для того, чтобы мысль историка вообще могла состояться.
Подчёркиваю, до поры до времени неотрефлектированное отно шение к познавательной ситуации ничуть не мешало моей практиче ской научной работе. Однако постепенно ограничения, накладываемые им на понимание самого предмета истории культуры, становились для меня всё более различимыми. И это в свою очередь делало возможным и необходимым анализ моих собственных имплицитных познаватель ных предпосылок, оказывавшихся теперь абсолютно нетерпимыми для меня.
Так что же конкретно не терпелось теперь мной? Да, в сущности, всё, начиная с главного — с исходного субъектнообъектного разбиения, пре допределяющего последующее осмысление познания преимущественно в качестве процесса установления, прокладывания связи между двумя эти ми изолированными и противостоящими друг другу данностями; причём не терпелось вне зависимости от всех возможных содержательных инте рпретаций самой связи.
Насколько я могу судить, учитывая в первую очередь свой собст венный опыт, необходимой предпосылкой переживания познания по типу S ∅ O является априорное редуцирование своего «я» до некоторой идеальной сущности. При этом, какими бы потенциями эта сущность ни наделялась (способностью ли к рациональному мышлению или, положим, к так называемому духовному вживанию), неизменным оста ётся одно — она всегда оказывается противоположенной плоти, кото рой в любом случае можно пренебречь в силу её несущественности для познания.
И вот, избавляясь от тела и тем самым сразу же и бесповоротно изымая себя из окружающего меня мира, я заменительно конструирую из всегда имеющегося под рукой живого материала некое существующее само по себе познающее устройство. Теперь это уже действительно субъ ект, который для реализации своих (тех или иных по содержанию) потен ций действительно должен вступать в соответствующую этим потенциям связь с миром, или, вернее сказать, даже не с миром, а с тем, что по необ ходимости остаётся от него в опыте, — с объектом, представляющим со бой значимую для познающего конструкта выборку из прежде окружав шего человека мира65. Иначе, то есть вне сконструированного таким обра зом события, «экзистировать» мой лишенец просто не в состоянии в силу бестелесной его природы.
Но откуда же берётся у меня это неизбывное желание обойтись без тела? Что постоянно подпитывает и делает для меня актуальной стародав нюю и закреплённую всей европейской культурой традицию негативного к нему отношения? Повод к этому даёт, несомненно, сама организация теоретического познания. Одним из важнейших её моментов действи тельно является отвлечение от чувственнотелесного предметного мира и переход в сферу абстрактного мышления, с необходимостью представля ющегося мне в интроспекции чисто вербальным. Здесь, в этой прикинув шейся словами субъективной реальности, я действительно приобретаю опыт отвлечённого (и соответственно — усечённого) «экзистирования», постоянно прозрачного для меня благодаря своему вербальному виду. И теперь именно этот опыт (опыт, подчёркиваю, мой собственный, бла гоприобретённый и к тому же ценимый мной чрезвычайно высоко) я са мым естественным и непроизвольным образом склонен проецировать на все виды человеческой деятельности. В результате частный и весьма спе цифический случай самосознающей и постоянно готовой дать о себе от чёт субъективной реальности приобретает для меня всеобщее значение. Опыт идеального «экзистирования» может уже мниться как «жизньпо преимуществу» и превращаться (по крайней мере, в тенденции) в универ сальное мерило человечности и человеческого бытия как такового.
А вот это уже грозит бедой. Ведь мой жизненный опыт подсказывает мне, что недомыслие и гордыня всегда идут под руку, одна другое допол няя. И вот поэтому в чисто терапевтических целях я и предложил своему телолишённому двойнику провести своеобразный мысленный экспери мент: а что произойдёт с ним, если всётаки вернуть мне моё собственное тело? Изменится ли скольконибудь существенным образом перспектива осмысления субъективности, если он всётаки будет принимать во внима ние мою, так сказать, родовую, умалишённую животную сущность и учи тывать, что я не только существо разумное, но, по крайней мере, ещё и движущееся и как таковое принадлежу миру животных?
Надо сказать, что добиться от него согласия на проведение подобно го эксперимента было делом нелёгким. Тут, очевидно, срабатывали есте ственные защитные механизмы моего бестелесного двойника, не могуще го не отстаивать своих неотъемлемых прав на «свободное экзистирова ние» в идеальном мире сознательных состояний, волений, целеполаганий и т. п. Любые ссылки на телесную интуицию по понятным причинам ни чего не значили для него и сразу же отметались. И только авторитет науч ных работ А. А. Ухтомского, Н. А. Бернштейна и Дж. Гибсона смог в кон це концов сдвинуть дело с мёртвой точки.
Итак, мысленный эксперимент моего двойникалишенца. Я же те перь только подопытное животное — не рациональное (иррациональное), говорящее (молчащее), общественное (одинокое) и т. п., а просто способ ное к перемещению животное (по необходимости позвоночное и, прошу прощения за очевидную несообразность, млекопитающее).
Я, как и каждое существо этого класса, в силу специфики присущих моему телу кинематических цепей буду обладать своими вполне опреде лёнными способностями для развёртывания двигательной активности. Но движение животного никогда не случается в нейтральном изотропном пространстве66. Напротив, оно всегда имеет место в качественно опреде лённом и топографически разнородном окружающем мире. Следователь но, говорить о возможностях тела в связи с движением имеет смысл толь ко потому, что сам окружающий мир как совокупность доступных мест пребывания также таит в себе самые разнообразные возможности, при чём разом для всех животных. Реализуя в данный момент и в данном мес те выборку из всех возможных для меня движений, как и любое животное, реализую одновременно и выборку соответствующих возможностей, пре доставляемых мне для этого окружающим меня миром.
В обобщённом и почти алгебраическом виде эта же мысль может быть выражена следующим образом: мир, окружающий животное А в месте Х, не будет тождественным окружающему миру животного В в том же самом месте Х, даже если различия между А и В касаются исключи тельно моторики. Это будут именно два различных мира, несмотря на аб солютную топографическую идентичность предметной среды в месте Х. И это уже будут два различных явления модальной реальности, в которой возможности, предоставляемые окружающим миром, сразу же представ лены как возможности тела. Субъективный мир, возникающий на уровне моторнотопологических схем действий, это и есть мир обоюдно согласо ванных и соответственно вырожденных возможностей.
Если попытаться графически передать эту мысль, обозначив возмож ности вектором и сосредоточив преимущественное внимание на факте их координации, то получится приблизительно следующее:
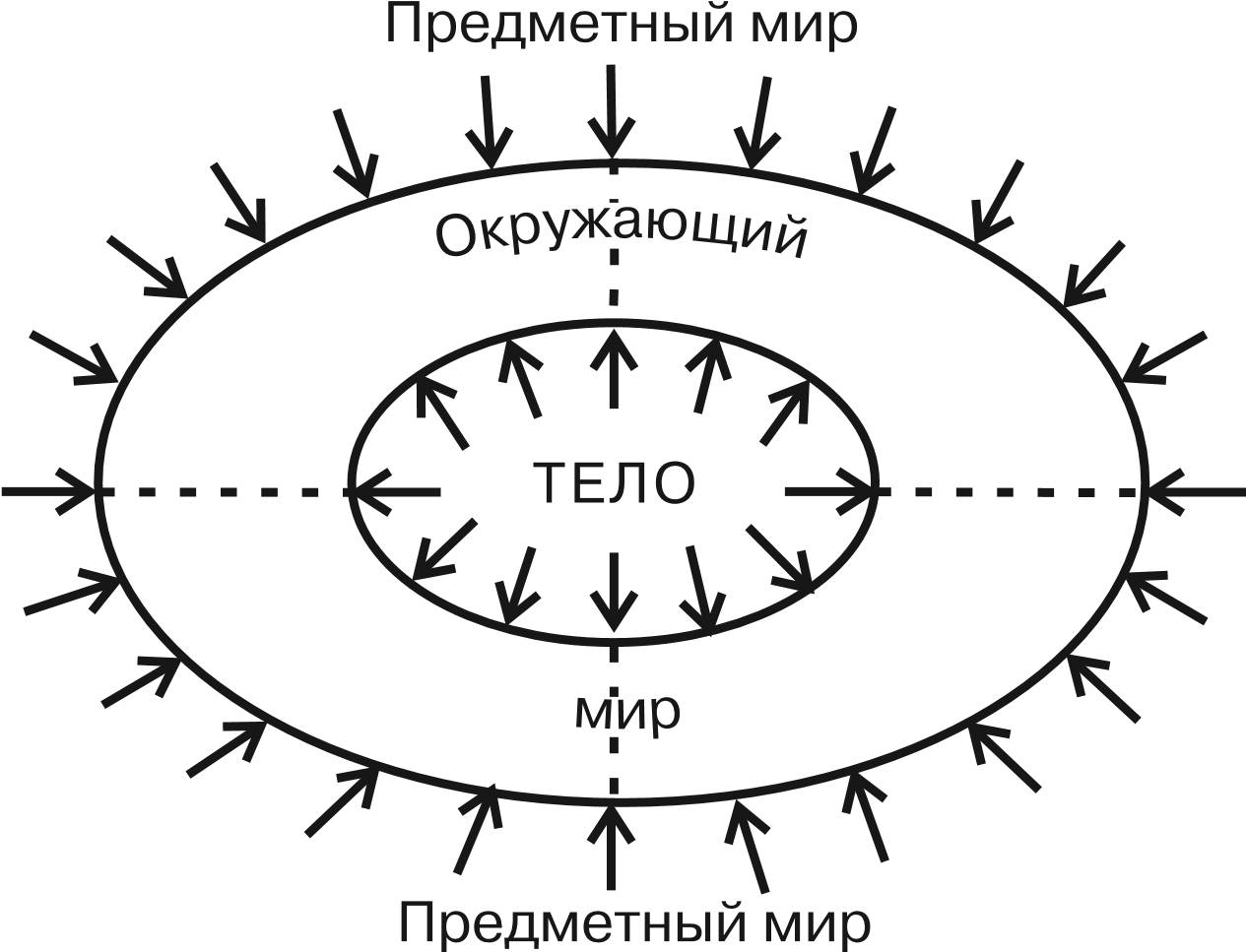
Схемку эту можно рассматривать промежуточным итогом мысленно го изолирующего эксперимента, поставленного моим бестелесным двой ником. Нетрудно заметить, что она сразу же ставит под сомнение все его прежние претензии выдавать свою собственную реальность сознаваемых волений за субъективное как таковое. В то же время она формирует прин ципиально иную перспективу осмысления человеческой субъективности, высвечивая ряд новых существенных моментов.
Мы сошлись с ним на том, что исходным пунктом его дальнейших рассуждений должно бы стать то очевидное обстоятельство, что человек с самого рождения встроен (так или иначе) в окружающий его мир и что из начально мы имеем, следовательно, не две изолированные и предшеству ющие опыту данности, а именно субъектнообъектное единство со своей особой и всегда уникальной морфологией.
Вот в этой связи я и предложил своему двойнику продумать другое условие, абсолютно необходимое для того, чтобы внешний мир превра тился бы для меня в окружающий. Я посоветовал ему учесть, что я не только животное, способное к развёртыванию двигательной активности, но ещё воспринимающее соответствующие возможности для этого. И тут сразу же выяснилось, что его логически допустимый вывод о наличии субъектнообъектного единства находит своё прямое подтверждение в том экспериментально установленном факте, что любая экстероцептив ная система человека является по сути своей проприоцептивной67. Я как телесное образование не имею, видимо, никакой информации о возмож ностях, предоставляемых мне внешним миром, которая сразу же не была бы сопряжена с информацией о возможностях моего собственного тела.
Психофизиологические эксперименты показывают, что элиминиро вание проприоцептивной составляющей решительно препятствует эксте роцепции68. И, наоборот, последовательное исключение экстероцепции оборачивается существенными и очень показательными деформациями в области проприоцепции. Когда испытуемый оказывается в ситуации рез ко выраженной сенсорной недостаточности, требуется совсем немного времени для того, чтобы он перестал различать себя в окружающем мире; ощущение отграниченной самости у него просто рассеивается, распреде ляясь по всему пространству69.
Таким образом, непредоставление внешним миром возможностей оборачивается невозможностью его превращения в окружающий и при водит к невозможности отстроиться от него какой бы то ни было опреде лённо локализованной самости. Но всё дело как раз и заключается в том, что в регулярных обстоятельствах он постоянно предоставляет мне такие возможности, трансформируясь в субъективную реальность окружающе го меня мира.
Посмотрим с этой точки зрения на функции наших дальнобойных телерецепторов. Проприоцептивное их значение, как правило, не прини мается во внимание, вследствие чего все суждения на этот счёт страдают крайней односторонностью и отражают лишь половину всего процесса. Обычно просто утверждается, что телерецепторы позволяют локализовать объект в пространстве. Но мыто уже договорились, что все рецепторно кинестезические события развёртываются не в абсолютном пространстве с абсолютной системой отсчёта, а в окружающем нас и потому всегда от носительном мире. Я не только локализую в нём предметы, но и сам ло кализуюсь относительно них. И только благодаря этому я как средоточие предоставляемых данными предметами возможностей действительно на чинаю иметь место — в центре окружающего теперь меня мира, причём место всегда уникальное в силу как топографической уникальности каж дого местопребывания, так и уникальности моей телесной конституции.
Но поскольку события такого рода никогда не прерываются, образуя собой преемственную череду, это всегда уникальное средоточие будет от личаться также динамической устойчивостью во времени. Оно оказывает ся инвариантом всех постоянно сменяющих друг друга рецепторных со бытий, сопровождающих мою двигательную активность.
Иными словами, соответствующая моей родовой, животной, сущ ности субъективная реальность, которую я посоветовал своему двойнику принять за отправной пункт рассуждения, уже обладает вполне опреде лённой и устойчивой в своей преемственности пространственновремен ной морфологией. Будучи хронотопической по своей сути, последняя ха рактеризуется:
– выраженным структурным центром, имеющим место в точке пересечения (интеграции и координации) возможностей, воплощающих ре зультат прошлых перемещений;
– ближним пространством так называемого «эгоцентричного пузыря», в котором наличествующие «здесь и сейчас» возможности по преиму ществу актуализируются;
— и периферией отложенных, будущих, возможностей, связанных с
предыдущими посредством потенциальной локомоции.
Из всего вышесказанного следует, что субъект (по крайней мере, на уровне животного, каковым в данном случае являюсь я сам) не есть иде альная субстанциональная данность, изначально противостоящая объек тивному внешнему миру и наделённая способностью удваивать его, по добно зеркалу, порождая при этом квазипредметную образную реаль ность. Нельзя, как мне думается, видеть в нём и статичный, конечный ре зультат некоторого процесса становления этой отражающей способности. Скорее, конституирование субъекта как отдельной и определённой са мости следовало бы рассматривать лишь постоянно возобновляющимся процессом структуризации модальной реальности, характеризующейся своей особой пространственновременной морфологией. Постоянно ре генерирующий и наследующий сам себе субъект имеет место быть лишь по стольку, поскольку предметный мир, постоянно предоставляя возможнос ти для развёртывания двигательной активности и трансформируясь таким образом в окружающий, непрерывно задаёт и определяет его место в нём.
И вот здесь я просто вынужден был прервать моего бестелесного двойника, по натуре своей склонного к спекуляции и являющегося в этом отношении моей прямой противоположностью. Я пока совсем не уверен, что его мысленный эксперимент, зашедший, на мой взгляд, чересчур да леко, не есть привычная для его ума интеллектуальная игра словами. Тем не менее я уже признателен ему за то, что сейчас, возвращая себе слово, а вместе с ним и мою видовую, человеческую, сущность, я в состоянии бо лее или менее артикулированно различить своё собственное субъективно телесное, животное начало.
Вопреки моим прежним убеждениям я с полным основанием могу теперь утверждать, что окружающий меня мир начинает значить для меня до всякой его вербальной категоризации. Модальная реальность значе нийвозможностей, соответствующая моей родовой субъектности, конс титуируется без посредства каких бы то ни было языковых средств. И тот факт, что она практически никогда не является мне в интроспекции, во все не отменяет этот пласт субъективности и не делает его неактуальным для меня.
Ведь, став вновь человеком, я продолжаю, к примеру, совершать мно жество локомоторных актов, настоятельно требующих от меня постоян ной координации (причём именно на доречевом уровне) моих телесных возможностей с возможностями, предоставляемыми окружающим меня миром. И хотя иной раз мне и случается выпадать из него (положим, в состоянии глубокого опьянения или столь же глубокого западения в себя по поводу целиком захватившей меня мысли) и даже удаётся (по крайней мере, удавалось до сих пор) пережить эту потенциально опасную ситуа цию без скольконибудь ощутимых потерь, тем не менее не может быть никаких сомнений в том, что подобная координация остаётся необходи мым и непременным условием моего человеческого бытия.
Именно остаётся, поскольку в моей жизни, как и в жизни каждого человека, был период, когда я ещё не владел словом и моя самость могла реализоваться лишь на уровне родовой субъектности. Появившись на бе лый свет, я вовсе не стремился с лихорадочной поспешностью неофита к объективному отражению мира. Напротив, моя самость только начинала постепенно конституироваться с этого момента, и начинала по мере того, как этот мир превращался в окружающий со всеми присущими ему струк турообразующими, центростремительными интенциями. Феноменологи чески этот начальный этап становления моей самости как раз и выражал ся в овладении двигательными возможностями собственного тела в их не посредственной соотнесённости и согласованности с возможностями но вой внеутробной среды.
Так какой же внешний мир я застал (и застаю, как правило, до сих пор), который только и обладает уникальной потенцией превращаться в мир, окружающий именно человека? Очевидно, что он радикально от личается от естественноживотного, по крайней мере, в двух отношениях. В нём явно доминируют искусственные предметы, специально подогнан ные под мои двигательнорецепторные возможности, и, кроме того, в нём регулярно появляются существа, адекватно пользующиеся данными предметами и способные к речевой артикуляции. Понятно, что этот мир предоставляет очень специфические возможности, что в свою очередь не может не сказываться на видовой субъектности человека.
Начнём с искусственных предметов, имея в виду прежде всего те из них, которые подпадают под нашу компетенцию с самого детства. В демон страционных целях, чтобы яснее проступил эффект подогнанности, воспользуемся хорошо всем знакомым по практической жизни стулом.
Стул даёт мне возможность сесть на него — просто в силу того, что его устройство заранее рассчитано именно на это функциональное упот ребление. Казалось бы, точно такую же возможность он предоставляет, положим, и собаке. Однако, несмотря на внешнее подобие ситуаций, это будут два совершенно различных по своим последствиям и по своему зна чению события.
Для собаки, если отвлечься от изменения кругозора (и всего, что свя зано с этим), сидение на стуле в принципе ничем не отличается от сиде ния на земле — и стул, и земля не дифференцированы относительное её позы. Напротив, для меня сидение на стуле есть строго маркированное событие, состоящее в том, что члены моего тела занимают по отношению друг к другу вполне определённую позицию с характерным распределени ем нагрузки. Это особое положение, задаваемое и подтверждаемое каж дым конкретным стулом, фиксируется моими проприоцептивными меха низмами. И уже здесь, на уровне проприоцепции, происходит их обобще ние, то есть извлекается тот самый моторнотопологический инвариант, связанный с распределением нагрузки, угловыми смещениями суставов и т. п., который образует для меня обобщённое значение стула и позво ляет мне адекватно пользоваться им, помимо всяких словесных его опре делений и несмотря на все возможные различия его внешних форм.
Так что же такое стул по самой его «искусственной» сути? Если учесть факт его специальной подогнанности под человеческое тело, то есть в ко нечном счёте учесть его социальную природу, то окажется, что он и есть моя собственная, отдифференцированная, опредмеченная и вынесенная вовне возможность. Стул просто особым образом обозначает её для меня (как и для всех остальных людей, где он в заводе), являясь её веществен ным, предметным знаком.
Подчёркиваю, не я обозначаю стул, прибегая к какимто внешним и посторонним символам, а, скорее, он сам обозначает меня, регулярно от сылая к моей конкретной и маркированной им самим телеснодвигатель ной возможности. Оказываясь элементом окружающего меня мира, он уже изначально обладает совершенно определённой, центростремитель ной, или эгоцентричной, интенцией, которая может проясниться для ме ня не в сфере вербальных инструкций, а лишь в ходе его практического, функционального употребления. И этим вещественным знаком, имею щим вполне устойчивое и фиксированное значение, я могу уже манипу лировать (в буквальном смысле этого слова), порождая новые синтагмы опредмеченных возможностей непосредственно в момент преобразова ния внешней среды. Поскольку стул, помимо сидения, рассчитан ещё и на перемещение (он не прикреплён к полу и относительно лёгок), я в со стоянии, положим, придвинуть его к столу и сесть не только на стул, но одновременно ещё и за стол.
Естественно, что всё это в принципе не актуально для собаки, и в первую очередь потому, что стул имеет для неё лишь диффузное, ситуаци онное значение. Стул просто не может приобрести в данном случае зна ковый характер, поскольку он, предоставляя ей возможность сесть, не фиксирует с однозначной необходимостью эту возможность и остаётся, по сути дела, неспецифическим, не выделенным относительно неё. Судя по всему, мир, окружающий собаку (как и любое другое млекопитающее земной поверхности), — это и есть своеобразный мир значений без зна ков, мир не опосредованных артефактами возможностей, постоянно диф фузных, ситуационно текучих и предметно не закреплённых; мир, пред полагающий, скорее, извлечение уже имеющихся возможностей и поиск новых за счёт локомоций, чем активное их порождение. И в этом своём качестве он с полной определённостью противостоит человеческому как знаковому по преимуществу и потому изначально допускающему своё ак тивное преобразование (хотя бы даже на уровне комбинаторики опредме ченных возможностей).
Итак, анализ феномена подогнанности, распространимый в принци пе на все артефакты в целом, — а я просто не вижу оснований, препят ствующих подобной генерализации70, — позволяет сделать важнейший в методологическом отношении вывод. Внешняя искусственная и социаль ная по своей сути предметная среда, которую я застаю с момента рожде ния, уже сама по себе и ещё до всякой речи обладает выраженной потен цией превращаться в мир, окружающий именно человека, то есть сущест ва, чья видовая субъектность неразрывно связана с его знаковой компе тенцией.
Постоянное наличие в распоряжении ребёнка знаковартефактов, опосредующих его внутренние телеснодвигательные возможности и в то же время неизменно отсылающие к ним, уже приводит к преодолению ти пичной даже для высшего животного связанности с перцептивными по лями ситуационной действительности. Манипулируя вслед за взрослыми этими опредмеченными и отчуждёнными возможностями и перестраивая таким образом исходную оптическиактуальную ситуацию, приводя её в соответствие со своими аффективными побуждениями, ребёнок тем са мым начинает сразу же подчинять своей власти сам процесс реагирования и в результате уже на этой стадии развития достигает, как правило, недо ступной для животного произвольности в своём активном отношении к внешней среде.
Но если это так, если об активном овладении собственным поведе нием можно говорить начиная с самой предметной деятельности челове ка, если согласиться с тем, что последняя имеет непосредственно знако вый характер и не по какимлибо привходящим обстоятельствам, а по своему существу; если учесть к тому же, что сами знаки в данном слу чае представляют собой опредмеченные и вынесенные вовне возможнос ти и что, следовательно, им изначально присуща обратная, центростре мительная интенция, однозначно связующая их с обобщённым значени ем, формирующимся прежде всего на биодинамическом уровне проприо цепции, если, повторяю, учесть всё это, то перспектива дальнейшего осмысления видовой субъектности человека меняется самым кардиналь ным образом.
В центре оказывается не проблема поэтапной интериоризации дея тельности (куда уж глубже интериоризировать?!) или её идеального отоб ражения (как будто она когданибудь была чемто внешним и будто бы уже до опыта имелся некто, наделённый способностью к объективному её отражению), но, напротив, проблема отвлечения, абстрагирования чело века и от неё самой, и от предметов, а значит, и от самого себя, от своих собственных рецепторнодвигательных возможностей, то есть того само го отвлечения, которое только намечается в раннем детстве в процессе манипулирования знакамиартефактами, но своей предельной интенсив ности достигает лишь в тот момент, когда человек полностью изымает се бя из окружающего его предметноситуационного мира и, положим, по следовательно редуцирует своё «Я» до абсолютно бесплотного и идеально «экзистирующего» субъекта.
жении благодаря захвату они могут непосредственно включаться в схему тела человека, фиксируя и одновременно обозначая моторнотопологический инвариант предметной операции.
Между двумя этими точками пролегает целая эпоха развития, в кото рой ключевую роль начинают играть слова — знаки совершенно особой природы и, главное, принципиально иной интенциональной направлен ности. Но прежде чем непосредственно обратиться к сигнификативной специфике слова, имеет смысл рассмотреть сначала самые общие исход ные мотивы, побуждающие ребёнка к речевой деятельности. И вот в этой то связи вновь вернёмся к фундаментальным особенностям внешней вне утробной среды, чреватой видовой субъектностью человека.
Как уже говорилось ранее, эта среда помимо искусственных предме тов предполагает ещё наличие взрослых особей, умеющих пользоваться ими и способных к их речевой артикуляции. Наряду с артефактами взрос лые (и прежде всего мать как аффективно маркированная среди них) так же предоставляют ребёнку возможности, правда, возможности совершен но особого рода: посредством звуковых сигналов взрослыми можно мани пулировать, производя их руками потребные в данный момент измене ния во внешней среде. И эта таящаяся во взрослых уникальная возмож ность — быть послушными (буквально послушными) орудиями — акту ализируется и раскрывается ребёнком благодаря не предметным, а, ско рее, сигнальным действиям.
Последние образуют как бы второй план поведения, относительно независимый от предметного, но в то же время в известном смысле экви валентный ему. Ведь в конечном счёте оба эти типа действий ориентиро ваны на удовлетворение собственных потребностей ребёнка, и, что важно подчеркнуть, он сам на своём собственном опыте довольно скоро убежда ется в их эквивалентности. Нагляднее всего об этом свидетельствует дет ский каприз, когда ребёнок не может или не хочет сделать чтото сам и всем своим видом (крича, плача и т. п.) сигнализирует взрослому, чтобы тот совершил потребные ему изменения во внешней среде.
Естественно, что постепенное овладение поведением взрослых пос редством сигнальных звуков точно так же, как и овладение собственным поведением посредством «эгоцентричных», «центростремительных» по своей интенции знаковартефактов, начинается задолго до употребления слов, фактически с самого рождения. И на всём протяжении этого доре чевого периода сигнальная деятельность ребёнка остаётся, как правило, лишённой знаковой функции, а знаковая (то есть предметноманипуля ционная) — сигнальной. Регулярное же и последовательное их совмеще ние в одном действии как раз и составляет суть того переворота, который отмечен активным употреблением слова. В слове пересекаются обе линии развития и обе функции, и с этого момента во всё возрастающей степени начинает актуализироваться другая возможность, предоставляемая ре бёнку взрослыми, — возможность речевого сотрудничества с ними и ар тикулированного взаимопонимания.
Таким образом, слово оказывается в зоне ближайшего развития ре бёнка только постольку, поскольку формирование обоих типов действий, предметнознакового и сигнального, в принципе уже состоялось, и лишь при том непременном условии, что так или иначе, но их относительная эквивалентность прояснилась для него в достаточной мере.
Отсюда с необходимостью следует, что слова, хотя они и приходят к ребёнку со стороны, не совсем посторонни ему по значению. Утвержде ние, что единственной сферой формирования значений слов у ребёнка является сфера его речевого сотрудничества со взрослыми, что только в процессе их взаимопонимания комплекс определённых звуков приобрета ет определённое значение и что ребёнок пассивно следует за речью взрос лых, усваивая уже установленные и данные ему в готовом виде конкретные значения слов, — отражает, по всей видимости, лишь одну сторону вопроса.
На этом приходится настаивать, учитывая непосредственно знако вый характер самой предметной деятельности. Сказать, что взаимопони мание достигается за счёт того, что слово ребёнка и взрослого просто пересекается на одном и том же предмете, — значит пройти только поло вину пути. За сходной предметной отнесённостью слов у них будут изна чально скрываться сходные предметные значения, которые сформирова лись непосредственно на уровне предметных действий в виде сходных (благодаря морфологическому подобию человека вне зависимости от воз раста) проприоцептивных инвариантов.
Слово действительно отсылает к предмету, и в этом смысле оно как бы объективно. Но всё дело в том, что сам предмет, будучи знаком с пря мо противоположной, «центростремительной», направленностью, отсы лает его обратно — к зафиксированной и обозначенной им самим телес нодвигательной возможности. Цикл таким образом замыкается, и слово, опосредуясь предметом и оставаясь, по сути дела, вполне эгоцентричным, тем не менее делает достижимым взаимопонимание ребёнка и взрослого, образуя основу их дальнейшего сотрудничества.
Разумеется, значение словесных знаков конституируется не только в связи с их предметной отнесённостью. В данном случае я просто хочу об ратить внимание на то, что абсолютное разведение и противопоставление двух функций слова — индикативной и сигнификативной — представля ется не вполне оправданным. Если учесть знаковую природу предметной деятельности, речевое сотрудничество со взрослыми должно рассматри ваться не единственной, но ещё одной областью формирования значе ний, надстраивающейся над предметной и в то же время резко отличаю щейся от неё. Именно здесь намечается преодоление первородной эгоце нтричности слова, что, в свою очередь, решающим образом сказывается на всём последующем психологическом развитии ребёнка с характерным для него нарастанием произвольности в отношении окружающего пред метного мира.
Становление языковой компетенции ребёнка приводит к трансфор мации и усложнению смысловой структуры слова. Теперь оно может зна чить не только в силу своей предметной, но и словесной отнесённости. По мере вхождения слова (и соответственно его невхождения) в конкрет ные речевые синтагмы и парадигмы, усвояемые ребёнком вслед за взрос лыми, оно начинает ожидать и предполагать не только сам предмет, уже обладающий определённым значением проприоцептивного свойства, но и другие слова, входящие наряду с ним в различного рода высказывания71. И вот этито обоюдные «ожидания» и «предполагания», все эти принци пиально новые интенции, обнаруживая в живой речи разную степень интенсивности и изначально конституируясь за пределами непосред ственной предметной отнесённости, образуют в своей совокупности иерархически упорядоченную и динамически устойчивую смысловую структуру — то самое вербальное значение слова, или вербальное поня тие, в котором снимается (по крайней мере, потенциально) его былая эго центрическая направленность.
С этого момента вербальное и предметное значения слова составля ют как бы два полюса его смыслового единства, причём единства крайне противоречивого, допускающего внутри себя постоянное перемещение акцентов и заключающего возможность дальнейшего развития.
С большой долей уверенности можно предполагать, что предметное значение слова, являясь его наиболее устойчивой смысловой зоной, хотя бы косвенным образом, но всё же будет до некоторой степени задавать пределы вариативности вербальных значений, а тем самым и внешние контуры, и внутреннее строение его семантического поля. Можно также утверждать, что в психологической истории ребёнка характер отношения между двумя полюсами значения слова не остаётся неизменным — дина мика его развития отмечена постепенной эмансипацией вербальных зна чений и их отвлечением от предметных. Не вызывает, однако, сомнений и то обстоятельство, что, несмотря на очевидное нарастание подобной отвлечённости и эмансипации, именно предметная составляющая смыс лового целого слова в первую очередь обеспечивает адекватное его ис пользование в речи ребёнка. Вплоть до школьного возраста слово продол жает работать с непременной опорой на своё предметное значение72; лишь оно одно схватывается ребёнком и подпадает под его более или менее произвольный контроль, тогда как уже имеющееся у него вербальное зна чение, спонтанно включаясь в речевую деятельность, тем не менее прак тически всегда ускользает от его внимания и оказывается вне сферы его актуальной произвольности73.
Радикально положение дел меняется только в школе, когда спонтан ный процесс формирования вербальных значений замещается (а точнее, дополняется) целенаправленным их заданием с использованием фор мальных словесных определений. Только теперь, когда ученик начинает сталкиваться с задачами, чьё смысловое поле предельно автономно и в принципе не зависит от какоголибо предметноситуационного контекс та, вербальное значение слова в действительности может (а для успешно го решения задачи и должно) окончательно эмансипироваться, достигнув стадии чисто абстрактного понятия, которым можно оперировать, совер шенно отвлекаясь от предметного значения слова74.
С этого времени и причём в непосредственной связи с регулярным столкновением ребёнка с познавательными задачами теоретического ти па, аналогов которым в его прошлом вообще не было, впервые создаются условия, при которых в полной мере могут быть реализованы возможнос ти, предоставляемые словом для овладения собственным поведением.
Отныне слово действительно позволяет ребёнку переориентировать своё внимание с отношений между предметами, означенными словами, на отношения между вербальными понятиями, полностью отвлечёнными от соответствующих им в смысловой структуре слова предметных значе ний. Но само отвлечение в данном случае не может по своей психологи ческой сути быть не чем иным, как полным отвлечением ребёнка от окру жающего его предметноситуационного и эгоцентричного мира или, что, в сущности, то же, от самого себя.
Оперируя абстрактными (в указанном смысле) вербальными поняти ями, ребёнок впервые размыкает прежнюю циклическую структуру сло весного знака и преодолевает таким образом его былую эгоцентрическую направленность, обусловленную, как мы видели выше, проприоцептив ной природой предметного значения. Заучивая школьные определения и решая стандартные школьные задачи, он опирается не на личный жи тейский опыт, от которого как раз и должно отвлечься, а прежде всего на объективносистемные и эксплицитно явленные ему отношения между вербальными понятиями.
Внешне всё выглядит так, что ребёнок в процессе школьного обуче ния просто приобретает неведомые ему прежде знания и умения: вот он, положим, не знал, что такое существительное или прилагательное, а те перь знает и умеет опознавать их. Однако на деле мы сталкиваемся с чем то совсем иным, не связанным напрямую с содержанием транслируемого знания. Ребёнок спонтанно научается абстрагироваться от своего чувственнотелесного, предметноситуационного, житейского опыта, и это отвлечение от своего эмпирического эго, становясь необходимым ус ловием успешного решения школьных задач, само по себе конституирует у него качественно новое в организационном смысле субъективное пси хологическое пространство, чреватое принципиально новыми возмож ностями его освоения.
Закономерным и в то же время совершенно не запланированным итогом регулярно практикуемого в школе отвлечения оказывается потеря ребёнком своей естественной и непроизвольной встроенности в окружа ющий его мир и соответственно рождающееся ощущение проблематич ности своего места в нём. Но, потеряв в непосредственности, он безмер но выигрывает в другом отношении. Лишь благодаря этой потере ребёнок впервые приобретает возможность найти и более или менее произвольно самоопределить себя в качественно новой субъективной реальности. Ведь операция абстрагирования просто изначально предполагает обратную
дилось ощущение фундаментального непонимания всего решения задачи, проведённого, подчёркиваю, им же самим.
процедуру. Теперь это становится вопросом времени, когда именно отвле чение от своего эмпирического эго обернётся для ученика последователь ным возвращением к себе в вербальной интроспекции, являющейся конституирующим моментом так называемого подросткового кризиса75.
В переходном возрасте субъективное пространство в принципе пе рестаёт совпадать с непроизвольноцентростремительной и как бы од ноплановой реальностью окружающего мира. Помимо последней оно на чинает вбирать и ту стороннюю по отношению к ней позицию, с которой ведётся самоанализ и выносится самооценка. И уже внутри этого форми руемого ауторефлексией двухполюсного пространства, оказывающегося изоморфным семантическому пространству слова с составляющими его зонами предметного и вербального значений, только и может, положим, поместиться совершенно неуместный для жизни вопрос о её смысле76; только оно позволяет подростку превратиться в «существо нравственное», измеряющее себя наличествующими моральными нормами и способное, если надобно, приступить к работе над собой подобно тому, как он прис тупает к работе над ошибками после неудачно написанной им школьной контрольной.
Во всех этих и им подобных случаях будет актуализироваться одна и та же возможность произвольного отношения к себе, к своему собствен ному эмпирическому эго, обрастающему вследствие интроспекции новой плотью вербальных значений. Не имея определённого окружающим миром места, это словесно оплотняющееся Я тем не менее начинает иметь его, но пока только в качестве подлежащего ауторефлексивных высказываний, становясь местом отнесения и приурочения соответству ющих предикатов; местом, подчёркиваю, не естественным и спонтан ным, как бы заранее предуготовленным эгоцентрическими интенциями окружающего мира, а ещё только подлежащим более или менее созна тельному и эксплицитному определению в мире общезначимых вербаль ных значений.
Устойчивая тенденция к предикации Я, которую обнаруживают по нятия в период подросткового кризиса, не обходятся для них без послед ствий. По мере того как субъект, самоопределяясь, начинает иметь среди них место (в качестве местоимения первого лица), они постепенно теря ют свою безличную общезначимость и структурно оформляются относи тельно последнего. В результате мир, образуемый ими, получает некото рое сходство с окружающим, по крайней мере, в том, что касается общей для них центростремительной направленности; в нём явно формируется ядро личностных смыслов, составленных понятиями первостепенной для самоопределения значимости, которые в силу конкретных жизненных обстоятельств подростка (часто совершенно внешних и случайных) с на ибольшей интенсивностью и вероятностью стали «поджидать» и «предпо лагать» его Я ауторефлексивных высказываний. Но поскольку эти «ядер ные» понятия продолжают сохранять все свои прежние связи с другими, те, в свою очередь, также приобретают значимость, правда, в данном слу чае косвенную и опосредованную, что, однако, никак не мешает им вой ти наряду с первыми в ту же иерархически упорядоченную структуру лич ностных смыслов, распределяясь внутри неё в соответствии со степенью их опосредования и в прямой зависимости от интенсивности их «ожида ния» всё более оплотняющегося вербального Я.
Начинающаяся с переходного возраста трансформация общезначи мых и обезличенных вербальных понятий (как они являются, положим, в школьных учебниках) в предицирующие личность смыслы может в прин ципе коснуться любых из них — даже самых формализованных, не имею щих вроде бы никакого касательства к субъекту и тем не менее достаточ но эффективно и причём уже совершенно непроизвольным образом (минуя стадию осознания) определяющих его индивидуальные склоннос ти и предрасположенности. Я хочу подчеркнуть это чрезвычайно важное для дальнейшего изложения обстоятельство, заключающееся в том, что более или менее сознательное и произвольное самоопределение в мире общезначимых вербальных понятий, если оно получает достаточно силь ное аффективное подкрепление, приводит к совершенно неподконтроль ным и не фиксируемым непосредственно в интроспекции последствиям, которые могут сказываться где угодно и, в частности, в стиле и предмет ной ориентации мышления человека.
Вот пример из моего собственного подросткового опыта. Будучи старшеклассником, я в какойто момент мнил себя физиком, как до это го палеонтологом, зоологом, поэтом, живописцем и т. д. Но сейчас я фи зик и, примериваясь к увлёкшей меня физике, решаю задачи, особенно по полюбившейся мне динамике, выискивая их, как это было принято тогда, в многочисленных задачниках повышенной трудности. Школьное определение массы как количества вещества, плохо вписываясь в систему физических понятий, скоро перестаёт удовлетворять меня. В литературе нахожу другое и делаю для себя маленькое открытие: массато, оказыва ется, это коэффициент инерции! И тут же разом всё становится на свои места (и моё Я в какойто степени тоже), да так складно, что и теперь, по прошествии более тридцати лет, когда забыты практически все школьные физические определения, именно это осталось в памяти в полной сохран ности и живости.
«Почему?» — спросите вы. Да потому, что этот вроде бы абсолютно формальный коэффициент инерции определил не только массу, но опо средованно, в три шага (Я ♥ физик × масса ♥ коэффициент инерции) и меня самого, получив личностнопредицирующий и вследствие этого принципиально незабываемый смысл. И уже этот смысл и по сие время, хотя я и не стал физиком, спонтанно и совершенно непроизвольным об разом провоцирует во мне постоянный интерес к идее движения, разви тия, истории и т. п.; именно он обусловливает, надеюсь, уже очевидную для читателя склонность к употреблению в этой связи динамических (от др.греч. дюнамис — сила, возможность, значение) терминов и делает за ранее неприемлемыми для меня принципиально антидиахронические ис следования, например структуралистского толка, внешнюю красоту кото рых и изящность построений я, положим, ещё в состоянии оценить, сде лав над собой некоторое усилие, но и не более того.
Ничего специфически подросткового в самом факте превращения общезначимых вербальных понятий в предицирующие личность смыслы я в данном случае не вижу. Этот процесс просто начинает наиболее актив но заявлять о себе в переходном возрасте, но при благоприятных обстоя тельствах может в сущности своей длиться до скончания дней. И если о специфике всё же можно вести здесь разговор, то, скорее, как о некото рой тенденции. В период подросткового кризиса, когда вопрос о своём месте в мире становится уже уместным, но само оно пока весьма пробле матично, преобладает, скорее, отвлечённое самоопределение, в котором «всё позволено» — любое о себе сказывание и любой ответ, на поверку, одна ко, оказывающийся чаще всего подсказкой, и к тому же книжной. С воз растом, когда автопредикация сцепляется с делом, ставящим человека на своё место (если, конечно, это вообще случается), прежде актуальные, «ядер ные» личностные смыслы теряют в той или иной степени свою непосред ственную значимость и отходят на второй план в ожидании подходящего случая сказаться гделибо самым непредсказуемым образом, а доминиро вать в иерархическом отношении начинают новые самоопределения, уже напрямую связанные с делом, и в первую очередь профессиональным.
Коль скоро разговор зашёл о профессии, есть повод вернуться к на чалу моих исповедальных заметок и заново взглянуть на то парадоксаль ное положение, в котором оказывается вместе со своим делом научный работник. Вдохновляясь стремлением к объективной верифицируемости и реализуя в этой связи возможность произвольного к себе отношения, он с помощью метода, являющегося, по сути дела, алгоритмом построения познающего субъекта, изготавливает из себя лишённого всякой индиви дуальности двойника, воплощающего систему конкретнодисциплинар ных норм и правил и способного «экзистировать» исключительно в сфере общезначимых вербальных понятий.
Для конституирования научного опыта, взятого в его специфической определённости (как он сложился с Нового времени), роль этого форма лизованного продукта самоотчуждения трудно переоценить. Помимо упомянутого ранее редукционистского (и, замечу, абсолютно необходи мого для существа науки) представления мира в качестве объекта он обес печивает также возможность стороннего методического контроля за рабо той и внесение в неё поправок в случае уклонения от нормативных правил. Подчас складывается впечатление, что в предельном варианте человек во обще самоустраняется из опыта и целиком отдаётся в распоряжение это му постоянно прозрачному для себя логизирующему автомату, который шаг за шагом выстраивает за него научную теорию, последовательно связывая и определяя одно за другим соответствующие общезначимые понятия.
Картинка, надо признаться, выходит не больно приглядной и своей бесчеловечностью просто провоцирует на антисциентистские повизги вания. Но весь вопрос в том, насколько верна она. Действительно ли на учная теория бытует лишь в плоскости безличных, объективносистем ных значений и не имеет никакого касательства к явлению человеческой индивидуальности? Разумеется, нет. Потенциально научная теория имеет место быть, даже когда она совсем ещё не прояснилась для самого учёно го и уж тем более до всякого её перевода на отчуждённый язык общезна чимых вербальных понятий; её порождение практически всегда заранее обусловлено наличием конкретной и принципиально невоспроизводи мой структуры личностных смыслов, которые ещё до всякой эксплика ции связи между ними уже в какойто мере «ожидают» и спонтанно «предполагают» друг друга, одновременно предицируя Я научного работ ника, причём самым неоднозначным образом. Устранению этой тягост ной неоднозначности (если, конечно, удаётся ухватить конфликтную не совместимость существенных для профессионального дела опосредован ных предикатов) как раз и содействует научная теория посредством поня тийной фиксации определённой выборки из потенциально огромного числа возможных в данной структуре связей.
Для прояснения этой мысли вновь воспользуюсь простеньким при мером из своего собственного опыта. Как уже говорилось выше, моё под ростковое самоопределение в качестве физика хотя и отошло давно на второй план, продолжает тем не менее сказываться в «ожиданиях» следу ющего вида: Я ♥ (физик) × движение ♥ динамика ♥ возможность. Про фессиональное же становление меня как историка, сопровождавшееся усвоением соответствующего категориального аппарата, привело к иной опосредованной предикации: Я ♥ историк × движение ♥ развитие ♥ причина. На протяжении двух десятков лет конфликтность этих самооп ределений, и прежде всего в их последней части, совершенно не ощуща лась мной. Но сейчас я вижу, что с самого начала я спонтанно работал в парадигме возможности, а на осознаваемом уровне пытался отвечать на вопросы, возникающие в парадигме причины. Абсолютно непроизволь ное прояснение этой несообразности (послужившее, кстати сказать, ис ходным импульсом к написанию настоящих заметок) привело к частич ному изменению структуры значимых для меня неявных предикатов, ко торую, если снять генетический момент, можно было бы представить, ви димо, так:
возможность
Я
непричина
Это совсем не значит, что отныне проблема детерминации развития стала для меня вообще неактуальной. Она просто переместилась в другую область, предполагая выявление закономерностей формирования целого спектра возможных событий, из которых реально случается лишь ограни ченная выборка; соответственно понятие случая перестало выпадать из объяснительного инструментария и оказалось вполне для меня уместной и убедительной категорией, рождающей ощущение самодостаточного в таком контексте и полноценного понимания.
Не думаю, что мой случай представляет собой чтото уникальное. Напротив, научная теория, будучи объективно направлена на определе ние мира, поразному, но в конечном счёте практически всегда замыкает ся на самом учёном, определяя так или иначе его собственное местоиме ние. И именно этот модус её бытия, лежащий вне пределов какой бы то ни было общезначимости, объясняет, на мой взгляд, имманентно присущий развитию науки драматический и по своей сути иррациональный консер ватизм. Ведь теорию, которая действительно предицирует личность учё ного (пусть и неявным образом), в предельном случае просто невозможно опровергнуть ни фактами, ни расчётами, ни логическими доводами, по скольку опровергать бы надо, в сущности, то, что по определению не под лежит опровержению, — не теория с её объективносистемными значени ями, как она является в текстах, а определившуюся посредством неё лич ность, которая в силу понятного и неизбежного стремления к сохранению своей преемственности, скорее всего, будет отводить любые доводы и иг норировать любые противоречащие теории факты77.
Таким образом, суть дела, которое своим безусловным требованием рациональности и объективной верифицируемости сразу же ставит науч ного работника на своё место, заключается вовсе не в том, что он, реали зуя возможность произвольного к себе отношения, начинает фабриковать с помощью методаинструмента безличного и целиком прозрачного для себя «субъекта научного познания», способного лишь к тривиальному «экзистированию» по заранее размеренным правилам конкретной дис циплины, а именно в том, что эта абсолютно необходимая для конститу ирования для научного опыта процедура помимо всякой воли оборачива ется спонтанной актуализацией всей структуры личностных смыслов, всех ускользающих от любой контрольной инспекции опосредованных самоопределений, обеспечивающих принципиальную возможность со вершения вроде бы «неправильных», но совершенно естественных для него и непроизвольных ходов, приводящих, если, конечно, повезёт, к не тривиальной и могущей стать общезначимой теории, допускающей свою объективную проверку.
Честно признаюсь, весь наш предшествующий разговор, в ходе кото рого я сначала подверг себя последовательной деконструкции, войдя предварительно в положение животного, чтобы затем приступить к свое образной самосборке, целенаправленно взращивая себя с самого момен та рождения и вплоть до нынешнего состояния научного работника, в значительной своей части выходит за пределы моей непосредственной профессиональной компетенции. Без стороннего «родовспомогающего» содействия физиологов и психологов мне в данном случае было бы реши тельно не обойтись. И такую неоценимую и неотложную, хотя и заочную помощь в этом совершенно непривычном для меня деле помимо уже упо мянутых ранее Алексея Алексеевича Ухтомского, Николая Александрови ча Бернштейна и Джеймса Гибсона оказал мне также Лев Семёнович Выготский, отдельные наставления которого я подчас и ставил выше под сомнение, пытаясь в определённом смысле оспорить их1, но всё же, надеюсь, не до такой степени, чтобы не была вполне очевидна моя пря мая задолженность перед ним, и прежде всего в связи с разрабатывавшей ся им (особенно в последних работах по патопсихологии) проблемой отвлечения человека от окружающего его предметноситуационного ми ра и соответственно произвольного отношения к нему. И вот сейчас в раз витие и завершение этой темы, озадачившись вопросом по поводу преде лов указанной произвольности (насколько, вообще говоря, человек дей ствительно волен в ней и в какой мере он, «волящий», прозрачен для само го себя), я попытаюсь наметить конкретнодисциплинарную область уже своих собственных профессиональных занятий как историка культуры.
Если бросить ретроспективный взгляд на проведённый выше анализ, то нетрудно заметить, что решение этой задачи можно считать уже прак тически состоявшимся, и мне остаётся лишь более отчётливо выписать его алгоритм. Начну, однако, с того, что сам человек, как это ни парадок сально, вовсе не волен в своей произвольности. Никто, положим, не «во лит» свой подростковый кризис, но раз уж он случается, одновременно с ним случается (причём, подчеркиваю, самым непроизвольным образом) и наша способность к произвольному к себе отношению — способность самостоятельно выстраивать ауторефлексивную позицию, самостоятель но самоопределяться в мире общезначимых вербальных понятий, зада вать представляющиеся нам вековечными «экзистенциальные» вопросы и т. п. Более того, мы уже не в состоянии время от времени не задавать по добных вопросов и склонны видеть в них проявление неизменной и уни версальной, собственно человеческой природы, а факт их отсутствия не вольно расценивать как свидетельство неполноценности, недоразвитости или деградации индивида.
Если же мы ненароком посчитаем, что принципиально вольны хотя бы в содержательной части наших ответов, то, видимо, опять ошибёмся и вновь не менее радикально. Нам кажется естественным и не подлежащим сомнению, что это именно мы, свободно волящие, с присущим нам раз махом мысли и безоглядной решимостью ставим «экзистенциальные» вопросы в надежде проникнуть в тайности человеческого бытия. Но так ли это на самом деле? Ведь свобода нашего воления всегда ограничена тем безусловным обстоятельством, что мы изначально вынуждены конкретно самоопределяться в до и помимо нас уже состоявшемся мире общезначи мых вербальных понятий, которые предоставляют нам пусть и широкий, но всегда определённый в содержательном отношении спектр возможных автопредикаций. Внутри него только и могут иметь место наши прямые и опосредованные самоопределения, которые в скрытом от нас виде уже бу дут содержать все возможные в сложившейся структуре личностных смыслов потенциальные ответы, предшествующие любому эксплицитно
1 Прежде всего это касается трактовки индикативного значения слова, которое в этой функции отсылает, по моему разумению, не просто к предмету, а в конечном счёте — к маркируемой им телеснодвигательной возможности человека.
му и волевому вопрошанию, провоцирующие и мотивирующие постанов ку именно этих, наших собственных, но отнюдь не универсальных вопро сов и как бы заранее предопределяющие наиболее вероятную содержа тельную интенцию последних.
Я вовсе не хочу сказать, что разговор об универсалиях в этой связи лишён всякого смысла. Не надо только до опыта постулировать их нали чие и, исходя из собственных предрасположенностей, решать, в чём именно состоят они; следовало бы всётаки принимать во внимание, что волнующие нас вопросы небезразличны нам в силу нашей же собствен ной личностной определённости и, стало быть, неизбежной и фундамен тальной ограниченности. Сам же опыт в таком случае как раз и должен бы заключаться в выявлении пределов нашей произвольности, чтобы, по крайней мере, не путать действительный размах мысли с размахом болта ющегося в полости рта языка, могущего своей болтовнёй предоставить свободу, скорее всего, лишь безответственному в своей беспредметности слову, какой бы внешне ответственный и глубокомысленный вид оно по рой ни принимало.
Положительная исследовательская программа, предлагаемая далее к обсуждению, вытекает из существа нашего разговора и основывается на изложенном ранее понимании человеческой субъектности. Здесь (если ограничиться сейчас рассмотрением культур «теоретического», «зрячего» типа) достаточно вспомнить, что наше автономное Я, отвлечённое от ок ружающей нас предметноситуационной реальности, имеет место быть в той мере, в какой оно, конкретно определяясь в мире наличных вербаль ных понятий, начинает иметь среди них своё место в качестве местоиме ния первого лица ауторефлексивных высказываний. Трансформация об щезначимых и объективированных в текстах понятий в предицирующие личность смыслы означает, что теперь помимо обоюдного «ожидания» все они прямо или косвенно чтото сказывают о нашем Я, одновременно ска зываясь на наших индивидуальных возможностях в их конкретной содер жательной определённости.
Учтём, однако, что сказываться они могут самым непредсказуемым образом, что делает в принципе бессмысленной (хотя бы по этим сообра жениям) попытку исчисления человеческой индивидуальности. Иначе, видимо, обстоит дело в связи с пределами, ограничивающими область принципиально возможных автопредикаций. Можно заранее ожидать, что в разных обществах она будет иметь свои конкретные очертания, и, кроме того, в ней всегда, в каждом отдельном случае должна бы иметься некоторая наиболее устойчивая и чаще всего актуализирующаяся смыс ловая зона, обеспечивающая то самое относительное единство сообщест ва, которое только и делает возможным появление в нём конфликтующих между собой точек зрения, подходов, мнений, суждений, оценок и т. п.
И вот здесьто, когда наш разговор начинает разворачиваться в сторону содержательной специфики той или иной системы общезначимых вер бальных понятий, я сразу же испытываю нехватку терминов и впервые ощущаю потребность ввести в оборот понятие культуры.
Как можно легко догадаться, оно не будет обладать никакой оценоч ной интенцией таким образом, чтобы антонимически противостоять «бездуховности», «нигилизму», «антикультуре» и т. п. Не будет оно трак товаться и как «совокупность текстов и механизмов их трансляции», что также стало достаточно распространённым в гуманитарных исследова ниях. Скорее и ближе всего понятие культуры будет значимо для меня в силу своего прямого указания на наличие в обществе конкретной по сво ему содержанию и структуре понятийной системы, внутри и благода ря которой становится возможным индивидуальное самоопределение человека — единственного, кто способен, в сущности, дать жизнь и цен ностям, и нормам, и правилам, и текстам, и даже «механизмам трансляции текстов».
В первом приближении эту систему можно описать как определённо го рода тезаурус — как набор имеющихся в наличии понятий, определяю щих содержательную специфику каждой конкретной культуры. В более строгом и артикулированном виде с учётом структурного и функциональ ного моментов её можно было бы представить в качестве непроявленно го, потенциального текста, в котором все понятия благодаря присущим им семантическим связям изначально «ожидают» и «предполагают» друг друга с разной степенью вероятности. Актуализация одного из них затра гивает в пределе всю систему отношений, обусловливая с разной интен сивностью возможность совершения тех или иных мыслительных ходов, а тем самым и внутреннюю логику развёртывания повествования — выбор и сцепление тем, понятий, образов и т. п. Важно при этом подчеркнуть, что потенциальный текст как система более или менее устойчивых «ожи даний» уже содержит в себе все в принципе возможные, но никогда в пол ной мере нереализуемые высказывания культуры.
Разумеется, данное определение имеет самый предварительный и ориентировочный характер и требует внесения целого ряда дополнитель ных уточнений, два из которых могут быть сделаны сразу же.
Вопервых, образующие потенциальный текст культуры семантиче ские связи принципиально гетерогенны. Слова могут вступать друг с дру гом в отношения обоюдного «ожидания» по самым различным поводам и на самых различных уровнях человеческой субъектности, начиная с вер бальнологического и кончая уровнем моторной топологии78. Необходимо к тому же учитывать, что даже самые абстрактные и отвлечённые от телес ного эго понятия, не имеющие вроде бы никакого предметного значения, нередко обнаруживают чрезвычайно показательную тенденцию к вторич ному проецированию в биодинамическую чувственную ткань, сохраняя таким образом следы своего первородного «плотского» греха79.
И вовторых, категория потенциального текста приложима ко всем культурам, как «незрячим» (или «симпрактическим»), так и «зрячим» (или «теоретическим»), то есть вне зависимости от того, наличествуют ли в об ществе отвлечённые от практики смысловые поля, ставящие перед чело веком познавательные задачи, аналогичные по своей структуре школь ным, или нет. Различие между ними заключается, по сути дела, в том, что в культурах «теоретического» типа, которые, как я полагаю, стали форми роваться с эпохи древности, становится возможной произвольная и вне ситуационная автопредикация, нефиксируемая в так называемых бес письменных, традиционных обществах. Но именно поэтому в случае «те оретической» культуры можно попытаться уловить её содержательное своеобразие и далеко не всегда очевидную целостность, выявив семанти ческое ядро потенциального текста, составляющее инвариантную для данной культуры область самоопределений индивида. Надеюсь, два конк ретных примера, предваряющих более обстоятельный разговор о культуре древней Индии, прояснят эту мысль и более наглядно продемонстрируют её инструментальнометодологический характер.
В античной Греции классического периода ауторефлексивное Я ин дивида с наибольшей вероятностью стало «ожидать» понятие полиса и родственные с ним. В этом отношении общеизвестная максима Аристоте ля «Человек — животное полисное» является лишь одной из самых оче видных актуализаций этой потенции. Спрашивается, возможно ли появ ление в том же потенциальном тексте прямо противоположных высказы ваний «нигилистического» толка, которые явным образом отрицали бы первое? Ответ до опыта должен быть безусловно положительным, и кини ческое определение человека как существа космополитического лишь объективное тому свидетельство. Оба эти высказывания, несмотря на внешнюю их конфликтность и противостояние друг другу (как норма ан тинорме), проецируются в одну и ту же область автопредикации, внутри которой им соответствует общий инвариант: Я ♥ (человек) × полис80.
Более предметный разговор в продолжение этой темы потребовал бы расширить зону нашего анализа, подключив к рассмотрению предикации опосредованного свойства. Здесь прежде всего следовало бы принять во внимание те наиболее сильные «ожидания», которые окружали понятие полиса, и, в частности, учесть, что оно с исключительной интенсив ностью предполагало своё сцепление с логосом, а то, в свою очередь, с числом. Причём все вместе они образовывали устойчивую и уже достаточ но представительную область прямых и опосредованных автопредикаций индивида, являясь семантическим ядром потенциального текста древне греческой культуры, её важнейшим смысловым инвариантом. Реализовы ваться же он мог в самых разнообразных, подчас конфликтных и всётаки обладающих неизменным интенциональным единством версиях, сказы ваясь, помимо всего прочего, в своеобразном стиле мышления с характер ным для него переносом полисных представлений на устройство космоса, тела, души и т. д., а в отдельных случаях, как это прослеживается, поло жим, у Платона, даже в спонтанной увязке самой возможности позна ния (как, впрочем, и самопознания) со «справедливым» общественным устройством.
В отличие от классической античности, в древней Индии централь ную роль в структуризации потенциального текста культуры и формиро вании его семантического ядра стало играть понятие жертвоприношения (яджна). Человек поистине жертвоприношение — вот та формула, кото рая с завидным постоянством воспроизводится в брахманической прозе, а связанные с ней мотивы так или иначе пронизывают всю последующую поздне и послеведийскую ортодоксальную традицию. Уже одно простое перечисление понятий, образовывавших своими «ожиданиями» семанти ческое поле яджны — атман, брахма, карма и т. п., — позволяет почувство вать содержательное своеобразие древнеиндийской культуры, и особенно если прибавить к тому же, что в силу упомянутых ранее специфических особенностей местного ритуального опыта задача самоопределения чело века изначально (и со временем во всё большей степени), скорее, транс формировалась в сознательное отрицание его определённой чем бы то ни было самости.
В период так называемого «духовного кризиса», а по сути дела, прос то в начальный период нормальной и вполне естественной диверсифика ции «теоретической» культуры, наряду с ортодоксальными учениями Упа нишад, продолжавшими традицию брахманической прозы, стали появ ляться многочисленные неортодоксальные учения (в том числе буддизм и джайнизм), избиравшие негативную альтернативу, отрицая значимость ведийского ритуала жертвоприношения. Тем не менее, несмотря на всё отрицание, эти «диссидентские» версии в своём существе возникали на основе всё того же потенциального текста; вращаясь в круге экзистенци
тех, кто не принимал прямого участия в жизни общественных институтов, не будучи граж данином полиса (то есть рабов, женщин, детей и варваров).
альных проблем, латентно бытующих в нём, они конституировались в осознанном противостоянии ритуалистической версии, а тем самым уже совершенно непроизвольным образом определялись ею, будучи заданы как бы от «противного».
Сопоставление культур античной Греции и Индии показывает, что диверсификация каждой из них представляла собой развёртывание ком бинаторных возможностей содержательно определившегося потенциаль ного текста, ограничивавшего вариативность их частных проявлений и в то же время обеспечивавшего относительное единство последних. Эти же примеры позволяют продемонстрировать ещё одно чрезвычайно важное в методологическом отношении обстоятельство. Речь идёт о наличии суще ственной связи между потенциальным текстом культуры и теми конкрет ными возможностями, которые она открывает для познания.
Судя по всему, именно потенциальный текст, трансформируясь на уровне индивида в личностные смыслы, обусловливает вполне устойчи вые и характерные интенции познавательного опыта «зрячей», «теорети ческой» культуры, определяя в конечном счёте, а что вообще она в состо янии «увидеть» в этом мире (и притом в каком свете), а что, скорее всего, попадёт у неё в «слепое пятно», даже находясь прямо перед глазами. Ни какого отражательного автоматизма бихевиористского толка (по типу стимул — реакция) здесь просто не наблюдается. Напротив, всё говорит о том, что то, что может быть стимулом для культуры, непосредственно предопределяется её потенциальным текстом, который выступает важ нейшим внутренним мотивационным фактором, сказываясь, помимо всего прочего, в очертаниях предметного поля возможных позитивных описаний. Вот и сравним в этой связи, как обстоит дело с историческим знанием античной Греции и Индии, прояснив на частном примере моти вообразующую роль потенциального текста культуры.
Индологи приходят порой в замешательство изза отсутствия в их распоряжении скольконибудь надёжных и обстоятельных сведений по политической истории древней Индии. Факт отсутствия местных истори ческих источников, хотя бы в какойто степени приближающихся к текс там эллинской традиции, расценивается, как правило, с исключительно негативной точки зрения. Но само по себе отсутствие чеголибо в культу ре ведь тоже является значимым фактом, который так же характеризует её, как и положительные данности. Надо думать, что политических собы тий разного рода, которые ставили под сомнение безопасность человека, в древней Индии было ничуть не меньше, чем в той же Греции. И тем не менее в одном случае они как бы совсем проходят мимо культуры и вовсе не воспринимаются ею как значимые, а в другом, напротив, оказываются в фокусе внимания. Естественно, возникает вопрос: как это становится возможным, каким образом объективно вроде бы однородные события могли приобрести полярно противоположную значимость?
Ничего удивительного и неожиданного здесь в принципе для нас не будет, если мы учтём отмеченные ранее содержательные особенности по тенциального текста обеих культур. В античной Греции его семантическое ядро было непосредственно связано с понятием полиса, конституировав шим наиболее устойчивую зону прямых и опосредованных самоопределе ний индивида. Нормальное течение подобных автопредицирующих про цессов, обеспечивавших онтологическую уверенность и соответственно преемственность и сохранность индивидуального Я человека в его кон кретной (но отнюдь не универсальной) личностной определённости, мог ло иметь место лишь в случае постоянного воспроизведения всего уклада полисной жизни. С этой точки зрения проявление повышенного внима ния к истории оказывалось делом не только естественным, но в какомто смысле просто обязательным, поскольку исследование минувших поли тических событий (как и пристальное наблюдение за текущими) позволя ло судить о судьбе родного полиса и, стало быть, о самой возможности ре ализовать в будущем свою собственную человеческую природу, и причём именно в том виде, как она определилась в данном потенциальном текс те. В результате историческое исследование прошлого неизбежно приоб ретало актуальный и прогностический характер, перекликаясь по своим целям и методам с медицинской традицией (прежде всего Гиппократо вой), внутри которой учёт данных анамнеза и непосредственно наблюда емых врачом телесных изменений рассматривался залогом верного диаг ноза и возвращения больному его естественного здорового состояния.
Разумеется, никаких аналогий этому мы в древней Индии не сможем обнаружить. Самая представительная для культуры автопредикация ин дивида развёртывалась в данном случае по совершенно другому поводу; его Я конкретно определялось прежде всего понятием жертвоприноше ния, которое, образуя своими «ожиданиями» семантическое ядро древне индийского потенциального текста, задавало кардинально иную направ ленность наиболее ценимого здесь познавательного опыта. Его целью бы ло не привычное для европейской традиции приращение положительных сведений о мире, а достижение человеком особого изменённого состоя ния, при котором благодаря устранению какой бы то ни было субъектно объектной противопоставленности и затуханию дискурсивного мышле ния он мог пережить себя непосредственно совпадающим со всем миром. Реализация собственно человеческой природы, когда человеком по пре имуществу оказывается не гражданин (политес), а жертвователь (яджама на), по сути дела, уже не зависела от потока сменяющих друг друга поли тических событий, вследствие чего последние теряли в древней Индии свою непосредственную значимость и, оставаясь вне сферы действия ве дущих мотиваций культуры, просто не могли превратиться здесь в более или менее регулярный и самостоятельный объект описания.
Ещё раз повторю: все привлекаемые мной примеры имели чисто де монстрационный характер и преследовали в конечном счёте однуедин ственную цель — показать хотя бы самым предварительным образом, что построение предмета истории культуры на основе использования поня тия потенциального текста приводит к радикальному изменению всей ис следовательской проблематики. Актуальными теперь становятся такие вопросы: а каково содержание потенциального текста изучаемой культу ры? как и в результате чего он формируется? как становится возможным его изменение и развитие? каковы интенции связанного с ним познава тельного опыта? и т. п. Ряд подобных вопросов удвоится, если учесть, что культура самого исследователя также определяет его в его же собственных познавательных возможностях. В целом же их набирается такое необоз римое количество, и они так явственно расширяют горизонты нашего нынешнего незнания, что иногда просто диву даёшься, а подчас даже за крадывается сомнение — уж не являешься ты сам в своём оптимистически исследовательском порыве тем известным фольклорным дураком, кото рый мог задать их столько, что и десять мудрецов не в состоянии были от ветить. Рискуя усилить это подозрение и всё же надеясь не остаться вовсе в дураках, осмелюсь в заключение своих исповедальнометодологических заметок поставить ещё один, на этот раз непосредственно затрагивающий природу человеческого мышления.
Считается как бы само собой разумеющимся, что акт мышления со стоит прежде всего в прокладывании отношений между дискретными и изолированными вербальными понятиями и всё дело заключается в том, чтобы объяснить, каким образом это происходит. Ориентация исследова тельских задач резко изменится, если посмотреть на мышление сквозь призму потенциального текста и учесть, что структура личностных смыс лов конкретно определившегося индивида уже предполагает наличие ла тентных семантических связей, сформировавшихся на самых различных уровнях человеческой субъектности (вплоть до моторной) и обладающих мощнейшим внутренним мотивационным значением.
С этой (осознанно ограниченной) точки зрения состоявшаяся мысль, скорее, предстаёт итогом частичного их «вымораживания» за счёт не поддающегося никакому воображению числа степеней свободы, кото рым обладает наш разум, постоянно встроенный в телесную плоть. Буду чи крайне текучим и диффузным процессом непрерывно сменяющих друг друга комбинаций и рекомбинаций смысловых связей со множеством их побочных ответвлений, мышление, включая самое что ни на есть «рацио нальное», имеет, в сущности, неосознаваемую подоснову, менее всего проницаемую для любой контрольной инспекции. Относительное же его явление нашему Я, рождающее у нас состояние присваивающего созна ния и приводящее к волевой и контролируемой управляемости всем про цессом (естественно, в пределах самой общей его направленности), действительно становится возможным лишь благодаря слову, с необходи мостью снимающему глубинный, непроизвольнодинамический аспект мысли. Но, опредмечиваясь в словах, фиксирующих конкретную по содер
жанию выборку отношений, мысль только прикидывается прозрачной для нас, и именно в этой превращённой форме она входит в наше сознание, порождая как редукционистские иллюзии по поводу вербальности само го мышления, так и коррелирующие с ними представления бессознатель ного в качестве некоей особой и автономной сферы, дающей о себе знать лишь в «иррациональных» проявлениях человеческой субъектности.
Перечитывая сейчас свои предварительные заметки по поводу мето дологии культурноисторического исследования и возвращаясь к их за главию, мне кажется, что исповедь моя (как исповедь субъекта научного познания, попытавшегося вернуть себе телесную плоть, сохранив при этом методологию в качестве своеобразного аналога человеческой совес ти) хотя бы отчасти, но всётаки состоялась. Насколько было в моих си лах, я стремился выявить свои собственные предвзятости и предрасполо женности, определяющие и, стало быть, ограничивающие предметное поле в принципе возможных для меня научных исследований. Как бы ни разнились они далее своей предметной направленностью, все они будут теперь покоиться на однойединственной методологической посылке, заставляющей видеть в любом актуальном тексте культуры событие, слу чившееся в её потенциальном тексте. С этой (осознанно ограниченной) точки зрения проблема реконструкции конкретного историкокультурно го контекста, решаемая обычно посредством перечисления более или ме нее правдоподобных внешних «факторов», как раз и будет сводиться к ре конструкции всё того же содержательно определившегося потенциально го текста, внутри которого стало возможным появление анализируемого.
«Но в чём же можно найти здесь утешение, если методология по оп ределению ограничивает тебя?!» — воскликнет недоумевающий читатель, привыкший вслед за К. Юнгом прямотаки вздрагивать при одном толь ко слове «установка», «методология» и т. п.
«В смирении, — отвечу я, — перед фактом фундаментальной ограни ченности самой человеческой природы и ещё в предчувствии того, что на иболее вероятной альтернативой утешающему «утишению», скорее всего, окажется самонадеянная и высокомерная глупость, проистекающая из неразличения этой ограниченности». Надо бы только добавить, что моё смирение никоим образом не связано с какимлибо пессимистическим настроем, поскольку никогда, видимо, не смогу отделаться от ощущения, что сознающая себя ограниченность вроде бы уже и не совсем является той всецело непроизвольной и ограниченной ограниченностью, какой она была прежде, когда мнила себя совершенно свободной хотя бы в собственных мыслях.
Подготовил Алексей Нилогов
НАТАН СОЛОДУХО
Понимание онтологического статуса небытия81
Натан Моисеевич Солодухо (род. 1952) — современный русский философ небы тия. Основные области философского исследования: онтология, метафизика, фило софские вопросы научного познания, методология, содержание общенаучного знания. Разработал общенаучный гомогенногетерогенный познавательный подход в позна нии, сравнимый со структурным или функциональным подходами; сформулировал основные принципы и положения интегративнообщенаучной области — гомогете рогеники. Исследовал вопросы методологии современной географии: проблему геогра фической формы движения материи, выдвинул единую теорию географического поля, разработал геоситуационную концепцию (совместно с географами КГУ) и др. Сфор мулировал междисциплинарную концепцию «Всеобщей экологии», объединяющую природную экологию, экологию человека, социальную экологию и экологию культуры на основе экологической философии. Выдвинул идею о существовании экологического архетипа, предшествующего экологическому сознанию. Предложил общенаучную концепцию ситуационного подхода в познании и обосновал её манифестом ситуаци онного движения. Разработал теорию «философии небытия» согласно которой мир предстаёт как взаимосвязанное единство бытия и небытия; сформулировал основ ные законы и принципы этой теории; предложил и разносторонне аргументировал модель возникновения бытия из небытия (понимая последнее как онтологическую неопределённость), характеристики небытия как абсолюта, механизмы переходов небытие—бытие, бытие—небытие. Внедрил в учебный процесс «проблему соотноше ния бытия—небытия» в качестве исходной философской проблемы.
Хотя небытие преследует нас по пятам, грозит нам разрушением и смертью, о небытии мы почти ничего не знаем. Существует мнение, что небытие скрыто от чувственного и интеллектуального взора.
Чем же замещается незнание небытия? Прежде всего религиозной верой и мифологией. Земное небытие трактуется как вечная загробная жизнь или как мифическое царство мёртвых — Аид. Философия и наука дают знание о бытии, при этом диапазон науки уже, но результаты её точ нее. О небытии же, о ничто философия ещё пытается чтото говорить, а наука вообще молчит. Мартин Хайдеггер точно подметил: «О Ничто на ука ничего знать не хочет» [1: 16].
Европейская философская традиция, идущая от Парменида («Есть бытие, а небытия вовсе нету» [2: 295]), отказывает небытию в онтологи ческом статусе, в лучшем случае — признаёт гносеологическую значи мость категорий «небытие» и «ничто». Сам же Парменид утверждал, что путь, направленный на познание небытия, знанья не даёт: «Не допускай свою мысль к такому пути изысканья. Небытия ни познать… не сможешь, ни в слове выразить» [2: 295]. Но такая «философия бытия» не даёт ответа на вопрос, откуда всё есть, откуда само бытие, из чего происходит реаль ное существование.
В отличие от этого «философия небытия» пытается дать свой ответ на этот вопрос: мир бытия понимается как гигантская флуктуация в онтоло гически неопределённом океане небытия [3]. Другая версия: бытие возника ет как результат собственного отрицания или аннигиляции небытия. Бы тие есть самоуничтожение Ничто. Или: Бытие есть самоуничтожающееся Ничто. Но и обратно: самоуничтожение, аннигиляция бытия приводит к небытию, к ничто [4].
«Философия небытия» — это в целом новая для европейцев философ ская парадигма, восточной же культуре она более близка: индуистское великое растворение мира и его проявление — День и Ночь Брамы; без звучные, невидимые, глубочайшие врата рождения мира — Дао у китай цев. «Философия небытия» предлагает нетрадиционный взгляд на мир в целом, рисует непривычную картину мироздания. Она как философское учение кардинальным образом меняет устоявшееся мировоззрение, в ко тором центральное место занимает бытие и его проявления. Взамен тако му миропониманию «философия небытия» предлагает совсем иное — за исходный пункт, за точку мирового отсчёта она берёт не бытие, а его про тивоположность — небытие. Именно не бытие, как это считается в подав ляющем большинстве философских систем, а небытие выступает осново полагающей, исходной философской категорией в предлагаемом учении. В этом принципиальный отход от сложившейся в истории философии традиции. Даже в тех философских системах, где так или иначе использо вались понятия небытия, несущего, ничто и т. п., они не являлись осно вополагающими, а служили дополнением, прибавлением, противополож ностью к центральным понятиям бытия, сущего, существования и т. п. Это касается и Демокрита, и Платона, и Аристотеля… и Гегеля, и Сартра. Правда, есть некоторые исключения из общего правила, скажем, средне вековый философ и теолог Экхарт.
Бытие или небытие: с чего берёт своё начало мир? Этот вопрос дол жен быть признан исходным философским вопросом [5: 7–10]. Бытие в са мом общем виде, по определению, есть существование как таковое. Не бытие — несуществование вообще. Эти крайне абстрактные определения бытия и небытия должны быть дополнены: бытие — существование чего либо, небытие отсутствие конкретного существования. Так всё же: небы тие есть или его нет? Если небытия нет, то его нет совсем. Если оно есть, то следует выяснить его реальность, пределы существования и возмож ности понимания.
Признавая, что небытие есть, тем самым признаётся, что небытие существует. (Как существует — это уже другой вопрос.) Следовательно, бытие (существование) имманентно присутствует в небытии, которое есть. В таком случае бытие — момент небытия. В небытии есть зародыш бытия. В противном случае следует отказаться от рассмотрения проблемы существования абсолютного небытия, так как без бытия к нему не остаёт ся подхода.
Гегель, анализируя проблему единства бытия и ничто (проблему ста новления), признаёт существование ничто (а через ничто и — небытия); он говорит: «Ничто, взятое в своей непосредственности, оказывается су щим, ибо по своей природе оно то же самое, что и бытие. Мы мыслим ничто, представляем его себе, говорим о нём; стало быть, оно есть» [6: 162]. И здесь Гегель уточняет, о каком существовании идёт речь: «Нич то имеет своё бытие в мышлении, представлении и т. д.» [6: 162], то есть оно существует субъективно. А далее он делает вывод по поводу ничто: «Не оно есть, не ему, как таковому, присуще бытие, а лишь мышление или представление есть это бытие» [6: 162]. Ничто, по Гегелю, связано, сопри касается с некоторым бытием, неотделимо от него, находится в некото ром наличном бытии.
У Гегеля много остроумных замечаний по поводу взаимосвязи, взаи мопроникновения, совпадения бытия и ничто, и всё же за исходную кате горию этой диалектической пары в своей философской системе он берёт бытие. Правда, у него есть и оговорки типа: «Недозволительно, стало быть, говорить: ничто — основание бытия или бытие основание ничто…»
[6: 164].
Могут сказать: поскольку бытие — это всё существующее, а небытие, которое есть, также существует, то небытие — часть всего существующе го, то есть часть бытия. Следовательно, бытие, включающее в себя суще ствующее небытие, шире и основательнее небытия.
Такого рода рассуждения не могут считаться удовлетворительными, поскольку небытие есть отрицание, отсутствие бытия, реального сущест вования чеголибо, а потому существующее небытие не только включает ся в то, что существует в качестве бытия и связано с ним, но и исключает ся из него. К тому же было бы правильным говорить о том, что бытие есть отрицание небытия, его отсутствие.
Всё может начинаться с самого простого и неразвитого, в пределе — с ничего. Таковым является чистое небытие. Это абсолютное начало все го сущего. Бытие как отрицательность есть несуществование небытия (небытие небытия — в трактовке А. Н. Чанышева [7: 160]). Следователь но, бытие включает в себя несуществование как момент отношения к сво ей противоположности — небытию.
Парадокс существования несуществующего обнаруживается уже у античных философов. Так, ещё в V веке до н. э. у Демокрита атомы («че го») — это «существующее», а пустота («ничего») — «несуществующее». Однако, как отмечают комментаторы (Аристотель, Асклепий, Александр и др.), у Левкиппа и Демокрита пустота не менее существующая (реаль на), чем атомы. Пустота (пустое пространство) не только условие движе ния атомов, и пустота и атомы — первосущности (первоосновы) всех тел. Причём Аристотель и атомы, и пустоту называет материальными причи нами существующего. В учении Демокрита, в отличие от элеатов, тела не являются сплошными, они пористые: образованы из атомов и пустоты — промежутков, пустот между атомами (внутренняя пустота), или пор (как их называет Эмпедокл). При этом Александр, ссылаясь на Аристотеля, говорит, что, согласно Демокриту, атомы и пустота существуют в равной мере в каждой части чувственно воспринимаемых вещей [8: 251].
Александр, комментируя «Метафизику», обращает внимание на то, что уже Аристотель, повидимому, указывает на противоречивость точки зрения Демокрита. С одной стороны, Демокрит принимает, вопервых, что никакая вещь не может возникнуть из ничего и, вовторых, что пусто та нечто несуществующее. Однако, с другой стороны, он утверждает, что «всё возникающее не в меньшей мере состоит и возникает из пустоты, чем из полного» [8: 266]. В этом случае, как видно, Демокрит допускает воз можность возникновения телесного из несуществующего.
Итак, небытие содержит в себе момент бытия, поскольку небытие су ществует. А бытие содержит в себе момент небытия, так как не существу ет в качестве небытия. Отсюда мы имеем бытийное существование (бы тийное бытие) и небытийное существование (небытийное бытие). К это му надо добавить рассмотрение вопроса о бытийном несуществовании (бытийном небытии) и небытийном несуществовании (небытийном не бытии). Как видим, небытие и бытие диалектически сращены, но каково их реальное соотношение — вопрос чрезвычайно сложный.
Начнём с того, что небытие подстилает бытие. В единстве небытия и бытия небытия гораздо (неизмеримо) больше, чем бытия. На каждую еди ницу бытия приходится бесконечное (минус один) количество единиц не бытия. Так, бытие конкретного нечто как такового в данном месте и в данное время означает небытие всего остального (безграничного много образия форм) в данном месте и в данное время.
Для уточнения понимания бытия и небытия можно использовать субъектный и предикативный подходы. Субъектное определение бытия будет следующим — существующая реальность; предикативное определе ние бытия — реально существующее. Соответственно субъектное опреде ление небытия — несуществующая реальность; предикативное определе ние небытия — реально несуществующее.
Если способ существования бытия — нечто, то способ существова ния небытия — ничто. При этом следует различать ничто предметное и ничто беспредметное. Ничто предметное имеет направленность на пред мет как таковой, на конкретный предмет бытия. Отсутствие последнего или его видоизменение приводит к предметному ничто. Ничто беспред метное не имеет ориентации на конкретный предмет бытия. Беспредмет ное ничто выражает отсутствие форм бытия вообще. Ничто предметное — из сферы относительного небытия. Ничто беспредметное — из сферы аб солютного небытия. И относительное, и абсолютное небытие оказывают ся реальными. В небытии заложен заряд миллиардов возможностей, из которых реализуется в бытии всегда лишь одна. Прошлое и будущее — в небытии, настоящее — бытийно. Если пространство и время принадлежат бытию, то бесконечность и вечность — достояние небытия.
Конкретное небытие имеет несобственное время — бытийное время. Временная система отсчёта относительного небытия заключена в реаль ных формах бытия. Собственное время абсолютного небытия — вечность. А потому небытие пребывает в безвременье. Абсолютное небытие есть всегда.
Конкретное небытие локализовано в несобственном, бытийном пространстве. То, чего ещё нет или уже нет, — нет вполне ощутимо для субъекта бытия. Особенно остро ощущается смерть — небытие близкого человека. Абсолютное небытие не имеет пространственной локализации. Собственное пространство абсолютного небытия — бесконечность. Абсо лютное небытие всюду в собственном пространстве — бесконечности и нигде в пространстве бытия. Абсолютное небытие — небытийная реаль ность. Оно реально не существует как бытие, но оно есть в качестве веч ности и бесконечности. Разговор о субстанциальном небытии — настоя щая метафизика. Это разговор о реально существующем сверхчувствен ном основании мира.
Конкретное небытие есть не между бытийными предметами: небы тие не пустоты, не пустота и пустое пространство, как это представлял Де
мокрит. Оно есть везде, с другой, обратной, «изнаночной» стороны бытия. Небытие — другой слой, незримо присутствующий за бытием, сопровож дающий бытие. Если быть ещё более точным, то бытие — это даже не осо бый слой, который расположен «за». Небытие «внутри» бытия, напол няет и пронизывает его. Это сущностное небытие имманентно бытию. Сущностное небытие обеспечивает возможность возникновения относи тельного небытия конкретных бытийных форм.
Бытие есть небытие прошлого и небытие будущего. Небытие — на стоящее прошлого и будущее настоящего. Выход из небытия и вхождение в небытие: для каждого предмета возможен лишь один выход из небытия и одно вхождение в небытие. Это закон перехода небытие—бытие—небы тие. В этом законе корень необратимости всех явлений. Из него вытекает однократность жизни каждого человека.
Таким образом, конкретные формы бытия имеют преходящий харак тер: всё, что имеет своё начало (а начало имеет всё), имеет и своё оконча ние. Всё из небытия приходит и в небытие уходит. Небытие есть в качест ве отсутствия. Есть вполне реально, есть онтологически. Абсолютное небытие запредельно, потусторонне, трансцендентно (по отношению к бытию), относительное небытие присутствует в форме отсутствия в фено менологически наблюдаемом бытии.
Подготовил Алексей Нилогов
Примечания
Хайдеггер М. Время и бытие. — М., 1993. — С. 16.
Парменид. О природе // Антология мировой философии. В 4 т. Т. 1. Философия древности и средневековья. Ч. 1. — М., 1969. — С. 295.
Солодухо Н. М. Небытийная основа Вселенной: флуктуационная концепция бытия // Космическое пространство в науке, философии и богословии: Ма териалы VII Международного семинара. — СПб., 1994. — С. 93–95.
Солодухо Н. М. Бытие и небытие как предельные основания мира // Вопросы философии. — М., 2001. — № 6. — С. 176–184.
Солодухо Н. М. Философия небытия. — Казань, 2002.
Гегель Г. Наука логики // Соч. В 3 т. Т. 1. — М., 1970.
Чанышев А. Н. Трактат о небытии // Вопросы философии. — М., 1990. —№ 10. — С. 158–165.
Лурье С. Я. Демокрит: Тексты, перевод, исследования. — Л., 1970.
АЛЕКСАНДР СОСЛАНД
Аттрактиванализ
АЛЕКСАНДР СОСЛАНД
Аттрактиванализ
Аттрактив$анализ (далее Аттран) — подход к анализу текста, разраба тываемый современным российским психологом и философом А. И. Сос ландом.
Принято считать как нечто само собой разумеющееся, что «нравить ся читателю» — это удел художественного текста. Философ, психолог, фи лолог как будто не ставят перед собой задачу понравиться читателю, по добно тому, как это делает беллетрист. Он формирует или транслирует на учные истины, ценность которых в их адекватности, научной обоснован ности, валидности, практической сподручности и пр. По некоему умолча нию принято считать, что эти роды письма не ставят перед собой специ ально задачу привлечь читателя чемто помимо содержательного аспекта. Тем не менее все прекрасно понимают, что помимо «рационального» со держательного аспекта таких текстов в них есть и иной пласт. Это некая пафосная оболочка, порой неявная, порой очевидная. Требуется опреде лённая аналитическая работа для реконструкции этого аспекта текстов. Если для беллетристики, вообще для «искусства», аспекты привлекатель ности давно и подробно разработаны, то для научного дискурса такой вопрос чаще всего не прорабатывается.
Отличие Аттрана от психоаналитического подхода заключается в том, что психоанализ ориентирован преимущественно на интерперсо нальные отношения, в то время как мы — на нарративный репрезентант изменённых состояний сознания (ИСС). Он обозначается А. И. Сослан дом как гедонистическитрансгредиентный нарратив (ГТН) и представ ляет собой некое повествование, связанное как с ИСС, так и с иными со стояниями, имеющими отношение к наслаждению, понимаемому в Ат тране как социальный конструкт, а не как физиологическое состояние.
Аттран не ориентирован на банальную аттрактивистику, связанную с заурядными требованиями к «качеству» научной литературы, логике построения текста, «стилистическим достоинствам», «ясности и эконом ности» в изложении и т. п.
Речь здесь идёт о двух разных повествовательных мирах, о нарративе, существующем в режиме принципа реальности (далее — НПР), и нарра тиве, существующем в режиме принципа удовольствия (далее ГТН). Это противопоставление отчасти проработано в психоаналитической тради ции, где, как известно, принцип удовольствия и принцип реальности — основные регулирующие полюса психики. НПР, как известно, склонен репрессировать ГТН.
НПР повествует о пространстве жёстко регламентированного мира производства материальных ценностей, мира, где главное заключается в отказе от гедонистической ориентации, рационализации всех аспектов существования. В этом мире этический императив сужает наше жизнен ное пространство, подчиняет время жёсткому режиму. Персонажи в таком повествовательном режиме в значительной степени вынуждены отказать ся от претензий на собственную неповторимость, автономию. В НПР тон задаётся производственной необходимостью, регламентом, принуждени ем, репрессией, напряжением, достижениями, рефлективностью, ответ ственностью, легитимностью. Особенно отчётливо эта картина мира представлена в протестантском мировосприятии, как его преподносит нам М. Вебер в своих исследованиях.
ГТН повествует о пространстве, существующем в значительной сте пени параллельно, порой вторгающемся в НПР, но ориентирующемся на собственный режим, собственные законы функционирования. Тон зада ётся здесь гедонистической ориентацией, игрой, ИСС, нарциссической игрой.
Аттрактивность отслеживается здесь по текстам, принадлежащим вроде бы к пространству НПР, на самом деле несущим в себе признаки ГТН. Аттрактивность существует на границе между этими двумя мирами. Интересным является не столько ГТН сам по себе, но его пограничные области, смешанные состояния, анклавы на «чужой» территории. Иначе говоря, литература, проходящая по ведомству науки, оказывается насы щенной элементами гедонистического порядка.
Аттрактивность, по замыслу А. И. Сосланда, ориентирована на текс ты, принадлежащие вроде бы к пространству НПР, на самом деле несущие в себе множество признаков ГТН, и в этом самый важный теоретический сюжет Аттрана. Иначе говоря, речь идёт о том, что у текстов, созданных в режиме принципа реальности, существует скрытый пласт, связанный с принципом удовольствия.
Контрамодус. ГТН всегда имеет в виду некое обстоятельство, которо му себя противопоставляет. Растворяясь в наслаждениях, мы ни на миг не упускаем из виду того, в пику чему эти наслаждения себя преподносят. «Вопреки чему, против чего, кому назло наслаждаемся?!» — этот вопрос встроен в самую сердцевину наслаждения, и ответ на него может прояс нить очень многое в сущности ГТН.
Основной контрамодус есть обыденнотрудовое пространство суще ствования, производящее нарративы принципа реальности (НПР), сфор мированные обстоятельствами долга, обязанностей, регламента, отчёт ности, контроля. Гедонистическое формируется как оппозиция всему этому делу посредством обесценивания НПР. Элементы НПР соответ ственно снабжаются характеристиками вроде «банальное», «скучное», «пресное».
Аллективность (от лат. allecto — приманивать, привлекать). Сущест вует также привлекательность, связанная с НПР. Если аттрактивность связана с гедонистической ориентацией, то аллективность сформирована совсем иным, в значительной степени противоположным режимом.
Этот режим, как уже было сказано, определяемый напряжением, достижениями, рефлективностью, легитимностью, создаёт свои преиму щества. Это преимущества утилитарного порядка, соображения «поль зы», «валидности», «надёжности» и пр.
Аттрактивистские аллюзии (далее — аттраллюзии) — это каналы, которые связывают два мира, находящихся «по ту и по эту сторону прин ципа удовольствия». Они означивают дистанцию по отношению к их кор релятам и репрезентируют концептуальные связи гуманитарного текста с теми или иными локусами ГТН. Аттраллюзии — это элементы дискурса, выводящие повествование за рамки рационально выстроенного, регла ментированного порядка повседневной репрессивной реальности.
Пронативное. Один из аспектов Аттрана обозначен нами как прона тивный (от лат. pronativus — связанный с рождением). Пронативная прив лекательность объединяет в себе такие концепты, как ностальгия и иден тичность, первичность и естественность. Этот концепт вводит нас в свое образную ситуацию сравнительного анализа, где мы сравниваем разные тексты, формы жизни и прочее с точки зрения того, что в большей степе ни смотрится как «родное». Пронативные сравнения всегда в пользу есте ственного перед искусственным, подлинного перед наносным, детского перед чемто позднейшим, древнего перед новым, исконного перед от чуждённым. Пронативная привлекательность лежит, помимо всего про чего, в основании почвеннического, консервативного дискурса, где мы легко можем встретить и аксиологически негативные коннотации, напри мер ксенофобические.
Миракулоцентрический аспект. Эта аттраллюзия ориентирована на «чудо» как социальный конструкт. «Чудо» может быть рассмотрено как событие, противопоставляющее себя законам природы. Размах и значи тельность чуда наглядно можно оценить с помощью арифметической дроби. В числителе этой дроби — затраченное усилие (допустим, взмах волшебной палочки), в знаменателе соответственно — масштаб сверша емого события (допустим, землетрясение). Чем меньше знаменатель (чем слабее затраченное усилие) и чем больше числитель (размер деяния), тем больше сама дробь, тем больше соответственно чудо, с которым мы имеем дело.
Чудо формирует и определённую коммуникативную ситуацию вок руг себя. Чуду предшествует чаще всего состояние нехватки и ожидания. Вокруг чуда разыгрывается борьба веры и скепсиса.
Антиванитатизм — (от лат. vanitas — прозрачность, видимость, суета, бесплодность, праздная болтовня и т. д.) — это существующая в рамках различных дискурсивных стратегий тенденция к диагностике, развенча нию и преодолению всего «суетного».
«Суетное» в этих дискурсивных стратегиях противопоставляется «сущностному», «неподлинное» — «подлинному», «поверхностное» — «глубокому», «временное» — «вечному». Он легитимирует философский и религиозный дискурсы, оправдывая позицию философа и священника в структуре и пространстве общества.
Опулентанализ. Метафора богатства применима и к текстам в рам ках арифметической метафоры (разумеется, речь не о реальном исчисле нии текстовых «богатств»). Экстенсивная часть опулентанализа ориен тирована на «оперирование крупными текстовыми массивами». Иначе говоря, речь идёт о тенденциях современной гуманитарной литературы обращаться к таким реалиям, как культура, миф, семиосфера, метанарра тив, идеология и т. д. В свою очередь, интенсивная часть опулентанали за ориентирована на аспекты внутреннего богатства текста, такие как ин формационная ёмкость, метафоры, дуальные (и иные квазиколичествен ные) структуры.
Бинарная аттраллюзия. Речь идёт о так называемом бинарном аф фекте, то есть «аффекте, развивающемся в двух противоположных на правлениях». Особое настроение игры связано как раз с тем, что разные эмоции — страх, радость, огорчение, тревога, надежда — переплетаются в одном клубке. Без этого клубка эмоций мы не испытывали бы никакого удовольствия от игры.
Антисуперэгойная аттраллюзия. История психотерапевтического дискурса, начиная с психоанализа, может быть представлена как история «борьбы с Суперэго». Влияние этой инстанции на развитие неврозов ста ло главной темой в психоанализе.
Пространственные аттраллюзии. Дилятационизм (от лат. dilatatiо — расширение) — тенденция к расширению пространства, охватываемо го концептуальным взором (в терминологии гуссерлевской феноменоло гии — жизненного мира, ограниченного «горизонтом»).
Виды дилятации. Вопервых, следует отметить расширение как тако вое, безотносительно к направлению расширения или, можно сказать, расширение по всем направлениям. Сам дух философии — в некоем рас ширении. Философствование и есть, собственно, освоение космического и жизненного пространства, географического и духовного — безразлич но какого в контекстуальном аспекте — но в любом случае крупномас штабного.
Профундиализмом (от лат. profundus — глубокий) мы означиваем кон цепт, существующий в режиме противопоставления «поверхностного» — «глубокому» с соответствующим распределением аксиологии: глубокое — привлекательное, поверхностное — негативное. Профундиалистская оп тика связана с особым отношением к тайне. За поверхностью, за «покры валом Майи» есть чтото недоступное взгляду, ребус, подлежащий разгад ке. Те, кто в состоянии его разгадать — «хозяева» профундиалистского нарратива, — являются одновременно обладателями неких незаурядных возможностей, с отчётливой претензией на господство.
Эксельсизм (от лат. exelsus — возвышенный) — есть род нарративной стратегии, построенный на обращении к «высокому», «возвышенному», а также на противопоставлении «высокого» — «низкому». Возносясь вверх, человек как бы теряет вес, уходит изпод сферы действия законов притя жения, оказывается во власти своеобразного головокружения. Таким об разом, восприятие возвышенного связано с ГТН.
Все эти аттрактиваллюзии рассматриваются нами как некий путь от текста к ГТН. Наличие в составе этих феноменов элементов транса при водит к их взаимной координации с ГТН, они как бы перекликаются, ус танавливая определённую связь.
Безумие. Душевная болезнь частично представляет собой аналог трансового переживания. ГТН роднит безумие не только с экстазом рели гиозных практик, но и с вдохновением художника. Душевнобольной бли зок к святому и художнику благодаря схожести своего состояния с рели гиозным и творческим экстазом. Он свободен от многих обязательств и условностей. Он имеет право на многие привилегии.
Кайнэрастия (др.греч. kainos — новый, др.греч. erastes — любящий, почитатель) — влечение к новизне, которое составляет коренную сущ ность любого желания. Она присуща всем сферам человеческих интере сов и всем областям деятельности. Трудно представить себе, к примеру, власть, не стремящуюся к своему расширению, к завоеванию нового, ог раничивающуюся достигнутым. Подобно либидо и стремлению к власти, кайнэрастия является, безусловно, коренным влечением, не сводимым более ни к чему. Помимо банального требования к «новизне» научного текста, «новое» имеет несомненные гедонистические коннотации, что и делает его важным в деле формирования привлекательности текста.
Игра. По известному определению Й. Хёйзинги, «игра есть добро вольное действие либо занятие, совершаемое внутри установленных гра ниц места и времени по добровольно принятым, но абсолютно обязатель ным правилам, с целью, заключённой в нём самом, сопровождаемое чувством напряжения и радости, а также сознанием «иного бытия», неже ли «обыденная жизнь».
Игровое действие построено на разных способах конструирования гедонистического. Р. Кайюа классифицировал игры в культуре, выделив 1) агон (борьба) — игры, построенные на принципе соревнования, борьбы с противником; 2) алеа (жребий) — игры, построенные на случайности, удаче, жребии и т. д. Речь идёт о рулетке и игре в кости, картах и скачках, считалках, играх «орёл — решка» и пр.; 3) мимикрия (подражание) — игры, основанные на репродукции человеческой активности, чаще всего сю жетноигровые практики, такие как театр и балет, игра в куклы и шарады, маскарад и литература; 4) иллинкс (головокружение) — игры, связанные с интенсивным, форсированным изменением состояния сознания, такие как качели, карусели, альпинизм. Страх здесь смешан с трансовой остро той, относительно безопасными условиями переживания этого транса.
Игра — это пространство, где снимается множество запретов. Мы открыто выражаем свою агрессию нашему противнику (агон). Мы азарт но ставим на кон огромные денежные суммы (алеа). Мы всё, что угодно, делаем на сцене, в карнавале, в книге, выпуская на свет наши самые не обузданные желания (мимикрия). Ну и, наконец, обретаем род транса на каруселях и гигантских шагах (иллинкс).
Рецептивный контекст. Аттрактивистика как подход сфокусирована так, чтобы мы с достаточной ясностью могли прослеживать путь от ат тробъекта до гедонистически ориентированных состояний. Эта связь в культурном пространстве опосредована многочисленными промежуточ ными связями.
На востребованность того или иного аттробъекта оказывают влияние культурные, исторические, географические, классовые, групповые, инди видуальные факторы. Реальность аттрактивности — востребованность определяется суммой всех этих факторов.
Аттрактивность не есть востребованность.
Так, например, М. М. Бахтин, разбирая жанр Менипповой сатиры или мениппеи, вводит в оборот вменяемый литературный концепт, об суждая его особенности, такие как карнавальносмеховой характер, смесь мистикорелигиозного элемента с «трущобным натурализмом», «экспе риментирующая фантастика», элементы социальной утопии и пр. Все эти рационально адекватные (аллективные) элементы жанрового концепта
одновременно дают нам возможность судить о мениппее как о феномене, связанном с ИСС (точнее, с ГТН), и это определяет его аттрактивность.
В. Б. Шкловский преподносит свой не менее известный концепт «остранение» как литературный приём, который в то же время выглядит как описание транса.
Описанный психоаналитиком Ш. Ференци феномен инфантильного всемогущества у младенца описывает реальную стадию развития личнос ти и вместе с тем обнаруживает отчётливые признаки гедонистическо го порядка, что, в общем, свойственно психоаналитическому дискурсу вообще.
Подготовил Алексей Нилогов
Литература
Сосланд А. И. Кайнэрастия // Солнечное сплетение. Мосты культуры — Ге шарим; М.—Иерусалим, 2003. — С. 319–323.
Сосланд А. И. Антиванитатизм. Концепт системы аттрактиванализа // Рус ская антропологическая школа. Труды, вып. 1. — М., 2004a. — С. 138–152.
Сосланд А. И. Глубокое и высокое // Экзистенциальная традиция. — М., 2004b. — № 1 (4). — С. 128–143.
Сосланд А. И. Бытие и пространство // 2я Всероссийская научнопракти ческая конференция по экзистенциальной психологии (Звенигород, 2–5 мая 2004 г.) — М., 2004c. — С. 120–125.
Сосланд А. И. Дискурс, расширяющий пространство // Русская антрополо гическая школа. Труды, вып. 2. — М., 2004d. — С. 289–308.
Сосланд А. И. Любовь к смыслу // Проблема смысла в науках о человеке (К столетию Виктора Франкла): Матер. междунар. конф. (Москва, 19–21 мая 2005 г.). — М., 2005а. — С. 94–99.
Сосланд А. И. Счастье от безумия // Русская антропологическая школа. Труды, вып. 3. — М., 2005b. — С. 121–135.
МИХАИЛ ЭПШТЕЙН
Личный код: опыт самоописания
1
МИХАИЛ ЭПШТЕЙН
Личный код: опыт самоописания
1
1. Общие категории и личные коды. Личность как субъект и предикат
Язык гуманитарных наук распадается на два типа знаков: общие тер мины и имена собственные. Например, в литературоведении говорится, с одной стороны, о жанрах, методах, направлениях, композиции, сюжете, с другой — о Шекспире, Гёте, Пушкине, Толстом и т. д. Характерные сло восочетания: «метафора у Шекспира», «символика Данте», «поэма Пуш кина», «романэпопея Л. Толстого», «футуризм Маяковского» и т. п.
Однако между личными именами и общими терминами существует ещё и промежуточная концептуальная зона, мало очерченная и осмыс ленная: категории, образованные от самих имён. Шекспировское, гётевское, пушкинское, толстовское, набоковское... Эти именные термины, или терми$ нированные имена, указывают на личные коды их создателей: не просто на индивидов в биографическом и историческом плане, но на выстроенные ими модели мироздания. Совокупность авторских высказываний (произ ведений) содержит в себе свой собственный язык, систему знаков и пра вил их сочетания. В отличие от общего, естественного языка (русского, английского и т. д.), эти частные языки уместно называть кодами, по
1 Впервые текст опубликован в малотиражном издании Института языкознания «Гуманитарная наука сегодня. Конференция 2006» (под редакцией Ю. С. Степанова. — М.; Калуга. — С. 238–257).
скольку они носят искусственный характер, они создаются автором на ос нове тех языков, которые он получает в наследство (национальный, эпо хальный, научный, художественный и прочие языки). Например, пушкин ское — это личный код Пушкина, созданный им на основе русского язы ка, языка поэзии начала XIX века, языка Просвещения, романтизма и т. д.
Следует отличать личный код от индивидуального стиля (идиости ля) — последний относится к своеобразию речи, стилевого поведения данного автора. Личный же код — это явление не индивидуальной речи, а индивидуального языка, то есть той системы знаков (концептов, катего рий), которая производит всю совокупность индивидуальных сообщений, но остаётся скрытой в них. Личные коды играют огромную роль в куль туре. По сути, в литературе и нет ничего, кроме шекспировского, дантов ского, толстовского,,, а также боборыкинского, акунинского и т. д. (в этот перечень входят имена всех писателей, от великих до самых маленьких). Можно даже считать, что общие, нарицательные категории — это лишь удобные абстракции, помогающие нам сравнивать и оценивать индиви дуальное. Вот байроновская поэма, вот пушкинская, вот лермонтовская... «Поэма» здесь — это способ сопоставить байроновское, пушкинское и лермонтовское, то есть обогатить наше представление о личных кодах пу тём нахождения их общих признаков (общий трём названным писателям жанр — поэма; направление — романтизм, и т. д.).
Общие категории и личные коды образуют взаимодополнительные «гештальты» теоретического поля, подобно тому, как одни и те же узоры на рисунках М. К. Эшера могут быть увидены как птицы или рыбы. Взгляд на литературу может выделить в ней жанры, приёмы и направле ния, заполняемые бесчисленными именами писателей, которые наглядно представляют и иллюстрируют эти общие категории. И наоборот, мы мо жем увидеть в литературе множество личных кодов, обозначенных имена ми писателей — и пересечённых общими категориями, которые служат для наглядного сопоставления и более глубокой индивидуализации этих кодов. Персоналистический подход всё ещё гораздо менее развит в гума нитарных науках и поэтому нуждается в особом внимании и теоретиче ской разработке. Если рядовые читатели ищут в литературе именно «на боковское» или «пастернаковское», то специалисты, учёные чаще заинте ресованы в общих категориях. В ещё большей степени это относится к личным кодам учёныхгуманитариев, филологов, философов, искусство ведов, которые привлекают внимание гораздо реже, чем общие концепты и категории, обсуждаемые в соответствующих дисциплинах. Между тем очевидно, что философия — это декартовское, кантовское, ницшевское не в меньшей степени, чем такие категории, как идея, разум, субстанция, бесконечное, тождество, истина, красота и т. д. А российское литерату роведение — это тыняновское, бахтинское, лотмановское, аверинцевское, топоровское...
Причём эти личные коды — писателей, литературоведов, филосо фов — далеко не ограничиваются их собственными произведениями. Например, пушкинское можно найти не только в сочинениях самого Пуш кина, но и у Лермонтова, и у Мандельштама, и у Набокова, — в той сте пени, в какой они пользовались пушкинским кодом для решения своих художественных задач. Пушкинское можно найти даже у писателей до Пушкина, например у Батюшкова или Державина, в той мере, в какой их отдельные строки и образы предвещают пушкинский код. Здесь позволи тельно предложить терминологическое расширение и говорить не только о пушкинском, но и пушкинианском, не только набоковском, но и набоко вианском, а также шекспирианском, гётеанском, кантианском, гегельян ском, ницщеанском, чеховианском, бахтианском, в их отличии от шекспи ровского, гётевского, ницшевского, чеховского, бахтинского и т. д. Это суффиксальное наращение «ан», уже употребляемое в ряде категориаль ных прилагательных от имён собственных («кантианский», «ницшеан ский» и т. п.), указывает на трансперсональные свойства личного кода, который перешагивает границы творческой идентичности данного автора и становится общим предикатом культурных явлений, сохраняя вместе с тем свои вполне индивидуальные именование и характеристику. Кафков ское свойственно только Францу Кафке, тогда как кафкианское можно найти у множества писателей, живших как после Кафки, так и задолго до него. Например, Х. Л. Борхес нашёл кафкианское у древнегреческого фи лософа Зенона, китайского автора IХ века Хань Юя, датского мыслителя С. Кьеркегора и французского прозаика Леона Блуа (см. эссе Борхеса «Кафка и его предшественники»). Ницшевское — то, что присуще Фрид риху Ницше, и только ему; ницшеанское — это личный код Ницше, кото рым шифруется определённого рода политика, этническая теория, мо раль, поэзия, архитектура, творимые уже без личного участия Ницще. Ницше может рассматриваться как субъект некоей деятельности — и как её предикат. «Ницщеанствовать» — значит думать, мечтать, говорить, дей ствовать в духе, манере Ницше, и в принципе самые разные субъекты — индивиды, партии, художественные течения — могут временно или по стоянно характеризоваться этим предикатом.
Такие личностные, именные предикаты, а не только субъекты, пере полняют собой культуру и определяют её национальную специфику. Все участники семиосферы под названием «русская культура» в той или иной степени пушкинствуют, толстовствуют, достоевствуют, чайковствуют, репинствуют и т. д., то есть пользуются в своей самореализации и само сознании личными кодами, внесёнными в русскую культуру названными индивидами. Некоторые имена, например Достоевского или Чайковско го, выходят за границы национальной культуры и становятся предиката ми мировой. Достоевствовали — или достоевничали (в сниженном вари анте имитации, внешнего воспроизведения или подражательства) — и В. Розанов, и Т. Манн, и А. Жид, и А. Камю, и У. Фолкнер, и Л. Лео нов,,, — и множество малоизвестных писателей во всём мире.
Некоторые же имена остаются предикатами только в пределах узкого круга домашних, знакомых, друзей. Я глубоко убеждён, что каждая лич ность, независимо от степени её влияния, признанности, известности, есть не только субъект определённого культурного кода, но может высту пать и как предикат мышления и поведения других субъектов. Например, в детстве у меня была няня по имени Шура, она пять лет прожила в нашей семье. Я её любил, я ею воспитывался, и естественно, что я «шуровал», то есть вёл себя «пошуровски», определял себя в терминах её личности, её вкусов, пристрастий, представлений о мире. И до сих пор я «шурую», ког да, например, со сладкой ностальгией вслушиваюсь в популярные лири ческие песни 1950х годов, которые любила моя няня, родом из деревни. Вокруг каждой личности образуется система кодов, так или иначе переда ваемых и усваиваемых другими, — будь это манера приготовлять опреде лённые блюда, развешивать занавески, укладывать волосы, подбирать цвета — «как мама», «как тетя», «как Саша», «как Николай Петрович». Все мы, редко отдавая себе в этом отчёт, «сашествуем» или «николайпетров ничаем», а не только «пушкинствуем» или «ленинствуем». Все мы пользу емся личными кодами наших близких, друзей, знакомых, а не только ко дами выдающихся, прославленных личностей.
Эта предикатность каждого имени, способность каждой личности быть для других не только конкретным, поименованным «кем», но и «чем», и «как», определяет всё сложение культуры: от её семейных и до машних до исторических и глобальных уровней. Каждый субъект стано вится предикатом комуто другому — любящим, близким, народу, всему человечеству.
2. Утопическое, гипотетическое, интересное
Теперь мне предстоит самая трудная задача — описать свой личный код, то есть опредикатить себя как субъекта, определить «эпштейновское». Задача облегчается тем, что выше этот код уже отчасти продемонстриро ван — в самом рассуждении о личных кодах и их универсальном значе нии, о том, что каждый субъект может выступать в качестве предиката других субъектов.
Я родился в самой середине века (1950 год), который в историю ты сячелетий, возможно, войдёт под названием «утопического». Советский Союз возглавил путь этого века к сияющим высотам, и до сих пор Россия сохраняет свой интерес для Запада прежде всего огромностью — нелепой, опасной, саморазрушительной — своего былого утопического проекта.
Дух утопии окружал меня с детства. Мои родители были совершенно апо литичные люди, на маленьких должностях, в семейных и служебных забо тах — план, смета, отчёт. Не помню ни одного разговора в доме о полити ке, об истории, о Боге, о человечестве. Но вокруг меня витало огромное, всемирное. Это называлось: преобразование мира. Я рос на границе слав ного настоящего своей страны со светлым будущим всего человечества, которое отбрасывало алые блики на наши флаги и галстуки. Всемирное было повсюду, мой код формировался этой советской герменевтикой все объемлющих «законов природы и общества», неумолимо ведущих к са моспасению человечества. Утопическое — одно из составляющих моего кода, оно родом из моего советского детства. Но постепенно, уже в отро честве и юности, оно отделилось от своих марксистских оснований. Ни классовая борьба, ни идеология социального детерминизма и историче ского материализма не находили подтверждения в моём опыте. Так вырос мой асоциальный, персоналистичный утопизм: ощущение всемирности, бесконечной значимости именно тех вещей, которые не входят ни в какие социально значимые категории, выпадают из ведения философов и поли тических стратегов, молча скрываются и гибнут на периферии мирозда ния, неопознанные, семантически почти пустые, минимальные. Меня повернуло в сторону Акакия Акакиевича и его собратьев среди людей и явлений, всех «малых сих». Мне хотелось думать и писать о песчинках, о насекомых, о повседневности, о тончайших и скромнейших вещах, при этом сохраняя и даже увеличивая масштаб их рассмотрения до вселенско го. В значительной степени моя эссеистика состоит из таких малостей, сознательно и подчас гротескно преувеличенных, вброшенных в утопи ческую перспективу (двухтомник «Все эссе». Т. 1, «В России». Т. 2, «Из Америки», 2005).
Этот метод можно назвать «микромегатическим» (это слово, букваль но значащее «маловеликое», известно по повести Вольтера «Микроме гас» — так зовут пришельца с Сириуса, великана, который рассматривает в микроскоп крошечных землян). Для меня важно в каждой работе пред лагать какойто большой, принципиальный, порой даже всемирноисто рический вопрос. Но при этом очерчивать его — с неожиданной диспро порцией масштабов — в границах какогото конкретного, частного пред мета. Например, в одной из статей я обсуждаю метафизическую проблему демонического на материале пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке», ко торая оказывается комической парафразой того же сюжета — борьба царя с морской стихией и её ответная месть, — который одновременно, в ок тябре 1833 года, был трагически развёрнут А. С. Пушкиным в «Медном всаднике». «Разбитое корыто» старухи — микромодель протекающего ко рабля, охваченного наводнением Петербурга. В текст вписана большая картина мира, которая передаётся маленькой, но чрезвычайно укрупнён ной деталью (в моей книге «Молчание и слово. Метафизика русской ли тературы», 2006).
Итак, это не чистый, а скорее укрощённый утопизм, который сочета ется с крупнозернистой фактурой какогото маленького факта, текста или культурного эпизода и тем самым сознательно выявляет свою гротеск ность, впрямую сополагая «микро» и «мега». Другим способом укроще ния утопизма является его переход из императивной в гипотетическую модальность. Это не такой утопизм, который повелевает миру, требует оп ределённых преобразований, — скорее, он предлагает некие возможнос ти, гипотезы, которые не утверждают своего статуса последней истины или непререкаемого долженствования. Это утопизм в сослагательном нак$ лонении — гипотетизм. Гипотетический дискурс отличается неравномер ностью и прерывистостью своего логического поля. Он отчаянно смел в своих посылках, задающих новое, небывалое видение мира. Но вместе с тем он поразительно мягок и кроток в своих выводах, относящихся к ис тинности мысленных конструкций, их реальному наполнению и практи ческому применению. Дерзость посылок сопрягается с кротостью выводов, что делает этот тип мышления наиболее парадоксальным, взрывчатым сравнительно с чисто дескриптивным или чисто утопическим мышлени ем, которые стремятся освободиться от внутренних противоречий ради наиболее эффективного взаимодействия с действительностью: её описа ния или предписания.
Следует заранее оговорить, что гипотетизм — это вовсе не самый лёг кий, а скорее трудный путь, лежащий между достоверностью и недосто верностью, между истиной и ложью. Легко констатировать, что Волга впадает в Каспийское море; легко ошибиться, что Волга впадает в Араль ское море; легко сфантазировать, что Волга впадает в Мёртвое море... Но это ещё далеко не гипотезы, поскольку все эти утверждения легко подтвер ждаются либо опровергаются конкретными фактами. Гипотетическое мышление лежит по ту сторону верификации и фальсификации, оно од новременно и недоказуемо, и неопровержимо, оно движется тесным пу тём, чтобы наименее вероятное стало наиболее достоверным.
Мой текст обычно стремится к наиболее строгому обоснованию наибо$ лее странных утверждений. Это сочетание странности вывода и строгости выведения и задаёт с двух сторон критерий гипотетичности. Речь идёт о пересмотре принципа очевидности, положенного Декартом в основание европейского мышления. Странные утверждения — это те, которые наи более далеки от очевидности и в этом смысле противоположны Декарто ву критерию истины как «очевидного» или «непосредственно достоверно го» знания. Но они противоположны также и тому типу «ходячих», «тра диционных» мнений, которым Декарт противопоставлял свой принцип очевидности и которые были основаны на власти обычая, предрассудка. «Странность» как категория суждения отличается и от общепринятого клише, и от логической очевидности, поскольку то и другое: «традицион нонеобходимое» и «рациональноистинное» — следуют принципу наи большей вероятности. И хотя вероятность в одном случае трактуется как «наиболее вероятное мнение большинства людей», а в другом случае как «наиболее вероятное заключение непредубеждённого разума», общее между ними — опора на максимальную вероятность, которая в своём пре деле совпадает с объективной истиной и всеобщей необходимостью. «Странность», напротив, конституирует суждения, наименее вероятные как для большинства людей, так и для самого разума, — противоречащие и общепринятому, и очевидному.
Каждый писатель, исследователь стремится создать нечто интерес ное, способное «изумить» читателя, изменить диспозицию его ума. Я по лагаю, что именно переход наименее возможного в наиболее возможное составляет критерий интересного. Так, интересность научной работы или теории обратно пропорциональна вероятности её тезиса и прямо пропорци ональна достоверности аргумента. Самая интересная теория — та, что на иболее последовательно и неопровержимо доказывает то, что наименее вероятно. Самый интересный сюжет, вокруг которого вращается история христианского мира, — сюжет о воскресении после смерти: вероятность такого воскресения для человека исключительно мала, и потому истори ческие и теологические аргументы, приводимые в пользу такого события, уже две тысячи лет держат в непрестанном напряжении большую часть человечества, сосредоточивают в себе главный его интерес.
По мере того как вероятность тезиса растёт, а достоверность аргу мента падает, теория становится менее интересной. Наименее интересны теории: (1) либо доказывающие самоочевидный тезис, (2) либо приводя щие шаткие доказательства неочевидного тезиса, (3) либо, что хуже всего, неосновательные в доказательстве очевидных вещей. Таким образом, ин тересность теории зависит не только от её достоверности, но и от малой вероятности того, что она объясняет и доказывает. Интересность — это соотношение, образуемое дробью, в числителе которой стоит достовер ность доказательства, а в знаменателе — вероятность доказуемого. Инте ресность растёт по мере увеличения числителя и уменьшения знаменате ля. Чем менее вероятен тезис и чем более достоверен аргумент, тем инте реснее научная идея.
Вот почему известное изречение Вольтера «все жанры хороши, кроме скучного» применимо и к научным жанрам и методам. Скучность мето да — это не только его неспособность увлечь исследователя и читателя, но и признак его научной малосодержательности, когда выводы иссле дования повторяют его посылки и не содержат ничего неожиданного, удивляющего.
Рассматривая круг возможных идей или интерпретаций, я интуитив но выбираю наименее очевидные — и прилагаю к ним наибольшую силу последовательности, мне доступной. В этом для меня есть не только науч ный, но и моральный смысл: любовь к малым сим, то есть к наименьшим величинам в области умозрения, стремление их защитить перед лицом более сильных, самоочевидных, всесокрушающих истин. Этот риториче ский приём восходит ещё к Протагору: выступить в поддержку самых сла бых позиций, сделать слабейший аргумент сильнейшим. Для меня это не софистика, не чисто интеллектуальная игра, но примерно то же, что вы сказано в заповедях блаженства: «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Есть кроткие, беззащитные, мало заметные, пренебрегаемые идеи или зародыши идей, которые нуждаются в нашем внимании и ин теллектуальной заботе. В мире много не только маленьких людей, но и маленьких идей, и мы за них в ответе, потому что когданибудь эти ма ленькие идеи наследуют землю. Отверженные, невозможные идеи, вроде той, что параллельные линии пересекаются, тысячи лет пребывают в те ни, чтобы потом стать светом науки. Самые значительные успехи совре менной физики и математики во многом обусловлены как раз поддерж кой и развитием этой «нищей» идеи, отвергнутой Евклидом, но впослед ствии изменившей наше представление о кривизне пространства. И разве абсурднейшая идея о том, что Бог может воплотиться в человеке и при нести себя в жертву за грехи человечества, не легла в основу западной цивилизации? Камень, отвергнутый строителями, лёг во главу угла — эта парабола имеет для меня не только религиозно поучительный, но и эпи стемологический смысл. Именно за наименее очевидными идеями — на ибольшее будущее, поскольку научная картина мира время от времени взрывается, низы становятся верхами, ереси становятся догмами и в каче стве таковых снова ниспровергаются, о чём, как известно, писал Т. Кун в «Структуре научных революций».
3. Свобода читателя. Противомыслие и интеллектуальный катарсис
Выбирая наименее очевидные идеи и предельно их усиливая, я од новременно стараюсь не давить ими на ум читателя. Я не хочу, чтобы идеяпария моими усилиями превращалась в идеюдеспота. Деспотизм индивидов бывает не так опасен, как деспотизм идей, жертвами которого могут оказаться тысячи и миллионы людей. Не только в своём истоке, но и в итоге всей аргументации идеи должны оставаться кроткими, не навя зывать себя читателю. «Я пишу не для того, чтобы быть правой», — заме тила Гертруда Стайн. Больше всего я боюсь одержимости какойнибудь идеей, неистового внедрения её в чейто мозг, магии самоповтора и за клинания. Я почти никогда не возвращаюсь к темам прежних работ, счи тая, что достаточно один раз сказанного. Моё дело — выразить мысль, предложить, предположить, предоставив читателю свободу выбора. Разу меется, как автор я заинтересован в том, чтобы читатель согласился со мною, но одновременно мне хочется освободить его от гипноза той идеи, которую я пытаюсь до него донести. При этом я вступаю в противоречие с самим собой. Но мне представляется, что там, где есть мысль, есть мес то и для противомыслия.
Обычно считается, что задача пишущего — внушить читателю своё представление о мире, вызвать согласие с собой. Для себя я бы иначе оп ределил задачу: вызвать эффект согласиянесогласия, очищение от од носторонностей, мыслительный катарсис (по аналогии с тем эмоциональ ным катарсисом, в котором Аристотель видит цель трагедии). Читатель вдруг постигает, что можно думать и так, и иначе, что мышление содержит внутри себя противомыслие, и этим раздвигается сама сфера мыслимого. Собственно, катарсисом, очищающим моментом в таком восприятии и становится «мыслимость», которая ни к какой определённой мысли не может быть сведена, потому что любая определённая мысль предполагает своё возможное отрицание или альтернативу.
В некоторых моих текстах, особенно эссеистических, высказаны та кие идеи, которые убеждают читателя ровно в той же степени, что и разу беждают. Эффект как будто получается нулевой, но в этом нуле скрыта фигура бесконечности. Читатель возвращается в исходный пункт не та ким, каким вышел из него: он вступил в сложные, драматические отноше ния с идеей. Убеждённоразубеждённое состояние ума больше соответ ствует полноте идеи, чем простая убеждённость. Ведь полная истина па радоксальна, она содержит собственное опровержение. И только этой суммой (само)опровержений устанавливается такая идея, которая по настоящему волнует и даже изумляет человеческий ум. Идея в моих текс тах не просто недоказуема, она упорно доказывается — именно для того, чтобы её убедительность и неубедительность сошлись в конечной точке перспективы. В результате достигается своего рода катарсис, слияние двух линий: уверения и разуверения.
Я доказываю, например, что современная техника есть полнейшее воплощение романтического мироощущения. Эта сторона техники обыч но замалчивается, уступая избитому представлению о её антиромантиче ской, прагматической сущности. Но разве телефон — не общение ан гельских голосов, бесплотных существ, прильнувших друг к другу душами и дыханием? Разве самолёт — не отрыв от земной оболочки, чтобы сверху взглянуть на неё, «как души смотрят с высоты на ими брошенное тело»? Все любовные переживания современного человека заполнены техниче скими средствами преодоления; и сама техника, в её витальном порыве людей навстречу друг другу телом, голосом и сознанием, воплощает лю бовный порыв.
Такова тема одного из моих эссе, «Романтизм в технике». Но, конеч но, и в этой беглой передаче читатель замечает натяжку. Основная идея вроде бы верна — но и не верна. Техника преодолевает физическую огра ниченность человека — но физическими же средствами. Технические средства, разрастаясь сами из себя, обнаруживают пустоту и бедность то го содержания, которое мы передаём с их помощью. Если герои старых повестей загоняли лошадей, чтобы на минуту встретиться с возлюблен ной и успеть чтото ей шепнуть на прощанье, то, казалось бы, насколько сильнее должен быть эмоциональный порыв, запускающий в движение лётную тягу в тысячи лошадиных сил! Однако для чего же мчится по воз духу наш герой, взлетая над облаками и созерцая свысока их серебристую изнанку, куда ведёт его эта высокая ангельская стезя? Тысячное умноже ние технических возможностей отнюдь не умножает силу его чувств, и он идёт со своей возлюбленной в ресторан или в пивной бар — такое превы шение техники над эмоциональными возможностями обнажает бедность человеческой природы. Так что техника — это вовсе не любовь, а скорее пародия на неё, поскольку пародия — это и есть превышение формальных средств над содержанием. Техника, со своими ангельскими голосами и парениями, — это и апофеоз, и фарс небеснопрозрачного мира любви.
Значит, выдать технику за чистейший романтизм, как я пытался в своём эссе, — очевидная натяжка. И вот этими натяжками полны мои эссеистические тексты, задача которых — создать поле натяжения, согла сиянесогласия между собой и читателем. Это и есть лук, из которого про изводится стрельба. Истина неизвестна, и автор не притязает на её выра жение, но он использует все формы уклонения от истины, чтобы обозна чить истину. Изогнутость лука и порождает выстрел. Стрела движется только потому, что тетива отклоняется от лука, мысль отклоняется от ис тины, но движение стрелы и есть энергия их совмещения.
Текст указывает на истину жестом отступления от неё. Место истины нельзя занять какойлибо идеей, но можно обозначить зазор между выра женной идеей и невыразимой истиной. Тексты должны столь же притяги вать, сколь и отталкивать читателя, чтобы не соблазнять его той истиной, которой в них нет. Этим текст отличается от устной речи, происходящей здесь и сейчас. Задача говорящего — уговорить, ибо он сам, в полноте сво его присутствия, и есть истина, и его слова заявляют об истине, выража ют её целиком. Но пишущий отсутствует в том, что он пишет, и так же от сутствует истина. Проходят сотни и тысячи лет, а написанный текст всё живёт — в отсутствии пишущего, на расстоянии от истины. Вот почему пишущий указывает на истину жестом прощания, жестом отстранения, невозможности полного её представления здесь и сейчас.
4. Овозможение. Потенциосфера
У Льва Толстого есть такая запись: «Ехал наверху на конке, глядел на дома, вывески, лавки, извозчиков, проезжих, прохожих, и вдруг так ясно стало, что весь этот мир с моей жизнью в нём есть только одна из бесчис ленных количеств возможностей других миров и других жизней и для ме ня есть только одна из бесчисленных стадий, через которую мне кажется, что я прохожу во времени» (Дневник, 1 января 1900 год).
Такое ощущение, наверно, знакомо каждому, но это не только ощу щение. В современной физике всё больший вес приобретает «многомиро вая» интерпретация квантовой механики, предложенная американским физиком Хью Эвереттом в 1950е годы (ещё один пример возрастания по началу совершенно незаметной, «бросовой» идеи, которую теперь, со гласно недавнему опросу, разделяют две трети ведущих физиков). Эверетт предположил, что всякий микрообъект одновременно существует во мно жестве экземпляров, каждый из которых принадлежит своей особой параллельной вселенной. Я не сторонник теоретического умножения все ленных, но я полагаю важным умножение возможностей и возможност ного внутри нашего мироздания. Умножение универсалий при сокраще нии универсумов создаёт наиболее онтологически богатый и модально разнообразный мир. Я вижу свою задачу гуманитария в том, чтобы не просто описывать существующие объекты (культурные, знаковые, текс товые), но в том, чтобы воссоздавать мир их альтернатив, множествен ность совозможных им объектов. Если предмет моего интереса — опреде лённое литературное направление или жанр, я пытаюсь очертить совоз можные им другие направления и жанры, тем самым модально растягивая действительность культуры, включая её в область возможного. Этот метод я называю потенциацией, или овозможением. Так, в середине 1980х годов я описал поэтические движения метареализма, концептуализма и презен тализма в их соотносительности: одно делало возможным другое. Это была отчасти описательная, отчасти порождающая поэтика — с заходом в будущее поэзии, в область её потенциального развития. Теория не только описывает и анализирует свой предмет, но и синтетизирует совозможные предметы, которые становятся частью культуры.
Возможное — это не просто несуществующее, это особая модаль ность, которая глубоко воздействует на всё сущее, задавая и преобразуя его смысл. Собственно, культура — это и есть область возможностей: пи$ шимостей, мыслимостей, воображаемостей. Смысл любого явления задает ся его потенциосферой — сферой окружающих его возможностей, мно жественных инаковостей. Например, смысл Октябрьской революции оп ределяется лишь в контексте тех альтернативных путей, которыми могла бы пойти российская история осенью 1917 года. Причём в точке реализа ции каждой из возможностей происходит новое их ветвление, так что по тенциосфера поступательно расширяется в истории: всё более единиц возможного приходится на единицу сущего, происходит потенциация всех областей культуры. Этот переход «быть» в «бы» и «как бы» витал в воздухе 1990х, что отразилось в литературе: тема параллельной истории, событийных развилок в прошлом и настоящем, стала весьма популярна в постсоветской России. Прецедентом послужил роман В. Аксёнова «Полу остров Крым», потом последовали тексты В. Шарова, В. Пелевина, А. Ка бакова, Д. Быкова.
Гуманитарные науки не должны остаться в стороне от этой смены мо дальностей. У теории, как и у истории, появляется сослагательное накло нение, и оно требует перестройки всей системы научного мышления. Лю бое аналитическое определение предполагает наличие того, что сопредель но определяемому, то есть содержит в себе косвенное указание на соотно симый, соопределяемый, виртуальный предмет, который следующим, синтетическим актом мышления вводится в состав культуры. Например, рассматривая письменную деятельность и её главное условие — наличие белого поля, фона письма — я придаю этому полю статус знака и, заклю чая в кавычки, ввожу его в систему письма: « » (знак пробела). Далее « », как альтернатива всему семейству письменных знаков и одновременно почётный член этого семейства, — может рассматриваться как первосло во, философский знак абсолюта, чистого бытия, раскрываемого на грани це языка и невыразимого (на языке наличных знаков « » определяется ограничительно и искажённо как «Ungrund», «Дао», «абсолютный дух», «экзистенция», «diffеrance» и т. д.).
Рядом с наличными дисциплинами, как их иное и возможное, выст раивается ансамбль гипотетических дисциплин, наук в сослагательном наклонении. Как альтернатива феноменологии обосновывается возмож ность тегименологии (лат. tegimen — покров) — науки о покрытиях, обо лочках, упаковках, изучающей множественные слои предмета в связи с тем, что они скрывают собой. Альтернатива сексологии — эротология, гу манитарная наука о любви, о культурных и созидательных аспектах эроса. «Иное» культурологии — хоррорология (horror — ужас), наука о самораз рушительных механизмах цивилизации, которые делают её уязвимой для всех видов терроризма, включая биологический, компьютерный и ин формационный. «Иное» теософии и антропософии — технософия, изу чающая «мудрость» техники, её роль в нравственной и религиозной эво люции человека. Все эти параллельные дисциплины входят в состав потенциосферы, а по мере их разработки и освоения присоединяются к «реальным» дисциплинам, интегрированным в систему интеллектуаль ных профессий, научных институций, учебных курсов. Поэтому правиль нее было бы говорить не о параллельных, но о перпендикулярных вселен ных дискурса, которые пересекаются, входят в состав друг друга. Но даже если подобные гипо$дисциплины (hypodisciplines, то есть гипотетические, «недоутверждённые») не получат дальнейшей разработки, сама их воз можность определяет процессы смыслообразования и знакообразования в «реальных» науках. Подобно тому как лингвистика делает возможной силентику (науку о молчании, о паузах и пробелах как структурных едини цах организации речи), так и силентика способна встречно обогатить лингвистику, например, внеся в неё вышеупомянутый знак « ».
Об этой потенциосфере, особенно стремительно растущей в постто талитарную эпоху истории и культуры, написаны мои книги XXI века: «Философия возможного» (СПб., 2001) и «Знак пробела. О будущем гума нитарных наук» (М., 2004). В свете этого возможностного подхода меня ется сам статус гуманитарного исследования: оно не замыкается на своём объекте, наличном в культуре, но проектирует и продуцирует новые объ екты, которые входят в структуру смыслов данной культуры как область её растущей потенциальности. Теория переходит в сумму практик, дополня ющих, достраивающих её предмет. Это своего рода познавательнопроиз водительный концептивизм, мышление как зачинание понятий, терминов, теорий, которые расширяют область мыслимого и говоримого.
Наиболее наглядно это проявляется на уровне языка, как специаль ного, терминологического, так и общенародного, разговорного. Анализи руя язык, я обнаруживаю альтернативы существующим терминам, семан тические и грамматические пустоты, пробелы, которые заполняются в актах синтеза новых языковых единиц. Этой задаче языкового синтеза посвящена книга «Проективный философский словарь» (под редакцией Г. Л. Тульчинского и М. Н. Эпштейна. — СПб., 2003) и мой сетевой про ект «Дар слова. Проективный лексикон русского языка»82. К настоящему моменту (март 2007 года) в лексиконе представлено около 2000 слов (1200 моих и 800 других авторов) — тех, которых ещё нет, но которые мо гут быть. Некоторые из них постепенно входят в речь, о чём свидетель ствует легко исчисляемая частота их употребления в Интернете. Языку ничего нельзя насильно навязать, но можно и должно предлагать — новые слова, термины, понятия, грамматические формы и правила, отвечая на растущие запросы ноосферы и семиосферы. Проективный лексикон (он же и грамматикон) потенцирует структуру русского языка, «топогра фически» растягивает его лексические поля, демонстрирует семантиче скую и грамматическую эластичность его значимых элементов — корней и прочих морфем, вступающих в новые осмысленные сочетания. Совре менный русский (и любой естественный) язык, как я его понимаю, — это только один срез языкового континуума, который распространяется в прошлое и будущее, и в нём виртуально присутствуют тысячи слов, ещё не опознанных, не выговоренных, но призываемых в речь по мере того, как расширяется историческое сознание народа, и, в свою очередь, его расширяющих. Дело филолога — всячески способствовать такой структурной и смысловой «растяжке», овозможению языка. Проектив ная и конструктивная филология пополняет языковой запас культу ры, меняет её генофонд, манеру мыслить и действовать «по значению слов», умножая как их значения, так и сами слова и способы их употреб ления и сочетания.
5. Утопизм и поссибилизм. Личный код между именем и категориями
Здесь над моей мыслью опять нависает призрак утопии, о чём я го ворил в самом начале. Но хочу подчеркнуть разницу между утопизмом, который проложил русло XX веку, и тем потенциализмом, поссибилизмом, который движет нас в век XXI. Утопизм очерчивает некие прекрасные возможности — и требует их реализации, в результате чего бытие обедня ется, многовариантность возможностей сокращается до одного должного, а затем и наличного варианта, тогда как все другие варианты отсекаются, революционно упраздняются. Вот почему самое страшное в утопиях, как заметил Н. Бердяев, — то, что они сбываются. Поссибилизм, который я исповедую, предполагает, напротив, онтологическое расширение бытия, множественность возможных миров в составе нашего мироздания, мно жественность возможных языков в составе нашего языка. Каждый пред мет, каждое слово развёртывают веер своих возможностей, способов своей инаковости, трансценденции, бытийное богатство иновещия, ино мыслия, инословия.
Утопизм — это реализация возможного (или желаемого, принимаемо го за возможное), его сокращение и сужение по мере такой реализации, отсечение всех альтернатив единственному идеалу. Поссибилизм — это овозможение реальности, ветвление её вариантов, умножение альтерна тив, разрастание смыслов. Поссибилизм сохраняет в себе дух утопизма, но при этом как бы модально преобразует его, меняет местами вход и вы ход, расширяет, а не сужает путь. Дышать воздухом возможностей, жить верой, надеждой, любовью, воображением, замыслом, предчувствием, предвосхищением, вдохновением, угадыванием — такова эмоциональная основа поссибилизма, которая усиливает его интеллектуальные стратегии и очерчивает растущую множественность перспектив XXI века, много вариантность его культурного и технического развития. Родившись в центре самой могущественной и нетерпимой утопии XX века, в Москве в 1950 году, я надеюсь на то, что дух утопизма, после всех своих крушений и разочарований, не упадёт до отметки плоского позитивизма и эмпиризма, но преобразится сам и передаст свою преобразовательную энергию пос сибилизму.
Как заметил читатель, я широко трактую понятие личного кода, не прибегая к его детальной семиотической формализации (в системе бинарных оппозиций, дифференциальных признаков и т. п.). Личный код — это совокупность тех языковых знаков и культурных концептов, которые в их уникальном наборе и сочетании характерны именно для данного автора. В этой статье я, собственно, и пытаюсь выявить основные элементы того кода, на котором я произвожу сообщения в виде своих книг и статей. Составляющими этого кода являются, очевидно, не столь ко знаки естественного языка, сколько элементы более высокого уров ня — знаки языка культуры и её теоретического описания: категории, концепты, универсалии, знаки методов, направлений, мировоззрений, приёмов и типов мышления. Утопическое, микромегатическое, строгое и странное, интересное, интеллектуальный катарсис, противомыслие, овозможение, концептивизм, поссибилизм — все эти общие категории, пересекаясь и срастаясь, образуют то, что я ощущаю как своё, «эпштейно вское». Совокупность этих знаковых единиц и правил их сочетания, ус ловно говоря, и составляет мой личный код.
Причём степень «личностности», а значит, и новизны, «неологично сти» у всех этих знаков далеко не одинаковая. «Строгое» и «странное» — общеразговорные слова, но в моём контексте они терминируются, стано вятся знаками теоретических понятий («строгое обоснование странных утверждений»). «Утопическое» и «интересное» — общепринятые терми ны, но второй из них определяется у меня как соотношение достоверного и невероятного, то есть представляет собой семантический неологизм. «Противомыслие» и «поссибилизм» употребляются крайне редко, и ни когда — в том значении, которое им у меня придаётся: это нечто среднее между семантическими и лексическими неологизмами. А вот такие поня тия, как «овозможение» и «концептивизм», — это собственно лексиче ские неологизмы, то есть сами эти знаки впервые вводятся в язык. По своей «идиостильности» они приближаются к имени собственному. «Овозможение» — это термин столь же персональный, как и имя его авто ра, и встречается в связке с ним; нарицательным он станет, лишь если бу дет усвоен другими исследователями. Так что между двумя полюсами лич ного кода: именем автора и системой используемых им знаков (катего рий, концептов, терминов) — можно выделить ряд переходных ступеней, интервалы собственностинарицательности.
Итак, личный код вырисовывается здесь как пучок общих категорий, сходящихся в имени своего носителя. Но это — последствие теоретиче ского самоописания. На практике же я всеми силами стараюсь, напротив, разойтись из точки «эпштейновского» во все возможные стороны, гене рировать как можно больше концептов (мыслимостей, чувствуемостей, говоримостей), которые могли бы применяться к самым разным явлени ям и неожиданно их освещать. Такая взаимопульсация личного кода и об щих категорий, стяжение знаковпонятий в собственное имя и их разбе гание от имени, и составляет ту динамику семиосферы, о которой я гово рил в начале этой статьи.
В заключение подчеркну: в принципе любое личное имя — кодово, соотносимо с множеством общих категорий, уникальное сочетание кото рых, в свою очередь, переводится обратно в это имя, хотя и остаётся до конца непереводимым. По мысли П. Флоренского, «имя — новый выс ший род слова, и никаким конечным числом слов и отдельных признаков не может быть развёрнуто сполна. Отдельные слова лишь направляют на ше внимание к нему»83. Каждый человек имеет своё имя (ему известное) — и свою (часто ему неизвестную) систему понятий и категорий, которыми он характеризует свой мир и которыми мир может характеризовать его са мого. Собственно, задача гуманитарных наук и состоит в том, чтобы осу ществлять эту операцию перевода с языка индивидов на язык универса лий, чтобы каждый человек мог быть постигнут одновременно как уни кум (со своим именем) и универсум (с только ему присущим набором универсалий).
Подготовил Алексей Нилогов
Составитель Алексей Сергеевич Нилогов
Кто сегодня делает философию в России
Том 1
Художник Е. Амитон
Редактор С. Луконина
Корректор О. Иванова Вёрстка Е. Щербакова
Охраняется законом РФ об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой её части воспрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.
По вопросам оптовых закупок обращаться:
тел./факс (495)788072010
e0mail: [email protected]
ООО «Издательство «Поколение»
127549, Москва, ул. Пришвина, д. 8, кор. 2.
Тел./факс (495)788072010 www.pokolenie.ru
Подписано в печать 28.05.2007
Формат 70∞100/16. Гарнитура «NewtonС»
Печать офс. Бумага д/ВХИ Усл. печ. л. 46,67.
Тираж 3000 экз. Заказ №
Заметки
[
←1
]
Pereat mundus, fiat philosophia, fiat philosophus, fiam!.. (лат.)
[
←2
]
Неологизм Ф. И. Гиренка, образованный от соединения слов «эрудит» и «паразит».
[
←3
]
А также: Густав Иванович, Густав Болеславович.
[
←4
]
Хоружий С. С. Диптих безмолвия. Аскетическое учение о человеке в богочеловече ском и философском освещении. — М.: Центр психологии и психотерапии, 1991. — С. 129.
[
←5
]
С сокращениями беседа опубликована в интернетовском «Русском журнале» 27.03.2007: http://russ.ru/politics/interview/naciya_eto_postoyannyj_flesh_mob. Отрывок из беседы опубликован на сайте www.apn.ru 30.03.2007 в блицопросе «Существует ли сегодня русская философия?»: http://www.apn.ru/opinions/article16795.htm.
[
←6
]
Алексеев П. В. Философы России XIX–XX столетий. Биографии, идеи, труды. — М., 2002. — С. 170.
[
←7
]
Беседа опубликована на сайте www.censura.ru 06.01.2007: http://censura.ru/arti cles/logics.htm.
[
←8
]
Лукасевич Я. О детерминизме // Философия и логика ЛьвовскоВаршавской школы. — М., 1999. — С. 181.
[
←9
]
Беседа опубликована: 1) на сайте www.censura.ru 02.10.2006: http://censura.ru/ artiles/galkovsky.htm; 2) в газете «Литературная Россия» № 41 от 13.10.2006: http://www.litrossia.ru/article.php?article=813; 3) в газете «НГ!Ex libris» № 07 от 22.02.2007: http://exlibris.ng.ru/fakty/2007!02!22/2_filosof.html. Отрывок из беседы опубликован в газе! те «Литературная Россия» в блицопросе «Существует ли сегодня русская философия?» № 02 от 19.01.2007: http://www.litrossia.ru/article.php?article=1112.
[
←10
]
Беседа опубликована в газете «Завтра» № 2 от 11.01.2006: http://zavtra.ru/ cgi//veil//data/zavtra/06/634/51.html.
[
←11
]
В виде статьи текст опубликован на сайте www.censura.ru в 2004 году под назва! нием «Письмо и существо философии»: http://www.censura.ru/articles/graphology.htm.
[
←12
]
Крупнейшие работы в этой области: Деррида Ж. О грамматологии. — М., 2000; Eckardt A. Philosophie der Schrift. — Heidelberg, 1965.
[
←13
]
Glueck H. Schrift und Schriftlichkeit. — Stuttgart, 1987; Schrift und Gadaechtnis. Archaologie der schriftlichen Kommunikation. B. 1. (A. u. J. Assmann, D. Hardmeier (Hrsg) — Munchen, 1983.
[
←14
]
Четвёртое значение слова «письмо» относится не собственно к письму, а к пись! менности. Нужно отличать письменность (корпусы правил и текстовых образцов) от пись! ма. Такие значения письма, как «стиль», «манера», исключены на том основании, что эти значения относятся не к порядку письма, а к порядку высказываемости или дискурса. Ко! ли считается, что в порядке дискурса смысл высказывания не изменяется в зависимости от того, записано высказывание или сделано устно, то само физическое существование письма в этом случае игнорируется. Но, как мы помним, Диоген в своей классификации как раз далёк от того, чтобы игнорировать физический объем письма. Философы у него поделены на группы в соответствии с этим объёмом.
[
←15
]
Даль В. И. Толковый словарь… Т. 3. — М., 1994. — С. 288–289.
[
←16
]
См.: Фридрих И. История письма. — М., 1979.
[
←17
]
См.: Deleuze G., Guattari F. Capitalisme et schizophrenie: L’Anti!Oedipe. — P., 1972.
[
←18
]
Открытость «писаных» законов создала иллюзию, что справедливость закона оп! ределяется усилием человеческого ума, что справедливость закона может быть поставлена под вопрос, обсуждена и, главное, заново восстановлена в новой редакции закона. Этот соблазн открытостью и могуществом был слишком велик, чтобы люди могли устоять про! тив действия алфавитной записи. Прежде чем мир земли был переделан, он был соблазнён письмом.
[
←19
]
Деррида Ж. Голос и феномен. — СПб., 1999. — С. 94–115.
[
←20
]
Звуковая речь мелодична, слита в одно, тогда как пробелы письма всегда чётко обозначены.
[
←21
]
Сопротивление тотальной политизации оказывает не только письмо, но и быто! вой уклад. Но эти два сопротивления различны. Письмо обнаруживает себя на пределе по! литизации, а бытовой уклад как пространство её развёртывания. Одно дело — внешнее сопротивление среды, другое — имманентное сопротивление.
[
←22
]
Беседа опубликована на сайте www.censura.ru 20.04.2007: http://www.censura.ru/ articles/interviewdubrovsky.htm. Отрывок из беседы опубликован: 1) в газете «Литературная Россия» в блицопросе «Существует ли сегодня русская философия?» № 2 от 19.01.2007: http://www.litrossia.ru/article.php?article=1112; 2) на сайте www.apn.ru 30.03.2007 в блиц опросе «Существует ли сегодня русская философия?»: http://www.apn.ru/opinions/ artiсle16795.htm.
[
←23
]
С сокращениями беседа опубликована в газете «Литературная Россия» № 37 от 15.09.2006: http://www.litrossia.ru/article.php?article=731. Отрывок из беседы опубликован в газете «Литературная Россия» в блицопросе «Существует ли сегодня русская философия?» № 2 от 19.01.2007: http://www.litrossia.ru/article.php? article=1112. Полный текст беседы можно найти по адресу: www.censura.ru/articles/interview.htm (17.09.2006).
[
←24
]
Отрывок из беседы опубликован на сайте www.apn.ru 30.03.2007 в блицопросе «Существует ли сегодня русская философия?»: http://www.apn.ru/opinions/article 16795.htm.
[
←25
]
С сокращениями беседа опубликована в газете «Завтра» № 17 от 26.04.2006 под названием «Я и писатель, и философ…»: http://www.zavtra.ru/cgi//veil//data/zavtra/06/649/ 71.html.
[
←26
]
Отрывок из беседы опубликован на сайте www.apn.ru 30.03.2007 в блицопросе «Существует ли сегодня русская философия?»: http://www.apn.ru/opinions/article 16795.htm. С небольшим сокращением беседа опубликована в книге О. А. Матвейчева «Суверенитет духа» (М., 2007. — С. 483–499).
[
←27
]
Алексеев П. В. Философы России XIX–XX столетий. Биографии, идеи, труды. — М., 2002. — С. 634–635.
[
←28
]
С сокращениями беседа опубликована в интернетовском «Русском журнале» 27.02.2007 под названием «В советской философии было всё…»: http://www.russ.ru/poli+ tics/interview/v_sovetskoj_filosofii_bylo_vse, а полностью на сайте www.censura.ru 02.03.2007: http://www.censura.ru/articles/mironovinter.htm.
[
←29
]
Полностью беседа опубликована в сентябре 2005 года на сайте www.nietzsche.ru:
http://www.nietzsche.ru/texts/meet_nilogov.doc.
[
←30
]
С сокращениями беседа опубликована в газете «НГ+Ex libris» № 28 от 10.08.2006 под названием «Фотография не отменяется»: http://exlibris.ng.ru/fakty/2006+08+ 10/2_foto.html. Отрывок из беседы опубликован в газете «Литературная Россия» в блиц+ опросе «Существует ли сегодня русская философия?» № 2 от 19.01.2007: http://www.litrossia.ru/article.php?article=1112.
[
←31
]
С сокращениями первая часть беседы опубликована в газете «Литературная Россия» № 24 от 16.06.2006: http://www.litrossia.ru/article.php?article=486. Отрывок из беседы опубликован в газете «Литературная Россия» в блицопросе «Существует ли сегодня русская философия?» № 2 от 19.01.2007: http://www.litrossia.ru/article.php?article=1112.
[
←32
]
С сокращениями вторая часть беседы опубликована в интернетовском «Русском журнале» 21.02.2007: http://russ.ru/culture/besedy/ya_gedonist_a_ne_narcissist.
[
←33
]
Абрамин Георгий. Мераб Мамардашвили и грузинский милитаризм; http://www.russ.ru/politics/docs/merab_mamardashvili_i_gruzinskij_militarizm.
[
←34
]
«...русские, куда бы ни переместились — в качестве казаков на Байкал или на Камчатку, их даже занесло на Аляску, и, слава Богу, вовремя продали её, и она не оказалась
[
←35
]
Скандальная беседа с К. А. Свасьяном опубликована в газете «Литературная Рос+ сия» № 42 от 20.10.2006: http://www.litrossia.ru/article.php?article=831, http://www.litrossia.ru/ article.php?article=841. В несколько изменённом виде беседа опубликована в интернетов+ ском «Русском журнале» 09.03.2007 под названием «Английская и американская филосо+ фия — это почти всегда спецслужбы…»: http://russ.ru/politics/interview/anglijskaya_i_ amerikanskaya_ filosofiya_eto_pochti_vsegda_specsluzhby, но по просьбе К. А. Свасьяна была снята.
[
←36
]
Алексеев П. В. Философы России XIX–XX столетий. Биографии, идеи, труды. — М., 2002. — С. 832.
[
←37
]
С сокращениями беседа опубликована: 1) в газете «НГ+Ex libris» № 23 от 06.07.2006 под названием «О множественности психических миров»: http://exlibris.ng.ru/ fakty/2006+07+06/2_miry.html; 2) в газете «Литературная Россия» № 7 от 16.02.2007 под назва+ нием «В безвестности жить тяжело»: http://www.litrossia.ru/ article.php?article=1222. Отрывок из беседы опубликован в газете «Литературная Россия» в блицопросе «Существует ли сего+ дня русская философия?» № 2 от 19.01.2007: http://www.litrossia.ru/article.php?article=1112.
[
←38
]
Алексеев П. В. Философы России XIX–XX столетий. Биографии, идеи, труды. — М., 2002. — С. 843.
[
←39
]
Отрывок беседы опубликован на сайте www.apn.ru 02.05.2007 в блицопросе «Современные русские мыслители. Кто они?»: http://apn.ru./opinions/article17012.htm.
[
←40
]
С сокращениями беседа опубликована в газете «НГEx libris» № 13 от 12.04.2007 под названием «Инъекция трансцендентальной беспечности»: http://exlibris.ng.ru/per son/20070412/2_emelya.html.
[
←41
]
В несколько изменённом виде беседа опубликована в газете «Литературная Рос сия» под названием «Увидеть мир с изнанки бытия» № 23 от 09.06.2006: http://www.litrossia.ru/article.php?article=445, а также в книге М. Е. Бойко «Диктатура Ничто» (М., 2007. — С. 164–170).
[
←42
]
Отрывок из беседы опубликован в газете «Литературная Россия» в блицопросе «Существует ли сегодня русская философия?» № 02 от 19.01.2007: http://www.litrossia.ru/ article.php?article=1112. Впервые беседа опубликована 14.05.2007 на сайте: http://topos.ru/ article/5498.
[
←43
]
Беседа опубликована 22.05.2007 на сайте: http://topos.ru/article/5516.
[
←44
]
Интервью опубликовано: 1) на сайте www.censura.ru 16.10.2006: http://censura.ru/ articles/epstein.htm; 2) на сайте www.topos.ru 13.03.2007: http://topos.ru/article/5375; 3) с со кращениями в газете «НГEx libris» № 10 от 22.03.2007 под названием «Умножение сущ ностей и пустот»: http://exlibris.ng.ru/person/20070322/2_epshtein.html. Отрывок из бесе ды опубликован в газете «Литературная Россия» в блицопросе «Существует ли сегодня русская философия?» (№ 02 от 19.01.2007): http://www.litrossia.ru/article.php?article=1112.
[
←45
]
С сокращениями и исправлениями, внесёнными самим Д. Г. Гачевым.
[
←46
]
Подробнее об этом смотрите в моей книге «Наука и национальные культуры. Гуманитарный комментарий к естествознанию». — РостовнаДону, 1992.
[
←47
]
Алексеев П. В. Философы России XIX–XX столетий. Биографии, идеи, труды. — М., 2002. — С. 227.
[
←48
]
Отрывок из текста опубликован на сайте www.apn.ru 02.05.2007 в блицопросе «Современные русские мыслители. Кто они?»: http://www.apn.ru/ opinions/article17012.htm.
[
←49
]
Текст опубликован на сайте www.censura.ru в 2006 году: http://www.censura.ru/arti cles/communicator.htm.
[
←50
]
Алексеев П. В. Философы России XIX–XX столетий. Биографии, идеи, труды. — М., 2002. — С. 510.
[
←51
]
С сокращениями автоинтервью опубликовано в газете «Литературная Россия»: 1) № 26 от 30.06.2006 под названием «Россия Вечная»: http://www.litrossia.ru/ article.php?article=529; 2) № 04 от 26.01.2007 под названием «Соскальзывание в бездну»: http://www.litrossia.ru/article.php?article=1122.
[
←52
]
Впервые издано в журнале «Вопросы философии» (№ 10, 11 за 1993 год); впоследствии опубликовано в сборнике «Unio Mistica» (М., 1997); в книге «Судьба Бытия.
За пределами индуизма и буддизма» (М., 2006).
[
←53
]
«Судьба Бытия. За пределами индуизма и буддизма». — М., 2006. 3«Россия Вечная». — М., 2002.
[
←54
]
В том и в другом приходится использовать европейские философские понятия (Абсолют, абсолютный субъект и т. д.).
[
←55
]
Чистое сознание означает сознание в самом Себе, свободное от всякого присут ствия феноменального мира. То же самое можно сказать и о Чистом Бытии, это бытие как таковое, а не бытие чеголибо.
[
←56
]
В наше время этого достиг при жизни, например, Рамана Махарши, гуру, имя ко торого почитается всей Великой Индией.
[
←57
]
О реализации Абсолюта смотрите также книгу великого Сурешвары, ученика Шанкары, — «Реализация Абсолюта».
[
←58
]
Будда выходит из шуньяты благодаря принципу сострадания.
[
←59
]
Прямой контакт может осуществиться только при возникновении некоего уров ня, о котором мы ничего не знаем, но с которого возможен прямой контакт, если он воз можен вообще.
[
←60
]
Интересно, что впервые идея Бездны, «Внереальности по ту стороны Абсолюта», возникла в моём рассказе «Боль № 2», написанном в 1965 году, опубликованном на немец ком, французском и других языках.
[
←61
]
3: 3.
[
←62
]
2: 264.
[
←63
]
1: 242.
[
←64
]
Впервые текст опубликован в сборнике «Три подхода к изучению культуры» (М., 1997). Первоначальное название — «Исповедь научного работника, или Утешение методологией».
[
←65
]
Если, положим, познающий субъект последовательно выстраивается за счёт от чуждения одной, условно говоря, исчисляющеизмеряющей способности, то от мира внутри научного опыта по необходимости остаётся лишь то, что принципиально исчисли мо и измеримо. И, как говорит Локк, если уж найдено мерило, «нам нет нужды смущать ся тем, что некоторые вещи ускользают от нашего познания». Когда же субъект конститу ируется как чисто духовное образование, наделённое способностью к вживанию, то всё, что не отвечает этой способности, попросту исчезает для него в опыте, и он изначально обречён вживаться в подобного же себе духовного конструкта, «экзистирующего» исклю чительно в сфере так называемой духовной культуры.
Хотелось бы заметить, что я нисколько не ставлю под сомнение эвристическую цен ность этих подходов и только пытаюсь выявить то общее, что в равной мере присуще им обоим, несмотря на всё их внешнее отличие и вроде бы даже противостояние.
[
←66
]
Абстракция однородного и изотропного пространства есть, вообще говоря, необ ходимый коррелят именно исчисляющеизмеряющего субъекта, графически представляе мого чаще всего в виде Декартовой системы координат. И однородность, и изотропность фиксируют в данном случае условия осмысленного «экзистирования» подобного субъек та. Оба эти признака, по сути дела, означают, что операция измерения возможна в любой точке, а сопоставление их результатов имеет в принципе смысл.
[
←67
]
См. подр.: Бернштейн, 1990. — С. 35; Гибсон, 1988. — С. 174; Величковский, Зин ченко, Лурия, 1973.
[
←68
]
Например, полное исключение из системы зрительного восприятия проприоцеп ции глазных мышц приводит к временной потере зрения при полной сохранности рети нального изображения.
[
←69
]
См. подр. сообщение С. Фишера (Fisher S. Body Consciousness. L., 1973, p. 22) о ре зультатах эксперимента, когда испытуемый плавал в бассейне с водой, температура которой равнялась температуре тела, а свет и звук отсутствовали полностью. В последующем самоот чёте испытуемого центральной оказалась тема «диссипации»: у него рождалось ощущение безграничности собственного тела, неотличимости от всего, что его окружало, и потеря ка кой бы то ни было определённо локализованной самости.
Замечу, что типологически сходный опыт «рассеянного экзистирования» стал ключе вым для целой культуры, а именно древнеиндийской. Приобретался же он в аналогичной ситуации резко выраженной сенсорной недостаточности, складывавшейся внутри ведийс кого обряда жертвоприношения на основе использования медикаментозных и (или) психо технических методик. Результаты этого опыта, отливавшиеся в брахманической прозе в формулы типа «(Любое) то еси ты», составили основу атмавидьи (атман — дословно сам), высшего в ценностном отношении знания древней Индии.
[
←70
]
Можно только заранее ожидать, что для ряда предметов, как и в случае со стулом, их фиксированное и инвариантное значение будет соотноситься преимущественно со ста тикой человеческого тела, в то время как другие, скорее, будут выступать знаком его дина мических двигательных возможностей. Последнее, видимо, коснётся в первую очередь простейших орудий труда и прочего бытового инструмента, предполагающих, что в дви
[
←71
]
Сам факт подобного «ожидания» подтверждается экспериментально. Ввиду его исключительной важности для дальнейших рассуждений имеет смысл чуть подробнее ос тановиться на предложенной А. Р. Лурией и О. С. Виноградовой специальной методике объективного изучения семантических полей, связанной с использованием ориентиро вочного рефлекса.
Известно, что каждый раздражитель (в том числе и словесный) вызывает безуслов ный ориентировочный рефлекс, который, в частности, проявляется в сужении сосудов пальцев и расширением сосудов головы. Первый этап эксперимента состоит в предвари тельном угашении этих ориентировочных сосудистых реакций на разные слова. Затем испытуемому предъявляется тестовое слово (например, «кошка»), после чего ему даётся болевое раздражение — слабый разряд электрического тока. Как показывают наблюде ния, через несколько подкреплений вырабатывается условный рефлекс. Теперь на слово «кошка», как и при болевом раздражении, сосуды рук и головы сужаются. В этот момент исследователь переходит к решающей части эксперимента и задаётся вопросом, какие слова вызывают такую же условную болевую реакцию, как и тестовое. В результате выяс няется, что предъявление новых слов, имеющих смысловую связь с тестовым (в случае кошки это мышь, собака, животное и т. п.), вызывает ту же специфическую болевую реак цию; нейтральные слова не возбуждают никаких сосудистых реакций, а слова, сходные по звучанию, в нормальном состоянии влекут безусловную сосудистоориентировочную реакцию (см. подр.: Лурия, Виноградова, 1971).
[
←72
]
Нагляднее всего об этом свидетельствует функциональный характер детских оп ределений. Задача по определению понятия оказывается совершенно неактуальной для ребёнка и совпадает для него с определением самого предмета, сводясь в своём содержа тельном решении к описанию того, что этот предмет делает или, ещё чаще, что можно сде лать с этим предметом.
[
←73
]
Ср. здесь фактически непреодолимые трудности, которые создаёт для ребёнка игра словами во «взрослых» анекдотах и, точнее, игра различными уровнями значений слова в них.
[
←74
]
Показательны в этом отношении неудача фонвизинского недоросля Митрофа нушки и весь ход его рассуждений, когда он в ответ на вопрос, является ли дверь именем существительным или прилагательным, в свою очередь начинает с вопрошания: «Котора дверь?» — и далее, отнеся указанную ему дверь к разряду прилагательных, обосновывает своё решение следующим образом: «Потому что она приложена к своему месту. Вон у чу лана шестая неделя стоит ещё не навешена: так та покамест существительна».
Надо сказать, что неспособность к последовательному отвлечению от предметного значения слов продолжает подчас сказываться и тогда, когда ученик внешне вроде бы ов ладел всеми необходимыми формальными операциями и приёмами. Вот мой старший брат, третьеклассник, решает стандартную арифметическую задачу: столькото кг карто феля в мешке было, столькото из него отсыпали и т. д. Брат довольно скоро справляется с ней, но тут же начинает плакать. Подходит матушка и видит — задача решена правиль но. «Всё равно не понимаю», — сквозь слёзы отвечает брат. Следует неоднократное совме стное воспроизведение решения — реакция та же. «Ну что же ты не понимаешь?!» — «Я не понимаю, что такое картофель».
Дело в том, что у нас в семье говорили всё больше картошка, и брат просто не опоз нал её в непривычной картофели. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы у него ро
[
←75
]
Правомерность увязывания подросткового кризиса с усвоением автономных, отвлечённых от ситуационного опыта и объективированных в той или иной системе кодов смысловых полей, подтверждается косвенным образом фактом его отсутствия в «этногра фических», «бесписьменных» обществах, для которых характерен иной, симпрактиче ский, способ трансляции информации, не выдвигающий перед ребёнком познавательных задач, аналогичных по своей психологической сути школьным. Надо, правда, отметить, что наличие абстрактных смысловых полей является необходимым, но далеко не доста точным условием подросткового кризиса. Не наблюдается он (по крайней мере, как мас совое явление) и в тех «теоретических» по типу культурах, где в силу достаточно жёсткой социальной регламентации проблема выбора жизненного пути именно как проблема не встаёт для подавляющей части населения.
[
←76
]
У меня есть очень сильное подозрение, что так называемый «вопрос о смысле жизни», взятый в плане его универсальной общезначимости и требующий столь же уни версального ответа, сам по себе лишён всякого смысла. В этом виде он вообще не являет ся вопросом и уж тем более — имеющим отношение к жизни. Скорее, это просто выраже ние ностальгии по утраченным вследствие редукции возможностям, которой подвержен «экзистирующий» в мире сознаваемых волений и целеполаганий идеальный субъект, со хранивший в качестве рудимента плоти один лишь язык и раз за разом попадающий в язы ковые же (по Витгенштейну) ловушки. Никогда не стал бы об этом говорить (или, по край ней мере, в такой резкой форме), если бы этот вопрос, имеющий отношение лишь к «экзистированию» абстрактного субъекта в мире общезначимых вербальных понятий, не приводил бы подчас к необратимым для конкретного человека последствиям в реаль ном мире поступков.
[
←77
]
В сущности, об этом неоднократно говорил М. Планк, сам оказавшийся в нача ле XX века в критической, переходной для науки ситуации. «Обычно, — писал он, имея в виду прежде всего физику, — новые научные истины побеждают не так, что их противни ков убеждают и они признают свою неправоту, а большей частью так, что противники эти постепенно вымирают, а подрастающее поколение усваивает истину сразу» (Планк, 1966. — С. 13).
[
←78
]
Примером такого «ожидания», обусловленного не в последнюю очередь моторикой, может служить пара невеста × покойник, сформировавшаяся, как мы увидим ниже, непосредственно внутри русской обрядовой традиции.
[
←79
]
Конкретный материал, свидетельствующий о значительной, если подчас не решающей роли подобных проекций в эвристическом научном мышлении, можно найти в кн.: Адамар, 1970.
[
←80
]
Кстати сказать, наличие подобного инварианта, скрытого за явленной в словах мыслью, не позволяет видеть в аристотелевской максиме однозначно универсальное определение по типу привычного нам: Человек — существо общественное, поскольку он уже заранее предполагал принципиально иные, совершенно не актуальные для нас смыс ловые интенции, просто провоцируя вопрошания по поводу человеческого статуса всех
[
←81
]
Впервые опубликовано: Солодухо Н. М. Понимание онтологического статуса небытия // Известия КГАСУ. — 2006. — № 1(5).— С. 126–128.
[
←82
]
«Дар слова» выходит с апреля с 2000 года еженедельно в виде электронной рас сылки, у которой три тысячи подписчиков. Заглавная страница: http://old.russ.ru/ antolog/intelnet/dar0.html.
[
←83
]
Флоренский П. А. Имена // Соч. в 4 т. — Т. 3(2). — М., 2000. — С. 175.