Книга: Символическая история европейского средневековья
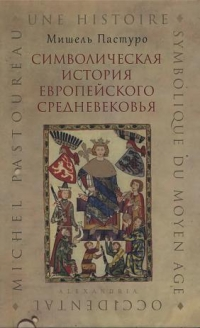
Символическая история европейского средневековья
Пер. с фр. Е. Решетниковой. - СПб.: "Александрия", 2012. - 448 с., илл.
ISBN 978-5-903445-21-9
Некоторые вещи - это просто вещи, а некоторые в то же время являются еще и знаками (...). Среди этих знаков есть просто сигналы, есть пометы и атрибут, а есть — символы.
Воображаемое как часть реальности
Символ как способ мышления и восприятия настолько привычен для средневековых авторов, что они практически не ощущают необходимости предупреждать читателей о своих семантических и дидактических намерениях или в обязательном порядке объяснять употребляемые слова. При этом латинская лексика, определяющая понятие символа, весьма богата и необычайно точна; и это характерно как для сочинений святого Августина, отца всей средневековой символики, так и для сочинений менее значительных авторов, например, энциклопедистов XIII века или составителей сборников exempla[1], адресованных проповедникам.
Именно с лексикой связаны первые трудности, которые встают перед историком при изучении средневекового символа. Современные европейские языки — в том числе немецкий, самый продуктивный в плане словообразования, — не располагают терминологическим инструментарием, способным с точностью передать все разнообразие и все тонкости средневековой латинской лексики, определяющей или актуализирующей символ. Когда латинский автор поочередно использует в одном и том же тексте слова signum, figura, exemplum, memoria, similitudo — которые на современный французский можно перевести как symbole («символ») — то он делает это не случайно, напротив, он тщательно подбирает слово: ведь у каждого есть свой отличительный оттенок. Это устойчивые термины, обладающие широким и усложненным семантическим полем и потому не поддающиеся точному переводу; при этом они ни в коей мере не являются взаимозаменяемыми. Сходным образом латинские глаголы denotare, depingere, figurare, monstrare, repraesentare, significare с общим смысловым полем «означать» не являются ни эквивалентами, ни синонимами; напротив, предпочтение того или иного глагола говорит о продуманном и сознательном выборе, наиболее точно выражающем мысль автора. Если, подчеркивая символическое значение того или иного животного или растения, автор говорит quod significat, то это не будет эквивалентно qiod representat, а последнее не будет являться точным синонимом quod figurat.
Такое языковое и лексическое разнообразие уже само по себе исторически значимо. Оно говорит о том, что символ в средневековой культуре является частью базового ментального инструментария: он имеет разнообразные формы выражения, охватывает различные смысловые уровни и проникает во все сферы интеллектуальной, общественной и религиозной жизни, включая этические представления. Вместе с тем это разнообразие объясняет, почему понятие символа не поддается никаким обобщениям, никаким упрощениям, и даже анализу. Символ всегда двойственен, поливалентен, изменчив; он не ограничен в своих проявлениях. К тому же он может быть выражен не только в словах и текстах, но также в изображениях, предметах, жестах, ритуалах, верованиях, поступках. Изучение символа тем более затруднительно, что далеко не все сферы его функционирования, не вся многообразность и многосторонность модусов смыслопорождения стали предметом осмысления для самих средневековых авторов, включая самых выдающихся. Кроме того, мы имеем дело с историческим объектом, при изучении которого историка, работающего то с одним, то с другим источником, на каждом шагу подстерегает опасность анахронизма. Наконец, сама попытка предпринять подобное исследование зачастую означает, что символ рискует в значительной степени утратить свое аффективное, эстетическое, поэтическое или онирическое[2] наполнение, за счет которого он главным образом и способен реализоваться и эффективно функционировать.
Сегодня такое ущербное представление о символе встречается в первую очередь в популяризаторских сочинениях. Наверное, ни одна область изучения Средних веков не была так загублена научными работами и книгами посредственного (если не сказать хуже) качества. Когда дело доходит до «средневековой символики» (этим расплывчатым понятием особенно злоупотребляют), интересующейся публике и студентам чаще всего приходится довольствоваться какими-нибудь завлекательными или эзотерически ориентированными сочинениями, авторы которых свободно жонглируют временем и пространством и валят в одну кучу рыцарство, алхимию, геральдику, помазание на царство, романское искусство, строительство соборов, крестовые походы, тамплиеров, катаров, черных Дев, Святой Грааль и т. д., выдавая более или менее коммерчески востребованную ахинею. К сожалению, эти сочинения часто и впрямь имеют успех на книжном рынке, тем самым нанося огромный вред подобным темам и отбивая у читателей и исследователей, всерьез интересующихся предметом, всякую охоту к изучению символа.
Ситуация покажется еще более прискорбной, если учесть, что «символическая история» несомненно вписывается в средневековые штудии и, будучи тесно связанной с социальной, политической, экономической, религиозной историей, историей искусств и историей литературы, имеет, подобно им, свои источники, свои методы, свою проблематику. Однако создание такой дисциплины остается делом будущего[3]. Конечно, есть и достойные работы, посвященные непосредственно изучению символа; но они либо не опускаются ниже самых что ни есть умозрительных высот теологии или философии[4], либо активно вторгаются в область эмблем и эмблематики[5]. Но ведь эмблема в Средневековье — не то же самое, что символ, даже если граница между ними всегда остается проницаемой. Эмблема — это знак, выражающий идентичность индивида или группы индивидов: имя, герб, иконографический атрибут являются эмблемами. Символ, напротив, обозначает не физическую личность, а абстрактную сущность, идею, понятие, представление. Некоторые знаки, фигуры, объекты могут быть двойственны, представляя собой одновременно и эмблемы, и символы. Например, рука правосудия, одна из регалий короля Франции, является одновременно и эмблематическим атрибутом, который идентифицирует короля Франции и выделяет его среди других суверенов (которые никогда ее не использовали), и символический предмет, выражающий некую идею французской монархии. Равным образом, если королевский герб — лазурь, усеянная золотыми лилиями, — представляет собой эмблематическое изображение, позволяющее опознать короля Франции, то фигуры и цвета, составляющие этот герб, — лазурь, золото, лилии — несут значительную символическую нагрузку[6].
Шестнадцать представленных здесь глав явились результатом исследований в области символики, иконографии и колористики за последние тридцать лет. Некоторые, уже опубликованные, фрагменты были исправлены, дополнены или переписаны специально для данной книги. Некоторые остались без изменений. А некоторые ранее не публиковались. Все затронутые здесь темы обсуждались на семинарах, которые я веду в Практической школе высших исследований и в Высшей школе социальных наук в Париже в течение последних двадцати лет. Все они являются плодом долгих размышлений и результатом вторжения в такие исследовательские области, в которые университетская историческая наука захаживает совсем нечасто. Объединяя в одном томе все эти работы, я не претендую на составление трактата о средневековом символе, а всего лишь намереваюсь наметить возможные ориентиры зарождающейся дисциплины: символической истории. С этой целью я бы хотел привлечь внимание к ряду базовых понятий, приступить к изучению некоторых областей, в которых символ проявляет себя особенно активно, выявить основные способы функционирования символа и его смысловые уровни и, наконец, наметить возможные пути дальнейших исследований.
Наверное, легче всего определить и охарактеризовать средневековый символ можно посредством лексики. Чтобы понять его устройство и назначение, нужно в первую очередь изучить лексические факты. До XIV века многие авторы ищут подлинную природу вещей или живых существ в словах: проследив происхождение и историю слова, можно добраться до «онтологической» сути объекта или субъекта, которые этим словом обозначаются. Однако средневековая этимология совсем не похожа на современную. Законы фонетики неизвестны, а родственность греческого и латинского языков отчетливо будет осознана только в XVI веке. Происхождение и историю латинского слова отслеживают, не выходя за рамки самого латинского языка и полагая при этом, что порядок знаков подобен порядку вещей. Поэтому некоторые этимологии противоречат нашей филологической науке и нашим представлениям о языке. То, что современные лингвисты, вслед за Соссюром, называют «произвольностью знака», средневековой культуре неизвестно. Все имеет свое обоснование, пусть даже ценой сомнительных, на наш взгляд, словесных ухищрений. Историку не пристало смеяться над такими «ложными» этимологиями. Наоборот, он должен рассматривать их как полноценные свидетельства культурной истории... и помнить о том, что наши собственные знания, которые кажутся сегодня научно обоснованными, возможно, через три-четыре поколения вызовут у филологов улыбку. Также нельзя упускать из виду того, что некоторые средневековые авторы, начиная с Исидора Севильского, могли порой предаваться этимологическим упражнениям ради забавы. И в этих случаях мы сталкиваемся с невероятной мешаниной из умозрительных построений и весьма натянутых сопоставлений.
Тем не менее множество верований, представлений, символических систем и поведенческих кодов объясняются той самой заключенной в словах подлинной сутью вещей. Это касается всех частей речи, но прежде всего существительных: имен нарицательных и имен собственных. Приведем несколько примеров, которые будут затрагиваться и разбираться в дальнейшем. Орех считается вредоносным деревом, потому что обозначающее его латинское слово пих обычно связывается с глаголом nосеrе, то есть «вредить». Значит, орех — дерево пагубное: если не хочешь, чтобы тебя навестил дьявол или злые духи, не засыпай под его кроной. На яблоню распространяется та же логика: обозначающее ее слово malus напоминает mal, то есть «зло». Из-за своего имени яблоня в преданиях и иконографии превратилась со временем в древо запретного плода, причину первородного греха и грехопадения. В имени и именем сказано все. Изучение средневековой символики всегда должно начинаться с изучения лексики. Во многих случаях это направит историка на истинный путь и заставит его воздержаться от чересчур позитивистских интерпретаций или же от применения психоаналитического подхода, чаще всего совершенно неуместного. Так, некоторые французские рыцарские романы XII—XIII веков сбили с толку многих ученых: в них говорилось о вручении победителю турнира странной награды — щуки. Ни общая символика рыб, ни конкретное символическое значение щуки никак не могут объяснить выбор такого вознаграждения; кроме того, вопреки тому, что пишут ученые, ни мутная юнгианская идея о воде как примордиальном[7] образе, ни представление о диком звере, который является «архетипическим образом воина-хищника», здесь тоже совершенно ни при чем. Выбор щуки в качестве награды рыцарю, победившему на турнире, объясняется всего лишь ее именем: на старофранцузском эта рыба называется словом lus (от латинского lucius), которое напоминает слово, означающее вознаграждение: los (от латинского laus). Для средневекового мышления между los и lus существует «естественная» связь, и она совсем не похожа на то, что мы сегодня назвали бы игрой слов или каламбуром, а представляет собой то ясно видимое звено, которое может стать основой для символического ритуала награждения рыцаря.
Подобного рода вербальная связь обнаруживается и в сфере собственных имен. Имя раскрывает правду о человеке, рассказывает его историю, предвещает его будущее. Поэтому символика собственных имен играет значительную роль в литературе и агиографии. Наречение именем — всегда исключительно важный акт, так как имя тесным образом связано с судьбой того человека, который его носит. Смысл жизни человека определяется его именем. Например, vita[8], страсти, иконография, добродетели многих святых, а также те сферы, которым они покровительствуют, обусловлены исключительно их именами. Крайний случай — святая Вероника: она обязана своим существованием (в позднейшую эпоху) вымышленному имени, которое происходит от латинского словосочетания vera icona, обозначающего святой Лик, то есть истинное изображение Спасителя на плащанице. Таким образом появилась новая святая, Вероника — молодая женщина, которая во время восхождения Христа на Голгофу вытерла куском ткани пот с его лица (и черты Христа чудесным образом отпечатались на полотне).
Так из имени вырастает целая агиографическая легенда, и подобных примеров множество. Считается, например, что апостол Симон претерпел то же мученичество, что и пророк Исайя: его распилили вдоль. В действительности же оба имени созвучны французскому слову scie, «пила» (отвратительный в средневековом восприятии инструмент, так как, в отличие от топора, она расправляется с материалом всегда очень неторопливо), и вносят свой посильный вклад в формирование житийных и иконографических сюжетов, а также влияют на область компетенции соответствующих героев священного предания. Святая Екатерина Александрийская, орудием казни которой были колеса, с давних пор стала покровительницей любых ремесленников, использующих или изготавливающих колеса, начиная с мельников и тележников. Следует отметить, что в Германии в конце Средневековья имя Катарина часто давали при крещении девочкам, чьи отцы занимались подобным ремеслом; в одной песенке даже утверждается, что «все дочки мельников носят имя Катарина» и что все они «богатые невесты». Точно так же некоторые святые-целители обязаны своими терапевтическими способностями исключительно своим именам. Так как говорящее имя не во всех языках созвучно с названием одной и той же болезни, то и самим святым в разных странах приписываются разные способности. Во Франции при самых разнообразных заболеваниях, связанных с гнойными воспалениями, обращались за помощью к святому Маклу (clous — «фурункулы»), а в Германии схожую функцию выполнял святой Галл (die Galle — «бубон»). И если в германских странах святой Августин исцелял от слепоты или облегчал глазную боль (die Augen), то во Франции в этом случае обращались к святой Кларе[9], а в Италии — к святой Лючии (перекличка с латинским lux — «свет»).
Знать происхождение имени — все равно, что знать глубинную природу того, кто это имя носит. Поэтому и создавались бесчисленные псевдоэтимологические глоссы, которые сегодня кажутся нам смешными, а в Средние века считались вполне достоверными. Вот пример с Иудой. В Германии начиная с XII века его прозвище, Искариот (по-немецки Ischariot) — человек из Кариота, поселения южнее Хеврона — было разложено на ist gar rot (то есть «совершенно красный»). Таким образом, красный становится par excellence[10] цветом Иуды: в его сердце полыхает адское пламя, и изображать его следует с пламенеющими волосами, то есть рыжеволосым, ибо рыжий цвет является знаком коварной природы и свидетельствует о его предательстве.
Даже существуя в различных формах, средневековый символ практически всегда строится на основе связи аналогического типа, то есть опираясь на сходство — более или менее выраженное — между двумя словами, двумя понятиями, двумя объектами, или на подобие между вещью и идеей. Точнее говоря, средневековое мышление по аналогии старается установить связь между явным и скрытым и, главным образом, между тем, что присутствует в этом мире и тем, что находится среди вечных истин мира потустороннего. Следовательно, слово, форма, цвет, материал, число, жест, животное, растение и даже человек могут иметь символическое значение, а значит, могут представлять, означать или намекать на нечто другое, отличное от того, чем они хотят являться или казаться. Экзегеза[11] как раз и заключается в том, чтобы уловить эту связь между материальным и нематериальным и, изучив ее, добраться до скрытой сути вещей. Объяснение или обучение в Средневековье состоит, прежде всего, в поиске и разгадывании скрытых смыслов. Здесь мы снова возвращаемся к исходному значению греческого слова sumbolon: опознавательный знак, представляющий собой две половинки предмета, разделенного между двумя людьми. В рамках средневекового мышления, как самого абстрактного, так и самого обыденного, всякий предмет, всякое начало, всякое живое существо выражают реальность иного, высшего и незыблемого порядка; символом этой реальности они и являются. Это касается как таинств веры, которые теология стремится объяснить и сделать понятными, так и самых незамысловатых mirabilia[12], к которым столь неравнодушно мирское сознание. Однако если в первом случае между символом и тем, что он обозначает, всегда устанавливается нечто вроде диалектических отношений, то во втором — означающее и означаемое соединены более механической связью[13].
Таким образом, идет ли речь о теологии, о mirabilia или о повседневной жизни, соответствие между обманчивой внешностью вещей и скрытыми за ней истинами всегда проводится на нескольких уровнях и выражается различными способами. Эта связь может быть прямой, аллюзивной, структурной, изобразительной, звуковой, но она также может иметь эмоциональную, магическую или сновидческую подоснову, а это уже само по себе затрудняет ее воссоздание. Тем более что наши современные знания и способы восприятия, отличные от тех, что были характерны для средневековых мужчин и женщин, мешают нам восстановить логику и смысл символа. Возьмем простой пример из области цвета. В нашем представлении синий — это холодный цвет; для нас это очевидность, если не истина. В средневековой культуре, напротив, синий цвет — теплый, так как это цвет воздуха, а воздух — теплый и сухой. Историк искусства, который решит, что в Средневековье синий, как и сегодня, — это холодный цвет, жестоко ошибется[14]. И ошибется еще больше, если станет руководствоваться в своих исследованиях спектральной классификацией цветов, или представлением об одновременном контрасте, или же противопоставлением основных и дополнительных цветов: все эти мнимые истины о цвете неизвестны ни средневековым художникам, ни их заказчикам, ни публике. Об этом следует помнить не только в связи с представлениями о цвете и цветовосприятии, но также и в связи с другими областями знания (о животных, растениях, минералах и т. д.), и с тем, как они претворяются в материальной культуре. Например, лев в средневековой христианской Европе не воспринимался как неведомый экзотический хищник — живописное или скульптурное изображение этого зверя можно увидеть в любой церкви, так что он практически являлся частью повседневности. Точно так же частью повседневности являлся и дракон, дьявольское создание, символ Зла, который повсюду попадался на глаза и занимал в средневековом сознании значительное место.
Итак, при изучении символов не только не следует неосмотрительно проецировать на прошлое наши собственные знания, ибо те общества, которые предшествуют нам во времени, ими не обладали; не следует также проводить слишком жесткую границу между реальным и воображаемым. Для историка — а для историка Средневековья, пожалуй, в особенности — воображаемое всегда является частью реальности, воображаемое само по себе — реальность.
Средневековый символизм не ограничивается этимологическими спекуляциями и принципом мышления по аналогии: часто, особенно в изображениях и литературных текстах, используются приемы, которые можно было бы назвать «семиотическими». Речь идет о — подчас механических, а иногда и весьма изощренных — приемах распределения, расположения, объединения или противопоставления различных элементов внутри целого. Наиболее часто встречается прием отклонения: в перечне или в группе есть персонаж, животное или предмет, который во всем подобен остальным за исключением одной маленькой детали: именно эта деталь выделяет его и наделяет его значением. Либо персонаж отступает от привычного нам образа, от той роли, которую он должен играть, от того облика, который за ним закрепился, от тех отношений, которые сложились у него с другими персонажами. Отклонение от обычая или нормы позволяет задействовать «экспоненциальную» символическую логику, которую антропологи иногда называют «стихийной» и смысл которой состоит в том, что действующие внутри нее закономерности и приемы нарушаются, выводя на следующий, более высокий уровень. Приведем простой пример. В средневековой иконографии все персонажи, которые носят рога, — это персонажи подозрительные или демонические. Рог, как любые телесные выступы, несет в себе отпечаток животной и трансгрессивной природы (например, с точки зрения прелатов и проповедников переодеться в рогатое животное — это еще хуже, чем переодеться в животное без рогов). Однако существует одно исключение: Моисей, которого иконографическая традиция с давних пор наделила рогами из-за неверного толкования одного места в Библии и неправильного перевода древнееврейского слова. Тем самым она его возвеличила. Моисей, рогач среди рогачей, которого, конечно же, нельзя заподозрить в чем-то дурном, выделяется и вызывает восхищение как раз благодаря своим рогам. Напротив, если в иконографии дьявол, который обычно носит рога, оказывается лишен этого атрибута, то он непременно будет казаться еще более устрашающим, чем дьявол рогатый.
Прием отклонения лежит в основе многих поэтических и символических построений. Он тем более эффективен, что в восприятии средневекового общества все вещи и живые существа должны занимать свое место, находиться в своем привычном или естественном состоянии, тем самым поддерживая порядок, установленный Создателем. Нарушение этого порядка — насильственный акт, который неизбежно обращает на себя внимание.
Так, нарушение внутренней последовательности, ритма или логики текста часто используется для того, чтобы ввести символ. Некоторые авторы умеют виртуозно завладеть вниманием аудитории, резко нарушив код или символическую систему, которую сами же и выстроили и к которой постепенно приучили слушателя или читателя. Ряд примеров использования этого приема мы находим у такого выдающегося поэта, как Кретьен де Труа. Возьмем, к примеру, «алого рыцаря». В романах Кретьена (и его продолжателей) алые рыцари — то есть рыцари, одетые в красное, с доспехами и снаряжением красного цвета — олицетворяют собой злых, опасных персонажей, подчас явившихся из потустороннего мира, чтобы бросить вызов герою и спровоцировать кризисную ситуацию. В начале «Повести о Граале» Кретьен рассказывает, как ко двору Артура прибывает алый рыцарь, наносит оскорбление Гвиневере и бросает вызов присутствующим рыцарям Круглого Стола. Этого рыцаря быстро побеждает совсем еще юный Персеваль, который завладевает его оружием и конем и сам таким образом становится «алым рыцарем», даже не будучи еще посвящен в рыцарское достоинство. Но Персеваль — не отрицательный персонаж. Напротив, инверсия кода указывает на него как на незаурядного героя, исключительного рыцаря, чьи красные доспехи намеренно противоречат всем семантическим системам, выстроенным автором, его предшественниками и эпигонами.
Приему отклонения или инверсии близок прием столкновения противоположностей. Средневековая символика не обладает монополией на его использование, однако регулярно обыгрывает его с большой виртуозностью. Этот прием основывается на идее — актуальной для западной культуры в долгосрочной перспективе — о том, что противоположности притягиваются и в итоге соединяются. Идея опасная, даже разрушительная, зато она позволяет подняться над обыденными символическими формулами и подчеркнуть особо важную мысль. Чтобы этот прием воздействовал со всей возможной эффективностью, нужно использовать его дозированно. Именно так и поступают средневековые писатели и художники. Впрочем, применяют его почти исключительно в христологическом[15] контексте. Возьмем, к примеру, рыжеволосого Иуду: на многочисленных позднесредневековых изображениях и картинах, сюжетом которых становятся арест Иисуса и поцелуй Иуды, рыжина апостола-предателя как будто бы в процессе осмоса[16] переходит на волосы и бороду Христа; палач и жертва, которых никоим образом нельзя перепутать, символически объединяются с помощью цвета.
Наконец, помимо символики, построенной на отклонении, инверсии или трансгрессии[17], часто используется символика pars pro toto, «часть вместо целого». По своей структуре и по своим проявлениям это тоже прием семиотического типа. Но он также опирается на более умозрительные представления, касающиеся отношений между микрокосмом и макрокосмом. Для схоластики человек и все существующее в этом мире представляют собой вселенные в миниатюре, устроенные по образу и подобию единой Вселенной. Таким образом, конечное создано по образу и подобию бесконечного, часть может представлять целое. Эта идея реализуется в ритуалах, воспроизводящих из множества сцен и жестов лишь некоторую часть. Она же обусловливает кодирование многих изображений, особенно тех, в которых значительное место уделяется декоративности. По большому счету неважно, насколько обширную поверхность занимает орнамент, структура или текстура: квадратный сантиметр (если взять принятую сегодня единицу измерения) в этом смысле равнозначен квадратному метру или даже большей площади.
Во многих областях замена целого частью представляет собой первую ступень символизации. Например, в культе мощей кость или зуб представляют всего святого; если речь идет о репрезентации короля, то корона или печать способны в полной мере «заменить» суверена; при передаче земли вассалу горстки земли, пучка травы или соломинки будет достаточно, чтобы обозначить всю землю; при изображении того или иного места башня представит целый замок, дом — город, а дерево — лес. Но это не просто атрибуты или заменители: дерево на самом деле является лесом; горсть земли — всей землей, которую передают на правах фьефа; печать в полной мере являет персону короля; кость действительно принадлежит святому... даже если этот святой оставил христианскому миру несколько десятков бедренных или берцовых костей. Символ всегда весомее и подлиннее реального человека или вещи, которых он должен представлять, потому что в Средневековье истина всегда находится вне реальности, в мире высшего порядка. Истинное не есть реальное.
Вот основные коды и приемы, которые конструируют средневековый символ. Этим отнюдь не исчерпываются ни его содержание, ни его смыслы. Однако именно эти механизмы в наибольшей степени доступны историку и их, в общем-то, стоило бы изучить. Значительное число других особенностей символа (аффективных, поэтических, эстетических, модальных) выявить труднее, а иногда они и вовсе ускользают от внимания историка.
Итак, в средневековой символике, как в любой другой открытой семантической системе, ничто не функционирует вне контекста. Животное, растение, число, цвет приобретают значение постольку, поскольку они связаны с другим или другими животными, растениями, числами, цветами либо же противопоставлены им. Поэтому историк должен остерегаться любых излишних генерализаций, любых попыток отыскать общий для всех источников, трансдокументальный смысл. Напротив, он всегда должен стараться отталкиваться от изучаемого источника и прежде всего выявлять присущие именно этому источнику системы и способы означивания различных символических элементов. И только затем историку следует сравнивать этот источник с другими источниками того же типа, а потом проводить сравнения с другими областями, чтобы, сопоставив тексты с изображениями, изображения с пространствами, пространства с ритуалами, сравнить полученные результаты. Наконец, на последней стадии анализа правомерно будет задаться вопросом о более общей символической логике, о которой средневековые авторы охотно и много рассуждают, но поиски которой подчас идут по ложному пути, ибо путь этот пролегает за пределами самих источников. Призывая историка к осторожности — и используя фразу, которую лингвисты любят повторять применительно к лексике, — можно было бы сказать, что в средневековой символике означающие (животные, цвета, числа и т. д.) не имеют, подобно словам, «смысла сами по себе, но обретают его при конкретном употреблении». Конечно, в некоторых случаях это утверждение покажется преувеличением. Но в любой средневековой символической структуре совокупность отношений, которыми связаны между собой различные элементы, всегда более многозначна, чем сумма отдельно взятых значений, которыми обладает каждый из элементов. Будь то текст, изображение или архитектурный памятник, символика льва, к примеру, всегда будет и богаче, и понятнее при сопоставлении или сравнении с символикой орла, дракона или леопарда, нежели рассматриваемая сама по себе.
Развивая мысль дальше, можно даже сказать, что средневековый символ в большей степени характеризует общие модусы смыслопорождения, нежели то или иное свойственное ему значение. Если, к примеру, мы возьмем цвета, то можно утверждать, что красный — это не столько даже цвет, обозначающий страсть или грех, сколько цвет, который навязывает себя (в хорошем или в плохом смысле слова); зеленый предполагает перелом, нарушение порядка, обновление; синий успокаивает или стабилизирует; желтый связан с возбуждением или трансгрессией. Отдав предпочтение модусу смыслопорождения перед кодовым значением, историк сохранит символ во всей его двойственности, даже двусмысленности — двусмысленности, которая является неотъемлемой частью его глубинной природы и без которой он не мог бы эффективно функционировать. Воспринимая символ именно в таком ключе, медиевист может заняться компаративистикой или же рассмотреть некоторые вопросы в долговременной перспективе, не изолируя средневековую символику от символики библейской, греческой или римской, где модусы смыслопорождения подчас важнее той или иной функции или конкретного значения. К примеру, в греческой мифологии Арес (Марс у римлян) не столько даже бог войны, сколько бог, который всегда и во все вторгается насильно. Точно так же ведет себя красный цвет в средневековых текстах и изображениях.
Главные оси средневековой символики, в том виде, в котором они складываются в первые пять-шесть веков христианства, вовсе не являются плодом фантазии ex nihilo[18] горстки теологов. Напротив, это результат слияния ряда предшествующих семантических систем и модусов восприятия. В этой области средневековому Западу досталось тройное наследство: библейская традиция (несомненно, самая важная его часть), греко-римская традиция и традиции «варварских» народов, то есть культур кельтской, германской, скандинавской и даже более отдаленных. Ко всему этому за тысячелетнюю историю прибавились собственно средневековые пласты. Из средневековой символики в действительности ничто никогда полностью не исчезает; напротив, множество различных пластов наслаиваются друг на друга и с ходом времени перемешиваются, так что историку бывает трудно их распутать. И это заставляет его подчас — и напрасно — полагать, что существует некая транскультурная символика, которая опирается на архетипы и имеет отношение к универсальным истинам. Такой символики не существует. Все символы обусловлены культурой и должны изучаться в связи с обществом, которое ими пользуется в конкретный исторический момент и в определенном контексте.
Акцент на модусе смыслопорождения символа, а не на грамматическом наборе эквивалентных соответствий или значений также подчеркивает, что символические практики Средневековья невозможно отделить от соответствующих процессов восприятия. В мире символического мышления подсказать часто важнее, чем сказать прямо, почувствовать важнее, чем понять, намекнуть важнее, чем доказать. Поэтому наши сегодняшние интерпретации средневековых символов часто выглядят анахронично: они слишком механистичны, слишком рациональны. Лучше всего это можно показать на примере чисел. В Средневековье они выражают не только количество, но еще и качество, их не всегда следует воспринимать с позиций арифметики или счетоводства, их нужно понимать символически. Например, три, четыре и семь — основные символические числа, которые всегда значат больше, чем просто количество, равное трем, четырем или семи. Двенадцать означает не просто дюжину единиц, но еще и идею целостности, полного и совершенного единства; поэтому одиннадцать — это недостаточно, а тринадцать — чрезмерное, несовершенное и зловещее число. Сорок — число, которое часто встречается в самых разнообразных сферах, — нужно понимать не как точное число, а просто как обобщенное выражение большого количества, наподобие сотни или тысячи, которые мы используем сегодня. Значение этого числа не количественное, а качественное и суггестивное[19]. Оно взывает скорее к воображению, а не к разуму.
То же самое верно и в отношении форм, цветов, животных, растений и вообще любых знаков. Они не только говорят что-то, они подсказывают и задают модальность восприятия. Они не обозначают, а скорее заставляют ощущать и воображать. Они открывают для нас другую сторону реальности — мир воображаемого.
Судебные процессы над животными
Образцовое правосудие?
Долгое время историки почти не интересовались животными. Последние были вытеснены в область «исторического анекдота», куда обычно попадали все сюжеты, которые казались историкам пустыми, развлекательными или маргинальными. Лишь некоторые филологи и археологи обращали внимание на тот или иной специфический материал, так или иначе касавшийся животных. Посвящать же им отдельное исследование или целую книгу было просто немыслимо.
За последние двадцать лет ситуация изменилась. Благодаря работам нескольких историков-первопроходцев, среди которых в первую очередь следует упомянуть Робера Делора[20], а также благодаря все более и более частому сотрудничеству с исследователями из других областей (археологами, антропологами, этнологами, лингвистами, зоологами) животное стало, наконец, полноправным объектом истории. Отныне его изучение даже переместилось в авангард научных исследований и стало центром пересечения целого ряда дисциплин. И в самом деле, оно не может быть иным, кроме как «трансдокументальным» и «междисциплинарным», и пусть сегодня эти два прилагательных и впрямь несколько затерты из-за чрезмерного употребления, они все же прекрасно характеризуют то, какого рода исследования должен проводить всякий историк, интересующийся животными. Животное, будучи воспринято в контексте его взаимоотношений с человеком, входит в сферу важнейших интересов социальной, экономической, материальной, культурной, религиозной, юридической и символической истории.
В пробуждении такого непривычного интереса к животному миру главную роль сыграли медиевисты. Тому есть несколько причин. Первая, пожалуй, связана с их безграничным любопытством, а также с тем, что им удалось — раньше других и весьма успешно — сломать барьеры между слишком жестко разделенными сферами исследования. Это позволило сопоставить данные, полученные в результате анализа различных типов документов, обогатить проблематику, а также облегчило налаживание контактов со специалистами из других наук, как общественных, так и естественных[21]. Но первопричина также заключается и в самих средневековых документах: животные встречаются в них на каждом шагу — в контексте отношений с мужчинами, с женщинами, с обществом. Прежде всего это, разумеется, тексты и изображения, но также археологические материалы, социальные ритуалы и коды, геральдика, топонимика и антропонимика, фольклор, пословицы, песни, ругательства: за какие бы источники ни взялся историк-медиевист — он всюду наткнется на животное. Кажется, ни одна другая историческая эпоха в Европе не осмысливала, не описывала, не изображала животное столь же часто и с таким же усердием. Животные проникают даже в церковь, составляя добрую часть ее убранства и фигуративного антуража — живописного, скульптурного, лепного, тканого, — который каждодневно созерцают клирики и верующие. К великому возмущению некоторых прелатов, которые, как святой Бернард в своей знаменитой обличительной речи, разносят в пух и прах «свирепых львов, поганых обезьян [...] и составных чудовищ», что наводняют церкви и отвращают монахов от молитвы[22].
Отношение к животным в христианском Средневековье
Однако нужно подчеркнуть, что, несмотря на это видимое неприятие, духовенство и вся средневековая христианская культура в целом относились к животным с заметным интересом, и их отношение выразилось в двух очевидно противоположных тенденциях осмысления и восприятия оных. С одной стороны, нужно было как можно резче противопоставить человека, созданного по образу и подобию Божьему, и животное — существо подчиненное, несовершенное и даже нечистое. Но, с другой стороны, у некоторых авторов присутствует более или менее выраженное понимание, что между всеми живыми существами есть некая связь и что человек с животным состоят в родстве — не только в биологическом, но и в трансцендентном.
Первая тенденция доминирует, и это объясняет тот факт, что животное так часто обращает на себя внимание или становится предметом изображения. Систематическое противопоставление человека животному и превращение последнего в низшее существо, в тварь, оттеняющую по контрасту достоинства человека, приводят в итоге к тому, что о животном говорят постоянно, поминают его при всяком удобном случае, делают из него ключевую фигуру всех метафор, всех «примеров», всех сравнений. Одним словом, животное «символически осмысляют», если воспользоваться известной формулировкой одного антрополога[23]. Это также приводит к суровому подавлению всякого поведения, которое содержало бы намек на смешение человека и животного. Отсюда, к примеру, совершенно недейственные и потому беспрестанно повторяемые запреты переодеваться в животное[24], подражать поведению животного, чествовать или прославлять животное и, более того, иметь с ним такие отношения, которые считались преступными, начиная от чрезмерной привязанности к отдельным прирученным особям (лошадям, собакам, соколам) и заканчивая самыми дьявольскими и гнусными злодеяниями, такими как колдовство или скотоложство.
Вторая тенденция выражена слабее, но является, пожалуй, более современной. Она восходит одновременно к Аристотелю и апостолу Павлу. От Аристотеля идет идея об общности живых существ, рассеянная по ряду его произведений, в частности, содержащаяся в сочинении «О душе», которое Средневековье усваивало в несколько этапов, причем последний из них — в XIII веке — был самым значимым[25]. Однако усвоению аристотелевского наследия в данном случае способствовало то, что внутри самой христианской традиции существовало похожее отношение к животному миру (хотя и обусловленное иными причинами). Это отношение, которое можно проиллюстрировать известнейшим примером Франциска Ассизского, восходит, вероятно, к словам апостола Павла, в частности к одному месту в Послании к римлянам: «...сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих»[26].
Эта фраза оказала влияние на всех теологов, которые ее комментировали[27]. Одни размышляли над смыслом этих слов: действительно ли Христос пришел спасти всех живых созданий и действительно ли все животные являются «детьми Божьими». То, что Иисус появился на свет в хлеву, расценивалось некоторыми авторами как доказательство того, что Спаситель спустился на землю, чтобы спасти также и животных[28]. Другие, увлеченные схоластикой, задавались вопросами, которые обсуждались в Сорбонне еще в конце XIII века. Например, по поводу будущей жизни животных: воскреснут ли они после смерти? Попадут ли на Небеса? Или окажутся в специально отведенном для них месте? Все или только по одной особи от каждого вида? Или по поводу их земной жизни: могут ли они работать в воскресенье? Следует ли заставлять их поститься? И — главное — можно ли на этом свете рассматривать их как существ, морально ответственных за свои поступки?[29]
Все эти многочисленные вопросы, тот интерес, с которым средневековый Запад взирал на животных, говорят о том, что христианство стало для последних реальным шансом улучшить свое положение. В библейские времена и в греко-римской Античности к животному не проявляли интереса, презирали его или приносили в жертву; христианское Средневековье, напротив, выводит его на авансцену, наделяет более или менее разумной душой и размышляет, ответственно ли животное за свои поступки. Перемены просто разительные.
Вопрос о моральной ответственности как раз и выводит нас на весьма интересный материал, связанный с судебными процессами над животными, которые имели место начиная с середины XIII века. Хотя процессы эти представляют огромный интерес, они, к сожалению, пока еще не дождались своих исследователей[30]. Долгое время их относили к «историческим анекдотам», иногда они становились предметом сочинений, выставлявших в смешном виде нравы и верования древних обществ и издававшихся на потребу публике, падкой до всяческих курьезов[31]. Подход совершенно анахроничный, свидетельствующий о полнейшем непонимании того, что такое история.
Эти процессы, по-видимому не имевшие место до середины XIII века[32], встречаются нам на протяжении трех следующих столетий. В то время западное христианство стремится замкнуться на себе, и Церковь превращается в колоссальное судилище (создан церковный суд, учреждены инквизиция и процедура дознания). Все это, по крайней мере отчасти, объясняет то, каким образом велось следствие по подобным делам. Мне удалось отыскать сведения примерно о шестидесяти таких процессах, проведенных во французском королевстве с 1266 по 1586 год. Некоторые дела основательно подтверждены документами, как, например, дело свиньи-детоубийцы из Фалеза (1386), о котором я расскажу подробнее. Другие же, коих большинство, известны только по косвенным упоминаниям, чаще всего по записям в расходных книгах. Но Франция — отнюдь не единственное место, где рассматривались подобные дела. Они встречаются по всему Западу, особенно в альпийских областях, где процессы против насекомых и «червей» — как и процессы против ведьм — возбуждались, судя по всему, чаще и прекратились позже, чем где бы то ни было[33]. Остается пожелать, чтобы будущие исследования ознакомили нас с ними подробнее. Материалы следствия, процессы, документы и затронутые в связи с ними проблемы столь сложны, что их изучение должно, бесспорно, стать предметом коллективной работы.
В начале 1386 года в Фалезе, в Нормандии, произошло событие по меньшей мере необычайное. Свинью в возрасте примерно трех лет, одетую в человеческую одежду, проволокли, привязав к кобыле, по улицам от замковой площади до предместья Гибре, где на ярмарочной площади был установлен эшафот. Там, в присутствии весьма разношерстной толпы, состоявшей из виконта Фалеза и его свиты, жителей города, крестьян из близлежащей деревни и множества свиней, палач изуродовал ее, порезав ей рыло и срезав мясо с ляжек. Потом, надев на нее нечто вроде маски в виде человеческого лица, ее подвесили за задние ноги к специально для этого установленной Y-образной виселице и оставили в таком положении, пока не наступила смерть. А смерть, разумеется, наступила быстро, потому что из ран животного ручьями лилась кровь. Но на этом зрелище не закончилось. Снова привели кобылу, а труп свиньи, после имитации удушения, привязали к решетке и приступили к позорному ритуалу волочения. Наконец, когда кобыла прошла по площади несколько кругов, изуродованные останки несчастного животного были помещены на костер и сожжены. Нам неизвестно, что сделали с прахом, но мы знаем, что некоторое время спустя по приказу виконта Фалеза в церкви Святой Троицы было создано большое настенное панно, дабы увековечить память об этом событии[34].
Событие это необычно по нескольким причинам. Переодевание свиньи в человека, телесное изувечение, двойное ритуальное волочение и особенно присутствие на месте казни ее сородичей- свиней — все это и в самом деле необыкновенно. Зато, вероятно, более привычным делом в конце XIV века была публичная казнь животного, которое, совершив преступление или серьезный проступок, mesfet, представало перед судом светских властей, судивших его, а затем приговаривавших к смерти. Это и произошло со свиньей из Фалеза, виновной в смерти младенца; но в отличие от многих других процессов, этот процесс оставил след в архивах[35].
В большинстве случаев об этих странных церемониях мы узнаем именно из документов судебных архивов. Но еще чаще на след таких процессов историка наводит не рассказ (в редчайших случаях) о казни и даже не документ, содержащий текст приговора, в котором выносится соответствующее решение, а просто записи в расходных книгах. В ожидании суда животное содержалось в тюрьме: стало быть, нужно было его кормить, платить тюремщику, а при необходимости — и хозяину помещения. Заключение могло длиться от одной до трех недель. К тому же нужно было заплатить палачу и его помощникам, а также плотникам, каменщикам и различным ремесленным гильдиям, которые устанавливали эшафот или изготавливали орудия наказания. Кроме того, поиск виновного животного, конвоирование его до тюрьмы, сопровождение к месту свершения его неизбежной участи требовали участия судебных приставов и стражников. Наказывать за преступление — весьма и весьма дорогостоящее занятие в Средние века[36]. Так что все суммы тщательно фиксировались в расходных книгах судебных властей или нотариуса, туда же вносились имена получателей и (иногда) некоторые уточнения по поводу выполненных работ. По делу о фалезской свинье из расписки от 9 января 1386 года, составленной письмоводителем нотариуса по имени Гийо де Монфор, мы, к примеру, узнаем, что городской палач получил за свою работу десять турских су и десять денье — чем остался «весьма доволен», — а затем еще десять су для покупки пары новых рукавиц. Более чем значительная сумма для пары рукавиц, но предыдущие, видимо, были настолько сильно запятнаны как в прямом, так и в символическом смысле, что данное обстоятельство нужно было компенсировать чем-то сверх обычного вознаграждения.
Об этом деле, одном из наиболее подробно задокументированных среди шести десятков процессов, засвидетельствованных во Франции с XIII по XVI век, нам известен еще целый ряд подробностей. Виконта, то есть королевского бальи[37], так как в этом районе Нормандии судебные округа назывались виконтствами, звали Реньо Риго. Он был виконтом Фалеза с 1380 по 1387 год. Бесспорно, именно он огласил приговор и возглавил церемонию экзекуции. И вероятно, именно ему пришла в голову удивительная мысль собрать на казнь крестьян не просто с семьями, но и со свиньями, дабы это зрелище «преподнесло им урок»[38]. И, наконец, именно он заказал панно для церкви Троицы, чтобы увековечить память об этом событии.
Судьба панно сложилась довольно бурно. Написали его на стене нефа вскоре после казни, но осенью 1417 года, во время тяжелой осады города королем Англии Генрихом V оно было уничтожено вместе со значительной частью церкви. А затем восстановлено на стене южной части трансепта, когда точно — неизвестно, и не очень понятно, по какому образцу. Оно сохранилось до начала XIX века, но в 1820 году церковь побелили, и это любопытнейшее настенное панно было утрачено навсегда. Однако некоторые авторы оставили нам его описание:
Это своеобычное художество представляет собой фреску, выполненную на западной стене южного крыла трансепта церкви Святой Троицы в Фалезе. На этой стене, рядом с лестницей на колокольню, изображены растерзанный ребенок и его брат, лежащие в колыбели друг возле дружки. Далее, ближе к середине стены изображены виселица, свинья в человеческой одежде, которую палач вешает в присутствии виконта; тот, на лошади, в шляпе с плюмажем, уперев руку в бок, наблюдает за исполнением приговора[39].
Нам даже известно, что свинья была «одета в куртку и короткие штаны, штаны были на задних ногах, а на передних — белые перчатки; ее повесили по приговору, вынесенному за отвратительное преступление»[40].
Преступление это было совершено в начале января. Младенцу было около трех месяцев; его звали Жан Лe Мо, и его отец был каменщиком. «Празднобродная» свинья, хозяева которой нам неизвестны, обглодала руку и часть лица ребенка, «от чего тот умер»[41]. Процесс длился девять дней, в течение которых свинью нужно было кормить, а также надзирать за ней. У свиньи был deffendeur, адвокат. Пользы от него было немного — да и задача у него, по правде сказать, была нелегкая — и его «клиентку» приговорили к смерти, нанеся ей перед этим те же увечья, которые она причинила своей жертве[42]. Виконт потребовал, чтобы казнь была осуществлена в присутствии хозяина животного, «чтобы посрамить его», и отца младенца «в наказание за то, что тот не присматривал за ребенком»[43]. Приговор был зачитан животному в тюрьме, точно мужчине или женщине. Впрочем, священника, который мог бы выслушать исповедь свиньи, никто не пригласил.
Подобный распорядок, видимо, вообще характерен для такого рода процессов. Владелец животного, в частности, никогда не нес уголовной ответственности[44]. Иногда от него требовали совершить паломничество, но обычно уже тот факт, что он лишался свиньи, лошади или быка, рассматривался как достаточное наказание. Виновным считался не человек, а животное[45]. И именно к животному — хотя, видимо, в исключительных случаях — применялась пытка. Так, например, в 1457 году, в Савиньи-сюр-Этан в Бургундии одна свинья созналась (!) под пыткой, что убила и частично сожрала пятилетнего Жеана Мартена, разделив эту зловещую трапезу со своими шестью поросятами[46].
Что касается пыток, то очевидна следующая закономерность: чем более поздним временем датируется процесс, тем чаще животное, обвиненное в совершении преступления, мучают перед исполнением казни. Имело бы смысл сопоставить эволюцию наказаний, применяемых к животным и применяемых к человеку с XIII по XVII век. Причиняют ли мужчинам и женщинам, приговоренным к смертной казни, все больше и больше физических страданий перед смертью — точно так же, как и животным, начиная с XIV века? Особенно если преступление было совершено в отягчающей форме или при отягчающих обстоятельствах, таких как коварство и предумышленность, беспощадность к жертве, проявление крайних форм жестокости и насилия, большое количество пролитой крови и т. д.[47] Эти отягчающие обстоятельства
иногда учитывались в процессах против животных, определяя те наказания или ритуалы, которые предшествуют казни или следуют за ней: выставление напоказ, волочение, калечение, осквернение и уничтожение трупа. Иногда отягчающим обстоятельством считался день или определенный период в году, в который было совершено преступление. Так, в 1394 году в Мортене в Нормандии свинья перед повешением была подвергнута волочению и поруганию не просто за то, что убила ребенка, но и за то, что наполовину сожрала его, и случилось это в пятницу, в постный день[48].
Историография, не оправдавшая ожиданий
Несмотря на то, что эти процессы, засвидетельствованные в различных областях Западной Европы начиная с XIII века, представляют огромный интерес, как в историческом и юридическом, так и в антропологическом плане, они по большей части еще не дождались своих исследователей. Только несколько юристов и историков права XIX — начала XX веков проявили к ним интерес. Некоторые посвятили этой «забавной», развлекательной и даже пикантной, по их мнению, теме часть своей диссертации или даже всю диссертацию целиком[49]. Одним из первых, кто высказал иную точку зрения и осознал всю значимость изучения подобной темы, был Карл фон Амира (1848-1930), реформатор этноистории германского права, дисциплины, основы которой были заложены в эпоху романтизма. К сожалению, он посвятил этой теме лишь одно небольшое исследование, которое не имело почти никакого резонанса[50]. Так что процессы против животных по-прежнему оставались сюжетом «исторических анекдотов» наравне с другими curiosa ridiculosa[51] прошлого.
По правде говоря, работать над подобной темой непросто. Зачастую архивные материалы по таким процессам сводятся к мизерным крохам, рассеянным по запутанным лабиринтам хранилищ. Как во Франции, так и в соседних странах старые судебные учреждения устроены настолько сложно, что исследователи подчас не решаются забираться в их архивы. А между тем, для
изучения истории повседневности, как и для изучения особенностей мировосприятия эпохи, судебные архивы, несомненно, являются самыми содержательными из всего, что оставило нам позднее Средневековье. Кроме того, некоторые юристы XVI-XVII веков уже частично подготовили почву для изучения интересующей нас темы: задавшись вопросом о законности и эффективности подобных процессов, они составили несколько сборников судебных случаев, а порой и самых настоящих трактатов, которые, несмотря на свой отрывочный характер, могут послужить точкой отсчета для наших исследований[52].
Среди этих юристов следует упомянуть Бартелеми де Шаснё (Chasseneuz, 1480-1541), бургундского магистрата, более известного под именем Шасне (Chassenee). Он начал свою карьеру как королевский адвокат в судебном округе Отён (1508), а закончил ее в должности председателя парламента Экса, на влиятельном судейском посту, занимая который, он боролся против вальденских деревень Прованса[53] (1532). Шасне оставил после себя множество трудов, в том числе книгу комментариев к «Бургундской кутюме»[54] и, самое главное, сборник разъяснений по различным вопросам юриспруденции. В первой части книги он затрагивает ряд вопросов, касающихся порядка «судебных процедур, применяющихся против вредоносных животных». В легенде более позднего происхождения, возможно, выдуманной протестантским автором с целью высмеять Шасне, утверждается, будто в 1517 году Шасне пришлось по долгу службы защищать перед церковным судом Отёна крыс, наводнивших город и его окрестности. Искусство выступать в суде, должно быть, создало ему «репутацию добропорядочного и талантливого адвоката»[55]. Шасне не пишет об этом деле в своей книге, но, упомянув несколько похожих дел, составляет список наиболее «вредоносных» животных, которые наносят урон урожаям: в него попадают крысы, лесные мыши, полевки, долгоносики, слизни, майские жуки, гусеницы и другие «вредители». Затем он ставит ряд вопросов и пытается на них ответить, опираясь одновременно на мнение властей, на нормы обычного права и на уже существующие судебные прецеденты. На вопрос о том, следует ли привлекать всю эту мелкую живность к суду, он без раздумий отвечает утвердительно. Нужно ли вызывать в суд самих вредителей? Да. Если имеет место неявка в суд, может ли вместо них представительствовать доверенное лицо (адвокат), назначенное судом? Да. Какой суд правомочен рассматривать эти дела? Церковный суд, то есть суд епископа. Имеет ли суд право предписать грызунам и насекомым покинуть территорию, которой они наносят вред? Да (вместе с тем Шасне признает, что большинство из них поедают урожай потому, что это их «естественное» занятие). Каким способом следует с ними расправляться? Посредством заклинаний, проклятия, анафемы и даже отлучения от церкви[56]!
Именно так некоторые прелаты, кажется, и поступали на протяжении нескольких столетий. Во Франции самое раннее свидетельство (правда, сомнительное) касается ланского диоцеза[57], где в 1120 году епископ Бартелеми «проклинает и отлучает» лесных мышей и гусениц, наводнивших поля, так, точно имеет дело с еретиками[58]. Год спустя он тем же способом расправляется с мухами. Возможно, со временем обнаружатся и более ранние свидетельства подобных случаев[59]. С XIV века количество таких дел несколько возрастает и не снижается до начала Нового времени. Например, в 1516 году епископ Труа Жак Рагье приказывает hurebets (разновидность саранчи), наводнившей виноградники в районе Вильнокса, покинуть его диоцез в течение шести дней, иначе ее отлучат от церкви. Пользуясь случаем, он напоминает своей пастве о том, что следует «воздерживаться от всяких преступлений и честно платить установленную обычаем десятину»[60]. Те же угрозы в диоцезе Баланса в 1543 году звучат в адрес слизней[61], а в диоцезе Гренобля в 1585 году — в адрес гусениц[62]. В последнем деле официал[63], прежде чем огласить решение об отлучении, любезно предлагает гусеницам удалиться на невозделанные поля, которые им специально для этого предоставят. Впечатления на гусениц это не произвело. Тем не менее подобные предложения насекомым будут иногда делать и в XVII, и даже в XVIII веке (последние засвидетельствованные случаи: в Пон-дю-Шато в Оверни в 1718 году[64] и в районе Безансона около 1735 года[65]).
Эти «коллективные» дела, возбужденные против грызунов и «вредителей», изучены лучше, чем дела «индивидуальные», касающиеся крупных домашних животных, и оставили больше следов в архивах, особенно в альпийских областях, — возможно, просто потому, что попали под юрисдикцию церковного правосудия[66]. Недавно вышедшее замечательное исследование, посвященное экзорцизму и процессам против животных в диоцезе Лозанны в конце Средневековья и в начале Нового времени, вновь привлекло к ним внимание. В работе речь идет о том, как перед судом епископа сходятся в лице своих представителей в тяжбе за урожай и прочие дары земли местное население и «вредители». В исследовании показывается, что в борьбе с такими бедствиями, которые порой в буквальном смысле сваливались с неба (саранча, майские жуки, мухи), Церковь применяла множество литургических профилактических средств (различные покаяния, процессии с молебном об урожае, окропление святой водой, выставление реликвий) и только потом переходила к таким ритуальным действиям, как заклинания, экзорцизм и, наконец, отлучение. Остается пожелать, чтобы эта прекрасная книга, написанная Катрин Шэн[67], стала примером для новых исследований по другим областям.
Вешать или сжигать свиней — не совсем то же самое, что отлучать от церкви крыс или насекомых. Между делом фалезской свиньи и делом овернских крыс или вильнокской саранчи дистанция огромная. Посередине же располагаются другие дела, по которым перед различными, как светскими, так и церковными судами предстает целый бестиарий. Тем не менее эти процессы можно распределить по трем категориям. Прежде всего это «индивидуальные» дела, возбужденные против домашних животных (свиней, крупного рогатого скота, лошадей, ослов, собак), — одной конкретной особи, которая убила или тяжело ранила мужчину, женщину или ребенка[68]. Это уголовные «дела; церковная власть в них не вмешивается. Далее — «коллективные» процессы: либо против крупных диких млекопитающих (кабанов, волков), которые разоряют земли или угрожают населению, либо — чаще — против мелких животных (грызунов, насекомых, «вредителей»), которые уничтожают урожаи. Это бедствия. На первых светские власти организуют облавы, вторыми надлежит заниматься Церкви, которая прибегает к экзорцизму и порой предает их анафеме, проклиная[69] или отлучая от церкви[70]. В связи с этим вспоминают о том, как Бог проклял змея, который в начале книги Бытия стал орудием Сатаны[71]. Подобные практики, сочетающие в себе черты литургического ритуала и ритуала судебного, требуют участия и экзорциста, и официала диоцеза. Наконец, есть третий тип процессов: в них фигурируют животные, замешанные в таком преступлении, как скотоложство. Изучение этих дел сопряжено с трудностями, так как документы по подобным процессам часто исчезали, возможно, одновременно с виновниками. Иногда мужчину (или женщину) и животное (которое считалось соучастником) помещали живыми в один мешок вместе с подлинниками протоколов следствия и сжигали на костре — видимо, для того, чтобы не осталось никаких следов столь ужасного преступления[72]. Трудно понять, насколько часто в Средние века имели место эти скудно задокументированные преступления, связанные со скотоложством[73]. Все, что написано по этой теме, имеет мало отношения к серьезным научным исследованиям. Кроме того, обвинения в скотоложстве порою требуют подтверждения, заставляя исследователя погружаться в дела весьма туманные, где спустя столетия отличить правду от лжи становится очень непросто.
Возьмем, к примеру, печальную историю Мишеля Морена. В 1553 году в возрасте шестидесяти пяти лет этот виноторговец из анжуйского Боже был обвинен своей молодой женой Катрин, известной в округе бой-бабой и женщиной легкого поведения, в том, что приобрел овцу для «плотских наслаждений» и совершил с ней соответствующий акт три раза: 13 ноября, 25 ноября (в день Святой Екатерины!) и 1 декабря. Любезный сосед, местный аптекарь и любовник молодой женщины, утверждал, что Морен признался ему в том, что «предпочитает своей жене овцу». Слуга супружеской четы, некий Жанно, также, несомненно, пользовавшийся расположением Катрин, подтвердил его слова. Судья и прево Боже арестовал Мишеля Морена 13 декабря. Последний отрицал, что совершал действия, в которых его обвиняют, и утверждал, что его жена, слуга и аптекарь состоят в заговоре, так как хотят завладеть его состоянием. Судья решил, что Морену нужно устроить допрос с пристрастием. Морен же, увидев приготовления к пытке, начал вопить и сознался в том, что «купил овцу с вышеназванной целью, но совершил с ней телесное соитие только раз». 15 января 1554 года он был приговорен к смерти через повешение и сожжение в одном мешке с овцой. Его имущество было конфисковано в пользу жены. Через два года после казни престарелого мужа последняя вышла замуж за аптекаря[74].
Еще более специфичны дела о колдовстве или ересях, в которых тем или иным образом замешаны животные (кошки, собаки, козлы, ослы, вороны). Подобные случаи ставят перед историком разнообразные вопросы и требуют отдельных исследований, для которых я признаю себя недостаточно компетентным. Кроме того, вопреки весьма расхожему мнению, эти дела касаются в основном не Средневековья, а главным образом XVI-XVII веков.
Мои собственные изыскания касались исключительно первого случая, то есть процессов над крупными домашними животными, каждое из которых самостоятельно совершило преступление — в основном дето- или человекоубийство. Иногда в материалах процесса о преступлении или проступке, в котором обвиняют животное, говорится весьма расплывчато. Так, в Жизоре в 1405 году быка повесили за «его провинности»[75]. А в 1735 году в Клермон-ан-Бовези ослицу расстреляли из аркебузы за то, что она «плохо приняла» свою новую хозяйку. Однако самые тяжкие и наиболее часто встречающиеся преступления — это человеко- и детоубийства. По этим делам через суд проходит целая вереница коров, быков, коней, кобыл, баранов и особенно свиней. Во Франции с XIV по XVI век правосудие, кажется, почти всегда действует согласно одному и тому же ритуалу: животное берут живым и заключают под стражу в тюрьму, принадлежащую местному суду по уголовным делам; суд составляет протокол, проводит расследование и привлекает животное к ответственности; судья выслушивает свидетелей, сопоставляет данные следствия и выносит приговор, который зачитывается животному в тюремной камере[76]. С вынесением приговора полномочия суда заканчиваются, животное отныне находится в распоряжении местных властей, на которые возложено исполнение наказания.
Наказание могло осуществляться через повешение (чаще всего), сожжение на костре, удушение (редко), обезглавливание (применялось к крупному рогатому скоту), утопление или закапывание в землю[77]. Наказание, как мы видели, могло сопровождаться ритуалами выставления, поругания или калечения. Если по той или иной причине предусмотренная казнь не могла быть осуществлена, осужденное животное «выпускали на волю» и возвращали хозяину. Так, в 1462 году в Боресте, приходе, находящемся под юрисдикцией аббатства Святой Женевьевы, свинья, которая сожрала ребенка в то время, как его родители находились в церкви, была освобождена ввиду отсутствия возможности ее повесить: монастырская виселица упала из-за того, что прогнила («cheues par poureture»)[78]. Если личность виновного животного не могла быть установлена или животное не представлялось возможным поймать, то подчас брали любую случайную особь того же вида, заключали под стражу, судили и приговаривали вместо него (хотя не казнили). Однако для замены виновного животного, которое ускользнуло от правосудия, чаще, видимо, прибегали к другому методу: он состоял в осуждении и казни чучела, замещающего животное. Самый ранний документально подтвержденный случай во Франции датируется 1332 годом. На территории прихода Бонди в окрестностях Парижа в результате несчастного случая, причиной которого стала лошадь, погиб человек. Этот приход, находившийся под юрисдикцией приората Сен-Мартен-де-Шан, был известен весьма строгими порядками. Поэтому владелец лошади поспешил отогнать животное на территорию, находящуюся под юрисдикцией другого суда. Но хитрость была раскрыта, и его арестовали. Он был приговорен к выплате штрафа, эквивалентного стоимости лошади; кроме того, его обязали предоставить суду Сен-Мартен-де-Шан «фигуру лошади», которую проволокли по улицам и повесили, как того требовал привычный ритуал[79].
Почему так часто судят свиней?
Однако звездой этого судебного бестиария является вовсе не лошадь, а свинья. В девяти случаях из десяти именно она предстает перед судом. Так что для исследователя история этих процессов очень быстро превращается в историческую «антропологию» свиньи.
Тот факт, что свинья занимает здесь центральное место, обусловлен различными причинами. Главная, бесспорно, состоит в численной закономерности. Среди млекопитающих поголовье свиней было в Европе, пожалуй, наиболее многочисленным до начала Нового времени. Овцы, вопреки общепринятому мнению, занимают лишь второе место. Конечно, поголовье свиней распределялось неравномерно и, по всей видимости, сокращалось, начиная с середины XVI века; тем не менее фактор численности не теряет своего значения. Зооархеология не дает свидетельств в пользу столь многочисленного поголовья свиней. Ее подсчеты в области скотоводства и потребления мяса основываются на количестве найденных костей, и потому возникает тенденция недооценивать поголовье свиней относительно поголовья овец или коров. Поступая так, зооархеологи в действительности забывают, что «свинья всем хороша» и что из ее костей изготавливают массу предметов и продуктов (в частности, клей). Кроме того, с методологической точки зрения, допущение, что число домашних животных, живших в конкретную эпоху на конкретной территории, пропорционально числу их останков, найденных на данной территории, является по меньшей мере спорным[80].
Свиньи не только были самыми многочисленными из домашних животных, но, что еще важнее, обладали наибольшей свободой перемещения. В городе, где они исполняли роль мусорщиков, их можно было встретить везде, на всех улицах, во всех садах и даже на кладбищах (где они пытались раскапывать могилы). Несмотря на запреты муниципальных властей, повторяющиеся вновь и вновь во всех городах Европы с XII по XVIII век, бродячие свиньи были частью повседневной жизни. В некоторых городах — например, в Неаполе — так продолжалось вплоть до начала XX века. Поэтому неудивительно, что «празднобродные» свиньи причиняли ущерб или становились причиной несчастных случаев чаще, чем все прочие домашние животные[81].
Но есть еще одна причина, объясняющая присутствие свиньи в суде: ее родство с человеком. В действительности для древних обществ наиболее близким человеку животным был не медведь (несмотря на его внешний облик и предполагаемый обычай спаривания more hominum[82]) и еще того меньше обезьяна (только в XVIII веке сходство стало допускаться всерьез), а именно свинья. Медицина, с Античности и до XIV, а иногда и вплоть до XVI века изучавшая анатомию человеческого тела на основе препарирования свиных туш, не ошибалась относительно сходства во внутреннем строении двух существ (что полностью подтверждает современная медицина в отношении пищеварительной и мочеполовой систем, тканей и кожного покрова[83]). Кроме того, в христианской Европе эта практика позволяла обойти запреты Церкви, до самого позднего времени осуждавшей вскрытие человеческого тела. Поэтому анатомию человека в медицинских школах изучали, препарируя хряков или самок свиней[84].
От недр телесных до недр души один шаг. И некоторые авторы пытались его совершить, или, по крайней мере, задумывались о том, не следует ли из анатомического родства родство иного свойства. Отвечает ли свинья за свои поступки, подобно человеку? Способна ли она отличить добро от зла? А если говорить не только о свинье, можно ли считать всех крупных домашних животных существами моральными и способными к самосовершенствованию?
Большая часть процессов как раз и выводит нас на все эти немаловажные вопросы. Юристы и теологи размышляли над ними с давних пор. Например, в конце XIII века Филипп де Бомануар, знаменитый составитель «Кутюм Бовези», утверждает, что устраивать суд над свиньей, убившей ребенка, — «напрасное правосудие», ибо звери не знают, что есть зло, и не способны осознать смысл налагаемого на них наказания[85]. Однако это не самое распространенное мнение. Популярность оно завоюет лишь через несколько веков. В XVI веке многие юристы по разным причинам по-прежнему считали, что животных, виновных в человеко- или детоубийстве, надлежит наказывать. Они видели в этом способ осуществить акт образцового правосудия и показать, что оно касается всех. Так, Жан Дюре, автор «Трактата о наказаниях и штрафах», вышедшего в 1572 году и до падения Старого режима[86] несколько раз переиздававшегося, пишет: «Если животные не просто ранили, а убили или съели человека, что, как показывает опыт, часто происходит с маленькими детьми, которых пожирают свиньи, то за это они должны поплатиться жизнью. Их следует приговорить к повешению и удушению, дабы сохранить память о чудовищности их поступка[87]». Чуть позже его коллега Пьер Эро, автор труда «Судебный порядок, процесс и следствие», впервые опубликованного в 1575 году, но остававшегося библией правосудия и для французских юристов XVII века, высказывает такое же мнение. С его точки зрения, животные, несомненно, лишены разума и не могут осознать, в чем их обвиняют. Однако основная цель правосудия — преподнести урок; поэтому, «если мы видим на виселице свинью, наказанную за то, что она съела ребенка, то цель этого — предупредить отцов, матерей, кормилиц и слуг, чтобы они не оставляли детей без присмотра и чтобы получше запирали животных, дабы те не могли нанести вред или причинить зло»[88].
Теологи, в свою очередь, подчеркивают, что Библия советует умерщвлять животных-человекоубийц, ибо они одновременно и преступны, и нечисты. В книге Исход говорится так: «Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями и мяса его не есть; а хозяин вола не виноват»[89]. Кроме того, по мнению некоторых средневековых авторов, животное частично ответственно за свои поступки. Как и все живые существа, оно обладает душой (которая сначала понималась как дыхание жизни и которая после смерти возвращалась к Богу). Эта душа не только вегетативна (то есть наделена началом, связанным с питанием, ростом и репродукцией), как у растений, и чувственна (наделена началом восприятия как такового), но также отчасти рассудочна, так же как душа человека, по крайней мере, у «высших животных». Действительно, некоторые авторы отмечают, что животные видят сны, умеют узнавать, делать выводы, помнить, могут приобретать новые повадки. Проблема состоит, однако, в том, чтобы понять, обладают ли животные также мыслительным и духовным началом, как человек. Фома Аквинский решительно утверждает, что два этих свойства присущи исключительно человеку: высшее животное, конечно, наделено способностью чувственного познания, некоторым практическим разумом и, кроме того, способно испытывать различные эмоциональные состояния, но оно не воспринимает нематериальное; оно может воспринять некий конкретный, знакомый ему дом, но абстрактное понятие дома недоступно для его понимания[90]. Альберт Великий, утверждавший, что животное порой способно к дедукции, делает другую оговорку, подчеркивая, что даже для самого умного животного знаки всегда остаются сигналами и никогда не становятся тем, что мы сегодня назвали бы символами[91]. Вот два основных различия, которые устанавливают между зверем и человеком непроницаемую границу. Животное воспринимает только случайное, конкретное: никакая религиозная или этическая идея, никакое абстрактное понятие для него непостижимы. Поэтому Фома Аквинский выступает против процессов над животными: последние могут распознать некоторое количество res и signa[92], но они не могут отличить добро от зла[93].
Это не мешает схоластической теологии задаваться множеством вопросов относительно будущей небесной или земной жизни животных, о которых упоминалось выше, и размышлять по поводу того, следует ли их считать морально ответственными за свои поступки. Несмотря на авторитет Фомы Аквинского, многие позднесредневековые теологи и юристы продолжают утвердительно отвечать на последний вопрос.
В XVII веке вопрос этот почти потерял свою актуальность. Некоторые философы резко выступают против аристотелевской концепции души. Декарт, к примеру, полагает, что у животных души нет и что они лишены разума. Это почти механические машины (чуть позже Ламетри распространит эту теорию и на человека)[94]. Мальбранш считает, что животные не испытывают страданий, так как последние являются следствием первородного греха, к которому они не имеют никакого отношения. По мнению других авторов, число которых все увеличивается, полагать, что животные — это моральные существа, отвечающие за свои поступки и способные к совершенствованию, просто абсурдно[95]. Так, Расин в своей комедии «Сутяги» (1668) высмеивает суд над собакой, которая стащила каплуна и которую судья Данден приговорил к каторге[96].
Итак, по сравнению со Средневековьем, в Новое время дистанция между животным и человеком увеличилась. Теория Дарвина о происхождении видов — дело будущего. На заре Просвещения пугающей картезианской и посткартезианской теории о «животных-машинах» защитники животных могут по-прежнему противопоставить только аргументы из Священного Писания: Иисус родился в хлеву; он явился в этот мир, чтобы спасти всех живых созданий, ибо, как утверждает апостол Павел, все живые создания — дети Божьи[97].
В средневековой культуре все иначе: животное всегда в том или ином смысле служит для назидания. С точки зрения правосудия, привлекать животных к ответственности, судить их и выносить им приговор (или оправдывать) означает совершать образцовый судебный ритуал. Это вовсе не «напрасное правосудие», как считает Бомануар, напротив, это акт, необходимый для утверждения «справедливого правосудия». От которого никто не может ускользнуть, даже животные. Всякое живое существо является субъектом права.
Я довольно давно заинтересовался вопросом о количестве дел, возбужденных против домашних животных. Часто ли заводились подобные дела? Возможно. Но в таком случае, почему в архивных документах сохранилось так мало свидетельств (напомню, что известно около шестидесяти документально подтвержденных процессов, имевших место во Франции с середины XIII до конца XVI века)? Связано ли это со случайными обстоятельствами хранения и передачи архивных документов? Или с умышленным уничтожением материалов дел? Или все-таки такие дела заводились редко, и даже очень редко, а значит, ритуал судебного процесса и зрелище казни привлекали к себе тем большее внимание, выполняя роль показательную и назидательную? На данный момент именно второе предположение кажется мне более вероятным. По крайней мере, относительно позднесредневекового периода. Процессы над животными, проводившиеся с XIII века, представляют собой настоящие ритуализованные exempla. Они показывают пример идеального отправления «справедливого правосудия», основанного на инквизиционном процессе со всеми его ритуалами (исполняемыми до мельчайших деталей). Кроме того, правосудие в данном случае не подвержено риску подкупа свидетелей или отказа подсудимых от ранее данных показаний, как часто бывает в других случаях. Здесь все образцово-показательно. В этом отношении данные процессы должны в будущем особенно заинтересовать историков, занимающихся правом и судебными ритуалами.
Однако интерес к этим процессам не ограничивается сугубо юридической сферой. Эти дела лишний раз, и зачастую нагляднее, чем любой другой материал, демонстрируют нам самую большую опасность, которая подстерегает историка, исследующего отношения между человеком и животным миром в обществах прошлого: опасность анахронизма. Некоторые приведенные выше вопросы сегодня вызовут у нас лишь улыбку (законно ли заставлять животных работать в воскресенье? следует ли заставлять их поститься? куда они попадут — в ад или в рай?). И совершенно напрасно. По крайней мере, в том случае, если мы занимаемся историческими исследованиями, а значит, не имеем права проецировать на прошлое наши собственные представления и знания о мире. Они отличаются от тех, что были у нас вчера (и будут отличатся от тех, что появятся у нас завтра). Наши сегодняшние знания — вовсе не абсолютная и непререкаемая истина, а всего лишь один из этапов не склонной к постоянству истории познания. Если исследователь не будет отдавать себе в этом отчета, то он рискует впасть в научный редукционизм, который не только неприемлем идеологически, но также является источником опасных с методологической точки зрения неясностей, заблуждений и нелепостей.
Как в средневековом бестиарии появился царь зверей
Откуда на средневековом Западе столько львов? Ответить на этот вопрос не так-то просто. Для этого нам придется вторгнуться на территорию самых разнообразных источников и дисциплин, начиная с зооархеологии и истории зверинцев и заканчивая изобразительными свидетельствами и литературными текстами, не забыв при этом лексикологию, зоологию, социальные коды, геральдику, антропонимику и фразеологию. Зато гораздо проще констатировать тот факт, что львы встречаются повсюду, в любых местах, в любых контекстах: иногда львы самые настоящие — из плоти и шерсти, но чаще всего львы рисованные, скульптурные, лепные, вышитые, вытканные, представляющие собой предмет повествования или описания, львы выдуманные, воображаемые.
Дикие львы исчезли из Западной Европы уже очень давно — вероятно, за несколько тысячелетий до нашей эры. Римляне регулярно привозили их в большом количестве для цирковых забав из Северной Африки или Малой Азии, а иногда и из более отдаленных земель. К эпохе Средневековья лев уже давно не являлся представителем местной фауны. Однако мужчины и женщины феодальной эпохи могли видеть львов вживую; конечно, не каждый день, но, возможно, не так уж и редко, как могло бы показаться на первый взгляд. На самом деле существовало множество передвижных зверинцев, которые кочевали с ярмарки на ярмарку, с рынка на рынок. Среди довольно разнообразной фауны там можно было увидеть медведей, которые плясали и проделывали акробатические трюки, а время от времени и льва, а то и нескольких. Последние, разумеется, были настоящими «звездами», и люди иногда проделывали долгий путь, чтобы на них посмотреть. Помимо этих скромных бродячих зверинцев существовали и более крупные зверинцы, иногда стационарные, порой передвижные, и львы в них по праву занимали первое место: это зверинцы княжеские и королевские[98].
В средневековой Европе эти зверинцы[99] всегда являлись знаком власти. Так было уже в Античности и так будет в Новое время. Поначалу такими зверинцами владели только короли, крупные сеньоры и иногда аббатства. С XIII века им стали подражать некоторые города, капитулы[100] и отдельные состоятельные прелаты. Назначение их состояло вовсе не в том, чтобы удовлетворить любопытство публики, жаждущей поглазеть на хищных или необычных зверей, а в том, чтобы явить миру живые эмблемы и символы власти, покупать, содержать, дарить или обменивать которые могли только самые могущественные люди. В этом смысле всякий зверинец являлся «сокровищем»[101]. К сожалению, источников, рассказывающих о зверинцах, не так много и обычно в них содержатся весьма скудные сведения. В частности, мы не располагаем описями или перечнями, которые дали бы нам представление о составе конкретного зверинца того или иного князя, в тот или иной момент времени, в том или ином месте[102]. Хотелось бы побольше узнать и о соотношении местных и экзотических зверей, диких и домашних, опасных и безобидных, крупных и мелких, о том, какие животные были представлены в единственном экземпляре, а какие — в некотором количестве. Внимательное изучение состава зверинцев было бы полезным во многих отношениях. В зверинцах раннего Средневековья преобладают медведи, кабаны и львы. В феодальную эпоху кабаны и вовсе из них исчезают, медведей становится меньше, а вот львов, а также леопардов и пантер — наоборот, больше. В конце Средних веков растет популярность экзотических животных, как северных (моржи, северные олени, лоси), так и азиатских (пантеры, верблюды) и африканских (слоны, дромадеры, обезьяны, антилопы, дикие ослы). Но, как и прежде, главной звездой зверинца остается лев — непременный атрибут любого носителя власти[103].
Таким образом, увидеть живого льва в средневековой Европе можно было не так уж и редко, даже в сельской местности. Но львы нарисованные, скульптурные, вышитые или лепные, конечно, попадались на глаза куда чаще. Точнее говоря, практически ежедневно — настолько часто встречаются изображения львов в церквях, на светских зданиях и надгробиях, на объектах искусства и предметах материальной культуры. В церкви, как романской, так и готической, львов можно увидеть повсюду — снаружи и внутри, в нефе и на хорах, на полу, на стенах, на потолке, на дверях и на окнах: целых львов и львов гибридных, изображенных отдельно или в составе сцены. В изобильном декоре церквей, где бестиарию отводится существенное место, скульптурные львы встречаются сегодня чаще, чем львы нарисованные. Впрочем, значительная часть последних исчезла — как и большинство настенных изображений, — и к тому же мы не можем быть уверены в том, что все скульптурные звери, которых мы принимаем за львов, как таковые задумывались и таковыми воспринимались. Иногда это просто некие хищники семейства кошачьих, или даже просто четвероногие, которых нельзя отнести к какому-то определенному виду. Иногда мы также склонны путать льва с медведем: в Библии, в сочинениях Отцов церкви и в иконографии, которая их иллюстрирует, два этих зверя составляют пару. Только хвост и грива позволяют с определенностью отличить одного от другого. Еще чаще мы пытаемся назначить львом любого хищника или чудовище с разинутой пастью, которое будто бы глотает или изрыгает человека. Во многих случаях такое отождествление не обосновано, так как является чрезмерно конкретизирующим.
И тем не менее львы встречаются в избытке, особенно в скульптурном декоре романской эпохи. Но это касается не только скульптуры. Например, в иллюстрированных рукописях львов ничуть не меньше: льва здесь изображают чаще всего. В некоторых книгах лев присутствует на каждом развороте: и в основной миниатюре, и в буквицах, и в декоре полей. Вне зависимости от того, на какой поверхности или в какой технике выполнено изображение, лев в любом случае является «звездой» средневекового бестиария, весьма и весьма превосходящей по популярности остальных животных. Редко где и редко когда взгляд не натыкается на льва или сразу на нескольких. Лев, в полной мере являясь частью повседневности, заставляет историка поразмыслить над обоснованностью противопоставления в средневековой культуре «местных» животных и животных «экзотических». На современные классификации и представления здесь опять-таки следует опираться с большой осторожностью.
Господствующее положение льва в изобразительном бестиарии обнаруживается и в сфере эмблем и социальных кодов. Например, на льва прозрачно или отдаленно намекают многие собственные имена: крестильные имена, образованные от корня leo- (Leo, Leonardus, Leonellus, Leopoldus), фамильные имена, содержащие слово лев (Lionnard, Lowenstein, Leonelli), а также имена или прозвища выдающихся личностей (Генрих Лев, Ричард Львиное Сердце) или литературных персонажей (Роберт Лев, Лион Буржский, Лионель — кузен Ланселота). Однако начиная с XII века особенно богатым материалом в этой области нас снабжает не антропонимика, а геральдика.
Лев — действительно, самая часто встречающаяся фигура в средневековой геральдике (илл. 12). Он присутствует более чем на 15% гербов. И это весьма значительный процент, так как вторая по частотности фигура, пояс (геометрическая фигура в виде горизонтальной полосы), встречается менее чем в 6% случаев, а орел, единственный соперник льва в геральдическом бестиарии, — не более чем в 3%. Лев первый всегда и везде: как в XII, так и в XV веке, как в Северной Европе, так и в Южной, на гербах знати и на гербах людей незнатных, на гербах юридических лиц и на гербах лиц физических, в реальной геральдике и в геральдике литературной или воображаемой[104]. Известная поговорка «у кого нет герба, тот носит льва» появилась в XIII веке в рыцарских романах и все еще вполне обоснованно цитировалась в учебниках по геральдике XVII столетия. Можно заметить, что, за исключением императора и короля Франции, все наследные правители нехристианском Западе в тот или иной момент своей истории помещали на свои гербы льва или леопарда (каковой в геральдике является особой разновидностью льва).
Эту общую картину следует, однако, дополнить некоторыми географическими и хронологическими нюансами. Наиболее многочисленны львы во Фландрии и в Нидерландах; в альпийских областях — и, как правило, в горных районах вообще — они встречаются реже всего. С другой стороны, с XIII по XVI век индекс средней частотности льва везде ощутимо падает. Однако причина этого кроется в возрастающем разнообразии репертуара гербовых фигур, а отнюдь не в снижении количества самих львов. Лев повсеместно держит первое место. Первый по статистике, он также оказывается первым стараниями герольдов и авторов геральдических трактатов, составляемых с середины XIV века. Все они единодушно делают льва царем зверей и признают его гербовой фигурой par excellence. Так же как авторы бестиариев и энциклопедий, они наделяют его всеми качествами предводителя и воина (силой, смелостью, гордостью, щедростью, справедливостью), к которым иногда добавляются христологические черты (милосердие, жертвенность, сострадание).
Огромная популярность льва в средневековой геральдике часто констатируется, но остается практически необъясненной. Конечно, львы в большом количестве обнаруживаются на многих эмблемах и знаках отличия уже в Античности и раннем Средневековье. Но в большинстве регионов Европы орел, кабан, медведь и ворон встречаются на них, по крайней мере, не реже. Более того: с VI по XI век лев, если сравнивать с тем положением, которое он занимал в греко-римском мире, определенно теряет позиции в политической символике и воинской эмблематике, причем процесс этот затрагивает весь западный мир[105]. Но вот внезапно, начиная со второй половины XI века и на протяжении всего XII столетия, происходит массовое нашествие львов и «рыцарей со львом» (рыцарей с щитом или знаменем, на которых помещен лев), сначала в качестве изобразительных элементов живописного и скульптурного декора, затем в качестве литературных мотивов. Откуда взялись все эти пред- и протогеральдические львы? Я думаю, что определяющую роль здесь сыграло не влияние крестовых походов и заимствование франками византийских и мусульманских знаков отличия и эмблематических практик, а скорее регулярный ввоз с Ближнего и Среднего Востока тканей и предметов искусства, на которых часто изображались львы, и иногда почти в геральдических позах. Именно отсюда скульптура, живопись, литература и зарождающаяся геральдика позаимствовали фигуру, поддающуюся любым изобразительным и символическим преобразованиям. Но это объясняет далеко не все.
Геральдика появляется как раз в тот момент, когда лев стремительно завоевывает иконографию и область воображаемого. Во второй половине XII века щит со львом становится стереотипным щитом христианского рыцаря во всех произведениях латинской, французской и англо-нормандской литературы. Он противопоставлен щиту с драконом, характерному для языческого воина[106]. Только германские области еще в течение нескольких десятилетий продолжают сопротивляться распространению львов: в начале XIII века кабан по-прежнему остается здесь условным атрибутом литературного героя. Но это продлится недолго. Так, например, с 1230-х годов в Германии и Скандинавии такой почитаемый герой, как Тристан, меняет свой традиционный щит с кабаном на щит со львом; то же самое произошло на два-три поколения раньше во Франции и в Англии, а чуть позже произойдет также в Австрии и северной Италии[107]. В конце XIII века во всех уголках Западной Европы лев в качестве гербовой фигуры становится обязательным атрибутом всякого литературного героя.
Прежде чем ставить вопрос о символике льва в собственно средневековой христианской традиции и пытаться выяснить, каким образом она объясняет (или не объясняет) обилие львов на изображениях и гербах, следует напомнить о месте этого животного в контексте трех культурных традиций, которые достались христианскому Средневековью по наследству: библейской, греко-римской и «варварской» (германской и кельтской).
В библейские времена дикие львы все еще водились в Палестине и на всем Ближнем Востоке. По сравнению с африканскими, здешние львы (leo persicus) были меньше по размеру и нападали главным образом на скот, реже — на людей. Многочисленная популяция львов, обитавшая в этих областях в течение нескольких тысячелетий, к периоду римского завоевания сократилась, а к эпохе крестовых походов почти совсем исчезла. В Библии лев упоминается довольно часто, при этом особо подчеркивается его сила: побороть льва — это подвиг, все цари и герои, отличающиеся незаурядной силой, сравниваются со львами. Тем не менее с символической точки зрения мы имеем дело с неоднозначным животным: бывает хороший лев, а бывает плохой. Последний встречается чаще. Опасный, жестокий, свирепый, хитрый, нечестивый, он олицетворяет силы зла, врагов народа израильского, тиранов и дурных царей, людей, живущих в пороке. Важное место ему отводится в Псалмах и в книгах Пророков, где он представлен страшным зверем, от которого нужно бежать не раздумывая, моля Бога о защите: «спаси меня от пасти льва», — взывает псалмист[108]; его молитву будут повторять на протяжении всего Средневековья. Новый Завет заходит еще дальше и воплощает в нем образ Дьявола: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою [...]»[109]. Но есть и хороший лев, который служит силой своей общему благу, и рычание его являет слово Божие. Он самый отважный из всех животных и является эмблемой колена Иудина, самого могучего колена израильского[110]. На этом основании он ассоциируется с Давидом, его потомками и даже с Христом: «...не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее»[111].
Греческие и латинские авторы, как и Библия, тоже часто вспоминают о льве. Им он хорошо известен — хотя бы по цирковым зрелищам, для которых требовалось огромное количество львов; многие приписывают ему нечто вроде верховенства над всеми остальными животными. Однако никто, даже сам Аристотель, прямо не провозглашает его «царем зверей». А Плиний, кажется, даже предпочитает видеть в этой роли слона, с рассказа о котором начинается восьмая книга его «Естественной истории», посвященная четвероногим животным. Шесть веков спустя Исидор Севильский, напротив, начинает свои рассуждения о диких зверях (de bestiis) именно со льва и называет его “rех, ео quod princeps sit omnium bestiarum[112]”[113]. Он — царь, не потому, что является царем всех животных (rех animalium), а потому, что он — первый среди диких зверей (rех bestiarum). В данном случае мы имеем дело с восточной традицией (скорее иранской, чем индийской?), которая практически неизвестна греческим и римским авторам классической Античности, занимает скромное место в библейских текстах и медленно проникает на Запад в эпоху эллинизма.
У кельтов, чья мифология долгое время оставалась непроницаемой для средиземноморских и восточных традиций, ничего подобного мы не находим. До христианизации лев кельтам неизвестен и никак не представлен в эмблематической и символической фауне. Трон царя зверей занимает медведь (сам король Артур носит имя, происходящее от слова «медведь»), однако ряд животных — кабан, олень, ворон, лосось — составляют ему в рамках мифологического бестиария сильную конкуренцию. Германские традиции более сложны и разнообразны. В самых древних пластах германо-скандинавской мифологии нет, конечно, даже намека на львов. Однако с давних пор, задолго до христианизации, варяги, поддерживающие в районе Черного моря торговые и культурные контакты с обществами Центральной Азии и Среднего Востока, начинают привозить на Запад отчеканенные на металле, вырезанные из слоновой кости, вышитые на тканях изображения львов и грифонов. Эти изображения быстро приобретают совместимый с германскими традициями символический смысл. Грива, в частности, особенно возвышает льва в глазах германцев, поскольку длинная и пышная шевелюра всегда являлась у них знаком силы и власти. Когда в германские земли проникают первые миссионеры, привозя с собою Библию со всеми ее львами, этот хищник уже прекрасно знаком местным язычникам и даже занимает некоторое место в зооморфной символике и мифологии.
Противоречивый символизм библейского льва проявляется в христианской символике раннего Средневековья. Вслед за Августином, заклятым врагом льва и всех хищных зверей, большинство Отцов Церкви видят в нем дьявольского зверя: он необуздан, жесток, тираничен; силу свою он использует не во благо, его пасть напоминает бездну адову; борьба со львом — это борьба с Сатаной; победить льва, как это сделали Давид и Самсон, — значит совершить ритуал перехода, который увековечивает славу героев и святых. Однако некоторые Отцы и еще ряд авторов — Амвросий, Ориген, Рабан Мавр[114] — придерживаются иной точки зрения: опираясь главным образом на Новый Завет, они считают льва «владыкой зверей» и, следовательно, видят в нем образ Христа. Тем самым они готовят почву для будущего возвышения льва в контексте христианской традиции; оно прослеживается в текстах и изображениях с конца каролингской эпохи и особенно начиная с XI века.
Это возвышение происходит под влиянием латинских бестиариев, берущих начало от греческого «Физиолога», составленного в Александрии во II веке[115]. В согласии с восточными традициями, в частности с басенной, лев в бестиариях почти всегда предстает как rex omnium bestiarum, «царь всех диких зверей», а не как rex animalium, «царь животных»[116]. Царем всех зверей вообще он станет позже, в XIII веке, когда появятся большие энциклопедии, составленные Фомой из Кантемпре, Варфоломеем Английским и Винсентом из Бове[117]. Все трое называют льва rex animalium и посвящают ему длинные пассажи, уделяя куда больше внимания, чем всем прочим животным. Они подчеркивают его силу, смелость, щедрость и великодушие: все те качества, которые свойственны королям и которыми уже в самых древних «ветвях» «Романа о Лисе» (ок. 1170-1175) был щедро наделен король Нобль. Лев окончательно был превращен в царя зверей.
Между тем, опять-таки под влиянием латинских бестиариев, лев приобретает важное христологическое значение. Все его «свойства» и «чудесные качества», восходящие к восточным традициям, связываются с Христом. Лев, заметающий хвостом следы, чтобы сбить с толку охотников, — это Христос, который скрывает свою божественность, облекаясь плотью во чреве Марии; он тайно перевоплощается в человека, чтобы тем самым ввести в заблуждение Дьявола. Лев, который щадит поверженного противника, — это Господь, который в милосердии своем щадит раскаявшегося грешника. Лев, спящий с открытыми глазами, — это Христос в склепе: человеческая его оболочка покоится, но божественная природа бодрствует. Лев, который на третий день оживляет дыханием своих мертворожденных детенышей, олицетворяет Воскрешение[118].
С того момента, как лев приобретает выраженное христологическое значение и улучшает свои позиции во многих сферах, перед писателями и художниками встает щекотливый вопрос: а как же быть с негативными характеристиками льва? Что делать с плохим львом, о котором твердят Книга Псалмов, святой Августин, Отцы Церкви, а вслед за ними и значительная часть представителей церковной культуры раннего Средневековья? Какое-то время бестиарии, изображения, эмблемы пребывали в подвешенном состоянии. Затем на рубеже XI—XII веков было найдено решение: сделать из плохого льва отдельное животное, со своим собственным именем, так, чтобы не путать его со львом христологическим, который уже практически занял трон царя зверей. Таким «запасным» животным становится леопард. Не настоящий леопард, а леопард воображаемый, который обладает многими качествами и внешними формальными признаками льва (однако не имеет гривы), но отличается дурной натурой. С XII века он часто встречается в литературных текстах и недавно возникшей геральдике, где предстает в качестве свергнутого льва, полульва и даже противника льва. В последней роли леопард предстает животным, родственным дракону, или союзником оного.
Рассмотрим на примере гербов роль и значение этого нового, странного зверя. Формально геральдический леопард — это всего- навсего лев, изображенный в определенной позе: голова всегда анфас, тело в профиль, чаще всего в горизонтальном расположении; в то время как у льва, напротив, голова и тело всегда изображены в профиль[119]. Вся разница и весь смысл заключены именно в анфасной постановке головы: в средневековой зооморфной иконографии изображение животного анфас почти всегда имеет уничижительное значение. У леопарда голова анфас, а у льва в профиль, значит, леопард — это «плохой» лев. Можно поразмыслить: не являются ли все эти бесчисленные хищники, изображаемые в романской скульптуре с головой, развернутой анфас, и с широко раскрытой пастью, именно леопардами?
Собственно геральдическое происхождение леопарда связано с эволюцией герба Плантагенетов во второй половине XII века. Останавливаться на этом подробно не позволяют рамки данной главы[120], упомянем только, что именно Ричард Львиное Сердце первым начал с 1194-1195 годов использовать герб с тремя леопардами, который затем будут воспроизводить все его преемники (его отец Генрих II уже, возможно, использовал щит с двумя леопардами). До середины XIV века во всех гербовниках животные с телом, изображенным в профиль, а головой — анфас, продолжают называться леопардами, несмотря на все негативные коннотации. Но с этого момента герольды английских королей начинают избегать этого слова, предпочитая ему выражение «львы шагающие стерегущие» (горизонтально расположенные львы с головой анфас), которое окончательно закрепляется в конце XIV века, в эпоху Ричарда II[121]. Эта странная терминологическая замена имеет под собой одновременно политические и культурные основания. В разгар Столетней войны французские герольды не перестают подвергать английского леопарда — плохого льва, зверя-бастарда, плод совокупления львицы с самцом пантеры, пардуса латинских бестиариев — насмешкам и нападкам. Вся зоологическая литература, начиная с XII века, действительно представляет леопарда в весьма неблагоприятном свете[122]. В гербах литературных или воображаемых персонажей (мифологических существ, персонифицированных пороков), а также в гербах персонажей, живших до возникновения геральдики (библейских фигур, античных героев), леопард становится уничижительной фигурой par excellence. В артуровских романах противопоставление щита со львом и щита с леопардом часто маркирует противостояние хорошего и плохого рыцарей (точно так же в эпических песнях щит со львом противопоставлялся щиту с драконом)[123]. Таким образом, английские короли сочли невозможным по-прежнему сохранять в качестве геральдической эмблемы животное со столь дурной репутацией. Не меняя своего облика, путем простой терминологической замены их леопард в 1350-1380 годах окончательно превращается в льва. Каковые и по сей день красуются на гербе королевы Елизаветы II.
До XIII века лев предстает главой зверей не только в бестиариях и энциклопедиях, но также в многочисленных изобразительных источниках: иконография отводит ему особое место, как с количественной, так и с качественной точек зрения. Рассмотрим для примера сюжет, который часто становится предметом изображения с раннехристианской и вплоть до феодальной эпохи и демонстрирует нам весьма примечательную вереницу животных, — Ноев ковчег.
На первый взгляд кажется, что изображения ковчега не могут дать историку какую-то существенную информацию. Но только на первый. Ведь эти изображения (на самых разнообразных поверхностях) демонстрируют тщательно составленный бестиарий, и уже сам выбор животных является красноречивым историческим свидетельством. На самом деле в книге Бытия, когда говорится о животных ковчега, не упоминается ни одного конкретного вида. В ней говорится только о том, что Бог повелел исполнить Ною: «Введи также в ковчег из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою в живых; мужеского пола и женского пусть они будут. Из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых»[124]. Так что художники и иллюстраторы относительно свободны в выборе животных для ковчега, и этот выбор очевидным образом отражает те системы ценностей, те способы мышления и восприятия, те знания и зоологические классификации, которые актуальны для определенной эпохи, а также определенной страны или общества. Пространство, которым располагают художники для изображения ковчега и его обитателей, способно вместить лишь ограниченное число животных, однако библейский текст оставляет большую свободу выбора.
Несколько лет назад я занялся изучением бестиария ковчега по средневековым изображениям. В результате этих изысканий, отчасти эмпирических в плане поиска источников, я на сегодняшний день собрал около 300 миниатюр из рукописных книг (библий, псалтырей, молитвенников, требников, всемирных хроник и исторических компиляций), которые переписывались и иллюстрировались на Западе с конца VII по начало XIV века. К этому корпусу источников следовало бы также привлечь изображения, выполненные на других носителях, с тем чтобы равномернее охватить материал во времени и пространстве и всерьез применить к нему количественные методы[125]. Но даже и без того имеющийся на сегодня корпус изображений дает нам много полезной информации. В частности, становится понятно, что бестиарий ковчега каролингской эпохи отличается от бестиария XIII века (и тем более от бестиария конца Средневековья) и что единственное животное, которое присутствует в ковчеге всегда, во все времена и на всех изображениях, — это лев.
Не во всех изображениях ковчега, плывущего по водам потопа, фигурируют животные. Но когда они присутствуют — то есть в четырех случаях из пяти, — среди них всегда есть лев. С ним соседствуют другие крупные «четвероногие» (если воспользоваться средневековым понятием) в различном составе. Чаще всего это медведь, кабан и олень. Следовательно, животное — это прежде всего существо четвероногое, причем дикие четвероногие будто бы «животнее» других животных. Затем следуют домашние животные, которых иногда трудно идентифицировать с должной точностью[126]. Птицы появляются еще реже (всего на трети изображений), за исключением ворона и голубя, важнейших участников истории о потопе. Еще реже встречаются грызуны и змеи; никогда не изображаются насекомые (в современном смысле этого слова) и рыбы; место последних — под ковчегом, в воде. Примерно в одном случае из трех фигурирует не пара животных одного вида, а единственный представитель, чья половая принадлежность не обозначается. Даже на изображениях большого размера в ковчеге редко когда находится больше десяти различных видов; часто их число ограничивается четырьмя или пятью, иногда их еще меньше. Зато на изображениях, где животные заходят в ковчег (или выходят из него), представлен более богатый и разнообразный бестиарий. По таким изображениям можно также изучать иерархию видов в животном мире: во главе идет лев или медведь, за ним крупная дичь (олень, кабан), затем домашние животные; замыкают шествие мелкие животные, за которыми иногда следуют крысы и змеи[127].
Эта иерархия показательна по ряду параметров. Особенно если учесть, что с течением времени она видоизменялась. В иконографии раннего Средневековья у животных было, по всей видимости, двое «предводителей» — медведь и лев, так же как и в древних традициях: медведь был главой животных в германской и кельтской традициях, лев — в библейской и греко-римской. В феодальную эпоху медведь окончательно отдает первенство льву и занимает место на ступень (и даже не на одну) ниже в звериной иерархии. В XIII веке на изображениях ковчега появляются новые виды животных, либо те, что уже присутствуют, начинают фигурировать чаще: это слон, верблюд, крокодил, единорог, дракон. Хотя бестиарий становится экзотичнее, граница между реально существующими животными и вымышленными остается размытой (и будет таковой вплоть до XVII века). Наконец, особо примечательно появление лошади, которая долгое время отсутствовала в бестиарии ковчега. В восприятии людей феодальной эпохи лошадь гораздо больше, чем просто животное, — это почти человеческое существо. Поэтому писатели и художники не торопились включать ее в бестиарий: ее место не среди животных, а рядом с человеком. Начиная с XIII века лошадь постепенно утрачивает свое привилегированное положение; она снова становится обычным животным, как и все остальные, и занимает место в ковчеге, рядом со львом, оленем и кабаном. Раз и навсегда.
Вернемся к нашему льву и попробуем ответить на вопрос, когда он окончательно становится «царем» зверей в западных традициях. Несмотря на все, что было изложено выше, ответить на этот на вопрос труднее, чем кажется. Здесь нужно учитывать сложные культурные обстоятельства, как пространственного, так и временного характера. В масштабах всего Запада особое значение имеет ярко выраженное различие между Европой германской и кельтской, где главой животных является или же являлся медведь, и Европой латинской, где эту роль играет лев. Только после 1000 года лев почти повсюду начинает брать верх над медведем. Решительную победу он одерживает в XII веке, причем в основном благодаря позиции Церкви.
С эпохи палеолита культ медведя был одним из самых распространенных зооморфных культов в Северном полушарии. Связанная с ним необычайно богатая мифологическая традиция продолжала существовать в бесчисленных сказках и легендах даже в XX столетии: медведь остался главным образом героем устных преданий[128]. Именно медведя настойчивее всего наделяют антропоморфными характеристиками. С человеком, особенно с женщиной, он вступает в тесный, иногда насильственный, контакт. Тема сексуальной связи между медведем и женщиной повсеместно засвидетельствована как в литературных, так и в изобразительных источниках. Медведь — это волосатый зверь, masle beste, а в широком смысле — дикий человек[129]. Но в первую очередь медведь — это царь леса и животных, которые в нем обитают. В кельтских, скандинавских и славянских традициях царская функция медведя — которая в других культурах, видимо, исчезла довольно рано — достаточно широко представлена и в эпоху Средневековья. Эти два аспекта — зоофилия и царская власть — могут к тому же совмещаться: фигурирующие в некоторых повествованиях короли или предводители являются «медвежьими сынами», то есть сыновьями женщин, которых похитил и изнасиловал медведь[130].
Подобный зверь мог внушать раннесредневековой Церкви только ужас. Медведь не только обладает необычайной силой, он еще похотлив и жесток. Кроме того, внешним видом, способностью ходить на задних ногах и своим сексуальным поведением он напоминает человека. Ведь начиная с Плиния, который неверно интерпретировал пассаж Аристотеля, все бестиарии и энциклопедии утверждают, что медведи совокупляются more hominum, а не так, как это делают другие четвероногие[131]. Стало быть, медведь — сородич человека, с которым опасно иметь дело. Наконец, в отличие от льва, медведь исконно обитает во всех уголках Западной Европы: люди часто видят его, восхищаются им, боятся его и почитают. Фактически, в каролингскую эпоху в значительной части германо-скандинавских областей Европы он по-прежнему остается объектом языческих культов, связанных с календарными праздниками, и по-прежнему считается царем диких зверей; в Южной Европе, как мы видели, эту роль уже играет лев. С этого времени Церковь начинает вести против медведя войну, стремясь низвергнуть его с трона. С VIII по XII век она всячески содействует возвышению льва, животного экзотического, а не местного, выходца из письменной культуры, а не из устных традиций, и уже поэтому — укротимого и предсказуемого, в отличие от медведя. Церковь повсюду «ходит» львом против медведя. И повсюду ожесточенно на него нападает[132].
Действует она тремя методами: сначала демонизирует медведя, затем укрощает и, наконец, высмеивает его. Опираясь на Библию, где медведь всегда показан с дурной стороны[133], и подхватывая фразу святого Августина “ursus est diabolus”[134], «медведь есть дьявол», Отцы Церкви и христианские авторы каролингской эпохи отводят ему место в бестиарии Сатаны; кроме того, если верить им на слово, Дьявол часто принимает облик медведя, в котором приходит пугать и мучить грешников. Большинство авторов замалчивают легенду, согласно которой медведица, облизывая своих мертворожденных детенышей, оживляет их, — легенду двусмысленную, унаследованную от Плиния[135], которую можно было бы толковать как символ воскрешения, — и постоянно подчеркивают пороки медведя: жестокость, злобность, похотливость, нечистоту, обжорство, лень, гневливость[136].
Затем медведя превращают в ручное, а вернее, прирученное (domesticus) животное. Теперь с медведем расправляется агиография. В житиях святых часто рассказывается о том, как божий человек своим примером, своими добродетелями или своей силой победил и подчинил себе страшного дикого медведя. Так, святой Аманд понуждает медведя, который растерзал его мула, нести поклажу. Точно так же поступает святой Корбиниан по дороге в Рим, а святой Ведает заставляет медведя, сожравшего быка, тянуть вместо него плуг. Святой Рустик в Лимузене сходным образом поступает с медведем, который убил и уволок быков, впряженных в погребальную колесницу с телом его ученика, святого Вьянса[137]. Святой Колумбан заставляет медведя освободить ему место в пещере, чтобы укрыться от холода. А святой Галл, взяв себе в помощники медведя, сооружает вместе с ним скит, который впоследствии станет влиятельным монастырем Святого Галла. Этот знаменитый эпизод широко распространен в иконографии, особенно в прирейнских областях Швейцарии[138].
Наконец, демонизированного и укрощенного медведя начинают высмеивать. В основном это происходит после 1000 года. Церковь, хотя и настроенная враждебно по отношению к любым зрелищам, связанным с животными, более не возражает против показа медведей. В наморднике и на цепи, медведь бродит вместе с жонглерами и фиглярами от замка к замку, с ярмарки на ярмарку, с рынка на рынок. Некогда царственный зверь, приводивший в восхищение и наводивший ужас, становится цирковой скотинкой, которая пляшет, проделывает трюки и забавляет публику. С XIII века медведь — уже не королевский подарок, каковым он считался еще в каролингскую эпоху; теперь его не встретишь даже в княжеских зверинцах — там ему больше не место. Только белые медведи, которых преподносили в подарок короли Дании и Норвегии, до начала Нового времени все еще сохраняли некоторую престижность, ибо они являлись curiosa.
Вот так на рубеже XII-XIII веков все и решилось: лев, вытеснив медведя, становится царем зверей не только в восточной и южной традициях, но и в северо-западной. Отныне в Европе есть только один царь зверей, и об этом в полной мере свидетельствуют различные «ветви» «Романа о Лисе», составленные в последние десятилетия XII века и в первые десятилетия века ХIII-го: у льва Нобля нет соперников; его королевскую власть никто не оспаривает (кроме Ренара, но причины здесь иные); медведь Брюн — всего лишь один из его «баронов», неуклюжий тугодум, которого лис то и дело поднимает на смех[139]. В ту же эпоху, как мы уже знаем, лев, оставив далеко позади всех прочих животных, занимает первое место также и в геральдике, в которой медведю отводится весьма скромная роль[140]. Лев царит повсеместно.
Как королевская дичь стала нечистым животным: история переоценки
В древнем мире греки и римляне, германцы и кельты придавали охоте на кабана особое значение. В раннем Средневековье и даже после 1000 года ситуация не изменилась: охота на дикого кабана продолжала оставаться вмененным королевским и дворянским ритуалом, а столкновение с кабаном в поединке — героическим подвигом. Однако, начиная с XII века, в княжеской среде эта охота становится менее популярной. На рубеже Средневековья и Нового времени пренебрежение к ней, по видимости, только усиливается. Каковы причины этого? Животное потеряло былой престиж? Появились новые охотничьи практики? Изменились функции и цели охоты? Наконец, спад интереса к этой охоте произошел во всем христианском мире или только во Франции и в Англии? На самом деле о снижении интереса в первую очередь свидетельствуют охотничьи трактаты, составленные как раз в этих странах. Однако впоследствии, с конца XIV века, в значительной части Западной Европы, насколько можно судить по приходно-расходным книгам, нарративным текстам, литературе и иконографии, происходит тот же процесс.
Если рассматривать кабана изолированно, то ответить на поставленные вопросы будет нелегко. Можно, конечно, изучить эволюцию символического дискурса об этом животном по бестиариям и энциклопедиям, сборникам exempla, книгам о псовой охоте, литературным текстам и всевозможным изображениям. Но и тогда историк вряд ли достигнет своей цели. То, что кабан в христианском бестиарии утратил былой престиж, не вызывает сомнений, однако это мало что объясняет. Зато если исследователь поместит это животное в контекст более широкой проблематики, одновременно затрагивающей отношение Церкви к охоте и функции королевской и княжеской псовой охоты на Западе от эпохи Меровингов до XIV века, станут лучше понятны причины и различные аспекты этой переоценки. Охота на кабана раскроет нам все свои смыслы только при сопоставлении с двумя другими охотами — на медведя и особенно на оленя.
Римляне любили охотиться на кабана. Кабан — благородная дичь, грозный зверь, восхищающий своей силой и смелостью. Это чрезвычайно опасный противник, который бьется до последнего, предпочитая смерть бегству или отступлению. Уже поэтому это достойная уважения дичь и желаемая добыча для охотника. Тем более что охота на кабана, чаше всего пешая[141], заканчивалась поединком лицом к лицу, лоб в лоб. Чтобы загнать дичь, использовали собак и расставляли сети, но в решающую атаку на разъяренного зверя человек шел один: не страшась ни нападения, ни рева, ни отвратительного запаха животного, он пытался добить его рогатиной или ножом, ударив в горло или между глаз. Победа над кабаном — это всегда подвиг. Редко кому удавалось избежать ранения от клыков или колючей щетины животного[142].
Напротив, к охоте на оленя (а на косулю тем более) относились с безразличием или пренебрежением. Это животное считалось слабым, пугливым и презренным: оно спасается бегством от собак, пока наконец не сдается и не дает себя убить. Солдат, не отличающихся храбростью, бегущих от врага, называли, по его образу и подобию, cervi (олени)[143]. Вместе с тем оленина считалась рыхлым и не очень полезным для здоровья мясом; и на столе у римского патриция не встречалась[144]. Наконец, оленевые обитают в такой местности, где благородную охоту обычно не устраивают, предпочитая более тенистые и пересеченные участки. Гон или травля оленя не приносят ни славы, ни удовольствия; знатный человек или уважаемый гражданин не должен предаваться такой охоте — это дело крестьян. «Оленя оставишь селянину» (cervos relinques vilico), — советует в конце I века н. э. поэт Марциал в своей знаменитой эпиграмме[145]. Это мнение разделяют большинство авторов, которые пишут об охоте: олень — презренная дичь, благородством отличаются лишь лев — которого не едят, и это доказывает, что охота была прежде всего ритуалом, а уже потом добыванием пропитания, — медведь и кабан. О последнем они могут писать бесконечно, подчеркивая неистовость и дикость этого зверя, который молнией выскакивает из своего логова, круша все на своем пути, а потом, ощетинившись, с горящими глазами, в боевой готовности разворачивается к охотнику[146]. Вот некоторые прилагательные, описывающие этого необычного зверя (ареr), которые я смог найти у латинских поэтов I века до н. э. и первых двух веков нашей эры: асеr (буйный), ferox (необузданный), ferus (дикий), fremens (рычащий), fulmineus (молниеносный), rubicundus (пылающий), saevus (свирепый), spumans (взмыленный), torvus (грозный), violentus (жестокий). В этих топосах[147] доминирует идея взрывной ярости, подчеркивающая опасности подобной охоты.
То же восхищение, смешанное со страхом, испытывают и германцы. Столкновение в поединке с медведем или кабаном является для всякого юноши необходимым ритуалом для обретения статуса взрослого и свободного воина. Немецкая лексика, кстати, подтверждает символическое родство между двумя этими животными: слова Ваr (медведь) и Eber (кабан) имеют общую этимологию и примыкают к обширному гнезду слов, группирующихся вокруг глагола bero, который означает «сражаться» или «бить». Как и медведь, кабан — символ смелости, символ воина[148].
У кельтов кабан также отличается доблестями взрослого мужа, но — самое главное — он является преимущественно королевской дичью. Кельтская мифология изобилует примерами, когда короли или правители пускаются в бесконечную погоню за вепрем, особенно за белым, который увлекает их за собой в потусторонний мир. И снова кабан составляет пару с медведем, которого кельты считают царем зверей: кабан одновременно является и его двойником, и его противником[149]. Король Артур, имя которого, образованное от индоевропейского корня art-, означающего «медведь», являет собой пример архетипического правителя, который преследует кабаниху или вепря[150]. Это образ светской власти (король и медведь), которая тщетно гонится за властью духовной (друид и кабан). Ряд французских или англонормандских литературных текстов XII-XIII веков, сохранивших некоторые элементы богатой кельтской мифологии, связанной с диким вепрем, изображают охоту героя (Гингамора, Обри Бургундца, Тристана) на белого кабана, в результате которой персонаж оказывается вовлеен в бесконечные авантюры и даже в мир мертвых[151]. Такая символическая охота уходит корнями в очень древние традиции[152].
Преклонение перед охотой на кабана и перед самим кабаном сохраняется на протяжении всего раннего Средневековья[153], особенно в германских странах, о чем свидетельствуют археология, топонимика, право и агиография[154]. Однако во французских трактатах о псовой охоте XIII—XIV веков ничего подобного мы не встречаем. Их авторы благородным зверем, королевской дичью считают оленя, а отнюдь не кабана. Некоторые, как например Гастон Феб, граф де Фуа, автор «Книги об охоте», составленной в 1387-1389 годах, выстраивают настоящую иерархию различных видов охоты, во главе которой ставят охоту на оленя; другие, как Генрих де Феррьер, не предлагают жесткой иерархии, однако непринужденно начинают свои сочинения именно с охоты на оленя, уделяя ей гораздо больше внимания, чем всем прочим видам охоты; несколько авторов, как, например, анонимный автор «Охоты на оленя»[155], создание которой можно отнести ко второй половине XIII века (восток Франции?), или же Уильям Твити, старший ловчий английского короля Эдуарда И, написавший около 1315-1320 годов «Искусство псовой охоты»[156], даже посвящают царю оленевых целую поэму или отдельное сочинение; для кабана это слишком большая честь. Но самое главное, дискурс об олене никогда не показывает его с плохой стороны и всячески превозносит охоту на этого зверя. Вот что пишет Гастон Феб:
Хороша охота на оленя, ведь какое это славное дело — оленя выслеживать, и славно, когда он разворачивается и срывается с места, и славно гнать его, и славно загонять, и славно слышать собак, лающих на него, сгоненного в воде или на суше, и славно отдавать собакам причитающееся, и славно свежевать его, и разделывать, и отрезать каждому его долю, славная и хорошая добыча — крупная дичь. Славный и отрадный зверь — олень, и я почитаю охоту на него самой благородной[157].
Те же или почти те же рассуждения мы встречаем еще у троих авторов кинегетических[158] сочинений XIV века: у Гаса де Ла Биня, капеллана трех последовательно сменявших друг друга королей Франции, всегдашнего участника королевских охот и автора «Романа об охотничьих забавах» — длинной поэмы, написанной между 1359 и 1373/1379 годами[159], где среди прочего утверждается, что музыка ловчих прекраснее музыки, звучащей в королевской часовне; у Ардуэна де Фонтен-Герена, который заканчивает в 1394 году книгу «Сокровище псовой охоты», посвященную Людовику II Анжуйскому[160], где увлеченно классифицирует самые лучшие леса, самых лучших охотников и самые примечательные сигналы рога; и наконец, самое главное — у Генриха де Феррьера, нормандского дворянина, о котором нам мало что известно, кроме того, что он написал знаменитые «Книги о короле Модусе и королеве Рацио», созданные несколько раньше, между 1360 и 1379 годами; Генрих не устанавливает жесткой иерархии различных видов охоты, но все-таки признается, что предпочитает охотиться на оленя:
Далеко не всем людям свойственны воля и храбрость, напротив, природа у каждого своя, и потому Господь наш Бог учредил несколько забав, всякую на свой лад, чтобы каждый мог найти потеху себе в удовольствие в соответствии со своей природой и своим положением; ибо одни принадлежат к богатым, другие же к бедным, и потому я разделю их в согласии с порядком вещей. И начну я с ловли оленей и с того, как охотятся на них с собаками. Каковая потеха — самая отрадная из всех[161].
Гастон Феб, неутомимо восхваляющий оленя, все-таки отдает должное и кабану. Конечно, согласно его классификации, кабан не только входит в число крупных животных, grosses bestes, (наряду с оленем, ланью, медведем и волком), но также числится среди зверей клыкастых, bestes mordantes (наряду с медведем, волком, лисой и выдрой), зверей смердящих, bestes puantes (наряду с волком, лисой и барсуком) и зверей черных, bestes noires (наряду с медведем и волком). Но Гастон Феб также считает кабана смелым и гордым зверем, который не хитрит и бьется до последнего; и поэтому он, в отличие от оленя, чрезвычайно опасен:
У этого зверя самые мощные клыки и он всегда готов убить и человека, и зверя; нет ни одного зверя, который убивал бы в поединке, если только это не кабан, не лев и не леопард [...]; но ведь ни лев, ни леопард не убивают ни человека, ни зверя одним ударом [...]; кабан же убивает с одного удара, как ножом[162].
Генрих де Феррьер, напротив, суровее всех настроен по отношению к кабану. Королева Рацио, выражающая всеобщее мнение, видит в этом животном воплощение всех сил, враждебных Христу. Кабан противопоставлен оленю: десяти христологическим «свойствам» оленя противостоят десять дьявольских качеств кабана. Кабан, по мнению королевы, безобразен, черен и щетинист; он обитает во тьме; он коварен, вспыльчив и преисполнен спеси; он тот, кто ищет драки; он обладает ужасным оружием, коим не уступит и пасти адовой: «два клыка торчат из пасти его»; он всегда зарывается головой в землю и никогда не обращает взора к небесам; он целыми днями роется в земле и думает только о земных наслаждениях; он нечист и в грязи находит удовольствие; копыта его кривы и похожи на пигаш[163]; наконец, он ленив: вдоволь порывшись в земле и утолив свой голод, он думает только о том, чтобы залечь и отдыхать. Он — враг Христа. Он — сам Дьявол[164].
От кинегетических сочинений к архивным документам
Падение престижа охоты на кабана не является исключительно аллегорическим или литературным феноменом. Его подтверждают и архивные документы. Действительно, начиная с середины XIV века, по крайней мере, во Франции и в Англии, содержание регулярной своры, натасканной на кабана, как правило, больше не значится отдельной статьей расходов в королевских или княжеских расходных книгах[165]. Для такой охоты требуется много смелых и выносливых собак; они часто погибают при столкновении с кабаном, а значит, свору нужно постоянно пополнять[166]. Уже поэтому содержание такой своры обходится весьма дорого. А с тех пор как охота на кабана перестала считаться королевским и княжеским делом, или, точнее говоря, когда ей перестали предаваться с прежним усердием, в постоянном содержании такой своры уже не было необходимости. Действительно, в хрониках, а нередко и в архивных документах, мы можем прочитать о том, что некий князь, решивший устроить охоту на кабана, но не имевший собственной своры или же отказавшийся от ее содержания, одолжил ее у другого князя или даже у вассала, что еще более показательно с точки зрения снижения престижа этого вида охоты[167].
Из других источников — дидактических, повествовательных или бухгалтерских, — относящихся к Бургундскому, Бурбонскому и Анжуйскому дворам конца XIV — начала XV века, мы узнаем, что отныне князья и короли охотятся исключительно на оленя, в то время как охота на кабана стала делом ловчих, превратившихся в профессионалов[168]. Охота на этого особенного зверя, beste singuliere, «черного, клыкастого и смердящего», — теперь уже не столько аристократический ритуал, сколько обычная облава, цель которой — истребить слишком расплодившихся животных, разоряющих виноградники, сады и пахотные земли. Использование орудий лова, engins, — то есть ловушек и сетей для загона и поимки животного, подтверждает эту мысль[169]. Этот способ охоты совсем не похож на поединок, в котором человек противостоял зверю, из-за чего в древних обществах охота на кабана превращалась в опасный, яростный, боевой подвиг. Отныне охота на кабана начинает сближаться с охотой на волка и тем самым утрачивает значение аристократического ритуала. В конце Средневековья кабанина, которую так любили римляне, галлы и германцы и которая по-прежнему высоко ценилась в феодальную эпоху, стала постепенно исчезать с королевских и герцогских столов. С тех пор ей предпочитают мясо водоплавающих птиц, а из крупной дичи — мясо оленя, оленухи или лани[170]. Последнюю начинают разводить в парках — и для забавы, и в качестве новой дичи.
Чтобы понять, почему между ранним и зрелым Средневековьем произошла такая переоценка этих видов охоты, необходимо также учитывать и то, на каких территориях эта охота устраивалась. Для охоты на оленя, которого «травят собаками», так же как и косулю, лань, лису и зайца[171], требуются более обширные пространства, чем для охоты на кабана. И вот в королевствах и крупных ленных владениях Западной Европы столетие за столетием распространяется такое юридическое установление, как foresta, то есть охотничье право, подконтрольное власти наследных правителей (или даже закрепленное за одним лишь сюзереном). Так что начиная с XII века во многих странах и областях короли и князья оказываются в конечном итоге единственными, кто располагает достаточно протяженными для оленьей охоты территориями[172]. Простые сеньоры, не имеющие обширных лесов, где, не будучи скованы юридическими или феодальными ограничениями, они могли бы с полным правом гнать оленя, вынуждены довольствоваться охотой на кабана. Тем самым они способствуют падению престижа кабаньей охоты, тогда как охота на оленя, некогда менее уважаемая, становится в полном смысле слова королевской. К тому же на оленя всегда охотятся верхом, в то время как охота на кабана начинается как конная, а заканчивается как пешая. С XI—XII веков редко кто из королей или князей согласится охотиться пешим, подобно пажу или виллану.
Хотя мы и не можем выстроить точной хронологии, можно допустить, что в Англии и Франции в период с начала XII до середины XIII века охота на оленя стала престижнее охоты на кабана; в Италии и в германских странах этот иерархический переворот произошел позднее, вероятно к концу XIV или началу XV века; а в Испании и Португалии — еще позже, на заре Нового времени.
Несмотря на все вышесказанное, феодальное право и эволюция охотничьих техник не могут исчерпывающе объяснить падение престижа кабаньей охоты. Есть и другие причины, имеющие отношение к символическому значению самого животного. Или, скорее, к тому, какое место кабан стараниями Церкви занимает в бестиарии. Здесь отношение к нему с давних пор было негативным. Почти не отступая от дискурса античных текстов и сохраняя за кабаном все те эпитеты, которыми его наградили латинские авторы (acer, ferox, fulmineus, saevus, violentus и т. д.), Отцы Церкви превратили животное, которым так восхищались римские охотники, кельтские друиды и германские воины, в нечистого и устрашающего зверя, попирающего Добро, закрепив за ним образ грешника, восстающего против Бога. Августин, комментируя псалом 80 [79], в котором говорится о вепре, опустошающем виноградники Господа, первым превращает кабана в дьявольское создание[173]. Несколько десятилетий спустя Исидор Севильский обращает внимание на то, что имя свое кабан получил из-за своей свирепости: «вепря (ареr) зовут так из-за его свирепости (a feritate), заменяя букву р на f» (“Ареr a feritate vocatus, ablata f littera et subrogata p dicitur”)[174]. Наконец, в IX веке Рабан Мавр окончательно закрепляет за кабаном инфернальную символику, помещая его в самый центр дьявольского бестиария[175]. Некоторые его высказывания будут слово в слово повторяться в латинских бестиариях XI—XII веков, а затем в великих энциклопедиях XIII века[176].
В ту же эпоху сходные мысли о дьявольском происхождении свирепости кабана встречаются в проповедях, exempla, трактатах о пороках и бестиариях. Храбрость кабана, воспетая римскими поэтами, превратилась в слепую и разрушительную жестокость. Его ночной образ жизни, темная масть, глаза и клыки, будто бы мечущие искры, — все заставляет видеть в нем зверя, который вышел из самой бездны ада, чтобы терзать людей и бунтовать против Бога. Кабан безобразен, он брызжет слюной, дурно пахнет, поднимает шум, у него полосатая щетина, дыбом стоящая на спине, а «из пасти у него растут рога[177]»; по всему понятно: кабан — воплощение Сатаны.
В конце Средневековья негативный образ кабана даже сгущается, так как ему начинают приписывать пороки, которыми до тех пор была наделена только домашняя свинья: нечистоплотность, прожорливость, невоздержанность, похотливость, лень. В представлениях и восприятии людей раннего Средневековья эти животные не смешивались; начиная же с XIV века это случается с некоторой периодичностью, если не сказать часто. Это подтверждает то, как была воспринята смерть короля Франции Филиппа Красивого в конце 1314 года[178]. Он погиб в результате несчастного случая, произошедшего на охоте в Компьенском лесу при столкновении с кабаном. Двумя-тремя веками раньше подобная смерть была бы воспринята как героическая, более того, поистине королевская. Но в начале XIV века все было уже по-другому. Эта смерть, хотя виновником ее стал именно дикий кабан, напоминает современникам странную смерть принца Филиппа, сына Людовика VI Толстого, примерно за двести лет до этого: в октябре 1131 года на улице Парижа обыкновенный porcus diabolicus[179], как пишет Сугерий[180], кинулся под ноги коню, на котором ехал юный принц, в результате чего последний упал с лошади и умер, а капетингская династия покрылась несмываемым позором, который в будущем не смогут окончательно стереть даже девственные лилии на королевском гербе. По обычаю первых капетингских королей, который должен был обеспечивать преемственность династии, принц Филипп был уже при жизни отца коронован королем Франции. Обычная беспризорная свинья стала причиной смерти rex junior jam coronatus[181], и смерть эта во всем христианском мире была воспринята как исключительно постыдная[182]. Ничего внешне схожего со смертью Филиппа Красивого в ноябре 1314 года. И тем не менее в хрониках, пасквилях и памфлетах то и дело подчеркивается мысль о том, что французская монархия снова стала жертвой свиньи и что опозоренный король заплатил таким образом за все свои подлости и предательства. Незыблемая некогда символическая граница между свиньей домашней и свиньей дикой перестала быть непреодолимой.
Действительно, начиная с середины XIII века в теологических суммах о пороках, в сборниках exempla, а кроме того, в литературных или иконографических бестиариях, где речь идет о семи смертных грехах, кабан, кажется, собрал в себе все грехи и пороки, которые раньше были распределены между домашней и дикой свиньей: violentia (жестокость), furor (ярость), сruоr (дикость), ira (гнев), superbia (гордыню), obstinatio (упрямство), rapacitas (алчность), impietas (нечестивость) — с одной стороны; sorditia (нечистоплотность), foeditas (безобразие), libido (распутство), intemperantia (невоздержанность), gula (чревоугодие), pigritia (леность) — с другой. Когда в конце Средневековья сложилась механически составленная система семи грехов, противопоставленных семи добродетелям, кабан оказался единственным из всех животных, кто удостоился чести стать символом шести из семи смертных грехов: superbia (гордыни), luxuria (похоти), ira (гнева), gula (чревоугодия), invidia (зависти) и acedia (праздности)! Ему не приписывается только avaritia (алчность)[183]. На немецких миниатюрах и гобеленах XV века, где под видом копейного поединка или турнира изображается противостояние пороков и добродетелей, кабан фигурирует в качестве верхового животного, нашлемника или геральдической эмблемы любого из шести вышеупомянутых персонифицированных смертных грехов. В лагере противников Христа кабан — безусловный лидер[184].
Впрочем, все ту же инфернальную природу кабана несколькими десятилетиями раньше стремился подчеркнуть и Генрих де Феррьер в своих «Книгах о короле Модусе и королеве Рацио», когда перечислял десять моральных качеств кабана, приравнивая их к десяти «заповедям Антихриста»[185]. Они опять-таки отсылают к пяти или шести смертным грехам: гордыне, гневу, похоти, праздности, чревоугодию и, возможно, зависти. Да и физический облик животного всеми своими чертами напоминает об аде: черной шерстью, вздыбленной на спине колючей щетиной, невыносимым запахом, ужасающим ревом, агрессивностью в период гона, внезапными вспышками ярости, клыками, которые разрывают все, во что вопьются. Описания кабана в XIV веке не так чтобы сильно отличались от описаний римских авторов, просто все те качества, которые в языческой Античности вызывали восхищение, отныне заставляют видеть в кабане существо инфернальное.
Этому дьявольскому зверю Генрих де Феррьер противопоставляет животное Христа — оленя: его десять качеств соответствуют десяти качествам кабана, а десять отростков на рогах ставятся в параллель к десяти заповедям: «И десять ответвлений его рогов являют десять заповедей, каковые Иисус Христос даровал человеку для защиты от трех врагов: от плоти, от дьявола и от мира[186]». Ему вторит Гастон Феб, награждая оленя всеми возможными добродетелями и назначая его главной королевской добычей[187]. Перечисляя различные качества оленя, оба автора всего лишь подхватывают традицию восхваления этого животного, каковая существовала с раннехристианских времен и прошла через все христианское Средневековье.
Отцы Церкви, а вслед за ними и авторы латинских бестиариев, рассматривающие оленя как солнечного зверя, солярное существо, посредника между Небом и землей, в действительности опираются на ряд древних традиций. Отсюда же берут начало все агиографические, а затем и литературные легенды о белом олене, золотом олене, крылатом олене, о встрече охотника с чудесным оленем, у которого между рогами сияет крест. Олень, к тому же, становится символом плодородия и воскрешения (разве рога не отрастают заново каждый год?), образом крещения, противником Зла. Авторы вспоминают фразу Плиния, в которой говорилось, что олень враждует со змеей, которую заставляет выползти из норы и затем убивает[188]. Они без конца комментируют знаменитый стих из 42 [41] псалма, в котором говорится, что душа праведника так же желает приблизиться к Господу, как олень — к источнику воды[189]. Сознательно отметая негативные и сексуальные аспекты символики оленя[190], Отцы и теологи превращают его в чистое и целомудренное животное, олицетворение доброго христианина, атрибут или субститут[191] Христа наряду с агнцем или единорогом. Ради этого они смело играют на созвучии слов, сближая servus[192] и cervus[193]: олень — это Спаситель.
Книги об охоте с полным основанием подхватывают это уподобление: олень — жертвенное животное, дичь, ритуально приносимая в жертву, как то следует из четко прописанных правил и обычаев, на которых останавливаются все кинегетические трактаты; его ритуальная смерть уподобляется Страстям Христовым. Литературные тексты также опираются на игру слов servus и cervus, превращая оленью охоту в метафору спасительной любви[194].
Возвышая оленя, которого античные охотники считали трусливым и недостойным внимания, и принижая кабана, которого едва ли не боготворили охотники и воины-варвары, средневековая Церковь постепенно перевернула иерархию охоты. Подобно тому как в период между ранним Средневековьем и XII веком она с успехом низвергла медведя (коренного антропоморфного зверя, являвшегося объектом сомнительных верований и культов) с трона царя зверей во всей Северной Европе и посадила на его место льва (экзотического, библейского зверя, ничем не угрожавшего христианской религии)[195], Церковь мало-помалу и кабана лишила статуса королевской и княжеской добычи, присвоив оный оленю. Это замещение произошло не сразу и не везде проходило одинаковыми темпами. Однако первые его следы обнаруживаются уже в артуровской литературе второй половины XII века: Артур, король-медведь, который в раннесредневековых валлийских легендах охотился на белую кабаниху[196], теперь, в прологе первого романа Кретьена де Труа «Эрек и Энида», охотится на «белого оленя»[197]. Тем самым примерно в 1170 году шампанский поэт вводит топос, который будет подхвачен большинством его продолжателей и в согласии с которым охота на оленя станет королевской во всей куртуазной литературе XIII века[198]. Литературная модель — где раньше, где позже — повлияет и на реальные охотничьи практики: с XIII века — во Франции и в Англии, в конце Средневековья — в Германии, Италии и Испании.
Духовенство сыграло первостепенную роль в возвышении и утверждении оленя в качестве королевской дичи. Церкви, враждебно настроенной по отношению к охоте как таковой[199], охота на оленя представлялась наименьшим злом. Она не такая дикая, как охота на медведя[200] — все еще имевшая место в Пиренеях в XIV-XV веках[201] — или охота на кабана. Она не заканчивается кровавым поединком человека со зверем. На ней погибает меньше людей и собак. Она не столь разорительна для урожаев, производит меньше звериного воя и вони, а окончание ее чаще всего диктуется усталостью людей, собак и дичи. Конечно, она не такая спокойная, как птичья охота, а осенью, в период гона, когда взрослые самцы входят в сексуальный раж, она даже приобретает ожесточенный характер. Однако вне зависимости от времени года преследование оленя не вводит охотника в состояние, близкое к трансу или бешенству, в которое его может погрузить схватка с медведем или кабаном[202]. Одним словом, охота на оленя более цивилизованна, лучше поддается контролю.
Кроме того, символика оленя позволяет придать охоте поистине христианское измерение. В средневековых повествованиях святой всегда являет собой антитезу охотнику. Но если речь идет об охоте на оленя, то и охотник может стать святым. Как в легенде о Евстафии, римском военачальнике и яром охотнике, который, преследуя как-то раз оленя, узрел распятие у него между рогами; после этого видения он вместе со всей своей семьей обратился в христианство[203]. Или в похожей, чуть более поздней легенде о Губерте, сыне герцога Аквитанского, у которого было такое же видение во время охоты в страстную пятницу; он совершенно изменил свою жизнь, уехал проповедовать в Арденны и стал первым епископом Льежским[204]; в Новое время, в результате некоего переноса, он стал святым целителем, к которому в особенности обращались жители мозанской и прирейнской областей за излечением всех видов бешенства[205]. Олень всегда находился под контролем Церкви. Над медведем и кабаном она не обладала практически никакой властью. Единственная возможная в этом случае стратегия состояла в том, чтобы демонизировать обоих животных и тем самым принизить значимость охоты на них. Что и было сделано в XII-XIII веках: Церковь расчистила место, и теперь олень — и только олень — окончательно приобрел высокий статус королевской дичи.
За все время с поздней Античности и до конца Средних веков Церкви, как бы ей того ни хотелось, так и не удалось уничтожить охоту. Это было невозможно: в Средневековье всякий король, князь или сеньор воспринимал охоту, одаривание пойманной добычей или ее раздел как свою обязанность. Однако Церковь сумела канализировать охоту в иное русло, отвратить ее от дикой, языческой тропы и направить по менее опасному пути. Десакрализация медведя и кабана, с одной стороны, и возвышение оленя, с другой, оказались самыми эффективными средствами для осуществления этого замысла.
К символической истории материалов
Чтобы понять, какое значение для средневековых людей имела древесина в контексте их верований, представлений, социальных кодов и символических практик, необходимо изучить источники самого различного плана, касающиеся не только сферы знаков и образов, но также технической и материальной культуры, феодально-юридических структур (статуса лесов, лесного права) и экономических интересов. Материал и символика в этом случае связаны, возможно, прочнее, чем в любом другом: они неразрывны; и при анализе мы не можем и не должны их разделять. Тем не менее, учитывая, что археологи и историки техники уже начали осваивать некоторые области (к примеру, строительство), мне представляется вполне логичным обратиться к сфере воображаемого, а также к обычаям, которые этим воображаемым обусловлены. Впрочем, по-настоящему глубоко проработать эти вопросы будет возможно только тогда, когда будет проанализировано большее число деревянных предметов и памятников, оставленных нам Средневековьем, и будут установлены породы дерева, из которых они сделаны. Поэтому здесь я представляю лишь предварительные выводы, сделанные на основе анализа некоторых знакомых мне типов источников: лексика, имена людей и названия мест, энциклопедии, литературные тексты, эмблемы и изображения. Между культурой ученой и культурой «народной» (если понятие «народная культура» вообще применимо к средневековым обществам) я попытался выделить некую область, потенциально отражающую среднюю, «рядовую» культуру, оставив в стороне все, что казалось мне слишком умозрительным, эзотерическим, анекдотичным или не выходящим за пределы конкретного случая.
Для средневековой культуры древесина — это прежде всего живой материал. В этом смысле она часто противопоставляется двум мертвым материалам — камню и металлу, и в большинстве ценностных иерархий символики материалов стоит выше как первого, так и второго. Конечно, она не такая прочная, но зато более чистая, более благородная и, главное, более близкая человеку. Дерево и в самом деле не похоже ни на один другой материал: оно живет и умирает; оно подвержено болезням и имеет недостатки; оно в высшей степени индивидуализировано. Альберт Великий в XIII веке отмечает, что у дерева можно обнаружить наросты и аномалии развития, трещины и червоточины; как человек, дерево может чувствовать боль, разлагаться или страдать от раны; как человек, оно может быть заражено червями[206]. Существует множество средневековых латинских метафор, сопоставляющих плоть дерева с плотью человека, а некоторые авторы подчеркивают антропоморфный характер не только дерева, но и древесины, материи, которая, подобно человеку, имеет вены и «гуморы» (humores), оживает, напитываясь соками, содержит большое количество воды, сильно зависит от климата, местности и окружающей среды, подчиняется ритму суток и смене времен года[207]. Это живое существо, почти животное. Некоторые средневековые авторы не только демонстрируют глубокие познания технического свойства, но и делают дерево предметом подлинно гуманистического дискурса[208]. Ни о камне, ни о металле, ни даже о земле или о ткани подобного дискурса не существует. Дерево стоит выше других материалов, потому что оно живое.
В частности, оно стоит выше камня, который, как и дерево, часто ассоциируется с сакральным, но представляет собой безжизненную материю, грубую и неизменную (по этой же причине он, впрочем, нередко ассоциируется с вечностью). Поразительный факт: большинство суеверий о статуях, которые разговаривают, передвигаются, кровоточат, плачут, связаны именно с деревянными статуями, а не с каменными[209]. Причины этого кроются в хронологии (расцвет подобных феноменов пришелся приблизительно на рубеж тысячелетий, а затем — на начало романской эпохи, когда статуи из камня еще были редкостью), но также связаны с символикой материалов: дерево — живое и развивающееся, камень — нет. Стоит задуматься: а не было ли сопротивление, с каким в феодальную эпоху — чаще, чем обычно считается — встречали переход от деревянных замков к каменным, вызвано предубеждениями символического порядка, а не только экономическими и техническими причинами, как принято полагать[210]. В феодальной культуре, как правило, и впрямь невозможно четко отделить материальное от символического, технологию от идеологии. Несмотря на возведение укрепленных замков и соборов и на то, что обладание подобной крепостью представляло немалую политическую ценность, идеология камня, как мне кажется, в действительности складывается только в конце Средневековья. До этого же люди с неутомимым упорством, несмотря на бесконечные пожары, многократно заново отстраивают из дерева то, что было сооружено из дерева. Не только потому, что на это требуется меньше времени, усилий и денег, но также — и прежде всего — потому, что дерево предназначено для одних объектов, мест и обычаев, а камень — для других. Переход от дерева к камню мог выражать политические амбиции, отражать экономический интерес или технологические достижения, но также мог быть знаком символического уничижения[211]. Об этом мы, к примеру, узнаем из любопытных легенд, рассказывающих о том, как ту или иную деревянную статую наказали и переделали в каменную за то, что она не выполняла своих обязанностей — культовых или защитных, — исполнения которых от нее по праву ожидали. Переход от дерева к камню понимается в этом случае как наказание, почти как смертный приговор[212].
Между тем оппозиция дерево/камень — это оппозиция двух ценных и престижных материалов. Она не столь резка, как оппозиция дерево/металл, в которой сталкиваются чистый материал, освященный идеальным образом Святого креста, и материал зловещий, порочный, почти дьявольский. В средневековом восприятии металл — как драгоценный, так и нет — всегда в той или иной степени инфернален: он был добыт в недрах земли, а потом обработан огнем (который является злейшим врагом дерева). Он порожден тьмой и подземным миром, это продукт некоей преобразовательной операции, которая в каком-то смысле схожа с колдовством[213]. Поэтому в ценностной шкале ремесел кузнец и плотник противопоставлены друг другу. Кузнец, разумеется, — человек в социальном плане весьма востребованный и влиятельный, но он еще и колдун, который имеет дело с железом и огнем[214]. Плотник, напротив, ремесленник скромный, но уважаемый: ведь он работает с благородным и чистым материалом[215]. Не случайно традиция издавна сделала Иисуса сыном плотника, хотя канонические тексты не говорят ничего конкретного о занятии Иосифа[216]. Плотник не соприкасается с грязью, его нельзя заподозрить в чем-то недозволенном, он работает с живым материалом и делает честь самому званию ремесленника. В конечном счете, в Средние века очень немногие профессии считались столь же безупречными[217].
На практике оппозиция дерева и металла часто выражается в сочетании этих двух противоположных материалов: ведь дереву приписывается способность смягчать вредоносный металл, особенно железо, самый «коварный» металл среди всех (анонимный автор, цитируемый Фомой из Кантемпре, называет его ferrum dolosissimum[218]). Считается, что как часть некоторых предметов, орудий или инструментов, сделанных из дерева и металла (топоры, лопаты, плуги), железо концентрирует в себе силу и производительность и при этом отчасти лишается зловещих свойств, благодаря рукояти или иной деревянной детали. Дерево будто бы укрощает металл и легитимирует его использование[219].
Другая важная для средневековой культуры оппозиция — это оппозиция растительного и животного. Как и в древних культурах (в частности, библейской), а также в мусульманской традиции, мир растительный в целом ассоциируется с идеей чистоты, а мир животный — с идеей нечистоты. Подобно деревьям, листьям или цветам (с плодами несколько иной случай[220]), древесина — чиста, тогда как животное — а вместе с ним и все то, что оно дает человеку — чистым не является. Тем самым, если при изготовлении изображений или предметов встает выбор между деревом и костью, деревом и рогом, деревом и пергаментом, то предпочтительное использование дерева может быть продиктовано, помимо прочих причин, стремлением выбрать чистый материал, отказавшись от нечистого.
Дерево — живое, чистое, благородное — вызывает уважение и располагает к себе, является объектом всевозможных транзакций и рабочим материалом для ремесленников, оно присутствует везде, при любых обстоятельствах, как самых незначительных, так и самых торжественных, — и в этом смысле является столь ценным сырьем, что и в повседневной жизни, и в мире воображаемого предстает в качестве материи par excellence, materia prima[221], которая до XIV века часто идет во главе списка при перечислении материалов, которые используются или обрабатываются человеком.
Мы с трудом можем себе представить, какое место занимало дерево в материальной культуре и повседневной жизни людей Средневековья, так как деревянные предметы и памятники дошли до нас в ограниченном количестве, даже в ничтожном по сравнению с предметами и памятниками из камня или металла[222]. Тем не менее до XIV века дерево играло необычайно важную роль, особенно в Северной и Северо-Западной Европе. Древесина являлась здесь одним из главнейших богатств, будучи одновременно и распространенным экспортным товаром — вывозимым главным образом в исламские страны, где лес всегда был в большом дефиците — и продуктом широкого потребления. Во всех странах крестьяне ожесточенно защищают свои права на пользование общинными лесами и заготовку древесины. Последняя, помимо символического значения, имеет и значение экономическое: и то и другое являются составляющей частью целой «цивилизации леса», в рамках которой историк с трудом может провести четкую границу между техническими задачами, финансовыми интересами и идеологическими горизонтами. По крайней мере, если речь идет о северной Европе. В южных областях проблемы несколько иные, потому что лесов здесь меньше; и древесина представляет «ценность» уже поэтому: ее берегут, ее почитают, к ней относятся почти как к «драгоценному» материалу (например, в культовой сфере).
К концу XIII века появляются первые признаки изменений, которые ждет долговременное развитие. С начала второго тысячелетия раскорчевка, технологический прогресс, крупная торговля причинили европейским лесам большой ущерб. За три века Запад истратил значительную часть своих лесных ресурсов, и за периодом изобилия последовал период относительного дефицита (эту общую тенденцию следует, конечно, детализировать по разным странам и во времени). Поразительно то, что в конце Средневековья этот экономический спад — а в некоторых отношениях также и технологический — сопровождается, по всей видимости, относительным снижением символического значения: дерево отныне не является единственной «материей par excellence», все более и более сильную конкуренцию ему начинает составлять текстиль. Действительно, с XII по XV век текстильная промышленность, несмотря на трудности самого различного характера, становится настоящим мотором развития западноевропейской экономики. Ткани делаются разнообразнее, спрос и потребление растут от десятилетия к десятилетию. Кроме того, в социальных практиках ткани и одежда играют все более и более значимую роль — не только как предметы обмена и торговли, но и как носители знаков, а именно знаков идентичности[223]. Одежда говорит, кем человек является, какое место или положение занимает, к какой семейной, профессиональной или институциональной группе принадлежит. Таким образом, в социальной символике и в воображаемом текстиль постепенно выдвигается на первое место, опережая все прочие материалы.
Все эти перемены находят отражение в лексике. Сравним, к примеру, латынь и французский. В средневековой, как и в классической латыни термин materia означает, прежде всего, строительный лес (в отличие от слова lignum, которое означает скорее древесину как топливо) и затем, в расширительном смысле, любой материал и даже «материю» вообще. Последняя, стало быть, является, наряду с прочими словами, одним из обозначений древесины. Несколькими веками позже изменения в ценностных системах получат свое отражение в лексике среднефранцузского языка: отныне именно одно из слов, обозначающих ткань, будет обозначать любой вид материала и даже материю вообще — это слово etoffe. Но в данном случае семантический сдвиг происходит в обратном направлении. В XII и XIII веках слово etoffe (происходящее из германских языков, но имеющее спорную этимологию) означает вообще любой материал; это эквивалент латинского materia. Затем постепенно его семантическое поле сужается и специфицируется, и в конечном итоге слово начинает обозначать только один особый вид материала, а именно текстиль. Так что во французском языке конца XVI века etoffe и текстиль становятся, наконец, синонимами, при том, что текстиль считается etoffe (то есть материей) par excellence[224]. Позже, в эпоху промышленной революции в культуре и воображаемом европейцев текстиль, в свою очередь, должен будет снова уступить титул materia prima, теперь уже металлу[225].
Среди ремесленников, которые работают с деревом, мы уже упоминали плотника, подчеркнув, что в средневековых традициях он часто был противопоставлен кузнецу. На самом деле слово carpentarius охватывает различные профессии и часто означает любого ремесленника, работающего с деревом: и того, кто занимается постройкой деревянных конструкций, и тех, кто изготавливает из дерева предметы, мебель, орудия и инструменты — столяров, сундучников, каретников, бочаров, мастеров по изготовлению сабо, оконных и дверных рам, а также сит, мер и т. д. В городе это специализированные ремесла, которые подчинены строгим цеховым правилам, но в деревне и в монастыре плотницкие профессии многофункциональны[226].
Остановимся на двух профессиях, имеющих отношение к дереву, которые в средневековом обществе считались исключительно нечестивыми, почти проклятыми, — на профессиях лесоруба и угольщика. Различные источники (литературные тексты, хроники, пословицы, фольклор) очень негативно обрисовывают этих персонажей, живущих в дремучем лесу, в одиночку или маленькими группами. Нищие, грязные, лохматые, свирепые кочевники-разрушители, отрезанные от человеческого общества, они переходят с места на место, рубя или калеча деревья и выжигая лес: кто это, как ни посланцы дьявола! Кроме того, в лесу они иногда встречают еще одного «колдуна», о котором говорилось выше, — кузнеца. Лесоруб, угольщик и кузнец, наряду с мельником (куркулем и спекулянтом) и мясником (богатым, жестоким и кровожадным), составляют пятерку самых позорных и сомнительных профессий в крестьянской культуре[227].
Лесоруб орудует железом и высекает топором искры: это враг всех деревьев, carnifex (одновременно палач и мясник) леса. В XIII веке сложился корпус сказок и легенд, посвященных лесорубу, просуществовавший практически в неизменном виде до XIX столетия: лесоруб в них наделен необычайной силой, он никогда не расстается со своим топором и сторонится деревенских жителей; кроме того, он вор и забияка и выходит из леса только затем, чтобы помародерствовать или ввязаться в ссору; наконец, он живет в самой суровой нищете. В литературных текстах и устных традициях периодически повторяется сюжет о том, как дочь (или сын) «бедного лесоруба» волею судьбы или благодаря личным достоинствам в конце концов выходит замуж за короля (или женится на принцессе)[228].
Угольщик еще беднее, грязнее, презреннее и вызывает еще меньше доверия, чем лесоруб. Орудуя уже не железом, а огнем — злейшим врагом леса, — он и в самом деле представляет из себя персонажа откровенно демонического. Угольщик не женится и не имеет потомства. Он выходит из леса только затем, чтобы скрыться в другом лесу и снова взяться за истребление и сжигание деревьев. Его боятся деревенские жители всех областей[229]. В литературных текстах, особенно в куртуазных романах, авторы иногда изображают доблестного рыцаря, который заблудился в лесу и вынужден спрашивать дорогу у страшного и ужасного угольщика. Для читателей XII или XIII века такая встреча воплощала столкновение двух крайностей; это самый дикий социальный контраст, который только можно себе представить. В этих текстах угольщик всегда описывается по одной и той же схеме: маленький, черный, волосатый, с красными, глубоко посаженными глазами, с кривым и зло перекошенным ртом; это архетип человека, находящегося в самом низу социальной лестницы: одновременно убогого, звероватого и демонического[230].
Выжиг угля тем не менее — насущная необходимость для некоторых отраслей промышленности, главным образом для металлургии и производства стекла. Древесный уголь, кроме того, легче транспортировать, чем сырую древесину; он лучше горит и выделяет больше тепла, чем тот же объем древесины. Средневековые люди это знали и широко применяли на практике. Но производство древесного угля ведет к уничтожению лесов, и с XIII века их повсеместно стараются оберегать. Удалось подсчитать, что в эпоху Филиппа Красивого требовалось примерно десять килограммов древесины, чтобы произвести килограмм угля, и что в одной угольной яме за месяц могло таким образом сжигаться до ста гектаров леса[231]. Поэтому самый злейший враг деревьев — даже не лесоруб, а именно угольщик.
Известно, что в Новое время «угольщики» объединялись в сообщества, некоторые из них в Италии и в других странах стояли у истоков тайных революционных обществ[232]. Я не обнаружил в Средневековье каких-либо предшественников карбонариев Европы Нового времени ни в описании реальных фактов, ни в репрезентациях воображаемого. Средневековый угольщик всегда нелюдим и даже будучи отверженным, он никоим образом не пытается перевернуть социальный порядок или восстать против какой бы то ни было власти. Как и многие другие в той или иной степени подозрительные персонажи — кузнец и лесоруб, о которых шла речь, а также охотник, свинопас, отшельник, изгнанник, разбойник, беглец или призрак, — он обитатель опасного и таинственного мира — средневекового леса. Лес — это место встреч и метаморфоз. Туда бегут от мира, в поисках Бога или дьявола, там обретают новые силы, изменяются, устанавливают связь с силами природы и ее созданиями[233]. Пребывание в лесу делает человека silvaticus, «дикарем». Этим средневековая символика в очередной раз напоминает, что является дочерью филологии[234].
Символика древесины неотделима от символики орудий, с помощью которых валят деревья, — топора и пилы. Конечно, можно было бы многое рассказать и о других орудиях, применяемых при работе с деревом[235]: например, о молотке, являющемся в определенном контексте символом власти или грубой силы; или же о рубанке, который в средневековой Европе начали использовать довольно рано, но к которому тем не менее еще долгое время относились с подозрением[236]. Однако топор и пила являют собой показательные примеры: хотя оба эти орудия служат для того, чтобы валить и разделывать деревья, в символическом плане они представляют два совершенно противоположных полюса.
Топор является одновременно орудием и оружием; как таковой, он прописан сразу в двух различных ценностных системах, и эта функциональная двойственность составляет его особенность. Среди орудий его применение, по мнению некоторых средневековых авторов, считается самым оправданным, или, по крайней мере, наименее вредоносным. Напротив, среди оружия он, если можно так выразиться, простой солдат: копье и меч, два вида наступательного рыцарского оружия, превосходят его в «благородстве»; но при этом сам он обнаруживает превосходство перед оружием, которым пользуются простолюдины и все, кто сражается пешим: перед ножом, дубиной, киркой, палкой, рогатиной, пращой. Благодаря этой своей многофункциональности топор в Средние века встречается повсюду и используется в различных обстоятельствах[237]. По сравнению с Античностью он почти не претерпел заметных технологических изменений: это инструмент тысячелетия, прочный, простой в изготовлении, удобный в применении и долговечный. Античный топор издавна отличался неоспоримым техническим совершенством — возможно, поэтому его использовали в военных целях. При всем этом в средневековой Европе существовало большое разнообразие топоров, значения и предназначения которых никогда не смешивались: например, если говорить о ремесленниках, работающих с деревом, большой топор лесоруба (cognee с длинной рукояткой и узким лезвием) имеет мало общего с топором плотника (doloire с короткой рукояткой и ассиметричным лезвием). Однако несмотря на различное применение, топор-орудие всегда содержит в себе один и тот же символический смысл: это предмет, который бьет и рассекает, производя шум и искры. Он обрушивается как молния, высекая свет и огонь, и по этой причине ему приписывается плодовитость, даже когда речь идет о рубке деревьев. Он рубит, чтобы производить.
У пилы совсем другая репутация. Принцип ее действия известен с доисторических времен, но в ремесленный и профессиональный обиход она вошла не сразу. Средневековые люди хотя и пользуются ей, но при этом испытывают к ней отвращение: этот инструмент считается дьявольским. Действительно, в текстах и изображениях до XII века она предстает исключительно в качестве орудия пыток: ею пилят не ветки на деревьях, а тела праведников и святых, претерпевающих мучения. В иконографии среди тех, кто подвергся мученической смерти через распиливание, самый известный — пророк Исайя, которого, согласно легенде, распилили вместе с деревом, в дупле которого он укрывался[238]. За несколькими исключениями, лесорубов, которые распиливают дерево после того, как срубили его топором, можно увидеть на изображениях только в конце Средневековья. В реальности же пилу, по всей видимости, стали использовать раньше, и начиная с XIII века ее применение вошло в привычный обиход. Существуют, однако, существенные региональные различия: тогда как в Восточной Европе пила остается неизвестной вплоть до конца XVII века, а в некоторых западных диоцезах даже в XIV веке епископы осуждают ее применение и отлучают от церкви тех, кто ей пользуется, в северной Италии уже в XII веке появляются гидравлические пилы[239], позволяющие распиливать вдоль[240].
Чем же так не угодила пила? Претензий к ней немало. Прежде всего, ее критикуют за то, что она непрочна и сложна в применении, так как требует участия двух человек, тогда как с топором справляется и один. Потом — за то, что она дорого стоит и ее трудно поддерживать в хорошем состоянии и чинить. Затем — за то, что она производит относительно мало шума и потому позволяет пилить деревья тайком. Наконец, главным образом, за то, что она работает медленно и вяло, хитрит с материалом, грубо обходится с древесиной, портит древесное волокно, не оставляет ветвям возможности заново отрасти от ствола или от пенька, потому что отпиливание часто приводит к загниванию древесной ткани[241]. Одним словом, на дерево и древесину проецируются страдания Исайи и святых, казненных через распиливание (Симона, Иуды, Кира)[242]. В некоторых текстах подчеркивается также, что при работе с пилой нужно проявлять терпение; пила в них сравнивается с напильником: он тоже не решительно воздействует на материал, а расправляется с ним постепенно, повторяя одно и то же действие. Это «женские» орудия, орудия-обманщики, орудия-предатели, которые достигают результата благодаря продолжительности воздействия. В средневековом восприятии распиливание и обтачивание имеет нечто общее с ростовщичеством, во всех смыслах этого слова[243], так как оба эти вида деятельности играют на временной протяженности, присваивают время[244].
Уничижительная трактовка пилы распространяется далеко за пределы самого инструмента и круга тех, кто им пользуется. В репрезентативных системах все зазубренное, изрезанное, зубчатое как лезвие пилы, является негативно окрашенным. Ломаная линия, по сравнению с прямой или изогнутой, — это плохая линия. Ее широко используют в геральдике и иконографии, чтобы подчеркнуть презренную, в том или ином смысле, сущность персонажа: как в одежде, так и в гербах узор из ломаных линий с зубовидной, зубчатой, зигзагообразной, стропиловидной структурой часто имеет уничижительное значение. Тот, кто его носит, находится за пределами социального, этического или религиозного порядка. Подобная одежда и подобные гербы нередко принадлежат вероломным рыцарям, палачам, проституткам, шутам, бастардам, еретикам и язычникам[245].
Символика древесины неизбежно смешивается с символикой дерева, от которого она происходит. Дерево занимает важное место в средневековой культуре, хотя после Античности Средневековье не добавило от себя почти ничего нового. Христианство, на самом деле, в большей степени обновило символику животного, а не растительного мира. Но и здесь в распоряжении средневековой культуры оказалось тройное наследство: библейское, греко-римское, а также наследство «варварских» культур, особенно германской цивилизации, где мифология деревьев и леса занимала значительное место. Отцы Церкви и их продолжатели столкнулись с непростой задачей, так как им пришлось учитывать различия географических условий и растительного мира разных стран: как, например, в Северо-Западной Европе толковать библейскую символику маслины или пальмы — двух деревьев, которые высоко ценились в средиземноморских культурах, но были неизвестны в северных областях?
В любой деревенской культуре деревья делятся на «хорошие» и «плохие», на благие и пагубные, на те, которые сажают, и те, которые вырубают. Таким образом, перед историком встает ряд важных вопросов. Как между собой связаны символическое значение самого дерева и символическое значение его древесины? Всегда ли «хорошие» деревья дают ценную и нужную древесину? Избегают ли люди «плохих» деревьев? Обладает ли древесина, которая происходит от деревьев, считающихся «женскими» (липа, ясень, бук), также женскими свойствами? В какой мере при использовании древесины в расчет, помимо ее физических и химических свойств, цены и доступности, принимаются также репутация и мифология дерева, от которого она происходит? Не избегают ли, к примеру, делать распятия или статуи особо почитаемых святых из древесины деревьев с дурной репутацией? Существует ли, таким образом, в скульптуре иерархическая и символическая классификация древесных пород, которая берется в расчет наряду с такими факторами, как доступность и стоимость древесины, технические достижения и художественный замысел? Вырезают ли, грубо и условно говоря, Христа из дуба, Богоматерь из липы, апостолов из бука, Иуду из ореха? А если говорить о производстве предметов повседневного обихода, то существует ли связь (иногда? всегда?) между сферой применения того или иного вида древесины и символическим значением дерева, от которого она происходит? Делают ли из вяза, который часто сажают в местах, где осуществляется суд, инвентарь, имеющий отношение к отправлению правосудия? Существовала ли тенденция изготавливать из древесины тиса, который сажали на кладбищах и который, как считалось, имеет тесную связь со смертью, гробы или предметы погребального культа? Я специально привожу здесь примеры, которые покажутся наивными. Однако ответить на эти вопросы не так просто, как кажется. Ведь археологи и историки искусства едва ли ими задавались, а значит, во многих случаях работа по анализу и установлению пород древесины, использованной при изготовлении сохранившихся предметов, произведений искусства или зданий, остается делом будущего[246].
Обратимся, однако, к символике некоторых деревьев и поразмыслим над тем, как она могла влиять на использование их древесины. Я оставлю в стороне самые известные — или слывущие таковыми — деревья: дуб, каштан, маслину и сосну, — и в качестве примеров возьму те деревья, которые привлекали меньше внимания историков техники и ботаников. Судя по многочисленным текстам, посвященным липе, именно это дерево снискало особое расположение средневековых людей. Авторы видят в ней только достоинства; ни разу — и насколько мне известно, это уникальный случай — она не представлена с плохой стороны. В первую очередь восхищаются ее величественностью, пышностью, долголетием. В Германии, где уже в Средневековье проявлялась тяга к рекордам, в некоторых источниках рассказывается о липах, окружность ствола которых достигала в основании необычайных размеров: так, в 1229 году липа в Нойштадте, в Вюртемберге, якобы имела окружность, равную нашим двенадцати метрам[247]. Но еще больше, чем размер или древний возраст, восхищает запах липы, ее музыкальность (жужжание пчел) и изобилие даров, которые можно от нее получить. Об этом средневековые, равно как и античные авторы говорят не умолкая[248]. Прежде всего, липа — звезда фармакопеи: используется ее сок, кора, листья и главным образом липовый цвет, чьи успокоительные и даже наркотические свойства были известны с Античности. С XIII века липу начинают сажать возле лепрозориев и больниц (эта практика была широко распространена даже в Новое время). Из липового цвета, любимого пчелами, получается мед, которому приписываются разнообразные лечебные, профилактические и вкусовые свойства. Из сока липы получается нечто вроде сахара. Листья идут на корм скоту. Из лыка, гибкого, прочного и богатого волокнами, получают текстильный материал, «луб» (tilia), из которого делают мешки и колодезные веревки. Это полезное и почитаемое дерево также связано с покровительством и властью сеньора: ее сажают перед церквями, под ее кроной вершат правосудие (эту роль она делит с вязом и дубом); в конце Средневековья ее даже используют как декоративное дерево и высаживают липовые аллеи; тем не менее в этом качестве она станет в широких масштабах использоваться по всей Европе только в XVII веке[249].
Повлияли ли все заслуги и достоинства липы на то, как использовалась древесина этого дерева? Мягкая и легкая, простая в обработке, с плотной и однородной структурой, липа в Средние века была излюбленным материалом скульпторов и бондарей. Являлось ли это следствием ее неоспоримых физических свойств? Или же следствием положительных символических качеств? Как эти свойства и качества обогащали друг друга? Считалось ли, что статуя святого целителя, вырезанная из липы, обладает более сильным лечебным и профилактическим эффектом, чем статуя того же самого святого, вырезанная из другого дерева? Если в конце Средних веков из липы часто изготавливали музыкальные инструменты, то значит ли это, что такой выбор мотивировался мягкостью и легкостью ее древесины или же на него повлияло воспоминание о музыке пчел, у которых липа была любимым деревом, как об этом пишет уже Вергилий в четвертой книге «Георгик»?
Есть масса вопросов, на которые при нынешнем состоянии наших знаний ответить едва ли представляется возможным, но которые историк не может перед собой не ставить, и касаются эти вопросы не только липы, но и других деревьев. Например, почитаемый германцами ясень, выполняющий роль посредника между небом и землей, который, как считалось, притягивает молнию и грозу, в Средневековье использовался для изготовления большей части метательного оружия (копий, дротиков, стрел): объяснялось ли это гибкостью и прочностью древесины или же древним мифологическим значением ясеня, который считался деревом небесного огня, орудием воинов на службе у богов[250]? А чем объясняется то, что ветви березы, белого дерева, которое светится на зимнем солнце, в Северной Европе повсеместно использовали в качестве розог для бичевания одержимых и преступников, чтобы изгонять из них зло, — гибкостью самих ветвей или чистотой ее цвета? В английском языке даже одно и то же слово — birch — обозначает одновременно и березу, и розги, и бичевание. И опять-таки, что лежит в основе обычая наказывать березовыми прутьями — физические свойства дерева или же его символика и мифология?
Те же самые вопросы точно так же возникают в связи с деревьями с дурной репутацией. Но в этом случае они представляются еще более сложными, так как верования, связанные с деревьями, не всегда согласуются с тем, как в действительности используют древесину этих деревьев. Рассмотрим два примера — тис и орех.
Все средневековые авторы подчеркивают пагубную и опасную природу тиса[251]. Мрачный и одинокий тис не только растет там, где обычно не растут другие деревья (на песчаных равнинах, торфяниках), но он еще и странным образом никогда не меняется, всегда остается зеленым, всегда равным самому себе, как будто, заключив сделку с дьяволом, он приобрел нечто вроде бессмертия. Действительно, в легендах и преданиях он ассоциируется с потусторонним миром и смертью, об этой ассоциации свидетельствуют его названия в немецком (Todesbaum) и итальянском (albero della morte)[252]. Это погребальное дерево, которое встречается на кладбищах и которое связано с трауром и самоубийством (в некоторых версиях истории Иуды он кончает жизнь самоубийством не повесившись на смоковнице, а проглотив сильнейший яд, добытый из тиса). Тис устрашает, потому что в нем все ядовито: листья, плоды, кора, корни и особенно сок, который входит в состав многих ядов, например, яда, от которого в пьесе Шекспира умирает отец Гамлета. Более того, ни одно животное не притрагивается к тису, а его латинское название (taxus) само по себе напоминает о понятии яда (toxicum): «тис — дерево ядовитое и из него добывают яды», — пишет Исидор Севильский, а вслед за ним и большинство средневековых энциклопедистов[253].
Не по причине ли этих смертоносных качеств из древесины тиса в Средние века чаще всего изготавливали луки и стрелы? Не было ли тут расчета сразить врага с помощью яда, содержащегося в соке и волокне тиса? Не считалось ли, что древесина этого «дерева смерти» способна сеять смерть? Или же, просто-напросто, из тиса делали такого рода оружие, потому что его древесина гибка и прочна (почти как дуб)? Ответить трудно. Однако следует констатировать, что в Англии, Шотландии и Уэльсе средневековые лучники в самом что ни есть массовом масштабе использовали луки и стрелы, изготовленные именно из тиса. Иными словами, в трех странах, наследующих традициям древней кельтской культуры, тис, в большей степени, чем где бы то ни было, предстает как дерево устрашающее и одновременно почитаемое[254].
В отношении ореха вопрос о сложных взаимосвязях между дурной репутацией дерева и качествами его древесины стоит еще острее. Все авторы опять-таки сходятся во мнении, что орех — это дерево пагубное и является одним из деревьев Сатаны[255]. Его ядовитые корни не только губят всю растительность вокруг, считается также, что они провоцируют смерть домашних животных, если подбираются слишком близко к стойлам и конюшням. У мужчин и женщин есть все основания опасаться этого зловредного дерева: заснуть под орехом значит не только заработать лихорадку и головную боль, но прежде всего — подвергнуть себя риску встречи со злыми духами и демонами (подобные суеверия были засвидетельствованы в различных областях Европы даже в середине XX века[256]). Исидор Севильский, отец средневековой этимологии, устанавливает прямую связь между существительным «орех» (nuх) и глаголом «вредить» (nоcеrе): «название ореха происходит от того, что его тень или дождевая вода, стекающая с его листьев, вредит окружающим деревьям»[257].
Как тис или ольха[258], орех — дерево опасное и зловредное. Однако столь дурная репутация, кажется, не нанесла ущерба ни его плодам, ни листьям, ни коре, ни древесине. Орехи, которые средневековое население потребляет в большом количестве, используются в медицине и идут в пищу; из них делают масло и всякого рода напитки — не вредные и не опасные. Корни и кора ореха применяются при изготовлении красителей, позволяющих окрашивать в коричневый и — что в средневековой Европе всегда представляло трудность — в черный цвет. А древесина ореха — твердая, тяжелая, прочная — у краснодеревщиков и скульпторов считается даже одной из самых красивых и ценных.
Таким образом, имеется существенный разрыв между символическим и мифологическим дискурсом об орехе, верованиями, которыми он окружен (с XV века это ведьминское дерево), и теми полезными и важными функциями, которые выполняют в материальной культуре получаемые от него продукты, особенно плоды и древесина. В конце Средневековья в одной и той же деревне крестьяне не позволяют детям и скоту находиться вблизи ореха, но вместе с тем сундучники с большой охотой и пользой работают с его древесиной. Как воспринимать такое противоречие? Что оно означает? Что, мертвый орех утрачивает свою вредоносность? Но кто же отважится его срубить? Или, возможно, это значит, что область ремесел, техники и экономики постепенно обособляется и даже порывает с миром знаков и грез, с которым она некогда составляла единое целое?
Вехи средневековой истории геральдической лилии
Не избегают ли историки геральдических лилий? Научная литература, посвященная лилии, настолько скудна, что вопрос этот вполне закономерен. Речь тем не менее идет о подлинно историческом объекте — политическом, династическом, художественном, эмблематическом и символическом одновременно. Однако объект этот далеко не нейтрален, и в конечном итоге недоверчивое отношение к нему со стороны историков и археологов было вызвано тем, что его изучение во Франции после установления Республики могло спровоцировать идеологические разногласия и раскол в обществе. Даже специалисты в области геральдики — хотя такого рода исследования являются именно их прерогативой — проявили нерешительность и до сих пор еще не посвятили этой гербовой фигуре и символу французской монархии обобщающего труда, которого мы от них по праву ждем[259].
Между тем в источниках недостатка нет: с XII по XIX столетие геральдическая лилия встречается повсюду — на всевозможных предметах, произведениях искусства и памятниках — и ставит перед историком разнообразные и непростые вопросы. Кроме того, ученые дореволюционной Франции, в частности Жан-Жак Шифле[260] и Севоль де Сент-Март[261], а также выдающийся Шарль Дюканж[262] уже в какой-то мере приступили к изучению вопроса и собрали многочисленные факты. Их труды, пусть и устаревшие, подчас наивные, все-таки стоят выше работ ученых XIX[263]—начала XX веков, легко берущихся писать на любую тему. Последним геральдическая лилия часто давала пищу для политического активизма[264], крайнего позитивизма[265], жонглирования пространственно-временными категориями[266] или эзотерических бредней[267]. Конечно, это все тоже документы истории — истории XIX и XX веков, — однако медиевистам пора вновь заняться исследованиями и изучением материала, который следует рассмотреть в свете новой проблематики, чтобы в ближайшем будущем мы смогли прочитать по истории этого династического цветка такие же серьезные и плодотворные работы, как работы по истории английского леопарда или германского орла, которыми мы ныне располагаем.
Большинство авторов, рассуждавших об изобразительных истоках геральдической лилии, сходятся во мнении, что она имеет мало общего с настоящей лилией, однако расходятся в предположениях, от чего же она все-таки происходит — от ириса, дрока, лотоса или утёсника; или же — согласно более экстравагантным гипотезам — она представляет собой трезубец, наконечник стрелы, секиру или даже голубя или солнце[268]. На мой взгляд, споры эти довольно бесполезны, хотя ученые и потратили на них не одно десятилетие. Главное, что следует понять, — это то, что мы имеем дело со стилизованной фигурой, несомненно цветком или растительным мотивом, и что эта фигура использовалась в качестве орнаментального мотива или эмблематического атрибута во многих обществах. Действительно, она встречается как на месопотамских цилиндрических печатях, египетских барельефах и микенской керамике, так и на галльских монетах, сасанидских тканях, индейской одежде и японских «гербах». Но вот символическое значение этого цветка меняется от культуры к культуре. Иногда это символ чистоты и непорочности, иногда образное выражение плодородия и пропитания, иногда знак власти и господства. Все три символических значения сливаются в средневековой геральдической лилии, одновременно связанной с непорочностью, плодовитостью и господством.
Самые древние примеры лилий, напоминающих те, что встречаются в средневековой Западной Европе, можно увидеть на ассирийских печатях и барельефах в третьем тысячелетии до нашей эры. Лилии украшают тиары, ожерелья и скипетры, и уже тогда, по всей видимости, играют роль царских атрибутов[269]. Лилии, которые несколько позже встречаются на Крите, в Индии и в Египте, вероятно, имеют аналогичное значение. Кроме того, в Египте этот цветок иногда является эмблемой южных провинций (тогда как папирус — северных) и считается символом плодородия и богатства[270]. Позже мы встречаем лилию на ряде греческих, римских и галльских монет. Но если в двух первых случаях речь и идет о более или менее четко прорисованном цветочном мотиве, то в последнем случае это уже настоящая «геральдическая» лилия, графически весьма напоминающая те, что гораздо позднее появятся на средневековых гербах. Так, на реверсе некоторых арвернских статеров — монет I века до н. э. — представлены великолепные образцы догеральдической лилии. Играет ли она на этой монете исключительно орнаментальную роль? Является ли федеративной эмблемой могущественного племени центральной Галлии? Или же имеет символическое значение, связанное с идеей независимости или даже господства? На эти вопросы ответить трудно, так как мы не располагаем достаточными знаниями о чеканке монет в Арвернии и о галльской и галло-римской денежной символике вообще. Кроме того, датировку этих великолепных статеров можно установить только с погрешностью в пятьдесят лет. А мотив, который представлен на аверсе монет — под копытами стилизованного коня, — до сих пор не идентифицирован[271].
Сохраняя значение королевского атрибута, лилия в период раннего Средневековья приобретает отчетливый религиозный смысл, главным образом христологический. Истоки его обнаруживаются в стихе Песни песней, который много раз цитировали и толковали Отцы Церкви и теологи[272]: «Я нарцисс Саронский, лилия долин!» (Песн 2:1). До XIII века Христа нередко изображают в окружении лилий или геральдических лилий[273]. Однако после 1000 года к этому христологическому значению постепенно присоединяется символика, связанная с распространением культа Девы Марии, с которой отныне ассоциируют следующий стих Песни песней: «Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами» (Песн 2:2), а также многочисленные примеры из Писания и комментариев Отцов Церкви, где лилия представлена как символ чистоты и непорочности. В феодальную эпоху стало считаться, что Мария освобождена от первородного греха[274]. Это еще не догмат о непорочном зачатии — который окончательно будет закреплен только в XIX веке, — но уже некая традиция, приписывающая Марии атрибуты, имеющие самое непосредственное отношение к идее чистоты.
Мало-помалу лилия становится в иконографии основным символом Девы Марии. Самые ранние свидетельства этого мы обнаруживаем в нумизматике: на ряде монет XI и XII веков, выпущенных епископами, настоятелями кафедральных церквей, посвященных Богоматери, на аверсе или на реверсе изображены лилии. Затем изображение Девы Марии с цветком лилии в правой руке встречается на печатях капитулов тех же храмов: Нотр-Дам в Париже с 1146 года[275], Нотр-Дам в Нойоне в 1174 году[276], Нотр-Дам в Лане в 1181 году[277]. Капитулам тут же стали подражать аббатства и приории, находящиеся под покровительством Девы Марии[278]. В конце XII и в начале XIII века Мария в иконографических источниках изображается с лилиями или в пышном окружении лилий. Внешний вид этих лилий существенно варьируется, но их эмблематическое и символическое значение остается неизменным. Иногда это просто декоративный цветочный мотив, иногда натуралистично изображенные садовые лилии, а иногда уже самые настоящие геральдические лилии — в последнем случае цветок помещен на скипетр или на венец, или же рассеян по поверхности мантии. В XIII веке распространенность лилии в качестве атрибута Девы Марии достигла, пожалуй, своего апогея. В позднее Средневековье в живописных и скульптурных изображениях лилия встречается реже, и роза начинает составлять ей конкуренцию. Цветок любви одерживает верх над цветком непорочности, что само по себе является важным свидетельством того, в каком направлении стал далее развиваться культ Богородицы[279].
Когда и при каких обстоятельствах короли Франции остановили свой выбор на лилии, сделав ее геральдической эмблемой, и какой смысл они ей придавали — все эти вопросы стали предметом широкого обсуждения. Некоторые поэты затрагивают эти темы в своих стихах начиная со второй половины XIII века[280], а на протяжении всего следующего столетия авторы различных литературных произведений[281] (стремясь легитимировать права на трон новой династии Валуа[282]) объясняют — как в 1371-1372 годах это делает Рауль де Прель в своем вступлении к переводу «Града Божьего» святого Августина, — что король Франции «носит герб из трех лилий в знак восхваления святой Троицы; через Божьего ангела они были посланы Хлодвигу, первому христианскому королю [...] и было ему сказано стереть со своего щита герб с тремя жабами и заменить его на три лилии[283]». Легенда о том, что три лилии заменили первоначальный герб с тремя жабами, была широко распространена до конца XVI века[284]. С этого момента лилии понимаются не как выражение трех добродетелей — Веры, Мудрости и Рыцарства (такое толкование давали трем лепесткам цветка в эпоху Людовика Святого (1226—1270) и во время правления Филиппа Красивого (1285-1314)[285]), а как символ самой Троицы, покровительствующей французскому королевству. Они были якобы посланы Хлодвигу, королю-основателю французской монархии, с Небес в момент обращения его в христианство и вскоре были помещены им на герб вместо жаб[286] — фигур откровенно дьявольских, которые были будто бы изображены на его гербе до крещения. В некоторых версиях легенды (времен крестовых походов) вместо жаб появляются полумесяцы — фигуры уже не дьявольские или языческие, а мусульманские[287]. Этой легенде была суждена долгая жизнь. Несмотря на то, что ученые XVII века посеяли сомнения в ее достоверности, она по-прежнему встречается в сочинениях историков XIX века, которые пытались отыскать в ней историческую правду[288]. Сегодня, однако, мудрое суждение ученых Старого режима представляется неоспоримым. До середины XII века гербов в Европе не существовало, а король Франции был далеко не первым властителем, который стал использовать герб[289]. Только в 1211 году на печати капетингского принца появляется знаменитый гербовый щит, усеянный лилиями (илл. 13). Да и в этом случае речь идет не о самом короле Филиппе Августе, а лишь о его старшем сыне, принце Людовике, будущем короле Людовике VIII (1223— 1226)[290].
На самом деле в середине XII века, когда в Англии, Шотландии, Франции, Нидерландах, в долине Рейна, в Швейцарии и северной Италии появляются гербы и формируется геральдическая система, лилия еще не связана с французской монархией никакими особыми отношениями. Как мы видели, этот цветок является одновременно древнейшим символом господства — и в этом качестве его издавна использовали большинство западных королей[291] — и атрибутом Богородицы, в каковом смысле он стал восприниматься позднее. И возможно, происхождение геральдической лилии капетингских королей следует связывать именно с религиозным контекстом. Под влиянием Сугерия[292] и святого Бернарда[293] — двух прелатов, которые сами посвятили себя служению Деве Марии и приложили все усилия к тому, чтобы вверить ее покровительству французское королевство — сначала Людовик VI (1108-1137), а затем Людовик VII (1137-1180) стали постепенно вводить лилию в круг инсигний[294] и атрибутов французской монархии. В период второй половины правления Людовика VII — самого набожного из первых капетингских королей — лилию в качестве эмблемы и символа стали использовать активнее. Это еще не совсем геральдическая лилия, зато она уже в полной мере несет в себе как королевские, так и связанные с Богородицей коннотации. Отныне король Франции использует ее чаще, чем любой другой суверен. Наконец, когда два-три десятилетия спустя, на заре 1180-х годов, приближенные юного Филиппа Августа стали обдумывать королевский герб и подыскивать для него геральдическую эмблему, они, естественно, вспомнили об этой фигуре, которая уже была тесным образом связана с капетингской монархией при двух предыдущих королях и подчеркивала идею, что французское королевство находится под особым покровительством Царицы Небесной. Вопрос о том, с какого времени Филипп Август начинает использовать настоящий герб, усеянный лилиями, который затем перейдет и ко всем его преемникам вплоть до Карла V, остается открытым. С 1180 года, сразу после своего прихода к власти, как заставляет предположить присутствие лилии на оборотной стороне королевской печати? Или несколькими годами позже, в 1192-1295 годах, после возвращения из крестового похода? Или еще позднее, после 1200 года, во второй половине своего правления? При нынешнем состоянии источников ответить на этот вопрос трудно. На данный момент самым ранним изобразительным источником с щитом, украшенным геральдическими лилиями, остается печать короля Людовика VII. Она ничего не говорит нам о цветах королевского герба. Их мы увидим только через несколько лет: верхний витраж Шартрского собора, датируемый 1215-1216 годами, впервые открывает нам цвета капетинского герба: лазоревое поле, усеянное золотыми лилиями[295].
С какого бы времени лазоревое поле, усеянное золотыми лилиями, не было окончательно присвоено французской монархией, капетингский король, начиная с Филиппа Августа, благодаря этой цветочной эмблеме, которую он отныне делит с Богоматерью, позиционирует себя через свою печать и свой герб как настоящего посредника между Небом и землей, то есть между Богом и подданными своего королевства. Это укрепляет его династический престиж и четко отражает его монархическую программу.
В течение нескольких веков королевская пропаганда, основанная на геральдических лилиях, будет вращаться вокруг следующей идеи: король Франции, отвечающий за спасение своих подданных, исполняет миссию, возложенную на него Богом; лилии, украшающие его печать и гербовый щит, свидетельствуют об этой миссии и подчеркивают религиозное значение королевской власти. Вследствие обряда коронования — в контексте которого лилии в изобилии встречаются на множестве предметов начиная с XIII века, — а также помазания освященным миром, на короля Франции снисходит особая благодать и он перестает быть чисто светской особой[296]. Бог даже наделяет его силой творить чудеса: исцелять больных золотухой[297]. Король Франции не похож на других королей.
Сакральная природа французской монархии и небесное происхождение ее миссии выражаются на гербе через особое расположение цветков лилии на лазоревом поле. Со времен Филиппа Августа щит, знамя и одежда короля Франции украшены не одной или тремя лилиями — они усеяны лилиями, число которых четко не фиксировано. Эта особенность одновременно представляет собой и эмблему, и символ. Она эмблематична в том смысле, что отличает королевский герб от прочих гербов, также украшенных лилиями. Кроме того, поле, усеянное фигурами, являет собой оригинальный геральдический принцип расположения элементов: в ранней геральдике он встречается относительно редко, и король Франции оказывается единственным правителем на Западе, который применяет его для основной фигуры своего гербового щита. Но что еще важнее, такое расположение заключает в себе мощный символический заряд: это образ усыпанного звездами небосвода, звездное небо, космический рисунок, который опять-таки подчеркивает божественное происхождение этого герба и ту особую связь, которая существует между Царем Небесным и королем Франции — его представителем на земле. В средневековой иконографии поле, усеянное некими элементами, почти всегда ассоциируется с идеей сакрального. Оно противопоставлено, с одной стороны, одноцветному полю, которое в каком-то смысле является нейтральным, а с другой — полосатым, пятнистым или сегментированным полям, которые отмечены негативными коннотациями[298]. В королевском контексте усеянное фигурами поле ассоциируется с церемонией миропомазания и коронования и подчеркивает божественное происхождение власти. Но если большинство королей Запада коронуются в мантии, усеянной звездами, иногда в сочетании с полумесяцами (еще один космический узор), то король Франции этому правилу не следует: он помазывается и коронуется в мантии, усеянной лилиями, то есть в мантии с изображением собственного герба, которая обеспечивает ему покровительство Царицы Небесной (илл. 26)[299].
Итак, французский королевский герб не является обычным гербом во многих смыслах. Герб этот по сути своей связан с Богородицей, как поясняется в ряде анонимных текстов с конца XIII века; ту же мысль вплоть до начала Нового времени будут повторять герольды, а затем историки на службе у короны, которые обнаружат в этом необычном гербе обширный символический материал, позволяющий выстраивать тончайшие идеологические конструкции. По сравнению с английским леопардом, львами Леона, Шотландии и Норвегии, замком Кастилии и имперским орлом, геральдическая лилия оказалась более удобным материалом, давшим пищу для богатой традиции толкования, поставленной на службу королевской пропаганде, и сыграла свою роль в том, чтобы представить короля Франции как единственноного в своем роде суверена[300].
Около 1375 года начинается новый этап, когда в королевском гербе поле, усеянное неисчислимым количеством лилий, уступает место полю с тремя большими лилиями. Новое расположение элементов, которого будут придерживаться до конца XVIII века и даже до более позднего времени, не возникло внезапно, как иногда полагали. Со времен Людовика VIII встречаются гербовые композиции, в которых число лилий уже было сокращено до трех. При двух следующих королях число таких гербов возрастает, особенно на печатях королевских чиновников и «функционеров». Иногда число лилий сокращается не до трех, а до одной или до шести, до четырех, до двух. На самом деле резчики печатей, ремесленники и художники останавливаются на таком количестве цветков, какое может уместиться в заданном пространстве, так что здесь нельзя вывести общую закономерность. Однако со времен Филиппа III (1270-1285) и особенно с 1300-х годов появляется, кажется, довольно четкое разделение между полем, усеянным лилиями, которое отсылает к королевской особе (в известных случаях к королевской семье) и несколькими лилиями, чаще всего тремя, которые отсылают к делегированной королевской власти, к правительству и даже к зарождающейся администрации[301]. Подобный феномен наблюдается и в Англии во время долгого правления Эдуарда III (1327-1377): гербовый щит с тремя леопардами закреплен за королем и династией Плантагенетов, а его урезанные версии, с изображением одного или двух леопардов, используются для репрезентации правительственного аппарата — его винтиков, его институтов, людей, которые его обслуживают.
Во Франции сокращение числа лилий до трех связывалось с символикой Троицы. Действительно, между 1372 и 1378 годами Карл V утвердил это изменение, напомнив не о покровительстве, которое Дева Мария оказывает королю и королевству, а об «особом расположении святой Троицы к королевству Франции[302]». Это нововведение, возможно, было первым признаком того, что коннотации, связанные с Богородицей, объясняющие происхождение герба Франции, стали отходить на задний план. Карл VI, сын Карла V, был первым королем, который с самого начала своего правления (1380) носил на гербе три лилии. Однако даже в разгар XV века его дядья, кузены, племянники продолжали использовать гербовый щит, усеянный лилиями, и это свидетельствует о том, что он сохранил династическое значение, в противоположность новому гербу с тремя лилиями, имевшему значение монархическое и административное.
Король Франции, его семья и его представители — не единственные обладатели гербов с лилиями. С конца XII века этот цветок является полноправной гербовой фигурой, которая весьма часто встречается во многих районах Франции и западной Европы. Только лев, орел и две-три геометрические фигуры (пояс, правая перевязь, глава) используются чаще. С географической точки зрения, у геральдической лилии в Средние века есть излюбленные места распространения: северные Нидерланды, нижнерейнская низменность, Брабант, Артуа, Верхняя Бретань, Анжу, Пуату, Бавария и Тоскана. С социальной точки зрения, она главным образом появляется на гербах мелкой и средней знати и в качестве более или менее «геральдизированной» эмблемы на крестьянских печатях. А на печатях крестьян Нормандии, Фландрии, Зеландии, Швейцарии она даже является самым распространенным мотивом[303]. В этом случае она имеет мало общего с лилией короля Франции, Девы Марии и Троицы. Речь идет об обычном графическом мотиве, который используется в качестве индивидуальной или семейной эмблемы.
Между тем при Старом режиме было много рассуждений (а зачастую и спекуляций) на тему присутствия лилий на гербе той или иной семьи, того или иного человека, того или иного сообщества, в попытке найти данному обстоятельству подходящее объяснение. Некоторые авторы, подчас нанятые непосредственно обладателями гербов, смело выдумывали для них фиктивные генеалогии и славных предков, подкрепляя это заявлением об их отдаленном родстве с капетингской династией или же изобретая некую важную услугу, оказанную короне, в благодарность за которую последовало пожалование герба королем. По правде говоря, ничего подобного в документах мы не находим. Пожалование лилий королем Франции всегда было редкостью (укажем, к примеру, на пожалования лилий дому Альбре в 1389 году и семейству Медичи в 1465 году). В подавляющем большинстве случаев наличие лилий на гербе какой-либо семьи объясняется всего лишь высоким показателем распространения этой фигуры на гербах той области, из которой происходит семья. Кроме того, лилия часто выполняет на гербовом щите ту же «техническую» роль, что и другие малые геральдические фигуры, такие как звезды, безанты, кольца, полумесяцы, ромбы: заполнение одноцветных полей, уравновешивание композиции, различение похожих гербов, «сопровождение» или «обременение» геральдических фигур (креста, косого креста, правой перевязи, пояса и т. д.) и делений щита (пересеченного несколько раз, скошенного справа несколько раз, рассеченного несколько раз и т. д.). Для этого в одних областях предпочитают звезды, в других — кольца или полумесяцы, а в третьих — лилии[304]. Мода, как это обычно бывает в средневековой геральдике, в большей степени определяется географическими, нежели социальными границами. На некоторых гербах лилия может также играть роль «говорящей» фигуры, то есть обыгрывать имя человека, семьи или сообщества, которые ее используют. Связь может строиться на созвучии со словом «цветок» (латинское flos), как в случае с гербом Флоренции, засвидетельствованным с 1250-х годов[305], или же со словом «лилия» (латинское lilium), как в случае с гербом Лилля, известным по печати конца XII века[306] и до сих пор присутствующим в эмблематике этого города (илл. 16).
Между тем во Франции времен Республики городские геральдические лилии стали занимать более скромное место. Даже если они не имели никого отношения к королевским лилиям — как в случае с Лиллем, — они подчас продолжали уступать место другим эмблемам. Французская революция, объявив войну гербам, которые были отменены в июне 1790 года, сразу же после падения монархии 21 сентября 1792 года объявила войну и старинным королевским атрибутам, в частности венцам и лилиям. В течение нескольких месяцев последние подвергались, если можно так выразиться, «геральдическому террору». Так, в августе 1793 года с часовни Сен-Шапель в Париже был снесен великолепный шпиль, потому что он был украшен буквой L (инициал Людовика) и лилией[307]. В ответ на это роялисты, уже в революционный период, делают лилию своей эмблемой, каковой она будет оставаться на всем протяжении XIX века и даже в первой половине XX столетия. Для различных роялистских движений, ратующих за возвращение монархического строя, характерно систематическое написание слова «лилия» в форме lys, которая считалась более древней и благородной (на самом деле, как в Средние века, так и при Старом режиме форма lis встречается ничуть не реже). До сих пор некоторые авторы с пристрастием относятся к французскому написанию имени столь символически насыщенного цветка как лилия: fleurde lys — не то же самое, что fleur de lis.
Если назвать французскую монархию «растительной монархией», не слишком ли далеко заведет нас эта метафора? Возможно, не так уж и далеко, если мы ограничимся средневековым периодом. Король Франции является одним из немногих христианских монархов, на гербе которого не фигурируют животные; более того, свои основные эмблемы и символы он черпает из растительного мира[308]. На первом месте стоит геральдическая лилия. Затем цветочный мотив во всевозможных видах, особенно в виде двух символических эквивалентов древа жизни — столь значимого для средневековой иконографии, — а именно цветущего жезла и украшенного цветами скипетра. Начиная с XI века они присутствуют на печатях капетингских королей и впредь будут сопутствовать правлению всякого суверена вплоть до Великой французской революции[309]. Затем пальмовая ветвь — христологический атрибут и знак власти, — которая уже присутствовала в каролингской королевской символике и которую Капетинги постепенно модифицировали в короткий скипетр, а потом в руку правосудия[310]. Наконец, венец, который может быть украшен цветами или геральдическими лилиями множеством разных способов, но также может быть декорирован другими растительными мотивами (трилистником, пальметтами, листьями сельдерея). Все эти атрибуты присутствуют на печатях его величества, где через них позиционируются королевская особа, монархический идеал и династическая политика. Можно было бы добавить к этому ряду и другие растительные мотивы, встречающиеся на печатях иного типа и изображениях. Например, древо Иессея[311], имеющее важное значение для Сугерия, которое, начиная с XII века, столь часто ассоциируется с королевством лилий, что в конечном итоге становится настоящим иконографическим символом последнего. А несколько позже — изображение Благовещения (с непременным присутствием лилии) и богатый цветочный букет Девы Марии, занимающий в королевской иконографии позднего Средневековья видное место. И особенно многочисленные геральдические или окологеральдические эмблемы, которые с XIV по XVI век использовали короли и князья всех ветвей династии Валуа: цветы (розы, маргаритки, ирисы, васильки), а также различные листья, ветви дрока, падуба, розового куста, апельсиновое дерево и смородиновый куст, узловатый ствол или ствол без ветвей, шипы тернового венца Христа. Наконец, в этот перечень может быть включен знаменитый дуб Людовика, так как он представляет собой аутентичный символ отправления правосудия. Жуанвиль оставил нам весьма живое свидетельство, в достоверности которого не приходится сомневаться: «Летом после мессы он зачастую отправлялся в Венсенский лес и садился под дубом, прислонившись к стволу, и повелевал нам садиться вокруг него. И все тяжущиеся приходили с ним говорить, и ни стража, ни кто другой им не препятствовал[312]».
В общем, можно составить длинный список растений, к которым прибегала французская монархия, для того чтобы создать свой особый, неповторимый образ. Конечно, растения — не единственные символы, которые использовались с этой целью, однако они отчетливо свидетельствуют о сущности этой монархии, которая всегда стремилась выделиться на общем фоне, заявить о себе как о самой чистой, законной и священной. Отличиться, не быть обычным сувереном, не пользоваться общим набором королевских знаков отличия[313] — именно в этом состояла основная линия символического позиционирования, которой на протяжении столетий придерживались французские короли.
Возможна ли история цвета?
Цвет — не только физический феномен и феномен восприятия; это еще и сложный культурный конструкт, который не поддается ни обобщениям, ни даже анализу и ставит перед нами множество сложных вопросов. В этом, без сомнения, кроется причина того, почему в медиевистике нечасто встретишь работы, посвященные цвету, и еще того реже — труды, которые взвешенно и обоснованно исследуют свой предмет в подлинно исторической перспективе[314]. Некоторые авторы предпочитают свободно обращаться со временем и пространством, пытаясь вывести так называемые универсальные или архетипические истины о цвете. Историк таковых не признает. Цвет — это прежде всего социальный факт. У цвета нет никакого транскультурного значения, как бы ни хотели нас в этом убедить некоторые книги, опирающиеся на плохо переваренные нейробиологические знания или опустившиеся до третьесортной психологии.
Археологи, историки искусства и исследователи повседневности в той или иной степени несут ответственность за сложившуюся ситуацию, потому что о цвете они говорят редко. Их молчание, однако, вызвано рядом причин, которые сами по себе достаточно значимы с исторической точки зрения. В основном они связаны с трудностями, которые возникают при рассмотрении цвета как объекта исторического в полном смысле слова. Трудности бывают трех видов: они могут носить источниковедческий, методологический и эпистемологический[315] характер.
Первая трудность обусловлена многообразием цветовых носителей, а также состоянием, в котором они до нас дошли. Впрочем, прежде чем приниматься за изучение носителей, историк должен обязательно вспомнить, что дошедшие до нас через века изображения и вещи он видит не в их первоначальном состоянии, а в таком, в какое их превратило время. Воздействие времени само по себе является историческим фактом, будь то изменения химического состава красящих веществ или воздействие человека, который век за веком красил и перекрашивал, видоизменял, чистил, лакировал или снимал тот или иной слой краски, нанесенный предыдущими поколениями. Поэтому я всегда искренне недоумеваю, когда слышу о лабораторных проектах, в ходе которых с помощью усовершенствованных технических средств планируется «отреставрировать» цвета памятников или произведений искусства или — еще того хуже — восстановить цвета в их изначальном состоянии. В этом проявляется научный позитивизм, который кажется мне одновременно бесполезным, опасным и противоречащим задачам историка. Воздействие времени — неотъемлемая составляющая предмета исторического, археологического или искусствоведческого исследования. Зачем же его отрицать, сглаживать, устранять? Историческая реальность — это не только первоначальное состояние, но и его изменения во времени. В отношении цвета забывать об этом нельзя ни в коем случае, нельзя оставлять без внимания и выцветание красок, и перекрашивание, к которым каждое поколение, каждое столетие, каждая эпоха приложили руку.
Не надо также забывать, что сегодня мы видим изображения, вещи и цвета при таком освещении, которое совершенно отличается не только от освещения, привычного для средневековых обществ, но и вообще от того, при котором жили люди до изобретения электрической лампочки. Факел, масляная лампа, сальная, восковая или стеариновая свеча производят совсем иной свет, нежели электрический ток. Принимает ли это в расчет историк, изучающий изображения, произведения искусства или памятники? Если этого не учитывать, то можно дойти до абсурда. Вспомним, к примеру, недавнюю реставрацию сводов Сикстинской капеллы и те огромные усилия, как технические, так и массмедийные, которые совершались для того, чтобы «добиться первоначальной чистоты и свежести» красок, наложенных кистью Микеланджело. Подобная затея, при всей поднятой вокруг нее шумихе, несомненно, любопытна, однако она превращается в совершеннейший анахронизм, как только мы начинаем рассматривать и изучать полученные таким образом цвета при электрическом освещении. Что в действительности остается от цветов Микеланджело при освещении 2004 года? Не обманывает ли оно нас еще сильнее, чем те медленные изменения, которые принесли с собой время и человеческие усилия в период с XVI по XXI век? Стоит представить себе средневековые памятники, которые были либо разрушены, либо претерпели непоправимый ущерб, став современными достопримечательностями, и подобная затея покажется и вовсе преступной. Слишком настойчивый поиск так называемой исторической или археологической «правды» иногда заканчивается настоящей катастрофой.
Наконец, говоря о трудностях источниковедческого характера, необходимо подчеркнуть, что, начиная с XVI века, историки и археологи привыкли работать по большей части с черно-белыми изображениями: сначала с эстампами и гравюрами, затем с фотографиями. В течение примерно четырех столетий «черно-белые» документы были практически единственно доступными для изучения изобразительных памятников прошлого, включая живопись. Таким образом историки и историки искусства тоже в каком-то смысле начали видеть и мыслить в «черно-белом регистре», чем и способствовали укреплению разрыва между реальностью «черно-белой» и собственно цветной (чего никогда не было ни в Античности, ни в Средневековье). Привычно работая с источниками, книгами, журналами и иконотеками, где явно преобладают черно-белые изображения, историки (а историки искусства, видимо, в особенности) до самого последнего времени осмысляли и изучали Средние века либо как мир серых, черных и белых красок, либо как мир, в котором совершенно отсутствовал цвет.
Недавнее обращение к «цветной» фотографии не сильно изменило ситуацию. По крайней мере, до сих пор. С одной стороны, мыслительные привычки слишком укоренились, чтобы измениться за несколько десятилетий; с другой — доступ к цветным фотодокументам был и все еще остается роскошью. Книги по искусству стоят дорого; их качественная подготовка — целое состояние; базы цифровых изображений сильно искажают цвета, особенно красные, зеленые и больше всего золотые оттенки (а мы знаем, насколько важен золотой цвет для средневекового искусства). Сделать обычный диапозитив в музее, библиотеке, на выставке или в архиве — непростая задача для исследователя или студента. Со всех сторон громоздятся препятствия — остается либо отступить, либо разориться. Созданы все условия для того, чтобы невозможно было добраться не только до подлинного произведения или источника, но даже до его цветной репродукции. Кроме того, подчас по вполне понятным финансовым причинам, издатели и ответственные редакторы научных журналов стараются ограничивать число цветных иллюстраций в своих изданиях или вообще обходиться без них. Работа с цветом становится настоящей роскошью, недоступной для большинства исследователей гуманитарных дисциплин. Разрыв между возможностями новейших технологий в области работы с изображениями — оцифровка, передача на расстоянии, воспроизведение и компьютерный анализ — и повседневным «кустарным» трудом студента и историка, которые сталкиваются со всевозможными преградами на пути изучения изобразительных документов прошлого, не перестает увеличиваться. С одной стороны, нам предоставлены все достижения науки XXI века, с другой — финансовые, институциональные, юридические барьеры часто остаются просто-напросто непреодолимыми.
Все это не просто занятные подробности. Напротив, мои замечания имеют важное историографическое значение и объясняют сегодняшнюю ситуацию, главным образом в области истории искусства. Из-за слишком больших сложностей, обусловленных состоянием источников, а также юридическими и финансовыми факторами, исследователи часто предпочитают не связываться с цветом, а заняться чем-нибудь другим. Сколько студентов отказались продолжать исследования по миниатюрам, витражам или живописи: из-за трудностей с доступом к оригинальным документам, из-за подозрительного отношения учреждений, в которых они хранятся, из-за настоящего вымогательства со стороны организаций, торгующих фотографиями, наконец, из-за невозможности опубликовать в цвете результат своей работы в научном издании. Так что ситуация по-прежнему не меняется: куда легче изучать биографии художников или теоретизировать об искусстве, чем тратить свое время на изучение самих произведений.
Вторая группа трудностей носит методологический характер. Пытаясь разобраться в статусе и механизме функционирования цвета в изображении, в произведении искусства или на предмете, историк-медиевист почти всегда оказывается дезориентированным. В самом деле, как только речь заходит о цвете, сразу возникает целая масса вопросов — по поводу материала, техники, химического состава и свойств красителей, иконографии, художественного и символического значения. Как с этим разобраться? Какие ставить вопросы и в каком порядке? На сегодняшний день еще ни один ученый, ни одна исследовательская группа не предложили адекватного аналитического подхода или подходов, которыми могло бы воспользоваться все научное сообщество. Вот почему, не умея справиться с великим множеством проблем и массой параметров, исследователь часто склонен учитывать лишь то, что укладывается в систему его доказательств и, наоборот, отбрасывать все, что ее нарушает. Так, конечно, работать нельзя, хоть мы все подчас этим грешим.
Более того, оставленные средневековой культурой источники, письменные или изобразительные, никогда не бывают ни однозначными, ни нейтральными. Каждый источник имеет свою специфику и по-своему интерпретирует действительность. Как и любой другой историк, специалист по цвету должен принимать это во внимание и учитывать, что каждый тип источников имеет свои правила кодирования и функционирования. Тексты и изображения вообще принадлежат к разным дискурсам и должны изучаться и анализироваться различными методами. Эту — совершенно очевидную — мысль часто забывают, особенно специалисты по иконографии и историки искусства, которые вместо того, чтобы расшифровывать смысл самих изображений, наслаивают на них все, что почерпнули из других источников — в частности, из текстов. Медиевистам следовало бы иногда брать пример с исследователей доисторического периода, которые работают с изображениями (наскальными рисунками), не располагая при этом ни единым текстом: они вынуждены выдвигать гипотезы, искать зацепки и разгадывать смысл, анализируя непосредственно сами изображения, а не проецируя на них информацию, добытую из текстов. Историкам и историкам искусства стоило бы взять на вооружение их метод — по крайней мере, на первом этапе анализа.
Приоритет источника (панно, витража, гобелена, миниатюры, настенной живописи, мозаики) — безусловное требование. Прежде чем выдвигать гипотезы или интерпретации обобщающего плана, основываясь на разнородных источниках (о символике цветов, иконографических традициях, условном образе действительности), нужно сначала извлечь из самого источника всю информацию о цвете, которую он может нам дать: связь с материальным носителем, занимаемую поверхность, представленные цвета и цвета отсутствующие (отсутствие в данном случае, как, впрочем, и всегда, — само по себе красноречивый исторический источник), композиционная и ритмическая роль цвета, его распределение. Внешнее кодирование вторично, цвет прежде всего кодируется внутри изображения, его кодирует сам источник ради своих целей. Только проанализировав цвет внутри конкретного источника, последовательно, этап за этапом, исследователь может рассматривать цвет с других точек зрения, переходить к следующим этапам анализа. Все интерпретации, объясняющие присутствие тех или иных цветов текстовым влиянием, иконографической традицией, геральдической, эмблематической или символической функцией, нужно выдвигать лишь на втором этапе исследования, когда цвета будут проанализированы с точки зрения внутренней структуры изучаемого объекта или изображения. Это не значит, что подобные интерпретации менее обоснованы, просто к ним нужно прибегать лишь во вторую очередь.
А вот от чего следует отказаться полностью, так это от поиска какого бы то ни было «реалистического» значения цветов. Средневековое изображение никогда не «фотографирует» реальность. Для этого оно совершенно не предназначено, ни с точки зрения формы, ни с точки зрения цвета. Полагать, к примеру, что красная одежда на какой-нибудь миниатюре XIII или на витраже XV века представляет реальную одежду, которая на самом деле была красной, одновременно наивно, анахронично и неверно. Кроме того, это грубая методологическая ошибка. На любом изображении красная одежда является красной прежде всего потому, что она противопоставлена одежде других цветов — синей[316], черной, зеленой или другому оттенку красного; одежда другого цвета может присутствовать как на том же самом изображении, так и на любых других, резонируя или контрастируя с красной. Цвет никогда не бывает изолирован; он приобретает значение и смысл только в сочетании с другим цветом или цветами — или по контрасту с ними.
Ни одно средневековое изображение не воспроизводит реальность со скрупулезной цветовой точностью. Это так же верно для миниатюры (до нас дошло несколько сотен тысяч цветных изображений), как и для других художественных жанров. То же самое можно сказать и о текстах. Любой письменный источник отражает реальность искаженно и специфически. Если средневековый хроникер говорит нам, что по тому или иному случаю мантия того или иного короля была синей, то это не значит, что она была таковой в действительности. Как не значит и обратного. Такими вопросами вообще задаваться бессмысленно. Любое описание, любое упоминание цвета идеологично, даже если оно встречается в самой незначительной инвентарной описи или в самом стереотипном нотариальном документе. Даже сам факт того, упомянут или не упомянут цвет предмета, отражает весьма значимый выбор, насыщенный экономическими, политическими, социальными или символическими смыслами, вписанными во вполне конкретный контекст. Не менее значим и выбор слова, которому писарь или нотариус отдает предпочтение перед всеми остальными, чтобы выразить сущность, качество и функцию этого цвета.
Третья группа трудностей носит эпистемологический характер: на созданные в Средневековье изображения, памятники, произведения искусства и предметы недопустимо переносить в готовом виде наши современные определения, способы восприятия и классификации цвета. Для Средневековья они не подходят. Историка — а историка, изучающего изображения и произведения искусства, видимо, в особенности — постоянно подстерегает опасность впасть в анахронизм. Когда же речь заходит о цвете, его определениях и классификациях, эта опасность возрастает. Вспомним, к примеру, что на протяжении всего Средневековья черный и белый воспринимались как цвета в полном смысле этого слова (и даже как цветовые полюса для всех колористических систем); что спектр и спектральная последовательность цветов были неизвестны вплоть до открытий Ньютона во второй половине XVII века; что взаимосвязи между основными и дополнительными цветами начали медленно выстраиваться все в том же XVII веке, а окончательно утвердились только в веке XIX; что оппозиция между теплыми и холодными цветами условна и зависит от общества или эпохи. Как мы уже говорили, в средневековой Европе синий считался теплым, а иногда даже самым теплым цветом. Поэтому историк живописи, желающий проанализировать панно, миниатюру или витраж с точки зрения соотношения теплых и холодных цветов и при этом наивно полагающий, что в XIII или в XIV веке синий, как и сегодня, являлся холодным цветом, впадет в заблуждение и наговорит глупостей. Понятие теплых и холодных, основных и дополнительных цветов, классификация по спектру или хроматическому кругу, законы восприятия или синхронного контраста — не извечные истины, а всего лишь этапы исторически развивающегося знания. С этими классификациями нельзя обращаться вольно и необдуманно, применяя их к античным или средневековым обществам.
Возьмем простой пример и рассмотрим подробнее ситуацию со спектром. После опытов Ньютона, открытия спектра и спектральной классификации цветов нам кажется неоспоримым, что зеленый располагается где-то между желтым и синим. Разнообразные социальные нормы, научные подсчеты, «природные» доказательства (например, радуга) и всевозможные повседневные практики в любой момент напомнят или докажут нам это. Однако для средневекового человека это не имеет никакого смысла. Нет ни одной средневековой цветовой системы, которая помещала бы зеленый цвет между желтым и синим. Два последних цвета принадлежат к различным шкалам, располагаются на различных осях; между ними не может быть переходного, «промежуточного», то есть зеленого, цвета. Зеленый, конечно, тесно связан с синим, но к желтому он вообще не имеет никакого отношения. Более того, вплоть до XV века ни в живописи, ни в красильном деле мы не найдем ни одного рецепта получения зеленого цвета путем смешения желтого и синего[317]. Художники и красильщики, естественно, умели изготавливать зеленую краску, однако для этого они не смешивали желтый с синим. А чтобы получить фиолетовый, не смешивали синий с красным.
Историк должен остерегаться любых анахроничных умозаключений. Он не должен проецировать на прошлое свои собственные познания о физике или химии цвета и не должен принимать за абсолютную, незыблемую истину спектральную последовательность цветов и любые спекуляции, которые из этого вытекают. Историк, как и этнолог, должен рассматривать спектр лишь как одну из систем цветовой классификации. Сегодня эта классификация известна и признана, «обоснована» опытным путем, научно показана и доказана, но, может быть, через два или три столетия она покажется нам смешной или будет отринута. Понятие научного доказательства — оно ведь тоже культурно обусловлено; у него есть своя история, свои основания, свои идеологические и социальные цели. Аристотель, который вовсе не распределял цвета в спектральном порядке, тем не менее, в рамках современного ему знания, научно обосновал и доказал верность своей классификации с физической и оптической, чтобы не сказать онтологической, точек зрения. И это было в IV веке до нашей эры[318].
Даже если оставить понятие научного доказательства в стороне, как объяснить, что средневековый человек — чей зрительный аппарат ничем не отличается от нашего — видит цветовые контрасты совсем не так, как человек современный? Действительно, два соседних цвета, которые нами будут восприниматься очень контрастно, в Средневековье вполне могут составлять относительно слабый контраст; и наоборот, два цвета, которые для нашего глаза соседствуют вполне мирно, на взгляд средневекового человека могут выглядеть «кричаще». Так, соседство красного и зеленого (самое частое сочетание цветов в аристократическом костюме с эпохи Карла Великого до XII века) представляет слабый контраст, почти гризайль[319]; нам же это сочетание, противопоставляющее основной и дополнительный цвета, будет казаться очень контрастным. Напротив, сочетание желтого и зеленого, двух соседних цветов спектра, представляет для нас относительно невыраженный контраст. А в Средневековье более дикого контраста и представить себе было невозможно: так одевают сумасшедших и помечают любое опасное, преступное или дьявольское поведение!
Эти трудности источниковедческого, методологического и эпистемологического характера свидетельствуют о культурной относительности любых вопросов, касающихся цвета. Цвет нельзя изучать вне контекста, вне времени и пространства. Таким образом, любая история цвета должна начинаться с социальной истории, а потом уже переходить к археологии, истории технологий, искусства или науки. Для историка (как, впрочем, и для социолога или антрополога) цвет — это прежде всего социальный факт. Именно общество «фактуализирует» цвет[320], дает ему определение и наделяет смыслом, конструирует его коды и значения, определяет его применение и устанавливает функции. Общество, а не художник или ученый, не биологические механизмы или природные явления. Вопросы, возникающие в связи с цветом, — это всегда и прежде всего вопросы социальные, потому что человек живет в обществе, а не сам по себе. Не принимая этого во внимание, мы впадем в редукционистский нейробиологизм или в опасный сциентизм, и все наши попытки написать историю цвета будут обречены на провал.
Работа историка должна идти по двум направлениям. С одной стороны, нужно попытаться охватить все области цвета — и все их составляющие, — которые могли быть актуальны для средневековых обществ. Это лексика и номинации[321], химические свойства и состав красителей и техники окраски, одежда как система и коды, лежащие в ее основе, роль цвета в повседневной жизни и материальной культуре, предписания властей, нравоучения духовных лиц, спекуляции ученых, произведения художников. Областей для изучения и размышления более чем достаточно, и каждая ставит перед нами сложные вопросы. С другой стороны, ограничившись конкретным культурным полем, историк должен изучить в диахроническом плане не только практики, коды и системы, но также проследить изменения, затронувшие любые исторически зафиксированные аспекты цвета — все замещения, исчезновения, нововведения или смешения. Эта задача, пожалуй, еще сложнее, чем первая, даже если на первый взгляд и не кажется таковой.
Выполнение этой двойной задачи требует изучения всех источников: цвет, по самой своей сути, — область междисциплинарная и требующая привлечения самых разнообразных источников. Однако некоторые области обещают быть более плодотворными, чем другие. Например, лексика: здесь, как всегда, история слов дает нам много существенных сведений о прошлом; лексика, относящаяся к цветам, показывает, что в любом обществе первейшей функцией цвета будет обозначение, выделение, классификация, иерархическое упорядочение, объединение или противопоставление. Еще стоит особо выделить область красильного дела, тканей и одежды. Наверное, именно здесь теснее всего переплетаются химические, технические, материальные, профессиональные проблемы и проблемы социальные, идеологические, эмблематические и символические. И, наконец, еще одна такая область — область знаний и сопутствующих им дискурсов — спекулятивных, теологических, этических, а иногда и эстетических. В период раннего Средневековья эти дискурсы встречаются редко, однако становятся более многочисленными в XI—XII веках и изобилуют в XIII веке, особенно в связи с многочисленными размышлениями теологов и ученых о природе и структуре света.
На первый взгляд, ученые в Средневековье редко говорят о цвете ради самого цвета. Контраст разительный: тексты, посвященные физике или метафизике света, встречаются в избытке, тогда как специальный дискурс о цвете весьма беден. Так, например, XIII век, великий век оптики[322], когда были изобретены очки и ставились эксперименты с разного рода линзами, когда интересовались слепыми, а Христа окончательно сделали Богом света, проявлял мало любопытства к познанию природы цвета и видению цветов. Энциклопедии и популяризированные сочинения, равно как и трактаты по оптике, уделяют мало места этим вопросам и не привносят почти ничего нового; обычно все ограничивается спекуляциями по поводу радуги.
Зато последние многочисленны и не лишены новаторства. Радуга привлекает внимание самых больших ученых, некоторые из которых являются по совместительству теологами. Они заново открывают «Метеорологику» Аристотеля и впервые — арабскую оптику, в частности Альгазена (Ибн аль-Хайсама, 965-1039). Так, на христианском Западе дискурс о радуге, до сего времени исключительно поэтический и символический, становится еще и физическим и затрагивает такие вопросы, как изгиб радуги, ее положение по отношению к Солнцу, природа облаков и в особенности феномены отражения и преломления световых лучей[323]. И пусть авторы далеко не во всем соглашаются друг с другом, их стремление познавать и доказывать огромно. Упомянем имена некоторых выдающихся авторов в истории средневековой науки XIII века: Роберт Гроссетест[324], Иоанн Пеккам[325], Роджер Бэкон[326], Теодорик Фрайбургский[327], Витело[328]. Впрочем, несмотря на дискуссии по поводу радуги, никто из них по-настоящему не продвинул знания о природе цвета и видении цветов за пределы этой специфической темы. Ученые пытаются прежде всего установить количество видимых цветов в радуге и их последовательность. Мнения разделились между тремя, четырьмя и пятью цветами. Единственный ученый — Роджер Бэкон (1214- 1294) — насчитывает шесть цветов: синий, зеленый, красный, серый, розовый, белый[329]. Ни один из них не называет цветовую последовательность или хотя бы часть последовательности, которая имела бы хоть какое-то отношение к спектру, то есть к нашей современной радуге: до этого еще далеко. Все или почти все видят в радуге рассеянный солнечный свет, проходящий через водную среду, более плотную, чем воздух. В основном ученые спорят о явлениях отражения, преломления, поглощения световых лучей, об их длине и величине углов. Многие аргументы и доказательства заимствуются из Античности или у арабов, равно как и все объяснения цветного зрения, выдвигаемые врачами и энциклопедистами.
Что касается последнего вопроса, то здесь Средневековье не предлагает почти ничего нового и даже слепо следует древнейшим теориям[330]. Так, вслед за Пифагором, который говорил об этом за шесть веков до нашей эры, полагают, что из глаза исходят лучи, которые встречаются с материей и «свойствами» видимых предметов — среди этих «свойств» почетное место отводится цвету. Еще чаще, опираясь на Платона, считают, что мы видим цвета потому, что «зрительный огонь», исходящий из глаз[331], сталкивается с частицами, которые излучают воспринимаемые тела; из-за того, что частицы, из которых состоит «зрительный огонь», бывают больше или меньше тех, что образуют лучи, испускаемые телами, глаз видит тот или иной цвет. Несмотря на то, что Аристотель привнес в эту теорию ряд дополнений (указав на важность окружающей среды, материала, из которого состоит объект, личности смотрящего) — дополнений, которые могли бы дать пищу для новых размышлений, — а также несмотря на новые знания, касающиеся строения глаза, природы его различных жидкостей и оболочек, роли глазного нерва (подчеркнутой Галеном), именно эта теория (экстрамиссии/интромиссии), заимствованная из греческой Античности, господствовала на протяжении всего Средневековья.
В таком узком вопросе, как цветное зрение, средневековая наука приходит к весьма скромным результатам. И все-таки исследователь цвета не останется совсем уж с пустыми руками. Из многих сочинений по оптике можно почерпнуть ряд полезных сведений. Прежде всего — разделяемую всеми учеными (но не всеми теологами) идею о том, что цвет состоит из света; из света, который ослабевает или затухает, проходя сквозь различные объекты или среды. Уменьшаются масса света, его интенсивность и чистота, и таким образом рождаются различные цвета. Поэтому если поместить все цвета на оси, то они будут располагаться между двумя полюсами — белым и черным, которые являются полноправными цветами наряду с остальными. Цвета на этой оси следуют вовсе не в спектральном порядке, а в том, который был заимствован из аристотелевского учения, заново открытого в XII веке и преподаваемого вплоть до XVII столетия: белый, желтый, красный, зеленый, синий, черный. Какую бы область мы ни изучали, эти шесть цветов будут основными. Иногда к ним прибавлялся дополнительный, седьмой, цвет — фиолетовый, который помещался между синим и черным. В действительности фиолетовый понимался не как смесь красного и синего, а как получерный, недочерный, о чем свидетельствуют литургические практики[332] и самый распространенный выразительный латинский термин, обозначающий этот цвет: subniger[333].
Во-вторых, большинство авторов, рассуждающих о цветном зрении, выдвигают заимствованную из аристотелевского учения идею о том, что любой цвет — это движение: он движется как свет и приводит в движение все, чего касается. Таким образом, цветное зрение — это динамическая деятельность, являющаяся результатом взаимодействия «зрительного огня» (если воспользоваться выражением Платона) и лучей, испускаемых наблюдаемыми телами. Хотя ни один автор не сформулировал этого вполне четко, из ряда научных и философских текстов можно заключить, что для существования феномена цвета необходимо три фактора: свет, объект, на который он падает, и взгляд, который одновременно действует как излучатель и как рецептор. Более простая (и в конечном итоге более современная) теория, чем у Аристотеля и его последователей, сформировалась вокруг идеи взаимодействия четырех элементов: светового огня (огня), материи, из которой состоят объекты (земли), глазной влаги (воды) и воздушной среды, играющей роль оптического модулятора (воздуха).
Если все ученые полагают, что цвет — это прежде всего свет, то теологи, а уж тем более прелаты, придерживаются иной точки зрения. Начиная с XII века столь же часто высказываются те, кто, подобно святому Бернарду, считает, что цвет состоит не из света, а из материи, — стало быть, это нечто презренное, бесполезное и ничтожное — то, что нужно изгонять из христианского храма. Наряду с прелатами-хромофилами, которые уподобляли цвет свету, существовали и хромофобы, которые видели в цвете исключительно материю. Цвета в церкви, представавшие взору монахов, братьев и верующих, часто были связаны с тем, как прелат, основатель или учредитель ордена, понимал цвет. Для историка эта проблема становится еще более сложной и увлекательной в том случае, если это высокопоставленное духовное лицо также является великим теологом и ученым. Как, например, Роберт Гроссетест (1175-1253), один из крупнейших ученых XIII века, положивший начало научной мысли в Оксфордском университете, долгое время стоявший во главе францисканского ордена в этом городе, а затем, в 1235 г., принявший сан епископа Линкольнского (под его началом оказалась самая обширная и самая населенная епархия Англии). Было бы интересно проследить во всех подробностях, как связаны между собой идеи ученого, изучавшего радугу и преломление света, размышления теолога, считавшего свет первоисточником всех тел, и решения священнослужителя, основателя и реформатора, который, задумав частично перестроить Линкольнский собор, руководствовался законами математики и оптики[334]. Этими вопросами можно было бы задаться и в отношении другого францисканского ученого, Иоанна Пеккама (1230-1292), который преподавал в Оксфорде, написал самый читаемый вплоть до конца Средневековья трактат по оптике (“Perspectiva Communis” — «Всеобщая перспектива»), а последние пятнадцать лет своей жизни был архиепископом Кентерберийским, главой английской церкви[335].
Оставим же, наконец, в стороне ученых с их спекуляциями и теологов с их спорами. Перейдем к обычным мужчинам и женщинам, из которых по большей части и состояли средневековые общества, и для начала поставим перед собой два вопроса: где и когда они видели цвет? В полном противоречии с той удручающей картиной, которую мы иногда склонны себе рисовать, цвет занимает важное место в повседневной жизни; даже для самых бедных социальных слоев окружающий мир никогда не бывает бесцветным. Однако в Средние века цвет цвету рознь, и хотя красили почти все что угодно — а в кругах знати даже пищу, шерсть и перья некоторых животных и птиц (собак, лошадей, соколов), — цвета не были равны друг другу. Настоящими (colores pleni) считались только яркие, ясные, насыщенные, стойкие цвета — цвета, которые сияли и казались источником жизни и веселья, которые срастались со своим носителем и выдерживали испытание временем, не линяли и не выгорали[336]. Такие цвета встречаются не всегда и не везде; они присутствуют только в определенных местах и имеют отношение к определенным ритуалам, праздникам или торжествам.
Главнейшим из таких мест, безусловно, является церковь. Пусть иногда и встречаются прелаты-«хромофобы», но все-таки они в меньшинстве. В период с каролингской эпохи и до XV века церковь, маленькая или большая, исключительно многоцветна, она представляет собой настоящий храм цвета[337]. «Застывшие» краски, которые покрывают стены, полы, потолки, стекла витражей, скульптурный декор (всегда разукрашенный), соседствуют с подвижными и меняющимися цветами культовых предметов и одежды, литургических книг, временных украшений (в основном из ткани), сопутствующих тому или иному празднику. Начиная с XIII века сама месса перестает быть просто ритуалом, а становится еще и спектаклем, в котором литургические цвета начинают играть все более и более значимую роль[338].
Театрализация цвета встречается также и в мирской среде, особенно там, где являет себя власть или проходит какая-нибудь церемония (королевский замок, зал суда). Кроме того, любые праздники всегда сопровождаются парадом пестрых и буйных красок; действующие лица и зрители окружены таким разноцветьем, какого не встретишь в обычные дни. Турниры и состязания, число которых возрастает начиная со второй половины XII века, являются наиболее ярким примером из светской жизни[339]. В зрелищах и турнирах цвета выполняют одновременно и визуальные, и ритуальные функции. И среди этих цветов основное место занимают цвета геральдические.
Гербы появляются в XII веке, но только начиная с 1200-1220-х годах их использование приобретает действительно широкий размах, затрагивая все социальные слои и группы (в некоторых областях гербы с давних пор были у ремесленников и крестьян), а геральдический код стабилизируется и принимает классический вид[340]. Существенную роль в этом коде играют цвета. Их шесть (белый, желтый, красный, синий, черный и зеленый), и они обозначаются во французском геральдическом языке особыми терминами: argent, or, gueules, azur, sable, sinople[341].
На Западе в конце Средневековья гербы распространены настолько, что везде и всюду, при любых обстоятельствах эти цвета попадают в поле зрения. Они являются частью повседневного пейзажа, даже в деревне, ибо начиная с середины XIII века любая приходская церковь становится настоящим «музеем» гербов. А гербы — даже скульптурные (к примеру, на замковых камнях свода или надгробных плитах) — всегда раскрашены, потому что цвет необходим для их толкования и идентификации. Видимо поэтому, начиная с XIII века, геральдика стала играть важную роль в развитии цветового восприятия и цветовой восприимчивости средневековых людей. Она способствовала тому, что белый, черный, красный, синий, зеленый и желтый стали «основными» цветами западной культуры (каковыми они остаются и по сей день, по крайней мере, в повседневной жизни). Она приучила наш глаз к некоторым, наиболее частотным сочетаниям цветов — допускаемым геральдическими законами — и, наоборот, способствовала тому, что другие сочетания были дискредитированы или стали редкостью, потому что все те же законы это запрещали (например, сочетания красного и черного, зеленого и синего, синего и черного и т. д.). Она также приучила наш глаз читать цвета не только в «ширину», но и в «глубину». Ведь в рамках герба наложение планов является основным синтаксическим принципом; и почти всегда именно различение цветовых слоев, заходящих один на другой, позволяет различать эти планы. В любых областях, включая художественную, геральдика, без сомнения, оказала определяющее влияние на восприятие и символику цветов, на моду на тот или иной цвет.
Впрочем, несмотря на огромное влияние геральдики, самым распространенным носителем цвета в повседневной жизни были не гербы, а одежда. В противоположность принятому мнению, в Средние века вся одежда была окрашена, включая одежду беднейших слоев населения[342]. Однако окраска окраске рознь. Одежда богача от одежды бедняка отличается не тем, что одна окрашена, а другая — нет, и даже не выбором цвета или модой на те или иные цвета, а стойкостью, насыщенностью и блеском красок. Богатые и могущественные носят одежду ярких цветов, красящие вещества глубоко проникают в волокна ткани и не выцветают от солнца, стирки или от времени. Простые, бедные люди, напротив, носят одежду полинявших, сероватых оттенков, потому что она была окрашена с помощью более дешевого пигмента, почти всегда растительного происхождения, который остается на поверхности ткани и исчезает под воздействием воды и солнца. Именно в этом заключается самое существенное цветовое различие, касающееся средневековой одежды: богатые и бедные одеваются примерно в одни и те же цвета, только одни носят яркие, ясные, стойкие цвета, а другие — тусклые, блеклые, выцветшие. Святой Людовик, например, любил одеваться в синий (он вообще первый король, имевший такое обыкновение), особенно во второй половине своего правления[343]. И в это же время, в середине XIII века большинство крестьян его королевства тоже носят одежду синего цвета: в синий ее окрашивали ремесленным способом с помощью вайды — дикого растения семейства крестоцветных, произраставшего почти повсюду[344]. Однако эти два синих цвета не были идентичными. Один был живым, ярким, «королевским»; другой — полинявшим, сероватым, тусклым. На взгляд человека XIII века это были совершенно различные цвета.
Это существенный момент. Как только историк, стремящийся разобраться в восприятии цветов, сопоставит различные свидетельства, почерпнутые из лексики, социальных практик, экономической деятельности, религиозной или гражданской морали, требований моды — он тут же заметит, что зачастую на средневековый взгляд у насыщенного и яркого синего цвета больше общего со столь же насыщенным и ярким красным, желтым или зеленым, чем с тусклым и полинявшим синим. Такие характеристики, как яркость, глубина и насыщенность цвета оказываются более важными, чем сам тон[345]. Поэтому стоимость, социальные иерархии и классификации в области тканей и одежды в первую очередь формируются исходя из яркости и насыщенности красок, а уже потом учитывают цвет окраски (красный, синий, зеленый...). В геральдике все иначе: цвета выступают почти как абстрактные категории, а цветовые оттенки, зависящие от носителя или обусловленные техникой окраски, во внимание не принимаются.
Впрочем, так сказать, во вторую очередь, одежда тоже может быть геральдической и эмблематической, а те или иные цвета могут приобретать значение, свидетельствуя об идентичности, положении или сане человека. Именно такую, классификационную роль цвет играет в одежде, и, видимо, под влиянием геральдики, начиная с XII века, она возрастает, особенно в среде духовных лиц. В рамках этой функции значение в первую очередь приобретает сам цвет, а также двух- и трехцветные сочетания. Но и материальное качество цвета — яркий цвет или тусклый, насыщенный или полинявший, однотонный или крапчатый, гладкий или неровный — также может играть важную идентификационную или классификаторскую роль. Средневековый человек настолько привык судить о качестве материалов на глаз, даже не прикасаясь к ним, что может с первого взгляда оценить любую окрашенную ткань.
Наконец, начиная с 1140-х годов, средневековая одежда попадает под влияние моды и вкусов, которые затрагивают и цвет. Знаменательным событием в этой области стал почти «революционный» переворот всей предшествующей многовековой традиции — триумф синих оттенков в одежде всех слоев общества. Эта «синяя революция» началась во Франции в 1140-х годах, набрала обороты во второй половине XII века, а в следующем веке восторжествовала повсюду, включая страны Священной Римской Империи[346]. Этот факт имел большое социальное и перцептивное[347] значение: он означал утверждение в западной культуре нового порядка цветов — порядка, отчасти сохранившегося до сих пор. Синий, который мало что значил для античных обществ, который не особенно любили римляне (для них это был варварский цвет), в раннее Средневековье более или менее оставался в тени. И вот с 1140-х годов он неожиданно вторгается во все формы художественного творчества, становится цветом Христа и Девы Марии, потом цветом королей и князей, а с конца XII века даже начинает составлять конкуренцию красному цвету во многих сферах общественной жизни. Следующий век становится великим веком распространения синего, так что можно предположить, что уже к 1300-м годам он, вытеснив красный, стал любимым цветом европейцев. И остается таковым до сих пор.
Распространение синего цвета в одежде и текстиле привело к сокращению других цветов. Не столько даже красного, которому он отныне начал составлять сильную конкуренцию, но который тем не менее был очень востребован в одежде (реальный отказ от красных тонов в костюме и повседневной жизни произойдет только в XVI веке), сколько зеленого и в особенности желтого. После 1200-х годов в Западной Европе редко можно было встретить мужчин и женщин, будь то дворяне или простолюдины, одетых в желтое. Если некоторые цветовые сочетания, начиная с этого времени, стали невиданно популярными — синий и белый, красный и белый, черный и белый и даже красный и синий, то другие сдавали свои позиции — желтый и красный, желтый и зеленый, красный и черный и особенно красный и зеленый — самое популярное двуцветное сочетание в аристократическом костюме начиная с каролингской эпохи[348].
В связи с этими первичными проявлениями моды и смены вкусов историк вправе задаться вопросом о том, какие цвета мужчины и женщины считали красивыми, а какие — уродливыми. К сожалению, ответить на этот вопрос практически невозможно. Не только потому, что исследователя поджидает опасность анахронизма, но также и потому, что предприняв подобное исследование, он неизменно останется заложником слов. Красивое и уродливое в средневековых источниках — это прежде всего языковой феномен. И между реальным цветом объектов и субъектов, цветом, который на самом деле видит тот или иной человек и цветом, который называет тот или иной автор, может быть огромная разница. Кроме того, не нужно скрывать, что историк Средневековья никогда, так сказать, не имеет дела с индивидуальными взглядами и вкусами. Он все видит чужими глазами и, более того, глазами социальной системы. Поэтому оценка того или иного цвета, суждения о красоте или уродливости того или иного оттенка прежде всего зависят от моральных, религиозных или социальных установок[349]. Красивым почти всегда считается то, что уместно, умеренно, привычно. Конечно, существует чисто эстетическое удовольствие от созерцания цвета, но оно касается скорее природных цветов — только они по-настоящему красивы, чисты, законны и гармоничны, ибо созданы Творцом. Тем не менее, несмотря на то, что до нас дошли высказывания поэтов, историк недостаточно хорошо вооружен, чтобы изучать это чистое смакование цвета; он и здесь остается заложником слов и литературных приемов, которыми определяется их использование.
Впрочем, и представления об удовольствии, гармонии, красоте в каролингскую эпоху, в XII или в XV веке были далеко не такими, как у людей XXI века. Даже восприятие цветовых сочетаний или контрастов, как мы уже говорили, может отличаться от нашего. Следовательно, как мы должны судить о красоте или уродливости цветов, которые оставило нам Средневековье? Мы не только не можем увидеть их в их первоначальном состоянии, ибо время наложило на них свой отпечаток; мы не только смотрим на них чаще всего при освещении, которое непохоже на освещение средневековой эпохи; более того, наш глаз реагирует совсем на другие качества, другие значения, другие сочетания цветов. Как сегодня, вслед за некоторыми средневековыми авторами, мы сможем разглядеть свет блеска[350], блеклость тусклости, гладкость однотонности? Мы склонны отождествлять наши собственные представления со средневековыми, тогда как они вовсе не одинаковы и даже не похожи. Как сегодня мы можем почувствовать то, что ощущал средневековый человек при виде игр с многоцветностью: если цветовая игра происходит на одном уровне, то это неприятно для глаз, и, напротив, глаз радуется, если она уходит в глубину, строится на нескольких наложенных друг на друга уровнях[351]? Именно так воспринимались и оценивались цвета в Средневековье. А на наш взгляд, между этими двумя типами полихромии нет особой разницы.
Историк всегда должен помнить, что никакой универсальной истины о цвете не существует — ни в смысле определений, практик или значений, ни в смысле восприятия. Все это обусловлено культурой, культурой и еще раз культурой.
Церковь и цвет: от истоков до Реформации
Остается ли красная одежда красной в тот момент, когда человек на нее не смотрит? До XVIII века ни один теолог, ни один ученый человек, кажется, не задумывался над этим непростым вопросом, первейшим и главнейшим среди всех вопросов, касающихся цвета. Впрочем, в Средние века этот вопрос выглядел бы анахронично: цвет тогда понимался не как феномен восприятия, а либо как субстанция, то есть самая настоящая материальная оболочка, покрывающая тела, либо как составная часть света. Только начиная с 1780-х годов некоторые философы стали определять цвет через восприятие — восприятие некоего окрашенного светом элемента, получаемое через зрение и попадающее в мозг; и только в современную эпоху такое определение цвета возобладало в конечном итоге над всеми остальными.
Для средневековых авторов, почти поголовно служителей Церкви, цвет представляет собой не чувственно воспринимаемое явление, а теологическую проблему. В первые века христианства об этом рассуждают многие Отцы Церкви, а вслед за ними и большинство средневековых теологов[352]. Именно они были первыми «специалистами» по цвету, задолго до художников, красильщиков и герольдов. В своих сочинениях они снова и снова возвращаются к цвету, используя его то к качестве метафоры, то в качестве атрибута, но прежде всего потому, что цвет ставит перед ними фундаментальную проблему, имеющую отношение к физике и метафизике света и, следовательно, к тому, как человек, живущий на этом свете, связан с божественным.
Для средневековой теологии свет — это единственная составляющая чувственного мира, которая является одновременно видимой и нематериальной. Свет — это видимость невыразимого и, как таковой, он представляет собой эманацию Бога. Отсюда и возникает вопрос: а может быть, цвет тоже нематериален, может быть, он тоже является светом, или, по крайней мере, составной частью света, как утверждали задолго до Ньютона (но, конечно, совсем с иных позиций) некоторые античные и раннесредневековые авторы[353]? Или же цвет — это материя? Не является ли он просто оболочкой, покрывающей предметы? Все спекулятивные, теологические, этические, социальные и даже экономические проблемы, которые ставили перед собой люди Средневековья в связи с цветом, вращаются вокруг этого вопроса.
Церковь вкладывала в это глубокий смысл. Если цвет является составной частью света, то с онтологической точки зрения он имеет отношение к божественному, ибо Бог есть свет. Чем шире простирается цвет в земном мире, тем дальше отступает тьма, тем больше места занимает свет, а значит, Бог. Стремление к цвету и стремление к свету — это стремление к одному и тому же. Но если цвет — это материальная субстанция, простая оболочка, то в этом случае он отнюдь не является эманацией Бога. Напротив, он представляет собой некое искусственное и ненужное добавление, которое человек навязывает мирозданию: с цветом нужно бороться, его нужно устранить из культа, прогнать из храма. Он бесполезен, аморален и даже вреден, так как затрудняет transitus[354] грешника, стремящегося воссоединиться с Господом.
Эти вопросы, стало быть, не являются ни сугубо умозрительными, ни даже сугубо теологическими. Они несут в себе вполне конкретное значение, они оказывают воздействие на материальную культуру и повседневную жизнь. Какое место занимает цвет в обстановке, окружающей христианина — там, где он живет или бывает, на изображениях, которые он созерцает, в одежде, которую носит, на предметах, которыми пользуется, и как цвет соотносится с его поведением, — все это напрямую зависит от того, как ответить на эти вопросы. Но, прежде всего, от этого зависят место и роль цвета в церкви и религиозных обрядах.
С поздней Античности и до конца Средневековья ответы на эти вопросы давались самые разнообразные. Теологи и прелаты, как на словах, так и на деле проявляли к цвету то благосклонность, то враждебность. Однако историки пока еще не располагают достаточными сведениями, позволяющими составить четкую хронологическую и географическую картину того, как менялось их отношение к данной проблеме. У Отцов Церкви отношение к цвету скорее враждебное. Они замечают, что в Библии о цвете говорится редко[355]. Цвет для них — это пустота, бесполезное украшение, на которое бессмысленно тратятся время и деньги. Но прежде всего это обманчивая маска, которая отвлекает от сути. Одним словом, цвет — это суета, которая скрывает истинную природу вещей[356]. Некоторые авторы даже полагают, что слово color связано с глаголом celare (скрывать)[357]. Цвет — это то, что скрывает, маскирует, обманывает. Этимологические спекуляции древних в данном случае сближаются с мнением некоторых ученых XX века, которые уверенно включают слово color в обширное гнездо латинских слов, передающих идею сокрытия, утаивания: celare, clam (тайно), clandestinus (тайный), cilium (веко), cella (кладовая, комната), cellula (келья), caligo (туман, тьма) и т. д., — все они образованы от одного и того же корня[358].
Однако не все Отцы Церкви придерживаются этого мнения. Некоторые, напротив, восхваляют цвет: это свет, а не материя; это ясность, тепло, солнце. Некоторые устанавливают связь между словами color и calor (жар). Например, Исидор Севильский, который предложил широко признанную и часто комментируемую вплоть до XIII века этимологию: «Цвета (colores) называют так оттого, что они происходят от жара (calore) огня или солнца[359]».
В каролингскую эпоху преобладает скорее именно второе мнение. Дискуссии о цвете отныне идут бок о бок с дискуссиями по поводу изображений (последние, к сожалению, изучены гораздо хуже), и после Второго Никейского собора (787 г.) цвет начинает интенсивно проникать в христианский храм[360]. За некоторыми исключениями, большинство священнослужителей, воздвигавших церкви, были хромофилами. Любовью к цвету глубоко проникнуты каролингская [VIII—X века], оттоновская [X—XI века] и романская эпохи [XI—XII века] — и самым известным священнослужителем-хромофилом является Сугерий, настоятель аббатства Сен-Дени.
Первые враждебные реакции появляются в конце XI — начале XII веков. Они связаны с мощным движением, призывающим вернуться к ценностям и обычаям раннего христианства, движением, которое затронуло главным образом монашество, а также повлияло и на белое духовенство. Дискуссии о роскоши, изображении и цвете снова вырвались на авансцену экклезиологических дебатов и даже на городскую площадь. Здесь нужно, конечно, вспомнить о роли такой личности, как святой Бернард: знаменитый иконоборец (единственное изображение, которое он признавал, — это распятие) был также отчаянным «цветоборцем». О его отношении к изображениям уже все сказано[361]. Зато о его отношении к цвету и вопросам, связанным с цветом, не написано пока ничего или почти ничего. Даже проблема миниатюр и витражей, которая является всего лишь частным аспектом поднятых тем, пока еще изучена мало и плохо[362].
Конечно, случай святого Бернарда не уникален. В 1120-1150 годах другие прелаты, другие теологи отчасти разделяют его мысли по поводу запрета на роскошь и художественного аскетизма. Но, возможно, именно на примере его позиции, даже несмотря на то, что речи его в первую очередь адресованы монахам, наиболее ясно и глубоко вырисовывается смысловое содержание цвета. Объясняется это прежде всего его репутацией; но также и тем, какую лексику он употребляет, какие идеи излагает, тем, какое поразительное видение ему присуще. Для святого Бернарда цвет — это прежде всего материя, а не свет. Вопрос, стало быть, не столько в самом тоне (кстати, Бернард, говоря о цвете, редко употребляет термины, обозначающие тон), сколько в насыщенности, концентрации, густоте. Цвет — это, конечно, слишком дорого, а также порочно, это бесполезная роскошь, vanitas[363] (весь набор избитых характеристик из речей духовенства), но самое главное, цвет — это нечто плотное и непрозрачное. Здесь особенно показательна лексика, употребляемая Бернардом. Слово color у него редко ассоциируется с понятием ясности или сияния; зато подчас оно определяется такими словами, как turbidus, spissus, surdus [букв.: «мутный», «густой», «глухой»], которые отсылают к идее мутности, насыщенности, темноты. «Слепота цветов!» (“Caecitas colorum!”), — даже провозглашает он[364]. В этом заключается исключительная самобытность Бернарда, который видит в цвете не сияние, а тусклость, не свет, а мрак. Цвет не испускает света, он наводит темноту, он расширяет пространство тьмы, он подавляет, это дьявольское орудие. Прекрасное, светлое, божественное — три начала, исходно свободные от всего, что связано с мутностью и непрозрачносью, — не должны соприкасаться с цветом как таковым и, еще того меньше, с цветами.
Подобные представления вызывают у историка два рода вопросов: во-первых, касающихся этики, во-вторых, — восприятия. Что до этики, то тут святой Бернард едва ли проявил оригинальность: большинство средневековых моральных предписаний относительно цвета связаны прежде всего с его насыщенностью, а уже потом с тоном. Что же касается восприятия, то в этой связи аббат Клерво, напротив, более своеобразен. Видеть свет и красоту в ненасыщенном и бесцветном — редкая способность. В подобном восприятии, освобожденном от соображений этического или экономического характера, отражается необычное сочетание различных характеристик цвета. Вообще говоря, прекрасное в средневековом понимании нужно связывать со светом, но уж никак не с бесцветностью. Чтобы объяснить эту особенность восприятия, свойственную Бернарду, можно выдвинуть два предположения. Во-первых, он всегда отдавал приоритет слуху перед зрением. По его мнению, выше всего стоит слово, пение, ритм, число, пропорции — одним словом, музыка в средневековом смысле слова. Гармония звуков и ритмов выше гармонии форм, а гармония форм выше гармонии цвета. Святой Бернард не был стратегом света. Конечно, будучи теологом, он прекрасно знал, что Бог — это свет; но со своей человеческой позиции относился к свету с относительным равнодушием; а как духовное лицо неоднократно с возмущением критиковал тяжелые люстры с венцами свечей и огромные канделябры, украшающие церкви (особенно клюнийские). В этом смысле ему вторят новые строгие цистерцианские правила 1130-х годов, ограничивающие внутреннее освещение культовых помещении[365].
Это личное непростое отношение к свету к тому же усугублялось стойким отвращением к diversitas, то есть, говоря языком колористики, к полихромии. Восприятие здесь в полном смысле слова срастается с идеологией. Как из соображений, вдохновленных идеалами покаяния и бедности, так и по причине глубоких личных предпочтений, аббат Клерво объявляет войну цветам — не столько даже цвету как таковому, сколько именно цветам. Если подчас он и готов мириться с некоторыми монохромными сочетаниями, в известных случаях основанными на принципе гризайля, то все, что напоминает о varietas colorum, например, многоцветные витражи, полихромную миниатюру, изделия из драгоценных металлов и переливающиеся камни, он отвергает. В общем, святой Бернард не любит все, что сверкает или блестит (отсюда и его отвращение к золоту). Для него — и в этом он отличается от большинства людей Средневековья — свет не равноценен блеску. Отсюда происходит его глубоко индивидуальное понимание различных свойств цвета, нехарактерное для его современников. Отсюда же — концепция цвета, основанная на идее тусклости и блеклости, и непривычное приравнивание (современное в некоторых отношениях) света к ненасыщенности и даже к прозрачности[366].
Средневековая церковь, храм цвета
Противопоставление двух современников — святого Бернарда и Сугерия — стало в историографии общим местом. Эти священнослужители действительно имели противоположные представления о христианском храме и богослужении. По поводу же цвета они расходились во мнениях сильнее, чем по любому другому вопросу. Сугерий, который, как все выдающиеся клюнийские аббаты, считает, что красоте, поставленной на службу Господу, нельзя положить какого бы то ни было предела, доходит даже до того, что ставит гармонию света и цветов выше гармонии форм — как в скульптуре, так и в архитектуре. Чтобы превратить аббатскую церковь Сен-Дени в храм цвета, он задействовал все техники и средства — живопись, витраж, эмаль, изделия из благородных металлов, ткани, драгоценные камни, — ведь, по его мнению, богатство и красота, необходимые для почитания Бога, выражаются прежде всего в цвете. А цвет есть одновременно свет и материя[367].
Эту мысль, которая неоднократно повторяется в сочинениях Сугерия, в частности в его “De consecratione[368]”[369], написанном около 1143-1144 годов, разделяют многие прелаты, и не только в XII веке, но и в более широких хронологических рамках, с середины каролингской эпохи и до эпохи Людовика Святого [1226— 1270]. Разве часовня Сен-Шапель, строительство которой было закончено в 1248 году, не была задумала как храм света и цвета? Если рассматривать христианские церкви в масштабе всего Запада, то позиция святого Бернарда или, шире, цистерцианская позиция вообще, характерна для меньшинства. Почти повсеместно цвет в церкви играет особую роль. Посему наши размышления от теологии перенесутся к археологии.
Одного утверждения, что сегодня мы видим средневековые церкви в том виде, в какой их превратило время — то есть почти бесцветными, если посмотреть на это с интересующей нас точки зрения, — недостаточно. Нужно постараться восстановить, и не только с помощью воображения, места присутствия и порядок расположения цвета в церкви. А затем, прежде всего, попытаться понять, зачем и почему цвет присутствует в церкви, как распределены цвета в здании, как соотносятся между собой в цветовом отношении различные поверхности, предметы и материалы, и, наконец, выявить роль цвета, одновременно декоративную, топографическую и литургическую, в жизни храма и культовых обрядах. Обильное присутствие цвета, его динамическая функция, связь с местом, моментом, с художественной техникой и ритуалом — вот основные вопросы, которые нужно перед собой ставить, изучая средневековую церковь. Исследователи уделяли им недостаточно внимания.
В этом смысле археология и история искусства опять-таки долгое время обходили проблему цвета стороной. Как и живопись, средневековые архитектура и скульптура (хотя это верно и для других периодов) часто воспринимались и изучались так, словно в них отсутствовали цвета (или, что еще хуже, как будто они были черно-белыми), хотя цвет имел существенное значение для их кодирования и функционирования. Таким образом, встает вопрос об обоснованности исследований, которые, поднимая подобные темы, не учитывают цвет или умалчивают о нем, или даже не подозревают о его существовании. Скажем, если остановиться на романском периоде, насколько могут быть обоснованы исследования, посвященные изучению того или иного тимпана, того или иного ансамбля капителей, если в них совершенно игнорируется тот факт, что и то, и другое задумывалось, воплощалось, виделось и мыслилось в цвете? А то, что верно для тимпана или для капителей, разумеется, так же верно и для других элементов и частей здания, как снаружи, так и внутри. Простые синтаксические и ритмические функции цвета (выделение зон и планов, подчеркивание оппозиций или сочетаний, выстраивание последовательностей, соответствий, перекличек) не принимаются во внимание многими историками архитектуры и скульптуры. А ведь это всего лишь две функции среди ряда других, конечно, легче всего поддающиеся осмыслению, но притом, наверное, не самые важные, и уж во всяком случае далеко не единственные. Цвет играет также теологическую, литургическую, эмблематическую, «атмосферную» роль. Цвет — это тональность, это катализатор, это символ и ритуал[370].
Церковь, стало быть, должна быть осмыслена в связи с цветами, которые в ней присутствуют. Первоочередной задачей, конечно, должно стать изучение сохранившихся следов полихромии в архитектуре и скульптуре. Поверхностные или романтические исследования прошлых веков[371] должны уступить место научному анализу с опорой на лабораторные методы. После десятилетий равнодушного отношения к цвету (много ли было таких археологов и историков искусства, которые не считали полихромию мало значащим украшением, недостойным серьезного исследования!) такой анализ в течение последних двадцати лет проводится на базе соборов Лозанны, Санлиса, Амьена и некоторых других[372]. Остается только пожелать, чтобы этому примеру последовали остальные. Впрочем, лабораторные исследования не должны навязывать свои, неизбежно ограниченные методы и выводы, а пигментный анализ не должен отвлекать историка от главного, как это подчас происходит при изучении станковой живописи Нового времени. Ведь главная задача состоит в том, чтобы рассмотреть цвет в церкви во всей его целостности. Церковь функционирует как сложный механизм, в котором свет и цвета являются важнейшими движущими силами, действующими токами. Эти силы имеют историю, они вписаны в пространственные и во временные рамки, в краткосрочную и долгосрочную перспективу.
Итак, хронологию и географию «раскрашивания» средневековых церквей еще предстоит изучить. Несомненно, каролингская эпоха представляет собой если не точку отсчета, то, по крайней мере, период расцвета этой тенденции, но все же установить здесь четкие хронологические рамки нелегко. Когда появляются первые признаки угасания этого феномена — три, четыре века спустя? К 1250-м годам? К 1300-м? Немного раньше? Или немного позже? Конечно, благодаря более многочисленным источникам, мы можем проследить основные этапы убывания полихромии в архитектуре и скульптуре и определить, что переход от ярких цветов к более приглушенным осуществился чуть позже середины XIII века (примерно в 1250-х годах, к примеру, мы можем наблюдать разницу между буйными красками Сен-Шапель и уже более сдержанными цветами Реймсского собора), а также заметить, что в течение XIV века происходит постепенный, хотя и не полный отказ от многоцветности в полном смысле слова в пользу простых цветовых бликов, золоченых линий и гризайльных решений и эффектов. Однако все эти вопросы по-прежнему ждут более обстоятельных исследований. И выводы здесь нужно делать с учетом географических и типологических различий: то, что подходит для Иль-де-Франс или для Шампани, неприменимо для Тосканы или долины Рейна; то, что применимо для больших соборов, не годится для сельских церквушек. Это совершенно очевидно.
Также при изучении крупных архитектурных сооружений следует попытаться определить роль каждой художественной техники, долю участия каждого цеха, каждого подрядчика в этом расцвечивании, а затем и обесцвечивании церквей. До конца XIII века решения по поводу полихромии в целом и распределения цветов, по всей видимости, принимают архитекторы. Впоследствии более значимую роль, как представляется, играют скульпторы, и архитектурная полихромия приноравливается к полихромии скульптурной. Однако, говоря о распределении ролей в хронологической перспективе, следует также учитывать стекольщиков и особенности витражного искусства. Витражи XIII века пропускают меньше света, чем витражи XII века; но после 1300 года, благодаря техническому прорыву, связанному с применением желтой краски на основе серебра, они, напротив, становятся более светлыми и остаются таковыми до середины XV века. Эти изменения сильно влияют на особенности «поведения» цвета внутри церкви и на общую тональность последней. Кроме того, вопрос о витраже напоминает историку о том, что наряду с изменениями, вписанными в долгосрочную перспективу, существуют также короткие циклы: год и день. Цвета в церкви живут и приходят в движение в зависимости от перемещения солнца, времени года и времени дня, метеорологических условий. Погода и время действуют сообща. Поэтому в церкви нет стабильных, неизменных цветов. Они постоянно вибрируют, постоянно меняются. Они загораются и гаснут, живут и умирают.
А еще они блекнут. Краска, нанесенная на камень, стекло, дерево или ткань, теряет прежнюю яркость и требует подновления. Яркие краски не всегда значит новые краски. Одним из наиболее увлекательных исследований в этой области может стать изучение того, как конкретная эпоха обращается с красками предшествующих веков (сохраняет их, интерпретирует по-своему, предает забвению). Каждая эпоха, каждая среда (монашество или белое духовенство), каждый прелат, осмысляя и переосмысливая цвет, в большей или меньшей степени отходят от своих предшественников. Осуществить подобное исследование в области архитектуры сложно, почти нереально. На материале витражей, гобеленов, предметов обихода и даже скульптуры это сделать проще. Некоторые статуи Девы Марии, к примеру, постоянно перекрашивались, начиная с романской эпохи и вплоть до современности. На смену черным или темным девам тысячного года пришли красные девы (XII век), затем синие (XIII-XV века), позолоченные (эпоха барокко) и, наконец, белые (в XIX столетии, после принятия догмата о непорочном зачатии в 1854 году). Подчас на статуе после ряда последовательных окрашиваний сохраняются следы наложенных друг на друга красочных слоев, каждый из которых, в том числе и самый поздний, является документом для археологии, иконографической и культурной истории[373].
Исследования, посвященные цветовому оформлению церквей, их стен, убранства, обстановки, не должны проводиться отдельно от более широких исследований, затрагивающих связь между цветом, восприятием и материальной культурой. В связи с цветом существует одна общая проблема. Разумеется, на средневековом Западе не все было раскрашенным, однако тогда красили многие поверхности и материалы, которые в последующих столетиях либо почти, либо вообще не красили: все изделия из древесины и благородной кости, почти все глиняные изделия, большую часть металлов (особенно бронзу), кость, рог, воск, в кругах знати — значительное число пищевых продуктов растительного происхождения, а также шесть и перья некоторых домашних животных (собак, ласок, лошадей и даже соколов). Средневековый человек любит цвет. Цвет воплощает для него богатство, радость, надежность. Однако его восприятие отличается от нашего, особенно в том, что касается полихромии. В тех случаях, когда мы в буйстве ярких красок увидим лишь невнятную пестроту, то есть, говоря в оценочных терминах, нечто непривлекательное, средневековый человек сделает четкое различие между цветами, расположенными рядом, и цветами, наложенными друг на друга. В его восприятии только соположенные цвета могут быть неприятны для глаз, могут связываться с идеей пестроты и вызывать негативные оценки. Напротив, несколько наложенных друг на друга цветов, то есть расположенных на различных уровнях, составляют гармоничное и позитивное сочетание.
Этот момент имеет существенное значение для понимания средневекового восприятия цветовых поверхностей, раскрашенных или тканных. Приоритет отдается структуре глубины, а не протяженности. Чтобы произвести эффект, чтобы задать смысл, каждый цветовой слой должен прежде всего вступить в контакт с верхним и с нижним слоями, а затем с теми, которые ему соположены. Изучая полихромию, нужно избегать любых анахронизмов и учиться читать раскрашенные предметы и поверхности так, как это делали люди Средневековья, план за планом, начиная с заднего и заканчивая передним, самым близким к зрителю. Отсюда следует: то, что сегодня кажется нам пестрым, избыточным в цветовом отношении, излишне многоцветным, вовсе не обязательно задумывалось, осознавалось и воспринималось таковым в Средние века.
Это, впрочем, не мешает цвету присутствовать в церкви повсюду: на полу, на стенах, на колоннах, на сводах и несущих конструкциях, на дверях и на окнах, на гобеленах, на мебели, на предметах обихода и культовой одежде. Все, что сделано из дерева, глины, камня, воска или ткани, — цветное или может быть цветным. И этот принцип зачастую характерен не только для интерьера церкви, но и для ее экстерьера, по крайней мере до начала позднеготического периода, часто до середины XIV века. Сегодня с максимальной полнотой (что не значит с максимальной достоверностью) мы можем ощутить важность присутствия цвета в средневековой церкви на примере деревянных скандинавских церквей. Но в качестве подходящих источников также выступают многие скульптуры. С IX по XV век все скульптуры — монументальные или станковые — были раскрашены, полностью или частично. Сугерий неоднократно рекомендует не делать неполихромных статуй. А еще в начале XV века в парижских мастерских раскрашивание скульптурных фигур — “estoffiage” — оплачивалось так же высоко, как и собственно работа скульптора.
Церковь, храм цвета, также является храмом золота. Золото присутствует в церкви с раннехристианской эпохи, и постепенно под двойным, византийским и германским, влиянием его присутствие принимает все более выраженный характер. С IX века весь церковный инвентарь поставляется золотых дел мастерами, а монахи или прелаты, по примеру прославленного предшественника, святого Элигия, нередко сами становятся профессионалами в этом деле. Ювелирное дело — это церковное искусство, и таковым оно останется до XIII века.
Внутри храма золото теснейшим образом связано с цветом. Подобно цвету, оно является одновременно и материей, и светом. Но золото — еще и само по себе цвет; цвет, наряду с другими и цвет, обладающий особым статусом. Поэтому золото и цвет находятся в довольно запутанных диалектических отношениях, как в художественном, так и в символическом смысле. Они оба являются световой энергией, «материализованным светом», как в начале XII века утверждает Гонорий Августодунский[374]. Но золото — это еще и тепло, вес, плотность; оно связано с символикой металлов, оно носит магическое имя, а согласно средневековой шкале материалов, выше него стоят только драгоценные камни. Кстати, с последними золото сочетается довольно часто, аранжируя игру цвета и света, в которой небеса соединяются с поднебесной. С одной стороны, золото заставляет цвет сиять; с другой — оно управляет цветом, стабилизирует его, укореняя его в общем фоне, заключая его в рамки. Эта двойная функция золота, доведенная до наивысшего предела в ювелирном деле, также проявляется в миниатюре, в искусстве эмали, скульптуре и даже в текстиле. Она имеет одновременно художественное и эстетическое значение, но кроме того и даже прежде всего — литургическое и политическое. Золото позволяет Церкви утвердить и продемонстрировать свою auctoritas[375]; оно является знаком власти и потому его накапливают в святая святых либо в приалтарном пространстве в различном виде (слитки, золотой песок, монеты, украшения, посуда, доспехи, реликварии, ткани, одежда, книги и культовые предметы). Однако золото предназначено не только для накопления. Это еще и средство социального взаимодействия: его демонстрируют, носят на себе, перебирают, дарят, выменивают (воруют?). Оно обладает огромным демонстративным и медиативным значением. Отсюда берут начало все те многочисленные связанные с золотом ритуалы, в которые средневековая Церковь (а позднее Церковь эпохи барокко) вкладывала идею сакральности. До святого Бернарда священнослужители редко решались в открытую ополчаться против золота.
Золото в действительности представляет этическую проблему. Как свет, оно взаимодействует с божественным: это благое золото. Но как материя, оно символизирует земное богатство, роскошь, алчность: это vanitas. Кроме того, в золоте, которое также является цветом, воплощена максимальная насыщенность тона, а значит, в нем заложена моральная проблема, связанная с концентрированностью цвета, которая затрагивалась выше. Это, кстати, может быть использовано для выстраивания некоторых ценностных иерархий: золото, которое в средневековой культуре и средневековом восприятии имеет мало общего с желтым цветом, зато тесным образом связано с белым, иногда используется для выражения идеи интенсивного белого, «сверхбелого» цвета: эта хроматическая градация зачастую бывает необходима для подчеркивания иерархического превосходства небесного или божественного (например, мира ангелов), но при этом ни лексика, ни живопись не могут адекватно передать ее средствами скудной гаммы белых тонов[376]. В Средневековье золото — белее самого белого. Однако его чрезмерная насыщенность может восприниматься негативно: золотой цвет — слишком роскошный, слишком концентрированный — в наивысшей степени выражает ту самую непрозрачность, ту самую «слепоту» цвета, которую так мучительно переживал аббат Клерво. И которая объясняет его отвращение к золоту.
Итак, западная средневековая церковь является одним из мест «театрализации» золота, а также цвета, света, стекла и даже факелов, светильников и канделябров. Все это стоит дорого и предназначено для мест отправления богослужения. В период Высокого Средневековья (XI—XIII века) — который, если взять все памятники и источники в целом, оставляет у современного историка менее красочное впечатление (хотя, может быть, это всего лишь впечатление?), чем раннее и позднее Средневековье[377], — церковь даже предстает единственным истинным пристанищем цвета. Церковь — не только место присутствия цвета; время, момент, ритуал также являются формами существования цвета в храме. Действительно, со времен Григория VII (1073-1085) и до эпохи Иннокентия III (1198-1216) цвет все глубже проникает в богослужение. И когда в первой половине XIII века месса, не меняясь в корне, становится настоящей «системой», собственно литургическая функция цвета приобретает кодовый статус.
Как ни странно, но по поводу происхождения и установления литургических цветов не написано ни одного исследования[378]. Задача эта, конечно, трудна и во многих аспектах наши знания неполны, и не только в отношении раннего Средневековья, но и в отношении всего периода до Тридентского собора [1545-1563]. В первые века христианства священники совершают богослужение в своей обычной одежде; поэтому во всем христианском мире наблюдается некоторое единообразие; поэтому также преобладает белая одежда или одежда неокрашенная. Затем белый цвет постепенно закрепляется за Пасхой и самыми торжественными праздниками литургического календаря. Святой Иероним, Григорий Турский и другие Отцы Церкви единодушно признают, что белый цвет обладает наивысшим достоинством. Тем не менее литургические обычаи варьируются в зависимости от диоцеза и диктуются епископами; последние, однако, почти не принимают законов по поводу цвета, ограничившись, как и провинциальные соборы, осуждением пестрой одежды и периодическим напоминанием о превосходстве белого цвета.
С IX века ткани и одежда, связанные с богослужением, начинают блистать роскошью, золотом, яркими и насыщенными цветами. Эта широкомасштабная тенденция сопровождается составлением нескольких теоретических трактатов, посвященных символике этой одежды и этих тканей, и иногда речь в них заходит о цветах. Обычно цветов семь (белый, красный, черный, зеленый, желтый, коричневый и пурпурный), и они толкуются с оглядкой на Писание, особенно на книгу Левит[379]. Вопрос в том, чтобы понять, оказали ли эти тексты — анонимные, часто трудно поддающиеся датировке и локализации, порой трудные для понимания — какое-либо влияние на реальные литургические обряды. Ни археология, ни иконография, где доминируют темные цвета, не дают повода этого утверждать. Зато эти тексты оставили след в дискурсе величайших литургистов XII века: Иоанна Авраншского, Гонория, Руперта из Дойца и даже Гуго Сен-Викторского и Иоанна Белета. Кроме того, с этого времени во многих диоцезах достоверно засвидетельствован обычай ассоциировать тот или иной цвет с тем или иным праздником или периодом литургического календаря. Но при этом между диоцезами сохраняются значительные различия.
Затем к власти приходит кардинал Лотарио, будущий папа Иннокентий III. Около 1195 года, когда Лотарио был еще только кардинал-дьяконом и когда, в период понтификата Целестина III (из рода Орсини, врага семьи Лотарио), его временно отстранили от управления церковью, он составил несколько трактатов, и среди прочих трактат о мессе «О святом таинстве алтаря» (“Sacrosancti altaris mysterio”)[380]. В этом раннем сочинении, которое иногда считают недостойным великого Иннокентия III, автор, в согласии с приемами схоластики, часто прибегает к компиляции и цитированию. В этом, однако, проявляется тенденция времени, и заслуга его сочинения в том, что в нем резюмируется все, что было написано прежде. Кроме того, его свидетельства по поводу цветов литургических тканей и одежды тем более ценны, что описывают обычаи Римского диоцеза накануне его собственного понтификата. До того времени в литургии римские обычаи могли приниматься за эталон (именно это рекомендовали литургисты и канонисты), но они никогда не являлись обязательными в масштабах всего христианского мира; епископы и верующие часто были весьма привержены местным традициям. Благодаря огромному влиянию Иннокентия III в течение XIII века положение дел изменилось. Все активнее продвигалась идея о том, что обычай, установившийся в Риме, по сути имеет силу закона. И — самое главное — сочинения этого папы, пусть и написанные в юные годы, приобрели неоспоримый авторитет. Это касается и трактата о мессе. Большую главу, посвященную цветам, пересказывали все литургисты XIII века и, более того, она сказалась на практике многих диоцезов, в том числе и весьма удаленных от Рима.
Значение цветов и их распределение в течение литургического года, в том виде, как это представлено у кардинала Лотарио, выглядит следующим образом. Белый, символ чистоты, используется в праздниках, посвященных ангелам, Деве Марии и исповедникам, на Рождество и на Богоявление, в Великий четверг и в Воскресение Христово, на Вознесение и в День всех святых. Красный, который напоминает о крови, пролитой Христом и во имя Христа, задействован в праздниках, посвященных апостолам, мученикам и кресту, а также на Пятидесятницу. Черный, связанный с трауром и покаянием, используется в заупокойных мессах и во время Рождественского поста, в День святых Невинных Младенцев Вифлеемских, а также с Семидесятницы и до Пасхи. Наконец, зеленый привлекается в те дни, когда ни белый, ни красный, ни черный не подходят, ибо — и это чрезвычайно любопытное замечание — «зеленый является промежуточным цветом между белым, черным и красным» (viridis color medius est inter albedinem et nigritiam et ruborem).
Такое распределение цветов требует некоторых комментариев. Прежде всего, следует подчеркнуть, что литургическая цветовая система структурировалась вокруг трех «базовых» для западной раннесредневековой культуры цветов: белого, красного и черного, иными словами — вокруг белого и двух его противоположностей. В этом смысле литургическая система ничем не отличается от других символических систем, которые поздняя Античность и Средневековье выстраивали на основе цвета. И, как и в других случаях, к ней присоединяется четвертый, «запасной», цвет: зеленый, цвет «вдобавок», цвет извне. Затем нужно отметить отсутствие даже упоминания о синем цвете. В XI — начале XII веков, когда создавались те первоисточники, из которых черпал сведения кардинал Лотарио, синий едва начинает осознаваться как отдельный цвет, и нагружать его неким символическим значением еще слишком рано. Кстати, в долгосрочной перспективе синий так никогда и не достигнет статуса настоящего литургического цвета. Лотарио также ничего не пишет о золоте, по крайней мере в этой главе. Для него золото — это материя и свет, а не цвет. Его замечания относительно белого и красного цветов интересны по двум причинам: с одной стороны, он окончательно подтверждает смену цвета мучеников с белого на красный (в раннее Средневековье белый, цвет рая, был также цветом мучеников; затем с теми, кто пролил свою кровь во имя Христа, стал постепенно ассоциироваться красный цвет); с другой стороны, он устанавливает превосходство мученичества над непорочностью (а значит, красного над белым) и временного периода (Рождественский пост, Великий пост) над праздником (а значит черного над красным или над белым) для тех случаев, когда один и тот же святой или один и тот же праздник совмещают в себе оба качества.
Хотя текст Лотарио о цвете был скорее описательным, чем нормативным, он навязывал литургии некоторую унификациию. Он не повлиял на постановления Четвертого Латеранского собора (1215), зато был воспринят в качестве авторитетного источника Гильомом Дюраном, епископом Мандским, автором знаменитого труда «Устав божественных служб» (“Rationale divinorum officiorum”), составленного в 1285-1286 годах. В этом труде, который состоит из восьми книг и представляет собой самую обширную средневековую энциклопедию, посвященную всем предметам, знакам и символам, связанным с богослужением, пересказывается глава Лотарио о литургических цветах, излагаются аллегорические и символические толкования, расширяется круг праздников и — из того, что у Лотарио являлось всего лишь описанием римских обычаев — создается целая универсальная система. Зная о том, что сохранилось несколько сотен манускриптов Устава (“Rationale”), что после Библии и Псалтыри это была третья напечатанная книга, и что она выдержала сорок три первопечатных переиздания, нетрудно понять, какое влияние на Запад мог оказать подобный нормативный дискурс о цветах[381].
Это влияние было, однако, скорее теоретическим и дидактическим, чем подлинно практическим. В XIV-XV веках установление папского престола в Авиньоне, раскол и общий кризис Церкви привели к тому, что тенденция к созданию более унифицированной литургии, зародившаяся в XIII веке, пошла на убыль. Многие диоцезы восстанавливают в то время свои особые обычаи и придерживаются их даже после наступления Нового времени. Постановления Тридентского собора и введение римского миссала[382] папы Пия V (1570), которые утвердили всеобщую обязательность римских обычаев, на практике были восприняты далеко не сразу. Если все диоцезы христианского мира постепенно приняли пять основных литургических цветов, установленных Римом (белый, красный, черный, зеленый и фиолетовый)[383], то многочисленные местные особенности уцелели чуть ли не до середины XIX века.
Постепенное установление литургических цветов в период с каролингской эпохи до XIII века — не обособленное явление, оно связано с широко распространенной тенденцией раскрашивания церквей, о которой речь шла выше. При изучении этих вопросов археологию и литургию нельзя отделять друг от друга. Все цвета, присутствующие постоянно или ситуативно, на стекле или на ткани, на камне или на пергаменте, перекликаются и сообщаются друг с другом внутри храма. Любой цвет всегда обращается к другому цвету, и из их диалога рождается ритуал. Цвет опять-таки артикулирует пространство и время, выделяет актеров и зоны, создает линии напряжения, задает ритм, расставляет акценты. Без цвета нет театрализации, нет литургии, нет богослужения.
Кроме того, археологию и литургию не следует отрывать от другой дисциплины — геральдики. Очевидно, что первые серьезные попытки кодифицировать цвета литургии совпадают по времени с рождением гербов — самого проработанного социального кода, который средневековый Запад создал на базе цветов. За одно столетие — XII век — месса, как и война, турнир, общество, иконография, была в сущности «геральдически переосмыслена» через цвет. Подобно цветам на гербе, цвета литургии количественно ограничены и сочетаются по правилам. Как и в геральдике, они представляют собой чистые категории: это абстрактные, умозрительные цвета, их оттенки в расчет не принимаются. К примеру, красный цвет Пятидесятницы, подобно гербовой червлени, можно передать с помощью светло-красного, темно-красного, оранжевого, розоватого, фиолетового, бурого и других оттенков; это не имеет никакого значения и не несет никакого смысла. Это архетипический красный, воображаемый красный, символ всех оттенков красного. Так же, как и в геральдике, это некий совокупный красный цвет; для XII-XIII веков такая идея, такое значение и такая реалия во многих отношениях были необычайно современными. Впредь прелат и богослов могли манипулировать цветами точно так же, как это делал герольд. Особенно учитывая, что начиная с 1230-1250-х годов все церкви на Западе заполняют стены огромным количеством гербов. Литургия и геральдика завладели отныне общей «театральной площадкой» — церковью.
Такая геральдизация цвета прослеживается в истории монашеской одежды. За семь веков — с VI по XIII — первоначальные цели, имевшие этический характер, трансформировались в классификационные, и прежняя приверженность нулевой степени цвета, то есть неокрашенной шерсти, которой отдавало предпочтение раннее монашество, неизбежно уступила место поистине эмблематическому осмыслению монашеского мира, старательно и решительно поделенному на черных монахов, белых монахов, серых братьев, коричневых братьев и т. д. В этой долгосрочной эволюции основные изменения опять-таки произошли в XII-XIII веках, то есть в тот момент, когда западное общество испытало мощное воздействие зарождающейся геральдики. И это не случайно.
В немногочисленных и часто не оправдывающих ожиданий трудах по истории монашеской одежды о цвете говорится редко[384]. Ниже перечислены проблемы, с которыми сталкивается медиевист при изучении цвета в вышеозначенном контексте: противоречивый характер источников и пробелы в историографии; разрыв, и подчас гигантский, между теоретическими, нормативными или догматическими представлениями и повседневными практиками (черный цвет бенедиктинцев, к примеру, еще в XIII веке на деле мог вполне передаваться через коричневый, рыжеватый, серый, синий); приоритетное внимание к материи и насыщенности цвета в ущерб вопросам, связанным с тоном окраски как таковым; почти диалектические отношения между правилами красильной химии и символическими спекуляциями по поводу цвета. Наконец, распределение цветов в рамках двух пересекающихся хроматических систем, той, что работает за счет последовательности слоев (цвета различных предметов одежды, покрывающих тело), и той, что работает за счет соположенности слоев (взаимодействие между цветами одного монашеского ордена с цветами другого ордена, или с цветами белого духовенства, или же с цветами мирян).
С хронологической точки зрения заметен существенный контраст между ранними, расплывчатыми и неустойчивыми правилами и обычаями и подчас совершенно четкими требованиями уставов, предписаний и постановлений, изданных после XIII века. Вначале западное монашество преисполнено стремлением к простоте и скромности: монахи носят такую же одежду, как и крестьяне, не красят и химически не обрабатывают шерсть. Кстати, именно это рекомендуется в уставе святого Бенедикта[385]. Цвет считается чем-то излишним. Однако постепенно одежда приобретает для монаха все большую значимость: это одновременно и символ его положения, и эмблема той общности, к которой он принадлежит. Отсюда происходит возрастающее различие между костюмом монаха и костюмом мирянина; отсюда же — стремление к некоему единообразию, которое обеспечивает и провозглашает сплоченность ordo monasticus[386]. В каролингскую эпоху идею сплоченности через одежду уже стремились выразить с помощью цвета, не столько даже посредством окрашивания в конкретный цвет (черный), сколько посредством некоей цветовой гаммы (темные тона). Впрочем, до XIII века и для монахов, и для мирян окрашивание ткани в настоящий черный цвет, насыщенный и стойкий, было сложной задачей.
Между тем, из века в век западные монахи, как представляется, поддерживали с черным цветом все более и более тесные, значимые на внутригрупповом уровне отношения. С IX века черный — цвет смирения и покаяния — становится поистине монашеским цветом; если на практике его часто заменяют коричневым, синим, серым или «натуральным» тоном (nativus color), то тексты все чаще говорят о monachi nigri[387]. Этот обычай окончательно утверждается в X-XI веках, в то время, когда разрасталась «клюнийская империя»[388]. Доказательством a contrario[389] служат все те движения отшельнической направленности, которые распространились в XI веке: выражая идеологическую реакцию против Клюни и клюнийской роскоши, последователи этих движений стремились вернуть в одежду идеал первоначальной бедности и простоты; в области цвета это выражалось в провозглашенной приверженности грубой материи, либо из немытой шерсти с ее естественным оттенком, либо с добавлением козьей шерсти (картезианцы), либо просто «отбеленной» луговым способом[390] (камальдулы), либо сотканной из пряжи с добавлением шерсти белых и рыжих ягнят (валломброзианцы). Желание вернуться к строгости первых отшельников влекло за собой одновременно и желание отстраниться от цвета — роскоши, непозволительной для монаха. Возможно, в этом также заключалось желание шокировать — ощущением зыбкой грани между шерстью животного и самим животным началом. Некоторые из этих отшельнических движений граничат с ересью, которая на средневековом Западе часто выражается через одежду, а многие из них в качестве покровителя или примера для подражания выбирают Иоанна Крестителя, который в библейской традиции и в иконографии предстает диким человеком.
С точки зрения цвета, именно с этим течением нужно связывать зарождение ордена цистерцианцев. Цистерцианство также является реакцией на черный цвет клюнийцев; цистерцианцы стремятся вернуться к истокам, а также восстановить основные правила устава святого Бенедикта: использовать только простую и недорогую материю из неокрашенной шерсти, которая была выпрядена и соткана в монастыре самими монахами. Говоря «неокрашенная шерсть», имеют в виду цвет, близкий к серому. И действительно, первых цистерцианцев, как и многих других монахов, в ряде текстов начала XII века называют monachi grisei[391]. В таком случае, когда и как произошел переход от серого цвета к белому — иными словами, от нулевой степени цвета к настоящему цвету? Когда настоятелем монастыря Сито[392] был святой Альберих (1099-1109) или, может, это произошло при Стефане Хардинге (1109-1133)? Возможно, сначала в Клерво[393] (основанном в 1115 году), а потом в Сито? Может быть, целью было отделить клиросных монахов от простых послушников? На самом деле мы об этом ничего не знаем[394]. Зато достоверно известно, что горячий спор между клюнийцами и цистерцианцами в эпоху Петра Достопочтенного и святого Бернарда способствовал тому, что последние окончательно превратились в белых монахов.
Петр Достопочтенный, аббат Клюни, был первым, кто в знаменитом письме 1124 года, адресованном аббату Клерво, публично обратился к последнему как к белому монаху (“о albe monache..”) и упрекнул его в чрезмерной гордыне за то, что он выбрал для облачения этот цвет: белый — это цвет праздника, славы и Воскресения, а черный — цвет смирения[395]. Этот спор, представляющий собой один из важнейших моментов истории средневекового монашества[396], неоднократно возобновлялся и оборачивался настоящим догматическим и хроматическим противостоянием между черными и белыми монахами. Несмотря на ряд попыток пойти на примирение, предпринятых Петром Достопочтенным, спор продлился до 1145 года. Так, за два десятилетия, подобно клюнийцам, эмблемой которых был черный цвет, цистерцианцы раз и навсегда приняли в качестве эмблемы белый. Впоследствии этот белый цвет задним числом станет поводом для сочинения различных чудесных историй, объясняющих его божественное происхождение: так, в появившейся в XV веке легенде рассказывается, как Дева Мария, явившись святому Альбериху, велела ему носить белое одеяние.
После XII века разрыв между «идеологическими» цветами и цветами, которые носят в действительности, сокращается. Теперь не только усовершенствовались приемы окраски, позволив приблизиться к желаемому тону, но, главное, — эмблема отныне заменила символ, а реальную свободу обращения с символическими цветами было невозможно перенести на цвета эмблематические. В контексте социальных практик цвет превратился в метку, в ярлык, и новому общественному порядку стал соответствовать новый порядок цветов.
В начале XIII века — в тот момент, когда происходят все эти изменения, — в монашеское общество вторгаются нищенствующие братья. Они приходят слишком поздно: символа уже нет, осталась только эмблема. В этом отношении показателен пример францисканцев. Они также стремятся к нулевой степени цвета, носят рясу из грубой шерсти, неокрашенной, грязной, залатанной — следовательно, вписанной в некую неопределенную гамму серо-коричневых оттенков[397]. Но, несмотря на все их идеологические соображения и крайнее цветовое разнообразие ряс (проблема, которая все еще широко обсуждалась членами ордена в XIV веке), миряне, при взгляде со стороны, называли и эмблематически обозначали францисканцев против их собственной воли «серыми братьями»; а сам святой Франциск в изрядном числе народных поговорок зовется “saint Gris”, «святым Серым»[398]. Цвет создает имя. Отрицать цвет и обозначение через цвет стало попросту невозможно, бессмысленно, особенно монахам, которые живут и проповедуют в миру.
Доминиканцы, видимо, это почувствовали, и, отойдя от первоначальной приверженности белому цвету каноников-премонстрантов, с 1220-х годов нашли для себя новое решение — двуцветное, почти геральдическое сочетание белого (ряса) и черного (мантия), как цвета чистоты и цвета строгости[399]. Эта двуцветная структура, которую уже использовали военные ордена, будет востребована другими нищенствующими (братья-сороки, кармелиты) и монашескими (целестинцы, бернардинцы и др.) орденами вплоть до конца Средних веков. Она закрепляет принцип наложения цветовых слоев в одежде и позволяет задействовать новые цветовые сочетания и знаковые комбинации[400].
Кроме того, общество созрело для новой этики цвета. Этика насыщенности уступила место этике тона как такового.
Этика тона, которая приобретет столь большое значение в конце Средневековья, в действительности появляется гораздо раньше и связана она в первую очередь с белым духовенством. С середины XI века, опережая григорианские реформы, ряд прелатов проповедуют и издают законы против роскоши в одежде духовных лиц; постановления синодов, провинциальных собраний и соборов подхватывают и поддерживают их идеи. Объектом атаки становятся слишком богатые ткани и слишком яркие цвета, особенно красный и зеленый, которые постоянно упоминаются в текстах XII века. А в 1215 году XVI-й канон[401] Четвертого Латеранского собора запрещает всему духовенству использовать «красную и зеленую материи для любых деталей одежды[402]». Считается, что два эти цвета, к которым иногда прибавляют еще и желтый, слишком бросаются в глаза и требуют слишком больших расходов. Подобные церковные постановления иногда оказывают влияние и на мирян: в 1254 году Людовик Святой, вернувшись из крестового похода, изгоняет красный и зеленый цвета из своего гардероба и чаще всего одевается теперь в серый, коричневый, черный и иногда в синий — династический цвет рода Капетингов, который постепенно превращается в цвет французской монархии.
Церковные постановления объявляют войну не только тому или иному отдельно взятому цвету, но и цветам соположенным, то есть полихромии. Реймсский собор 1148 года, возглавленный папой Евгением III, осуждает «непристойное многообразие цветов» (varietas colorum indecora). С XIV века война с многодетностью в одежде сосредотачивается на полосатых костюмах, костюмах, состоящих из двух частей разных цветов или обыгрывающих двуцветные сочетания, организованные в шахматном порядке, которые завоевывали популярность у мирян. Для духовного лица «быть застигнутым в полосатой одежде»[403] — позор. В средневековом восприятии полоски фактически являются архетипом пестроты. Они неприличны не только для духовного лица, но и для всякого добропорядочного христианина. Действительно, в иконографии в полосатую одежду одеты изгои, грешники, предатели и вообще все подозрительные персонажи[404].
В конце XIII века запреты и предписания уже касаются не только одежды духовных лиц. Отныне они распространяются на все светское общество; в позднем Средневековье повсеместно обнародуются нормативные акты и законы против роскоши и чрезмерных расходов на одежду, и особенно в городской среде. Эти законы, которые в ряде случаев просуществовали в различных формах вплоть до XVIII века (например, в Венеции), выполняют три функции. Прежде всего — экономическую: ограничивая во всех социальных слоях и группах расходы на одежду и аксессуары, так как эти траты признаются непродуктивными. Затем — духовную: поддерживая христианскую традицию простоты и добродетели; в этом смысле законы являются частью мощного морализаторского движения, которое прошло через все позднее Средневековье и на котором выросла протестантская Реформация. И, наконец, самое главное — они выполняют социальную и идеологическую функцию: утверждая сегрегацию — в том смысле, что каждый должен носить одежду, соответствующую его полу, положению и рангу. Принадлежность к тому или иному слою, к той или иной социопрофессиональной группе регламентирует буквально все: количество одежды, которой обладает человек; предметы одежды, из которых состоит его костюм; ткань, из которой сшита одежда; цвета, в которые покрашены ткани; меха, украшения и все аксессуары костюма.
Некоторые цвета оказываются под запретом для той или иной социальной группы не только по причине слишком броского или слишком нескромного вида, но также потому, что для их получения используются слишком дорогие красители, торговля которыми и применение которых строго контролируются. В гамме синих оттенков так, например, дело обстоит с «павлиньими» мантиями (насыщенного темно-синего цвета), которые красят очень дорогостоящим концентратом вайды. А также со всеми красными мантиями, чьи роскошные цвета получают из кермесового червеца или кошенили. Другие цвета, напротив, предписаны той или иной исключенной группе: людям особых или незаконных профессий, калекам, нехристианам, осужденным. Эти цвета функционируют как сигналы, указывающие на нарушение социального порядка. Их сущность и принципы их использования меняются в зависимости от города, от области, иногда — от десятилетия к десятилетию, однако на постоянной основе данные системы маркеров эксплуатируют три цвета: красный, желтый и зеленый. Как мы видели, эти цвета связаны с пестротой, с отклонением и нарушением границ.
Эта экономическая и социальная этика, регулирующая цвета одежды, широко содействовала продвижению черного цвета в Западной Европе в конце XIV-XV веков. Черный цвет, до тех пор исключенный из парадной одежды, в частности, потому, что не было способа сделать его насыщенным и ярким, постепенно входит в моду. Явление это, по всей видимости, зарождается в Италии после Великой Чумы — в 1350-1380 годах; затем за несколько десятилетий оно захватывает весь Запад. В XV веке в кругах знати черный становится не просто популярным цветом, а настоящей «величиной», новым (или заново обретенным) полюсом цветовой шкалы. Отныне красильщики изощряются в изобретении технических и химических возможностей для изготовления глубоких и сочных оттенков черного, черных тонов, которые отливают ярко-синим или ярко-коричневым, которые устойчиво держатся как на шерстяном сукне, так и на шелковых тканях. Все, чего предшественники не могли добиться веками, удалось осуществить за два-три поколения.
Престиж черного цвета (которому сопутствует укрепление позиций серого) продолжает возрастать в Новое время, его возвышение до сих пор сказывается на наших современных вестиментарных[405] практиках. С одной стороны, бургундский герцогский двор, который кодифицирует и катализирует все практики позднесредневекового протокола, передает моду на аристократический черный цвет испанскому двору; и уже с подачи знаменитого «испанского этикета» черный цвет завоевывает в XVI—XVIII веках все европейские дворы. С другой стороны (и это особенно важно), черный цвет, морально оправданный законами, регулирующими ношение одежды, с давних пор присваивает протестантская этика, делая его главным полюсом всех цветовых систем вплоть до индустриальной эпохи и даже до более позднего времени.
Хотя иконоборчество эпохи Реформации более известно и лучше изучено, чем «цветоборчество», борьба с цветом, или, по крайней мере, борьба с некоторыми цветами, тем не менее всегда была важной составляющей новой религиозной и общественной морали, выдвинутой Лютером, Кальвином и их последователями. Зародившись в начале XVI века, когда торжествовали печатная книга и гравюра, иными словами «черно-белая» культура и «черно-белое» воображаемое, протестантизм оказывается одновременно и наследником этики цвета XIV-XV веков, и в полном смысле слова сыном своего времени: во всех сферах религиозной и общественной жизни (богослужение, одежда, искусство, жилище, «деловая» сфера) он превозносит и продвигает цветовые системы, полностью сосредоточенные вокруг оси «черный—серый—белый». Протестантское «цветоборчество» еще ждет своих исследователей (в отличие от иконоборчества, с которым оно отчасти — но только отчасти — связано и которому за последнее время было посвящено несколько серьезных работ[406]). Лучше изучив этот вопрос и особенно уделив внимание эпохе великих реформаторов, мы смогли бы адекватнее оценить то, насколько специфическую позицию занимает (или не занимает) протестантизм в отношении искусства и цвета.
Вопрос о том, должен или не должен цвет присутствовать в христианском храме, имеет давнюю историю. Мы только что его затрагивали в связи с дискуссией между монахами Клюни и монахами Сито, разгоревшейся в первой половине XII века. С середины XIV века две точки зрения, долгое время непримиримые, обнаруживают тенденцию к сближению. Ни абсолютная полихромия, ни тотальная бесцветность больше не котируются. Отныне предпочтение отдается простым цветовым бликам, золочению исключительно контуров и кромок, гризайльным эффектам. По крайней мере, в Англии и во Франции. Потому что в храмах Священной Римской империи (кроме Нидерландов), в Польше, в Богемии, в Италии и Испании цвет присутствует всюду. В самых богатых соборах золото становится даже навязчивым, пышности декора вторит пышность богослужения и одежды. Это пробуждает различные дореформаторские движения (например, движение гуситов), которые уже в XV веке восстают против показной роскоши золота, цвета и изображений, присутствующих в церквях; через несколько десятилетий то же самое сделают протестанты.
Между тем Реформация начинается не в тот момент, когда западные церкви особенно щедро используют цвет. Напротив, она зарождается тогда, когда полихромия идет на спад и краски становятся мрачнее. Однако это тенденция была не всеобщей, и великие реформаторы этим не удовлетворились: цвет из храма следовало изгнать в самом массовом масштабе. Подобно святому Бернарду в XII веке, Цвингли, Кальвин, Меланхтон и сам Лютер[407] осуждают цвет и слишком богато раскрашенные храмы. Подобно библейскому пророку Иеремии, гневно выступавшему против царя Иоакима, они порицали тех, «кто строит храмы, подобные дворцам, и прорубает в них окна, и обшивает их кедром, и покрывает их киноварью[408]». Красный — самый яркий цвет для библейской традиции и средневекового богословия — это цвет, который в наивысшей степени символизирует роскошь и греховность. Он отсылает уже не к крови Христовой, а к безумию людскому. Карлштадт и Лютер питают к нему отвращение[409]. Последний рассматривает его как эмблематический цвет римского папства, обряженного в роскошные красные одежды, подобно Вавилонской блуднице.
Эти факты относительно хорошо известны. А вот о том, как различные протестантские церкви и конфессии осуществляли теоретические и догматические принципы на практике, известно меньше. Каковы точные (и детализированные) хронологические и географические границы процесса изгнания цвета из храмов в XVI-XVII веках? Как часто прибегали к безжалостному уничтожению, к маскировке цвета или обесцвечиванию (возвращению материалам их исконного вида; монохромной драпировке, скрывающей живопись; известковой побелке), к полной смене обстановки? Везде ли стремились к нулевой степени цвета или же в некоторых случаях, в некоторых местах, в некоторые периоды отношение было более терпимым, менее хромофобским? Что же, в сущности, означает нулевая степень цвета? Окрашивание в белый? В серый? Отсутствие краски?[410]
По всем этим вопросам наши сведения обрывочны, бедны, иногда противоречивы. Цветоборчество и иконоборчество — разные вещи. И к истории цветоборчества нельзя применять хронологические и картографические матрицы, заимствованные из исследований, посвященных борьбе с изображениями. Борьба с цветами — а борьба на самом деле велась — выражалась иначе, была менее откровенной, более завуалированной и более тонкой, и потому историку сложнее ее заметить. К примеру, действительно ли агрессивные действия были направлены на изображения, предметы и сооружения только потому, что те были покрашены в слишком яркие и вызывающие цвета? Как ответить на этот вопрос? Как отделить цвет от объекта-носителя? Полихромия в скульптуре, особенно если речь идет о статуях святых, в глазах реформаторов, несомненно, способствовала превращению статуй в идолов. Но дело ведь не только в полихромии. А когда разрушению подверглись витражи (в большом количестве, руками гугенотов начиная с 1560-х годов), против чего это было направлено: против изображения? против цвета? против формального приема (антропоморфных образов божественных персонажей)? или же против сюжета (жития Девы Марии, агиографических легенд, изображений духовенства)? Ответить опять-таки нелегко. Можно даже задаться вопросом, посмотрев на проблему с другой стороны: не связаны ли ритуалы поругания и агрессии, направленные на изображения и цвета, с некоей «литургией цвета», настолько отчетливо, что в ряде случаев (особенно в Цюрихе и в Лангедоке) они принимают театральную, если не сказать «карнавальную[411]» форму?
Неприязненное отношение к золоту и драгоценным металлам, от отвращения до уничтожения, выявить легче. Однако как далеко может заходить отождествление металла и цвета? Как выстраивается связь между золотом и пигментами или красителями, которые его заменяют или же составляют с ним единую систему? В данном случае не стадия разрушения, а стадия восстановления наведет нас на след ответа. Эта долгосрочная стадия, несомненно, даст нам наибольшее количество подсказок по интересующей нас проблематике. Ведь очевидно, что с XVI по XX век в протестантских храмах цвета меньше, чем в храмах католических. В них отсутствуют даже цветы[412]. Историк, таким образом, смог бы без особых трудностей проследить, как осуществлялся переход от теории к практике. Стоило бы этим заняться — и от простых наблюдений перейти к детальному изучению эволюции и различных аспектов этого феномена[413]. Его хронологические границы не едины, географические — не постоянны[414]. Даже если ограничиться конкретным периодом и несколькими областями, можно обнаружить существенные различия. К примеру, в 1530-1550-х годах в Цюрихе, Женеве и Базеле мы наблюдаем непохожие картины. Внутри самих протестантских общин реформаторы или пасторы часто расходятся во мнении с простыми верующими. Одни готовы легко мириться с полихромией в окружающей обстановке; другие относятся к ней крайне враждебно[415]. Так же и в лютеранских землях расхождения между отдельными областями могут быть довольно значительными. С конца XVI века несколько немецких храмов уже испытывают ощутимое влияние красочного барокко, неизвестного кальвинистам. Позже — в XVIII веке — в некоторые храмы Швабии и Франконии даже проникает стиль рококо[416].
Все это заслуживает внимательного изучения как в пространстве, так и во времени — в отношении каждой конфессии и даже в отношении каждой отдельной общины. На начальном этапе продвинуть наши знания смогут только монографические исследования.
В ритуале мессы цвет играет первостепенную роль. Культовые предметы и одежда не только кодированы через систему литургических цветов, они также напрямую связаны с освещением, архитектурным декором, полихромной скульптурой, с изображениями в священных книгах и со всевозможными драгоценными украшениями, — все это создает условия для настоящей театрализации цвета. Наряду с жестом и звуком, цвет является одним из основных элементов, необходимых для богослужения. Затевая войну против мессы и против этой театрализации, которая «делает из Церкви посмешище» (Лютер), «превращает священников в лицедеев» (Меланхтон), выставляет напоказ бесполезные красоты и богатства (Кальвин), Реформация не могла не пойти войной и против цвета. Одновременно и против его физического присутствия внутри храма, и против его роли в литургии. Согласно Цвингли, внешняя красота обрядов извращает подлинную суть богослужения[417]. По мнению Лютера и Меланхтона, храм должен быть избавлен от всякого людского тщеславия. По мнению Карлштадта, он должен быть «так же чист, как синагога[418]». Кальвин, в свою очередь, считает, что лучшим украшением храму служит слово Божье. И все сходятся во мнении, что храм должен вести верующих к святости, а значит, быть простым, гармоничным, свободным от всего наносного, чтобы чистота его внешнего вида способствовала чистоте души. С этого времени литургические цвета в том виде, в каком их преподносила Римско-католическая церковь, сходят со сцены, и даже цвет в интерьере храма теряет какую бы то ни было культовую роль.
Так (в упрощенном изложении) выглядят некоторые теоретические позиции великих реформаторов. Но, опять-таки, между теоретическими положениями и реальными практиками часто существует значительный разрыв. Разобраться с системой литургических цветов не так-то просто, ведь в ходе столетий и десятилетий позиции различных протестантских общин видоизменились и стали разнообразнее. Было бы интересно понять, каким образом Реформация не только догматически, но и фактически свела литургические цвета к чистому полотну[419], затем, как в нескольких лютеранских общинах — венгерских, словацких, скандинавских, — начиная с XVII века стала созревать идея возвращения, сначала нерешительного, потом более явного, к цветам, которые ассоциировались с тем или иным праздником. Примеров этому становится больше в XIX веке, и связаны они с некоторыми немецкими движениями за возрождение литургии[420]. Также было бы интересно больше узнать о том, как англикане отказались от всякой ассоциации литургии с цветовым кодом, а затем, два века спустя, взяли и снова вернулись к средневековым обрядам. Впрочем, обычаи высокой Церкви[421] не похожи на обычаи низкой Церкви; последние же, в свою очередь, отличаются от того, что могли проповедовать отдельные ривайвелистски настроенные силы. Изучение хронологии, географии и типологии этих процессов, опять-таки, представляется весьма желательным[422].
Исследования этой темы помогли бы понять, как и почему Реформации удалось столь быстро и эффективно поднять престиж черного цвета. А кроме того, каким образом удалось постепенно продвинуть — и в области богослужения, и в области социальной этики — цветовую шкалу «черный—серый—белый», которая, наряду с распространением печатной книги и гравюры, весьма способствовала противопоставлению черно-белого мира и мира цветного.
Существует ли типично протестантское искусство? Вопрос не нов. Однако ответы на него отыскивались сомнительные и противоречивые. Кроме того, если и написано множество работ, посвященных изучению отношений между Реформацией и художественным творчеством, то вопрос о цвете поднимался в них весьма редко.
Я уже говорил о том, что в некоторых случаях борьба с изображениями сопровождалась борьбой с цветом — с красками, которые считались слишком яркими, слишком дорогими, слишком вызывающими. Эрудит и антиквар XVII века Роже де Геньер оставил нам рисунки нескольких средневековых гробниц анжуйских и пуатвинских прелатов, прежде раскрашенных великолепными красками, которые были полностью стерты и смыты волной иконоборческого и цветоборческого движения гугенотов в 1562 году. На севере Франции и в Нидерландах «погромщики лета 1566 года» порою действовали так же, хотя простое и незамысловатое разрушение все-таки брало верх над счищиванием, соскабливанием краски или побелкой[423]. В лютеранских областях, напротив, после первой волны беспорядков определенное уважение к древним изображениям, которые выносили из храмов или прятали под драпировкой, было тесно связано с большей терпимостью в отношении цвета.
Но главное не в этом. Повторим, что наиболее существенные сведения об отношении протестантизма к искусству и цвету нам могут дать не разрушения, а созидательная деятельность. Нужно, стало быть, изучить палитру протестантских художников и — далее — рассуждения реформаторов о живописи и эстетическом восприятии — что само по себе не просто, так как этот дискурс неустойчив и изменчив[424]. К примеру, Цвингли в конце жизни, кажется, уже не так враждебно относился к красоте цвета, чем в 1523-1525 годах. Правда, его, как и Лютера, музыка занимала больше, чем живопись[425]. Наибольшее число последовательных высказываний и предписаний по поводу искусства и цвета мы, бесспорно, обнаруживаем у Кальвина. К сожалению, они разбросаны по многочисленным работам. Попробуем резюмировать их, не слишком исказив общий смысл.
Кальвин не осуждает пластические искусства, однако, по его мнению, они должны быть исключительно светскими и должны наставлять, «радовать» (в теологическом смысле) и славить Господа. Изображать при этом следует не Творца (что кощунственно), а Творение. Художник, стало быть, должен избегать искусственных, безосновательных сюжетов, возбуждающих любопытство или похоть. Искусство не самоценно; оно исходит от Бога и должно помогать нам его постигать. Поэтому художник должен быть сдержан в своем творчестве, должен стремиться к гармонии форм и оттенков, должен черпать вдохновение в сотворенном и изображать то, что видит. Красота для Кальвина складывается из таких элементов, как ясность, порядок и совершенство. Самые красивые цвета — это цвета природы; синим оттенкам некоторых растений он, видимо, отдает предпочтение, потому что в них «больше благодати»[426].
Если в отношении выбора сюжетов (портреты, пейзажи, животные, натюрморты) проследить влияние этих рекомендаций на картинах художников-кальвинистов XVI-XVII веков особого труда не составляет, то в отношении цвета это сделать не так просто. Действительно ли существует кальвинистская палитра? И шире — протестантская? Имеет ли смысл задаваться подобными вопросами? Что касается меня, то я отвечу положительно на все три вопроса. Мне кажется, что палитра протестантских художников отличается рядом доминирующих и повторяющихся признаков, которые придают ей подлинное хроматическое своеобразие: общей сдержанностью, отвращением к пестроте, приверженностью темным тонам, гризайльными эффектами, игрой с оттенками одного цвета, поиском местного колорита, стремлением избежать всего, что агрессивно воздействует на глаз, нарушая хроматическую организацию картины за счет цветовых перепадов. Можно даже сказать, что некоторые художники- кальвинисты отличаются настоящим цветовым пуританством — настолько прямолинейно они следуют этим принципам. Например, Рембрандт, который часто соблюдает нечто вроде цветовой аскезы, придерживаясь ограниченного числа темных, сдержанных тонов (за что его иногда даже обвиняли в «монохромности»), но зато используя впечатляющие световые эффекты и эффекты вибрации цвета. Эта совершенно особая палитра создает необычайную музыкальность и подлинное духовное напряжение[427].
Между тем протестантские художники были не единственными, кто ограничивал свою цветовую палитру. То же самое мы можем наблюдать у католических художников, главным образом в XVII веке среди приверженцев янсенистского[428] движения. Так, можно заметить, что палитра Филиппа де Шампеня стала более скупой, избирательной и даже более мрачной с того момента (1646), как он сблизился с Пор-Роялем и затем фактически обратился в янсенизм[429].
С точки зрения долгосрочной перспективы, на Западе существовала значительная преемственность между различными художественно-этическими нормами цвета. Цистерцианское искусство XII века и кальвинистская или янсенистская живопись XVII века, в промежутке между которыми создавались гризайльные миниатюры XIV-XV веков и зародилось цветоборческое движение раннего периода Реформации, не разделены никаким разрывом, а напротив, связаны единой системой видения: цвет — это притворство, роскошь, уловка, иллюзия. Цвет — это материя, а значит — суета; он опасен, ибо отвращает от истины и добра; он всегда под подозрением, ибо стремится ввести в заблуждение и обмануть; он является препятствием, ибо затрудняет четкое распознавание форм и очертаний. Святой Бернард и Кальвин выражают почти одни и те же мысли, и они едва ли сильно отличаются от того, что в XVII веке в ходе нескончаемых споров о превосходстве рисунка над цветом или цвета над рисунком будут высказывать противники Рубенса и колоризма[430].
Стало быть, художественная хромофобия эпохи Реформации едва ли являлась чем-то принципиально новым. Однако она оказала существенное влияние на эволюцию восприятия цвета на Западе. С одной стороны, она способствовала резкому противопоставлению черно-белой гаммы и цветов как таковых, с другой — вызвала ответную хромофильскую реакцию в римско- католическом мире и косвенно повлияла на зарождение искусства барокко и иезуитского барокко. Для католической Контрреформации церковь является образом Небесного Царства на земле, а догмат о пресуществлении оправдывает великолепие внутри храма. В доме Божьем не может быть ничего слишком прекрасного: мрамор, золото, ткани и драгоценные металлы, витражи, статуи, изображения, фрески, живопись и сияющие краски — все это было отвергнуто протестантским храмом и протестантской службой. С приходом барокко церковь снова становится храмом цвета, каковым она являлась в клюнийской эстетике и литургии романской эпохи.
Однако самое сильное воздействие на изменение цветовосприятия в Новое время Реформация, бесспорно, оказала через гравюру и эстамп. Опираясь на книжную культуру, всегда отдавая предпочтение гравюре перед живописью, широко используя гравюрные оттиски и печатные изображения в целях пропаганды, протестантская Реформация способствовала массовому распространению черно-белых изображений. Тем самым она приняла активное участие в полномасштабной культурной революции, совершившейся в сфере цвета в XV-XVII веках: все средневековые изображения были полихромными; большинство изображений Нового времени стали черно-белыми. Этот переворот имел серьезные последствия и способствовал тому, что черный и белый — задолго до открытий Ньютона и исследований спектра — были исключены из разряда цветов. Более того, это «исключение» коснулось не только сферы искусства и изображений; оно затронуло также и социальные коды, начиная с самого значимого из них — одежды.
Наиболее глубокое и долговременное воздействие протестантская «хромофобия», несомненно, оказала на одежду. И это одна из тех областей, по поводу которых великие реформаторы дают максимально единодушные предписания. Их взгляды относительно роли цвета в искусстве, в изображении, в храме, в контексте литургии grosso modo[431] одинаковы, однако они так часто расходятся во мнениях по второстепенным вопросам, что говорить о полном соответствии и даже просто о согласованности их позиций можно лишь с натяжкой. Одежда — другой случай: рассуждения практически единообразны, транслируемые установки — сходны. Различия только в нюансах и степенях, ведь в каждой конфессии, в каждой церкви, как это обычно бывает, есть и умеренные, и радикалы.
С точки зрения Реформации одежда всегда в той или иной мере является знаком стыда и греха. Она связана с грехопадением, и одна из ее основных функций состоит в том, чтобы напоминать человеку об изгнании из рая. Посему одежда неизбежно становится знаком смирения, а значит, она должна быть скромной, простой, неброской, должна соответствовать сущности и занятиям человека. Любая протестантская этика заряжена глубочайшим отвращением к роскоши в одежде, к румянам, украшениям и нарядам, к изменчивой и эксцентричной моде. По мнению Цвингли и Кальвина, украшать себя — порочно, краситься — непристойно, наряжаться — отвратительно[432]. По мнению Меланхтона, чрезмерная забота о теле и наряде ставит человека ниже животного. И все они придерживаются мнения, что роскошь развращает; единственное, что может украсить человека, — это душа. Сущность должна неизменно торжествовать над видимостью.
Эти заповеди приводят к крайней строгости в одежде и внешнем облике: к простоте форм, сдержанности красок, отказу от аксессуаров и ухищрений, которые могут скрыть истину. Великие реформаторы подают пример для подражания, одновременно и в своей повседневной жизни, и на картинах и гравюрах, на которых они были запечатлены. Все они предстают на них в темной, скромной, подчас мрачноватой одежде.
Стремление к простоте и строгости выражается в подборе цветовой гаммы костюма, из которой исключены все яркие цвета, считающиеся непристойными: в первую очередь красный и желтый, а также розовые, оранжевые тона, все оттенки зеленого и даже некоторые оттенки фиолетового. Зато обильно используются темные тона, оттенки черного, серого, коричневого, а также белый, достойный и чистый цвет, предпочтительный для детской (и иногда женской) одежды. Синий допустим в том случае, если выглядит неброско. Все, что пестрит, все, что, облекая человека, делает его «похожим на павлина», — это выражение принадлежит Меланхтону[433] — сурово осуждается. Как и в случае с убранством храма и литургией, Реформация снова выказывает отвращение к полихромии.
Протестантская цветовая гамма едва ли сильно отличается от тех, что в течение столетий предписывала в отношении одежды средневековая этика. Однако с приходом Реформации под вопрос поставлены сами цвета — то есть те или иные тона — и только они, а не красители, концентрация или насыщенность тона, как прежде. Некоторые цвета оказываются под запретом, другие — предписано носить. Это отчетливо видно при изучении норм, касающихся одежды, и законов против роскоши, принятых в большинстве протестантских стран: будь то Цюрих и Женева XVI века, будь то Лондон середины XVII века, или пиетистская[434] Германия несколькими десятилетиями позже, или даже Пенсильвания XVIII века. Этим предписаниям следует посвятить научные исследования, которые помогли бы составить представление об эволюции правил и практик, выделить фазы и зоны как ослабления, так и усиления контроля в долговременной перспективе. Многочисленные пуританские и пиетистские секты, побуждаемые ненавистью к мирской суете, усилили строгость и единообразие протестантской одежды (униформа, за которую ратовали анабаптисты Мюнстера еще в 1535 году, всегда привлекала протестантские секты)[435]. Тем самым они придали протестантской одежде в целом не только строгий и старомодный, но и консервативный облик, который принципиально закрыт для веяний моды, изменений, новшеств.
Однако оставим секты в стороне и вернемся назад, чтобы проследить, каким образом ношение строгой одежды, за которое ратовали все великие реформаторы, обеспечило черному цвету, популярному в Европе уже в XV веке, столь длительный и небывалый успех. Черный протестантов фактически соединился (если не слился) с черным католиков и сделался в результате самым распространенным цветом в европейской одежде с XV по XX век (что не было характерно ни для Античности, ни для большей части Средневековья). Однако проблема не так проста — ведь у католиков существует два черных цвета. С одной стороны, черный королей и знати, ведущий происхождение от бургундского двора эпохи Филиппа Доброго (который всю жизнь носил траур по отцу Иоанну Бесстрашному, убитому в 1419 году) и затем перешедший к испанскому двору как часть бургундского наследства. Испанский двор, по крайней мере до 1660-х годов, задавал моду в кругах знати и устанавливал правила придворного этикета, и все европейские дворы начала Нового времени в той или иной степени подпали под влияние моды на черный цвет. С другой стороны, существует монашеский черный — цвет смирения и воздержанности, а также цвет всех движений, которые в конце Средневековья в том или ином виде стремились восстановить чистоту и простоту ранней Церкви. Это цвет Уиклифа и Савонаролы. Он также станет цветом Контрреформации, которая четко разделила в цветовом отношении церковь с ее богослужением и верующих: по одну сторону — богатство и изобилие, по другую — скромность и умеренность. Когда Карл V Габсбург одевался в черное — а так он поступал почти в течение всей своей жизни, — речь не всегда идет об одном и том же черном цвете. Иногда это аристократический черный, восходящий к пышной моде бургундских герцогских дворов; иногда, напротив, это неприметный монашеский цвет, восходящий к нормам средневековой этики цвета. Именно этот последний цвет сближает его с Лютером и — самое главное — предвещает постепенное схождение католической и протестантской этики, которое в конечном итоге приведет к возникновению — и весьма неожиданному — такого явления, которое в Европе XIX-XX столетий окрестят «буржуазными ценностями[436]».
Историк вправе задаться вопросом о том, какие последствия в долговременной перспективе имел тот факт, что цвет — по крайней мере, некоторые цвета — был отвергнут Реформацией и исключен из ценностных систем, которые она стремилась утвердить. Бесспорно, такое отношение способствовало тому самому разделению, о котором речь шла выше (и которое наметилось уже в позднем Средневековье), — разделению между двумя системами: системой черно-серо-белых оттенков и системой цветов как таковых. Продвигая в повседневной жизни, в культуре и этике новый способ цветовосприятия, задаваемый печатной книгой и гравюрой, Реформация подготовила почву для Ньютона: в 1666 году, по результатам опытов с призмой и изучения спектра, великий ученый выдвигает новый порядок цветов, из которого на научных основаниях исключены черный и белый цвета; в культурном же отношении — в социальных практиках, художественном творчестве, религиозных учениях — это исключение уже произошло несколькими десятилетиями ранее[437]. Наука, как это часто случается, финишировала последней.
Однако последствия протестантской хромофобии проявляются и за пределами XVII века, даже после открытий Ньютона. Они ощущаются позже, особенно, на мой взгляд, начиная со второй половины XIX века, когда западная промышленность начинает в широких масштабах производить товары массового потребления. Существование тесной связи между индустриальным капитализмом и протестантизмом очевидно, даже если не во всем соглашаться с Максом Вебером. Невозможно также отрицать того, что в Англии, Германии, Соединенных Штатах производство товаров повседневного пользования сопровождается моральными и социальными доводами, которые в значительной степени восходят к протестантской этике. Интересно, не из-за этой ли этики цветовая гамма первых массовых товаров была весьма сдержанной? Удивительный факт: несмотря на то, что развитие химической отрасли уже некоторое время позволяло добиваться окрашивания товаров в разные цвета, первые бытовые приборы, первые устройства связи, первые телефоны, первые фотоаппараты, первые автомобили и т. д. (не говоря уже о тканях и одежде), — все товары, выпускаемые в промышленных масштабах между 1860 и 1914 годами, были выдержаны в черно-коричнево-серо-белой гамме. Как будто буйство ярких красок, которого можно было добиться средствами химии, было неприемлемо с точки зрения общественной морали (то же самое можно сказать о цветном кино, появившемся несколько десятилетий спустя[438]).
Самый известный пример такого протестантского и хромофобского поведения связан с именем знаменитого Генри Форда (1863-1947) — основателя одноименной автомобильной фирмы, а также пуританина, неизменно озабоченного этическими вопросами, какой бы области это ни касалось: несмотря на пожелания покупателей, несмотря на двухцветные и трехцветные автомобили, выпускаемые его конкурентами, он до конца жизни, по моральным соображениям, продолжал выпускать машины исключительно черного цвета[439]!
Социальная история нечестивого ремесла
В Средние века профессия красильщика — это ремесленная специальность, существующая отдельно от профессии торговца сукном или красителями. Кроме того, это весьма закрытое и строго регламентируемое ремесло: начиная с XIII века во множестве документов оговариваются подробности организации этого ремесла и обучения ему, размещение красильных мастерских в городе, права и обязанности красильщиков, список разрешенных и запрещенных красителей[440]. Эти документы, к сожалению, по большей части не изданы, а красильщики, в отличие от суконщиков и ткачей, до сих пор не стали объектом пристального внимания историков[441]. Исследования в рамках популярной в 1930-1970-х годах экономической истории позволили, конечно, лучше уяснить место красильного дела в цепочке текстильного производства, а также зависимость красильщиков от торговцев тканями[442]; однако специальный обобщающий труд, посвященный этому ремеслу, которое всегда всегда представлялось сомнительным и в той или иной степени осуждалось, пока еще не написан.
Подозрительное отношение ко всем составляющим красильного дела характерно для многих обществ с древнейших времен[443]. Однако в средневековой христианской Европе это недоверие, кажется, проявляется сильнее, чем где бы то ни было, и находит выражение как в реальной жизни, так и в преданиях и области воображаемого. В многочисленных письменных и изобразительных источниках подчеркивается сомнительный и даже дьявольский характер этого ремесла, запрещенного клирикам и противопоказанного добропорядочным людям[444].
Разобщенные и неуживчивые ремесленники
Изобилие источников объясняется несколькими причинами. Главная связана с тем, что красильное дело занимает важное место в экономической жизни общества. Текстильная промышленность — это единственная крупная промышленность на средневековом Западе и во всех городах, специализирующихся на суконном производстве; красильщики всегда были многочисленны и хорошо организованы. И часто вступали в конфликты с другими ремесленными цехами, в частности, с суконщиками, ткачами, кожевниками. Строжайшее разделение труда и жесткие профессиональные предписания повсюду сохраняют за красильщиками монополию на красильную деятельность. Однако ткачи, которые, за некоторыми исключениями, не имеют права на крашение ткани, тем не менее тоже занимаются окраской. Это приводит к судебным тяжбам, процессам, архивные материалы которых зачастую оказываются весьма информативными для историка цвета. К примеру, из них мы узнаем, что в Средние века почти всегда окрашивали уже сотканное сукно и только в редких случаях пряжу (за исключением шелка) или стриженую шерсть[445].
Иногда ткачи получают от муниципальных или сеньориальных властей право на крашение шерстяного сукна в какой-нибудь новомодный цвет или же на окрашивание с помощью такого красителя, который до тех пор редко использовался либо вообще не использовался красильщиками. Эта привилегия на нововведение, которая позволяет обойти древние статуты и предписания, и дает нам порой основания воспринимать гильдию ткачей как менее консервативную по сравнению с гильдией красильщиков, естественно, вызывала у последних крайнее возмущение. Так, около 1230 года в Париже королева-мать Бланка Кастильская разрешила ткачам красить в синий цвет в двух мастерских, причем исключительно с помощью вайды. Эта мера, которая отвечала новым запросам покупателей, полюбившим этот цвет, долгое время остававшийся в тени (и теперь активно завоевывающий популярность), спровоцировала острый конфликт между красильщиками, ткачами, королевской властью и муниципальными властями, длившийся несколько десятилетий. В 1268 году это даже нашло отражение в «Книге ремесел» прево Парижа Этьена Буало, составленной по приказу Людовика Святого для того, чтобы письменно зафиксировать порядки, принятые в различных парижских ремесленных цехах:
Ни один ткач в Париже не может в своей мастерской красить ткань ни в какие цвета. Исключение делается только для окрашивания [в синий] с помощью вайды. Однако это можно делать только в двух мастерских, так как с разрешения королевы Бланки [Кастильской] — царство ей небесное — ткачам позволяется иметь два дома, где можно законно заниматься и тканьем, и окрашиванием [вайдой] [...][446].
Конфликты с кожевниками — представителями еще одной сомнительной профессии, ибо они имеют дело с трупами животных — возникают уже не из-за ткани, а из-за доступа к речной воде. Для ремесла красильщиков и кожевников, как, впрочем, и для многих других ремесел, вода — это производственная необходимость. Однако вода обязательно должна быть чистой. А когда красильщики загрязняют ее своими красителями, кожевники уже не могут использовать ее для вымачивания кожи. И наоборот, когда последние сливают в реку грязную воду после дубления, для красильщиков вода тоже становится непригодной. Это опять-таки приводит к конфликтам и судебным тяжбам, о которых мы узнаем из архивных документов. Среди последних до XVIII века встречается множество указов, предписаний и постановлений городских властей, которые требуют от парижских красильщиков заниматься красильным делом за пределами города и даже вдали от предместий, так как «ремесло это приводит к такому сильному загрязнению либо же в нем используются такие вредные для человеческого тела вещества, что нужно тщательно выбирать места, где разрешено будет им заниматься, так, чтобы оно не принесло вреда здоровью[447]».
В Париже, как и во всех крупных городах, запреты на занятие красильным ремеслом в слишком густонаселенных зонах беспрестанно повторялись с XIV по XVIII век. Приведу в качестве примера текст парижского постановления 1533 года:
Всем скорнякам, кожевникам и красильщикам запрещается заниматься своим ремеслом в городских и пригородных домах; им предписывается доставлять шерсть к реке Сене ниже Тюильри[448] и мыть ее там; [...] им также запрещено выливать дубильные и красильные растворы или подобные загрязняющие вещества в реку; для выполнения своих работ им разрешается переместиться, коль это им будет угодно, под Париж, к Шайо, удалившись от предместий по меньшей мере на расстояние в два выстрела из лука под страхом конфискации имущества и товаров и изгнания из королевства[449].
Из-за речной воды похожие споры — и зачастую весьма ожесточенные — разгорались и между самими красильщиками. В большинстве текстильных городов красильное ремесло было строго разграничено в зависимости от состава ткани (шерсть и лен, шелк, и, в некоторых итальянских городах, хлопок), а также в зависимости от цвета или группы цветов. Постановления запрещают окрашивать ткань или применять определенную цветовую гамму, если на это нет особого разрешения. Например, при работе с шерстью, начиная с XII века, тот, кто красит в красный цвет, не может красить в синий, и наоборот. Зато те, кто работает с синим цветом, часто берут на себя зеленые и черные тона, а те, кто с красным, — желтую гамму. Поэтому если в некоем городе «красные» красильщики подоспеют к реке первыми, то вода в ней сильно покраснеет, и «синие» красильщики смогут ей пользоваться только через какое-то время. На этой почве возникают постоянные споры и на века затаенная злоба. Иногда, как в Руане в начале XVI века, муниципальные власти пытаются установить календарь, регулирующий доступ к реке и предполагающий еженедельное чередование или модификацию графика — так, чтобы все по очереди могли пользоваться чистой водой[450].
В некоторых городах Германии и Италии специализация продвинулась еще дальше: красильщики, окрашивающие в один и тот же цвет, разделяются в зависимости от конкретного красителя, с которым они имеют право работать. Например, в Нюрнберге и в Милане в XIV и в XV веках среди тех, кто красит в красный, выделяются те, кто применяет марену — краситель, который на Западе производился в большом количестве и был приемлем по цене, — и те, кто использует кермес или кошениль, которые привозились из Восточной Европы или с Ближнего Востока и стоили очень дорого. При этом те и другие красильщики облагаются разными налогами, над ними осуществляется различный контроль, они применяют разные технологии и используют разные протравы, имеют разную клиентуру. В некоторых городах Германии (Магдебурге, Эрфурте[451], Констанце и особенно в Нюрнберге) среди ремесленников, окрашивающих в красные и синие тона, различают простых красильщиков, которые производят окраску обычного качества (Farber), и красильщиков высшего разряда (Schonfarber). Последние используют благородные материалы и умеют добиваться глубокого проникновения цвета в волокна ткани. Цвета у таких красильщиков «самые красивые и притом устойчивые» (tinctores cujus colores optimi atque durabiles sunt)[452].
Узкая специализация красильщиков едва ли представляет собой что-то удивительное для историков цвета. Это явление необходимо соотнести с унаследованным от библейской культуры и пропитавшим все средневековое сознание отвращением к смешиванию[453]. Подобное отвращение самыми разными способами проявлялось как в области идеологии и символики, так и в повседневной жизни и материальной культуре[454]. Соединять, смешивать, сплавлять, амальгамировать — все эти операции зачастую считаются инфернальными, ибо нарушают природу и порядок вещей, установленные Творцом. Все, кто вынужден выполнять их по роду своей профессиональной деятельности (красильщики, кузнецы, аптекари, алхимики), вызывают страх и подозрение — ведь они как будто бы обманывают материю. Кстати говоря, ремесленники и сами опасаются совершать некоторые операции: например, красильщики не рискуют смешивать два цвета, чтобы получить третий. Их наслаивают, накладывают друг на друга, но, по сути, не смешивают. До XV века ни в одном рецептурном сборнике по приготовлению красок, как для красильного дела, так и для живописи, не говорится, что зеленый цвет можно получить, смешав синий и желтый. Зеленые тона получают другими способами, в одних случаях из пигментов и красителей естественного зеленого цвета, в других — обрабатывая синие и серые красители разными способами, не связанными со смешиванием. Для средневековых людей, не знакомых со спектром и спектральной классификацией цветов, синий и желтый — цвета разного ранга и, даже будучи размещенными на одной оси, они чрезвычайно далеко отстоят друг от друга; стало быть, они не могут иметь между собой переходной «зоны» в виде зеленого цвета[455]. Кроме того, по крайней мере до XVI века чаны с синей краской и чаны с желтой краской находятся в разных мастерских: так что содержимое этих чанов не только запрещено, но и просто физически трудно смешивать для получения зеленой краски. Те же запреты и трудности обнаруживаются и в связи с фиолетовыми оттенками: их редко получали, смешивая синий с красным, то есть марену с вайдой; обычно их добивались, добавляя к вайде особую протраву[456]. Поэтому средневековые фиолетовые тона, в которые вообще редко окрашивали ткани, больше тяготеют к синему, чем к красному.
В этой связи следует напомнить о том, что на окраску сильно влиял процесс травления, то есть воздействие закрепителей. Последние представляют собой вяжущие вещества, которые добавляются в красильный раствор, с тем чтобы очистить шерсть от примесей и чтобы краситель глубоко проник в волокна ткани. Окраска без протравы невозможна, либо же она не будет держаться (исключением является окраска в синий с помощью индиго[457]).
Квасцы — основной закрепитель, применяемый в Средневековье при окрашивании дорогих тканей. Это горная соль, которая в природном состоянии представляет собой двойной сульфат калия-алюминия. В Средние века ей находят самое разнообразное применение: используют для очистки и осветления воды, затвердевания гипса, дубления кожи, обезжиривания шерсти и — главное — для фиксации краски. Это ценный продукт, который с XIII века становится предметом активной торговли. Торговлю квасцами контролируют генуэзцы, которые привозят их на Запад из Египта, Сирии и главным образом Малой Азии, где в районе Фокеи добывают квасцы самого лучшего качества. Но в XV веке после падения Константинополя добыча квасцов с неизбежностью перемещается на Запад. Теперь квасцовые рудники разрабатываются в Испании, но главным образом в горах Тольфа к северу от Рима, на территории Папской области; в следующем веке папы заработают на них целое состояние[458].
Квасцы — дорогая протрава, предназначенная для окраски высокого класса. При обычном окрашивании их часто заменяют более дешевыми закрепителями. Например, винным камнем, то есть соляными отложениями, которые остаются от вина на дне и на стенках бочек[459]. Или попросту известью, уксусом, человеческой мочой, золой некоторых деревьев (ореха, каштана). Одни протравы больше подходят для одних красок или текстильных волокон, другие — для других, а в зависимости от пропорций и способов травления можно получить тот или иной тон, тот или иной оттенок конкретного цвета. Некоторые красители следует особенно сильно протравливать, чтобы получить хороший цвет: это касается марены (красные тона) и цервы (желтые тона). Другие, напротив, не требуют сильной протравки и даже могут совсем без нее обойтись: это касается вайды, а в более позднее время — индиго, привозимого из Азии, а затем из Америки (синие тона, а также зеленые, серые и черные). Поэтому во всех европейских постановлениях периодически проводится различие между «красными» красильщиками, которые закрепляют цвет, и «синими» красильщиками, которые цвет не закрепляют никогда или почти никогда. Во Франции с конца Средних веков, обозначая это различие, чаще всего говорят о красильщиках-«кипятильщиках» (которые должны прокипятить в первой ванне ткань вместе с протравой и красильным раствором) и «чановых», или «вайдовых» красильщиках (которые не утруждают себя этой операцией и в некоторых случаях могут даже окрашивать холодным способом). При этом регулярно напоминается, что нельзя одновременно быть и тем, и другим.
Другие социальные феномены и особенности цветовосприятия, которые привлекают внимание исследователя, изучающего красильное ремесло, связаны с насыщенностью и концентрацией цвета. Изучение технологических процессов, стоимости красящих веществ и иерархии престижности различных тканей в действительности показывает, что насыщенность и яркость тона являются основанием для формирования системы цен и оценок не в меньшей, если не в большей степени, чем собственно цвет окраски. Красивый, дорогой и престижный цвет — это, повторимся, цвет насыщенный, яркий, сияющий, глубоко проникший в волокна ткани и устойчивый к воздействию солнца, стирки и времени. Приоритет насыщенности перед оттенком или тоном в оценочной шкале цветовосприятия обнаруживается и во многих других сферах, где так или иначе фигурирует цвет: в лексике (за счет префиксов и суффиксов), в этических суждениях, художественных воплощениях, законах против роскоши. В результате мы приходим к выводу, который противоречит нашему современному восприятию и представлению о цветах: для средневекового красильщика и его клиентуры насыщенный цвет часто оказывается ближе другому насыщенному цвету, чем самому себе в полинявшем или слабо концентрированном виде. Насыщенный и яркий синий цвет шерстяного сукна всегда будет ближе к такому же насыщенному и яркому красному, чем к бледному, тусклому, «жиденькому» голубому.
Требование добиваться насыщенного, концентрированного цвета, цвета, который держится (color stabilis et durabilis), провозглашается во всех рецептурных сборниках, предназначенных для красильщиков. Процесс травления здесь опять-таки выступает на первый план: для каждой ткани, для каждого красителя требуется тот или иной закрепитель; кроме того, в каждой мастерской существуют свои традиции и секреты. Технология чаще передается из уст в уста, чем предается перу и пергаменту.
Между тем сохранилось большое число рукописных рецептурных сборников конца Средневековья и начала XVI века. Эти документы трудно датировать и изучать. Не только потому, что все они переписывались: каждая новая копия представляла собой новую редакцию текста, добавлялись новые рецепты, изымались старые, другие модифицировалась, видоизменялись названия продуктов либо же разные продукты обозначались одним и тем же наименованием. Но главным образом потому, что практические и технологические рекомендации в таких сборниках постоянно соседствуют с соображениями аллегорического и символического толка. В одной фразе сталкиваются комментарии о символических значениях и «свойствах» четырех начал (воды, земли, огня и воздуха) и практические рекомендации по поводу того, как наполнять котел или чистить чан. Кроме того, сведения о массе или объеме ингредиентов, а также об их пропорциях всегда очень расплывчаты: «возьми изрядную долю марены и положи ее в некоторое количество воды; добавь немного уксуса и побольше винного камня...». Более того, указание на время кипячения, отваривания или вымачивания дается лишь в редких случаях либо совершенно сбивает с толку. Например, как объясняется в одном тексте конца XIII века, для того чтобы изготовить зеленую краску, нужно вымачивать медные опилки в уксусе либо в течение трех дней, либо в течение девяти месяцев[460]! Как это часто бывает в Средневековье, ритуал оказывается важнее результата, а числа имеют скорее качественное, нежели количественное значение. В средневековой культуре и три дня, и девять месяцев выражают почти одну и ту же идею, связанную с зарождением и рождением (или возрождением), прообразом которой, в первом случае, становится смерть и воскресение Христа, а во втором — появление на свет ребенка.
Как правило, все рецептурные книги, будь они предназначены для красильщиков, художников, врачей, аптекарей, поваров или алхимиков, представляют собой одновременно и аллегорические тексты, и практические пособия. В них широко используются простое построение фраз и обыденная лексика, в основном глаголы: выбирать, брать, толочь, растирать, погружать, кипятить, вымачивать, разбавлять, перемешивать, добавлять, цедить. Везде подчеркивается важность медленного протекания процессов (ускорять их — неэффективно и недобросовестно) и тщательного выбора емкостей: глиняных, железных, оловянных, открытых или закрытых, широких или узких, больших или маленьких, той или иной формы — у каждой из них есть свое название. То, что происходит внутри этих сосудов, является метаморфозой — это опасная и даже дьявольская процедура, которая обязывает с большой осторожностью подходить к выбору и использованию сосуда. Наконец, рецептурные книги особое внимание уделяют опять-таки проблеме смешивания и применения различных компонентов. Минералы — это одно, растения — другое, вещества животного происхождения — третье, и с ними нельзя обращаться как попало: растительные вещества — чистые, вещества животного происхождения — нет; минералы — мертвые, животные и растения — живые. Зачастую главная операция при изготовлении красящего вещества — красильного раствора или краски — состоит в том, чтобы воздействовать веществом, которое считается живым, на вещество, которое считается мертвым.
Ввиду этих общих особенностей рецептурные книги следовало бы изучить в комплексе, как отдельный литературный жанр. Ведь несмотря на неполноту, несмотря на трудность датировки, установления авторства и происхождения рукописей, эти тексты богаты самыми разнообразными сведениями. Многие из них еще не изданы, далеко не все классифицированы, а некоторые даже не учтены[461]. Более подробное их изучение не только обогатило бы новыми сведениями наши знания о красильном деле, живописи, кулинарии и медицине в Средние века, но также позволило бы лучше осветить историю «практических» (в данном случае это слово, конечно, следует использовать с осторожностью) знаний в Европе с греческой античности до XVII века[462].
Что касается красильного ремесла, то в глаза бросается следующий факт: если до конца XIV века три четверти рецептов в этих сборниках касаются приготовления красной краски, то после этой даты непрерывно возрастает число рецептов по изготовлению синей краски. Так что в начале XVII века в пособиях по красильному делу последние в конечном итоге оказываются в большинстве[463]. Те же изменения характерны для рецептурных сборников и трактатов, предназначенных для художников: до Возрождения явно доминируют рецепты приготовления красной краски, затем с ней начинает конкурировать синяя краска, рецепты которой в конечном итоге начинают численно преобладать.
В связи с рецептурными книгами встают одни и те же вопросы: какое применение средневековые красильщики находили этим текстам, скорее умозрительным и аллегорическим, нежели практическим и в подлинном смысле слова технологическим? Действительно ли их авторы были ремесленниками? Для кого предназначались их рецепты? Учитывая, что некоторые рецепты были длинными, а другие короткими, можно ли сделать из этого вывод, что они были предназначены для разных категорий читателей, что некоторые из рецептов на самом деле читали в мастерской (кто же в этом случае умел читать?), а другие бытовали совершенно независимо от ремесленного производства? В конце концов, какую роль в их составлении играли переписчики? При современном состоянии наших знаний ответить на эти вопросы трудно. Однако примерно те же вопросы возникают и в связи с живописью, причем эта область выгодно отличается тем, что некоторые художники оставили нам не только свои живописные произведения, но и сочинения, в которых содержатся подобные рецепты[464]. И мы можем констатировать, что одно с другим почти не связано. Самый известный случай в этом отношении представляет собой Леонардо да Винчи, автор компилятивного и философского трактата о живописи (незаконченного), писавший картины, в которых никак не отразилось то, что он описывал и предписывал в своем трактате[465].
Несмотря на такой значительный разрыв между устной и письменной передачей знаний, красильное ремесло в Средние века отличалось достаточно высокой эффективностью, гораздо более высокой, чем в Античности, когда долгое время не умели добиваться качественной окраски в красный цвет. Хотя в Средневековье и был утерян секрет настоящего пурпура[466], зато с ходом столетий (особенно начиная с XII века) большие успехи были достигнуты в изготовлении голубых, желтых и черных красок. Только белые и зеленые тона по-прежнему вызывали затруднения[467].
В настоящий белый цвет окрасить в сущности можно было только лен, но даже это представляло собой довольно сложную процедуру. Что касается шерсти, то здесь часто довольствовались натуральным белым цветом, который достигался путем лугового «отбеливания» за счет обогащенной кислородом росы и солнечного света. Однако это медленная и долгая операция, для которой требуется много места и которую нельзя осуществить зимой. Кроме того, белый получается не очень белым и через некоторое время опять приобретает коричневато-серый, желтоватый оттенок неотбеленной ткани. Поэтому в средневековом обществе почти не носили одежду настоящего белого цвета[468]. Использование для окрашивания некоторых растений (мыльнянки), щелока на основе золы либо глины и руды (магнезии, мела, свинцовых белил) в действительности придает белому цвету сероватый, зеленоватый или синеватый оттенок, лишая его яркости[469] . Все мужчины и женщины, которые по соображениям морального, литургического или эмблематического порядка должны были носить белый цвет, никогда по большому счету не носили его на самом деле. Так, например, королевы Франции и Англии с конца XIII — начала XIV века носят белый траур: однако это сугубо теоретическое намерение; так как ровного и устойчивого белого цвета добиться невозможно, они «перебивают» его, сочетая с черным, серым или фиолетовым. Так же поступают священники и дьяконы в тех случаях, когда богослужение требует обязательного присутствия белого цвета (в праздники, посвященные Христу и Деве Марии, на Богоявление, в День всех святых[470]): в эти дни белый часто сочетается с золотым, что объясняется не только причинами символического порядка, но также особенностями окраски. Наконец, в этом ряду следует упомянуть цистерцианцев, «белых монахов», одежда которых в реальности никогда не была по-настоящему белой. Впрочем, то же самое можно сказать и о враждебных им братьях-бенедиктинцах, «черных монахах»: они тоже редко одевались в настоящий черный, так как однородная, яркая и устойчивая окраска шерсти в этот цвет — процедура сложная и дорогостоящая (с шелковыми тканями дело обстоит проще). Даже если на некоторых — хотя далеко не на всех — изображениях бенедиктинцы и цистерцианцы действительно носят черное или белое, то в монастырях и приоратах они часто одевались в коричневый, серый и даже синий цвета[471].
Что касается зеленого цвета, то здесь окраска и фиксация тона представляют еще больше трудностей. Ткани и одежда, окрашенные в зеленые тона, часто выглядят полинявшими, сероватыми, они малоустойчивы к воздействию света и моющих средств. Добиться глубокого проникновения зеленой краски в волокна ткани, придать ей яркость и сочность, сделать так, чтобы цвет долго сохранял свою насыщенность, всегда было непростой задачей для европейских красильщиков, начиная с римской античности и до XVIII века. Это объясняется причинами одновременно химического, технологического и культурного характера. Как мы уже говорили, для окрашивания ткани в зеленый цвет пока еще не начали смешивать синий и желтый красители в одном красильном чане. В эту эпоху спектр еще не был известен и в принятой цветовой шкале желтый располагался далеко от зеленого и синего цветов, где-то между белым и красным, и даже иногда считался смесью последних, как об этом в конце XV века пишет поэт Жан Роберте в своем изящном стихотворном послании, раскрывающем символику различных цветов.
Я белого и красного смешенье,
На ноготки похож мой цвет;
Кому везет в любви — тому заботы нет:
Ему вполне сгожусь я для ношенья.[472]
Так что красильщикам едва ли приходит в голову мысль, что для получения зеленого цвета нужно смешать желтую и синюю краски. Зеленый готовят другим способом. Для самой простой окраски используют продукты растительного происхождения: травы (такие как папоротник или подорожник), цветы (например, наперстянку), ветки (например, дрока), листья, (например, ясеня или березы), кору (например, ольхи). Но ни одно из этих красящих веществ не дает насыщенного и устойчивого цвета. Краска не держится, выгорает и даже исчезает с некоторых тканей. Более того, сильная протрава имеет тенденцию портить цвет. Поэтому в зеленый цвет обычно красят рабочую одежду, и в этом случае зеленый — впрочем, как и расхожий синий цвет — часто имеет сероватый оттенок. Иногда, чтобы получить более яркий тон, применяют минеральные красители (зеленые земли, уксуснокислую медь, ярь-медянку), но они едкие — даже вредные — и не дают равномерной окраски[473].
Технические трудности окрашивания в зеленый цвет объясняют, почему в XVI веке (возможно, с конца XV столетия в Нюрнберге, а также в Эрфурте и в ряде других городов Тюрингии) некоторые красильщики, работающие в различных мастерских, движимые упорством или любопытством, начинают окрашивать ткань в зеленые тона, опуская ее сначала в раствор с вайдой (синий), а затем в раствор с цервой (желтый). Это пока еще не смешение синего с желтым, но это уже двухступенчатая операция, приближающаяся к современным практикам. Мало-помалу ее возьмут на вооружение художники[474], а после она приведет к переосмыслению места зеленого цвета в цветовой шкале: теперь он будет помещаться между синим и желтым. Но это произойдет только во второй половине XVII века (с открытиями Ньютона) или в начале века XVIII-гo (с изобретением цветной гравюры Леблоном[475]). Хотя уже с 1600-х годов некоторые художники и ученые привлекают внимание к тому факту, что зеленый можно получить путем смешивания желтого с синим[476], эта практика еще не скоро войдет в обиход живописцев. Даже в середине XVIII века Жан-Батист Удри[477] выразил перед Королевской академией живописи и скульптуры свое сожаление по поводу того, что некоторые его коллеги смешивают синий с желтым, чтобы запечатлевать на холсте зеленые пеизажи[478].
В древних обществах переход от практики (в данном случае — смешивания красящих веществ) к теории (представлению о соседстве зеленого и желтого в концептуальной организации цветов) всегда происходит медленно — из-за ощутимого влияния «авторитетов», традиций, привычек мышления и установившейся системы представлений. В Средние века и даже в XVI столетии профессиональные предписания сильно тормозят распространение новых красильных приемов (которые уже с 1500-х годов описывались в руководствах по красильному делу). Во всех городах Западной Европы специализация красильщика по-прежнему оставалась очень узкой, ориентированной на окрашивание в тона определенной цветовой гаммы или даже на применение конкретного красильного вещества. В одной мастерской едва ли существовала возможность по очереди опустить ткань сначала в раствор с синей, а затем с желтой краской — а если и существовала, то это должно было рассматриваться как мошенничество или откровенное экспериментаторство (а значит, нарушение порядка). Зато та же операция, но в обратном порядке, видимо, была вполне допустима: плохо прокрашенную желтую ткань можно было попытаться спасти, окрасив ее в синий. Но чтобы это осуществить, необходимо было перейти в другую мастерскую, так как чаны с синим раствором и чаны с желтым раствором, как правило, находились в разных местах. Возможно, что поступая именно таким образом, красильщики постепенно научились получать зеленую окраску, сначала окрашивая ткань последовательно в желтый и синий цвет, а затем смешивая желтый и синий красители в одном чане.
Как бы то ни было, но неумение добиваться красивых, устойчивых, ярких и сочных зеленых оттенков объясняет, почему с XII века, когда в моду входят синие тона, зеленый исчезает из одежды. По крайней мере, из одежды высших слоев общества. В крестьянской среде, где практикуется «простая окраска», то есть окрашивание опытным путем с применением исключительно местных растений (повсеместно — с помощью папоротника, подорожника и дрока[479], в Северной Европе — с помощью березовых листьев) и низкокачественных протрав (вина, урины), зеленый цвет все равно встречается часто — чаще, чем при дворе или в городе. Он может быть как светлым (vert gai), так и темным (vert brun), но обычно выглядит тусклым, бледным, полинявшим. Кроме того, при свете масляных ламп и свечей он приобретает сероватый оттенок, теряя всякую привлекательность.
Помимо социальных различий существуют различия географические. К примеру, в Германии, где способы окрашивания были менее консервативными, зеленый цвет в одежде встречался чаще, чем в других странах. Поэтому он уже не вызывает особого удивления, как об этом в 1566 году выразительно пишет выдающийся протестантский ученый Анри Этьен, вернувшийся с франкфуртской ярмарки: «Увидев во Франции знатного человека, нарядившегося в зеленый цвет, решишь, что он слегка не в своем уме; в Германии же в некоторых местах подобное одеяние считается вполне пристойным[480]». Для ученого-кальвиниста, как и для его единоверцев, зеленый цвет является непристойным, и всякий добропорядочный христианин должен избегать его в своей одежде. Конечно, красный с желтым — еще того хуже, но зеленому в любом случае следует предпочесть черный, серый, синий и белый цвета. С точки зрения Реформации, только в природе зеленый цвет имеет право на существование и может вызывать восхищение.
Вернемся к красильщикам. К скромному отчету об их успехах (с красными, потом синими тонами), трудностях (с зелеными и черными тонами) и неудачах (при окрашивании в белый цвет), на которых мы останавливались выше, следует добавить, что в какой бы цвет и каким бы красителем они ни окрашивали, даже если речь идет о гамме красных или синих тонов, они не умели добиваться конкретного, заранее выбранного оттенка. К нему можно приблизиться и порой действительно его получить (особенно при окрашивании в красный с помощью марены), но до того как процесс подошел к концу, нельзя с уверенностью утверждать, что результат будет соответствовать замыслу. Это станет возможным только в XVIII веке с развитием промышленной химии и, затем, с появлением синтетических красителей. Умение с точностью добиваться заранее выбранного по образцам оттенка и выдерживать его при окрашивании больших объемов ткани станет важнейшим переломным моментом в истории цвета. Этот перелом, который в Европе следует связывать с 1760-1780-ми годами, в кратчайшие сроки и коренным образом трансформирует отношение общества к цвету. Отныне цвет оказывается подконтролен и измерим, а значит, он одновременно утрачивает свою непокорную природу и приоткрывает свои тайны: теперь отношения человека и цвета начинают выстраиваться по-новому.
До той поры красильщики остаются загадочными и вызывающими недоверие ремесленниками, которые наводят на людей страх своей буйностью, сварливостью, сутяжничеством и скрытностью. Более того, они работают с опасными веществами, портят воздух зловонием, загрязняют воду в реках и сами ходят грязные, в замаранной одежде, с ногтями, в которые въелась краска, с перепачканным лицом и волосами. Уже самим своим видом они нарушают общественный порядок: перемазанные с головы до ног, они похожи на ряженых, выскочивших из адских котлов. В начале XIII века Иоанн Гарландский, грамматист, разносторонний автор, преподававший в Тулузе, затем в Париже, составил “Dictionarius”[481], где иронически описал таких красильщиков с окрашеными краской ногтями, которых презирают красивые женщины; если в кошельке у красильщика нет звонкой монеты, то ему непросто найти жену:
Красильщики красят сукно мареной, цервой и корой ореха. Поэтому ногти у них цветные; у одних — красные, у других — желтые, у третьих — черные. Вот за это красивые женщины их и презирают, а ежели не отвергают их, то только из-за денег[482].
Некоторые красильщики и впрямь умудряются нажить состояние. Но они так и остаются ремесленниками, а купеческое сословие, в которое они никогда не будут вхожи, всегда будет их презирать. Для средневековой идеологии это два различных, совершенно изолированных друг от друга мира. Ремесленники работают руками, купцы — нет; во всех городах — а особенно в городах, где развито текстильное производство, — купцы стремятся подчеркивать свое отличие от vilains, besoigneors et gens meschaniques, то есть вилланов, работников и ремесленников. Поэтому купцы-суконщики презирают ткачей и красильщиков. И поэтому же последние на долгое время попадают в зависимость от торговцев пряностями и аптекарей (pigmentarii), которые снабжают их, а также художников, врачей и даже поваров фармацевтическими и красильными веществами (pigmenta).
Красильщику трудно продвинуться вверх по социальной лестнице. Красильщиков уважают, пожалуй, только в Венеции, которая является западной «столицей» красильного дела, а также источником всех поставок и всех знаний в этой области: корпорация красильщиков образует здесь arte maggiore, старший цех[483]. Повсюду на Западе (кроме, возможно, Нюрнберга в XV веке) ситуация складывается по-другому; в некоторых городах красильщики даже принадлежат к наименее уважаемой категории ремесленников. Во Флоренции, к примеру, в городских законах оговаривается, что они отстранены от политической жизни и общественных обязанностей[484] и не имеют права объединяться в «корпорацию». Они полностью подчиняются arte Калимала[485], который обеспечивает их работой и снабжает красителями и протравами[486]; таким образом, они лишены свободы что-либо предпринимать, вводить новшества, объединяться. Это приводит к постоянным волнениям, открытым конфликтам с суконщиками и представителями других текстильных профессий и, в конечном итоге, к по-настоящему бунтарским настроениям во время крупного восстания чомпи в 1378 году[487] и образованию arte di Tintori, цеха красильщиков (к которому примыкают сукновалы и ткачи), требования о создании которого выдвигались в течение многих десятилетий. Впрочем, это сообщество, объединяющее три arti minutissimi, самых незначительных цеха, просуществует недолго и будет ликвидировано в 1382 году, после того как революционное правительство чомпи падет, а дела вновь перейдут в руки старых корпораций, представляющих интересы богатых торговцев и банкиров[488].
По всем этим причинам в некоторых итальянских (Салерно, Бриндизи, Трани), испанских (Севилья, Сарагоса), лангедокских и провансальских (Монпелье и Авиньон) городах профессия красильщика долгое время остается уделом еврейских ремесленников, социальная и религиозная маргинальность[489] которых только усиливает недоверчивое или презрительное отношение к этому виду деятельности. Такая же ситуация складывается в Праге в XVII веке, а также в мусульманских странах, где красильное ремесло считается не очень достойным делом, зачастую уготованным для евреев[490] или коренного населения завоеванных территорий, составлявшего меньшинство.
Ко всем этим социопрофессиональным дискриминациям, вероятно, также добавлялось и древнее представление о том, что всякая деятельность, связанная с нитями, тканью или одеждой, по сути своей является женской[491]. Для средневековых мужчин образ прядущей после изгнания из рая Евы исполнен смысла: это символ женского труда после грехопадения. Возможно, что для средневекового общества, в той или иной степени женоненавистнического, которое видит в женщине низшее и опасное существо, этот образ способствовал принижению ремесленных специальностей, связанных с текстилем. Согласно засвидетельствованной в каролингскую эпоху традиции, связанной с красильным делом, только женщины, ибо по природе своей они нечисты и все — немного колдуньи, умеют качественно окрашивать ткань; при этом считается, что мужчины не приспособлены к этому занятию либо что при их участии процессы окрашивания протекают неуспешно. Около 760 года в «Житии» святого Киарана, ирландского епископа VI века, рассказывается, что когда он был ребенком, мать выпроваживала его из дома всякий раз, когда собиралась покрасить ткань или одежду; из-за его присутствия окраска могла испортиться или не получиться, так как окрашивание — женское и только женское занятие[492]. Похожая традиция встречается в Черной Африке[493], где окрашивание также считается женским занятием; мужчины в этом не участвуют. Однако окраске могут навредить не только мужчины, но сами женщины — во время регул[494].
Лексика отчасти подтверждает то, что в европейских обществах длительное время сохранялось подозрительное или презрительное отношение к ремеслу красильщика. В классической латыни эта профессия обозначалась двумя словами: tinctor и infector. Оба слова сохранились в средневековой латыни, хотя второе стало использоваться реже, чем первое. Со временем слово infector — напрямую образованное от глагола inficere, «пропитывать, покрывать, красить» — приобретает пренебрежительный оттенок и начинает обозначать уже не мастера, а самый низший класс его работников — тех, кто чистит чаны и сливает гнилостную воду; затем это слово, став слишком уничижительным, вовсе исчезает из употребления. Сам глагол inficere означает уже не только «красить», но также «ухудшать, пачкать, портить»; а образованное от него страдательное причастие прошедшего времени, infectus, приобретает значение «зловонный, больной, заразный». Существительное infectio, которое в классической латыни означало всего лишь «окрашивавшие», отныне выражает такие понятия, как «пятно, грязь, зловоние», и даже «болезнь» (в первую очередь душевная, затем телесная). Христианские авторы, таким образом, имеют все основания для того, чтобы сблизить по звучанию данное гнездо слов со словами, образованными от infernum, «ад». Грязная и тошнотворная атмосфера, царящая в красильной мастерской (infectorium), присутствие чанов и котлов и происходящие в них таинственные операции — здесь есть все, чтобы превратить это место в преддверие ада.
Эти лексические изменения, подчеркивающие растущее неприятие красильного ремесла, оставили след и в романских языках. Во французском языке слово infecture появляется с XII века и означает одновременно «окраску» и «грязь». Его языковой дублет, infection, засвидетельствован в следующем веке с теми же значениями; это слово еще не употребляется в значении «болезнь», как в современную эпоху. Что касается прилагательного infect, самые ранние употребления которого относятся, видимо, к началу XIV века, то первоначально оно означает все, что имеет отталкивающий запах или вкус, затем приобретает значение «гнилой» и, наконец, «зловредный»[495].
Даже глагол teindre не был избавлен от этих перипетий. Уже в классической латыни обозначилась близость между tingere (красить), fingere (придавать форму, ваять, создавать) и pingere (писать красками)[496]. Употребление tingere в литургическом смысле Отцами Церкви повышает значимость и придает этому глаголу более возвышенное значение: он обозначает погружение в крестильную воду и, в широком смысле, сам акт крещения[497]. Но с феодальной эпохи пара tingere/fingere начинает переосмысляться в негативном ключе: fingere теперь означает не только «создавать» или «придавать форму» с помощью мастерства, но также «приукрашивать», «измышлять», «врать»; tingere, возможно, из-за звукового подобия, часто выражает то же самое: «подделывать», «маскировать», «обманывать». Сходство между этими двумя глаголами обнаруживается и во французском языке: teindre и feindre близки по значению и выражают идею мошенничества и лжи. Так, хроникеры XIV-XV веков используют выражение teindre sa couleur [красить своим цветом] в отношении того, кто притворяется, лжет, скрывает свои намерения или меняет свое мнение[498]. Цвет можно поменять, точно так же, как одежду или мнение; подобно словам, цвет скрывает, повторяется, иссякает.
В германских языках подобная игра слов затруднительна. Однако в английском языке созвучность глаголов to dye (красить) и to die (умирать) — написание которых до XVIII века часто совпадало — приводит к включению в семантическое поле первого из них вызывающих тревогу и ассоциации со смертью оттенков смысла. А пара французских глаголов teindre/feindre находит свое соответствие в английской паре to dye (красить)/tо lie (лгать). Краска снова лжет, обманывает и вводит в заблуждение.
Лексика, стало быть, подтверждает то, что выявляет изучение общественной иерархии и анализ архивных документов: в античных и средневековых системах ценностей красильное ремесло — это сомнительное занятие, которое, с одной стороны, связывается с грязью и нечистотой, а с другой — с мошенничеством и обманом. В этом, без сомнения, кроется причина того, почему нормативные акты с такой невероятной тщательностью диктуют принципы организации этого ремесла. В них подробнейшим образом оговариваются организация труда и этапы обучения для каждой категории красильщиков, нерабочие дни, расписание работы, расположение красильных мастерских в городе, число работников и учеников, время обучения, полномочия внутрицеховых смотрителей, — особое внимание также уделяется цветам и тканям, разрешенным и запрещенным красителям, протравам, которые следует применять, условиям обеспечения любыми необходимыми товарами, отношениям с другими ремесленными цехами или с красильщиками из соседних городов.
Безусловно, все эти уточнения, предписания и запреты часто встречаются в подобного рода нормативных актах, регламентирующих самые разные текстильные профессии вплоть до конца XVIII века. Во Франции они отразились даже в тетрадях жалоб 1789 года[499]. Однако нормы, регламентирующие ремесло красильщиков, видимо, издавались чаще и были более жесткими, нежели нормы для любого другого ремесла: подозрительную и опасную для здоровья деятельность красильщиков необходимо было контролировать самым тщательным образом. Анализ запретов особенно показателен. Он выявляет строжайшее разделение труда, существование узких специализаций, а также обнаруживает и раскрывает самое часто встречающееся мошенничество: когда за стойкую и долговечную окраску выдавалась окраска, обладающая совершенно противоположными свойствами, либо по причине недостаточного протравливания — для чего в XV веке существовало прелестное выражение “teindre en peinture” [красить краской] — либо, чаще, в результате махинаций с красящими веществами, когда вместо более дорогих красителей использовали дешевые (за что клиенты, однако, платили приличную цену): вместо кермеса — марену или рокцеллу[500] (красные тона); вместо вайды — различные ягоды (синие тона); вместо цервы или шафрана — дрок (желтые тона); вместо чернильного орешка — котельную сажу или корень ореха.
Такого рода мошенничества — явление столь частое, что в некоторых городах торговцы-суконщики сами снабжают красильщиков необходимыми красильными веществами[501]. В других — за качеством используемых красителей следят муниципальные власти, которые заверяют городской печатью ткани «красивой и добротной окраски»[502]. Повсюду за красильщиками устанавливают строгий контроль. Их мятежи — как мятеж чомпи во Флоренции в 1378 году, или как бунты синих ногтей в Лангедоке в 1381 году, во Фландрии и Нормандии годом позже, — всегда отличаются крайней жестокостью.
Иисус в мастерской красильщика
Было бы, однако, неверно полагать, что европейские красильщики, сознающие всю важность своей роли в производстве и торговле тканями, не пытались исправить этот негативный образ, навязанный предписаниями и традициями. Напротив, они всеми силами старались поднять престиж своей профессии. Начать хотя бы с выбора покровителей и заказа определенных иконографических сюжетов. Красильщики — люди, зачастую не бедные и неплохо организованные, объединенные в братства[503], — добились того, что их святым покровителем стал Маврикий — один из самых почитаемых святых на христианском Западе. Копт по происхождению, Маврикий, согласно преданию, был предводителем римского легиона, набранного в Верхнем Египте; однако, будучи христианином, он отказался приносить жертвы языческим богам и вместе со своими солдатами был казнен в Агаунуме, в нынешнем кантоне Вале (Швейцария), в конце III века в эпоху Максимиана. Несколькими веками позже на месте их мученической смерти, которое пробрело важное культовое значение, было основано большое бенедиктинское аббатство.
В Средние века Маврикий является одновременно покровителем и рыцарей, и красильщиков. Последние с гордостью об этом напоминают, в том числе через живопись, витражи, всевозможные представления и шествия и даже геральдику, отражающие историю их покровителя. В некоторых городах святой Маврикий изображен на гербах красильных цехов, а ремесленные уставы и постановления — например, парижские, составленные в XIV веке и по-прежнему действующие в середине XVII века — запрещают «красильным мастерам, вслед старым добрым и достойным похвалы обычаям, держать свои мастерские и лавки открытыми в праздничный день, посвященный святому Маврикию[504]». Этот праздник отмечается 22 сентября, в день, когда Маврикий и его соратники были казнены. Именно черный цвет кожи святого, цвет сияющий и несмываемый, подтолкнул красильщиков к тому, чтобы выбрать его в качестве своего святого покровителя; это произошло в XIII веке, а возможно, и раньше.
Впрочем, Маврикий, изображаемый и воображаемый, обязан цветом кожи не столько своему африканскому происхождению, сколько имени: для средневекового общества, которое ищет в словах истинную суть вещей и существ, переход от Mauritius к maurus (черный) неизбежен. Так Маврикий Египтянин с давних пор превратился в Маврикия Мавра[505].
Однако красильщики собираются не только под охранительной хоругвью святого Маврикия. Под хоругвь Христа они встают еще охотнее. В истории Спасителя они выбирают исключительно славный момент: момент преображения Христа, когда он является перед своими учениками — Петром, Иаковом и Иоанном. В сопровождении Моисея и Илии, он предстает перед ними уже не в земных одеждах, а во всей своей божественной славе: «и просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет[506]». Красильщики стремились представить эти цветовые трансформации как некое оправдание своей деятельности и они часто выбирали себе в качестве покровителя или заступника Христа Преображенного. Прославлять его они начали даже раньше, чем (в 1457 году) праздник Преображения был включен Римско-католической церковью в число общецерковных: с середины XIII века они заказывают заалтарные образы или витражи со сценами преображения Христа, одетого в белые одежды, с лицом желтого цвета[507].
Однако покровителем красильщиков становится не только Христос во славе. Иногда они обращаются к образу Иисуса- ребенка и на изображениях появляется эпизод из детства Спасителя, рассказанный в апокрифических евангелиях: его обучение у красильщика из Тивериады. Хотя этот эпизод зафиксирован в неканонических текстах, он легче поддается осмыслению и репрезентации, чем сцена Преображения, и более непосредственным образом связан с ремеслом красильщиков.
До нас дошло несколько версий этой истории на латыни и народных (особенно англо-нормандском) языках, восходящих к арабскому и армянскому Евангелиям детства[508]. Кроме того, с XII века эти версии давали материал для иконографических изображений на разнообразных носителях: это, разумеется, миниатюра, а также витражи, заалтарные образы, керамическая плитка[509]. Несмотря на существенные расхождения между разными версиями на латыни и народных языках, частично изданными, частично нет, все они строятся по одной и той же сюжетной схеме. Я вкратце изложу ее по нескольким латинским, уже опубликованным версиям, а также двум еще не изданным народным версиям[510].
Иисус в возрасте семи или восьми лет обучается у красильщика из Тивериады. Учитель, которого зовут либо Исраэль, либо Салем, показывает ему красильные чаны и рассказывает об особенностях каждого цвета. Потом дает ему несколько отрезов роскошной ткани, принесенных богатыми патрициями, и объясняет, как следует окрашивать в тот или иной цвет. Поручив ему эту работу, учитель отправляется в окрестные поселения, чтобы набрать новых тканей. В это время Иисус, которому не терпится вернуться к родителям, проигнорировав наставления красильщика, опускает все отрезы в один чан и идет домой. Это был чан с синей краской (согласно другим версиям, с черной или желтой). Когда красильщик возвращается, все ткани как одна окрашены в синий (или черный, или желтый). Вне себя от ярости он бежит к Марии с Иосифом, бранит Иисуса, объявляет себя разоренным и опозоренным. Тогда Иисус ему говорит: «Не расстраивайся, Учитель, я сделаю так, чтобы каждый отрез ткани приобрел нужный цвет». Он опускает ткани обратно в чан, а потом вынимает их одну за другой и каждая из них окрашена в тот цвет, какой хотел красильщик.
В некоторых версиях Иисусу даже не требуется повторно погружать ткани в чан, чтобы они приобрели нужный цвет. В других — чудо происходит на глазах у любопытствующей толпы, которая принимается славить Бога и признает в Иисусе его сына. В третьих, вероятно, самых древних, Иисус — не ученик красильщика, а просто хулиган. Мастерская находится рядом с домом его родителей: он тайком проникает в красильню вместе с товарищами по играм и, как будто решив сыграть злую шутку, погружает одежду и ткани, которые были приготовлены для окрашивания в различные цвета, в один красильный чан. Однако он тут же исправляет свой проступок и придает каждой ткани самый стойкий и самый красивый цвет, который только можно себе представить. Наконец, согласно еще одной версии, Иисус совершает свое злодеяние, когда приходит в мастерскую к тивериадскому красильщику вместе с матерью, и именно Мария просит его исправить совершенную глупость, так, будто уже знает о его способности творить чудеса.
Какую бы версию этой истории мы ни взяли, чудо, произошедшее в мастерской тивериадского красильщика, едва ли отличается от других чудес, совершенных Иисусом в детстве, как после бегства в Египет, так и после возвращения в Назарет[511]. В канонических евангелиях о них не говорится ни слова, однако апокрифические евангелия на этот счет не скупятся, заполняя пробелы, оставленные каноническими текстами, удовлетворяя любопытство верующих и поражая их воображение рассказами о mirabilia. Однако зачастую анекдот берет верх над притчей, и тогда извлечь из этих рассказов пастырское или богословское наставление становится непросто. Поэтому эти истории были рано исключены из канонического корпуса, а Отцы Церкви всегда относились к ним с крайним недоверием.
Смысл истории про Иисуса и красильщика из Тивериады можно толковать по-разному. Однако красильщикам важнее всего было напомнить, что в детстве Спаситель побывал в мастерской одного из их далеких предшественников. А значит, на долю тех, кто занимается этой несправедливо презираемой профессией, выпала огромная честь: ведь это ремесло дало маленькому Иисусу возможность сотворить чудо[512].
Средневековая иконография Иуды
Иуда — рыжий, как все предатели, и по-другому быть не может. Вот только рыжим он стал не сразу, а со временем — с конца каролингской эпохи на изображениях, а затем, с XII века, и в текстах. Так, примкнув к Каину, Далиле, Саулу, Ганелону, Мордреду и некоторым другим, он вошел в узкий круг знаменитых предателей и изменников, которых средневековая традиция привычно отмечала рыжей шевелюрой или бородой.
Предательство на Западе и впрямь с давних пор имеет свои цвета, или, вернее, свой цвет, который располагается между красным и желтым, от каждого из них заимствует отрицательные свойства и, объединяя их, не просто символически удваивает их силу, а как будто бы увеличивает ее в геометрической прогрессии. Эта помесь дурного красного с дурным желтым мало общего имеет с нашим оранжевым — к тому же последний цветовой оттенок и концепт был практически незнаком средневековому сознанию, в отличие от более темного и насыщенного тона: рыжего — цвета, связанного с бесами, лисами, лицемерием, обманом и предательством. В средневековом рыжем цвете всегда больше красного, чем желтого, и этот красный не сияет как алый цвет, наоборот — это тусклый и матовый оттенок, напоминающий пламя преисподней, которое горит, но не светит.
Ни в одном каноническом тексте Нового Завета и даже ни в одном библейском апокрифе о внешности Иуды ничего не говорится. Поэтому в раннехристианском, а затем раннесредневековом искусстве Иуда не обладает какими бы то ни было специфическими чертами или атрибутами. В изображениях Тайной вечери художники тем не менее старались выделить его на фоне других апостолов с помощью какого-нибудь отличительного признака — местоположения, роста, позы, особенностей волосяного покрова. Образ рыжеволосого Иуды появляется и получает распространение только в эпоху Карла Лысого, во второй половине IX века, сначала на миниатюрах, затем на изображениях другого типа (илл. 1 и 2); процесс этот шел постепенно. Данная иконографическая традиция, возникшая в прирейнских и мозанских областях, мало-помалу завоевывает значительную часть Западной Европы (однако в Италии и Испании она долгое время будет оставаться менее распространенной, чем в других странах). Затем, начиная с XIII века, рыжая шевелюра, часто в сочетании с рыжей бородой, становится в эмблематическом арсенале Иуды основным и самым распространенным атрибутивным признаком (илл. 3-5)[513].
Таких признаков, впрочем, предостаточно: маленький рост, низкий лоб, зверская или перекошенная гримаса, темная кожа, крючковатый нос, мясистые, черные (из-за предательского поцелуя) губы, отсутствие нимба или нимб опять-таки черного цвета (например, у Джотто[514]), желтый плащ, бессмысленные или, наоборот, наделенные тайным смыслом жесты, в руке краденая рыба или кошелек с тридцатью сребрениками, в рот лезут бес или жаба, у ног собака. Иуда, как и Христос, должен быть четко опознаваем. Каждая эпоха награждала его своим набором атрибутов, из которого всякий художник мог свободно выбирать именно те, что наилучшим образом соответствовали его иконографическим задачам, художественным целям или символическим замыслам[515]. Тем не менее начиная с середины XIII века один атрибут присутствует в изображениях почти всегда: рыжая шевелюра.
Иуда не единственный. В искусстве позднего Средневековья целый ряд предателей, изменников и мятежников подчас, или даже зачастую, имеют рыжие волосы. Например, Каин (илл. 6), который в системе типологических соответствий между символикой Ветхого и Нового заветов, почти всегда представляется прообразом Иуды[516]. Затем Ганелон, предатель из «Песни о Роланде», который из мести и зависти, без всяких колебаний отправляет Роланда (кстати, своего сородича) и его соратников на верную гибель[517]. Далее — Мордред, предатель из легенды о короле Артуре: сын короля Артура, родившийся от кровосмесительной связи, который предает отца, и это предательство влечет за собой крушение королевства Логрии и закат рыцарского мира Круглого стола. А еще мятежные бароны из эпических преданий или куртуазных романов[518]. Сенешали, прево и бальи, которые стремятся занять место своего сеньора. А также сыновья, восставшие против отцов, братья-клятвопреступники, дядья-узурпаторы, жены-прелюбодейки. И, наконец, — все те, кто в житийной литературе или народной традиции занимается бесчестным или запретным делом и тем самым нарушает установленный порядок: палачи, проститутки, ростовщики, менялы, фальшивомонетчики, жонглеры, шуты; к ним также следует добавить представителей трех низких профессий, ставших героями сказок и устных преданий: кузнецы, которые считаются колдунами; мельники, которые всегда представлены скупцами и спекулянтами; мясники, неизменно жестокие и кровожадные, как мясник из легенды о святом Николае[519].
Конечно, далеко не на всех изображениях XIII, XIV и XV веков, сохранившихся в количестве нескольких десятков тысяч, все эти персонажи обязательно рыжие. Однако рыжий цвет волос является одной из их самых заметных иконографических или идентификационных особенностей, так что постепенно рыжая шевелюра становится приметой и других категорий изгоев и отщепенцев: еретиков, евреев, мусульман, цыган, ханжей, прокаженных, калек, самоубийц, попрошаек, бродяг, нищих и всякого рода деклассированных персонажей. Рыжие волосы в изображениях соседствуют в таких случаях с вестиментарными атрибутами и знаками отличия красного или желтого цветов, которые начиная с XIII века в некоторых городах и областях Западной Европы на самом деле должны были носить представители этих слоев общества. Отныне рыжая шевелюра становится главнейшим иконографическим знаком отверженности или позора.
В конце Средних веков позорное клеймо рыжины вовсе не является чем-то новым. Напротив, на средневековом Западе этот символ был издавна известен и широко использовался. Восходит он, по всей видимости, сразу к трем источникам — библейской, греко-римской и германской традициям.
На самом деле, в Библии ни Каин, ни Иуда не обладают рыжей шевелюрой, зато рыжие волосы есть у других персонажей, и это, за одним исключением, в том или ином отношении персонажи отрицательные. Прежде всего это Исав, брат-близнец Иакова, про которого в книге Бытия говорится, что с самого рождения он был «рыжим и волосатым как медведь[520]». Грубый и безудержный Исав без раздумий продает брату право первородства за миску чечевицы и, несмотря на раскаяние, оказывается лишен отеческого и мессианского благословения и вынужден покинуть землю обетованную[521]. Затем Саул, первый царь Израиля; в конце своего правления он начинает испытывать к Давиду болезненную зависть, которая доводит его до безумия и самоубийства[522]. Наконец, Каиафа, первосвященник Иерусалимский, который возглавляет Синедрион во время суда над Иисусом; под стать ему рыжие драконы и кони Апокалипсиса, которые, как и он, являются созданиями Сатаны, врагами праведников и Агнца[523]. Исключение составляет сам Давид, о котором в книге Самуила [в Первой книге Царств] сказано: «рыжеволосый, статный и с ясным взором[524]». Здесь мы имеем дело с нарушением ценностной шкалы, которое имеет место в любой символической системе. Для того чтобы система функционировала эффективно, необходим регулирующий клапан, необходимо исключение. Давид как раз и является таким исключением, и в этом смысле он предвосхищает Иисуса. Действительно, начиная с XII века сходный феномен обнаруживается в христианской иконографии, когда Христа в некоторых случаях, в частности в сцене с арестом и поцелуем, изображают рыжеволосым, как Иуду {илл. 1-5). Это — инверсия системы, которая делает систему еще более эффективной, и одновременно способ демонстрации того, как в конечном итоге могут сблизиться максимально противопоставленные друг другу полюса. И — самое главное — это проявление осмоса, происходящего между жертвой и палачом, между Иисусом и Иудой через предательский поцелуй.
В греческой и римской традициях рыжие волосы также воспринимались отрицательно. Греческая мифология, к примеру, награждает рыжей шевелюрой Тифона, — чудовищное создание, мятежного сына Геи, восставшего против богов и особенно против Зевса. Диодор Сицилийский, греческий историк I века до нашей эры, рассказывает, как «некогда» Тифону, дабы смирить его гнев, приносили в жертву рыжеволосых людей. Легенда эта, возможно, пришла из Древнего Египта, где считалось, что Сет — бог, ассоциирующийся со злым началом, также был рыжим и, по словам Плутарха, ему в жертву приносили людей с волосами такого же цвета[525].
В Риме все не так кровожадно, однако и там рыжие были не на лучшем счету. Так, слово rufus[526], особенно в имперскую эпоху, является одновременно и прозвищем, обычно с оттенком насмешки, и одним из самых распространенных оскорблений. Как оскорбление это слово будут использовать на протяжении всего Средневековья, особенно в монастырской среде, где монахи в своей будничной жизни не стеснялись самым банальным образом обзывать друг друга rufus или subrufus[527] (что еще хуже)[528]. В римском театре рыжие волосы или рыжеватые крылышки, прикрепленные к маскам, указывали на рабов или шутов. Наконец, во всех трактатах по физиогномике — по большей части восходящих к одному тексту III века до нашей эры, который приписывается Аристотелю, — рыжие, по образу и подобию лисы, описываются как люди лживые, хитрые и жестокие. На Западе эта традиция просуществует в такого рода литературе практически до середины XIX века, а отдельные ее отголоски можно наблюдать до сих пор[529].
В германо-скандинавском мире, где рыжие встречаются относительно часто и можно было бы рассчитывать на то, что отношение к ним будет a priori более благожелательным, дело обстоит примерно так же. Тор, самый свирепый и страшный из богов, — рыжий; Локи, демон огня, воплощение разрушительного и злого начала, породивший самых ужасных чудовищ, — тоже рыжий. Представления германцев — как, впрочем, и кельтов — о рыжих волосах ничем не отличаются от представлений евреев, греков и римлян[530].
Средневековье, воспринявшее эту традицию из трех источников, лишь поддерживало ее и укрепляло. И все-таки своеобразие средневековой эпохи, на мой взгляд, состоит в том, что рыжий цвет постепенно приобрел специализацию, став цветом обмана и предательства. Конечно, на протяжении всего Средневековья, как и в Античности, рыжий по-прежнему значит жестокий, запятнанный кровью, уродливый, подчиненный или смешной; но с ходом времени рыжий цвет волос начинает говорить о человеке в первую очередь как о притворщике, хитреце, лжеце, обманщике, изменнике, предателе или отступнике. К уже упомянутым предателям и изменникам из литературы и иконографии следует добавить рыжих отрицательных персонажей из дидактических сочинений, энциклопедий, книг об этикете и особенно поговорок. Действительно, даже в Новое время существовало множество поговорок, как на латыни, так и на народных языках, которые учили остерегаться рыжих. Нет им «никакой веры», утверждается, к примеру, в одной популярной в XIV-XVI веках поговорке; в других также говорится, что не следует заводить среди них друзей, признавать в них своих родителей, давать им духовное звание, возводить их на трон[531]. С конца Средних веков не менее широко распространяются и такие суеверия, согласно которым встретить на своем пути рыжего — это дурная примета, а все рыжеволосые женщины в той или иной степени колдуньи[532]. Рыжий всегда и везде является кем-то вроде парии, даже несмотря на то, что в жизни, как и в Библии, существуют некоторые исключения из общей для всей средневековой Европы ценностной системы, исключения, которые действуют подобно регулирующему клапану. Среди таких исключений — Фридрих Барбаросса, который властвовал над Священной Римской империей с 1152 по 1190 год и имел при жизни множество врагов — его даже сравнивали с Антихристом — но зато после смерти стал персонажем эсхатологической легенды: он якобы спит где- то в горах Тюрингии, но перед концом света пробудится от сна, чтобы вернуть Германии ее былое величие[533]...
Историки, социологи, антропологи долгое время пытались объяснить такое неприятие рыжих в европейских традициях. С этой целью они выдвигали различные гипотезы, в том числе и весьма сомнительные: как, например, те, что апеллируют к биологии и объясняют рыжий оттенок волос и кожи нарушением пигментации, связанным с некой формой генетического или этнического вырождения. Что такое этническое вырождение? Или даже генетическое? Такие лженаучные и, несомненно, опасные объяснения оставляют историка и антрополога в недоумении[534]. С их точки зрения неприятие рыжего цвета и всего, что с этим связано, имеет под собой основание культурного и иерархического порядка: во всяком обществе, в том числе у кельтов и скандинавов[535], рыжий — это прежде всего тот, кто не похож на других, кто представляет отклонение от нормы[536], кто принадлежит к меньшинству, а следовательно, нарушает порядок, вызывает тревогу или негодование. Рыжий значит другой, непохожий, отверженный, исключенный. Нет никакой необходимости привлекать маловероятный и опасный тезис об «этническом вырождении» для того, чтобы уяснить причины и мотивы этого явления, жертвами которого в долговременной перспективе стали рыжеволосые мужчины и женщины Европы.
Речь идет в первую очередь о социальной семиотике: рыжий является в полной мере рыжим только с точки зрения окружающих и только в той степени, в какой он противопоставлен брюнету или блондину. Но в рамках средневековой культуры речь также идет и о цветовой символике. Рыжий — это не просто цветовой тон; со временем рыжий практически превратился в отдельный цвет, цвет девальвированный, «самый уродливый из всех цветов», как заявляет автор составленного в первой половине XV века геральдического трактата[537], по мнению которого, в рыжем соединились все негативные характеристики красного и желтого.
На самом деле все цвета могут быть истолкованы как положительно, так и отрицательно[538]. Даже красный цвет не является исключением из этого правила, хотя на Западе очень долгое время, с древнейших времен и до XVI века, он был главнейшим из всех цветов, цветом par excellence. Существует хороший и плохой красный — точно так же, как существуют хороший и плохой черный, хороший и плохой зеленый и т. д. В Средние века плохой красный является противоположностью божественного и христологического белого и напрямую отсылает к дьяволу и преисподней. Это цвет адского пламени и лица сатаны. Если до XII века тело и голова князя тьмы на изображениях могли быть разных, обычно темных цветов, то после этого времени он все чаще изображается с алыми волосами и красным лицом. В широком смысле, все существа с красной головой или волосами считаются в той или иной степени дьявольскими (начиная с лиса, который даже является образом Лукавого), а все, кто эмблематизирует себя с помощью красного цвета, в той или иной мере имеют отношение к преисподней. Как, например, многочисленные алые рыцари из артуровских романов XII—XIII веков, то есть рыцари в красной одежде, в красных доспехах и с красными гербами, которые встают на пути героя, чтобы бросить ему вызов или убить: они всегда движимы дурными намерениями и готовы к кровопролитию, а некоторые из них являются выходцами из потустороннего мира. Самый известный среди них — рыцарь Мелеагант, сын короля и при этом предатель, который в романе Кретьена де Труа «Рыцарь телеги» похищает королеву Гвиневеру.
Данные антропонимики и топонимики подтверждают отрицательный смысл красного цвета. Места, в названия которых входит слово «красный», часто считаются опасными, особенно в литературной или воображаемой топонимике. Что касается прозвищ «Красный» или «Рыжий», то они встречаются довольно часто и почти всегда имеют уничижительный оттенок: иногда они применяются к рыжеволосым или краснолицым людям; иногда напоминают о присутствии в одежде человека позорной метки соответствующего цвета (у палачей, мясников, проституток); иногда — и это характерно для литературной антропонимики — подчеркивают кровожадность, жестокость или дьявольскую природу того, кто носит эти цвета[539].
Во многих отношениях этот «плохой» красный цвет как раз и был в средневековом восприятии цветом рыжего апостола-изменника Иуды, из-за предательства которого пролилась кровь Христова. В Германии в позднем Средневековье была распространена игра слов, построенная на этимологическом возведении прозвища Искариот, Iskariot («человек из Кариота») к ist gar rot: это означало, что он «является совершенно красным». Но красный — не единственный цвет Иуды; другим его цветом является желтый: это цвет его одежды, в котором он все чаще и чаще появляется на изображениях с конца XII века (илл. 5). Ведь быть рыжим значит сочетать кровавый и инфернальный красный (то есть связанный с дурной кровью и дурным пламенем) со лживым и вероломным желтым. Столетие за столетием желтый цвет продолжал сдавать позиции в европейских цветовых системах. Хотя в Риме желтый цвет все еще был одним из самых популярных и даже считался сакральным, играя важную роль в религиозных обрядах, он постепенно был вытеснен на периферию и затем отвергнут. Как показывают опросы, посвященные теме цветовых предпочтений, желтый до сих пор является нелюбимым цветом; именно он всегда оказывается на последнем месте среди шести базовых цветов: синий, зеленый, красный, белый, черный, желтый[540]. Неприятие этого цвета восходит к Средневековью. Девальвация желтого цвета засвидетельствована уже в XIII веке, когда в многочисленных литературных и энциклопедических текстах он уже представлен как цвет лицемерия и лжи и когда он мало-помалу становится цветом евреев и иудейской общины. Начиная с 1220-1250-х годов христианская изобразительная традиция периодически использует его в этом качестве: отныне еврей — это персонаж, одетый в желтое либо имеющий желтую метку на одном из предметов одежды: на платье, плаще, поясе, рукавах, перчатках, штанах и особенно на головном уборе[541]. Со временем этот обычай из разряда изображаемых и воображаемых переходит в разряд реально существующих: так, в некоторых городах Лангедока, Кастилии, северной Италии и долины Рейна предписания, касающиеся одежды, обязывают членов еврейских общин использовать отличительные знаки, в которых часто присутствует желтый цвет[542]. Желтая звезда отчасти восходит именно к этим обычаям, однако ее подробная история пока еще не написана.
Несмотря на обширную библиографию, знаки и метки, вмененные евреям в средневековых обществах, пока еще изучены плохо. В противоположность поспешным выводам, к которым пришли некоторые авторы[543], в христианском мире не было единой системы, до XIV века не существовало даже устойчивых обычаев в отдельно взятой стране или области. Конечно, желтый цвет — в изображениях традиционно ассоциирующийся с синагогой — становится с этого периода самым распространенным[544]. Однако долгое время городские и королевские власти также предписывают ношение одноцветных знаков — красных, белых, зеленых, черных; либо двуцветных — рассеченных, пересеченных или четверочастных и сочетающих желтый и красный, желтый и зеленый, красный и белый, белый и черный цвета. До XVI века цветовые сочетания столь же многочисленны, как и форма знака: это может быть кружок — самый частый случай, — кольцо, звезда, фигура в виде скрижалей или же обычная повязка, колпак и даже крест. Если это знак, который нашивают на одежду, то носить его могут и на плече, и на груди, и на спине, и на чепце или колпаке, иногда сразу на нескольких местах. Здесь также нет общих правил[545]. В качестве одного из самых ранних примеров приведем в переводе на современный французский язык текст указа Людовика Святого 1269 года, который предписывает всем евреям французского королевства носить кружок желтого цвета:
Так как мы желаем, чтобы евреев можно было распознать и отличить от христиан, мы повелеваем обязать всех евреев, и мужчин, и женщин, носить знаки отличия: а именно колесо из войлока или сукна желтого цвета, нашитое на верхнюю часть одежды на уровне груди и на спине как опознавательный знак. В поперечине колесо это пусть будет шириною в четыре пальца, и такого размера, чтобы на нем умещалась ладонь. Если по введении сего распорядка еврея увидят без этого знака, то верхняя часть его одежды будет принадлежать тому, кто застанет его в таком виде[546].
Возможно, неумеренное использование золота и позолоты во всех сферах художественного творчества и, стало быть, в большинстве эмблематических и символических систем способствовало тому, что желтый в конце Средневековья приобретает репутацию дурного цвета — в каковом качестве и применяется. Золото одновременно является материей и светом; в нем в наивысшей степени проявлены такие качества цвета, как яркость и насыщенность, которые пользовались особым спросом в позднем Средневековье. Тем самым золото со временем начинает выполнять функцию «хорошего желтого», а все другие оттенки желтого утрачивают ценность. Это касается не только желтого, тяготеющего к красному, похожего на рыжий цвет волос Иуды, но и желтого с оттенком зеленого, который мы сегодня называем «лимонно-желтым». Желто-зеленый, а вернее говоря, сочетание или сопоставление желтого и зеленого — двух цветов, которые никогда не сближались в средневековых цветовых классификациях, — в средневековом восприятии, видимо, представляло собой нечто агрессивное, сумбурное, тревожное. В сочетании друг с другом эти цвета ассоциируются с нарушением порядка, сумасшествием, расстройством чувств и рассудка. Они появляются в костюмах придворных шутов и буффонов, в одежде безумца из книги Псалмов и прежде всего в одежде Иуды, желтый плащ которого в XIV-XVI веках часто сочетается с другим предметом одежды зеленого цвета.
Однако быть рыжим значит не только соединять в себе негативные качества двух цветов — красного и желтого. Быть рыжим значит иметь кожу, усеянную веснушками, быть пятнистым, а следовательно, нечистым, и в какой-то мере воплощать в себе животное начало. Пятнистое вызывает у средневекового человека отвращение. В его восприятии красивое значит чистое, а чистое значит однородное. Рисунок в полоску всегда имеет уничижительное значение (точно так же, как и крайнее проявление этой структуры — шахматная клетка)[547], а пятнистое выглядит особенно вызывающе. В мире, где люди часто болеют различными тяжелыми и опасными кожными заболеваниями и, если их коснулось самое страшное из них — проказа, — оказываются исключены из общества, такое восприятие вовсе не удивительно. Для средневекового человека пятна — это всегда нечто загадочное, нечистое и постыдное. Из-за веснушек рыжий воспринимается как больной, опасный, почти неприкасаемый. К этой — конспецифичной — нечистоте добавляются еще и животные коннотации, потому что у рыжего не только волосы как шерсть у обманщицы-лисы или похотливой белки[548], он еще и покрыт пятнами, как самые свирепые животные: леопард, дракон, тигр — трое грозных противников льва[549]. Рыжий не только лжив и хитер, как лис, но к тому же еще и свиреп и кровожаден, как леопард. Поэтому за ним закрепилась репутация людоеда: в этом качестве он иногда предстает в фольклоре и устной традиции вплоть до середины XVIII века.
Религиозные изображения позднего Средневековья, особенно в рукописях, подвергались строгому контролю. С тех пор как искусство миниатюры частично перешло в руки мирян, возросла опасность менее единообразного или слишком свободного кодирования изображений, а вместе с тем — и риск смысловых сдвигов или вчитывания смыслов. Отсюда — строгая регламентация выбора изображаемых сцен и их проработки. А также всякого рода избыточность в изображении персонажей. Десятилетие за десятилетием изображения становились все более и более акцентированными, особенно если речь идет об отрицательных персонажах. Предатель должен безошибочно считываться как предатель. Поэтому следует умножать признаки и атрибуты, которые помогают опознать его как такового.
Образ Иуды в данном случае показателен. С начала XIV века рыжей шевелюры оказывается недостаточно, зверской гримасы — мало, «гнусной рожи преступника» — тоже. Теперь знаки отличия, которыми прежде была маркирована голова, заменяются и подкрепляются другими знаками — на теле и одежде. Отсюда избыток специфических атрибутов и черт, о которых речь шла в самом начале. Одна из таких черт связана с жестикуляцией, а именно — с леворукостью, которая все чаще и чаще встречается в эмблематическом арсенале апостола-предателя. Иуда постепенно превращается в левшу! Теперь кошелек с тридцатью сребрениками он берет (и отдает) именно левой рукой; левой рукой он держит за спиной украденную рыбу, на Тайной вечере левой рукой подносит ко рту кусок хлеба, указывающий на него, как на предателя, а затем, когда наступает раскаяние, ей же закрепляет веревку, чтобы повеситься. Конечно, Иуда не всегда рыжий и не всегда левша. Однако эта особенность встречается достаточно часто — особенно на фламандских и немецких изображениях, — чтобы привлечь к себе внимание. Тем более что в средневековой изобразительной традиции персонажи-левши — весьма редкое явление.
Когда-то я занялся составлением корпуса изображений, на которых фигурируют левши; мое начинание было продолжено Пьером-Мишелем Бертраном, чьи недавние работы по истории левшей теперь общепризнанны[550]. Пусть в количественном от-ношении урожай подобных изображений скуден, зато он показателен в качественном отношении. Все левши в средневековой иконографии — в том или ином смысле персонажи отрицательные. Будь то герои первого плана, будь то третьестепенные статисты, занятые каким-нибудь бесчестным или предосудительным делом, которых художник размещает на краю изображения или в глубине сцены. Среди них попадаются некоторые из упомянутых выше изгоев и отверженных, в частности мясники, палачи, жонглеры, менялы и проститутки. Но главным образом левши в средневековой изобразительной традиции встречаются среди нехристиан (язычников, евреев, мусульман) и в мире преисподней (Сатана, демонические создания): здесь властители и предводители командуют и повелевают левой рукой, рукой злой и губительной; а солдаты и прислужники левой рукой исполняют их приказания. Мир зла — в какой-то степени — является миром левшей.
Нет необходимости останавливаться здесь на уничижительном значении левой руки. В исследованиях, подтверждающих существование этой традиции в большинстве культур, и в том числе, конечно же, в культурах европейских, недостатка не наблюдается[551]. Средневековье наследует ее из трех источников, о которых упоминалось выше: Библии, греко-римской и германской культур[552]. В Библии, в частности, неоднократно подчеркивается превосходство правой руки[553], правой стороны, места справа и, наоборот, неправильность или порочность всего, что находится по левую сторону. В этом отношении один фрагмент из Евангелия от Матфея служил особенно ярким примером для людей Средневековья. А именно последняя речь Иисуса, произнесенная перед его страстями, речь эсхатологическая, предвещающая возвращение Сына человеческого:
... и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов — по левую. [...] Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его [...][554].
В средневековой христианской культуре левая рука — это рука врагов Христовых. Поэтому на некоторых изображениях ей пользуются судьи Христа (Каиафа, Пилат, Ирод) или палачи: те, кто его связывает, бичует, прибивает к кресту, продолжает его истязать, когда он уже распят. А так как левая рука также является рукой Сатаны и его отродий, то предатели, еретики и неверные совершают ей свои злодеяния. В число таковых, разумеется, входит и целая вереница рыжих изменников, о которых уже упоминалось ранее: Каин, Далила, Саул, Ганелон, Мордред.
Для них, так же как и для Иуды, принятых эмблематических атрибутов становится недостаточно — и в XIV-XV веках их порочность проявляется еще и в жестах. Так, Каин (илл. 6) убивает Авеля левой рукой (обычно заступом или ослиной челюстью); Далила левой рукой отстригает волосы Самсону; Саул убивает себя копьем или мечом, держа их в левой руке; Ганелон и Мордред (один — предатель из эпической литературы, другой — из артуровского романа) иногда сражаются левой рукой.
Конечно, эти четверо персонажей, так же как Иуда, — не всегда левши. Однако можно заметить: если они левши, то они одновременно и рыжие. Точно так же, начиная с середины XIV века, рыжими становятся палачи, вероломные рыцари и свирепые персонажи, орудующие левой рукой. И хотя не все рыжие в западной изобразительной традиции — левши, зато все, или почти все левши с этих пор и на несколько десятилетий вперед становятся рыжими.
От идентичности индивидуальной к идентичности семейной
В первой половине XII века в Западной Европе практически повсеместно, но главным образом в областях, расположенных между Луарой и Рейном, возникает новая эмблематическая система, которой суждено коренным образом трансформировать все эмблематические и символические практики средневекового общества, — геральдика. Этот новый жанр, а также код, который обеспечивает его функционирование — герб как таковой, — дали рождение системам и обычаям, которые выходят далеко за рамки собственно геральдики. На протяжении нескольких веков все визуальные знаки, имеющие отношение к идентичности, родству, цвету и образным рядам и в самом деле испытывали большее или меньшее влияние гербов. Впрочем, это влияние ощущается до сих пор: например, литургические цвета, национальные флаги, военные и гражданские знаки отличия и различия, майки спортсменов и дорожные знаки в значительной степени восходят к системе средневековой геральдики. Что же касается гербов, то они по-прежнему существуют и, несмотря на конкуренцию со стороны новых эмблем, вовсе не собираются сходить со сцены ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем.
Появление гербов — это социальное явление огромной значимости. С конца Средневековья и вплоть до наших дней выдвигались многочисленные гипотезы, которые объясняют их возникновение, вскрывают его причины и намечают временные рамки. Иезуит отец Клод-Франсуа Менестрие (1631-1705) — наверное, лучший в дореволюционной Франции специалист по геральдике — перечисляет около двадцати таких гипотез в своем труде «Истинное искусство геральдики и происхождение гербов», опубликованном в 1671 году[555]. Некоторые гипотезы, которые сегодня кажутся нам совершенно неправдоподобными, например, те, что приписывают изобретение гербов Адаму, Ною, царю Давиду, Александру Македонскому, Цезарю или королю Артуру, были давно отброшены, по большей части в конце XVI века. Другие — те, что опирались на более основательные аргументы, — просуществовали дольше, но доверие к ним постепенно было подорвано благодаря работам специалистов по геральдике конца XIX — начала XX веков. На сегодняшний день отвергнуты три гипотезы, которые долгое время пользовались поддержкой ученых. В первую очередь это идея, которой придерживались средневековые авторы и авторы XVI века: о прямой преемственности между древнегреческими и древнеримскими (воинскими и семейными) эмблемами, с одной стороны, и первыми гербами XII века — с другой. Затем — объяснение, выдвигаемое рядом немецких геральдистов, которые считали, что на формирование геральдической системы особое влияние оказали руны, варварские воинские знаки отличия и германо-скандинавская эмблематика первого тысячелетия[556]. И, наконец, теория, которая оказалась самой долговечной: теория о восточном происхождении геральдики, основанная на идее заимствования западными народами мусульманского (или даже византийского) обычая во время первого крестового похода. Именно эта теория долгое время была доминирующей, однако некоторые ученые, такие, как М. Ирине и Л.А. Мейер, почти столетие тому назад доказали, что усвоение исламскими странами и Византией эмблем или знаков отличия, более или менее напоминающих гербы, произошло спустя два с лишним столетия после того, как гербы появились в Западной Европе[557].
Сегодня историки окончательно пришли к выводу, что возникновение гербов не имеет никакого отношения ни к крестовым походам, ни к Востоку, ни к варварским нашествиям, ни к рунам, ни к греко-римской античности, и что связано оно, с одной стороны, с изменениями, затронувшими западное общество после 1000 года, а с другой — с эволюцией воинского снаряжения с конца XI до середины XII веков[558]. Рассмотрим сначала аспект, связанный с воинским снаряжением. Западные воины, которые стали практически неопознаваемы в лицо из-за кольчужного капюшона (закрывающего подбородок) и шлемов с наносниками (спускающимися на лицо) (илл. 9 и 10), с 1080-1120-х годов постепенно (именно постепенно) начинают изображать на обширной плоской поверхности своих щитов геометрические, зооморфные или цветочные фигуры, которые во время сражения служат им в качестве опознавательных знаков. Задача в том, чтобы выяснить происхождение этих фигур, установить точные хронологические рамки их превращения в настоящие гербы — учитывая, что о гербах мы можем говорить только с того момента, когда использование этих фигур конкретным лицом происходит на постоянной основе и когда их репрезентация начинает регулироваться простейшими правилами — а затем установить, каким образом эти гербы постепенно становятся фамильными и наследственными.
Вопрос о правилах является, наверное, основным. Действительно, если мы с легкостью можем объяснить тот факт, что воины прибегали к изображению эмблем на больших щитах, необходимостью распознавать друг друга на войне и на турнире (причем на турнире, без сомнения, чаще, чем на войне), если мы также понимаем, что они осознали практическое удобство использования этих эмблем в течение длительного времени и даже в течение всей жизни, даже если мы можем понять, что ввиду изменений феодальной системы и эволюции семейных структур созданные таким образом эмблемы постепенно приобрели наследственный характер, мы все же едва ли способны объяснить, каким образом с самого начала были установлены правила, кодифицирующие их репрезентацию и организующие их функционирование. А ведь именно эти правила отличают европейскую геральдику от всех прочих эмблематических систем, как предшествующих, так и более поздних, как воинских, так и гражданских, как индивидуальных, так и коллективных.
Поскольку исчерпывающий и обстоятельный анализ источников не был проделан, выдвигаемые в настоящее время идеи по поводу возникновения гербов в первой половине XII века могут быть лишь гипотезами. Я изложу их вкратце[559]. Гербы появились не ex nihilo, а в результате слияния различных эмблематических элементов и практик предшествующей традиции в единую систему. Эти элементы весьма многообразны; основные заимствуются с изображений на знаменах, печатях, монетах и щитах. Знамена (я использую этот термин в широком смысле, подразумевая под ним все разновидности vexilla) и — шире — ткани вообще снабдили геральдику цветами и их сочетаниями, некоторыми геометрическими формами (геральдическими фигурами, принципами деления полей и их заполнения — например, «усеиванием»), а также определили тот факт, что значительная часть ранних гербов была связана не с семьями, а с фьефами. Из печатей и монет, напротив, заимствуется ряд эмблематических фигур (животных, растений, предметов), которые используются некоторыми знатными родами уже в XI веке и даже с более раннего времени; отсюда же происходит и наследственный характер этих фигур, а также частое применение «говорящих» эмблем, то есть фигур, название которых перекликается с именем владельца герба: bar, рыба-усач, — у графов Бара; boules, шары («кружки» в терминах геральдики) — у графов Булонских; Falke, сокол, — у владетельного семейства Фалькенштейн. Наконец, от боевых щитов происходят: привычная треугольная форма геральдического щита, использование мехов (беличьего и горностаевого), а также ряд геометрических фигур (правая перевязь, крест, глава, пояс, кайма), унаследованных от самой структуры этих щитов[560].
Коктейль этот возник не в одно мгновение; в разных областях Западной Европы он смешивался с разной скоростью и в разных пропорциях. Значимость каждого конкретного заимствования могла варьироваться в зависимости от региона. Тем не менее, по всей видимости, именно знамена и ткани вообще сыграли наиболее значимую роль — как в том, что касается заимствования цветов и фигур, так и в отношении терминологии и принципов организации элементов. Просто поразительно, какое количество терминов французской геральдики было заимствовано из словаря описания тканей: обиходная лексика средневековой геральдики состоит из них, несомненно, более чем наполовину. Это исключительно богатое поле для исследования, которое следовало бы освоить, проанализировав не только литературные и повествовательные тексты, но также специальные трактаты, профессиональные предписания и энциклопедии XII-XIII веков[561].
Основные компоненты этого коктейля, состоящего из уже готовых элементов, смешанных в единую систему, более или менее известны, остается выяснить, в какой момент в действительности возникают гербы как результат такого смешения. Или, точнее, с какого момента воины начинают постоянно носить на щите (а также иногда на гонфалоне[562], куртке-налатнике, конской попоне) одни и те же фигуры и цвета, для того чтобы их могли опознать на поле боя или на турнире. Над этим вопросом специалисты по геральдике бьются уже больше века. Их ошибка, вероятно, состоит в том, что они хотят ответить на этот вопрос с максимальной точностью, в то время как источники дают нам только ориентиры, позволяющие всего-навсего установить хронологическую вилку с разбросом примерно в сорок лет.
Ковер из Байё является для нас надежным terminus a quo[563]. Сегодня нам известно, что он был создан примерно в 1080-х годах, возможно, на юге Англии, по заказу епископа Байё Одона, сводного брата короля Вильгельма[564]. Однако очевидно, что изображения, которые украшают щиты, представленные на ковре (кресты, косые кресты, драконы, кайма, усеянные поля), еще не являются настоящими гербами: с одной стороны, у некоторых воинов из разных армий одинаковые щиты; с другой — один и тот же персонаж, фигурирующий в нескольких сценах (например, Евстахий II, граф Булони), каждый раз изображается с новым щитом. Напротив, фигуры на щите Жоффруа Плантагенета, графа Анжу и герцога Нормандии, со знаменитого изображения на его надгробной плите, выполненной в технике эмали и хранящейся в музее Тессе в Ле-Мане, уже представляют собой настоящий герб (илл. 22). Однако датировка этой эмали — вопрос спорный и деликатный[565]. Жоффруа умер в 1151 году. Надгробная плита была заказана его вдовой Матильдой, но не в 1151-1152 годах, как считалось ранее[566], а скорее около 1160 года[567]. Долгое время специалисты по геральдике придерживались мнения, что этот герб — лазурное поле, усеянное золотыми львятами,[568] — является самым древним из известных. Он был якобы пожалован Жоффруа его тестем, королем Англии Генрихом I, во время празднеств в честь посвящения его в рыцари в 1127 году. Некоторые ученые, из числа наиболее компетентных, считают эту дату годом рождения геральдики[569]. На мой взгляд, это утверждение и бесполезно, и ошибочно. Рождение геральдики является не только социальным феноменом всеобщего масштаба, который невозможно датировать с такой точностью, ибо этот процесс растягивается на десятилетия; но, кроме того, герб Жоффруа Плантагенета известен нам по источникам, появившимся после его смерти: с одной стороны, по надгробной плите, с другой — по фрагменту хроники монаха из Мармутье Жана Рапико, который рассказывает о празднествах в честь рыцарского посвящения Жоффруа в 1127 году и о вручении ему Генрихом I «щита, украшенного золотыми львятами, который повесили ему на шею[570]». Эта хроника была написана Жаном Рапико в 1175-1180-х годах, то есть спустя примерно полвека после описываемых событий. Кроме того, на единственном сохранившемся оттиске печати Жоффруа, привешенном к документу 1149 года, никакого герба нет и в помине[571].
Хотя печати снабжают нас самыми обильными и точными сведениями, такой социальный феномен, как появление гербов, нельзя изучить, опираясь на источники только одного типа[572]. Кроме того, важно четко отделять вопросы технического и иконографического порядка (украшение щитов, набор используемых фигур, возникновение правил композиции и геральдического «стиля») от вопросов общественно-юридического характера (кто имеет право на ношение герба в XII веке, связь гербов с фьефами либо же с семьями, постепенное установление принципа их наследования после того, как свежеизобретенная геральдика начала увязываться с системами родства).
С хронологической точки зрения, рождение гербов происходило в три стадии и растянулось на жизнь пяти или шести поколений: это стадия зарождения (с начала XI века по 1120-1230-е годы); стадия появления (ок. 1120-1130/ок. 1160-1170); и стадия распространения (ок. 1170/ок. 1230). Средняя стадия, которую мы рассматриваем в этой главе, сегодня наиболее изучена, несмотря на то, что некоторые вопросы остаются спорными. Как ни странно, но стадия распространения является для историка самой загадочной. Что в действительности происходит между серединой XII века, когда ряд наследных правителей и феодалов начинают использовать гербы, и 1220-1230-ми годами, когда гербами обзаводятся уже вся западная знать и некоторые люди незнатного происхождения, нам известно плохо. Можно заметить, что в этот период некоторые гербы только зарождаются, а некоторые уже вполне устойчивы, что одновременно существуют личные гербы и гербы отдельных групп, семейные гербы и гербы феодальные, воинские и гражданские. Также можно заметить, что один и тот же человек может иметь сразу несколько различных гербов или что в одной семье отец и сын либо два брата могут использовать непохожие гербы.
Что касается стадии зарождения, то анализ прежде всего показывает, что первые гербы появились на свет в обстановке бурного развития эмблематических систем. Западное общество конца XI века — это общество уже в значительной степени эмблематизированное, как о том свидетельствует такой незаурядный документ эпохи, как ковер из Байё. Внимательный анализ позволяет выделить около десятка различных знаковых систем, которые служат для обозначения личности, социального статуса, ранга, титула, рода деятельности и даже этнической принадлежности (так, бритый затылок отличает нормандцев от саксонцев) многих персонажей и групп персонажей, представленных на ковре. Проблема в том, чтобы связать эти знаковые системы с геральдической системой, которая сформируется несколькими десятилетиями позже. Возможно, лучшее, что можно сделать в данном случае, — это вернуться в прошлое, но не к тысячному году, а в начало XIII века. В это время внутри некоторых влиятельных семейных групп все ветви — включая те, что отделились от старшей ветви до возникновения гербов — имеют сходные гербы. С чем мы в данном случае имеем дело? С намеренным выбором, сделанным для того, чтобы подчеркнуть сплоченность большой семейной группы? Или с передачей на протяжении пяти, шести, а то и семи поколений древней семейной эмблемы, возникшей задолго до этих гербов? Анализ заставляет полагать, что и то, и другое было возможно как во Франции и в Англии, так и в германских княжествах[573]. Анализ также выявляет, что наряду с догеральдическими семейными эмблемами существовали феодальные или территориальные эмблемы, которые транслировались через различные носители (ткани и vexilla[574], монеты, печати) с конца каролингской эпохи и до начала XIII века, когда они смешались с семейными эмблемами в общем коктейле окончательно оформившейся геральдики.
Ранняя геральдика представляет собой результат сведения в единую систему — одновременно социальную и формально-знаковую — трех предшествующих эмблематических кодов: индивидуального, семейного и феодального. Сформированная таким образом система была выработана безо всякого влияния Церкви, о чем в полной мере свидетельствует использование народного языка в качестве языка описания гербов с самого момента их появления. Эта система связана не только с собственно воинским контекстом, но и с явлением более широкого масштаба, затронувшим весь XII век и распространившимся на всех индивидов и все социальные группы: поиском, утверждением и демонстрацией своей идентичности. Это последнее обстоятельство является основополагающим. Изменения в воинском снаряжении, безусловно, были материальным основанием для постепенного появления гербов на поле боя и турнирной площадке. Но существуют другие, более глубокие причины, обусловившие их появление и сделавшие гербы важным социальным явлением.
Рождение гербов, на самом деле, — вовсе не обособленное событие. Оно стоит в длинном ряду перемен, которые около двух столетий подряд потрясали западное общество. Развал каролингской империи и последовавшие за этим раздоры привели к установлению нового общественного устройства, которое прежде называли феодальным и которое теперь историки предпочитают называть сеньориальным. Этот новый сеньориальный порядок характеризуется «оклеточиванием»[575] всех социальных групп и сословий. Каждый индивид — знатный или простолюдин, клирик или мирянин, селянин или горожанин — отныне входит в свою группу, а та — в более широкую группу. Общество таким образом начинает напоминать клеточную мозаику, где одни клетки вписаны в другие. Гербы, на мой взгляд, стали порождением этих новых социальных структур. Новым структурам должны соответствовать новые формы социального маркирования: нужно уметь идентифицировать, распознавать друг друга, представлять себя другим. Прежних систем идентификации либо недостаточно, либо они для этих целей уже не подходят, так как аппелируют к тому общественному порядку, которого больше нет. Значит, нужно создавать новые. Гербы как раз и являются одной из таких новых форм социального маркирования, а геральдика — одной из таких новых систем. Но есть и другие формы и системы, современные и родственные недавно появившейся на свет геральдике.
Например, система патронимических имен, которая в значительной части Западной Европы появляется в то же самое время, что и первые гербы, и распространяется примерно с той же скоростью, по крайней мере среди знати. С конца XII века назначение и гербов, и системы патронимических имен состоит в том, чтобы определять место индивида в малой семье и место малой семьи в более широкой семейной группе[576]. Тут же следует упомянуть и об одежде, которая на рубеже XI-XII веков претерпевает ряд изменений, иногда к великому возмущению священнослужителей и моралистов[577]. Мужская светская одежда, в частности, становится длиннее, появляются новые фасоны и цвета, добавляются украшения и аксессуары, которые до тех пор были характерны только для женской одежды. Тем самым она все более играет классификационную роль, позволяя с первого взгляда определять, с кем имеешь дело. Что касается монашеской одежды, то она образует систему настоящих знаков различия, основанную прежде всего на цвете. Спор между клюнийцами — черными монахами — и цистерцианцами — белыми монахами — в 1120— 1145-х годах прекрасно демонстрирует эту непривычную «геральдизацию» монашеского костюма[578]. Отныне монаха, так же как и рыцаря, делает цвет.
И наконец, еще одна такая система — иконографические атрибуты, количество которых в изображениях имеет тенденцию к увеличению. Разумеется, они существовали с давних пор, однако в период между 1100-ми годами и серединой XIII века число их возрастает и наделяются ими уже не только носители власти, божественные персонажи и некоторые особо почитаемые святые, но все представители общества, которых только можно встретить на изображениях. Мелкие должностные лица и вершители правосудия, оруженосцы и слуги, мастера и ремесленники, простые кюре, скромные настоятели, местные святые, библейские персонажи и литературные герои второго плана — все наделяются знаками отличия. В иконографическом мире, как и в мире реальных людей, каждый должен отныне занимать свое место и быть безошибочно узнаваем.
Так, в течение XII века повсюду распространяются новые знаки, назначение которых состоит не только в том, чтобы указывать на личность индивида, но также в том, чтобы обозначать его место в рамках той или иной группы, его ранг, титул, социальный статус. То же самое верно и в отношении целых сообществ и юридических лиц. Число эмблем быстро увеличивается и, под влиянием зарождающейся схоластики, они из разнородной и слабо структурированной массы преобразуются в настоящую организованную систему. С гербами эта трансформация, по всей видимости, произошла раньше всего и была наиболее успешной. Гербы с самого начала были индивидуальными эмблемами, и с 1170-х годов они быстро и прочно увязываются с системой родства. В конце XII века в рамках одной семьи они начинают передаваться по наследству; именно этот семейный и наследственный характер гербов и определяет, в конечном итоге, их сущность[579].
Как мы видели, при нынешнем состоянии наших знаний составить полную и точную картину распространения в обществе первых гербов весьма непросто. Однако нам известны основные вехи этого процесса. Гербы, которыми сначала пользовались только представители высшей знати (герцоги, графы) и крупные сеньоры, постепенно стали достоянием всей западной аристократии (илл. 14 и 15). В начале XIII века гербами обладают все мелкие и средние дворяне. Но в это же время гербы распространяются среди невоинского, недворянского населения, их начинают использовать различные сообщества и юридические лица: гербы, в порядке очередности, появляются у женщин (с 1180-х годов, иногда раньше), у городского патрициата и горожан (ок. 1220), у ремесленников (с 1230-1240-х), у городов (с конца XII века), цехов (ок. 1250), учреждений и судов (в конце XIII века и в начале XIV). В некоторых областях (Нормандия, Фландрия, южная Англия) гербы есть иногда даже у крестьян. Что касается Церкви, которая поначалу с подозрением относилась к новой знаковой системе, выработанной без ее влияния, то и она постепенно обзаводится гербами. Первыми их начинают использовать епископы (ок. 1220-1230), потом каноники и белое духовенство (ок. 1260), позже аббаты и монастырские общины. В начале следующего века церкви и церковные здания становятся настоящими «музеями» гербов. Гербы можно увидеть на полу, на стенах, на витражах, на потолке, на церковной утвари и одежде. Религиозное искусство позднего Средневековья уделяет им значительное место.
Очень скоро сеньоры и рыцари перестают довольствоваться изображением недавно приобретенных гербов только на щитах. Они начинают помещать их на знамена, на конскую попону, на cotte d'armes[580], потом на различное принадлежащее им движимое и недвижимое имущество, особенно на печати, символизирующие их как субъектов права. Со временем все, кто обладает печатью, берут обыкновение заполнять ее поле гербом, как это делает аристократия {илл. 17). Через печати — которыми теперь пользуются во всех слоях общества — употребление гербов распространилось на женщин, клириков, простолюдинов и на всех юридических лиц. В этом отношении показательна одна цифра: нам известно около миллиона средневековых гербов, существовавших в Западной Европе; из этого миллиона более трех четвертей известны нам по печатям и около половины принадлежат людям незнатного происхождения[581].
Печать, как и герб, особым образом связана с именем и личностью владельца. Выполняя разнообразные функции (запечатывание, придание законной силы, удостоверение подлинности, утверждение права собственности и т. д.), она, кроме того, часто служит индивиду для демонстрации — а иногда для удостоверения — своей личности, как напрямую (владелец печати показывает печать-матрицу, привешенную к поясу, желая представиться или быть узнанным), так и косвенно (так как оттиск перемещается и циркулирует, личность владельца печати становится известна далеко за пределами места его нахождения)[582]. В этом смысле активное внедрение в обиход печатей в течение XII века следует связывать не только с распространением письменных документов и письменной культуры, как это обычно делают, но также с возросшим в 1100—1250-е годы вниманием к личности и знакам идентичности. Распространение печатей фактически совпадает с возникновением гербов и фамилий[583].
Функция идентификации часто совмещается с функцией прокламации: «Вот кто я есть!». Изображение как на печати, так и на гербе говорит не только о личности и социальном статусе ее обладателя, но также — за счет выбора того или иного рисунка, той или иной легенды — о его индивидуальности, его стремлениях, его притязаниях. В этом смысле оно одновременно является и эмблемой, и символом[584]. Функция идентификации и прокламации связана не только с живыми, но и с мертвыми: по крайней мере, до конца XIII века нередко случается так, что печать-матрицу покойного не ломают с тем, чтобы предотвратить ее незаконное использование после смерти владельца[585], а кладут — аннулированную или не аннулированную — в гроб вместе с телом. Не только для того, чтобы человек мог быть опознан в загробном мире или последующими поколениями, но еще и потому, что тело и печать являют собой единство: это два воплощения одного и того же лица. Иногда, если печать по какой-то причине нельзя найти или если ее снова нужно использовать после погребения, специально для похорон вырезают еще одну, полностью идентичную первой, которая и будет сопровождать тело на пути к вечности. Если речь идет о высокопоставленной особе, то эта сделанная по случаю печать может быть выполнена не из бронзы, а из серебра или слоновой кости[586]. Особая связь между идентичностью и печатью характерна не только для физических лиц. Она также характерна для лиц юридических: им тоже подчас нужно представляться, но способов сделать это совсем немного. Печать предоставляет им возможности для саморепрезентации, самообозначения и самоидентификации, которые нельзя реализовать иным способом; тем самым она придает им внутреннее единство и делает их подлинными субъектами права. Везде, как на вершине, так и внизу социальной лестницы, как среди физических, так и среди юридических лиц печати сыграли существенную роль в распространении первых гербов.
С географической точки зрения у гербов не было строго определенного места рождения, они одновременно появляются в разных областях Западной Европы: на территории между Луарой и Рейном, в южной Англии, Шотландии, Швейцарии, северной Италии, — и затем распространяются из этих очагов. В начале XIV века новая мода окончательно захватывает весь Запад и даже начинает продвигаться к востоку римско-католического мира (в Венгрию, Польшу). Распространение гербов в географическом и общественном пространстве сопровождается их распространением и в пространстве предметном: появляется все больше и больше артефактов, тканей, одежды, произведений искусства и памятников с изображением гербов; и здесь они выступают в тройной роли: в качестве знаков идентичности, знаков заказчика или обладателя, орнаментальных мотивов. Гербы становятся настолько привычной приметой общественной жизни, материальной культуры и мышления, что довольно рано, со второй половины XII века ими начинают наделять воображаемых персонажей: героев куртуазных романов и песен о деяниях, мифологических существ, персонифицированные пороки и добродетели, а также реальных людей, которые жили до появления гербов и которым задним числом приписывают эти новые эмблемы: выдающихся личностей греко-римской античности, библейских персонажей, королей, пап и святых раннего Средневековья.
С юридической точки зрения следует отметить одно весьма распространенное заблуждение, которое не имеет под собой никаких реально-исторических оснований: якобы правом на гербы обладала одна лишь знать. Никогда ни в одной стране ношение гербов не было исключительным правом какого-то одного сословия (илл. 17). Каждый индивид, каждая семья, каждая группа или общность всегда и везде были вольны выбирать себе гербы и использовать их так, как они считали нужным, при единственном условии — не присваивать чужие. В таком виде право на герб, оформившись в XIII веке, просуществует до Нового времени[587].
С самого момента своего возникновения гербы состояли из двух элементов: фигур и цветов, которые располагались на ограниченном пространстве гербового щита, форма которого могла быть разнообразной, даже если треугольная форма, унаследованная от воинских щитов XI века, и была наиболее распространенной. Цвета и фигуры на щите используются и комбинируются далеко не в случайном порядке. Здесь действуют пусть и немногочисленные, но строгие правила композиции, главное из которых касается использования цветов. Последних всего шесть: белый, желтый, красный, синий, черный и зеленый[588].Это абсолютные, теоретические, почти нематериальные цвета: их оттенки не берутся в расчет. Например, красный может быть и светло-красным, и темно-красным, и розоватым, и оранжевым — неважно; главное — сама идея красного цвета, а не ее материальное, цветовое выражение. То же самое и в отношении остальных цветов. К примеру, на французском королевском гербе, созданном, вероятно, в начале правления Филиппа Августа, — в лазоревом поле, усеянном золотыми лилиями, — лазурь может быть выражена с помощью небесно-голубого, синего, ультрамаринового оттенка, а лилии могут быть светло-желтыми, желто-оранжевыми или даже золотистыми: это не существенно и не несет никакого значения. Художник или ремесленник волен представить лазурь и золото так, как ему удобно, в зависимости от того, с какой поверхностью он работает, какие приемы использует и какие собственные художественные идеи хочет воплотить.
Главное — не репрезентация цветов, а правила их сочетания на щите. Действительно, с самого возникновения геральдики, как о том свидетельствуют миниатюры, эмали и витражи, цвета разделяются на две группы: в первой оказываются белый и желтый, во второй — красный, черный, синий и зеленый. Основополагающее правило состоит в запрете совмещать или накладывать друг на друга цвета из одной и той же группы. Возьмем, к примеру, щит, на который помещена фигура льва. Если поле этого щита красное, то лев может быть белым или желтым, и не может быть ни синим, ни черным, ни зеленым, так как все эти цвета входят в одну группу с красным. И наоборот, если поле щита белое, то лев может быть красным, синим, черным или зеленым, но только не желтым. Это основополагающее правило существовало, по всей видимости, с 1150-х годов и исходно обосновывалось критерием различимости: первые гербы, всегда двухцветные, фактически являлись визуальными знаками, которые должны были считываться на расстоянии. А на взгляд средневекового человека красный лучше различим на белом или желтом, а не на синем, черном или зеленом. Но критерий различимости объясняет не все. Происхождение правила сочетания гербовых цветов следует также связывать с цветовой символикой феодальной эпохи, символикой, которая в то время находилась в процессе преобразования: белый, красный и черный — уже не единственные «базовые» цвета, как во времена Античности и раннего Средневековья; отныне в этот же ряд выдвигаются синий, зеленый и желтый, и это затрагивает не только материальную культуру и художественное творчество, но и социальные коды. Зарождающаяся геральдика как раз и является одним из таких кодов.
В ранних гербах цвет, видимо, является основным элементом. Ведь если существуют гербы без фигур, то гербов без цветов не бывает, пусть даже многие гербы XII—XIII веков известны нам только по монохромным документам, таким как печати. Однако круг используемых фигур явно обширнее набора цветов. По правде говоря, он в принципе не ограничен: любое животное, растение, любой предмет или форма могут быть гербовой фигурой. Но несмотря на это, гербовой фигурой в действительности становится далеко не все что угодно, по крайней мере, до позднего Средневековья. В первые несколько десятилетий существования гербов этот круг ограничен двадцатью фигурами; после 1200-х годов он расширяется, но до конца XIII века не выходит за пределы пяти десятков общераспространенных фигур. Треть его составляют животные (с большим отрывом лидирует лев), треть — устойчивые геометрические фигуры, образуемые путем деления щита на некоторое число зон или секторов, и еще треть — малые фигуры, также более или менее геометрические, которые могут размещаться в любом месте гербового щита: безанты[589], кольца, ромбы, звезды, гонты. Растения (кроме лилии и розы), предметы (оружие, орудия), части человеческого тела встречаются реже, и так будет вплоть до начала Нового времени.
Структура первых гербов проста: фигуру одного цвета помещают на поле другого цвета. Так как гербы предназначены для считывания на расстоянии, фигуры изображаются схематично, а все те элементы, которые помогают их распознавать, — контуры геометрических фигур; головы, лапы и хвосты животных; листья и плоды деревьев, — выделяются или преувеличиваются. Фигура занимает все поле щита, и в гербе, согласно приведенному выше правилу, сочетаются два ярких и насыщенных цвета. Эти принципы композиции и стилизации, зародившись на поле битвы и турнирной площадке в первой половине XII века, будут
применяться для составления и репрезентации гербов вплоть до конца Средних веков. Тем не менее с середины XIV века возникает тенденция к утяжелению и усложнению композиции. В семейных гербах к изначальной фигуре часто добавляются второстепенные фигуры с целью обозначить брачный союз, родство, разделение семьи на несколько ветвей; либо же щит делится на все большее и большее число секций (четвертей) — так, чтобы внутри единого пространства объединить сразу несколько различных гербов. Это еще один способ указать на родство, связь с предками по восходящей линии и брачные союзы, либо же подчеркнуть обладание сразу несколькими фьефами, титулами или правами. Некоторые гербы позднего Средневековья, которые кроились и перекраивались, разделяясь таким образом на множество четвертей, в конце концов становились нечитаемыми. Тем более что с течением времени, когда их стали использовать как знаки принадлежности, помещая на несметное количество документов, ценных предметов или предметов повседневного обихода, они часто теряли те внушительные пропорции, которые были для них характерны при изображении на военных знаменах и щитах XII века.
Однако главной проблемой составления и структурирования герба является даже не дробление гербов или слияние двух гербов в один, а проблема наложения. На щите одновременно присутствуют несколько наложенных друг на друга планов, и чтение герба всегда следует начинать именно с заднего плана. Впрочем, таким же образом следует читать большинство средневековых изображений, в частности, изображений романской эпохи — эпохи рождения гербов: начинать нужно с заднего плана, затем переходить к среднему и, наконец, к тому, что ближе всего расположен к зрителю, то есть в обратном порядке по сравнению с нашими сегодняшними привычками считывания изображений. Действительно, для того, чтобы составить герб, сначала выбирают поле, затем помещают на поле фигуру; если нужно добавить другие элементы, их размещают на том же уровне, что и фигуру, либо — что случается часто — добавляют поверх еще один план; вернуться на шаг назад нельзя (илл. 23). Щит таким образом представляет собой наложение планов: задние планы выступают в качестве отправной структуры и являются основными элементами герба; средний и передний планы отражают последовательно привнесенные добавления, помогая различать разные ветви одной и той же семьи либо двух индивидов, принадлежащих к одной и той же ветви.
Начиная с 1180-1200-х годов в рамках одной семьи только один-единственный человек, глава старшей линии, носит «полный» семейный герб, то есть герб целиком. Все остальные (сыновья при жизни отца либо, если отец умер, младшие братья при жизни старшего брата) не имеют на него права и должны вносить в него незначительные изменения, которые показывают, что они не являются “chef d’armes”, «главой герба», то есть главой старшей линии. Эти изменения называются бризурой. Женщин это не касается: незамужние дочери носят тот же герб, что и отец, а замужние, как правило, носят герб, на щите которого герб мужа соседствует с гербом отца. Бризуры главным образом встречаются в странах «классической» геральдики, то есть в странах, которые стали свидетелями рождения гербов на полях сражений в XII веке: во Франции (илл. 24 и 25), в Англии, Шотландии, Нидерландах, прирейнской Германии и Швейцарии. В других странах они редки (Скандинавия, Австрия, Испания, Португалия) либо не встречаются (Италия).
Внести изменения в семейный герб, будучи младшим сыном, можно различными способами: можно добавить или устранить фигуру, изменить цвет, поменять местами цвет фона и цвет фигуры. Вначале бризуры, необходимые на турнире, хорошо различимы. В дальнейшем младшие сыновья особенно не стремятся настаивать на том, что они младшие, и предпочитают неброские бризуры, чаще всего добавление малой фигуры. Так как гербы передаются по наследству, то может так оказаться, что через несколько поколений и после добавления нескольких бризур, гербы младших ветвей уже едва ли будут похожи на герб старшей ветви. Порой, напротив, сходство между гербами двух семей, по внешним признакам не связанных родством, позволяет заключить, что они происходят от общего предка. Геральдика, незаменимое подспорье для генеалогии, помогает таким образом идентифицировать людей, определять их имена, устанавливать происхождение, восстанавливать родственные связи, различать однофамильцев[590].
С конца XII века большинство гербов тесным образом связаны с семьей и именем. Однако еще более тесную связь с именем имеют те гербы, которые специалисты по геральдике называют «говорящими». Дать им определение не так-то просто, потому что они имеют самые разные формы выражения. В общих чертах можно сказать, что «говорящим» герб является тогда, когда название некоторых его элементов — чаще всего главной фигуры — и имя его владельца образуют игру слов или созвучны друг другу. Самый простой случай, когда название фигуры и имя владельца герба соотносятся напрямую: Гуго де ля Тур носит на гербе башню, tour; Тома де Лё (Leu), или Тома Волк, — волка; Рауль Кювье — кадку, cuvier[591]. Но существует и множество других вариантов. Связь эта может быть аллюзивной (например, когда в имени семьи заключено слово «porte» (дверь, врата), а на гербе помещены ключи) либо название фигуры может соотноситься только с частью имени владельца герба (Гильом де Каправилль просто помешает на щит козу, сарга; сеньоры д’Оржемон — три колоса ячменя, orge). Связь может также строиться на созвучии с названием цвета, а не фигуры (в XIV веке знатная флорентийская семья Росси имеет герб с полностью червленым полем); либо могут быть задействованы сразу несколько фигур, составляющих нечто вроде ребуса: графы Гельфенштайн, к примеру, владевшие обширными землями на севере Швейцарии и в Вюртемберге, объединяют в гербе слона, Elefant, и камень, Stein (илл. 19); на гербе Кьярамонте, происходящих из Вероны, изображена гора, monte, а над ней освещающая ее звезда (chiara — свет).
Само понятие «игра слов» весьма расплывчато, по крайней мере с ходом времени оно претерпевает изменения: то, что являлось игрой слов в XII веке, может уже не восприниматься или не считаться таковой в XIV или в XVII столетии. Поэтому таким гербам — которые во французском и немецком (redende Wappen) языках зовутся «говорящими», а в более поэтичном и более точном английском изящно называются canting armes (поющие гербы) — сложно дать однозначное определение. Английский вариант, акцентирующий внимание на звуковой гармонии между именем человека и названием фигуры, имеет аналогию в латыни: arma cantabunda[592].
Говорящие гербы часто считаются менее древними, менее благородными и, в геральдическом смысле, менее чистыми, чем другие[593]. Это не имеет под собой никаких оснований. Такие гербы существуют с момента возникновения геральдики, и самые знатные семьи используют их уже с конца XII века: например, графы Бара (две рыбы-усача, bars, развернутые друг к другу спинами), графы Булонские (три «шара», boules, или круга), графы фон Минценберг (веточка мяты, по-немецки Minze), дом Кандавен, графы де Сен-Поль (снопы овса)[594], владетельное семейство фон Хаммерштайн (молот, по-немецки Hammer) и другие, не говоря уже о королевствах Кастилии (замки) и Леона (лев). Кстати, когда средневековым герольдам не известен герб какого-либо короля (реального или воображаемого) или важной особы, они, дабы компенсировать пробелы в своих знаниях, без колебаний выдумывают говорящие гербы. Такие гербы кажутся им естественными и вполне отвечающими духу геральдики. Так, герольд французского происхождения, составляя гербовник в конце XIII века, приписывает королю Португалии щит, на котором в качестве фигуры изображены ворота, porte, королю Галисии — щит с изображением чаши, calice, а королю Марокко — щит с тремя шахматными ладьями, rocs (илл. 18)[595]. Говорящие гербы не являются ни менее древними, ни менее почетными, ни менее «геральдическими», чем все прочие. Однако их обильное присутствие в недворянской геральдике с конца Средних веков и заурядные каламбуры, на которых они порой основывались в эпоху Нового времени, зачастую вызывали у геральдистов дореволюционной Франции недостаточное уважение к такого рода гербам[596].
Определить долю говорящих гербов в общем количестве гербов для каждой эпохи, каждой области, каждого сословия или группы — задача непростая. Особенно это касается раннего периода. Их количество всегда недооценивается, потому что иногда, если не сказать часто, мы не распознаем такие гербы. В одних случаях «говорящая» ассоциация строится на диалектных или исчезнувших словах, в других — основывается на латыни или на иностранном языке, в третьих — она будет скорее аллюзивной, нежели собственно «говорящей», и то, что в глазах наших предков было прозрачной и изящной игрой смыслов, уже не обязательно будет выглядеть так же и в наших глазах. Рассмотрим несколько примеров. С конца XII века знатный английский род Люси носит герб с тремя щуками: говорящая ассоциация между именем рода и названием фигур будет для нас непонятна, если только мы не знаем, что «щука» (в современном английском pike) на латыни будет lucius, а на англо-нормандском — lus. Также есть много примеров, когда английские семьи нормандского происхождения имеют гербы с животными — «говорящими» по-французски, но не по-английски: борзая (levrier — greyhound) у Молеврие, выдра (loutre — otter) у Латтрел, теленок (veau — calf) у де Вел, медведь (ours — bear) у Фитц-Урс. В данном случае, чтобы объяснить выбор фигуры, нужно проследить происхождение семьи и знать французский язык.
В приведенных выше примерах в качестве говорящей фигуры использовались животные. Найти связь между названием животного и именем владельца герба иногда довольно просто, иногда не очень, но в принципе это всегда возможно. А вот когда речь заходит о геометрической фигуре, говорящая ассоциация часто бывает не столь прямой, не столь прозрачной, и тогда, помимо языковых сложностей, встает проблема ассоциативной или аллюзивной очевидности. Когда в 1265 году Гильом де Барр (des Barres), простой рыцарь, помещает на свою печать щит с разделенным ромбовидно полем, иными словами — щит, на который будто бы накинута сеть[597], то догадаться о том, что здесь есть говорящая ассоциация, довольно трудно; однако она действительно есть: ромбовидное деление намекает на перекладины, barres, то есть на преграду. Эта же идея приблизительно в ту же эпоху была воплощена в английской геральдике — на гербе Джона Малтраверса, сеньора, владеющего землями в Дорсете. Он являлся обладателем гербового щита с черным полем, покрытым золотой косоплетенной решеткой[598], то есть полностью черного щита, который будто бы перегорожен желтой решеткой. Чтобы увидеть говорящую ассоциацию между патронимом и идеей, заложенной в фигуре, нужно одновременно догадаться, что такого рода решетка тоже напоминает о препятствии, а имя “Маltravers”[599] намекает на нечто, что трудно преодолеть.
Из всех опубликованных на сегодняшний день средневековых гербов менее 20% могут быть по той или иной причине признаны говорящими. Однако этот процент, несомненно, занижен, так как говорящие ассоциации между именем и теми или иными составляющими элементами герба не всегда очевидны. Хронологически процент таких гербов еще более возрастает в конце Средневековья, когда гербами также обзаводятся многие простолюдины и сообщества. Это самый простой способ выбрать себе гербовую фигуру. К нему, например, часто прибегают города: Лилль (с конца XII века) выбирает лилию, Берн и Берлин — медведя (Ваr), Лион — льва (lion), Мулюз[600] — мельничное колесо, Аррас — трех крыс (rat).
Географически говорящие гербы распространены повсюду, но больше всего их, по всей видимости, в германских странах. Это объясняется одновременно языковыми и культурными причинами. Немецкий язык (и — шире — германские языки вообще) кажется лучше приспособленным для подобной игры словами. Кроме того, германская антропонимика, в отличие от романской, более непосредственно обращается к названиям животных, растений, цветов и предметов. По крайней мере, связь между именем и вещью кажется более ясной, ее легче выразить и распознать. Словом, в Германии и германских странах говорящие фигуры имели больший успех, чем в остальной Европе. Возможно, поэтому их используют без меры и даже откровенно ими злоупотребляют. К примеру, в XIV-XV веках, когда некоторые французские, испанские и итальянские знатные семейства стремятся скрыть говорящие ассоциации, лежащие в основе их гербов, и выдумывают героические легенды, чтобы объяснить их происхождение и смысл (случай Висконти — самый известный[601] [602]), немецкие и австрийские графские семьи ничуть не стыдятся своих говорящих эмблем и с гордостью подчеркивают связь своего имени с фигурой на гербе. Эта связь, которая подчас весьма напоминает нам ребус или каламбур, отнюдь не считалась унизительной: графы Хеннеберг гордо демонстрируют курицу (Неnnе), сидящую на горе (Berg); графы Тирштайн развлекаются тем, что меняют животное (Tier) на своем гербе: то это лань, то собака, иногда волк или баран, однако каков бы ни был зверь, он всегда стоит на камне (Stein) — так, чтобы две фигуры вместе составляли говорящий ребус; что же до знаменитых Волькенштейнов, могущественных правителей Тироля, из рода которых происходят два поэта, они демонстрируют весьма любопытный герб с полем, облаковидно скошенным справа, то есть разделенным диагональной линией в форме облаков (Wolken). Говорящий герб — настоящая мнемоническая формула — оптимальным образом воплощает в себе память и сплоченность линьяжа[603], сконцентрированные в имени, а имя заключено и воплощено в одной или нескольких фигурах, представляющих собой значимое, сведенное к эмблеме семейное достояние.
С самого начала для описания гербов использовались народные языки, а не латынь — вероятно, потому, что Церковь не имела к зарождению этих эмблем никакого отношения. Описание гербов, предназначение которых состояло изначально в том, чтобы идентифицировать сражающихся, было прежде всего делом воинов и герольдов, а язык описания не был пока еще ни ученым, ни даже специальным[604]. Однако по мере того, как гербы распространялись в географическом и социальном пространствах, на предметах военного, а также повседневного гражданского обихода, стал постепенно внедряться особый язык описания этих новых и ни на что не похожих эмблем. Этот язык основывается на специальной лексике, значительной частью заимствованной из словаря, предназначенного для описания тканей и одежды, и своеобразном синтаксисе, который отличается от синтаксиса и литературного, и — еще в большей степени — обыденного языка, но при этом позволяет, при заметной экономии средств, описывать все гербы, причем весьма точно. В XIII веке поэты, романисты или герольды без особых трудностей описывают — блазонируют — гербы на народном языке.
Именно последние по роду своих занятий в основном и используют этот новый язык. Изначально герольд был лицом, находящимся на службе у знатного сеньора; его обязанности состояли в том, чтобы приносить известия, объявлять о войне, провозглашать и организовывать турниры. Постепенно он начинает специализироваться именно на турнирах и, подобно современным комментаторам, рассказывает зрителям о ратных подвигах участников. Это приводит его к необходимости расширить свои познания в области гербов, так как именно гербы и только гербы позволяют идентифицировать сражающихся, внешность которых скрыта под доспехами. Со временем герольды становятся настоящими специалистами по геральдике; они кодифицируют ее правила и порядок представления гербов; они фиксируют язык их описания; они странствуют по Европе для учета гербов и составления сборников, в которых встретившиеся им гербы представлены в виде набросков или полноцветных изображений. Эти сборники называются гербовниками; некоторые из них входят в число самых красивых иллюстрированных рукописей, дошедших до нас со времен Средневековья.
Если описание герба на народном языке не представляет особых трудностей, то с латынью все обстоит иначе. С конца XII века летописцы, хроникеры, составители хартий, писцы и священнослужители оказываются перед необходимостью вводить описания гербов в сочинения или документы, которые они составляют. Описать герб на латыни — настоящая проблема, и в течение нескольких десятилетий они решают ее не самыми удачными способами: иногда они пытаются перевести описание с народного языка на латинский и в результате искажают его или перевирают; иногда они смешивают латинские и народные термины, и получаются не очень вразумительные формулировки; иногда, избирая более простой и понятный способ, они вводят в латинский текст описание герба, сделанное полностью на народном языке. Такие затруднения с геральдическим языком будут встречаться у многих латинских авторов до конца XIII века. Сомневаясь в правильности своих переводов или адаптаций, некоторые хроникеры помещают рядом с латинским описанием описание на народном языке, предвосхищаемое словами quod vulgo dicitur («что на народном языке звучит, как...»). Другие, опуская цвета, путая фигуры и отбрасывая все, что представляет для них трудность, довольствуются смутными и урезанными описаниями на латыни. Однако с XIV века латинские тексты, в которых описываются гербы, становятся все многочисленнее и разнообразнее: это хартии, административные и нотариальные документы, исторические и повествовательные тексты, поэмы и литературные произведения, юридические и генеалогические трактаты, и даже гербовники и учебники по геральдике, написанные непосредственно на латыни. По сравнению с XIII веком трудности только возрастают, так как гербы еще больше усложняются и нагружаются деталями, часто делятся на несколько четвертей, которые нужно описывать с точностью и в определенном значимом порядке. Таким образом, возникает необходимость в создании ясного и точного латинского языка блазонирования.
Первыми к решению этой задачи приступают юристы и нотариусы[605]; за ними следуют историки и поэты, а затем авторы всевозможных трактатов и разного рода клирики. Термины латинского языка блазонирования калькируются с терминов народного языка (banda от bande (правая перевязь), fascia от fasce (пояс) и т. д.), но синтаксис в основном сохраняется латинский. Однако он плохо подходит для описания гербов, внутри которых наложение планов и деление каждого плана на несколько четвертей являются базовыми синтаксическими принципами. Потому в латинском блазонировании приходится пользоваться и зачастую злоупотреблять придаточными определительными предложениями там, где на народном языке можно ограничиться соположением и подчинением синтагм. К примеру, в старо- и среднефранцузском языке порядок слов в геральдической фразе является основным синтаксическим принципом описания структуры и отдельных составных частей герба. В латинском, где порядок слов в предложении более свободный, это едва ли возможно. Поэтому описание одного, не слишком сложного, герба по-французски займет две-три строки, а на латыни для этого иногда может понадобиться шесть-восемь строк. В отличие от прочих специальных или научных областей, в блазонировании латинская фраза всегда будет длиннее фразы на народном языке.
Щит — основной элемент геральдической композиции: именно на нем помещается герб stricto sensu[606]. Однако за несколько десятилетий в живописных, скульптурных или гравированных изображениях щит приобретает дополнительные элементы, некоторые — чисто декоративного свойства (шлем, корону), другие помогают точнее обозначить личность, родственные связи или сан владельца: инсигнии прелатов, атрибуты исполняемых обязанностей, позже цепи рыцарских орденов. Среди внешних украшений щита самым древним и самым значимым является нашлемник, то есть фигура, венчающая шлем. Она может быть выражением как индивидуальных «побуждений», так и родственных связей «кланового» типа.
Нашлемник изобрела не средневековая геральдика. Он существует с древнейших времен и встречается во многих обществах. В Европе самое широкое и самое длительное распространение он, по всей видимости, получил у германских и скандинавских воинов. Однако между нашлемниками воинов поздней Античности и раннего Средневековья и собственно геральдическими нашлемниками, которые постепенно входят в обиход с конца XII века, найти прямую преемственность сложно. Последние представляют собой не просто шлемовое украшение: это настоящие маски. Собственно воинская функция нашлемников выражена слабо (их носят в основном на турнире, в редких случаях — на войне), зато велика их символическая роль. Они появляются в тот момент, когда голова становится наиболее значимым элементом репрезентативных систем, берущих за основу человеческое тело и жестикуляцию. Кроме того, они в полной мере вписываются в основополагающую оппозицию «скрывать/показывать», характерную для большинства личных или идентифицирующих знаков, используемых в Европе с XII века, особенно для гербов. Фигура, представленная на гербовом щите, фактически равноценна фигуре, изображенной на теле; она раскрывает личность человека, который ее использует, и определяет его место в рамках семейной или феодальной группы. Напротив, фигура на шлеме будто бы скрывает личность того же самого человека, по крайней мере, на первый взгляд; она наделяет его новыми свойствами, преображает его индивидуальность, вырывает его из узких семейных рамок и помещает в более широкую систему родственных связей. Она является одновременно маской и тотемом[607].
Во второй половине XII века такого рода геральдический нашлемник распространяется в Западной Европе практически повсеместно. Он появляется вскоре после возникновения гербов и почти с самого начала предстает в качестве их естественного дополнения[608]. До 1200-х годов он представляет собой звериную или растительную фигуру, нарисованную на шлеме воина и чаще всего воспроизводящую фигуру, которая помещалась на щите, иногда — ту, которая нашивалась на знамя. Все те немногие, сохранившиеся до наших дней изобразительные образцы первых геральдических нашлемников принадлежат наследным правителям и военачальникам. Самое раннее изображение помещено на конический шлем Жоффруа Плантагенета (1113-1151), графа Анжуйского и герцога Нормандского, представленный на надгробной плите, которая была выполнена в технике эмали около 1160-го года и о которой уже упоминалось выше (илл. 22)[609]. В литературных текстах, напротив, описание разрисованных шлемов встречается часто и касается не только знати, но и других категорий воинов. Речь идет о топосе, происхождение которого восходит к глубокой древности и который скорее опирается на мифологический образ воина — а именно германского воина, — чем на реальное рыцарское вооружение феодальной эпохи. В литературе шлем всегда в той или иной степени наделен магическими качествами, даже если речь идет о шлеме реального лица. Поэтому вполне возможно, что знаменитый шлем с китовым усом, который будто бы носил граф Булонский, Рено де Даммартен, в битве при Бувине (1214) и который поэт Гильом Бретонец описывает как уникальное и даже дьявольское нововведение, является плодом литературной мифологии[610].
На самом деле подавляющее большинство средневековых нашлемников известно нам по печатям и гербам. До нас дошла лишь незначительная часть реальных нашлемников, то есть нашлемников как предметов (самый известный — нашлемник Черного Принца[611], хранящийся в Кентерберийском соборе). Стоит напомнить, что в данном случае историк имеет дело с изображениями, то есть с репрезентациями[612], учитывая все их отклонения, все отличия от реальных объектов. По средневековым печатям нам известно несколько десятков тысяч нашлемников — но какой процент из них отображают реальные артефакты? Вероятно, весьма незначительный. Участники турниров, копейных поединков и различных ритуалов, которые на самом деле носили нашлемники на шлемах, представляют собой довольно узкую социальную группу. Нашлемники для поединков и турниров — это хрупкие сооружения, которые изготавливаются из дерева, металла, ткани, кожи, при случае также используются волосы, перья, рога и растительные материалы. Чтобы нашлемник держался на голове рыцаря, он должен быть небольшого размера, пусть даже его основное предназначение и состояло в том, чтобы быть видимым с дальнего расстояния. В случае с нашлемниками-изображениями таких проблем нет, вопросы устойчивости и веса отпадают сами собой: нашлемник — по сравнению со шлемом, на котором он закреплен, и с гербовым щитом, который он венчает, — зачастую выглядит просто гигантским, его конструкция, пропорции и очертания намеренно нарушают законы геометрии и всякого правдоподобия (илл. 20-21, 27-29).
На самом деле репрезентация нашлемника не регулируется никакими правилами. В отличие от организации изображения внутри щита, цвет, формы и расположение элементов нашлемника не кодируются. Художники и ремесленники вольны сами определять положение, форму и особенности фигуры или фигур, составляющих нашлемник, согласуя свой замысел с характером поверхности, на которой они работают, либо с тем, где и когда люди будут видеть это изображение. Иногда нужно заполнить пустое пространство (например, поле печати), иногда отослать к другому нашлемнику (на надгробном камне, на странице гербовника), иногда просто-напросто снабдить нашлемником герб, не имеющий такового. Художник, воспроизводя нашлемник, всегда в большей или меньшей степени (а бывает, что и полностью) перерабатывает или изменяет его. И, напротив, может оказаться, что человек, который согласно тому или иному документу, является обладателем нашлемника, лишь в минимальной и даже ничтожной мере влиял на его выбор и изображение.
Нашлемник может содержать одну или несколько фигур, задействованных в щите. Он может полностью воспроизводить щит на щитовой доске, на распростертом крыле или на более или менее стилизованном знамени (частый случай при использовании геометрических фигур). Он также может полностью пренебречь тем, что изображено на щите. С точки зрения статистики можно сказать, что около 40% средневековых нашлемников частично или полностью повторяют изображение на щите, который они сопровождают (этот процент, возможно, будет чуть выше во Франции, в Англии и в Нидерландах и чуть ниже в германских странах и в Шотландии). Здесь, однако, сложно делать точные статистические подсчеты или выводить более или менее достоверные типологические закономерности, так как нашлемник иногда состоит не просто из одной фигуры, а из целого комплекса элементов, где рога, крылья и перья — особенно перья страуса и павлина, двух птиц, которыми позднее Средневековье было просто очаровано[613], — соседствуют с предметами (в частности, с элементами вооружения), человеческими фигурами (девушками, дикими людьми, восточными персонажами), растительными элементами (листьями, цветами, целыми деревьями) и главным образом с животными. На более чем половине средневековых нашлемников в качестве главной фигуры изображено животное или часть животного (голова, «бюст», лапа). В этом «нашлемном» бестиарии лучше всего представлены птицы (павлин, лебедь, страус, сова, ворон), а также гибридные и химерические животные. Как правило, для нашлемника охотнее выбирались те животные, которых по той или иной причине не подобало включать в гербовый щит. Например, животные с дурной репутацией (лебедь, символизирующий лицемерие, ибо он скрывает под белым опереньем черную плоть) или дьявольские животные (кошка, обезьяна, козел, лиса, сова), либо чудовища и гибридные существа, которые редко встречаются на щитах (дракон, грифон, единорог, сирена). Можно также заметить, что представители некоторых родов, имена которых можно легко обыграть с помощью говорящей гербовой фигуры, отказываются помещать подобную фигуру на щите в том случае, если животное несет уничижительный смысл, зато без колебаний используют ее в качестве нашлемника. Так, швабский род Катценелленбоген помещает на щит леопарда, а вот в качестве нашлемника выбирает обычную кошку (Katze)[614].
Кроме того, нашлемник, в отличие от щита, позволяет самыми разнообразными графическими и пластическими способами обыгрывать химерические существа, невероятные детали и фантазийные сцены, сочетая их так, чтобы добиться главного эффекта — эффекта трансгрессии, игровой или демонической. Действительно, фигура-нашлемник чаще всего отсылает именно к животному началу. В этом случае она в полной мере выполняет функцию маски, становится вторым лицом или, точнее, если использовать меткое французское выражение XIV века, «ложным лицом», faux visage, ведь она связана с сокрытием и иллюзией. Животное, будто бы застывшее в момент конвульсии, выражает ярость или исступление; более того, часто оно имеет устрашающий вид, так как его основная функция состоит в том, чтобы напугать противника. В поединке или на турнире шлем с нашлемником — тут нужно снова подчеркнуть их неотделимость друг от друга — фактически выполняют, подобно маске, двойную роль — защитную и наступательно-агрессивную. С одной стороны, нужно скрыть, защитить себя (одновременно и физически, и сверхъестественным образом), видеть самому и быть невидимым для других (идея, крайне значимая для всех мифологических традиций и большинства средневековых инициационных ритуалов). С другой — нужно стать больше, агрессивнее и страшнее, как тот самый зверь, в теле или в голове которого поселился воин. Он отождествляет себя с этим зверем. Он и есть этот зверь.
Нашлемник, таким образом, представляет собой двойственную маскировку. Будучи выставлен напоказ, он скрывает и одновременно предъявляет. Как маска, он позволяет мгновенно стать другим, скрыть свои слабые места, приобрести новые способности и даже стать неуязвимым. Собственно денотативная функция нашлемника — связанная с идентификацией индивида в общей схватке, либо при случае внутри той группы, к которой он принадлежит — кажется незначительной, по сравнению с многочисленными символическими функциями, которые он выполняет во время боя (игрового или реального). Это нечто куда более значимое, чем просто опознавательный знак: это выражение второй натуры, которая проявляется не только в игре, на празднике и на войне, но также определяет отношения человека со смертью и потусторонним миром. Тем самым нашлемник связывает того, кто его носит, с предками, реальными или вымышленными, и со всей родней. Из маски он превращается в «тотем».
Нашлемник действительно связан с родней — как правило, с большой родственной группой. В геральдическом арсенале средневековой аристократии он даже является тем элементом, в котором сильнее всего проявились некоторые «тотемические» тенденции (я, естественно, употребляю этот термин в несколько огрубленном значении, отличном от того, которое в него вкладывают антропологи), берущие начало в структурах родства, существовавших до XII века, — а значит, и до появления гербов и геральдической системы, — и даже до 1000 года.
Здесь следует, однако, отметить различия хронологического, географического и социального порядка. Сначала первые геральдические нашлемники, видимо, представляли собой индивидуальные эмблемы, ситуативные маски, которые участники турнира использовали, чтобы скрыть себя и приобрести различные способности, одновременно физические, эмоциональные и сверхъестественные. Однако многие, исходно индивидуальные, нашлемники стали семейными. Этот сдвиг в каких-то странах и областях произошел быстрее, в каких-то — медленнее. В германских княжествах трансформация была наиболее ранней и, возможно, наиболее полной: с середины XIII века большинство немецких нашлемников связаны с семьей, и добавление изменений в семейный нашлемник — это способ внести «бризуру», то есть выделить индивида в рамках его семейной группы[615]. Напротив, в странах с более давней геральдической традицией (во Франции, в Англии, в Шотландии), где нашлемник вошел в употребление позднее и использовался реже, чем в германских странах, он довольно длительное время сохранялся в качестве индивидуальной эмблемы, которая могла меняться от турнира к турниру, по прихоти или по воле обстоятельств. Только в начале XIV века почти повсеместно появляются семейные нашлемники, по образу и подобию тех, которые встречаются в Германии, Швейцарии и Австрии. Однако нашлемник отражает скорее не близкое родство, то есть родство внутри одной семейной линии, а более широкие родственные связи, горизонтальные, клановые или мифологические. По крайней мере, если речь идет о семьях наследных правителей и о высших слоях аристократии. Если гербовый щит с его сложной системной бризур и вторичных бризур принадлежит малой семье, в рамках которой он определяет место индивида по отношению к братьям, отцу, дядьям или кузенам, то нашлемник, напротив, будет общим для всех потомков, происходящих от одного предка, жившего два, три или даже четыре поколения тому назад. К примеру, в XIV веке все Капетинги, происходящие от Роберта Благочестивого, вне зависимости от того, какие фигуры и цвета представлены на их щите, используют в качестве нашлемника лилию. Это родовая эмблема, которая предполагает и отражает очень глубокое осознание структур родства и системы генеалогических связей. И, естественно, охотнее всего используют такой «клановый» нашлемник скромные боковые ветви, которые дальше всего отстоят от ветви старшей[616].
Часто именно наименее значимые отпрыски знатных семейств (младшие сыновья из младших ветвей, бастарды) охотнее всего используют семейные нашлемники и реже всего — индивидуальные. Такое предпочтение позволяет компенсировать скромность положения за счет престижной (подчас) эмблемы. Наиболее показательный пример — нашлемник с лебедем, который в XIV-XV веках носили несколько сотен особ высокого и низкого ранга, владеющих землями во всех уголках христианской Европы, при этом все они так или иначе принадлежали к влиятельному линьяжу: роду графов Булонских. Выбрав нашлемник с лебедем, они тем самым «обыграли» свое происхождение от легендарного Рыцаря с лебедем, то есть с предполагаемым дедом Готфрида Бульонского, умершим около 1000 года[617]. Турниры, праздники, церемонии и ритуалы, где так или иначе демонстрируются эмблемы, давали им возможность мгновенно перевоплотиться в «тотемического» предка или, по крайней мере, напомнить о нем и его подвигах. Но, если вглядеться пристальнее, это гораздо больше, чем просто игра. Это удостоверение родства, которое опирается на сильнейшее родовое сознание, так как все эти исторические персонажи — как некогда показал Энтони Ричард Вагнер,[618] — пусть они даже и принадлежали к различным домам (Клеве, д’Овернь, де Богун, Дорчестер и т. д.), действительно имели отношение к знаменитому Булонскому дому и все вели свое происхождение от одного прародителя, или предка Готфрида Бульонского. В данном случае нашлемник в полной мере выполняет функцию тотема. Он несет в себе важнейшую память рода, члены которого даже по прошествии четырех-пяти веков после смерти прославленного предка по-прежнему стремятся опознавать друг друга и держаться вместе, пусть даже только во время турнира или рыцарского ритуала, вокруг общей эмблемы, которая выступает как катализатор родовых традиций и организует мифологию родства.
Этот случай не уникален. Можно выявить еще несколько примеров, которые касаются, в частности, некоторых знаменитых родов. Так, в конце Средневековья все ветви династии Люксембургов, включая, конечно же, побочные ветви (Сен-Поль, Линьи) в качестве нашлемника носят крылатого дракона в кадке, то есть изображение самой феи Мелюзины[619] (илл. 28). До последнего времени ничто не указывало на существование прочной генеалогической связи между графским, а затем герцогским родом Люксембургов и пуатвинским родом Лузиньянов, тесным образом связанных с именем Мелюзины. Однако Жан-Клоду Лутчу удалось доказать, что эта связь существовала, и притом задолго до появления первых гербов: и опять-таки общий нашлемник, принадлежавший в XIV-XV веках и Лузиньянам, и Люксембургам, транслировал по двум линиям воспоминание об общем предке, жившем еще до начала второго тысячелетия или около 1000 года[620].
Подобные факты не должны нас удивлять. Распад большой семьи каролингского типа в Западной Европе происходит между XI и XIII веками и представляет собой в первую очередь юридическое и экономическое явление. В сознании, в воображаемом большая семья просуществует дольше, по крайней мере до XV века[621]. Нашлемник как раз о ней и напоминает. Его функция, memoria, «места памяти» приближается здесь к той функции, которую он выполнял в Восточной Европе, особенно в Польше, где до XVIII века нашлемник был и оставался прежде всего родовой эмблемой, общей для множества семей. Там он часто является единственным свидетельством родственной связи, очень древней и подчас забытой; в честь него род получает имя, он организует все генеалогические и антропонимические системы внутри рода: мы из такого-то или такого-то рода и мы носим его имя и нашлемник[622].
Конечно, социальные структуры западных королевств отличаются от тех, что характерны для Польши; но польский пример, к которому можно было бы добавить еще один, венгерский, помогает понять, как могли выбираться, использоваться и даже «жить» некоторые дворянские нашлемники. Средневековый нашлемник — это эмблема, в которой сосредотачиваются и кристаллизуются все предания, связанные с семейной историей. Вокруг него создаются геральдические легенды, некоторые из них — как, например, легенда о гербе Висконти — порою приобретают широкое распространение. Тем самым нашлемник является предлогом для создания семейной истории, подчеркивает сплоченность и древнее происхождение группы и даже может стать чем-то вроде культового объекта. В этом смысле не будет, на мой взгляд, большой натяжкой назвать такой нашлемник «тотемным», даже если со строго антропологической точки зрения с ним не связаны какие бы то ни было тотемные запреты или ритуалы, которые практикуются в некоторых неевропейских обществах.
Средневековое происхождение национальных эмблем
Не отпугивают ли историка средневековые знамена и флаги Нового времени? Очень на это похоже — слишком уж мало исследований им посвящено. Если говорить о знаменах, то тут историографические пробелы по крайней мере объяснимы — не только скудостью источников и сложностью проблематики, но также тем, что медиевисты долгое время пренебрегали изучением гербов и родственных им эмблем. Геральдика, дисциплина с несерьезной репутацией, долгое время занимала лишь провинциальных эрудитов, специалистов по генеалогиям и давала пищу для исторических анекдотов; а изучать феодальные знамена, не затрагивая при этом геральдику, — задача невыполнимая. Однако почему историки молчат по поводу флагов Нового и Новейшего времени — понять довольно трудно. Почему флаги почти не вызывают научного любопытства? Почему ученые по сей день так старательно избегают этой темы и чуть ли не осуждают ее изучение[623]?
На все эти вопросы есть один ответ: флаги отпугивают ученых. По крайней мере, ученых Западной Европы. Отпугивают потому, что их использование столь невероятно прочно укоренилось в современном мире, что сохранить необходимую дистанцию при попытке проанализировать их происхождение, историю и функционирование практически невозможно. И особенно они отпугивают тем, что некоторые современники так ими дорожат, что это даже в наши дни может привести ко всяческим злоупотреблениям, ненужным эмоциям и нежелательным идеологическим последствиям. Политические и военные события напоминают нам об этом практически ежедневно. Поэтому кажется, что чем реже говоришь о флагах, тем лучше.
Во Франции и соседних странах гуманитарные науки и в самом деле почти не затрагивают этой темы. Впрочем, я не уверен, что по этому поводу стоит расстраиваться. С историографической точки зрения существует очевидная связь между тоталитарными режимами и эпохами, с одной стороны, и исследованиями ученых и политологов в области государственной символики и национальной идентичности — с другой. Тот факт, что европейские демократии со времен последней войны, и даже с более раннего времени[624], выказывают равнодушие к этим вопросам, не кажется мне столь уж прискорбным. Напротив, по тем же самым причинам я не уверен и в том, что нужно испытывать восторг по поводу возобновившегося в последние два десятка лет интереса к этим вопросам у наших правительств и некоторых исследователей. Это нельзя назвать ничего не значащим, или безобидным, или случайным фактом. Наука всегда остается дочерью своего времени.
Как бы то ни было, сами по себе флаги пока еще не вызвали к себе большого интереса, и сам этот факт объясняет, почему изучающая их дисциплина, вексиллология, нигде еще не приобрела научного статуса. Ей повсеместно увлекаются только коллекционеры военной атрибутики и знаков отличия и различия. Они пишут по этому поводу монографии, публикуют периодические издания, составляют каталоги, однако их публикации чаще всего бесполезны для историков: информация в них обрывочна и противоречива, точность отсутствует, уровень эрудированности зачастую оставляет желать лучшего, но главное — нет умения по-настоящему проблематизировать предмет изучения — исследовать флаг как полноценный социальный феномен[625]. Вексиллология пока еще не наука. К тому же она либо не сумела, либо не захотела воспользоваться последними достижениями большинства других общественных наук или их междисциплинарными наработками совместно с лингвистикой; вклад семиотики, к примеру, практически ей неизвестен, что по меньшей мере удивительно для дисциплины, которая изучает знаковую систему. Поэтому вексиллология, в отличие от геральдики, оказалась неспособной обновить свои методы и вывести исследования на более высокий уровень. Кроме того, в настоящий момент между двумя этими дисциплинами почти нет точек соприкосновения, а специалисты по геральдике — и в этом они неправы — склонны пренебрегать вексиллологией, тем самым оставляя ее вариться в собственном соку.
Между тем флаги и их предшественники — знамена[626] (илл. 7 и 5), стяги, гонфалоны, штандарты и т. д. — являются ценными документами политической и культурной истории. Представляя собой одновременно эмблематические изображения и символические объекты, они подчиняются жестким правилам кодирования, а их использование регулируется особыми ритуалами, которые со временем поставили их в центр национально-государственного церемониала. Однако они существовали не во все времена и не во всех культурах. Даже если ограничиться европейскими обществами, рассмотрев их в долговременной перспективе, сразу встает целый ряд вопросов. Например, с какого времени некоторые группы людей начали «эмблематизировать» себя именно с помощью ткани, цвета и геометрических фигур? С какого времени они стали с этой целью закреплять куски материи на вершине древка? Где, когда и как эта практика, поначалу более или менее эмпирическая и ситуативная, трансформировалась в полноценную систему кодов? Какие формы, какие фигуры, какие цвета задействовались для организации и упорядочивания этих кодов? И — самое главное — когда и как осуществился переход от матерчатых флагов, развевающихся на ветру и видимых на расстоянии, к изображениям, заряженным тем же эмблематическим или политическим содержанием, но выполненным уже не на текстиле, а на носителях из самых различных материалов, и притом зачастую рассчитанных на рассматривание вблизи? В немецком языке, в отличие от французского, это фундаментальное изменение отразилось в использовании двух разных слов: Flagge (матерчатый флаг) и Fahne (флаг или изображение флага вне зависимости от конкретного материального воплощения[627]).
Какие изменения — семиотического, семантического, общественного, идеологического порядка — привели к превращению флага-объекта во флаг-изображение? Затем, если вернуться непосредственно к интересующей нас теме, с какого времени в данной конкретной политической общности сначала некое полотнище, затем некое изображение стали символизировать власть, в первую очередь власть сеньора или барона, потом власть князя или короля и, наконец, власть правительства и государства, и даже народа? Какие цвета или комбинации цветов, какие фигуры или сочетания фигур были выбраны для этой цели? Что они означали? Наконец, кто их выбирал, в каком контексте, по каким параметрам? А когда флаг был выбран, то как долго он использовался, как распространялся, как эволюционировал? У всякого знамени, у всякого флага есть своя история, и она редко бывает застывшей. Наконец, кто сегодня носит флаги и кто на них смотрит? Кто помнит и опознает флаг своей области или своей страны, флаги соседних и отдаленных стран? Кто знает, как их описывать, репрезентировать, превращать из объекта в изображение, а затем в символ?
На все эти и другие вопросы, которые, по сути дела, до сих пор не были ни разу сформулированы, нам еще предстоит дать ответ.
Чтобы попытаться ответить на эти вопросы, по крайней мере на некоторые из них, историк в первую очередь должен изучить древние знамена. Но собрать информацию и изучить знамена прошлых веков труднее, чем может показаться, особенно когда речь идет о периоде до XVI века. Лишь немногие знамена или фрагменты знамен сохранились в текстильном воплощении. По большей части это реликвии и трофеи, хранящиеся в храмах и музеях на правах сокровищ или экспонатов, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Конечно, хранение этих предметов в течение многих веков уже само по себе приобретает ритуальное значение; однако оно вызывает ряд трудностей, так как сохранившиеся образцы — это либо парадные флаги, которыми пользовались редко (и значит, их символическая ценность довольно скромна), либо флаги, захваченные у врагов (и значит, их символическая нагрузка столь значима, что способна исказить собственно источниковедческие задачи). Тем не менее необходимо подчеркнуть, что эти флаги-символы, захваченные у врага, порой играли важную роль в процессе усвоения чужой вексилларной традиции. Возьмем, к примеру, случай с мусульманскими штандартами, захваченными испанской армией времен Реконкисты и вывешенными в кафедральном соборе Толедо или в монастыре Лас-Уэльгас в Бургосе: по прошествии веков они в конечном итоге повлияли на декор и принципы кодирования некоторых испанских флагов и даже были использованы христианскими войсками Испании в качестве собственных флагов (ритуальная инверсия, как всегда, привела к переносу самой символики: некоторые из этих флагов, захваченных у мусульман в XII—XIII веках, физически присутствовали в битве при Лепанто в 1571 году на христианских судах).
Если физически сохранившихся флагов немного, то изображения, на которых они представлены, напротив, сохранились в бесчисленном количестве. Однако они дают нам неточные или противоречивые сведения, и когда появляется возможность сравнить иконографический источник с археологическим, то оказывается, что между реальным флагом и флагом изображенным могут быть значительные расхождения. Изображения всегда представляют реальность так, как удобно их авторам. Это особенно верно для тех случаев, когда изображенный флаг отражает либо неизвестный флаг, либо существовавший в отдаленном времени или отдаленных странах. Европейские компиляторы, авторы и рисовальщики легко могут упростить флаг (если не хватает места), выдумать (когда отсутствуют сведения), отбросить некоторые элементы, добавить другие, упорядочить изображения на базе одного-единственного кода — чаще всего геральдического; это приводит к тому, что той или иной нации или стране, тому или иному государству или городу приписываются флаги, которые в действительности не имеют к ним никакого отношения, но которые должны у них быть, согласно логике и установкам документа или каталога, частью которого они являются. Множество подобных примеров можно встретить в реестрах «флагов всего мира» (vexilla orbis terrarum), которые составлялись в Западной Европе с XV по XVIII век. Если сведения отсутствуют, например о флагах Африки или Азии, компиляторы не колеблясь их выдумывают. Впрочем, метод составления такого герба уже сам по себе является важным фактом культурной истории.
В Средние века и в начале Нового времени изобразительные источники, по которым нам известны знамена и флаги, часто имеют отношение к войне и еще чаще к мореплаванию: это портуланы[628], географические карты, глобусы, путеводители для купцов и путешественников, гербовники (илл. 7 и 5), книги, посвященные протоколу. Например, для Средиземноморья и его окрестностей такие источники будут содержать флаги христианского мира и исламских стран; видоизменения и переосмысления, которым подвергаются «флаги» в интерпретации западных авторов, в полной мере отражают те трудности, которые возникают при понимании, принятии и изображении эмблем и символов чужой культуры. Флаги существенно вестернизируются: коранические надписи, основной элемент мусульманской вексиллологии, убираются или транслитерируются (!); форма флагов сводится к двум вариантам — либо это щит, либо, чаще всего, прямоугольник[629]; фигуры, отсутствующие в европейском эмблематическом репертуаре, заменяются строго геральдическими фигурами; наконец, религиозные или династические исламские цвета перераспределяются в соответствии с жесткими правилами европейской геральдики. Так, например, зеленый не может соприкасаться ни с черным, ни с красным, и должен быть обязательно отделен от них с помощью белого или желтого[630]. Эту геральдическую классификацию цветов, явно чуждую исламским вексилларным традициям, как, впрочем, и другим культурам, Европа постепенно навяжет всем флагам мира. Сегодня, в 2004 году, из 214 флагов независимых государств, которые я изучил, 187 (то есть более 80%) подчиняются правилу комбинации геральдических цветов, которое было «придумано» на турнирной площадке где-то между Луарой и Рейном в первой половине XII века[631].
Геральдика действительно стоит у истоков различных кодовых систем и принципов, которые сыграли свою роль в происхождении флагов. Процесс их появления был долгим, и чтобы уяснить все его аспекты, все смыслы и динамику, историку следует обратиться к другим дисциплинам: среди прочего, к истории дипломатии, истории общественных институтов, археологии, нумизматике, сфрагистике[632]. Кроме того, он должен постараться дать четкое определение государству и — трудная задача — оговорить его пространственно-временные модификации. Различие между государством и нацией является основополагающим, но сущность его варьируется в зависимости от страны и даже от эпохи. Кроме того — и это принципиальный момент, — в некоторых странах (во Франции и в Британии) рождение государства предшествовало рождению нации, в других (в Швейцарии, Германии и Италии) — все было наоборот[633]. В первом случае — когда образование государства предшествовало образованию нации — старые этнические символы (галльский петух, ирландский трилистник, баскский крест и т. д.) так никогда и не приобретали статус официальных государственных эмблем, зато древние династические эмблемы, став затем монархическими, в конце концов начинали играть роль национальных символов. В тех странах, где нация сложилась прежде государства, часто именно древние фигуры или древние геральдические цвета, связанные с той или иной династией, по причинам в основном политического характера приобретали федеративное значение и в конце концов становились национальными символами.
В долгосрочной перспективе, то есть в данном случае с X по XX век, этот общий для Европы процесс схематически может быть представлен следующим образом: трансформация феодальной или родовой эмблемы в эмблему династическую; затем, в зависимости от конкретного случая, переход от династической эмблемы к монархической, от монархической к правительственной, от правительственной к государственной (если государство предшествует нации); либо переход от династической эмблемы к политической, от политической к национальной и от национальной к государственной или правительственной (если нация предшествует государству). В будущих исследованиях желательно было бы дополнить и детализировать эту общую схему, рассмотрев отдельно для каждой страны, как на протяжении веков складывались отношения между родовыми эмблемами, укреплявшим свои позиции государством и национальной идентичностью. Однако это чрезвычайно сложный вопрос, выводящий на множество местных особенностей, трудно поддающихся обобщению.
Зато роль геральдики как движущей силы этих долгосрочных явлений подчеркивается вполне обоснованно. Геральдика является для историка самой надежной путеводной нитью, которая проведет его через эпохи и формы государственного устройства. Возьмем в качестве простого примера Баварию. Знаменитый герб с полем, разделенным веретенчато в перевязь справа на серебро и лазурь, который для всего мира является эмблемой Баварии, изначально принадлежал не Виттельсбахам. Это был герб графов фон Боген, который перешел по наследству Виттельсбахам не позднее 1242-1243 года[634]. Герб, присвоенный последними в качестве геральдической и династической эмблемы, с середины XIII века постепенно приобретает значение эмблемы герцогства Бавария и баварской герцогской администрации; это значение сохраняется за ним и в конце Средних веков и на всем протяжении Нового времени. Затем, несколько веков спустя, в 1805 году, когда герцогство приобрело статус королевства, щит с разделенным веретенчато полем был естественным образом помещен в его герб. Наконец, через несколько десятилетий, в 1871 году, в момент объединения Германии, все тот же герб, иногда упрощенный до простого сочетания белого и голубого цветов (серебра и лазури в терминах геральдики), превращается в национальный символ — чрезвычайно воинственный, антипрусский, сепаратистский, католический и южногерманский[635]. Более или менее в таком виде он сохраняется в современной Германии. Баварская монархия перестала существовать в 1918 году, династия Виттельсбахов фактически пресеклась и больше не правит Баварией, однако остается земля Бавария и — самое главное — баварский народ, чей старинный герб, ромбовидно скошенный справа на серебро и лазурь, остается федеративной эмблемой и в то же время суверенным символом.
Геральдические цвета и фигуры — опорные пункты этих долгосрочных изменений. Именно они обеспечивают преемственность символов и эмблем, лежат в основе их истории и мифологии. Именно они в конечном итоге «создают» государства и нации. Рассмотрим еще один пример, связанный с Бретанью и знаменитыми горностаевыми хвостиками, которые появляются на бретонском гербе и знамени.
В Средние века геральдический горностаевый мех вовсе не является типично бретонским. Он встречается в гербах по всей Европе, а для некоторых областей (Фландрии, Артуа, Нормандии, Шотландии) показатель его частотности даже выше, чем в Бретани, где этот мех ко всему прочему появляется довольно поздно: если быть точным, в конце 1213 года, когда Пьер Моклерк, обрученный с наследницей герцогства Алисой де Туар, прибывает в Ренн. К этому времени, и возможно с 1209 года, когда Пьер был посвящен в рыцари в Компьене, он уже является обладателем герба: его можно увидеть на оттиске его печати, привешенной к документу, датированному январем 1212 года; матрица печати была, несомненно, изготовлена двумя-тремя годами ранее. Его герб представляет собой шахматно разделенное поле с горностаевой вольной частью[636] [637]; гербовая композиция строго продумана, так как Пьер является младшим сыном Роберта II де Дрё. В герб своей семьи с полем, шахматно разделенным на золото и лазурь, он вводит бризуру, которую в XIII веке иногда использовали младшие отпрыски знатных домов: вольную часть с горностаевым мехом. В этом качестве она почти повсеместно встречается в северной Франции, Нидерландах, Англии и Шотландии, и как таковая не содержит в себе ничего типично бретонского[638].
Датировка первой гербовой печати Пьера Моклерка имеет важное значение, так как свидетельствует о том, что в январе 1212 года, когда еще речи не было о его браке с Алисой Бретонской, Пьер уже является обладателем шахматно разделенного щита с горностаевым мехом в вольной части. Этот факт кладет конец измышлениям некоторых бретонских эрудитов, которые отчаянно — и подчас недобросовестно — пытались доказать, что горностаевый мех происходит из Бретани и что он уже присутствовал в эмблематике герцогства до обручения Алисы Бретонской с Пьером Моклерком в 1213 году, и что он перешел именно от Алисы к Пьеру, а не наоборот[639]. Некоторые историки, или, лучше сказать, люди, претендующие называться таковыми, даже выдвинули гипотезу о бретонской протогеральдике, в которой обильно использовался горностаевый мех, и настойчиво доказывали существование древней кельтской принцессы по имени Гермиона (!)[640], а поздний гербовый щит с полностью горностаевым полем превратили в «исторический» герб легендарного короля Артура[641] [642]. Все это противоречит фактам и документам, как еще в 1707 году доказал выдающийся ученый Дом Лобино, который настаивал на том, что до появления Пьера Моклерка геральдический горностаевый мех в Бретани отсутствовал[643]. Однако ложные идеи живут долго, и националистическая теория о бретонском происхождении горностая до сих пор имеет в Бретани горячих и весьма активных сторонников.
Герб Пьера Моклерка оставался гербом герцогов Бретани вплоть до Жана III, то есть больше века. Затем в 1316 году, когда герцог Жан III в начале своего правления становится влиятельным лицом, а не просто представителем младшей ветви дома де Дрё, он меняет герб, и вместо щита, шахматно разделенного золотом и лазурью с горностаевой вольной частью, берет щит с полностью горностаевым полем. Я уже как-то пытался проанализировать причины, которые могли повлиять на смену герба[644]. Они различны, но основная, на мой взгляд, состоит в том, что герцог Бретонский больше не желал носить герб с бризурой, которая слишком явно подчеркивала тот факт, что бретонский герцогский дом вначале являлся лишь младшей ветвью графского дома де Дрё (который в ту пору находился в полном упадке).
Смена герба была гениальным политическим и символическим ходом. Выбрав герб с полностью горностаевым полем, то есть в согласии с излюбленным приемом средневековой символики, взяв часть и подменив ею целое, герцог Бретонский не только избавился от всякого намека на бризуру в своем гербе, но, подобно королю Франции, стал отныне обладателем усеянного гербового щита, то есть щита с такой структурой, которая в средневековых символических системах считалась самой престижной. Эта структура, представляющая собой поле, равномерно усеянное одинаковыми малыми фигурами (звездами, розами, безантами, лилиями и т. д.), всегда отсылает к идее власти и иногда к идее сакрального[645]. Как и герб королей Франции с лазоревым полем, усеянным золотыми лилиями, этот новый герб с серебряным полем, усеянным черными горностаевыми хвостиками, напоминает космический узор, и герцог, предъявляя такой герб, выступает уже не как вассал короля, а скорее как представитель Бога в герцогстве Бретань. Кроме того, это позволяет герцогу и его преемникам воспользоваться всеми преимуществами недавно и надолго утвердившейся моды, поднявшей престиж горностаевого меха в одежде и облачении. В конце Средних веков ценность горностаевого меха, в отличие от беличьего, повышается — и не только в экономическом, но прежде всего в символическом плане: он все чаще ассоциируется с идеей сласти, правосудия и господства. Герцогам Бретани до этого, конечно, далеко, но они со знанием дела нивелируют разницу между своим геральдическим горностаевым мехом и горностаевым мехом в одежде, который отныне повсюду в Европе связан с верховной властью и престижем majestas[646].
Что особенно примечательно, герб бретонского герцогского дома с горностаевыми хвостиками чрезвычайно быстро, на протяжении XIV века, приобретает политическое значение и затем становится «национальной» эмблемой. Это, по всей видимости, происходит в два этапа. Сначала — в период войны за Бретонское наследство (1341-1364). Герцог Жан III умер бездетным и не назначил наследника; право наследования оспаривалось в течение двадцати трех лет его сводным братом Жаном де Монфором и его племянницей Жанной де Пентьевр, женой Карла де Блуа, племянника короля Франции. Хотя у соперников были свои личные гербы, они от них отказались: каждый присвоил и стал тиражировать герб с полностью горностаевым полем. Учитывая, что конфликт произошел в начале Столетней войны и каждая из враждующих сторон заручилась поддержкой английского либо французского короля, герб с полностью горностаевым полем приобрел большее значение, чем просто династическая эмблема. Он стал символом зарождающейся бретонской нации, чье формирование началось как раз после знаменитой «Битвы тридцати» (1351), в ходе которой тридцать бретонских рыцарей под знаменем с горностаевыми хвостиками и под предводительством Бомануара одержали победу над тридцатью английскими рыцарями; затем продолжилось во время правления герцога Жана IV, когда по подстрекательству Карла V в 1378 году парижский парламент вынес опрометчивое решение не только об отстранении герцога, союзника англичан, от власти, но и о конфискации герцогства в пользу короны. Бретонцы, хотя были по большей части франкофилами, преданными французской короне, были также сильно привержены своему герцогству. Они объединяются в лигу, поднимают восстание — и в Бретани вновь разгорается война. В этот период Штаты Бретани и хроникеры неоднократно выдвигают в качестве эмблемы горностаевый мех, который олицетворяет не герцога и даже не герцогство, а именно бретонскую нацию[647].
С тех пор герб и знамя с полностью горностаевым полем в течение многих веков и десятилетий играли роль настоящего национального символа — и в этом смысле долгое время оставались уникальным явлением во французском королевстве. В этой роли они в полной мере выступили в период присоединения (происходившего в несколько этапов) бретонского герцогства к французской короне; а также во время заключения двух браков Анны Бретонской с королями Карлом VIII и Людовиком XII, и тогда, когда произошло окончательное присоединение, утвержденное Штатами Ванна в 1532 году. Они всякий раз выходили на сцену, когда Бретань, ее Штаты, парламент, население снова и снова восставали против центральной и королевской власти: сначала во время войн Лиги в конце XVI века; затем в ходе «Восстания гербовой бумаги» в 1675 году, когда новые и необоснованные фискальные меры привели к народному восстанию, которое было жестоким образом подавлено; наконец на протяжении всего XVIII века, когда Штаты и парламент Бретани сформировали одну из наиболее активных в королевстве оппозиций абсолютистской и централизаторской власти французской монархии. В конце правления Людовика XV дело Ла Шалотэ и бунт парламента в какой-то момент даже стали угрозой стабильности монархии и спровоцировали резкую абсолютистскую реакцию.
Во время всех этих «национальных» войн, протестов и оппозиционных противостояний давлению централизованной власти горностаевые хвостики всегда были в первых рядах всех битв и мятежей. Так как бретонский герцогский дом уже давно сошел со сцены, они целиком и полностью олицетворяли бретонскую нацию, ревниво отстаивающую свои привилегии и гордую своей историей[648]. Падение монархии не положило конец воинствующему национализму горностаев. Напротив, контрреволюционные восстания, шуанство[649], движение за возрождение кельтских древностей, а позже различные регионалистские ассоциации и некоторые движения за автономию продолжают использовать в качестве эмблемы горностаевые хвостики[650] [651].
Долгая история горностаев прекрасно демонстрирует, что эмблема способна играть объединяющую роль, что она может оформить национальное самосознание или ускорить формирование нации, особенно если нация бунтует или открыто борется с существующей властью, авторитарной, деспотической или централизаторской. Новая и Новейшая история богата примерами, и не только европейскими (Прибалтика, страны Центральной и Восточной Европы), но также американскими, африканскими и азиатскими, когда эмблема мятежников, подчас выбранная горсткой революционеров, может способствовать рождению нации[652]. Однако в случае с горностаями примечателен тот факт, что изначально это была всего лишь обычная геральдическая бризура, то есть исключительно индивидуальный отличительный знак в гербе Пьера Моклерка, младшего сына из рода де Дрё. Но этот знак приобрел значение сначала семейной, затем династической и, наконец, национальной эмблемы. И сегодня во всем мире эта эмблема ассоциируется с Бретанью и бретонцами[653].
Европейский код планетарного масштаба
Вестернизация изображений, репрезентирующих флаги, представляет собой отнюдь не частное или случайное явление. Напротив, это долгосрочный и широкомасштабный процесс, в ходе которого Европа сумела за несколько веков навязать остальному миру свои ценности, практики и коды. Это происходило различными путями, но чаще всего через составление, а затем распространение флаговых каталогов, обладавших официальным и универсальным значением в дипломатии и торговле. Вернемся к Средиземноморью и рассмотрим пример мусульманских стран. Можно заметить, что с XVI по начало XX века, в период османского господства, большинство мусульманских городов, земель и стран, по примеру самих турецких властей, постоянно производили автокоррекцию собственных эмблем и флагов, ориентируясь на модели западного образца, которые транслировали европейцы. Этот феномен продержался вплоть до современной эпохи во всех исламских странах, получивших независимость: эмблематический арсенал, гербы и флаги всех этих стран созданы по моделям, характерным для Европы. То, что верно для исламского мира, столь же верно и для других культур: всегда и везде эмблематическая аккультурация была односторонней (можно ли в таком случае вообще говорить об аккультурации?), и Европа постепенно навязала свои ценности, свои системы и коды Африке, Азии, а потом и целому миру.
Прежде всего проводниками в этом деле выступали войны, мореплавание и торговля; затем — дипломатия. Следующим посредником стали публикации и печатные материалы, воспроизводящие флаги и знамена: путеводители, карты, энциклопедии, словари, ученые труды распространяли европейскую модель, а затем придавали ей официальный статус. Наконец, сегодня роль посредника играют крупные международные организации — вспомним, к примеру, исключительно западнический характер международного протокола в ООН и не только, — а также крупные спортивные соревнования и их мировое массмедийное освещение. Олимпийские игры, мировые чемпионаты, кубки мира стали уникальными промоутерами западной эмблематики во всех ее формах в ущерб прочим эмблематическим системам, которые веками использовались в других культурах. Западная эмблематика вытеснила все. Даже Япония, которая в 1964 году выступила организатором Олимпийских игр в Токио, отказалась в этом контексте от своих собственных древних эмблематических изображений и предпочла им цвета, майки, флажки и значки «в западном стиле». И, переняв их, сделала из них товар, тем самым способствовав их распространению по всей планете. Экономика, идеология и культура в данном случае неразрывны. Экономическая война, которую ведут многонациональные американские и японские корпорации, недавно довершила дело, начало которому было положено религиозными войнами и войнами на море в эпоху крестовых походов: мировое распространение европейских знаковых систем.
Эти явления ставят перед историком множество вопросов: какова зона распространения, каков период функционирования данной конкретной эмблематической формулы? Какие страны, государства, культуры, политические режимы являются экспортерами эмблем, а какие — их потребителями? Где расположены центры, точки пересечения, «смутные зоны» эмблематики? В средневековом христианском мире Византия была экспортером эмблем до начала XII века, а Священная Римская империя подхватывала их и передавала дальше на запад Европы. В дальнейшем Византия уступила эту роль Англии, Франции и затем Бургундскому государству. На юге, в самом центре Средиземноморья, активнейшей зоной пересечения традиций, настоящей эмблематической лабораторией, в которой смешивались византийская, нормандская и мусульманская эмблематические системы, была Сицилия. В Новое время, с XVI по начало XVIII века, leadership[654] в эмблематике в Европе и в Новом Свете главным образом берет на себя Испания, наследница бургундской традиции. Наконец, начиная с XIX века эстафету принимают англосаксы, которые завершают процесс, распространяя европейские коды по всем континентам.
Эти явления вексилларной аккультурации теснейшим образом связаны с цветом. Цвет — это культурный феномен в высшей степени: определяющие его параметры меняются в зависимости от общества и даже в зависимости от эпохи. Даже на Западе современные параметры, предъявляемые к цвету (тон, яркость, насыщенность), установились не сразу. В других случаях для определения или описания цвета могут использоваться иные понятия (сухой/влажный, мягкий/резкий, матовый/блестящий, теплый/холодный и т. д.). Кроме того, само цветовосприятие также является культурным феноменом, так как задействует память и воображение. Следовательно, как в этой связи следует подходить к изучению флагов? Как эти различия влияют на составление флагов, их использование, их восприятие? Например, одинаково ли воспринимался и осмыслялся красный штандарт в мусульманских странах, в Византии и в Священной Римской империи германской нации в XII веке? Конечно, нет. Красный цвет для мусульман значит одно, для византийцев — другое, а для немцев или итальянцев — третье. Так же и в наши дни: зеленый цвет в ирландском флаге ни в эмблематическом, ни в символическом плане не имеет никакого отношения к зеленому цвету Лиги арабских стран или западноафриканских государств, бывших прежде французскими колониями (Сенегала, Мали, Гвинеи и др.). Между тем на сегодняшний день зеленый цвет на флагах и в официальных документах национального или международного значения во всех трех случаях выглядит одинаково. Как это воспринимается, ощущается, осмысляется и переосмысливается разными сторонами?
Как любой знак, любая эмблема, любой цвет, флаг никогда не существует изолированно; он воплощает или приобретает смысл только в том случае, когда он сопоставлен с другими флагами или противопоставлен им. Поэтому страны без флага быть не может: даже если страна отказывается выбрать флаг, другие страны берут эту функцию на себя и назначают ей флаг по собственной инициативе или же признают, что отсутствие флага равнозначно его наличию. В семиотическом смысле отсутствие эмблемы фактически является эмблемой. Тем не менее сопоставление, противопоставление, позиционирование флагов по отношению друг к другу регулируется принципами не только структурного, но также исторического и культурного порядка. Эти отношения следует изучить в их пространственно-временной динамике, ведь эмблематика никогда не сводится к чисто семиотической системе, свободной от всякого исторического или антропологического содержания. Не стоит об этом забывать, особенно когда речь заходит о генезисе и возникновении флагов.
Рассмотрим еще один пример, который снова перенесет нас к берегам Средиземного моря, — современный греческий флаг1. Он появляется в эпоху первых националистических антиосманских восстаний 1821-1823 годов, переживает революционный период и в 1833 году, после утверждения независимости, принимается в качестве официального флага. Первоначально представляя собой белый крест на синем фоне (в лазурном поле серебряный крест), он впоследствии дважды меняется, прежде чем приобретает нынешний, знакомый нам вид: четыре белых пояса и белый крест на синем поле. Цвета с начала революции 1820-х годов ни разу не менялись. Почему именно эти цвета? Сегодня в Греции любой прохожий вам объяснит, что синий — это цвет моря или неба, а белый — это цвет домов, света или Христа. Эти интерпретации, конечно, имеют под собой мало исторических оснований, они были придуманы a posteriori[655], но не следует забывать, что при этом они сами по себе исторически значимы. Каждый флаг может быть развернут в дискурс и в каждый могут быть вчитаны смыслы; флаг сам создает свою собственную мифологию.
В противоположность этому, более научное, а также более позитивистское объяснение могло бы состоять в том, что синий и белый цвета попросту являются традиционными геральдическими цветами Баварского дома и что первый государь современной и независимой Греции, Оттон I (1832-1862), был младшим сыном Баварского короля. Таким образом, геральдические цвета правящей династии просто-напросто стали цветами национального флага, в соответствии с тем самым принципом, который был реализован во многих странах Европы и о котором уже говорилось выше: переходом от семейной эмблемы к династической, от династической к монархической, от монархической к государственной и от государственной к национальной. Однако в случае с Грецией и Баварским домом есть одна загвоздка: синий и белый цвета были выбраны греческими повстанцами за несколько лет до того, как можно было предположить, что юный Оттон Баварский взойдет на трон будущего королевства. Первый государь современной Греции, несомненно, лишь утвердил эти цвета, так как они соответствовали его собственным, а значит, истоки их нужно искать где-то еще. Я, в свою очередь, охотно бы объяснил композицию первого греческого флага стратегией противопоставления османскому флагу (красное поле с белой звездой и белым полумесяцем). Христианский крест соответствует мусульманскому полумесяцу[656], а синий цвет, часто воспринимавшийся пренебрежительно в исламском мире, противопоставлен красному цвету. Флаг меньшинства таким образом позиционирован по отношению к флагу угнетателей: будучи взят изолировано, он теряет свое значение; однако будучи противопоставлен другому флагу, он функционирует как контрэмблема, становится динамическим символом и открыто провозглашает восстание.
Такое позиционирование имеет одновременно структурные (крест/полумесяц, синий/красный) и культурные основания, так как крест и синий цвет могло выбрать только христианское меньшинство. Для мусульманских меньшинств выбор таких эмблем был бы просто невозможен: крест табуирован во всех исламских странах, а оппозиция синий/красный практически не семантизирована в мусульманской культуре и мусульманском восприятии. Поэтому, бунтуя против центральной власти (например, в Северной Африке), мусульманские меньшинства предпочитали использовать другие фигуры (солнце, чашу, саблю) и другие цвета (зеленый, черный), которые могли быть противопоставлены турецкому флагу. Как и в случае с Грецией, снова применяется стратегия противопоставления, но теперь она выражается и семантизируется через иные в культурном смысле ценностные системы[657].
Рассмотрим последний пример — не средиземноморский, но тоже южно-европейский, а именно португальский. До 1910 года в гербе и флаге Португалии фигурировали синий и белый цвета, которые являлись геральдическими цветами португальских королей с XII века. В начале XX века происходит революция и встает вопрос о необходимости нового республиканского флага. Какие выбрать цвета? Синий и белый, которые слишком напоминают о поверженной монархии, исключены. Желтый — тоже, так как он слишком явно отсылает к могущественной и не слишком любимой соседке — Испании. Значит, выбирать приходится из зеленого, красного и черного. В 1911 году при невыясненных до конца обстоятельствах и по причинам, о которых спорят до сих пор, молодая Португальская республика останавливает свой выбор на флаге, рассеченном на зеленый и красный цвета. Этот флаг Португалия сохраняет до сих пор. Это один из редких европейских флагов, в которых нарушается правило геральдических цветов: зеленый (изумруд) и красный (червлень) цвета соприкасаются друг с другом, что полностью противоречит правилам геральдики (впрочем, выбор черного цвета в сочетании с зеленым или красным ничего бы не изменил, и правило точно так же было бы нарушено).
После того как флаг был принят, в каком-то смысле по остаточному принципу, так как выбирать приходилось из тех цветов, «которые оставались», стали выдвигаться различные доводы исторического или символического характера, призванные обосновать этот выбор. Зеленый, считающийся цветом португальского морского флота, якобы подчеркивал роль последнего в свержении монархии (выдвигалась даже идея, что новый флаг воспроизводил в неизменном виде зелено-красный флаг военного корабля «Адамастор», который сыграл решающую роль в начале революции). Также предполагалось, что зеленый был цветом свободы, а красный свидетельствовал о том, какими средствами она была достигнута: кровью. Банальная и сомнительная цветовая символика, которая привлекалась задним числом и, разумеется, ничего не объясняла. Некоторые португальские вексиллологи это почувствовали и позднее предложили рассматривать зеленый и красный цвета как воспоминание о цветах крестов двух древних португальских рыцарских орденов, Ависского ордена и ордена Христа. Все это досужие вымыслы.
До сих пор мы не знаем, почему в португальском флаге сочетаются зеленый и красный цвета, нарушая тем самым основные правила геральдики. Но этот случай прекрасно демонстрирует то, как создавались многие флаги Нового и Новейшего времени — в спешке и неразберихе, часто в подполье. Как только конституция придает им официальный статус, сакрализирует их, они приобретают непреложный (или почти непреложный) характер, и понять мотивы, которыми руководствовались их создатели, становится довольно трудно. А это открывает путь для всевозможных гипотез, переосмыслений и манипуляций. Флаг не бывает немым. Флаг не бывает нейтральным.
Множество примеров того, как трудно бывает понять причины присутствия на флаге тех или иных фигур и цветов, мы встречаем в странах Африки, Азии и Южной Америки, добившихся независимости в XIX-XX веках. Флаг здесь часто появлялся в ходе вооруженной борьбы с западным колонизаторским государством. Флаг, представляя собой изначально просто условный знак повстанческой организации (впрочем, уже поэтому он наделен мощным идеологическим зарядом), становится со временем неофициальной эмблемой более широкого движения, а как только победа достигнута и независимость провозглашена — официальным флагом нового государства. С этих пор уже мало кто может или хочет вспоминать те обстоятельства, мотивы, смыслы, которые определили выбор конкретных фигур и цветов, составивших флаг. Когда мир восстановлен и с бывшим угнетателем подписаны договоры «о дружбе и взаимопомощи», лучше постараться забыть или скрыть слишком провокативные мотивации или идеи. Новое государство должно иметь «подходящий» флаг, то есть мирный, а не агрессивный, обращенный в будущее, а не в прошлое. Поэтому флаг приспосабливают к новым условиям и — главное — переосмысливают его. Флаг не изменяют, но перетолковывают его фигуры, придают иное значение цветам, вкладывают в него затасканную символику, связанную с миром, свободой, братством, процветанием или, еще того банальней, с землей, небом, морем, лесом и т. д. И наконец, через несколько десятилетий сами начинают во все это верить, забывая об исконных смыслах и значениях флага. В этом случае задача историка усложняется.
Конечно, процессы забвения или замалчивания касаются не всех флагов, появившихся в современную эпоху, однако именно они обуславливают те типичные трудности, с которыми сталкивается исследователь политической эмблематики. При историко-археологическом подходе к изучению составляющих ее знаков и символов мы сталкиваемся то с отсутствием документов, то — чаще всего — с неоднозначным и противоречивым характером источников. Это касается как национальных флагов, так и эмблем политических партий. Попытка выяснить, с какого времени такой-то группой используется такая-то эмблема, кто ее выбрал, при каких обстоятельствах, по каким причинам, почти всегда обречена на провал[658]. Впрочем, это не мешает всем этим знакам и символам полноценно «функционировать». Напротив, их туманное происхождение, а также окружающий их мифологический или символический дискурс способствуют тем лучшему функционированию. Мечтается лучше тогда, когда наверняка ничего не известно, а символы более действенны в тех случаях, когда они побуждают нас мечтать. Поэтому флаг меняют редко.
Действительно, смена флага является для страны очень серьезным символическим актом и поэтому происходит так редко. Недавний случай с Верхней Вольтой, переименованной в 1984 году в Буркина-Фасо и радикально изменившей свой флаг, как раз является таким редким случаем. Даже смена режима или идеологии не всегда сопровождаются изменением флага, по крайней мере не всегда радикальным. Рассмотрим несколько примеров, связанных со сменой монархического строя на республиканский. В 1889 году Бразилия, провозглашенная республикой, не только сохранила зеленый цвет, присутствовавший в эмблеме императорского дома Браганса (после он был переосмыслен как цвет амазонских лесов!), но также заодно оставила и императорскую державу, просто преобразовав ее в армиллярную сферу[659], призванную напоминать о первых португальских мореплавателях[660].
Точно так же в 1919 году Австрийская республика без колебаний воспроизводит в своем флаге геральдическое красно-белое знамя бывшего эрцгерцогства Австрийского. Но бывает еще интересней: в 1923 году новоявленная Турецкая республика, установление которой во всех сферах сопровождалось радикальным разрывом с прежним строем, имевшим почти тысячелетнюю историю, сохранила древний красный флаг Османской империи с белой звездой и белым полумесяцем; он по-прежнему является флагом Турции. Что касается коммунистической Польши, то она без тени стеснения вернула себе геральдические цвета древней польской монархии[661]: белый и красный, которые издавна были неотъемлемыми национальными цветами. Ведь этот флаг представляет не только государство, он также представляет нацию.
Каждый флаг в действительности ставит перед нами вопрос об отношениях между государством и нацией. Однако сложно сказать, чьей по преимуществу эмблемой он становится. Почти всегда речь идет о «национальном флаге», однако именно текст конституции, исходящий от государства, дает флагу такое определение, а также регулирует и контролирует его использование. Флаг — это официальный символ, и обращаться с ним как попало не дозволено законом. Однако между правом и делом часто бывают значительные расхождения, и на практике вокруг флага выстраивается множество ритуалов, которые нельзя назвать ни официальными, ни государственными. Государству хотелось бы обладать монополией на флаг, однако это остается утопией, по крайней мере в демократических странах. Ведь флаг принадлежит еще и нации — и нации прежде всего. К примеру, на любом спортивном соревновании всякий болельщик национальной команды ощущает свое законное право размахивать флагом своей страны, а в случае поражения готов бросить его и даже топтать ногами. Все спортивные, праздничные, мемориальные, политические, идеологические ритуалы и ритуалы перехода, в которых задействуются национальные флаги, следовало бы изучить самым подробным образом. Флаги поднимают не только во время национальных праздников, военных или государственных церемоний. Этого требуют и множество других обстоятельств, как внешних, так и внутренних.
За отсутствием серьезных исследований, еще, вероятно, слишком рано делать выводы о том, каким образом флаг объединяет государство и нацию. Однако самое время задаться соответствующими вопросами. Например, в какой форме француз, итальянец, швед выражают свою причастность к флагу? С гордостью ли они его водружают? Делают ли они это вообще? Где, когда, как? Демонстрируется ли та же причастность к национальному флагу в странах с федеративным устройством (например, в Швейцарии или Германии)? Не отдается ли предпочтение флагу кантона или земли? Кроме того, не устарел ли в какой-то мере в странах Западной Европы обычай вывешивать флаги в день национального или регионального праздника? Тогда почему флаги охотно разворачивают на стадионах, особенно находясь за границей? Не возрастает ли стремление гордиться своим флагом вдалеке от дома? Выражает ли флаг ностальгию? Или его охотнее демонстрируют в тот момент, когда есть возможность противопоставить его другому флагу? Несомненно, это так и есть, если речь идет о меньшинстве, бунтующем против власти или страны-метрополии. Современные примеры многочисленны и часто весьма печальны: корсиканский флаг против французского, чеченский против российского, тибетский против китайского, баскский против испанского и французского, курдский — против флагов сразу нескольких государств. Флаги народов, которые не добились государственной независимости, в большей степени, чем другие, отсылают к идее нации. Но если в период войны или напряженности между двумя странами разъяренная толпа сжигает флаг другой страны, кто в таком случае оказывается под прицелом — вражеское государство или нация?
Флаги ведь еще и сжигают, забрасывают камнями, топчут, вешают и спускают. Символический предмет, эмблематическое изображение, персонифицированная аллегория, одновременно сигнал и вместилище памяти, прошлое и будущее, — флаг является объектом всех ритуальных действий, которым подвергаются наделенные силой знаки, выходящие за пределы своего смыслового заряда и своей исходной функции почти «стихийным» образом. Флаг живет и умирает, воскресает и носит траур, его ранят или захватывают в плен, его освобождают, перешивают и поднимают, ему отдают честь, его целуют, им покрываются, с ним спят, с ним умирают. А потом его складывают, убирают и забывают.
Появление шахмат в Западной Европе
История непростой аккультурации
Самый древний документ на Западе, в котором упоминается игра в шахматы, написан на каталанском языке и датируется началом XI века: распоряжением 1008 года граф Урхельский Эрменгол I завещает свои шахматные фигуры «церкви святого Эгидия[662]». Несколько десятилетий спустя, в 1061 году, выдающийся теолог Петр Дамиан, в то время кардинал Остии, доносит папе на епископа Флоренции, которого он якобы видел играющим в шахматы[663]. Тем самым он кладет начало длинной череде диатриб, которыми Церковь почти до самого конца Средневековья клеймила эту игру. И тщетно. Начиная со второй половины XII века возрастает число текстуальных, археологических и иконографических свидетельств, демонстрирующих, насколько быстро распространялась эта игра, несмотря на враждебное отношение к ней Церкви. Теперь шахматами увлекаются не только знать и духовенство: теперь в них играет все благородное сословие во всех католических странах — от Сицилии до Исландии, от Португалии до Польши.
Западные народы переняли шахматы у мусульман. Шахматы проникли на Запад двумя путями: сначала, вероятно, не раньше середины X века, средиземноморским путем: через Испанию (где они впервые упоминаются в каталанском тексте), Сицилию, южную Италию; затем, несколькими десятилетиями позже, в начале XI века, северным путем: на север эту игру, известную в исламских странах уже около трех столетий, привозят с собой скандинавы, ведущие торговлю с Византийской империей, на территории современной Украины и на побережье Черного моря. Археологические находки свидетельствуют в пользу обоих этих путей и в пользу того, что на Запад шахматные фигуры и сама игра проникали постепенно.
Собственно восточные истоки шахмат проследить сложнее. Если достоверно известно, что игра родилась в Индии и что из Индии она попала в Иран, а затем оттуда распространилась по всему мусульманскому миру (арабы покоряют Иран, начиная с 651 года), то гораздо сложнее определить, к какому времени она приобрела тот самый вид, который в большей степени напоминает наши современные шахматы, нежели все те многочисленные и отдаленно похожие на нее игры «на доске в шашечку», уже известные древним обществам и Азии, и Европы. До XVI века, когда в Европе закрепляются «современные» правила и игра принимает «современный» вид, она претерпевает многочисленные и подчас существенные изменения. Сегодня ученые сходятся во мнении, что именно в то время, когда игра попала из Северной Индии в Иран в начале VI века нашей эры, она и приобрела структуру, в достаточной степени подобную той, что закрепилась за ней впоследствии, и отныне стала рассматриваться как «игра в шахматы». Еще в большей мере, чем Индия — бесспорная родина шахмат, — решающей средой формирования игры стали, конечно, Иран и персидская культура. Похожая игра индийского происхождения — чатуранга, или игра четырех царей[664] — попавшая в Китай без посредничества персидской культуры, стала предшественницей нескольких восточноазиатских игр, весьма отличающихся от наших шахмат.
В Средние века на Западе обо всех этих трансформациях и странствованиях ничего не известно. Однако авторы, которые пишут о шахматах, знают о том, что шахматы пришли с Востока. И не только, и даже не столько, знают, сколько верят в это, и это для них едва ли не важнее: игра, столь насыщенная символами, может прийти только с Востока, страны знаков и грез — из этого неисчерпаемого источника всевозможных «чудес». Происхождение игры обрастает бесчисленными легендами. По мнению многих средневековых авторов, происхождение ее теряется во тьме веков. Некоторые, однако, справедливо замечают, что в Библии о шахматах ничего не говорится (каким выдающимся игроком мог бы все-таки быть царь Соломон, пишет, будто с сожалением, один анонимный автор XIV века[665]), и подыскивают им изобретателя в языческом мире древних греков. Аристотель и Александр Македонский — два персонажа, по поводу которых у средневековых людей не раз и не два разыгрывалось воображение, — чаще других оказываются в этой роли. Однако они вынуждены делить ее еще с одним греческим героем, на этот раз мифологическим — Паламедом. Речь идет о герое «Илиады», двоюродном брате царя Менелая, который, сидя под стенами Трои, изобрел шахматы, чтобы во время затянувшейся осады скучающим грекам было чем развлечься. Эта легенда не совсем средневековая. Уже в Античности греки приписывали Паламеду, достойному сопернику Одиссея, разнообразные изобретения: буквы, календарь, вычисление времени затмений, деньги, игру в кости и особенно в шашки.
Игре в шашки Средневековье предпочло шахматы[666]. А еще оно создало второго Паламеда, выдумав, в придачу к греческому герою, рыцаря Круглого Стола с точно таким же именем. Этот новый Паламед занимает важное место в литературных прозаических текстах XIII века: сын «вавилонского султана», он обращается в христианство и остается при дворе короля Артура; туда он привозит с Востока игру в шахматы, дабы наставить рыцарей Круглого Стола на путь завоевания Грааля. Стало быть, к 1230 году игра в шахматы уже осмысляется как настоящий инициационный путь. Впоследствии наш артуровский Паламед становится разом и другом, и неудачливым соперником Тристана, любимого персонажа аристократической публики: он тоже любит прекрасную златокудрую Изольду, но она не отвечает ему взаимностью. Несчастная, неразделенная любовь — одна из наивысших ценностей куртуазной культуры. Возможно, эта любовь принесла нашему Паламеду не меньшую славу, чем шахматы. Тем не менее, чтобы не забыть о том, что он познакомил рыцарское общество с этой необычной игрой, средневековое воображение наградило его гербом, который визуально напоминает о его заслуге. Это щит с полем, разделенным шахматно на серебро и чернь, то есть щит, поле которого заполнено чередующимися белыми и черными квадратами. Такие гербы в шашечку впервые появляются в 1230-х годах, их можно увидеть на многих миниатюрах с изображением Паламеда вплоть до конца Средневековья[667]. Кроме того, некоторые знатные особы — например Ренье По, камергер герцога Бургундского в конце XIV века, — получают, по причинам нам неизвестным, прозвище Паламед и берут себе его герб, по случаю участия в турнире или в военной кампании[668]. Подобное заимствование имен или гербов литературных героев реальными людьми было распространенной практикой в придворных кругах на закате Средневековья.
Кем бы ни был Паламед, соратником царя Менелая или рыцарем короля Артура, люди XIII века не сомневались в том, что шахматы «изобрел» именно он и что игра эта пришла с Востока. И не только игра, но и роскошные шахматные фигуры, которыми играли в королевских и аристократических кругах: чаще всего это были большие фигуры из благородной кости, которые могли принадлежать только влиятельной королевской особе и которые мог изготовить только восточный ремесленник, знающий магические свойства этого ценного материала и владеющий искусством его обработки. Об этом сообщают средневековые предания о большинстве шахматных фигур из богатых церковных или аббатских сокровищниц. Самые прославленные из них, бесспорно, массивные фигуры из слоновой кости, хранящиеся с 1270-х (а возможно, и с 1190-х) годов в сокровищнице аббатской церкви Сен-Дени (илл. 11): они якобы принадлежали Карлу Великому, которому их подарил аббасидский халиф Харун ар-Рашид (правивший в Багдаде с 789 по 809 год), легендарный персонаж и герой некоторых сказок «Тысячи и одной ночи». В шахматы Карл Великий, конечно, никогда не играл — для этого он родился слишком рано и слишком далеко на западе, — и фигурами этими, вырезанными, вероятно, в южной Италии, в Салерно, в конце XI века, тоже не владел. Однако приписать ему владение ими означало придать этим предметам исключительную политическую и символическую значимость, сопоставимую со значимостью регалий или реликвий, и тем самым способствовать прославлению престижа Сен-Дени, его аббатов и монахов[669]. Впрочем, и другие церкви на Западе похваляются тем, что в их сокровищницах имеются подобные фигуры из благородной кости, принадлежавшие прославленным личностям: Соломону, царице Савской, Александру Македонскому, Юлию Цезарю, волхву Валтасару, пресвитеру Иоанну, тому или иному королю или особо почитаемому святому[670].
Понятие «сокровища» является ключевым понятием феодальной власти. Этим словом обозначается совокупность ценного движимого имущества, которым владеет любой обладатель значительной власти, будь то суверен, крупный сеньор, прелат или же аббатство. Это нечто вроде «воображаемого музея»: пользование им, его хранение и публичная демонстрация являются неотъемлемой частью литургии власти. И великий король, и простой аббат сознают необходимость обладать сокровищем. Предметы, из которых может состоять это самое сокровище, образуют длинный список. Однако несмотря на то, что список этот будет меняться и от века к веку, и в зависимости от типа власти, отдельные его составляющие останутся практически неизменными. Прежде всего это реликвии и культовые предметы, ценные металлы и монеты (иногда мусульманские, с надписями из Корана), золотые, серебряные изделия и посуда, драгоценности и драгоценные камни. Затем, главным образом в числе сокровищ аристократии, это оружие и военное снаряжение, конские сбруи, седла, шкуры животных, меха, ткани и дорогая одежда, а также все связанные с ней аксессуары, выставляемые напоказ. Наконец, собрания редкостей, среди которых манускрипты и грамоты, научные приборы и музыкальные инструменты, экзотические предметы, игры, всевозможные curiosa и даже животные — живые или нет, дикие (медведи, львы, пантеры) и прирученные (соколы, лошади, собаки)[671].
Все эти вещи играют важнейшую роль в символике и репрезентации власти. Они являются объектами ритуальной демонстрации, их показывают вассалам, высоким гостям и даже просто странникам, остановившимся на постой. Иногда их дарят или обмениваются ими; но чаще предпочитают их приобретать, собирать, накапливать. У каждого такого предмета есть своя история, своя мифология, свое легендарное происхождение, свои чудесные и даже чудотворные свойства, целительные или оберегающие. Эти предметы окружены верованиями, а их сила происходит от свойств тех материалов, из которых они сделаны. Напротив, творческий или интеллектуальный труд, затраченный на их изготовление, мало что значит. Для тех, кто ими обладает или жаждет ими обладать, они имеют весомое экономическое, политическое и онирическое значение, но едва ли эстетическое, по крайней мере не в том смысле, который мы сегодня вкладываем в это слово. Эти вещи значимы, они дорого стоят, они укрепляют престиж и власть, они будоражат воображение.
В Средние века шахматные фигуры часто встречаются в сокровищницах церквей или аббатств, и в этом смысле случай Сен-Дени отнюдь не единичен. Так, в одной из самых богатых сокровищниц христианского мира — в сокровищнице аббатства Сен-Морис д’Агон в Вале имеется несколько арабских шахматных фигур, а в Кёльнском соборе хранилось три полных шахматных набора, ныне утраченных; один происходил из Северной Европы, два других — с Пиренейского полуострова[672]. Поразительно отношение Церкви к шахматам: с одной стороны, она осуждает игру, с другой — будто бы окружает некоторые шахматные фигуры культом, сходным с культом реликвий. Она объявляет шахматы дьявольской игрой, но фигуры, предназначенные для игры, собирает, а подчас и почитает. Чтобы понять это видимое противоречие, нужно разобраться в хронологии. Особенно часто прелаты и церковные власти (синоды, соборы) запрещали игру в XI—XII веках. Впоследствии они делают это реже, и к концу Средневековья эта тенденция практически сходит на нет. Этому есть несколько причин. Прежде всего — неэффективность подобных запретов: ведь со временем игра в шахматы все больше и больше захватывала общество. Затем произошедшая в XIII веке переоценка игр как таковых, ставших отныне полноценной частью куртуазного и рыцарского воспитания[673]. И, наконец, самое главное — постепенное устранение основной причины враждебного настроя Церкви по отношению к шахматам: отказ от использования игральных костей, то есть от элемента случайности, азарта. Древний индийский вариант обычной игры в шахматы, где ход фигуры (выбор фигуры, которая делает ход, и/или количество клеток, на которые она должна продвинуться на доске) определялся тем, что выпадает на костях, не был в действительности забыт в то время, когда игра получила распространение в исламском мире, и даже в некотором смысле пережил второе рождение в момент своего появления на Западе. Для Церкви игровой азарт (который на латыни передается словом alea) — сущее безобразие, все азартные игры она считает дьявольскими. Кости — еще того хуже: ведь в них играют чаще, чем в любую другую игру, играют где угодно и когда угодно, в замке и в хижине, в трактире и в монастыре, и часто проигрывают все, чем владеют: деньги, одежду, коня и жилище. Кроме того, эта игра опасна. Несмотря на то, что игроки перемешивали кости в рожке, нередки были случаи мошенничества, особенно с применением шулерских костей, о которых иногда упоминают литературные тексты: у костей nompers, неравных, одна и та же грань воспроизводилась дважды; у plommez, пломбированных, одна из граней утяжелялась за счет свинца; у longnez, длинноносых, одна грань была намагничена. Часто это приводило к дракам, которые иногда перерастали в настоящие междоусобицы[674].
Именно кости, в первую очередь, и навредили шахматам. Епископ Флоренции, которого Петр Дамиан обвинил в 1061 году в пристрастии к шахматам, ответил в свою защиту, что хотя он в них и играл, но — «без костей». И в самом деле, отказавшись от использования костей, игра в шахматы мало-помалу становится уважаемой, а затем приобретает и престижный статус. Отныне азарт уступает место размышлению. И если в конце XII века прелаты все еще накладывают запрет на эту игру для клириков — ибо это пустая трата времени, дающая повод для распрей и оскорблений, — то к мирянам, играющим в шахматы, они начинают относиться терпимо. В середине следующего века времяпрепровождение за игрой в шахматы уже предусматривается уставами некоторых религиозных общин, при соблюдении непременных условий — не использовать кости и не играть на деньги[675]. Некоторые авторы, как, например Готье де Куэнси в «Чудесах Богородицы», даже изображают шахматные партии, в которых силы Господа противопоставлены силам Дьявола.
И все-таки один король был настроен по отношению к шахматам еще более жестко, чем Церковь: Людовик Святой. Всю свою жизнь он питал отвращение к играм и азарту. В 1250 году во время плавания на корабле из Египта в Святую землю он без колебаний выкидывает за борт шахматную доску, фигуры и кости, которыми играли его собственные братья; этот случай произвел глубокое впечатление на его биографа Жуанвиля, лично наблюдавшего сцену[676]. Четырьмя годами позже, в декабре 1254-го, издавая свой знаменитый указ, реорганизующий управление королевством, король решительно осуждает шахматы, а также все игры на доске (предшественницы триктрака и бэкгэммона) и все игры в кости. Однако среди королей и князей Людовик Святой — исключение. Некоторые суверены, его современники, были страстными шахматистами: например, император Фридрих II (умерший в 1250 году), который у себя при дворе в Палермо смело бросает вызов мусульманским чемпионам, или король Кастилии Альфонс X Мудрый (1254-1284), который за год до своей смерти приказывает составить обширный трактат, посвященный трем играм, осужденным тридцатью годами ранее его кузеном, королем Франции: шахматам, играм на доске и костям[677].
Однако хронология объясняет не все. Церкви начали собирать в своих сокровищницах шахматные фигуры задолго до того, как прелаты стали более терпимо относиться к игре. Возможно даже, что в некоторых аббатских сокровищницах арабские фигуры хранились еще до того, как игра появилась на Западе, то есть до 1000 года. Свидетельство тому — завещание шахмат графом Урхельским в пользу церкви Святого Эгидия от 1008 года. Отношение к игре и отношение к шахматным фигурам — совершенно разные вещи. Причин этому несколько, однако основная состоит, видимо, в том, что многие средневековые шахматные фигуры, из числа самых больших и красивых, не предназначались для игры. Они были связаны с другими, более важными и торжественными контекстами: ими обладают, их демонстрируют, к ним прикасаются, их собирают и хранят. Их место не на шахматной доске, а в сокровищнице. Так называемые фигуры Карла Великого из сокровищницы Сен-Дени как раз и отвечают этой роли: это не пешки, которыми играют, это символические предметы. Эти фигуры — не игровые. Ритуал, который за ними стоит, — не игра, а культ; культ, сохраняющий в себе что-то языческое и придающий священное значение прежде всего материалу, из которого сделаны эти предметы: благородной кости.
Благородная кость, живой материал
Благородная кость для людей Средневековья — материал, не похожий ни на какой другой, столь же редкий и изысканный, как золото и драгоценные камни, но еще более примечательный своими физическими, а также целебными и оберегающими свойствами. Во многих текстах восхваляется его белизна, прочность, чистота и долговечность. Есть также множество свидетельств, особо указывающих на то, что благородная кость считалась живым материалом. За ней всегда стоит конкретное животное, со своей историей, легендой, мифологией: прежде всего, конечно, слон, но также кашалот, морж, нарвал и даже гиппопотам. Каждое из этих животных обладает характерными символическими свойствами и дает свою особую кость.
По средневековым представлениям, гиппопотам — животное в то время почти неизвестное — речное чудовище, жестокое и несокрушимое; он плавает задом — что является знаком тяжкого греха — и заставляет воды выходить из берегов. Гиппопотам — дьявольское создание. Не по этой ли причине христианское Средневековье отказалось от использования благородной кости его зубов, ценимой в Древнем Египте и в римском мире? Ее, как и слоновую кость, несомненно, можно было бы привозить из Африки, да и стоила бы она, вероятно, дешевле. Точно так же и кашалот, не отличаемый авторами от других китов, предстает морским чудовищем, которое заглатывает людей, прибегая к дьявольским уловкам (например, притворяется островом, чтобы привлечь мореплавателей, или же источает чудесный аромат, чтобы заманить их); до XVI века благородную кость его зубов использовали редко. Напротив, клыки моржа ценились весьма высоко, возможно потому, что в бестиариях морж предстает не чудовищем, а морским конем (equus marinus), огромным как слон, миролюбивым, стадным животным; северные народы Европы используют его мясо, жир, кости и кожу; он столько дает человеку, что сам считается даром Божьим[678]. Однако слон вызывает еще большее восхищение, чем морж: согласно бестиариям и энциклопедиям, он — непримиримый враг дракона, то есть Сатаны. Считается, что его кожа, кости и особенно бивни способны отгонять змей, защищать от паразитов, а если истолочь их в порошок, то он будет действовать как противоядие. Кроме того, слона признают самым умным из всех животных; у него необыкновенная память, целомудрие его вошло в поговорку; его легко приручить, он «приятен в обхождении» и, по словам некоторых авторов, может удержать на своей спине замок и даже целый город. Слоновая кость, то есть бивни слона, сохраняет большую часть этих свойств: она очищает и защищает от яда, отводит от искушения, обеспечивает передачу памяти, а также прочна и хорошо сохраняется[679]. Из слоновой кости вырезают далеко не всякий предмет. Но когда из нее вырезают фигуру в форме слона — например, четырех слонов из так называемых шахмат Карла Великого, — тогда символика животного и символика материала взаимно обогащаются.
В этой связи остается только пожалеть, что археологи и историки искусства так редко пытаются выяснить, какому именно животному принадлежит благородная кость, из которой сделаны те или иные изучаемые ими предметы. Кажется очевидным, что выбор средневековых резчиков по кости зависел не только от само собой разумеющихся вопросов цены и доступности — связанных с торговлей и географией (промыслом моржа занимаются на севере, промыслом слона — на юге), — и не только от физических и химических свойств конкретного вида кости (размера, изогнутости, пористой или твердой структуры, гладкости поверхности, разновидности приобретаемой патины и т. д.), — он зависел еще и от соображений символического порядка, почерпнутых из бестиариев и зоологической литературы. Животное заняло столь прочное место в мировосприятии и воображении людей Средневековья, что иначе и быть не могло.
Случай нарвала в полной мере свидетельствует о превосходстве воображаемого над экономическим и материальным. Это животное отряда китообразных само по себе неизвестно средневековым авторам, но его длинный бивень, закрученный спиралью, принимают за волшебный рог легендарного единорога. Считается, что это самая тонкая, самая плотная, самая белая, а главное — самая чистая кость. Ведь единорог, который может быть пойман только юной девой, прочно ассоциируется с Христом. Рог этого животного обладает ни с чем не сравнимым свойством исцелять и освящать. Часто его даже не подвергают обработке,
а помещают в первозданном виде в церковную сокровищницу — как «реликвию», более драгоценную, чем мощи любого святого. Ибо рог единорога имеет божественную природу[680].
Однако благородная кость — не единственный материал животного происхождения, из которого вырезают средневековые шахматные фигуры; ее приберегают для дорогостоящих фигур: ими не играют, или играют в редких случаях; их демонстрируют. Другие материалы, используемые для изготовления обычных шахмат, тем не менее на нее похожи, и иногда с ними работают все те же резчики по благородной кости: это кости китообразных или крупных млекопитающих, оленьи и бычьи рога. Эти материалы хранят в себе частицу дикого мира и, будучи воплощены в фигурах, привносят на шахматную доску некую идею необузданности и силы: играя такими фигурами, не так-то просто символически покорить alfin или rос[681] противника. Иногда, главным образом в XV веке, использовались более «податливые» животные материалы: воск, амбра, коралл.
Зато в обычной, повседневной игре, где вместо фигуративных шахматных фигур в ходу были фигуры геометрические или стилизованные, с XIII века используется другой живой материал, на этот раз не животного, а растительного происхождения, и потому более чистый и мирный (средневековая культура, как и библейская, часто противопоставляет растительное, которое является чистым, животному, которое таковым не является): это дерево. Но деревянные фигуры не воплощают в себе той дикой силы, каковой наделены фигуры из рога, из обычной или благородной кости. В конце Средних веков они входят в повсеместное употребление, тогда же игра становится более сдержанной, а игроки, перестав вечно выискивать знаки, как они делали в феодальную эпоху, начинают невозмутимо «переставлять деревяшки» (выражение, появившееся в XVIII веке)[682], что они делают и по сей день. Шахматист XII века, как подчеркивается во фрагментах некоторых песен о деяниях, где шахматная партия заканчивается смертью человека, был сангвиником[683]; на закате Средневековья и в Новое время он — флегматик. Противопоставление двух темпераментов — красноречивое свидетельство тех трансформаций, которые произошли с шахматами между феодальной эпохой и Возрождением.
Несмотря на использование, с конца Средневековья и в течение всего Нового времени, мертвых материалов, относящихся к минералам (горный хрусталь, различные полудрагоценные камни) или к металлам (золото, серебро, бронза), игра в шахматы долгое время оставалась верна той идее, что фигуры живут на шахматной доске именно за счет своего материала, будь он животного или растительного происхождения. Несколько шахматных партий даже прославились тем, что властители (Карл Смелый, Фридрих II Прусский) обязывали людей исполнять роль фигур на шахматном поле. Подобная практика, являясь исключением из правил, сохраняла в себе древний мифологический аспект игры, согласно которому фигуры не полностью подчиняются тому, кто ими манипулирует, а обладают некой самостоятельностью. Образ человеческих шахматных фигур привлек не одного литератора: например, Кретьен де Труа в своей «Повести о Граале» изображает волшебную шахматную доску, которая играет сама по себе[684], а Рабле в Пятой книге «Гаргантюа и Пантагрюэля», рассказывая о бале-турнире королевы Квинты[685], описывает развитие трех шахматных партий, разыгрываемых актерами, на что его вдохновила похожая сцена, описанная в середине XV века Франческо Колонной в его знаменитом «Сне Полифила».
Переосмысление фигур и шахматной партии
Когда в конце X века народы Запада заимствуют шахматы у мусульман, играть в них они не умеют. Вдобавок к этому, пытаясь их освоить, они оказываются озадачены принципами игры, свойствами фигур и правилами ходов, противопоставлением цветов и структурой шахматной доски. Шахматы, как мы уже говорили, — восточная игра, рожденная в Индии, видоизмененная в Персии и преобразованная арабами. Не считая ее символического родства с военным искусством, все или почти все в ней чуждо для христиан, живущих на рубеже второго тысячелетия. И чтобы принять эту новую игру, необходимо существенно ее переосмыслить, приспособить к западному мышлению, придать ей вид, который бы в большей степени согласовывался со структурами феодального общества. Процесс этот, разумеется, растянулся на несколько десятилетий, и это объясняет тот факт, что повествовательные и литературные тексты XI—XII веков, рассказывающие о шахматах, столь неопределенны, невнятны и противоречивы относительно правил и способа игры[686].
Прежде всего христиан смущают само развитие шахматной партии и ее финальная цель — одержать победу, поставив королю противника «мат». Такое поведение совершенно противоречит обычаям феодальных войн, где королей не принято было брать в плен или убивать и где битвы в действительности не были решающими, ни в том, ни в другом смысле. Все заканчивается, когда наступает ночь или приходит зима, а не когда противник оказывается разгромлен; последний вариант развития событий бесчестен и достоин презрения. Важно не победить, а сражаться. Это отчетливо видно на примере турниров — подобия войны, когда по завершении каждого дня победителем объявляется тот рыцарь, который проявил себя как лучший боец, а не тот, который разбил всех своих противников. Фактически шахматная партия похожа на сражение, а не на войну: для христиан XI—XII веков это две разные вещи. Настоящие сражения случаются редко, и функция их близка к той, что выполняет Божий суд: они разворачиваются согласно ритуалу, имеющему почти литургический характер, и заканчиваются божественной санкцией. Напротив, война состоит из нескончаемых боев между маленькими группами, из беспрестанных налетов, безрезультатных стычек, случайных набегов, поисков наживы. Это ритуал совсем другого свойства, он организует повседневную жизнь и составляет смысл существования сеньора и его рыцарей. В отличие от сражения, война имеет мало общего с шахматной партией[687].
Однако на рубеже XII-XIII веков ситуация меняется. Во-первых, войны с неверными постепенно привили христианам привычку и вкус к сражениям, а в июле 1214 года развернулось первое настоящее большое сражение между христианами Западной Европы — битва при Бувине[688]. Отныне феодальная война изменилась, появились «национальные» войны, а между игровой тактикой и тактикой военной наметилось сближение.
Во-вторых, западные народы, восприняв от арабов эту восточную игру, озадачились свойствами шахматных фигур. Теперь речь шла не о приспособлении, а о трансформации. Из всех арабо-персидских фигур только король (шах, слово, которое дало игре ее название: scaccarius на латыни, eschec на старофранцузском, Schach на немецком языке), всадник и пехотинец (пешка) в общем и целом не вызывали вопросов: и так было понятно, о ком идет речь. Совсем другой случай с главным советником короля, визирем (фирзан в арабской терминологии), которого на Западе поначалу оставили без изменений, используя его французское вульгаризированное название fierce, а затем постепенно превратили в королеву. Эта трансформация происходила медленно, окончательное превращение визиря в королеву совершилось только в первой половине XIII века и свидетельствовало о том, что христианизированные шахматные фигуры отныне стали пониматься скорее как королевский двор — и даже как двор небесный, — а не как армия. Но тут возникло одно затруднение: христианский король мог иметь нескольких советников, но не мог иметь нескольких жен; при этом, как и в современных правилах, «продвижение» пешек превращало их в королев, и потому число последних на шахматной доске имело тенденцию возрастать. Поэтому пешки, прошедшие все поле, стали именоваться «дамками», а «королевой» стали называть только одну фигуру, составляющую пару с королем[689].
Еще более сложный случай с фигурой слона. В исходной индийской игре он олицетворял собой всю армию, в которой элефантерия играла роль первой линии, замещая или усиливая кавалерию. Арабы сохранили слона, но, как и в случае с другими фигурами, сильно его стилизовали, так как ислам запрещал (по крайней мере, в теории) фигуративные изображения живых существ. От слона остались только бивни, воплощенные в двух роговидных выступах, возвышающихся над массивным туловищем. Христиане не поняли смысла этой фигуры и вносили различные изменения в ее внешний облик. То, опираясь на арабское слово, обозначающее слона, алъ фил, из которого на латыни получилось alfinus, а затем auphinus, они превращали слона в графа (старофранцузское daufin), в сенешаля, в дерево или в знаменосца (итальянские albero и alfiere). Еще чаще, отталкиваясь от формы роговидных выступов, венчающих фигуру, видели в ней то епископскую митру, то шутовской колпак. Эта двойственность сохранилась и до наших дней: в англо-саксонских странах на шахматной доске остался епископ (bishop) в митре, в других странах это же место занимает шут в колпаке.
Что же касается колесницы из персидской, а затем арабской игры, то и с ней приключились разнообразные трансформации. Сохраняя поначалу свой прежний облик, она впоследствии превратилась в верблюда или в экзотическое животное, потом в целую сцену с двумя персонажами (Адама и Еву, архангела Михаила, убивающего дракона, бьющихся на копьях рыцарей). Тура, башня, вытеснила всех этих персонажей довольно поздно и по не совсем пока еще понятным причинам. Не произошло ли тут сближения латинского слова, обозначающего эту фигуру, rochus (калькированного с арабского рух, колесница), с итальянским словом госса, обозначающим крепость? Как бы то ни было, эта фигура, гос французских шахмат, оставалась весьма переменчивой вплоть до XV века, когда уже окончательно приняла облик башни.
Изделия из благородной кости никогда не бывают монохромными. Не только сам материал может демонстрировать целую гамму белых оттенков во всем их многообразии, а затем с течением времени покрываться разновидной патиной, но речь также, (и прежде всего), идет о средневековом обыкновении раскрашивать или золотить изделия из благородной кости. Иногда мастера просто что-то подчеркивали яркими красками, но чаще всего наносили слой краски или позолоты на всю поверхность изделия, а иногда вдобавок инкрустировали его камнями или жемчугом. Поэтому мы всегда должны помнить, что видим средневековые изделия из кости в том виде, в какой их обратило время, то есть чаще всего нераскрашенными, а не в том, в каком их произвело Средневековье, то есть полихромными. На многих дошедших до нас шахматных фигурах из благородной кости все-таки остались незначительные следы золотых вкраплений и красной краски. Присутствие здесь золота имеет одновременно экономическое, художественное и символическое значение. Подобные фигуры, хранившиеся в сокровищнице по соседству с золотыми и серебряными изделиями, драгоценными камнями и металлами, были позолочены именно затем, чтобы, соприкасаясь с другими ценными предметами, являть свою значимость, сверкать, играть красками, «иметь значение».
Что же касается присутствия красной краски, то тут можно предложить два объяснения: с одной стороны, это могут быть окисленные остатки неорганической грунтовки, предназначавшейся для наложения и стабилизации позолоты; с другой, напротив, это могут оказаться следы окраски, покрывавшей изделие и имевшей собственное шахматное значение. Ведь на Западе до середины XIII века на шахматной доске сходились не белые и черные фигуры, как в современной игре, а белые и красные. Эта цветовая оппозиция, кстати сказать, не была заимствована у мусульман. В индийской, а затем и в арабской игре с самого начала — и до сих пор — сталкивались черная и красная армии — два цвета, составлявшие пару противоположностей. Этот аспект игры также требовалось переосмыслить, причем в скорейшем времени, так как оппозиция черного и красного, весьма значимая в Индии и исламских странах, не имела, в общем-то, никакого значения в западной цветовой символике. И черная армия превратилась в белую, так как оппозиция красного и белого представляла для христианского восприятия феодальной эпохи самую яркую пару противоположностей.
На самом деле в христианском Средневековье цветовые системы долгое время структурировались вокруг трех полюсов: белого, черного и красного цветов, иными словами, вокруг белого и двух его противоположностей. Но две эти противоположности не имели между собой никакой связи, не противопоставлялись и не дополняли друг друга[690]. Поэтому на рубеже тысячелетий для шахматных фигур было выбрано сочетание белый/красный, наиболее задействованное на тот момент в эмблематике и цветовых кодах. Два века спустя этот выбор был, однако, поставлен под сомнение и постепенно утвердилась идея, что сочетание белый/черный предпочтительнее сочетания белый/красный. Ведь за это время черный цвет заметно улучшил свою репутацию (цвет Дьявола, смерти и греха стал цветом смирения и воздержания, двух добродетелей, завоевывающих популярность), а главное — широко распространились теории Аристотеля о классификации цветов, выдвинувшие белый и черный в качестве двух крайних полюсов всех цветовых систем. С тех пор оппозиция белого и черного стала восприниматься как более резкая и более многозначная, чем оппозиция белого и красного.
На шахматы, игру умозрительную, даже «философскую», не могли не оказать влияния эти сдвиги в системе мышления. На протяжении XIII века красные фигуры на шахматной доске постепенно уступали место черным. К середине следующего столетия красные фигуры, не исчезнув полностью, стали редкостью: игра в шахматы была вполне готова примкнуть к тому черно-белому миру, который стал приметой европейской цивилизации Нового времени. А возможно, даже и сыграла свою маленькую роль в его создании, наряду с печатной книгой, гравюрным изображением и протестантской Реформацией. В самом деле, что может быть более черно-белым, чем шахматная доска?
А то, что подходит для фигур, подходит и для шахматной доски: переход от красного к черному приводит в XIII веке и к окончательному преобразованию игрового поля: теперь оно состоит из шестидесяти четырех чередующихся черно-белых клеток. Эта структура, которая стала для нас сегодня символом игры в шахматы, на самом деле появилась и стала использоваться довольно поздно. Долгое время и на Востоке, и на Западе в шахматы играли на досках, которые выглядели иначе: иногда доска состояла из чередующихся красно-черных или красно-белых квадратов; иногда — и этот вариант был более распространенным и более древним — она была просто расчерчена вертикальными и горизонтальными линиями на шестьдесят четыре клетки. Вопреки распространенному представлению, в шахматы не обязательно играть на поле с чередующимися клетками двух разных цветов. Достаточно и монохромной поверхности, просто расчерченной на клетки. В действительности первые индийские, персидские, арабские и даже западные шахматисты часто довольствовались подобным полем, которое можно было нарисовать мелом на камне или начертить пальцем на земле. На некоторых миниатюрах XII—XIII веков мы видим такие шахматные доски с монохромными клетками. Однако в конечном итоге утвердилась двуцветная структура «в шашечку», которая использовалась в других играх еще с Античности (а именно в играх-предшественницах шашек), ведь она позволяла нагляднее представлять ходы и лучше различать основные фигуры каждой армии, которыми теперь стали два альфина (древних слона, превратившихся в епископов или шутов).
Прежде чем занять место на шахматной доске, шашечная структура уже играла важную роль в средневековых представлениях и символике. Будь то архитектурное украшение, напольное покрытие, геральдическая фигура (например, шахматный щит Паламеда), одежда жонглера или шута, счетная доска абак или что-то иное, — где бы эта структура ни использовалась, она всегда содержала в себе динамическую коннотацию, связанную с движением, с ритмом, с musica (одно из ключевых слов средневековой эстетики) и даже с переходом из одного состояния в другое. Поэтому она применялась — в определенных местах, при определенных обстоятельствах, на определенных носителях — для обозначения особых ритмов или ритуалов. Например, в дворцовых залах или на полу в церквях чередующиеся двуцветные квадраты знаменовали проходящие там церемонии: вассальную инвеституру, феодальный оммаж, посвящение в рыцари, венчание, монашеские обеты, коронование, похороны, все четко выраженные ритуалы перехода. Мозаика XII века на полу поперечного нефа церкви Сан-Савино в Пьяченце изображает не просто рисунок в шашечку, а настоящую шахматную партию, противопоставляющую двух игроков[691]. В литературе герб с шахматным рисунком подчеркивает неоднозначность его обладателя.
«Шахматный» щит Паламеда — язычника, ставшего христианином, — не только обозначает его как изобретателя игры, но и указывает на его двойственность, а также на его обращение (ритуал перехода в полном смысле слова). Прямое значение и дополнительный смысл в этом случае тесно связаны. Но есть одна область, в связи с которой, волей средневековых авторов и мастеров, роль шахматного поля как «медиума» была прописана особенно ярко: смерть. Шахматная партия может ознаменовывать переход из этого мира на тот свет, а затевая игру со Смертью — эта тема периодически повторяется в литературе и иконографии, начиная с XIII века, — игрок заранее обрекает себя на проигрыш. Богатая символика шахматной доски в шашечку, связанная одновременно с динамикой, музыкой, идеей перехода и смерти, была востребована и европейской культурой Нового и Новейшего времени. В XX веке, к примеру, у самого музыкального из всех художников — Пауля Клее — шахматный рисунок стал излюбленной живописной темой, а кинорежиссер, более других увлеченный метафизикой, — Ингмар Бергман — снял в своем замечательном фильме «Седьмая печать» последнюю и извечную шахматную партию, в которой рыцарь противостоит Смерти.
Шахматное поле, знак смерти, также является знаком вечности. Его структура бесконечна. Для игры необходимы шестьдесят четыре клетки, но и четырех достаточно, чтобы представить всю структуру со всеми ее особенностями. Четыре двуцветных противопоставленных квадрата — по два в каждой диагонали — уже образуют ритм, зачин, открытую структуру, способную размножаться простым партеногенезом. А шестьдесят четыре квадрата — это круговорот, устремленный в бесконечность. Для общества, которое обращает особое внимание на символику чисел и которое часто видит в них не количество, а скорее качества, эти шестьдесят четыре клетки являются полем для выстраивания самых продуманных символических конструкций. Однако число 64 изобретено не средневековым Западом, а унаследовано от азиатской культуры, где оно всегда было многозначнее, чем в Европе. Его значение целиком построено на значении числа 8, которое, будучи возведено в квадрат, дает 64 и ассоциируется с пространством земного мира: есть восемь сторон света, четыре главных и четыре промежуточных; восемь ворот, открывающих путь восьми ветрам; восемь гор; восемь столпов, соединяющих небо и землю. Эта исконная для Индии и для всей Азии система представлений, оперирующая числом восемь, послужила источником для шестидесяти четырех клеток шахматной доски, понимаемой как изображение мира земного в миниатюре.
Арабы не стали менять ни эту структуру, ни число, а вот на Западе такие попытки предпринимались — ведь ни 8, ни 64 не являлись здесь значимыми числами, позволяющими приблизиться к тайным законам, которые управляют миром. На эту роль больше подошли бы числа 3, 7, 12 и кратные им. На самом деле на средневековых изображениях, где фигурируют шахматные доски, далеко не всегда можно насчитать шестьдесят четыре клетки. Обычно их меньше: иногда по практическим соображениям (нехватка места), иногда по символическим. Девять (3x3), тридцать шесть (6x6) или сорок девять (7x7) клеток несут в себе больше смысла для христианской культуры, чем шестьдесят четыре. Некоторые авторы тем не менее замечают, что евангелист Лука, выстраивающий генеалогию Христа, перечисляет шестьдесят четыре поколения от Адама до Иисуса. Другие подчерки-вают, что 8 — это число заповедей блаженства: оно возвещает о Воскрешении и грядущем Царстве Небесном; восемь в квадрате может быть только благотворным[692].
Понятие квадрата также важно. Шахматная доска представляет собой квадрат, разбитый на более мелкие квадраты. А квадрат во многих культурах является одним из привычных символов пространства (а круг — символом времени), особенно в Азии, где города и дворцы имеют квадратную форму и где эта фигура служит для отграничения священных пространств. То же самое справедливо и для Европы, хотя и в более редких случаях. Чтобы в полной мере воплотить на шахматной доске идею священного пространства, средоточия динамики и метаморфозы, западные народы, без сомнения, предпочли бы круг или прямоугольник квадрату, фигуре слишком статичной для того, чтобы стать театром активных военных действий. Но они все-таки сохранили квадрат и увлеченно играли на том поле, которое досталось им от другой цивилизации.
В Средние века на Западе действительно много играли в шахматы, что доказывают многочисленные шахматные фигуры, обнаруженные по время археологических раскопок. Эти находки даже позволяют свести в таблицу хронологические, географические и социальные данные и проследить первый этап распространения игры в Европе. До 1060-1080 годов шахматы встречаются редко, на протяжении XII века их количество возрастает, а в XIII веке они уже весьма многочисленны. Затем их число уменьшается, но этому есть простое объяснение: фигуры для тех шахмат, которыми на самом деле играли, теперь делаются из дерева, а не из рога или кости, простой или благородной, и потому, как и многие другие средневековые предметы, они не дошли до нашего времени.
Число шахматных фигур феодальной эпохи, найденных в ходе раскопок, наводит на мысль о том, что в шахматы действительно играли много, в самых разных местах и во всех слоях благородного сословия. Того же мнения придерживался выдающийся историк шахмат Гарольд Дж. Р. Мюррей, который в 1913 году высказал мнение, что XIII век в Европе, по сравнению со всеми другими периодами, стал, возможно, апогеем распространения игры во всех странах вместе взятых[693]. Это предположение следует детализировать, с одной стороны, потому, что оно несколько преувеличено, с другой — потому, что свидетельства ненадежны и идентификация обычных шахматных фигур — задача нелегкая и даже несколько сомнительная. В действительности некоторые археологи торопливо объявляют «шахматными фигурами» маленькие объекты геометрической формы из кости или рога, которые таковыми не являются. Следует относиться к ним критично, и здесь не помешала бы повторная экспертиза и классификация всех сохранившихся шахматных фигур или же тех, изображения которых были опубликованы. Для археолога находка шахматной фигуры ценнее, чем находка керамического черепка или предмета неизвестного происхождения и назначения. Шахматные фигуры даже самого скромного вида всегда несут на себе отпечаток чего-то благородного, заманчивого, загадочного. Найти на месте раскопок шахматную фигуру — все равно что открыть дверь в мир воображаемого.
Подобные вчитывания и ошибочные интерпретации встречаются уже у ученых Старого режима. Они тоже считали, что видят шахматные фигуры там, где их не было, будь то стилизованные игры с упрощенными фигурами или же игры парадные, откровенно фигуративные. Так, в сокровищнице Сен-Дени хранился красивый, массивный слон из благородной кости, по размеру немного крупнее, чем шахматы Карла Великого, напоминающий шахматную фигуру, каковой его и считали ученые XVII—XVIII веков. Этот предмет находится ныне в одной из коллекций Кабинета медалей Национальной библиотеки в Париже: пахидерм, покрытый внушительной попоной, несет на спине трон, на котором восседает король; его окружают несколько всадников, составляя вместе с ним целую сценку. Это изделие не западного, а восточного происхождения; датируется оно, несомненно, IX или X веком; снизу под основанием имеется надпись, выполненная куфическим стилем, которую можно перевести как «работа Юсуфа эль-Бахили». Нам неизвестно, когда этот предмет появился в сокровищнице Сен-Дени, но именно там он был идентифицирован как шахматная фигура и был причислен к так называемым «шахматам Карла Великого». К тому же может статься, что из-за этого восточного слона и родилась легенда о подарке, посланном халифом Харуном ар-Рашидом великому императору Запада. Как бы то ни было, хотя этот прекрасный предмет, как и до Революции, до сих пор продолжает вызвать споры и предположения, ученые все же пришли к единодушному мнению, что он не является шахматной фигурой[694].
Несмотря на ошибочные идентификации и на то, что количество найденных при раскопках шахматных фигур должно быть, бесспорно, пересмотрено в меньшую сторону, тем не менее не приходится сомневаться в том, что начиная с XIII века европейцы, по крайней мере принадлежащие к аристократии, много играют в шахматы. Многочисленные живописные и скульптурные изображения показывают нам королей, князей, рыцарей и благородных дам, проводящих время за этой игрой. Но археология дает нам сведения о том, что в шахматы играют не только в замке или в господском доме, но иногда и в гарнизонных частях, в монастыре, в университете и даже на корабле. С XIV века в нее играют люди неблагородного происхождения, особенно те — и их немало, — для кого время тянется долго и однообразно.
Средневековые правила отличаются от сегодняшних, но они и сами по себе были гибкими: каждый игрок имел возможность, договорившись со своим противником, немного их модифицировать. Во всяком случае, так об этом говорится в рыцарской литературе[695]. Впрочем, как и сегодня, игроки часто хвастают тем, что знают правила и умеют играть, хотя на самом деле это не так. С XII века игра в шахматы является полноправной частью куртуазной культуры, и тот, кто сведущ и одарен в этой области, с гордостью это демонстрирует. Главное отличие от современных шахмат состоит в том, что королева (бывший визирь из индийской и арабской игры) имела меньший вес на шахматной доске: она могла ходить только по диагонали и не больше чем на одну клетку за ход. Когда в конце XV века королева сможет ходить на столько клеток, на сколько захочет, и не только по диагонали, но и по горизонтали и вертикали, она станет сильнейшей фигурой на поле, и от этого игра заметно преобразится: партии станут более динамичными и более разнообразными в смысле смены ситуаций. До этого времени самой сильной фигурой на доске оставался альфин (шут или епископ, бывший слон из восточной игры), который ходил по диагонали на любое количество клеток[696]. Рок (наша современная ладья), напротив, могла перемещаться по горизонтали или по вертикали только на одну, две или три клетки за ход[697]. По силе эта фигура была примерно равна коню, который, как и сегодня, ходил на четыре клетки: сначала в одном направлении, затем в сторону под прямым углом. Король, в свою очередь, мог ходить в любых направлениях на две, три или четыре клетки, если он находился на своей половине поля, и только на одну клетку, если на поле противника. Пешка также могла ходить на одну клетку только по вертикали вперед.
Эти правила объясняют, почему партии были долгими и не очень оживленными. Они больше состояли из череды «поединков» фигуры с фигурой, нежели из масштабных, стратегически продуманных сражений, разворачивающихся на всем шахматном поле. Но это вовсе не смущало игроков феодальной эпохи, которые привыкли участвовать в стычках в составе небольших отрядов и в поединках и для которых главным был не выигрыш, а игра. Как и в других аристократических практиках — например, в охоте — ритуал важнее результата. До конца XII века, если верить литературным текстам, партия — совсем как феодальная война — не обязательно заканчивалась победой или поражением одной из армий: если королю поставлен мат, его перемещают на одну или на несколько клеток, и игра возобновляется. Брать в плен или убивать короля противника, пусть даже символически, в каком-то смысле подло, низко и даже смешно. Победитель, ежели таковой имеется, — не тот, кто поставил противнику мат, а тот, кто, как на турнире, наносил более красивые удары[698].
В течение XIII века эти обычаи, однако, претерпевают изменения, о чем свидетельствует объемистый трактат, составленный около 1280 года по заказу короля Кастилии Альфонса X. Под влиянием мусульман, более сильных игроков, нежели христиане, партии стали короче и, за счет возможности поставить мат, в них стали определяться победитель и побежденный. Феодальная война, которая раньше служила образцом, перестала задавать тон. С 1300-х годов сначала на Пиренейском полуострове, потом в Италии, а затем и по всей Западной Европе организуются состязания, в которых за шахматной доской встречаются лучшие игроки двора, города, края. Но до конца Средневековья самыми сильными игроками на Западе остаются итальянцы и испанцы, а впоследствии португальцы[699]. В XV веке уже появляются прославленные чемпионы, имена которых сохранились до наших дней[700]. Они, по всей видимости, с самого начала предпочитали настоящим партиям составление шахматных задач. До нас дошло несколько сборников подобных задач, которые свидетельствуют о необычайном теоретическом развитии игры. Все внимание в них пока еще сосредоточено на финале игры, а не на дебюте.
От теории произошел быстрый переход к символике. Конец Средневековья оставил нам ряд литературных текстов, в которых игра в шахматы является поводом к развитию сюжета или сюжетной основой. Теперь, после эпических песен и куртуазных романов XII—XIII веков с их многочисленными шахматными партиями, это аллегорические произведения, написанные вслед за «Романом о Розе», в котором шахматным метафорам уже было отведено значимое место. Среди этих произведений длинная анонимная поэма «Любовные шахматы»[701], сочиненная около 1370 года, и особенно “Liber de moribus hominum”[702], составленная около 1300 года доминиканцем Якопо ди Чессоли, имели огромный успех. Речь здесь идет о религиозных, моральных и социальных аллегориях, построенных на символике игры и фигур[703].
У Якопо ди Чессоли был целый ряд последователей, не только в Средневековье, но и в Новое время и в современную нам эпоху. Для поэтов и романистов игра в шахматы стала с течением времени самостоятельной темой, предлагающей одновременно и повествовательную структуру, и символическую основу, и невыразимый поэтический мир. Уже в Новое и в Новейшее времена Эдгар Аллан По («Шахматный автомат Мельцеля»), Льюис Кэрролл («Алиса в Зазеркалье»), Владимир Набоков («Защита Лужина»), Стефан Цвейг («Шахматная новелла»), Сэмюэль Беккет («Мерфи») и многие другие посвятили шахматам свои самые необычные и завораживающие произведения. Ведь игра в шахматы на самом деле создана не для того, чтобы в нее играть. А для того, чтобы воображать. Воображать ход фигур и структуру шахматного поля. Воображать порядок мира и судьбы человеческие. Воображать, как это делали в Средние века, все то, что скрывается за внешней видимостью живых существ и вещей.
Литературная антропонимика и рыцарская идеология
В основе первых артуровских романов, написанных на народном языке во второй половине XII века, лежит сильно искаженное воспоминание о событиях, происходивших в Британии в V-VI веках. Главный их герой — некий dux Arturus[704], бритто-романский военный вождь, который обороняет север острова от набегов пиктов, уроженцев шотландских нагорий, и — самое главное — сражается с германскими и скандинавскими племенами, прибывающими по морю. Этот dux Arturus, персонаж в большей или меньшей степени легендарный, с течением времени превратился в короля Артура, правителя чудесного королевства Логрия, в своем роде пра-Англии; при его дворе собираются лучшие рыцари мира, которых позже назовут «рыцарями Круглого Стола[705]».
История Артура и его соратников очень рано начала вбирать в себя сюжеты, мотивы и персонажей из кельтской мифологии. Этот корпус постоянно пополнялся новыми элементами, в частности, почерпнутыми из иных фольклорных и мифологических традиций, пока наконец не оформился в исключительно плодотворный и благоприятный для литературного творчества материал. И вот около 1000 года Артур с некоторой периодичностью начинает появляться в англосаксонских хрониках и особенно в сказаниях, которые валлийские барды исполняют при дворах князей и сеньоров, сначала в самой Британии, а затем и на континенте. В XII веке этот Артур из валлийских и англосаксонских преданий превращается в настоящую историческую фигуру, династического предка первостепенной важности, на котором сосредоточились политические амбиции нескольких родов, соперничающих за английский трон. Ученый клирик Гальфрид Монмутский по заказу короля Генриха I Боклерка перелагает всю легенду целиком и включает ее в обширную историю королей Англии, написанную на латыни и законченную в 1138 году[706]. Правление Артура занимает в ней значительное место, и повествование Гальфрида уже содержит большую часть мотивов и эпизодов, которые несколькими десятилетиями позже составят основу великих рыцарских романов. Около 1155 года Вас, каноник из Байё, вдохновляется текстом Гальфрида и сочиняет, на этот раз в стихах и на народном языке, похожую историю Англии, «Роман о Бруте», посвящая его Альеноре Аквитанской, вышедшей вторым браком за короля Генриха II Плантагенета[707]. Вас первым упоминает о Круглом Столе, который был якобы сделан по приказу Артура для того, чтобы предотвратить между рыцарями любые ссоры из-за старшинства мест, и рассказывает о том, что однажды король, спящий на острове Авалон, вернется и, как настоящий герой-мессия, освободит свой народ и приведет его к спасению[708].
Вас, даже в большей степени, чем Гальфрид Монмутский, превращает Артура в литературного персонажа и готовит почву для создания «романов» — то есть повествований на народном языке, — полностью сосредоточенных на приключениях короля Артура, королевы Гвиневеры, их племянника Гавейна и рыцарей из их ближайшего окружения. Отныне авторы этих историй происхождение уже имеют по большей части не английское, а французское — начиная с самого известного из них и, возможно, оказавшего наибольшее влияние на последующую традицию, Кретьена де Труа. О его жизни нам практически ничего не известно: кроме того, что он был клириком при Шампанском дворе во времена графа Генриха Щедрого и его жены Марии, дочери Альеноры от ее первого мужа, короля Франции Людовика VII; помимо этого он был еще и поэтом в истинном смысле этого слова; он писал в период примерно с 1165 по 1190 год и оставил после себя пять стихотворных «романов», действие которых происходит в артуровском мире. Четыре из них считаются шедеврами французской средневековой литературы: «Эрек и Энида», «Рыцарь телеги», «Рыцарь со львом», «Повесть о Граале». В них отчетливо вырисовываются характеры главных героев Круглого Стола (Артура, Гвиневеры, Гавейна, Ланселота, Персеваля, Ивейна, Кея и некоторых других), основные темы и мотивы, вокруг которых строится посвященная им литература, а также некоторые авантюры и “conjointures”[709], которые затем практически в обязательном порядке будут использоваться большинством авторов — продолжателей Кретьена[710].
У Кретьена и в самом деле было множество подражателей, перелагателей и переводчиков, по большей части анонимных. Кроме того, по воле судьбы Кретьен так и не закончил свой самый грандиозный, а для современного читателя и самый завораживающий роман — «Повесть о Граале». С конца XII века и по 1230-е годы по меньшей мере четверо авторов пишут продолжения к кретьеновскому тексту, подхватывая стихотворное повествование об удивительных, переплетающихся авантюрах молодого, наивного Персеваля и доблестного, куртуазного Гавейна. Между тем появляются первые переводы на средневерхненемецкий, древнескандинавский, средненидерландский языки, а также первые романы в прозе, более или менее непосредственно вдохновленные текстами Гальфрида Монмутского, Васа, Кретьена и их эпигонов. Их авторы стремятся теснее переплести между собой приключения основных персонажей и заполнить лакуны, оставленные великими предшественниками, касающиеся детства героев и связей между разными поколениями. В итоге это приводит к созданию в первой половине XIII века обширных компилятивных прозаических циклов, где целиком пересказывается легенда о короле Артуре и его соратниках, развивается христианская тематика, связанная с Граалем, затем в составленный таким образом корпус втягиваются две другие легенды: сперва легенда о волшебнике Мерлине, до тех пор относительно незаметная, потом легенда о Тристане и Изольде, которая была известна издавна и пользовалась большим успехом. Этот анонимный труд по переписыванию и переработке литературного материала привел к составлению между 1215 и 1240 годами трех больших циклов — «Ланселот — Грааль», «Тристан» в прозе и роман «Гирон Куртуазный»: среди артуровской литературы на французском языке именно их будут чаще всего переписывать и читать вплоть до начала Нового времени. Все они оказали значительное влияние на рыцарское общество, на его коды, ценности и способы мировосприятия[711].
В XII-XIII веках романы Круглого Стола представляли собой литературу, предназначенную почти исключительно для аристократической аудитории. Это крайне идеологизированная, транслирующая воинские ценности литература, которая, столкнувшись с преобразованием социального порядка, пытается навязать свое видение мира и общества: она прославляет молодых[712]; она превозносит рыцарство[713]; она сетует на непрерывно возрастающую власть суверена — Артур, в отличие от королей из династий Капетингов и Плантагенетов, продолжает оставаться феодальным королем, который обязан советоваться со своими подданными[714], — и особенно на политическое и экономическое истощение мелкой и средней знати; она презирает вилланов, а еще больше коммуны, купцов и городское население[715].
Однако несмотря на эту, одновременно феодальную и «реакционную», идеологию, артуровская легенда с давних пор была востребована и за пределами благородного сословия. Можно только посетовать на дефицит исследований, посвященных восприятию легенды и ее воздействию на все общество[716]. Источников же для проведения такой работы предостаточно. Более того, они благоприятствуют междисциплинарным исследованиям, в рамках которых выделяются четыре наиболее плодотворные области: рыцарские ритуалы (турниры, копейные состязания, праздники, pas d'armes[717]), антропонимика, иконография и геральдика. Изучение геральдики, в частности, уже дало нам ряд ценнейших сведений[718]. А вот исследования по иконографии еще только предстоят, ведь труды первопроходцев — Роджера Шермана Лумиса и его жены Лоры Хиббард — практически не имели последователей, по крайней мере, существенный контраст между изобилием источников и незначительным числом серьезных работ, посвященных их изучению, ощущается до сих пор[719]. Что же касается антропонимики, поддающейся точному анализу и способной охватывать значительный с точки зрения количества документальный материал, то эта область должна стать приоритетной для будущих исследований, посвященных изучению рецепции артуровской легенды. Попробуем наметить ее основные направления.
От литературных имен к именам реальным
Воображаемое всегда является одновременно и отражением реальности, и моделью для нее. Литературная антропонимика — не исключение. Социологи уже давно обратили внимание на то, что некоторые книги, фильмы или телесериалы могут ситуативно создавать моду на те или иные имена. Этот феномен отнюдь не является особенностью ни нашего времени, ни современного «общества зрелищ». В XVI-XIX веках некоторые книги оказывали сходный эффект, особенно в том, что касается мужских имен. Например, если ограничиться эпохой романтизма, «Вертер» Гёте в Германии или «Рене» Шатобриана во Франции[720]. Это факты общеизвестные. А вот что нам известно хуже, так это что данный культурный феномен встречается уже в Средние века, задолго до появления и распространения печатной книги. Так, некоторые филологи обратили внимание на популярность имен Роланд и Оливье — крестильных имен, распространившихся благодаря «Песне о Роланде» и связанным с ней преданиям. Они также обратили внимание на то, что в некоторых областях эти имена давались братьям-близнецам еще до предполагаемой даты сложения самой древней из известных версий «Песни» (конец XI века), и даже около 1000 года. Антропонимика оказывает здесь ценную услугу истории литературы[721]. Подобные исследования артуровской легенды никогда, к сожалению, систематически не проводились[722].
Тем не менее во Франции к 1250-м годам, когда уже сложились большие прозаические циклы, корпус артуровской антропонимики окончательно сформировался и стал поставлять для реальной антропонимики (из которой он к тому же сам отчасти произошел) обильный материал[723]. То же самое происходит и в немецкоязычных странах. Начиная с середины XIII века, а иногда и чуть раньше, на севере и на западе Франции; в Англии, во фламандских и рейнских областях, в Баварии и в Тироле встречаются люди, которые носят имена Гавейн, Тристан, Ланселот, Персеваль, Боор и некоторые другие. Проблема же, очевидно, состоит в том, чтобы определить, с какого времени эти имена стали настоящими крестильными именами, а не просто прозвищами, присвоенными по случаю участия в турнире, в крестовом походе или во время того или иного рыцарского ритуала. До XIII века тексты нас выручают, уточняя, что речь идет именно о прозвище, с помощью формул типа “Petrus dictus Lancelot” или, на народном языке, “Jean dit Perceval”[724], формул, которые встречаются в особенности в грамотах и хрониках. Но иногда таких уточнений нет, упоминается только имя героя, которое, возможно, уже употребляется как настоящее крестильное имя.
Такое превращение литературного имени в имя реальное — весьма значимый культурный факт: он свидетельствует об охватившем Западную Европу процессе — который, очевидно, следует вписать в контекст долговременной перспективы, — когда происходил постепенный отказ от патримониальной системы передаваемых имен (маркирующей принадлежность к группе, с четко ограниченным набором имен, «принадлежащих» группе и переходящих в согласии со строгими правилами, среди которых важнейшую роль играют родство по восходящей линии и кумовство) в пользу более свободной системы имен, выбираемых родителями, подчиненной моде, вкусу и мотивированной более личными эмоциональными, религиозными или психологическими причинами. Этот феномен, на который первыми обратили внимание этнологи и антропологи, сегодня также хорошо известен демографам и историкам антропонимики[725]. Однако история литературы, по всей видимости, указывает на то, что сдвиг этот произошел рано, раньше, чем иногда полагают.
Антропонимика в действительности говорит нам о том, что уже довольно давно, чуть позже середины XIII века, имена основных персонажей артуровской легенды стали во многих областях присваивать и носить не только крупные и мелкие сеньоры, но и люди, у которых, вообще говоря, никогда не было возможности вживую услышать чтение произведений Кретьена де Труа и его продолжателей. Так, во второй половине века несколько крестьян, живущих в Нормандии, в Пикардии и в Бовези, носят, по документам сугубо юридического характера (грамотам, печатям, различным цензам и переписям), артуровские имена. Упомянем, к примеру, печать нормандского крестьянина с крестильным именем “Lancelot” и родовым именем “Havard” (илл. 17). Конечно, вполне правдоподобно, что этот Ланселот Хавард, живший в приходе Боос (ныне входящем в департамент Приморская Сена), был именно землевладельцем, а не поденщиком (в акте, к которому привешена печать, он все же назван rusticus[726]); возможно даже, речь идет о весьма важном в здешних краях человеке, так как его печать привешена к акту о сделке, которую аббатство Жюмьеж, владевшее обширными территориями в окрестностях Руана, заключило в 1279 году с несколькими крестьянами этого прихода[727]. Печать эта является важным документом: она доказывает не только то, что крестьянин мог в то время (а родился он, вероятно, на двадцать-тридцать лет раньше) носить имя литературного персонажа — более того, имя самого прославленного рыцаря Круглого Стола, — но и то, что это имя могло помещаться на документ, обладающий несомненной юридической силой, — на печать; печать, которая является залогом надежности и ответственности того, кто ей пользуется[728]. Что само по себе значимо.
Случай Ланселота Хаварда не уникален[729] и, по видимости, подтверждает то, что артуровские имена распространились относительно быстро. Он также показывает, что в XIII веке культура крестьян не слишком сильно отличается от культуры мелких сеньоров, по соседству с которыми они живут. Постоянно взаимодействуя, эти два сословия находятся во власти одних и тех же знаков и грез, пусть даже их идеологическое содержание остается различным[730]. В эту эпоху, по крайней мере во французском королевстве, маркируются культурные различия не столько даже между знатью и крестьянами, сколько между духовенством и мирянами, а также между городом и деревней. Артуровская легенда принадлежит прежде всего культуре сельской — как замковой, так и простонародной[731]. Ее распространение среди сельского населения — равно как и сопутствующее этому распространение имен — нужно связывать с возрастанием на протяжении XIII века числа артуровских турниров и зрелищ, вдохновленных романами Круглого Стола. Первый такой турнир состоялся, вероятно, в 1223 году на Кипре по случаю посвящения в рыцари сына Жана д’Ибелина, сеньора Бейрута. С 1230-х годов в Германии, Швейцарии, Австрии, Англии, Шотландии и северной Франции короли, князья, сеньоры и рыцари принимаются «играть» в короля Артура и его собратьев по Круглому Столу, стремясь воссоздать их подвиги и авантюры[732]. Для этого они заимствуют из литературы их имена и гербы, сначала ненадолго (по случаю военной кампании или рыцарского праздника, вроде турнира, проходившего в Хеме в 1278 году[733]), затем на более продолжительное время. Так, король Англии Эдуард I (1272- 1307), один из самых могущественных суверенов, которых знала средневековая Англия, на протяжении значительной части своего правления выказывал поистине страстный интерес к артуровской легенде: он устраивал многочисленные турниры, копейные состязания, праздники и «круглые столы», особенно во время военных кампаний против Шотландии, подражая тому, что описывали стихотворные и прозаические романы[734]. Большинство его рыцарей принимали участие в этих ритуалах, подтверждая тем самым возрастающую значимость романического поведения для аристократического общества XIII века. Для части благородного сословия мир как будто стал enromancement, воплощением романа (это слово появляется именно в Средневековье); роман теперь был не только отражением дворянской идеологии, он стал для нее образцом[735].
Турниры, которые наблюдала самая широкая публика (и крестьяне здесь были, несомненно, в большинстве) и которые сопровождались инсценировками, играми и были обставлены различными декорациями, видимо, сыграли в распространении имен артуровских рыцарей среди различных слоев общества едва ли меньшую роль, чем транслирование произведений поэтов и романистов. Тем более что в конце XIII века артуровская легенда попадает в городскую среду. Некоторые буржуа в крупных ганзейских городах принимаются подражать королям и рыцарям: они тоже начинают устраивать артуровские праздники и турниры и воссоздавать в своей среде общество Грааля или Круглого Стола[736]. В начале следующего века эта новая мода захватывает города в долине Рейна, Нидерландах и северной Франции: один за другим Кёльн, Льеж, Турне, Брюгге, Лилль, Валансьен, Аррас становятся широко известными центрами проведения артуровских игр и зрелищ[737]. В середине XIV века эта мода доходит до Парижа, а затем распространяется на юг Франции, Италию и даже Испанию. Артуровская легенда окончательно обосновалась в городе. Игры в короля Артура и присвоение имен его рыцарей стали органичным фактом городской культуры. Отныне в среде буржуа из торговых городов этим увлекаются не меньше, чем в аристократических кругах[738]. Все средневековое общество как будто захлестнуло настоящее артурианское безумие, продлившееся в некоторых областях (в Нидерландах, в Италии) вплоть до середины XVI века[739].
Итак, имеет смысл статистически оценить процесс распространения имен героев Круглого Стола во времени и пространстве (как географическом, так и социальном). Однако антропонимика — наука сложная, у нее свои методы и заниматься ей могут только специалисты. Последних, к сожалению, не так много, а те из них, что изучают Средневековье, сосредоточены больше на патронимах, чем на крестильных именах[740]. Не будучи специалистом по антропонимике, я ограничился теми историческими источниками, которые мне хорошо известны, а именно печатями. Я изучил крестильные имена в легендах примерно на 40 000 французских печатей[741] до 1501 года (по дате акта); Франция при этом рассматривалась в тех границах, в которых она существовала в XV веке. На печати, датировку и локализацию которой можно узнать из акта, к которому она привешена, почти всегда указывается крестильное имя ее владельца. Для периода с начала XIII и по конец XV века я таким образом зафиксировал 431 явный случай употребления артуровских имен реальными людьми.
Хронологически мода на эти имена, по видимости, достигала пика в конце XIII века и в течение последней трети XIV века. Тем не менее нельзя упускать из виду, что их носили владельцы печатей, то есть взрослые люди, родившиеся за одно или даже за два поколения до даты составления документа, к которому прикреплена печать. Географически самый богатый «урожай» (примерно четверть всех зафиксированных случаев) был собран в Пикардии, в Бовези, в Понтьё и в двух Вексенах. Я должен, однако, уточнить, что мой сфрагистический материал, жестко связанный с дошедшей до нас документацией[742], распределен неравномерно: четыре пятых изученных печатей относятся к районам, расположенным к северу от линии Пуатье-Лион. Отметим в этой связи и редкость имен «бретонских» героев... в Бретани: «армориканский» след артуровской легенды в этой сфере, как и в ряде других (иконография, геральдика), был относительно незначителен.
Между тем наиболее существенные результаты изучение печатей принесло, по всей видимости, именно в социокультурном плане. Действительно, даже если артуровские имена и встречаются в качестве имен реальных людей, принадлежащих к самым разным сословиям, оказывается, что охотнее всего в XIV-XV веках их присваивают мелкая знать (служилое и нетитулованное дворянство) и богатые горожане. За исключением имени Артур — традиционного крестильного имени некоторых знатных родов (Бретонского дома, где трое герцогов носили имя Артур; дома Коссе), — примеры заимствования этих имен высшей знатью после XIII века встречаются редко. Правда и то, что во французском королевстве крестильные имена у высшей знати были менее разнообразны и более «патримониальны», чем в кругах, находящихся на более низких ступенях социальной лестницы.
В конце Средневековья мода на артуровские имена, которые на самом деле выступают в качестве крестильных имен (временные прозвища — отдельный случай), распространяется в первую очередь среди двух сословий, претерпевающих серьезные трансформации: более или менее разоренного мелкого дворянства и богатой купеческой буржуазии, переживающей социальный и политический подъем. Для мелкого дворянства это способ сохранить часть былого рыцарского престижа, сильно подорванного Столетней войной, и обрести в этой антропонимической видимости некую компенсацию своего экономического и политического упадка. Для буржуазии, или по крайней мере для богатого городского патрициата, это, напротив, социальная стратегия, которая позволяет, прибегнув к системе литературных ценностей, прорваться в благородное сословие и приобщиться к высокой культуре (та же буржуазия пыталась прорваться и другими путями: посредством брачной политики, денежных займов, королевской службы).
Историку литературы многое скажут и показатели частотности употребления имен основных персонажей артуровской легенды в качестве имен реальных людей. Представленная ниже таблица четко показывает, что популярнее всех был Тристан (который, несмотря на то, что об этом иногда писали, вполне принадлежит артуровскому миру); Тристан явно опережает Ланселота и Артура:
Частотность употребления имен рыцарей Круглого Стола в качестве крестильных имен или прозвищ по данным анализа около 40 000 легенд на французских печатях до 1501 г.
Тристан 120 примеров
Ланселот 79
Артур 72
Гавейн 46
Персеваль 44
Ивейн 19
Галеот 12
Боор 11
Лионель 7
Сагремор 5
Паламед 5
Другие 11
Есть и другие свидетельства того, что легенда о Тристане превосходила по популярности и легенду о Ланселоте и Артуре, и тем более легенду о Граале и Персевале. Например, число сохранившихся рукописей говорит о том, что с конца XIII и по конец XV века прозаический роман о Тристане (и его различные переложения) переписывали и читали чаще, чем любое другое артуровское сочинение[743]. Об этом же свидетельствует иконография, в первую очередь миниатюры, а также настенная живопись и гобелены. Некоторые исследования, проведенные в странах, соседствующих с Францией, подтверждают преобладание имени Тристан в позднесредневековой антропонимике Германии и Австрии[744] (где также широко представлено имя Персеваль — возможно, благодаря Вольфраму фон Эшенбаху) и, в меньшей степени, в Италии[745] (где его почти догоняет Ланселот). В Англии (но не в Шотландии) на первом месте Гавейн — имя, вероятно, валлийского происхождения[746]; однако в этом, конечно, нет заслуги великолепного и своеобразного романа «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь», который сохранился в единственном списке и был, видимо, не слишком популярен. Мне остается только пожелать, чтобы ученые, специалисты по антропонимике, занялись этими вопросами и дополнили мои изыскания новыми исследованиями. В частности, в Италии особенно обильный материал, в том, что касается Эмилии, Ломбардии и соседних регионов, дают 1280-1480 годы[747]. Так, в середине XV века такой влиятельный княжеский род, как дом Эсте, по-прежнему преклоняется перед артуровскими героями. Некоторые видные его представители носят соответствующие имена: два брата Леонелло (Лионель) и Борсо (Боор) д’Эсте, которые один за другим становились герцогами Феррары, были названы в честь двух кузенов Ланселота; их сводного брата звали Мелиадузе (Мелиадук, отец Тристана), а среди их многочисленных сестер встречаются Изотта (Изольда) и Джиневра (Гвиневера)[748]. Несколькими десятилетиями раньше подобная мода на артуровские имена обнаруживается у Висконти, герцогов Милана, некоторые представители которых носят имена Галеаццо (Галахад, сын Ланселота) и Галеотто (Галеот, близкий друг Ланселота). Позже артуровской антропонимикой, хотя и в меньшей степени, увлекутся Гонзага, правители Мантуи.
Изучение печатей увело меня в сторону от женских имен. Из примерно 40 000 печатей лишь около 550 принадлежали женщинам. Среди них мне не попалось ни одной Гвиневеры и в общей сложности встретилось три Изольды, самая «старшая» из которых — Изольда де Доль, жена Аскульфа де Солине, сеньора, владевшего землями на границе между Бретанью и Нормандией; от нее осталась печать, прикрепленная к документу 1183 года[749].
У некоторых знатных родов мода на имена героев Круглого Стола, вначале употреблявшихся как прозвища, затем как крестильные имена, стала фамильным обычаем. Так, во Франции с конца XIII века это было характерно для дома де Дрё[750]. Этот случай тем более интересен, что речь идет о младшей ветви дома Капетингов (родоначальником дома де Дрё был Роберт I, граф де Дрё, умерший в 1188 году, третий сын короля Людовика VI), ветви, которая за несколько десятилетий растеряла добрую часть своего фамильного престижа (родственная связь с королевской семьей только слабела) и земельных владений. Историк вправе задаться вопросом, не является ли и в этом случае использование литературных имен способом компенсировать необратимый политический и династический упадок. Особенно учитывая, что и у самих Дрё артуровские имена и прозвища охотнее всего брали представители именно младших ветвей (Дрё-Боссар и Дрё-Шатонёф[751]). Этот фамильный обычай также встречается в XIV веке в пикардийской семье Киере, принадлежащей к «среднему» дворянству. Однако здесь старшие сыновья из старшей ветви берут прозвище Боор — имя двоюродного брата Ланселота и единственного рыцаря Круглого Стола, который выживает после крушения артуровского мира[752], — а младшие или младшие из младших — прозвища Гавейн (племянник короля Артура), Тристан и Лионель (брат Боора)[753]. Здесь в ход идут искусные приемы, обеспечивающие различными способами — подробное изучение которых было бы во многих отношениях полезно — установление родственных связей между реальными людьми и литературными персонажами.
В XVI веке использование литературных имен в реальной антропонимике остается в целом на прежнем уровне. В Англии сочинения Томаса Мэлори обеспечили им популярность на несколько десятилетий. А на континенте мода на них заново расцвела с распространением печатных изданий романов Круглого Стола[754]. Только в XVII и особенно в XVIII столетии их популярность начала сбавлять обороты, а затем, по крайней мере во Франции, Германии и Нидерландах, стала сходить на нет, несмотря на облегченные версии средневековых рыцарских романов, которые распространялись бродячими торговцами народной литературой. Потом, во второй половине XIX века, сначала в викторианской Англии, затем на континенте, мода на артуровские имена возникла снова, благодаря стихам Теннисона и произведениям некоторых художников-прерафаэлитов (в частности, Уильяма Морриса и Берн-Джонса)[755].
Крестильное имя никогда не бывает нейтральным. Это первый социальный «маркер», первый атрибут, первая эмблема. Оно идентифицирует того, кто его носит — не только в течение жизни, но и после смерти, — и открывает путь к самым глубинным пластам его сознания. Следовательно, можно спросить, почему столь длительное время историки-медиевисты так редко интересовались этой темой, отдав ее на откуп филологам, которые подчас погрязали в прекраснодушных спорах об этимологии или фонетике. Теперь, в информационный век пришло время преодолеть стадию монографий, посвященных локальным и региональным аспектам. Широкомасштабные количественные исследования предоставили бы нам сведения по различным вопросам, значимым в контексте исторической антропологии: распространению культурных моделей, структурам родства, культу святых, отношению Церкви к антропонимике[756]. С позиции исторической антропологии мы также смогли бы лучше изучить имя в контексте социальной действительности Средневековья. Как, кем и почему выбирается имя? Действительно ли его предназначение в повседневной жизни состоит в назывании человека, который его носит? Может ли оно меняться в течение жизни? Как человек принимает, оглашает, предъявляет, искажает или отвергает свое имя? Как его принимают другие? Какие ценностные системы оно актуализирует? В какие отношения оно вступает с патронимическим именем, участвуя, на исходе Средневековья, в образовании новых социальных формул и иерархий? На все эти многочисленные вопросы ученые в будущем должны попытаться ответить.
Гербовник поэта XVII века
«Что значит феникс этих лесов?» — иронично спрашивает Жан-Жак Руссо в знаменитом отрывке «Эмиля», где он слово за словом анализирует басню «Ворон и лиса» и, в некоторой степени кривя душой, показывает, что для ребенка она непонятна[757]. Стремясь доказать, что басни Лафонтена невразумительны и даже безнравственны, он размышляет над природой и сущностью сыра, а затем задает странный вопрос: «Что значит ворон?». Как это иногда случается, Руссо, в пылу полемики, слишком увлекается своими критическими рассуждениями, и к рациональным доводам в конечном итоге примешиваются совершенно необоснованные.
Если образ феникса и впрямь выглядит несколько вычурно, а стихи Лафонтена действительно не всегда ясны для маленького ребенка, то фауна, изображенная в баснях, напротив, опознается без труда и не представляет трудностей для понимания. Речь в основном идет о «знакомых» животных (основополагающее понятие для изучения истории отношения человека к животным): как домашних, так и диких, в основном местных, иногда экзотических. Все они с глубокой древности являются самыми типичными представителями бестиария западной культуры, даже если некоторые из них, например, лев или слон, не встречаются на просторах старушки Европы. Они хорошо знакомы всем читателям Лафонтена, вне зависимости от того, сколько тем лет и в какую эпоху они живут. И было бы ошибкой полагать, что столь близкое знакомство состоялось именно благодаря басням нашего автора. Это совсем не так. Эти животные были хорошо известны задолго до него — разумеется, тоже по басням, но также по другим текстам, по изображениям, мифам, всевозможным обычаям и ритуалам, которые, пропустив мировую фауну сквозь сито европейской культуры, составили из нее некий избранный бестиарий. Пословицы, антропонимика и геральдика — вот те области (если ограничиться тремя примерами), которые, наряду с баснями и сказками, а иногда и в тесном взаимодействии с ними, послужили для формирования этого бестиария.
В общем, в бестиарии Лафонтена нововведений почти нет. Не только потому, что материал для большинства своих басен наш автор заимствовал у предшественников, но еще и потому, что он хотел сохранить за каждым животным его самые привычные черты. Не природные, разумеется, а культурные. Было бы и впрямь нелепо продолжать считать Лафонтена внимательным наблюдателем сельской фауны[758], каковым он слыл слишком долгое время, и верить, что должность государственного лесничего Шато-Тьерри, которую ему пришлось купить в 1652 году и которую он занимал около двадцати лет, дала ему возможность изучить эту самую фауну в натуре (часто ли он вообще бывал в шампанских лесах?). В XVII веке литература не пишется с натуры, даже если речь идет о баснях (особенно если речь идет о баснях — одном из самых ученых жанров). Кроме того, вопреки принятому мнению, Лафонтен никогда не был настоящим сельским жителем и едва ли был лесником; скорее уж его можно назвать «садовником», то есть завсегдатаем садов. Не огородов и теплиц, а «зеленых лабиринтов» — таких как Версальский парк, который, как нам сегодня известно, имел ключевое значение для сочинения некоторых его басен[759]. Наконец, не считать же его натуралистом и защитником животных только потому, что он был активным противником теории Декарта, Мальбранша и их последователей о «животных-машинах»[760]. Совсем наоборот, отказ видеть в животных обычные автоматы — это ученая, даже элитистская позиция, противопоставленная естественнонаучному подходу.
В общем, животные, описанные Лафонтеном, ни в чем не похожи на тех, что он мог бы повстречать во время своих сельских прогулок. По большей части эти животные встречаются уже у античных и средневековых баснописцев, восточных сказочников, в «Романе о Лисе» и в традиции, связанной с изопетами[761] и анималистической поэзией. Кроме того, любовь к лугам и лесам, наслаждение прохладой источников и тенистой листвой, соседство с пастухами и овцами, созерцание неба и птиц, чувство полной гармонии с природой, ее ритмами, погодой и временами года — все это восходит к книжной традиции. Начиная с Вергилия об этом охотно говорят, это воспевают, провозглашают, но совсем другое дело — воплотить это все в реальности, под дождем, в грязи, среди колючих кустарников и насекомых... Такое отношение выстраивается на основе книжного знания, причем объектом этого отношения становится не природа, а представление о ней[762]. Истоки его следует искать в библиотеке. Случай Лафонтена в этом смысле показателен: своих зверей он брал из книг, в частности, из сборников басен Европы и Азии, а не из лесов, полей и лугов[763].
Кроме того, опора на традицию, на книжную культуру и иконографию позволяет нашему поэту избегать множества ненужных подробностей, ведь всякая система знаний — античная, средневековая или Нового времени — исходит из того, что истинная суть вещей сокрыта в библиотеке, а не в неуловимой природе. Это также позволяет ему с первых стихов басни превратить читателя в умиленного соучастника, который с премногим и превеликим удовольствием открывает для себя то, что ему и так уже известно: лев, царь зверей, высокомерен и могущественен; лиса — хитра и изворотлива; волк — вечно голоден и жесток; осел — глуп и ленив; кролик — весел и беспечен; ворон — болтлив и прожорлив.
Животные переходят из басни в басню, сохраняя присущие им черты, которые в той или иной степени были для них характерны уже в античной басне — у Эзопа, Федра, Авиана и некоторых других — и которые по-прежнему были вполне им свойственны в XVII веке, как о том свидетельствуют сказки и легенды, пословицы и песни, энциклопедии, сборники эмблем, трактаты по геральдике и все связанные с ними изображения. Было бы наивно полагать, что скромный прогресс, проделанный зоологией в XVI-XVII веках, мог хоть как-то подорвать авторитет этой традиции[764]. С ходом столетий и в ученой, и в народной культуре характеры животных постепенно были сведены к набору клише. А геральдика — искусство в высшей степени зооморфное, — которая всегда отдает предпочтение структуре перед формой, придала общей, инвариантной, взятой со стороны схеме такую гибкость, что отныне они могли использоваться в любых контекстах, никогда не теряя при этом характерных черт.
Геральдика действительно часто лежит в подтексте басен Лафонтена. И не столько даже в виде намеков на герб той или иной особы, покровительствующей Лафонтену и его друзьям либо очерняющей их: белка Фуке, уж Кольбера, ящерицы семьи Летелье и даже лев семьи Буйон, щука семьи Манчини и собака издателя Барбена. Этот довольно скромный геральдический подтекст — который, однако, заслуживает более пристального изучения[765] — не является основным. Впрочем, он не ограничивается фигурами, представленными на гербе той или иной семьи: каждый человек, помимо семейного геральдического животного, в действительности может использовать еще одно или несколько других животных в качестве девиза (в значении XVII века). Лувуа, например, помимо знаменитых ящериц семейного герба Летелье, демонстрировал также собственную говорящую эмблему — волка, — и даже — учитывая, что эмблематика XVII охотно культивировала ребусы и каламбуры[766], — волка «смотрящего», «волка, который видит» (loup voit); это значит, голова его была развернута анфас, как у леопарда, а не в профиль, как у льва[767]. Но главное не в этом.
Главное состоит прежде всего в следующем: набор животных, изображенных в баснях, ограничен и образует целостную систему; в основе повествования каждой басни лежит геральдически мотивированная структура; наконец, из басни выводится мораль, которая почти всегда выражается в форме изречения или сентенции и помещается в финале, подобно мотто[768] на девизной ленте. Не столько даже книги эмблем, чье несомненное влияние на Лафонтена[769] уже давно доказано, сколько искусство и наука геральдики являются определяющими для его поэтического творчества. И три книги басен, которые Жан де Лафонтен опубликовал с 1668 по 1694 год, являют, возможно, пример самого замечательного литературного гербовника, который нам оставил XVII век: гербовника упорядоченного, то есть с классификацией по геральдическим фигурам, а не общего, то есть с классификацией по семьям и владельцам гербов.
Животные из басен Лафонтена — это не реальные животные; пусть даже кузнечик стрекочет, жаворонки вьют гнездо, волк съедает ягненка, а ослы и мулы несут поклажу. Но это и не люди (или не совсем люди), хотя они разговаривают и спорят, совсем как человеческие существа, совершают паломничества, женятся, хотя их лечат и хоронят, и хотя в их мире есть король, двор, советники, дворцы, хижины и суды. Это также не типы или маски, которые можно встретить в театре или в маскарадных ритуалах, и уж точно не олицетворение качеств, потому что их образы не обобщены, а индивидуализированы. Вовсе нет, скорее это «негеральдические фигуры», meubles — в том самом смысле, который это слово приобретает в контексте геральдики, то есть фигуры, положение которых внутри щита не фиксировано: на разных гербах они занимают различные места и позиции. Их число, расположение, соотношение, форма и цвет могут варьироваться; кроме того, они переходят из герба в герб, выстраиваясь в ряды, создавая переклички, образуя непрерывные последовательности или прерываясь — и тем самым упорядочивая любой гербовник. Впрочем, даже растения и предметы, которые появляются в баснях, трактуются таким же образом — как гербовые фигуры, подобные тем, что мы встречаем в трудах двух великих геральдистов в 1660- 1680-х годах: бургундского ученого Пьера Пальо и особенно иезуита отца Клода-Франсуа Менестрие, чьи трактаты и руководства имели огромный успех на книжном рынке даже в XVIII веке[770]. Какая же разница между львом, волком или лисой, с одной стороны, и дубом, камышом, желудем и тыквой, горшком и котлом — с другой? По правде сказать, никакой. Все это аутентичные гербовые негеральдические фигуры; мы обнаруживаем их в гербовнике баснописца и, конечно же, в его бестиарии, который, так же как и средневековые бестиарии, не ограничивался только животными. Впрочем, иначе и быть не могло, ведь басни без животных не были бы баснями.
Иногда простота и связность этого бестиария как будто бы контрастирует с многоаспектностью и сложностью некоторых басен. Повторяемость ряда животных — шестеро из них встречаются в десяти и более баснях (лев, волк, лиса, осел, собака и крыса) и еще несколько встречаются чуть реже (петух, обезьяна, ворон, бык) — говорит о том, что этот животный мир ограничен, замкнут сам на себе. В противоположность распространенному мнению, в бестиарии Лафонтена не очень много животных видов: менее пятидесяти на 238 басен, опубликованных в виде трех сборников с 1668 по 1694 год. А некоторая живность, например, устрица или шершень, вообще встречается в баснях лишь раз. Имело бы смысл посчитать, насколько часто или редко появляются в баснях те или иные животные и затем сравнить, в статистическом смысле, бестиарий Лафонтена с бестиариями его предшественников. Лафонтен мало что привнес[771], однако его добавления выступают в качестве регуляторов, обеспечивающих стабильное функционирование системы, которая без подобных нововведений утратила бы гибкость. Также имело бы смысл поразмышлять и над отсутствием некоторых животных и, возможно, подумать над тем, считать или не считать человека частью этого бестиария.
В басенном бестиарии, как и во всяком другом, одни животные встречаются чаще, другие реже. У Лафонтена двое из них являются рекордсменами: это лев и лиса; однако они были самыми популярными и в античных, и средневековых баснях и уже тогда олицетворяли собой два обязательных полюса животной символики: мужское животное и женское животное, королевское и крестьянское, солнечное и лунное; золотое (желтое или рыжеватое) и червленое (красное или рыжее)[772]. Лев и лиса вдвоем уже заполняют собой половину геральдической палитры. Бестиарий Лафонтена строго иерархизирован, но в основе этой иерархичности лежат не законы природы и даже не классификационные системы зоологии, а почетность той или иной гербовой фигуры. В западной символике именно геральдика на рубеже XII-XIII усадила льва на трон царя зверей. И именно басни Лафонтена окончательно утвердили его на этом троне, с которого одно время его безуспешно пытался согнать орел[773].
Одна грамматическая особенность явственно подчеркивает геральдический характер животных образов, переходящих из басни в басню: частое употребление определенного артикля: lе corbeau (ворон), le renard (лиса), le lion (лев), la cigale (кузнечик), la fourmi (муравей), les grenouilles (лягушки). Это грамматическая черта характерна для языка блазонирования: d’argent аu[774] corbeau de sable (в серебряном поле черный ворон); de sable аu lion d’or (в черном поле золотой лев); d’or аu renard de gueules (в золотом поле червленая лиса); de gueules аu loup ravissant d’hermine (в червленом поле волк, похищающий горностая). Определенный артикль, с одной стороны, дает каждой фигуре имя — почти что имя собственное (поэтому в некоторых старых изданиях появляется написание с заглавной буквы: le Lion, le Renard, le Corbeau) — и, что еще важнее, позволяет представить каждый вид архетипически. Это не просто некая лиса, а Лиса как таковая. Свойственные ей черты — физические, социальные, моральные или психологические — являются не столько индивидуальными особенностями, сколько общими характеристиками для всего вида. Причем не в рамках естествознания (басня, повторимся, — жанр, совершенно чуждый всякой естественнонаучности), а в рамках культурных традиций. Ни один нормальный кузнечик, к примеру, не станет питаться «мухами и червяками»: это насекомое питается исключительно соком растений; однако правдоподобие — а следовательно, и правдивость — сохранено, ведь в традиции кузнечик — существо шумное и прожорливое, а значит образ, созданный в басне, вполне отвечает представлениям читателя.
Кроме такого рода особенностей зооморфного ряда, организованного внутри себя как настоящий гербовник, нужно отметить, что принципы повествования, благодаря которым все эти животные приходят в движение и вступают друг с другом в отношения, исконно свойственны геральдическому синтаксису. Фактически басня, подобно гербу, структурирована по принципу наложения планов, которые прочитываются поочередно. Заднему плану соответствует исходная, как правило, кризисная ситуация, на которой завязана дальнейшая история. Средний план занят более или менее продолжительными событиями, которые трансформируют исходную ситуацию; это та самая знаменитая «комедия в сто актов», где чередуются повествовательные части и речи. Затем, на переднем плане, представлена финальная ситуация — результат нового расклада сил. Но на этом басня-герб не заканчивается: «поверх всего», составляя самый близкий к зрителю план, в конце перед нами предстает мораль, настоящая душа эмблемы, телом которой является повествование, если воспользоваться терминологией, которую любили применять геральдисты и теоретики эмблематических сборников XVI-XVII столетий[775]. Чтение, как и в случае с гербом, задано порядком следования планов, и начинается он именно с заднего плана, причем возврат обратно невозможен. Глагольные времена, которые употребляет Лафонтен, поддерживают эту слоистую структуру: сначала имперфект, затем простое прошедшее или повествовательное настоящее время; наконец абсолютное настоящее, предназначенное для изречения сентенций, максим и общих истин. Геральдическая структура опять-таки нагружена смыслом: на заднем плане — прошедшее, на переднем — настоящее, и вечность — «поверх всего».
Восемнадцать месяцев, которые Жан Лафонтен провел у ораторианцев[776], пионеров XVII века в области геральдической педагогики[777], вероятно, оказали на него сильное воздействие. Столь сильное, что свой бестиарий он создавал как некий гербовник, а басни выстраивал по геральдическим принципам. Так что каждая басня одновременно может прочитываться как красочный рассказ, моральная аллегория, эмблематическое воззвание, девиз, дидактическая программа и искусство мнемотехники — одним словом, как настоящий герб.
Средневековая иконография глазами Нерваля
«Геральдика — ключ к истории». Эта фраза Жерара де Нерваля[778], которую в геральдических трактатах конца XIX века было принято цитировать на самом видном месте, свидетельствует об интересе поэта к науке составления гербов. Но хотя на этот факт подчас робко указывали исследователи его творчества, тяга и даже страсть Нерваля к геральдике никогда не становилась предметом изучения. Его интерес к алхимии[779], франкмасонству[780], тайным учениям и оккультизму[781] и даже к генеалогии[782] был обстоятельно изучен, но его интересу к геральдике не было посвящено ни одной книги, ни одной статьи, ни одного параграфа. Правда, с такой работой может справиться только специалист по геральдике — слишком уж трудно уяснить, в каком состоянии находилась геральдика на тот момент, когда творил наш поэт, а именно в 1840-1850-х годах. Это уже не живая и внутренне структурированная дореволюционная геральдика. И пока еще не геральдика в научном смысле этого слова, которая возникнет в Германии, а затем во Франции через одно-два десятилетия. Это геральдика свободная, романтическая, безудержная, «трубадурская», которая тем более прельщает и будоражит воображение поэта, что ее не закрепощает повседневная действительность и пока еще не сковывают строгие академические требования эрудиции. Геральдика в творчестве Нерваля фактически присутствует повсюду: в терминах и оборотах, заимствованных из языка блазонирования, описаниях (подчас неверных) гербов, в той или иной степени вымышленных, в пересказах геральдических или парагеральдических легенд, в зарисовках гербовых щитов в письмах и рукописях. В распоряжении исследователя творчества Нерваля, разбирающегося в геральдике, оказывается целый корпус материалов.
Моя цель в данном случае не столь амбициозна. Я бы хотел ограничиться рассмотрением самого известного и самого изученного стихотворения Нерваля, “El Desdichado”, написанного в конце 1853 года, и попробовать показать, что одним из основных источников вдохновения для поэта стала, по всей видимости, рукопись начала XIV века, украшенная миниатюрами и гербами. Я берусь за это с некоторыми опасениями: как медиевист, я был порядком озадачен библиографией, посвященной этому сонету[783]. Во французской литературе, наверное, нет произведения, которое столь часто становилось бы предметом анализа и увлеченно комментировалось. Каждой стихотворной строке, каждому слову, чуть ли не каждому слогу и звуку посвящено по нескольку диссертаций, книг или статей[784]. Хорошо ли, допустимо ли вообще приумножать и без того неохватную библиографию? Я в этом не уверен. Однако то, что я намерен предложить, не представляет собой новой попытки интерпретации и тем более объяснения. Я не ищу и не предлагаю ключа к пониманию или расшифровки смысла. Для историка любое литературное или художественное произведение — это не только то, что предполагал сделать из него автор, но также то, что из него сделала история. Кроме того, всякое произведение по сути своей многозначно. Каждый читатель, со своей индивидуальностью, своей культурой, своим характером, своими устремлениями выбирает тот или иной уровень считывания смысла. “El Desdichado”, стихотворение, в которое Нерваль сознательно заложил несколько смысловых уровней, на мой взгляд, как ни одно другое подчиняется этому правилу. Меня интересует не значение или значения сонета[785], и еще того меньше — его внутренняя структура или общая направленность, а исключительно источники, на которые Нерваль мог осознанно или неосознанно ориентироваться и которые могли на том или ином этапе оказать влияние на создание этого стихотворения. Как уже давно было доказано, источники эти разнообразны и многочисленны[786], и мне представляется, что одним из самых ранних и плодотворных среди них была геральдика, о которой начисто забыли все критики: девять из четырнадцати стихотворных строк, на мой взгляд, частично или полностью произрастают из вполне конкретного гербовника.
К такому утверждению меня привело каждодневное изучение средневековых гербов и, следовательно, мое собственное геральдическое прочтение этого сонета. Образы, которые вставали у меня перед глазами при прочтении этих девяти стихотворных строк, почти напрямую отсылали к миниатюрам одной из самых известных рукописей, оставленных нам Средневековьем: к знаменитому «Манесскому кодексу», иллюминированному в районе Цюриха или Боденского озера приблизительно в 1300-1310 годах и до 1888 года хранившемуся в Национальной библиотеке в Париже. На мой взгляд, Нерваль просто не мог не знать этой рукописи и она, в свою очередь, не могла не повлиять на процесс зарождения и создания “El Desdichado” — а каким образом, нам предстоит выяснить.
Судьба у «Манесского кодекса» была довольно бурная[787]. Это самый значительный и самый роскошный сборник немецкоязычных куртуазных поэтов (миннезингеров) XII и XIII веков, переписанный и иллюминированный в швабской или швейцарской мастерской в самом начале XIV века, возможно, для состоятельного цюрихского патриция по имени Рогер Манессе. В начале XVII века эта рукопись, уже известная в ученых и образованных кругах, хранилась в Гейдельберге в богатой библиотеке курфюрста Пфальцского. В 1622 году, в начале Тридцатилетней войны, когда город был разграблен имперскими войсками, она исчезла и была обнаружена через несколько лет во Франции, в библиотеке братьев Дюпьи, страстных библиофилов. Переданный по завещанию королю Франции в 1656-1657 годах, «Манесский кодекс» попал в собрание Королевской библиотеки и вошел в фонд немецких рукописей под номером 32. Там он оставался до конца XIX века. Однако начиная с 1760-1780-х годов некоторые представители немецкой знати, литераторы и ученые стали требовать, чтобы эта редчайшая реликвия германской средневековой культуры была возвращена обратно в Германию. В течение XIX века эти требования становились все более настойчивыми; так что в начале 1888 года Леопольд Делиль, заведующий Французской Национальной библиотекой, подписал со страсбургским книготорговцем Трюбнером соглашение о следующем обмене: за возвращение 166 рукописей из коллекции Эшбёрнема, которые прежде были украдены из Королевской библиотеки, Франция передавала ему 150 000 франков, а также прославленный «Манесский кодекс» с условием, что он будет передан на хранение одной из публичных библиотек Германии[788]. Что и произошло два месяца спустя: 10 апреля 1888 года знаменитая рукопись была доставлена в университетскую библиотеку Гейдельберга, где она находится и поныне. Возвращение рукописи приветствовала вся Германия с подчеркнуто националистическим воодушевлением[789].
«Манесский кодекс», который иногда называют “Manessische Liederhandschrift” или “Grofie Heidelberger Liederhandschrift”[790], на сегодняшний день является самой известной средневековой рукописью в германских странах. Его миниатюры, которые неоднократно становились предметом факсимильных изданий[791], в ряде случаев весьма древних[792], и расходились в виде бесчисленных (и часто затасканных) репродукций, за Рейном известны широкой публике так же хорошо, как во Франции известен Часослов герцога Жана Беррийского, иллюминированный в 1413-1416 годах братьями Лимбургами.
В «Манесский кодекс» входит 137 миниатюр, каждая занимает страницу целиком (25х35,5 см); все они выполнены в ярком стиле, в котором угадывается манера, по крайней мере, трех, а возможно, и четырех разных художников. На них изображены 137 из 140 авторов, чьи стихи собраны в этом сборнике; иногда они представлены отдельно, но чаще всего — в контексте куртуазных или сцен из воинской жизни. На большинстве миниатюр фигурируют гербы: просто щит или щит в сочетании со шлемом и нашлемником, которые помещены над ним или рядом с ним. Герб либо принадлежит представленному на миниатюре поэту, либо, по крайней мере, приписан ему художником, так как геральдический анализ показал, что три четверти этих гербов вымышлены[793] и намекают на события из биографии изображенного поэта, на связанную с ним легенду или на известные строчки из его стихов. Эти воображаемые гербы получили название Minnewappen — любовных гербов, так как основное смысловое содержание составляющих их фигур часто связано именно с куртуазной любовью: роза и розовый куст, липовый лист, сердце, девичий бюст, соловей, подушка, буква А (отсылающая к AMOR). Помимо гербов самих миннезингеров, в некотором количестве сцен появляются персонажи в настоящей гербовой одежде. На человека, не знакомого со средневековой геральдикой, все эти разнообразные геральдические элементы способны произвести весьма странное впечатление. Стоит упомянуть, что в неполной копии этой рукописи, выполненной в конце XVII века для парижского эрудита и коллекционера Роже де Геньера, собрание этих миниатюр называется “Armorial fantastique”, «Фантастическим гербовником»[794]. Такой художественный памятник, без сомнения, должен был очаровать и впечатлить романтического поэта, увлеченного Германией, Средневековьем и геральдикой.
В тексте “El Desdichado” не встречается ни одного специального геральдического термина и содержится всего лишь два собственно геральдических оборота. Во-первых, le prince... a la tour, «принц... с башней, (строка 2), то есть принц, на щите которого изображена башня (точно так же, как рыцарь au lion, со львом, — это рыцарь со щитом, на котором изображен лев)[795]; во-вторых, “mon luth... porte”, «моя... лютня носит» (строки 3-4), в котором глагол употребляется в чисто геральдическом значении. Эти два характерных оборота отсылают к двум изображениям «Манесского кодекса», перенося их, так сказать, в нетронутом виде в сонет Нерваля. В кодексе дважды появляется рыцарь-поэт, на щите у которого изображена башня (fol. 54, 194; илл. 32), но самое главное в нем мы обнаруживаем изобразительный — а не литературный — источник той самой знаменитой luth constelle, «звездной лютни» с «черным солнцем», образ которой неоднократно возникает в творчестве Нерваля и о которой было уже так много написано[796]. Мы встречаем ее на листе 312 с изображением поэта Рейнмара Скрипача, где также представлен нашлемник в виде струнного музыкального инструмента (более древнего, чем лютня?), который в четырех местах охвачен языками черного пламени. Пламя по форме напоминает четыре солнца (илл. 33), а образ в целом за счет своей графической выразительности и мрачных тонов производит очень сильное визуальное впечатление. Перед нами, несомненно, изображение, воспоминания о котором, вместе с воспоминаниями о других изображениях, вдохновило Нерваля на создание двух самых загадочных и лучше всего изученных строк во всей французской поэзии: «...а моя звездная лютня / Носит Черное солнце Меланхолии» (строки 3-4). Я, разумеется, не оспариваю ни одну из предложенных интерпретаций этих строк, ни, тем более, часто проводимые сопоставления с изображением на гравюре Дюрера «Меланхолия»[797], которая дважды фигурирует в произведениях Нерваля[798]. Однако я убежден, что исходным источником прекрасного поэтического образа из четвертой строки сонета стало воспоминание о миниатюре из «Манесского кодекса». К тому же черное геральдическое пламя[799] появляется и на некоторых других миниатюрах этого песенника. Так, на листе 17, где в сцене турнира мы видим рыцаря с нашлемником в виде точно такого же пламени (илл. 34): здесь языки пламени еще больше напоминают черное солнце, кроме того, они помещены на шлем рыцаря, который странным образом склонил голову, частично заслонив другого, тоже «меланхоличного» воина.
Принц с башней, звездная лютня, черное солнце — не единственные образы, заимствованные Нервалем из сборника миннезингеров. Еще четыре строки почти без всякого поэтического отстранения могут быть прочитаны в других миниатюрах рукописи. Так, строка 8 («И зеленый шатер, где лоза сочетается с розой»), которая выдержала четыре последовательные редакции[800], угадывается на десятке разных миниатюр. Весьма своеобразное изображение розового куста, под которым поэт так часто ведет беседу со своей дамой (роза по преимуществу является цветком куртуазной любви), одновременно напоминает и виноградную лозу волнистыми линиями своих стеблей, и зеленый шатер — тем, что ветви с цветами располагаются над любовниками, образуя купол или свод (илл. 32). Это особенно отчетливо видно на изображении поэта Конрада фон Альштеттена на оборотной стороне листа 249 (илл. 35). Эта же миниатюра, вероятно, стала источником для 10 строки («Мой лоб еще краснеет от поцелуя королевы»): поцелуй в лоб, которым поэта одаривает женщина в венке, является здесь средоточием всей сцены. Отметим, наконец, что на все той же миниатюре, справа наверху, расположен шлем с нашлемником в виде охваченной черным пламенем головни, которая опять-таки являет нам три чудных черных солнца меланхолии.
Сходным образом, хотя, возможно, и не так явно, первая строка “El Desdichado” («Я мрачен, — я вдовец, — я безутешен»)[801] с определенной долей вероятности также черпает свои образы из визуального источника — трех миниатюр с изображением трех прославленных поэтов, которые будто бы погрузились в «мрачное» раздумье или безутешную любовную печаль: речь идет о Рудольфе фон Нойенберге (fol. 20), Генрихе фон Фельдеке (fol. 30; илл. 30) и Вальтере фон дер Фогельвейде (fol. 124; илл. 31). Само собой разумеется, что в контексте средневековой иконографии позы трех данных персонажей означали не только сердечную печаль[802]; но мне представляется совершенно очевидным, что именно этот смысл был считан Жераром де Нервалем. В середине XIX века иконография и изобразительные коды Средневековья были еще плохо и мало изучены; ошибочные интерпретации (или, по крайней мере, отличные от наших), вчитывание или подмена смыслов были далеко не редкостью, тем более если «дешифровщик» сам был поэтом с богатым воображением. Смысловое нарастание эпитетов в сонете, по всей видимости, соответствует последовательности из трех миниатюр (fol. 20, 30, 114), которая будто бы передает все более и более глубокую печаль. Кроме того, на тех же миниатюрах мы видим множество роз (на листе 20 в виде розового куста, на листе 30 розами усеян фон). Роза, иконографический лейтмотив всего сборника, в средневековой Германии выступала то эмблемой, то символом куртуазной любви, знаменитой Minne. Конечно, именно на розу намекает 7 строка сонета («Цветок, который был так дорог моему скорбному сердцу»), хотя критикам, опиравшимся на сделанную рукой Нерваля запись, так хотелось видеть в этом поэтическом и загадочном цветке аквилегию[803].
Итак, исходным изобразительным источником для семи полных или неполных стихотворных строк (1, 2, 3, 4, 7, 8, 10), по всей видимости, стали миниатюры «Манесского кодекса». Однако в сонете есть другие элементы, которые, пусть и менее очевидным образом, но все же могут иметь отношение к некоторым сценам из этой рукописи. Например, лира, упомянутая в 13-й строке, которую можно было бы связать со струнным инструментом (кларикордом?), представленным на листах 217 и 410[804]. Но особенно 12-я строка в целом («И, дважды победоносный, я пересек Ахерон»): первая ее половина, возможно, отсылает к нескольким различным сценам, где победивший поэт (на литературном турнире) или рыцарь (на воинском турнире) получает венок от дамы (fol. 11v, 54, 151 и т. д.; илл. 36); вторая часть, семантически неотделимая от первой, практически точь-в-точь может быть считана с миниатюры на листе 116, где мы видим поэта Фридриха фон Хаузена переплывающим на корабле реку, в водах которой художник изобразил преисподнюю (илл. 37).
Следовательно, в целом, по крайней мере девять из четырнадцати стихотворных строк могли быть подсказаны сборником миннезингеров[805]. Таким образом, среди множества источников сонета[806] основным являлся «Манесский кодекс».
Было это следствием сознательной и намеренной поэтической работы или результатом визуального припоминания, более или менее осознанного? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо досконально представить себе механизмы поэтического творчества, характерные для Нерваля, а этими знаниями мы, несмотря на несметное количество исследований, посвященных этому автору, пока еще — к счастью — не располагаем. Также следовало бы прояснить все обстоятельства, как биографические, так и психологические, — которые предшествовали сочинению сонета в четырех его последовательных редакциях[807]. Такая попытка уже предпринималась, и в данном случае вдаваться во все подробности было бы некстати. Нерваль сочиняет это стихотворение в конце 1853 года, сразу после очередного психического расстройства. Теперь он постоянно живет под угрозой рецидива. С болезнью, которая не желает его отпускать, он пытается бороться, мысленно возвращаясь в счастливые дни своего детства и отрочества, как он уже делал, работая над «Сильвией» (1853). Но теперь он почти утратил надежду и постепенно начинает осознавать нависшую над ним неизбежность. Поэтому в ранней редакции у сонета появляется фаталистическое название: «Судьба»[808]. А затем — окончательное, звучащее душераздирающим криком “El Desdichado”, заимствованное из «Айвенго» Вальтера Скотта[809]: чуждое, иностранное звучание едва ли не возводит его в ранг эмблемы, внушающей мысль о безграничном отчаянии[810].
Более конкретный и единственный вопрос, который на самом деле можно изучить, состоит в том, действительно ли Нерваль видел «Манесский кодекс» в оригинале, и если да, то где, когда, при каких обстоятельствах? Познакомился ли он с ним, как то можно предположить, в Кабинете рукописей Национальной библиотеки (ставшей императорской)? В 1852-1853 годах? Или еще раньше? Видел ли он его один раз? Или несколько? А может, он вообще держал в руках лишь одно из многочисленных факсимильных изданий — полных или частичных, — опубликованных с 1840 по 1853 год[811]? Чтобы ответить на эти вопросы, следовало бы разобраться в связях Нерваля с учеными кругами, со специалистами по миннезангу и по средневековой геральдике (к примеру, с таким любопытным персонажем, как Луи Дуэ-д’Арк[812]). Также следовало бы изучить его личную библиотеку, а также библиотеки людей из его ближайшего окружения (Готье, Гюго, Дюма) и, конечно же, его интерес к Национальной библиотеке. Нам известно, что он регулярно посещал ее и брал книги[813]. Были ли предметом его интереса иллюминированные рукописи?
Однако так ли это важно? По правде говоря, я совершенно уверен в том, что Нерваль был знаком с «Манесским кодексом» и любовался его миниатюрами и гербами. В середине XIX века эта рукопись, уже весьма знаменитая, входила в число ценнейших памятников, которые выставляла на обзор публики Национальная Библиотека и которые расходились в виде многочисленных репродукций. Кроме того, это рукопись одновременно средневековая, немецкая, поэтическая, геральдическая и музыкальная — иными словами, она имела отношение ко всем тем областям, к которым Нерваль испытывал глубочайший интерес. Его увлечение германским Средневековьем[814], а также дружба с Генрихом Гейне[815], большим почитателем миннезанга и тоже частым посетителем Национальной библиотеки, не могли не привести его к знаменитому кодексу. Даже если Нерваль не держал в руках оригинал рукописи, то он, скорее всего, был знаком с неполным факсимильным изданием, которое в 1850 году опубликовали Б. Ш. Матье и Ф.Х. фон дер Хаген[816]; или же с репродукциями, которые последний публиковал в ряде работ, посвященных миннезингерам с 1842 по 1852 год[817]. Но все-таки превращение аллегорического образа черного пламени в символический образ черного солнца заставляет меня склониться к мысли о том, что Нерваль держал в руках оригинальную рукопись и мог воочию созерцать[818] ее захватывающий геральдический стиль и цвета ровных, чистых тонов[819].
Сопоставление “El Desdichado” с «Манесским кодексом», которое только что было проделано, ни в коей мере не отменяет всех тех толкований и интерпретаций стихотворения, которые предлагались учеными на протяжении уже более века. Мы знаем, что Нерваль с его колоссальной эрудицией жонглировал любыми культурными традициями, любыми аналогиями и всеми смысловыми уровнями. Отсюда такое разнообразие гипотез — биографических, астрологических, мифологических, исторических, эзотерических, алхимических, масонских, музыкальных и эстетических, — которые призваны разъяснить, или даже расшифровать, четырнадцать строк сонета. На самом деле эти гипотезы не враждуют, а дополняют друг друга. Бесконечные поэтические доработки, изобилие аллюзий и невыразимых пульсирующих намеков — все это могло привести только к созданию открытого произведения, которое предлагает читателю неhограниченное число смыслов, перекличек и дает пищу для воображения. Поэтому аквитанский принц с разрушенной башней — согласно предложенным гипотезам — может быть как предком (воображаемым) Нерваля, так и героем Вальтера Скотта, соратником Ричарда Львиное Сердце, сеньором из рода Лузиньянов, Черным Принцем, Гастоном Фебом, шестнадцатым арканом Таро и, конечно же, самим поэтом[820]. Возразить на это нечего. Стих не равен самому себе, ибо он по существу своему многозначен. Каждый читатель может и должен прочитать его по-своему.
Своим прочтением я хотел продемонстрировать, с одной стороны, роль геральдики в поэтическом творчестве Нерваля[821], а с другой — показать, какое сильное впечатление произвел на него знаменитый, украшенный гербами сборник миннезингеров[822]. Тот факт, что каждая строфа переписывалась по нескольку раз, а каждая строка преображалась едва ли не в другую строку[823], заставляет предположить, что это впечатление уже потеряло свою первоначальную отчетливость. Нерваль, конечно, не сознательно конструировал свой сонет, перелагая в стихи миниатюры из «Манесского кодекса». Влияние последних на поэтическую работу над “El Desdichado” было не прямым, а похожим на действие катализатора — то неотступно преследующим, то мимолетным. Кроме того, вполне возможно, что воспоминание об этой рукописи оставило отпечаток и на других текстах Нерваля. Выяснить это еще предстоит[824]. “El Desdichado” неразрывно связан с остальным творчеством Нерваля[825]. Это самый настоящий интертекст, в котором пересекаются все аллюзии, все переклички, все печали. Это эмблема всего его творчества.
Je suis le tenebreux, — le veuf, — l’inconsole,
Le Prince d’Aquitaine a la tour abolie:
Ma seule etoiie est morte, — et mon luth constelle
Porte le Soleil noir de la Melancolie.
Dans la nuit du tombeau, toi qui m’as console,
Rends-moi le Pausilippe et la mer d’ltalie,
La fleur qui plaisait tant a mon coeur desole,
Et la treille ou le pampre a la rose s’allie.
Suis-je Amour ou Phebus?.. Lusignan ou Biron?
Mon front est rouge encor du baiser de la reine;
J’ai reve dans la grotte ou nage la sirene...
Et j’ai deux fois vainqueur traverse l'Acheron:
Modulant tour a tour sur la lyre d’Orphee
Les soupirs de la sainte et les cris de la fee[826].
Я мрачен, — я вдовец, — я безутешен,
Я аквитанский принц с разрушенной башней:
Моя единственная звезда мертва, — а моя звездная лютня
Носит Черное солнце Меланхолии.
В сумраке склепа, ты, утешившая меня,
Верни мне Посиллипо и море Италии,
Цветок, который был так дорог моему скорбному сердцу,
И зеленый шатер, где лоза сочетается с розой.
Я Амур или Феб?.. Лузиньян или Бирон?
Мой лоб еще краснеет от поцелуя королевы;
Я предался мечтам в гроте, где плавает сирена...
И, дважды победоносный, я пересек Ахерон:
Вновь и вновь наигрывая на лире Орфея
Вздохи святой и крики феи.
Бестселлер эпохи романтизма
В завершение этой символической истории Средневековья я хочу остановиться на эпохе романтизма и сказать несколько слов об одном из самых знаменитых произведений, когда-либо написанных об этом периоде истории. Это не ученый труд профессионального историка и не ключевой текст самой средневековой эпохи, а художественное произведение, имевшее самый ошеломительный в истории успех на книжном рынке, и, возможно, самый читаемый в западном мире роман вплоть до начала XX века[827]: «Айвенго». Слава и значение этой книги были столь велики, что это побуждает нас задаться вопросом о том, где же искать «настоящее» Средневековье: в самих средневековых источниках? В трудах ученых и историков? Или же в литературных и художественных произведениях последующих эпох, которые свободно обращаются с исторической правдой, но которые за счет этого, возможно, в меньшей степени подвержены капризам мод и идеологий? Прошлое, которое пытаются восстановить исследователи, меняется день ото дня — из-за новых открытий, новых вопросов, новых гипотез. А вот прошлое, которое изображается в некоторых художественных произведениях, напротив, приобретает порой непреложный, архетипический, почти мифологический характер, питая не только наши грезы и чувства, но отчасти и наши знания. «Айвенго» как раз и является таким произведением. Впрочем, так ли уж незыблема граница, отделяющая художественные сочинения от ученых трудов? Уже более тридцати лет я ежедневно провожу несколько часов за изучением средневековых документов, и мне хорошо известно, что эта граница проницаема, что ученые труды тоже являются частью эскапистской литературы и что «настоящее» Средневековье нужно искать не в архивных документах, не в археологических артефактах, и еще того меньше в книгах профессиональных историков, а в произведениях тех художников, поэтов и романистов, которые раз и навсегда сформировали наше воображаемое. И я ничуть об этом не жалею, я этому даже рад.
Невероятный успех на книжном рынке
Когда в декабре 1819 года вышел роман «Айвенго», Вальтеру Скотту было уже сорок восемь[828]. Он уже несколько лет был известным писателем — как в Шотландии, так и в Англии. В 1813 году он отказался от престижного звания поэта-лауреата Соединенного Королевства, официальной должности, из-за которой ему пришлось бы покинуть Эдинбург и перебраться в Лондон и которая лишила бы его свободы творчества. В следующем году он написал свой первый роман, «Уэверли», забросив на время поэтический труд и сочинение длинных поэм по преданиям и мифам Шотландии, на сегодняшний вкус несколько утомительных. Сразу после публикации «Уэверли» ждал успех, и это побудило Скотта продолжить освоение жанра романа. Так, с 1815 по 1818 год вышло шесть исторических романов, и все были встречены благосклонно. Между тем ни в одном из них действие не перемещалось за пределы Шотландии и не происходило раньше XVI века.
В «Айвенго», который выходит из печати в конце 1819 года, замысел Скотта более амбициозен: теперь история перенесена в Средневековье, в конец XII века и от начала до конца происходит в Англии, в отсутствие короля Ричарда, который отправился в крестовый поход и на обратном пути угодил в плен. Пока он сидит в заточении сначала в Австрии, потом в Германии, — его брат, принц Джон пытается захватить власть, заручившись поддержкой норманнских баронов и оттеснив последних саксонских сеньоров, хранящих верность Ричарду. В разделенной на два лагеря Англии, которая ждет возвращения своего короля, волей автора разворачиваются разнообразные драматические события: конфликт между властным отцом и свободолюбивым сыном, невозможная любовь между молодой еврейкой и рыцарем-христианином, появление скрывающего свою внешность таинственного «черного рыцаря», а также несколько красочных эпизодов: турнир, осада замка, дело о колдовстве, Божий суд. Читатели Скотта были в полном восторге: ведь все это так необычно, и кроме того, великолепно написано.
И в самом деле, успех пришел незамедлительно, и успех этот был огромен. Книга приносит Вальтеру Скотту славу и состояние. Университеты Оксфорда и Кембриджа присуждают ему степень почетного доктора; шотландские интеллектуальные круги оказывают ему всяческие почести и даже просят его возглавить Эдинбургское королевское общество; наконец, новый король Георг IV дарует ему дворянский титул баронета[829]. Все эти почести обрушились на Вальтера Скотта в следующие шесть месяцев после выхода книги. 1820 год был, несомненно, самым блистательным годом всей его жизни, и все благодаря «Айвенго». Кроме того, известности сопутствовало богатство: подсчитано, что с этого года и до его смерти (1832) было продано более шести миллионов экземпляров этой книги, учитывая все издания и все переводы. Просто золотая жила! Которая, к несчастью, истощилась из-за невыгодных капиталовложений в рискованные издательские прожекты, за чем последовали жесточайшее банкротство (1826) и огромные долги. Чтобы с ними рассчитаться, писатель потратил шесть лет жизни, вложив в это и свой писательский талант, и свое здоровье. Писателем он был, конечно, одаренным, а вот предпринимателем — просто никудышным.
Интерес к Средневековью появился у Вальтера Скотта задолго до написания «Айвенго». В 1800-1805 годах он переводит на современный английский язык ряд литературных текстов XIII и XIV веков, написанных на старофранцузском и среднеанглийском языках. Среди них роман «Сэр Тристрам» в редакции 1350-х годов, в котором рассказывается история Тристана и Изольды и повествуется о приключениях некоторых рыцарей Круглого Стола. Профессиональный адвокат, а затем шериф, широко известный поэт и романист, коллекционер и «антиквар» (в высоком смысле, которое это слово имело в XVIII веке), Скотт также был настоящим ученым, состоял в переписке с самыми выдающимися историками Соединенного Королевства и собрал в своем поместье Эбботсфорд, приобретенном в 1811 году, замечательную библиотеку, которая пополнялась до 1826 года. По мнению современников, он также был филологом и лингвистом, превосходным латинистом, прекрасным знатоком старых шотландских диалектов, переводчиком с французского (его жена была француженкой) и немецкого (еще в молодости он перевел на английский «Геца фон Берлихингена» Гёте)[830]. К этим признанным достоинствам он еще мечтал добавить репутацию геральдиста, так как геральдика, на его взгляд, являлась благороднейшей из наук, а самым восхитительным языком был язык герба. Так, некоторые его романы просто усеяны описаниями гербов, впрочем, не всегда правильными[831].
Его компетентность как историка и даже как медиевиста была признана в 1813 году, когда издатели Британской энциклопедии предложили ему написать статью “Chivalry” («Рыцарство»), для нового, готовившегося в тот момент издания энциклопедии. Скотт прекрасно справился с поставленной задачей. Его обширная и документально обоснованная статья вышла в третьем томе Энциклопедии в 1818 году; она строилась вокруг соответствующего различия между феодальным и военным понятием knighthood (специальный термин, обозначающий категорию профессиональных воинов-всадников) и понятием chivalry, скорее включающим социальные и культурные коннотации (близким к понятию, которое во французском называется «куртуазней»)[832]. Работа над этой научной статьей дала ему повод собрать различный материал, который он через год будет использовать при написании «Айвенго».
Скотт трудился над книгой шесть месяцев, с июня по ноябрь 1819 года, притом, что мать его находилась при смерти и сам он был не в лучшей форме. В этот период он редко выходил из своей библиотеки в Эбботсфорде, проводя все дни над сочинением романа и почти не удосуживаясь перечитывать написанное или проверять — в Эдинбурге или где-нибудь еще — ту или иную историческую деталь. Критика отметила, что это отразилось на его произведении, но публика никогда не судила его строго. Его первый читатель — шотландский издатель Роберт Кэделл — был в восторге и сообщил своим лондонским компаньонам, что к ним в руки попала совершенно замечательная книга, “a most extraordinary book”[833]. Сочинение Скотта вышло одновременно в Эдинбурге и Лондоне в самом конце 1819 года[834] в трех томах — более роскошных, чем обычные издания, к которым успели привыкнуть читатели Скотта. В качестве заголовка значилось “Ivanhoe”, а в подзаголовке стояло “A romance”. Публикация этого произведения, как и всех прежних сочинений Скотта, была окутана некоторой тайной: на титуле не было указано имя автора, если не считать приписки «by the author of “Waverley”», «от автора “Уэверли”»; зато предисловие было подписано неким Лоренсом Темплтоном, который утверждал, что при написании этой книги он пользовался англо-нормандской рукописью, которая хранилась у одного из его друзей в поместье на юге Шотландии... Литературная фальсификация в духе романтизма никого не ввела в заблуждение. Все узнали истинного автора.
«Айвенго» — главный переломный момент в жизни и творчестве Вальтера Скотта. Роман не только принес ему состояние и славу, но и сделал его известным далеко за пределами Шотландии и Англии. Первое издание вышло в декабре 1819 года тиражом в 10 000 экземпляров, но уже через несколько дней тираж пришлось удвоить, а затем выпустить еще четыре тиража за один только 1820 год и еще три за следующий. Повсюду в Соединенном Королевстве литературному успеху сопутствовал успех коммерческий. Вскоре это распространилось и на Соединенные Штаты, и на всю Европу. Первые американские издания вышли в Бостоне и Филадельфии в марте 1820 года. Первое французское издание романа в переводе Огюста Дефоконпре, увлеченного романами Скотта, вышло в Париже в апреле того же года[835]; первый немецкий перевод появился в октябре; затем в течение двух следующих лет вышли переводы на итальянский, испанский, голландский и шведский языки. Во всех странах книгу ждал успех. За переводами вскоре последовали адаптации, сокращенные версии, продолжения, подражания, театральные пьесы, музыкальные драмы, позже оперетты, оперы и издания для детей. Ни Скотт, ни его издатели не могли ни сдерживать, ни контролировать поток изданий, вызванных «Айвенго». Стартовав в 1820 году, они продолжали появляться на протяжении всего XIX века, а в следующем столетии передали эстафету кинематографу, комиксам и затем телесериалам. Кроме того, параллельно этому, по крайней мере до 1850-х годов, публику захлестнула невиданная в истории литературы мода на имена. В Британии и Соединенных Штатах, а также во Франции, Германии и Италии становятся популярны имена глазных героев романа: Ровена, Ребекка, Уилфред, Бриан, Седрик и даже Гурт (свинопас!). Даже «Вертер» Гёте — популярность которого на читательском рынке мало кому удалось превзойти — не знал такого успеха.
Литературный и художественный резонанс, последовавший за выходом книги, был не менее значителен, чем ее коммерческий успех. Книга способствовала признанию исторического романа и в течение по крайней мере трех десятилетий являлась источником вдохновения для множества романов, а также драматических, музыкальных и живописных произведений. То, что «Айвенго» в 1820-1850-х годах выступил в роли такого катализатора творческой мысли, сегодня в какой-то степени обходится молчанием или даже сознательно замалчивается предвзято настроенной критикой, однако это неоспоримый исторический факт. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать рецензии на книгу Скотта в литературных журналах. Молодой Виктор Гюго, к примеру, выражает свои читательские восторги в выпуске «Литературного консерватора» за 1826 год, особо подчеркивая, что, на его взгляд, истинным героем романа является прекрасная и печальная молодая еврейка Ребекка, а не скромный и безликий рыцарь Уилфред Айвенго[836]. И так почти по всей Европе: поэты, драматурги и романисты в многочисленных предисловиях и рецензиях отдают должное книге Вальтера Скотта, заложившей основы дальнейшей традиции. Не остаются в долгу и художники, которые на протяжении чуть ли не всего XIX века посвящают свои творения этому короткому периоду истории Англии, эпохе царствования Ричарда Львиное Сердце. Упомянем самых выдающихся: Тернер, Энгр, Делакруа, а позже Россетти и Берн-Джонс. «Айвенго» всколыхнул всю романтическую и постромантическую традицию, которая отчасти черпала вдохновение и сюжеты в феодальном Средневековье.
Но значение этой книги не ограничивается только влиянием на литературное и художественное творчество. Ее влияние сказывается даже на работах историков. Среди них Огюстен Тьерри, один из отцов-основателей французской исторической школы; он был первым, кто написал об «Айвенго» в историческом журнале и привлек внимание к основной проблеме романа: разделению Англии на два лагеря и противостоянию саксонцев и норманнов после завоевания королевства герцогом Вильгельмом Нормандским, ставшим английским королем в 1066 году. Начиная с 1825 года Огюстен Тьерри, выпускник Высшей нормальной школы, преподаватель, пионер научной истории, публикует первый из своих великих трудов — «Историю завоевания Англии норманнами, с изложением его причин и последствий для Англии, Шотландии, Ирландии и континентальной Европы от древности до современности»[837], внушительное обобщающее историческое исследование, толчком к созданию которого послужил роман Вальтера Скотта. Профессиональный историк не только не ставит под сомнение исторические декорации, выстроенные романистом (которые все-таки в значительной части были плодом воображения последнего) — непримиримое противостояние побежденных саксонцев и норманнов-победителей, которое продолжается спустя сто двадцать восемь лет после завоевания Англии Вильгельмом Завоевателем! — но подтверждает, объясняет, развивает и документально обосновывает большинство исторических вопросов, затронутых Скоттом, часть из которых скорее вышли из-под пера фантазирующего поэта, нежели ученого, придерживающегося фактов. До той поры история всегда служила источником вдохновения для романтической литературы, и зачастую довольно плодотворным. Теперь же романтическое произведение стало мощнейшим источником вдохновения для научной дисциплины — истории.
На протяжении примерно двух поколений «Айвенго» вызывал всеобщее восхищение; затем, в 1860-х годах появилась первая критика. Прежде всего она исходила от университетских историков, которые подметили в романе ряд ошибок и анахронизмов: некоторые были не очень существенными и касались «трубадурской» атмосферы всей первой части книги, другие были более грубыми и необъяснимыми: например, чтение печатной душеспасительной книги, письмо, написанное на листе бумаги, появление монаха-францисканца. Вальтер Скотт, человек широчайшей культуры, вероятно, писал данные фрагменты второпях и забыл, что действие книги происходит в конце XII века. Как бы то ни было, но вскоре его стали критиковать не только по мелочам, но и по существу: в частности, критика ополчилась против образа Ричарда Львиное Сердце, фигуры спорной в отношении и личных, и королевских качеств, и, главным образом, против идеи разделения английского народа на саксонцев и норманнов. Зарождающаяся позитивистская история не находила никаких следов этого так называемого раскола в источниках после 1100-1120 года. И упрекала Скотта в том, что он просто-напросто перенес его более чем на век позже, чтобы отразить в своем повествовании момент рождения и объединения английской нации[838]. Эта критика обоснованна, но вольное обхождение с историей и хронологией, которое позволяет себе шотландский писатель-англофил, страдающий от непримиримой вражды между англичанами и шотландцами, по-прежнему актуальной и в его время, вполне понятно. Скотт — шотландец, живущий на юге, рядом с английской границей; кроме того, это человек, любящий порядок, сторонник сильной центральной власти; наконец, он связан дружескими узами с регентом, а затем королем (с 1820 года) Георгом IV. Этими, а также некоторыми другими причинами объясняется тот факт, что он мечтает об Объединенном Королевстве, которое действительно было бы объединенным, а также о том, чтобы Англия и Шотландия теснее были бы связаны между собой через фигуру монарха. В этом смысле роман «Айвенго», центральным героем которого по сути является Англия — Англия разделенная, которую сможет объединить только король Ричард, вернувшийся из плена, — это роман воинствующий.
В 1870-х годах литературное влияние «Айвенго» пошло на убыль. Романтическое Средневековье отходило на задний план, по крайней мере в литературе, а исторический роман не считался больше основным жанром. В конце XIX века некоторые историки английской литературы уже не считали Вальтера Скотта писателем первого плана, а многие исследователи его творчества отныне расценивали «Айвенго» как второстепенное произведение, которое уступает и «Уэверли», и даже стихотворным произведениям его юности. Повествование, по их мнению, плохо простроено, характеры персонажей — упрощены, диалоги — выспренны, стиль — витиеват и небрежен, беспрестанные сравнения с современной автору эпохой выглядят устарело и неуместно. Неумеренные похвалы отныне уступили место несдержанным нападкам. Самый жесткий выпад последовал со стороны критика Джозефа Э. Данкена, который не понимал, почему книга пользуется такой популярностью, и считал, что это произведение относится, в сущности, к детской литературе: “a romantic tale for boys”[839], «романтическая сказка для мальчиков». Убийственная фраза, которая получила большую известность, чем тот, кто ее написал, и нанесла роману Скотта немалый ущерб.
А ведь и впрямь, начиная с 1900-х годов, выходит масса сокращенных версий, рассчитанных на юношество, как на английском языке, так и в переводах, что только лишний раз подрывает уважение к произведению в глазах литературной и университетской критики. Дискредитация романа ощущается и по сей день, и проявляется это различными способами. Так, например, научная литература, посвященная «Айвенго», весьма ограниченна: просто поразительно, что столь прославленной книге посвящено так мало научных исследований; читательское восприятие произведения и мнение о нем литературных критиков расходятся просто до неприличия, по крайней мере разрыв между ними совершенно очевиден[840]. Стоит отметить и тот факт, что в книжных магазинах некоторых стран сегодня трудно найти полное издание или полный перевод текста «Айвенго». Именно так дело обстоит во Франции, где в продаже можно найти только сокращенные версии, предназначенные для юных читателей. Последнее полное издание текста на французском вышло в 1970 году[841] и было быстро распродано. Больше оно не переиздавалось, и до сего дня произведение ни разу не выходило массовым изданием[842].
И опять перед нами резкий контраст: историки литературы относятся к «Айвенго» с пренебрежением, зато публике книга нравится, нравится история, которая в ней рассказывается, нравятся персонажи, которые в ней изображены. Последние стали едва ли не мифологическими фигурами, подобно Дон Кихоту и Санчо Панса, героям «Трех мушкетеров» или некоторым персонажам Гюго, Достоевского, Пруста или Набокова. Айвенго, Ребекка, Буагильбер известны всем, но кто из нас действительно узнал об их приключениях из оригинального текста Скотта? В американских библиотеках в 1880-1890 годах «Айвенго» оставался по-прежнему самым читаемым романом. Но можно ли сказать то же самое о 1920-х? Наверное, нет. А о 1950-х тем паче. А кто читает «Айвенго» сегодня? Никто или почти никто. Но, справедливости ради, кто сегодня читает «Дон Кихота» или «Трех мушкетеров», не считая тех, кто уже их прочитал и спустя годы решил перечитать?
Однако даже если «Айвенго» больше не читают, это произведение — как вообще всякий шедевр — тем не менее продолжает оказывать влияние, в частности, на выбор профессии будущими медиевистами. И здесь я хотел бы привести два свидетельства, одно — историографическое, другое — из личных наблюдений.
В опросе, проведенном в 1983-1984 годах журналом “Меdievales” среди молодых исследователей и признанных историков, фигурировал вопрос: «Откуда у вас появился интерес к Средневековью?» Среди примерно трехсот опрошенных треть утверждали, что рано пробудившемуся интересу к Средним векам они обязаны «Айвенго», будь то книга (как правило, в версии для юношества), будь то фильм «Айвенго» режиссера Ричарда Торпа с участием Роберта Тейлора, Джоан Фонтейн и Элизабет Тейлор в главных ролях, который вышел на экраны в 1952 году[843]. Этот голливудский фильм, не особо уважаемый историками кино, имел ошеломительный международный зрительский успех, и, на мой взгляд, это один из лучших когда-либо снятых фильмов, посвященных средневековой эпохе. Пейзажи, замки, костюмы, гербы, декорации и общая атмосфера достоверно отражают историческую реальность или, по крайней мере, тот образ исторической реальности, который соответствует нашим представлениям. И за счет этой достоверности зритель погружается в знакомый и одновременно сказочный мир. Мне очень жаль, что словари и книги по истории американского кино столь презрительно отзываются об этом фильме. Тем более что для меня, как и для многих других медиевистов моего поколения, с этого фильма началось увлечение Средневековьем. В 1950-х годах я каждое лето проводил в маленьком бретонском городке, там у меня был приятель, бабушке которого принадлежал местный кинотеатр. Так в восемь лет я по знакомству за одну неделю умудрился посмотреть фильм Ричарда Торпа четыре или пять раз, и он, без сомнения, определил мое будущее призвание. Это, конечно, всего лишь занятный случай из жизни, но как показывает опрос журнала “Medievales”, на который я сослался чуть выше, этот пример не единичен. Кстати говоря, это было характерно и для поколения, родившегося до войны: зачастую именно книга Вальтера Скотта пробуждала интерес к Средним векам и становилась первым подступом к тому, что впоследствии развивалось в профессию и даже страсть. Этот путь прошли наши самые выдающиеся историки. Так, Жак Ле Гофф совсем недавно в беседе с Жаном-Морисом де Монреми рассказал, как в возрасте двенадцати лет открыл для себя среди «обширных лесов, покрывавших большую часть красивейших холмов, лежащих между Шеффилдом и веселым городом Донкастером[844]», то самое Средневековье, что вышло из-под пера Вальтера Скотта. Почему эта книга имела такое мотивирующее значение? Почему начиная с 1820-х годов «Айвенго» поколение за поколением очаровывал читателей, взрослых и юных, мужчин и женщин, британцев, американцев, европейцев и даже азиатов?
Это очарование, возможно, происходит оттого, что шедевр Вальтера Скотта не является по сути ни исторической книгой, ни романом. Впрочем, автор этого и добивался. На титульном листе первого издания, как мы видели, он особо уточняет, что это “A romance”, а не “A novel”, то есть «фантазия», а не «роман». Для него «Айвенго» — вымышленное произведение; однако действие этого вымышленного произведения четко вписывается в конкретный момент английской истории — полностью укладываясь в десять дней, — а предметом изображения становится судьба нескольких людей, разворачивающаяся на фоне здесь и сейчас рождающейся истории и складывающейся нации. Он ставит перед собой не только чисто развлекательную цель; он также стремится преподнести урок, так как, по его мнению, любое вымышленное историческое повествование несет в себе педагогическое значение.
Кроме того, для читателей Скотта, по крайней мере, тех, кто прочитал его произведение не в 1820-х годах, а позже, и подчас намного позже, «Айвенго», по всей видимости, приобрел со временем все мотивы и архетипические черты, свойственные традиционной сказке: исходная конфликтная ситуация, с массой запретов и противопоставлением положительных и отрицательных героев; затем драматическое развитие, связанное с нарушением запретов (сын не подчиняется отцу, младший брат узурпирует трон старшего, юные любящие сердца не могут соединиться); наконец, наказание предателей, божественное правосудие, возвращение на трон настоящего короля и женитьба героев. Тут есть все, и все организовано на основе нескольких инвариантов, как в сказочном типе сюжета. Придерживаясь этих нескольких базовых схем, любой из нас сможет рассказать сюжет «Айвенго» на свой манер, при этом не исказив его: как раз в этом и состоит сущностная особенность сказки.
Кроме того, все темы и мотивы, которые делают Средневековье Средневековьем, уже присутствуют в книге: не только турнир, крестовый поход и осада укрепленного замка, но также король в плену, выкуп, рыцари, тамплиеры, люди вне закона, процесс против колдуньи, — все описано и изображено в мельчайших подробностях (оружие и доспехи, одежда, цвета, гербы, замки, обстановка) и в точности соответствует тем образам Средневековья, которые запечатлены в сознании каждого читателя, — образам увиденным, воспринятым, искаженным и воображаемым. Остается только выяснить, является ли «Айвенго» источником
этого воображаемого Средневековья, которое в большей или меньшей степени является общим для всех, или же истоки его коренятся в более раннем времени, а книга великого писателя просто-напросто выполнила роль катализатора и послужила распространению воображаемого образа. Будущие исследования должны попытаться ответить на этот сложный вопрос.
У меня же, однако, складывается впечатление, что большинство схем и тем, вокруг которых Скотт организует свое повествование, уже присутствовали в коллективном воображаемом задолго до того, как он их использовал. Он, конечно, несколько расширил материал, но совершенно не изменил его структуру. Это архетипическое, незыблемое Средневековье, пришедшее из прошлого, отчасти из самой средневековой эпохи, отчасти из XVII и XVIII веков. Конечно, последние работы историков изменили образ Средневековья во многих отношениях (к примеру, в отношении таких вопросов, как феодальная система или происхождение знати), но по существу они никогда не ставили его под сомнение. И что бы собой ни представляли их передовые гипотезы, вполне вероятно, что и в будущих своих трудах историкам не удастся кардинально его пересмотреть. Нужно ли об этом сожалеть? Стоит ли возмущаться тем, что архетипическое Средневековье подчас сильно расходится с исторической правдой (или тем, что под таковой подразумевается)? Конечно, нет. С одной стороны, потому что воображаемое всегда является частью действительности, и то самое воображаемое Средневековье, которое запечатлено в нашем сознании, вполне реально, сколь бы этот образ ни был аффективным или фантазийным: оно существует, мы его чувствуем, мы его переживаем. С другой стороны, потому что историческая правда подвижна, и цель научного исследования — не зафиксировать ее раз и навсегда, а очертить и понять, как она изменяется. В этой связи я бы хотел в заключение процитировать фразу Марка Блока, фразу, которую историку следовало бы постоянно иметь в виду, что бы он ни изучал, о чем бы он ни размышлял:
«История — это не только то, что произошло, но и то, что из этого сделали[845]».
Семнадцать предложенных здесь глав отражают результат моих исследований и преподавательского опыта за последние тридцать лет. Все затронутые в них темы изначально являлись предметом моих семинаров в Практической школе высших исследований и Высшей школе социальных наук. Затем этот материал был опубликован в виде статей в различных журналах, сборниках по материалам конференций и коллективных трудах. Для настоящего издания они были пересмотрены, дополнены, переработаны и отчасти переписаны. Я также постарался обновить библиографию, представленную в примечаниях. Ниже дается список изданий, в которых были опубликованы первые редакции предложенных исследований:
Средневековый символ: Symbole // J. Le Goff et J.-C. Schmitt, dir., Dictionnaire raisonne de l'Occident medieval, Paris, 1999, p. 1096-1112.
Судебные процессы над животными: Une justice exemplaire: les procec intentes aux animaux (XIIIе—XVIе s.) // Cahiers du Leopard d’or, vol. 9, 2000 (Les Rituels judiciaires), p. 173-200.
Коронование льва: Quel est le roi des animaux? // Le Monde animal et ses representations au Moyen Age, Actes du XVе congres de la Societe des historiens medievistes de l’enseignement superieur public (Toulouse, 1984), Paris, 1985, p. 133-142; Pourquoi tant de lions dans l’Occident medieval // It mondo animate. The World of Animals (Micrologus, VIII, 1-2), Turnhout-Sismel, 2000, t. I, p. 11-30.
Охота на кабана: La chasse au sanglier. Histoire d’une devalorisation (IVe-XIVe siecle) // A. Paravicini Bagliani et B. Van den Abeele, dir., La Chasse au Moyen Age. Societe, traites, symboles, Florence, 2000 (Micrologus’Library, vol. 5), p. 7-23.
Свойства дерева: La foret medievale: un univers symbolique // A. Chastel, dir., Le Chateau, La Chasse et la Foret. Les cahiers de Commarque, Bordeaux, 1990, p. 81-98; Introduction a la symbolique medievale du bois // Cahiers du Leopard d’or, vol. 2, 1993, p. 25-40.
Цветок для короля: Le roi des lis. Emblemes dynastiques et symboles royaux // Archives nationales, Corpus des sceaux francais du Moyen Age, t. II, Les sceaux des rois, Paris, 1991, p. 35-48; Une fleur pour le roi. Jalons pour une histoire de la fleur de lis au Moyen Age // Cahiers du Leopard d’or, vol. 6, 1997, p. 113-130.
Увидеть цвета Средневековья: Une histoire des couleurs est-elle possible? // Ethnologie francaise, vol. 20/4, octobre-decembre 1990, p. 368-377; Voir les couleurs au XIIIe siecle // Micrologus. Natura, scienze e societa medievali, vol. 6/2, 1998, p. 147-165; Voir les couleurs du passe: anachronismes, navetes, surlectures // L. Gerbereau, dir., Peut-on apprendre a voir?, Paris, 1999, p. 232-244.
Рождение черно-белого мира: L’Eglise et la couleur des origines a la Reforme // Bibliotheque de l'Ecole des chartes, t. 147, 1989, p. 203-230; La Reforme et la couleur // Bulletin de la Societe d’histoire du protestantisme francais, t. 138, juillet-septembre 1992, p. 323-342; Les Cisterciens et la couleur au XIIe siecle // L’Ordre cistercien et le Berry (colloque, Bourges, 1998), Cahiers d’archeologie et d’histoire du Berry, vol. 136, 1998, p. 21-30.
Средневековые красильщики: Jesus chez le teinturier. Couleurs et teintures dans l'Occident medieval, Paris, 1998.
Рыжий: Tous les gauchers sont roux // Le Genre humain, vol. 16-17, 1988, p. 343-354.
Рождение гербов: L’apparition des armoiries en Occident: etat du probleme // Bibliotheque de l'Ecole des chartes, t. 134, 1976, p. 281-300; Du masque au totem: le cimier heraldique et la mythologie de la parente // Razo. Cahiers du centre d’etudes medievales de Nice, t. 7, 1985, p. 101-116; La naissance des armoiries // Cahiers du Leopard d’or, vol. 3, 1994, p. 103-122.
От герба к флагу: Du vague des drapeaux // Le Genre humain, n° 20, 1989, p. 119-134; L’embleme fait-il la nation? De la banniere a l’armoirie et de l’armoirie au drapeau // R. Babel et J.-M. Moeglin, dir., Identite regionale et conscience nationale en France et en Allemagne du Moyen Age a l’epoque moderne, Sigmaringen, 1997, p. 193-203.
Появление шахмат в Западной Европе: L’Echiquier de Charlemagne. Un jeu pour ne pas jouer, Paris, 1990.
Играя в короля Артура: L’enromancement du nom. Enquete sur la diffusion des noms de heros arthuriens a la fin du Moyen Age // J.-C. Payen et M. Pastoureau, dir., Les Romans de la Table Ronde, la Normandie et au-dela, Conde-sur-Noireau, 1987, p. 73-84.
Бестиарий Лафонтена: Le bestiaire de La Fontaine // C. Lesage, dir., Jean de La Fontaine, exposition, Paris, BNF, 1995, p. 140-146.
Черное солнце меланхолии: Soleil noir et flammes de sable. Contribution a l’heraldique nervalienne: El Desdichado // Bulletin du bibliophile, fasc. 3, 1982, p. 321-338.
Средневековье «Айвенго»: Ivanchoe. Un Moyen Age exemplaire // Le Moyen Age a livres ouverts, Actes du colloque de Lyon (24-25 septembre 2002), Paris, 2003, p. 15-24.

1. Тайная вечеря. Молитвенник императора Генриха II (Райхенау, 1012).

2. Тайная вечеря. Молитвенник (южная Германия, ок. 1160-1170).

3. Тайная вечеря. Псалтырь (Бавария (?), ок. 1230-1240).

4. Взятие Христа под стражу. "Книга Мадам Мари" (Эно, ок. 1285-1290).

5. Взятие Христа под стражу. Деталь витража церкви св. Петра в Вимпфен-им-Таль (Гессен, ок. 1290).

6. Убийство Авеля Каином. Премонстрантская библия из Нотр-Дам-дю-Парк близ Лёвена (Брабант, 1148).

7. Гербовые знамена из "Цюрихского гербовника" (Цюрих, ок. 1330-1335).

8. Гербовые знамена в рукописи “Codex balduinum” (Трир, ок. 1335-1340).

9. Битва при Гастингсе: герцог Вильгельм вынужден сдвинуть шлем на затылок, чтобы показать лицо и доказать, что это он. Ковер из Байё (ок. 1080).

10. Битва при Гастингсе: догеральдические саксонские и нормандские щиты. Ковер из Байё (1080).

11. Шахматная фигура из слоновой кости. Пехотинец (пешка) с догеральдическим щитом (Салерно, ок. 1080-1100).

12. Фрагмент надгробного камня с гербом Гвельфов (Бавария, конец XII века).

13. Печать принца Людовика, сына короля Филиппа Августа (1211, матрица вырезана, вероятно, в 1209 году).

14. Печать Гуго IV, герцога Бургундии, привешенная к документу, датированному 1234 годом.

15. Печать Ги VI, графа де Форез, привешенная к документу, датированному 1242 годом.

16. Печать города Лилля, украшенная «говорящей» лилией и привешенная к документу, датированному 1199.

17. Печать Ланселота Хаварда, нормандского крестьянина, привешенная к акту, датированному 1272 годом.

18. Вымышленные говорящие гербы из «Цюрихского гербовника» (Цюрих, ок. 1330-1350): ворота - porte, короля Португалии, шахматная ладья - roc, султана Марокко.

19. Говорящий герб с ребусом из «Цюрихского гербовника» (Цюрих, ок. 1330-1335): слон (Elefant), стоящий на камне (Stein), рода графов Генфельштайн (Helfenstein).

20. Нашлемники из «Гербовника Конрада Грюненберга» (Констанц, 1483).

21. Нашлемники из «Гербовника Конрада Грюненберга» (Констанц, 1483).

22. Надгробная плита Жоффруа Плантагенета, графа Анжу и герцога Нормандии (ум. 1151), выполненная в технике эмали ок. 1155-1160 гг. и прежде находившаяся в кафедральном соборе Ле-Мана.

23. Жан Клеман, сеньор Меца в Гатине, маршал Франции, принимающий орифламму из рук Святого Дионисия. Витраж Шартрского собора (ок. 1225— 1230). Герб, представленный на одежде персонажа, состоит из трех планов: синего (лазоревого) поля, белого (серебряного) якоревидного креста и правой красной (червленой) перевязи.

24. Гербы короля Франции и князей с изображением лилий из «Большого гербовника ордена Золотого Руна» (Лилль, ок. 1435). На этом листе представлены основные бризуры на гербах королевского дома Франции XIV-XV вв.

25. Нормандские гербы конца XIII века, зарисованные полтора века спустя в «Большом гербовнике ордена Золотого Руна» (Лилль, ок. 1435). Здесь представлен целый ряд бризур и говорящая фигура - молот (martel) семейства Мартель.

26. Король Франции в парадном геральдическом облачении. Конный портрет из «Большого гербовника ордена Золотого Руна» (Лилль, ок. 1435).

27. Нашлемник с драконом. Конный портрет короля Арагона из «Большого гербовника ордена Золотого Руна» (Лилль, ок. 1435).

28. Нашлемник с Мелюзиной. Конный портрет Жана, бастарда герцога Люксембургского, графа Сен-Поля, рыцаря Золотого Руна, представленный в «Малом гербовнике ордена Золотого Руна» (Лилль, ок. 1438-1440).

29. Нашлемник с разорванным сердцем. Конный портрет Жака де Кревкёра, рыцаря Золотого Руна, представленный в «Малом гербовнике ордена Золотого Руна» (Лилль, ок. 1438-1440).

30. «Манесский кодекс», fol. 30. Генрих фон Фельдеке. "Я мрачен..."

31. «Манесский кодекс», fol. 124. Вальтер фон дер Фогельвейде. "... безутешен"

32. «Манесский кодекс», fol. 194. Отто цум Турме. "Я аквитанский принц с разрушенной башней".

33. «Манесский кодекс», fol. 312. Рейнмар Скрипач. "... а моя звездная лютня Носит Черное солнце..."

34. «Манесский кодекс», fol. 17. Герцог фон Анхальт. "...Черное солнце Меланхолии".

35. «Манесский кодекс», fol. 249 v. Конрад фон Альштеттен. "Цветок, который был так дорог моему скорбному сердцу, И зеленый шатер, где лоза сочетается с розой"; "Мой лоб еще краснеет от поцелуя королевы".

36. «Манесский кодекс», fol. 11 v. Герцог Генрих фон Бреслау. "... дважды победоносный..."

37. «Манесский кодекс», fol. 116. Фридрих фон Хаузен. "...пересек Ахерон".
1
Нравоучительные примеры (лат.). — Прим. перев.
2
Онирический — от “oneiros”, сон (греч.) — имеющий отношение к сновидениям. — Прим. ред.
3
Это констатировали еще участники международной недели в Сполето в 1976 г., посвященной символике раннего Средневековья. См.: Simboli е simbologia nell’alto Medioevo. Spoleto, 1976, t. II, p. 736-754 (Settimane di Studio del Centro italiano di studi sulValto Medioevo, vol. 23).
4
По поводу умозрительной символики высшего порядка, о которой мало говорится в этой книге, но которой посвящена обширная литература, я отсылаю к прекрасной статье: Chydenius J. La theorie du symbolisme medieval (1960), trad. fr. // Poetique, n° 23, 1975, p. 322-341. О трудностях сегодняшнего восприятия, изучения и понимания средневековых символов см. также наблюдения в: Ladner G. Medieval and Modern Understanding of Symbolism: A Comparison // Speculum, vol. 54, 1979, p. 223-256.
5
В качестве примера стоит упомянуть работы Перси Эрнста Шрамма, в особенности его большой труд: Schramm P.Е. Herrschaftszeichen und Staatssymbolik. Stuttgart, 1954-1956, vol. 3.
6
Слова «эмблема» и «символ» не имеют в средневековой культуре того обобщающего значения, которое мы придаем им сегодня; впрочем, их вообще использовали довольно редко. Латинское слово symbolum, происходящее от греческого sumbolon, имеет прежде всего религиозный и догматический смысл: оно обозначает не столько знак или некое построение по аналогии, сколько совокупность основных догматов христианской веры, главным образом «апостольский символ веры», или кредо. На этом значении мы здесь останавливаться не будем. Что же касается латинского слова emblema, которое является калькой с греческого emblema, то это тоже ученое слово; оно встречается еще реже, потому что его использовали только в архитектуре для обозначения накладного или выпуклого украшения. То, что мы сегодня подразумеваем под «эмблемой» или «символом», в Средние века на латыни, равно как и на народных языках, выражалось с помощью других слов, в частности, с помощью слов, принадлежащих к обширному лексическому гнезду слова signum («знак»).
7
Изначальный, первичный. — Прим. ред.
8
Жизнь; в данном случае — житие. — Прим. ред.
9
От слова «свет» (фр.). — Прим. перев.
10
По преимуществу; главным образом (лат.). — Прим. перев.
11
В данном случае — искусство толкования Священного писания. — Прим. ред.
12
Чудес (лат.). — Прим. перев.
13
Принцип функционирования средневекового мышления по аналогии особенно хорошо изложен Ж. Ле Гоффом: Le Goff J. La Civilisation de l'Occident medieval. Paris, 1964, p. 325-326. (Перевод на русский: Лe Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. Екатеринбург, 2005. С. 400-401. — Прим. перев.).
14
Pastoureau М. Bleu. Histoire d’une couleur. Paris, 2000, p. 114-122.
15
Имеющий отношение к Иисусу Христу. — Прим. ред.
16
Процесс проникновения растворителя через разделяющую два раствора тонкую полупроницаемую перегородку (мембрану). — Прим. перев.
17
Трансгрессия — пересечение границ понятия, выход за его пределы. — Прим. ред.
18
Из ничего (лат.) - Прим. перев.
19
Внушающий или вызывающий определенные представления, эмоции. — Прим. ред.
20
Delort R. Les animaux ont une histoire. Paris, 1984. Книга имела успех; в нее вошел материал ряда статей, публиковавшихся ранее.
21
Именно это уже в течение нескольких лет происходит в рамках семинара Франсуа Поплена при Национальном музее естественной истории в Париже. В семинаре, который носит название «Естественная и культурная история реальных животных», плодотворно сотрудничают зоологи, историки, историки искусства, археологи, этнологи и лингвисты.
22
Это часто цитируемый пассаж (которой я сильно сократил) из: Apologia ad Guillelmum abbatem // Leclercq J., Talbot С.H., Rochais H. (a cura di) S. Bernardi opera. Roma, 1977, t. III, p. 127-128.
23
Sperber D. Pourquoi l'animal est bon a penser symboliquement // L’Homme, 1983, p. 117-135.
24
О переодевании в животных: Pastoureau М. Nouveaux regards sur le monde animal a la fin du Moyen Age // Micrologus. Natura, scienze e societa medievali, vol. 4, 1996, p. 41-54.
25
Корпус аристотелевских сочинений о животных был переведен с арабского на латинский Михаилом Скотом в Толедо примерно к 1230 г.; он же несколькими годами ранее взялся за перевод комментариев Авиценны к этим сочинениям. Примерно через одно поколение все эти тексты (некоторые пассажи практически в неизменном виде) Альберт Великий включил в свой труд «О животных». Однако некоторые главы из этого корпуса были уже известны и переводились с конца XII в. О том, как на Западе были заново открыты сочинения Аристотеля по естественной истории, см.: Van Steenberghen F. Aristotle in the West. The Origins of Latin Aristotelianism. Louvain, 1995; Id., La Philosophie au XIIIе siecle, 2e ed. Louvain, 1991; Lohr С.H. The Medieval Interpretation of Aristotle. Cambridge, 1982. О единстве живого мира в системе Аристотеля: Pellegrin P. La Classification des animaux chez Aristote. Statut de la biologie et unite de l’aristotelisme. Paris, 1982.
26
Рим 8:21.
27
Начиная с самого Фомы Аквинского. См.: Domanyi Т. Der Romerbriefkommentar des Thomas von Aquin. Bern und Frankfurt, 1979, S. 218-230.
28
Это замечание приписывается Гильому Овернскому, епископу Парижа (1228-1249), но оно также появляется в проповеди (ок. 1230-1235), которая, вероятно, принадлежит не ему. См.: Quentin A. Naturkenntnisse und Naturanschauungen bei Wilhelm von Auvergne. Hildesheim, 1976, S. 184.
29
Ibid., S. 126-127. См. также: Vanneste A. Nature et grace dans la theologie de Guillaume d’Auvergne... // Ephemerides theologicae lovanienses, t. 53, 1977, p. 83-106.
30
Среди не очень обширной и порой не оправдывающей ожиданий литературы (особенно написанной на французском) в первую очередь стоит указать: von Amira К. Thierstrafen und Thierprocesse // Mitteilungen des Instituts fur Osterreichische Geschichtsforschung (Innsbruck), Bd. 12, 1891, S. 546-606; Evans E. P. The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals. London, 1906; Berkenhoff H. A. Tierstrafe, Tierbannung und rechtsrituelle Tiertotung im Mittelalter. Leipzig, 1937; Chene C., Juger les vers. Exorcismes et proces d’animaux dans le diocese de Lausanne (XV-XVIe siecles). Lausanne, 1995 (Cahiers lausannois d’histoire medievale, vol. 14). В двух статьях представлен краткий историографический очерк по материалам XIX-XX вв.: Hyde W. W. The Prosecution of Animals and Lifeless Things in the Middle Age and Modern Times // University of Pennsylvania Law Review, t. 64, 1916, p. 696-730; Cohen E. Law, Folklore and Animal Lore // Past and Present, t. 110, 1986, p. 6-37 (в основном о процессах против грызунов, червей и насекомых).
31
Недавние примеры таких сочинений на французском: Dietrich G. Les Proces d’animaux du Moyen Age a nos jours. Lyon, 1961; Rousseau M. Les Proces d’animaux. Paris, 1964; Vartier J. Les Proces d’animaux du Moyen Age a nos jours. Paris, 1970.
32
Все примеры ранее середины XIII в., приводимые различными авторами, весьма сомнительны; при современном состоянии знаний их следует исключить из корпуса изучаемых материалов. Самый ранний документально засвидетельствованный процесс, проходивший во Франции, датируется 1266 г. Он касается свиньи, которую сожгли заживо за то, что она убила и сожрала ребенка в Фонтене-о-Роз (на территории, принадлежащей парижскому аббатству Святой Женевьевы). См.: Abbe Leboeuf. Histoire du diocese de Paris. Paris, 1757, t. IX, p. 400-401.
33
В основательно подкрепленном документами (что вообще встречается редко) исследовании по теме — Menabrea L. De l'origine, de la forme et de l'esprit des jugement rendus au Moyen Age contre les animaux // Memoires de la Societe royale academique de Savoie, vol. 12, 1846, p. 3-161 — большинство примеров касается альпийских областей. В этом исследовании — как и во всех работах по Альпам — больше внимания уделяется процессам, возбужденным против грызунов, насекомых и червей, которые угрожают урожаям, чем делам против крупных домашних животных, ставших причиной смерти мужчины, женщины или ребенка.
34
Давно известная исследователям история фалезской свиньи никогда не становилась предметом подробного изучения или хотя бы темой серьезной статьи и не выходила за рамки простого упоминания или анекдота. Вместе с тем она ставит перед историком столько сложных и незаурядных вопросов, что заслуживает отдельного исследования. А пока оно не написано см.: Charange J. Dictionnaire des titres originaux... Paris, 1764, t. II, p. 72-73; Statistique de Falaise Falaise, 1827, t. I, p. 63; Berriat de Saint-Prix M. Rapport et recherches sur les proces et jugements relatifs aux animaux // Memoires et dissertation sur les antiquites nationales et etrangeres, t. 8, 1829, p. 403-450 (а именно p. 427); Evans E. P. The Criminal Prosecution..., op. cit., p. 287.
35
Я обязан любезности каноника Пьера Фламана, бывшего архивиста диоцеза Се и бывшего президента Исторического и археологического общества департамента Орн, который предоставил мне доступ к материалам двух досье, составленных около 1880 г. нормандским ученым кюре Пьером Ренаром, в которых излагались «любопытные факты и необычные истории», случившиеся в диоцезах Авранш, Се и Байё.
36
Особенно, если преступник — животное и его хозяин считается невиновным: в этом случае суд не может рассчитывать на какие бы то ни было денежные компенсации.
37
Чиновник, выполнявший административные и судебные функции. — Прим. ред.
38
Charange J. Dictionnaire..., op. cit., t. II, p. 72.
39
Pere G. Langevin. Recherches historiques sur Falaise. Supplement. Falaise, 1826, p. 12-13.
40
Ibid., p. 13. О церкви и ее истории см. также: Germain P. Visitons Falaise. L’eglise de la Sainte-Trinite. Conde, 1992. В настоящее время (октябрь 2003) обсуждаются проекты по восстановлению изображения, скрытого под слоями извести и штукатурки.
41
Charange J. Dictionnaire..., op. cit., t. II, p. 72.
42
Подобная практика, видимо, не является чем-то исключительным в XV-XVI вв. И другим животным перед казнью точно так же наносили увечья в тех местах, в которых они калечили или ранили свои человеческие жертвы. Можно сопоставить эту практику с калечением, иногда применяемым в качестве наказания к фальшивомонетчикам, ворам, насильникам, лжесвидетелям и богохульникам, а также с нанесением увечий агрессорам в тех местах, в которых они сами изувечили своих жертв. См.: Gonthier N. Le Chatiment du crime au Moyen Age. Rennes, 1998, p. 140-146.
43
Ibid., p. 73.
44
Зато несет ее, если животное виновно не в совершении преступления, а в причинении «вреда», то есть в гражданском правонарушении (воровстве, опустошении садов, проникновении в лавки и амбары, причинении ущерба различного рода, бродяжничестве). За это судил не уголовный, а гражданский суд, наказывая взысканием штрафа. Подобные случаи, в которые были вовлечены животные, чрезвычайно часто становились предметом распрей и тяжб между соседями.
45
Чтобы подчеркнуть невиновность владельца животного, вспоминают слова из книги Исход (21:28): «Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями и мяса его не есть; а хозяин вола не виноват».
46
d’Addosio С. Bestie delinquenti. Napoli, p. 286-290; Evans E. P. The Criminal Prosecution..., op. cit., p. 298-303.
47
Подобные задачи ставит перед собой Р. Мюшембле в работах, касающихся Нового времени. См.: Muchembled R. Le Temps des supplices. De l’obeissance sous les rois absolus. Paris, 1992. Подробнее также см.: Carbasse J.-M. La peine en droit franqais des origines au XVIIе siecle // Recueil de la Societe Jean Bodin, t. 56/2, Bruxelles, 1956, p. 157-172.
48
Evans E. P. The Criminal Prosecution..., op. cit., p. 156-157.
49
d’Addosio C. Bestie delinquenti, op. cit.; Tobler G. Tierprozesse in der Schweiz Bern, 1893; Kerdaniel E. L. Les Animaux en justice. Procedures en excommunication Paris, 1908; Berkenhoff H. A. Tierstrafe, Tierbannung..., op. cit. (прим. 15).
50
von Amira K. Thierstrafen und Thierprocesse, art. cit. (прим. 15).
51
Забавными диковинами (лат.) - Прим. перев.
52
Кроме Бартелеми де Шаснё, о котором речь пойдет ниже, укажем: Pape G. Decisiones. Grenoble, 1490 (см. особенно материалы к quaestio 238: si animal brutum delinquat, sicut quandoque faciunt porci qui comedunt pueros, an debeat mori? Die quod sit — «если неразумное животное совершило преступление, какие иногда совершают свиньи, пожирающие детей, заслуживает ли оно смерти? Я отвечу утвердительно»); Duret J. Traicte des peines et amendes tant pour les matieres criminelles que civiles. Lyon, 1573, 2e ed., Lyon, 1603, p. 436-443; Ayrault P. L’Ordre, formalite et instruction judiciaire, 4e ed., Paris, 1610, p. 602 sq. Эти три труда постоянно переиздавали вплоть до конца Старого режима. Среди многочисленных трудов ученых XIX в., в которых представлена подборка дел, тяжб и процессов, интересных для нашей темы с той или иной точки зрения, обратим внимание на: Dumont С. Е. Justice criminelle des duches de Lorraine et de Bar. Nancy, 1848, 2 vol.
53
Вальденсы — последователи религиозного движения, которое, в частности, было распространено на юге Франции и расценивалось церковью как ересь. Вальденсы ратовали за возвращение к апостольским идеалам, отказ от собственности, бедность и аскетизм, свободное чтение Библии. — Прим. перев.
54
Свод местного обычного права. - Прим. перев.
55
Pons L. Barthelemy de Chasseneuz. Paris, 1879, p. 46; Pignot L. Un juriconsulte du XVIе siecle. Paris, 1881, p. 112.
56
Chassenee. Consilia. Lyon, 1531, Ire partie, § “De excommunicatione animalium et insectorum”.
57
Территория, на которую распространяется власть епископа. — Прим. ред.
58
Приведено в: Berriat de Saint-Prix M. Rapport et recherches sur les proces et jugements relatifs aux animaux, art. cit.; повторяется в: Evans E. P. The Criminal Prosecution..., op. cit., p. 265.
59
Э. П. Эванс, ibid., упоминает о нескольких свидетельствах, но все они не очень достоверны. См. также: Poullain de Saint-Foix Е. Euvres completes. Paris, 1778, t. II, p. 167, et t. IV, p. 97.
60
Brillon P. J. Dictionnaire de jurisprudence. Lyon, 1786, t. V, p. 80 (“Ani-mal”); Franklin A. La Vie privee d’autrefois, du XIIе siecle au XVIIе siecle: les animaux. Paris, 1899, t. II, p. 267-268.
61
Giraud A. Procedures contre les chenilles et autres betes nuisibles // Bulletin de la Societe departementale d’archeologie et se statistique de la Drome, t. I, 1866, p. 100-102.
62
Menabrea. De l'origine..., art. cit., (прим. 18), p. 148-161.
63
Чиновник, заведовавший церковным судопроизводством. — Прим. ред.
64
В этом и некоторых других случаях: Desnoyer J. Lexcommunication des insectes et autres animaux nuisibles a Vagriculture // Bulletin du Comite historique des documents ecrits de l’Histoire de France, t. 4, 1853, p. 36-54.
65
Bavoud F. L'exorcisme des insectes au XVIIIе siecle dans de diocese de Besanqon // Memoires de la Societe d’emulation du Doubs, t. 6, 1937, p. 99-113.
66
В Альпах самое раннее свидетельство о таком процессе относится к 1338 г., в деле фигурирует саранча, опустошившая земли в районе Больцано в Южном Тироле. См.: Ausserer К. Die Bozner Chronik und ihre Nachrichten zur Geschichte der Stadt Bozen // Der Schlern. Bd. 12, 1922, S. 386-393. О подобных бедствиях в Средиземноморье: Delort R. Les animaux ont une histoire, op. cit., p. 169-186; Arbel B. Sauterelles et mentalites: le cas de la Chypre venitienne // Annales. ESC, vol. 44, septembre-octobre 1989, p. 1057— 1074.
67
Chene C. Juger les vers, op. cit. (прим. 15). Изученные материалы относятся к 1452-1536 гг.
68
Напомним, что дела о кражах, причиненном ущербе или бродяжничестве, возбужденные против животных, рассматривались гражданским судом.
69
Little L. К. Formules monastiques de malediction au IXе et au XIе siecle // Revue Mabillon, t. 58, 1970-1975, p. 377-399; Id., La morphologie des maledictions monastiques // Annales, ESC, vol. 34, janvier-fevrier 1979, p. 43-60.
70
Desnoyer J. L'excommunication des insectes..., art. cit.; d’Arbois de Jubainville H. Les excommunications d’animaux // Revue des questions historiques, t. 5, 1868, p. 275-280; Besson M. L’excommunication des animaux au Moyen Age // Revue historique vaudoise, t. 43, 1935, p. 3-14. Как подчеркивают все эти авторы, с термином “excommunication” («отлучение от церкви», а также «исключение, изгнание». — Прим. перев.) в данном случае нужно обращаться осторожно, он не имеет здесь своего обычного значения.
71
Быт 3:17.
72
Fleuret et L. Perceau F. Les Proces de bestialite. Paris, 1920, p. 14-15. Сжигание материалов дела — факт совершенно исключительный, настолько чуждый для судопроизводства конца Средневековья и начала Нового времени, что можно задаться вопросом, не касалось ли это символическое уничтожение одних только черновиков или даже копий, а все-таки не оригинальных документов. Впрочем, в судебных архивах осталось так мало следов преступлений и соответствующих процессов, связанных со скотоложством, что можно поставить вопрос о том, не уничтожались ли они умышленно в тот или иной момент времени. См. два хорошо документированных дела XV в. (одно бургундское, другое лотарингское), приведенных в: Nicole Gonthier. Le Chatiment du crime au Moyen Age, op. cit., p. 163.
73
В XVI в. число их, по-видимому, несколько возросло. Альфред Соман сообщил мне, что он зафиксировал 54 дела о скотоложстве, заслушанных в парижском парламенте с 1536 по 1600 гг. Фауна, которая в них фигурирует, не очень разнообразна: ослица, кобылы, собаки, козы и коровы. Свиньи отсутствуют. Я горячо благодарю А. Сомана за сведения, которыми он со мной поделился.
74
Dubois-Desaulle L. Etudes sur la bestialite du point de vue historique, medical et juridique. Paris, 1905, p. 154-157.
75
Berriat de Saint-Prix M. Rapport er recherches..., art. cit. (прим. 19), p. 427.
76
Franklin A. La Vie privee d’autrefois...: les animaux, op. cit., t. II, p. 261.
77
В упоминавшейся работе: Berkenhoff H. A. Tierstrafe, Tierbannung..., op. cit., можно найти точную типологию наказаний, применявшихся к животным в германских странах.
78
Париж, Национальный архив, L 885/1. Я благодарю проф. Анри Дюбуа и его ученицу Анн Лакур-Брюэр, которые познакомили меня с этим неопубликованным документом.
79
Tanon L. Histoire des justices des eglises de Paris. Paris, 1883, p. 227.
80
По поводу зооархеологии, ее численных данных, методах и выводах см. библиографический свод в: Audouin-Rouzeau F. Hommes et animaux en Europe de Vepoque antique aux Temps modernes. Corpus de donnees archeozoologiques et historiques. Paris, 1993.
81
Verroust et M. Pastoureau J. Le Cochon. Histoire, symbolique, cuisine. Paris, 1987, p. 23-26.
82
На человеческий манер (лат.) - Прим. перев.
83
Поэтому ткани и органы свиньи используются в современной медицине при лечении кожных повреждений, при пересадках и для проведения экспериментов. Хотя процент совпадения ДНК у человека и свиньи ниже процента совпадения ДНК у человека и обезьяны, свинью в лабораторных целях используют чаще: с одной стороны, это распространенное животное, поэтому приобрести ее проще и дешевле; с другой стороны, она не числится среди охраняемых видов и вызывает у нас меньше сочувствия, нежели обезьяна.
84
Примеры для подражания часто черпали из текстов, составленных представителями великой Салернской медицинской школы в XII в. См.: de Renzi S. Collectio salernita. Napoli, 1853, t. II, p. 391-401; Corner W. Anatomical Texts of Early Middle Ages. Washington, 1927, p. 47-68.
85
de Beaumanoir P. Coutumes du Beauvaisis, chap. LXIX, § 6 (ed. Beugnot, Paris, 1842, t. II, p. 485-486).
86
Ancien Regime (фр.) — Старый режим (в другом переводе — «Старый порядок»). Принятое во французской историографии выражение, означающее политический и социально-экономический строй, существовавший до Великой французской революции. — Прим. ред.
87
Duret J. Traite des peines et amendes. Lyon, 1572, p. 108-109.
88
Ayrault P. L’Ordre, formalite et instruction judiciaire... 4e ed., Paris, 1610, p. 109.
89
Исx. 21:28.
90
Фома Аквинский. Сумма против язычников (Summa contra gentiles). Книга II, глава 82 (Opera..., ed. leonina, Roma, 1918, p. 513-515).
91
Альберт Великий. О душе (De anima). Книга II, главы 3 и 12 (см. «Кельнское» изд-е, Bonn, 1955, Bd. XII).
92
Вещей и знаков (лат.) - Прим. перев.
93
Фома Аквинский. Сумма теологии (Summa theologica). Книга II, 90/3 и III, 76/2 (Opera..., ed. leonina, Roma, 1935, p. 169-172).
94
См.: Rosenfield L. C. From Beast Machine to Man Machine. New York, 1941.
95
Об отношении философов, в частности философов XVII—XVIII вв., к животным (материал этот хорошо известен и подробно изучен) см. недавнее исследование: de Fontenay Е. Le Silence des bites. La philosophie a l’epreuve de l’animalite. Paris, 1998, p. 265-543. Удивительно, что этот обширный труд, где изучается отношение к животным у философов Античности, Нового времени и современности, совершенно игнорирует Средние века — период, который весьма богат материалом по данному вопросу.
96
Расин Ж. Сутяги. Действие III, явление 3.
97
Рим 8:21.
98
История королевских и княжеских зверинцев еще не написана. Давняя книга Гюстава Луазеля (Loysel G. Histoire des menageries de l’Antiquite a nos jours. Paris, 1912, 3 vol.), которую часто цитируют, но, видимо, никогда не читают, представляет собой довольное посредственное сочинение: в ней дается обрывочная информация, часто устаревшая и начисто лишенная проблематики. Зверинцы — как, впрочем, и вообще все темы, связанные с животными, — долгое время были отданы на откуп историческому анекдоту и сборникам курьезов. Они этого не заслуживают.
99
В данном исследовании я везде употребляю слово menagerie («зверинец». — Прим. перев.) в его современном значении, каковое оно приобрело в XVII в. В старо- и среднефранцузском языке это слово обозначает не место, где содержат и показывают диких или диковинных зверей, а управление хозяйством или домом.
100
Совет духовных лиц при епископе. — Прим. ред.
101
Как верно полагал выдающийся историк П.Э. Шрамм, посвятивший им несколько страниц в своей прекрасной, написанной в соавторстве книге: Schramm P.Е., Mutherich F. Denkmale der deutschen Konige und Kaiser. Munchen, 1962, S. 70-74.
102
Создать типологию зверинцев непросто, так как обозначающие их термины неустойчивы и двусмысленны. Чаще всего встречаются слова bestiarium, vivarium и claustrum; но они обозначают как рвы и клетки, так и парки с заповедниками. Кроме того, они многозначны: словом vivarium, к примеру, называют одновременно зверинец с хищными зверями, олений парк, кроличий садок, живорыбный садок и даже фруктовый сад. Такие термины, как pardarium, leopardarium или ferarium используются реже, но имеют более конкретное значение: речь идет о рве, в котором находятся львы, леопарды и пантеры. Птичьи вольеры, в отличие от вивариев, также имеют вполне прозрачные названия: aviarium, columbarium.
103
В ту же эпоху возрастает число оленьих парков; олень имеет христологическое значение, и охота на него отныне считается более благородной, чем охота на кабана. Состав зверинцев и круг живых животных, которыми владели князья, следует сопоставить с чучелами животных — bouillis еn huile — «прокипяченными в масле», по-среднефранцузски, — а также с отдельными частями животных (кожа, мех, шерсть, волосы, кости, зубы, когти и т. д.), которые хранились в светских или церковных сокровищницах. Здесь самыми популярными вплоть до Нового времени были крокодилы, змеи и драконы. Со зверинцами также тесно связаны зрелища и бои с участием животных: если le gieu des ours et des lions, то есть битва медведя со львом — излюбленный мотив песен о деяниях — в конце Средних веков уже отошла в прошлое, то бои львов с быками отнюдь не редкость, особенно в Испании и Италии. В целом, во второй половине XV в. повышается интерес к быкам и к бою быков. Но эти зрелища, несмотря на то, что о них иногда пишут, по всей видимости, не являлись продолжением античных ритуалов, в которых участвовали быки.
104
См. подсчеты, которые я привел в: Le bestiaire heraldique au Moye Age // Revue francaise d’heraldique et de sigilligraphie. 1972, p. 3-17, а также в моей книге: Traite d’heraldique. Paris, 2е ed., 1993, p. 136-143.
105
Beck Н. Das Ebersignum im Germanischen. Berlin, 1965; Scheibelreiter G. Tiernamen und Wappenwesen. Wien, 1976, S. 22-57, 87-90; Korn H.E. Adler und Doppeladler. Ein Zeichen im Wandel der Geschichte. 2. Aufl., Marburg, 1976.
106
Viel R. Les Origines symboliques du blason. Paris, 1972, p. 31-91; Quacquarelli A. It leone e il drago nella simbolica delVeta patristica. Bari, 1975.
107
Zips M. Tristan und die Ebersymbolik // Beitrge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Bd. 94, 1972, S. 134-152; Pastoureau M. Les armoiries de Tristan dans la litterature et Viconographie medievales // Gwechall (Quimper), t. 1, 1978, p. 9-32.
108
Пс 21:22.
109
Петр 5:8-9.
110
Притч 30:30; Быт 49:9.
111
Откр 5:5.
112
Исидор Севильский. Этимологии. Книга XII, гл. II, § 3 (ed. J. Andre, Paris, 1986, p. 89).
113
Царь, сиречь глава всех диких зверей (лат.) - Прим. перев.
114
Ambrosius. Hymni latini antiquissimi. Ed. A. Bulst, Heidelberg, 1956, S. 42; Рабан Мавр. О природах вещей (De rerum naturis). Кн. VIII, глава 1 (PL, t. 112, col. 217-218).
115
Среди обширной литературы см. особенно: Henkel N. Studien zum “Physiologus”. Tubingen, 1976.
116
De bestiis et aliis rebus. Livre II, chap. 1 (PL, t. 177, col. 57); Unterkircher F. Bestiarium. Die Texte der Handschrift Ms. Ashmole 1511 der Bodleian Library Oxford. Graz, 1986, S. 24.
117
Thomas Cantimpratensis. Liber de natura rerum. Boese H. (Hg.). Berlin, 1973, S. 139-141; Bartholomaeus Anglicus. De proprietatibus rerum. Koln, 1489, fol. 208 [vb, f]; Vincentius Bellovacensis. Speculum naturale. Douai, 1624, livre XIX, chap. 66-74.
118
Об этих различных свойствах — не упоминаемых Аристотелем и Плинием — и христологических толкованиях оных, см.: Henkel N. Studien zum “Physiologus", op. cit., p. 164-167.
119
Pastoureau M. Traite d’heraldique, op. cit., p. 143-146.
120
London H. S. Royal Beasts. London, 1956, p. 9-15; Viel R. Les Origines symboliques du blason. Paris, 1972, p. 46-106 (читать с осторожностью); Ailes A. The Origins of the Royal Armes of England. Their Development to 1199. Reading, 1982; Pastoureau M. Genese du leopard Plantegenet // Societe des amis de l’lnstitut historique allemand. Bulletin, vol. 7, 2002, p. 14-29.
121
Dorling E.E. Leopards of England and other Papers on Heraldry. London, 1913; London H. S. Lion or Leopard? // The Coat of Arms, t. 2, 1953, p. 291-296; Humphery Smith C. R. and Heenan M. The Royal Heraldry of England. London, 1966; Pinches J.H. and R.V. The Royal Heraldry of England. London, 1974, p. 50-63.
122
McCullough F. Medieval Latin and French Bestiaries. Chapel Hill, 1962, p. 150-151; Henkel A. Studien zum “Physiologus", op. cit., p. 41-42. Аристотель ничего не пишет о совокуплении львицы с пардом. Эта легенда переходит от Плиния к Солину, а затем, через неизбежного посредника Исидора, в средневековую культуру: «леопард рождается от прелюбодейной связи львицы с пардом» (leopardus ex adulterio leaena et pardi nascitur; Etymologiae, livre XII, chap. II, § 11, ed. Andre J., Paris, 1986, p. 95).
123
Pastoureau M. Figures et couleurs pejoratives en heraldique medievale // Communicaciones al XV Congreso internacional de las ciencias genealogica у heraldica. Madrid, 1982 (1985), t. III, p. 293-309.
124
Быт 6:19-21. Текст Вульгаты XIII в. не более точен, чем современные переводы: “Et ex cunctis animantibus universae carnis bina induces in arcam, ut vivant tecum, masculini sexus et feminini. De volucribus juxta genus suum et de bestiis in genere suo et ex omni reptili terrae secundum genus suum: bina de omnibus ingredientur tecum, ut possint vivere”.
125
Относительно патриотических и иконографических источников по Ноеву ковчегу полезно будет обратиться, особенно в связи с ранним Средневековьем, к диссертации, защищенной в Школе хартий и, к сожалению, до сих пор не изданной: М. Besseyere. L’Iconographie de l’arche de Noe du IIIе au XVе siecle. Du texte aux images. Paris, 1997. Cм.: Ecole nationale des chartes. Positions des theses... Paris, 1997, p. 53-58.
126
В средневековых изображениях часто трудно различить баранов, телят и собак (по крайней мере, если они без ошейника). Некоторые животные действительно отличаются четко выраженными иконографическими признаками, другие — нет. Так, если среди птиц можно легко узнать орла, лебедя, сову или сороку, то другие виды неразличимы и нераспознаваемы. Впрочем, их идентифицируемость не входила в задачи художников.
127
Изучение размещения различных видов внутри ковчега также познавательно. Существуют более и менее почетные места.
128
Литература о культах медведя обширна, и часто в ней высказываются противоположные мнения (в частности по поводу доисторических культов, существование которых одни авторы отрицают, другие упорно отстаивают). Несмотря на год издания, прежде всего см.: Hallowell A.I. Bear Ceremonialism in the Northern Hemisphere // The American Anthropologist, t. 28, 1926, p. 51-202; Tillet T. et Binford L.R., dir. L’Ours et l’Homme. Actes du colloque d’Auberive (1997), Liege, 2002.
129
О связи между медведем и диким человеком в Средние века: Bernheimer R. Wild Men in the Middle Ages, Cambridge (Mass.), 1952; Husband T. The Wild Man: Myth and Symbolism. New York, 1980; Gaignebet C. et Lajoux D. Art profane et religion populaire au Moyen Age. Paris, 1982, p. 75-85, 115-127.
130
Кроме статьи “Brensohn” из Handwdrterbuch des deutschen Aberglaubens. Leipzig, 1930, t. I, см. прежде всего прекрасное исследование Даниеля Фабра: Fabre D. Jean de L’Ours. Analyse formelle et thematique d’un conte populaire. Carcassonne, 1971.
131
«Они совокупляются в начале зимы, не тем способом, которым обычно это делают четвероногие, а обняв друг друга, лицом к лицу». (Pline. Histoire naturelle. Livre VIII, chap. LIV, ed. A. Emout, Paris, 1952, p. 67).
132
В настоящее время я работаю над книгой, посвященной истории медведя в Средние века и роли Церкви, способствовавшей его низвержению с трона царя зверей. (Книга вышла в 2007 г. под названием: L’Ours. Histoire d’un roi dechu. Paris: Seuil, 2007. — Прим. перев.)
133
1 Цар 17:34; 4 Цар 2:24; Притч 28:15; Дан 7:5; Ос 13:8; Ам 5:19; и т. д.
134
Augustinus. Sermones. XVII, 34 (PL, t. 39, col. 1819: комментарий к битве Давида с медведем и со львом).
135
«Плоть их белая и бесформенная, размером они чуть больше мыши, без глаз, без шерсти, только когти выпущены. Облизывая детенышей [их мать], постепенно преображает их». (Ibid.) Отметим, что в позднесредневековой традиции считалось, что медведица сильнее самца и является примерной матерью. С этой точки зрения значим тот факт, что в текстах зоологического характера два единственных зверя, самки которых считаются сильнее самцов, являются в то же время «соперниками» льва: это медведь и леопард. «Самки медведей сильнее и смелее самцов, точно так же, как самки леопардов», — пишет, к примеру, Фома из Кантемпре ок. 1240 г. в своей энциклопедии Liber de natura rerum. Кн. IV, гл. CV (Н. Boese (Hg.), Berlin, 1970, p. 168).
136
С XIII в. медведь даже становится видной фигурой в бестиарии семи смертных грехов, ведь с ним ассоциируются по крайней мере четыре из них: гнев (ira), похоть (luxuria), праздность (acedia) и чревоугодие (gula). См.: Kirschbaum Е., Hg. Lexikon der christlichen Ikonographie, Freiburg im Breisgau. 1990, Sp. 242-244 (новое издание).
137
Французская народная форма имени святого Викентия (Винцентия). — Прим. перев.
138
О роли медведя в агиографии: Praneuf М. L’Ours et les Hommes dans les traditions europeennes. Paris, 1989, p. 125-140; Lajoux D. L'Homme et l'Ours. Grenoble, 1996, p. 59-69.
139
Удобное тезисное изложение фрагментов «Романа о Лисе» с участием медведя можно найти в справочнике: de Combarieu du Gres M. et Subrenat J. Le "Roman de Renart". Index des themes et des personnages. Aix-en-Provence, 1987, p. 267-270.
140
Медведь редко встречается в средневековых гербах. Индекс его частотности не превышает 5% (у льва, повторим, он составляет 15%!). Медведь главным образом используется как говорящая фигура, обыгрывающая по созвучию имя владельца герба. В этой связи следует подчеркнуть контраст между обилием антропонимов и топонимов, образованных от корня, отсылающего к медведю, и редким присутствием самого медведя на гербах. Тот же контраст наблюдается в отношении лисы и ворона.
141
Греки и римляне редко охотились верхом. Однако в Риме периода империи под влиянием восточной моды получают распространение некоторые формы конной охоты.
142
Aymard J. Les Chasses romaines. Paris, 1951, p. 323-329, 352-361.
143
Keller O. Die antike Tierwelt. Leipzig, 1913, Bd. I, S. 277-284.
144
Andre J. L'Alimentation et la Cuisine a Rome. Paris, 1961, p. 118-120. Отметим, что Библия, в противовес римским традициям, считает оленину самым чистым мясом (Втор 12:15, 22; 15:22) и тем самым снабжает средневековое христианство весомыми аргументами, подкрепленными авторитетом Писания, в пользу чистоты этого животного, вынося за скобки дикий характер самой охоты и кровавых обычаев разделки и распределения туши после убийства животного.
145
Martialis. Epigrammatae. I, 49, 26 (ed. W. Heraeus, Leipzig, 1925). CM. также: Aymard J. Les Chasses romaines, op. cit., p. 353-354.
146
Keller O. Die antike Tierwelt, op. cit., Bd. I, S. 389-392. См. также: Poplin F. La chasse au sanglier et la vertu virile // Universite de Tours, Homme et animal dans l’Antiquite romaine, Actes du colloque de Nantes (1991), Tours, 1995, p. 245-267.
147
Общее место. Прим. перев.
148
Beck H. Das Ebersignum im Germanischen. Berlin, 1965; Scheibelreiter G. Tiernamen und Wappenwesen. Wien, 1976, S. 40-41, 81-83, 124-127.
149
Le Roux F. Guyonvarc’h C.-J. La Civilisation celtique. Rennes, 1990, p. 129-146. (Перевод книги на русский язык: Леру Ф., Гюйонварх К.-Ж. Кельтская цивилизация. СПб.; М., 2001. — Прим. перев.)
150
Walter P. Arthur, L’Ours et le Roi. Paris, 2002, p.76-100.
151
Thiebaux M. The Mouth of the Bear as a Symbol in Medieval Literature // Romance Philology. № 12, 1969, p. 281-299; Zips M. Tristan und die Ebersymbolik // Beitrge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Bd. 94, 1972, S. 134-152; Schouwink W. Der Eber in der deutschen Literatur des Mittelalters // Verbum et Signum. Festschrift F. Ohly. Munchen, 1975, S. 425-476; Planche A. La bete singuliere // La Chasse au Moyen Age. Actes du colloque de Nice (1978), Paris et Nice, 1980, p. 493-505.
152
Schouwink W. The Sow Salaura and her Relatives in Medieval Literature and Art // Epopee animale, fable, fabliau. Actes du IVe colloque de la SociGie international renardienne (Evreux, 1981), Paris, 1984, p. 509-524.
153
Higounet C. Les forets de l'Europe occidentale du V au XI siecle // Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell’alto Medioevo. Spoleto, 1966, p. 343-398 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, vol. 13); Verdon J. Recherches sur la chasse en Occident durant le haut Moyen Age // Revue beige de philologie et d’histoire, t. 56, 1978, p. 805-829; Rosener W. Jagd, Rittertum und Furstenhof im Hochmittelalter // Rosener W. (Hg.) Jagd und hofische Kultur im Mittelalter. Gottingen, 1997, S. 123-147.
154
Lindner K. Die Jagd im friihen Mittelalter. Berlin, 1960 (Geschichte der deutschen Weidwerks, Bd. 2); Fenske L. Jagd und Jger im fruheren Mittelalter. Aspekte ihres Verhltnisses // Rosener W. (Hg.) Jagd und hofische Kultur..., op. cit., S. 29-93.
155
Chace dou cerf. Ed. G. Tilander. Stockholm, 1960 (Cynegetica, 7).
156
La Venerie de Twiti. Le plus ancien traite de chasse ecrit en Angleterre. Ed. G. Tilander. Uppsala, 1956 (Cynegetica, 2).
157
Gaston Phoebus. Livre de chasse. Ed. G. Tilander. Karlshamn, 1971, p. 52 (Cynegetica, 17).
158
Кинегетический - имеющий отношение к охоте. - Прим. перев.
159
Gace de La Buigne. Roman des deduis. Ed. A. Blomqvist. Karlshamn, 1951 (Studia romanica holmiensia, 3).
160
Hardouin de Fontaine-Guerin. Livre du Tresor de venerie. Ed. H. Michelant, Metz, 1856.
161
Henri de Ferrieres. Les Livres du roy Modus et de la royne Ratio. § 3, ed. G. Tilander. Paris, 1932, t. I, p. 12.
162
Gaston Phebus. Livre de chasse. Chap. IX.
163
Мужские башмаки удлиненной формы, модные в аристократической среде; выглядят довольно вызывающе, так как имеют загнутые, наподобие бараньего рога, носы.
164
Les Livres du roy Modus... § 76, op. cit., t. I, p. 146-148.
165
Зато в Испании и в германских странах число собачьих свор, натасканных на кабана, начинает сокращаться только в XV в. См. замечания и таблицы в: Stormer W. Hofjagd der Konige und der Herzoge im mittelalterlichen Bayern // Rosener W. (Hg.) Jagd und hofische Kultur..., op. cit., S. 289-324. В Баварии охота на оленя стала решительно превалировать над охотой на кабана в XV и особенно в XVI вв.
166
Гастон Феб сообщает много конкретных сведений о специфических особенностях своры, предназначенной для охоты на кабана. См. Livre de chasse. Главы XVII-XXI, особ, главу XVII, § 42-43 и 54.
167
Beck С. Chasses et equipages de chasse en Bourgogne ducale (vers 1360-1420) // Paravicini Bagliani A., Van den Abeele B., dir. La Chasse au Moyen Age. Societe, traites, symboles. Turnhout, 2000, p. 151-174. См. также: Niedermann C. Das Jagdwesen am Hofe Herzog Philipps des Guten von Bur- gund. Brussel, 1995. И старый труд, содержащий множество отсылок к источникам: Picard Е. La venerie et la fauconnerie des dues de Bourgogne // Memoires de la Societe eduenne (Autun), 9, 1880, p. 297-418.
168
Niedermann C. Je ne fois que chassier. La chasse a la cour de Philippe le Bon, due de Bourgogne // Paravicini Bagliani A., Van den Abeele B., dir. La Chasse au Moyen Age, op. cit., p. 175-185.
169
Гастон Феб подробно пишет об этих новых способах ловли кабана, хотя и не одобряет их: ведь они не позволяют «брать» зверей «достойно и благородно». См. Livre de chasse. Главы LX—LXXVIII.
170
В конце Средневековья на княжеских столах повсеместно наблюдается тенденция к значительному сокращению блюд из крупной дичи и, напротив, к увеличению блюд из дикой и изысканной домашней птицы. Среди многочисленных трудов по теме см.: Manger et boire au Moyen Age, Actes du colloque de Nice (1982). Paris, 1984, 2 vol.; Montanari M. Alimentazione e cultura nel Medioevo. Roma e Bari, 1988; Essen und Trinken in Mittelalter und Neuzeit. Sigmaringen, 1987; Laurioux B. Le Moyen Age a la table. Paris, 1989; Id., Le Regne de Taillevent. Livres et pratiques culinaires a la fin du Moyen Age. Paris, 1997.
171
Многие авторы Нового времени отказываются называть охоту на кабана настоящей «псовой охотой», “chasse а соurrе” (это выражение, однако, охотно используют авторы французских трактатов XIV в.), предпочитая называть ее «малой охотой», “petite venerie”. См.: Bouldoire J.-L. et Vassant J. Le Sanglier. Paris, 1988; Brochier J.-J. et Reder J.-P. Anthologie du sanglier. Paris, 1988.
172
Thimme H. Forestis. Konigsgut und Konigsrecht nach den Forsturkunden vom 6. bis 12. Jahrhundert // Archiv fur Urkundenforschung. Bd. 2, 1909, S. 101-154; Petit-Dutaillis C. De la signification du mot forit a Vepoque franque // Bibliotheque de l’Ecole des chartes, t. 76, 1915, p. 97-152; Young C. R. The Royal Forests of Medieval England. Cambridge, 1979; Pacaut M. Esquisse de revolution du droit de chasse au haut Moyen Age // La Chasse au Moyen Age, op. cit., p. 59-68; Semmler J. Der Forst des Konigs // Semmler J. (Hg.) Der Wald in Mittelalter und Renaissance. Berlin, 1991, S. 130-147; Zotz T. “Beobachtungen zu Konigtum und Forst im fruheren Mittelalter” // Rosener W. (Hg.) Jagd und hofische Kultur..., op. cit., S. 95-122.
173
Augustin. Ennaratio in Psalmum 79. PL, t. 36, col. 1025.
174
Исидор Севильский. Этимологии. Кн. XII, глава 1, § 27 (ed. J. Andre, Paris, 1986, p. 37). Эта этимология per commutationem litterarum будет подхвачена Папием, а затем и другими авторами вплоть до XIII в.
175
Raban Maur. De naturis rerum. PL, t. III, col. 207.
176
Thomas Cantimpratensis. Liber de natura rerum. Ed. H. Bose. Berlin, 1973, S. 109.
177
Это выражение принадлежит Франсуа Поплену. См.: La chasse аu sanglier..., art. cit.
178
Douet d’Arcq L. Note sur la mort de Philippe le Bel // Revue des societes savantes. 6e serie, t. 4, 1876, p. 277-280; Baudon de Mony C. La mort et les funerailles de Philippe le Bel d’apres un compte rendu a la cour de Majorque // Bibliotheque de l’Ecole des chartes. T. 68, 1897, p. 5-14; Favier J. Philippe le Bel/ Paris, 1978, p. 522-523.
179
Дьявольская свинья (лат.). - Прим. перев.
180
Suger. Vita Ludovici Grossi regis. Ed. H. Waquet, Paris, 1929, p. 266.
181
Уже коронованный молодой король (лат.). - Прим. перев.
182
Pastoureau M. Histoire d'une mort infame: le fils du roi de France tue par un cochon (1131) // Bulletin de la Societe nationale des Antiquaires de France. 1992, p. 174-176.
183
Bloomfield M. W. The Seven Deadly Sins. 2nd ed., Chicago, 1967, p. 244-245; Vincent-Cassy M. Les animaux et les peches capitaux: de la symbolique a l'emblematique // Le Monde animal et ses representations au Moyen Age (XIе-XVе s.). Actes du XVе congres de la Societe des historiens medievistes de l’enseignement superieur public (1984). Toulouse, 1985, p. 121-132.
184
По поводу этой иконографии и связанных с этим карнавальных практик в германских странах см.: Leibbrand J. Speculum, bestialitatis. Die Tiergestalten der Fastnacht und des Karnevals im Kontext christlicher Allegorese. Munchen, 1988.
185
Les Limes du roy Modus... § 75, op. cit., p. 144.
186
Ibid., § 74, p. 141-142.
187
Livre de chasse. Chap. I, § 86.
188
«Он [олень] враждует со змеей. Он разыскивает змеиные норы и дыханием из своих ноздрей заставляет змей оттуда выползти. Поэтому запах обожженного оленьего рога хорошо отгоняет змей» (Плиний. Естественная история. Книга VIII, глава L, § 7).
189
Пс 41:2). См. пространный комментарий святого Августина, посвященный этому псалму и символике оленя: Ennaratio Psalmum 41. PL, t. 36, col. 466. Этот стих объясняет, почему оленя так часто изображают на купелях и в сценах крещения: он напоминает о душе христианина, утоляющей жажду из источника жизни. (В синодальном переводе Библии в соответствующем стихе речь идет о лани. — Прим. ред.)
190
Олень в Средние века, как и в греко-римской Античности, остается устойчивым символом похотливости и сексуальности. Многие священнослужители запрещают своей пастве «изображать оленя», то есть во время карнавала или традиционных праздников переодеваться в оленя и, выставляя напоказ огромный половой член, имитировать соитие.
191
Замена, замещение. — Прим. ред.
192
Слуга (лат.). — Прим. перев.
193
Олень (лат.). - Прим. перев.
194
Иногда имеется в виду куртуазная, мирская любовь: тогда олень олицетворяет влюбленного, который служит своей даме. См.: Thiebaux М. The Stag of Love. The Chase in Medieval Literature. Ithaca and London, 1974.
195
Об этом замещении см.: Pastoureau М. Quel est le roi des animaux? // Le Monde animal et ses representations..., op. cit., p. 133-142.
196
Walter P. Arthur, l’Ours et le Roi, op., cit., p.79-100.
197
Chretien de Troyes. Erec et Enide. Ed. Mario Roque. Paris, 1973, vers 27-284.
198
Guerreau-Jalabert A. Le cerf et Vepervier dans la structure du prologue d’Erec // Paravicini Bagliani A. et Van den Abeele B., dir. La Chasse au Moyen Age, op. cit., p. 203-219; Bormann E. Die Jagd in den altfranzosischen Artus- und Abenteuerromanen. Marburg, 1887.
199
Среди обширной литературы см.: Szabo Т. Die Kritik der Jagd, von der Antike zum Mittelalter // Rosener W. (Hg.) Jagd und hofische Kultur..., op. cit., S. 167-230.
200
Andreolli B. L’orso nella cultura nobiliare dall'Historia Augusta a Chretien de Troyes // a cura diAndreolli B. e Montanari М. It bosco nel Medioevo. Bologna, 1989, p. 35-54.
201
Много сведений об этом сообщает Гастон Феб. См. его Livre de chasse. Главы VIII и LII.
202
По поводу медведя см. необычную историю, произошедшую со сводным братом Гастона Феба, Пьером Беарнским, рассказанную Фруассаром и рассмотренную в: Zink М. Froissart et la nuit du chasseur // Poetique. № 41, 1980, p. 60-77.
203
Acta sanctorum. Sept. VI, p. 106-142.
204
Ibid., nov. I, p. 759-930.
205
Cм. Hell B. Le Sang noir. Chasse et mythe du sauvage en Europe. Paris, 1994, p. 147-198.
206
Albertus Magnus. De animalibus. Hg. von H. Stadler, Munster, 1913 (гл. 22., § 65-66, гл. 36, § 2). Под червями (vermes) в средневековой зоологии понимаются многочисленные беспозвоночные, в частности насекомые.
207
См. тексты, включенные Винсентом из Бове в “Speculum naturale” («Зерцало природное»), книга VII, гл. L-LI (Douai, 1624, col. 456-457).
208
См. введение к VII книге “De vegetalibus” («О растениях») Альберта Великого в издании Meyer Е. und Jessen С., Berlin, 1867.
209
Среди обширной литературы: Geary P. Furta Sacra. Thefts of Relics in the Central Middle Ages. Princeton, 1978; Cardini F. Magia, Stregoneria, Superstizioni nell'Occidente medievale. Firenze, 1979; Brown P. Le Culte des saints. Paris, 1984; Sigal P.-А. l'Homme et le Miracle dans la France medievale (XIe-XIIe s.). Paris, 1985; Schmitt J.-C. Les superstitions // Le Goff J. et Remond R., dir. Histoire de la France religieuse. Paris, 1989, t. I, p. 417-551.
210
Bur M. Le Chateau. Turnhout, 2002.
211
В этом смысле я отнюдь не разделяю взглядов Л. Уайта-мл.: White Jr. L. Medieval Technology and Social Change. Oxford, 1962.
212
Cм.: Geary P. Lhumiliation des saints // Annales. ESC, vol. 1, 1979, p. 27-42.
213
Johanssen D. Geschichte des Eisens. 3-e ed., Berlin, 1953; Sprandel R. Das Eisengewerbe im Mittelalter. Munchen, 1968.
214
Bchtold-Stubli H. Handwdrterbuch des deutschen Aberglaubens / Berlin, 1941, Bd. IX, Sp. 257-265; Rohrich L. Die deutsche Volkssage // Vergleichende Sagenforschungen, 1969, S. 217-286. О кузнеце как «колдуне» см. с осторожностью часто цитируемый труд: Eliade М. Forgerons et alchimistes. Nouvelle ed., Paris, 1983.
215
Sangferst P. Die heilige Handwerke in der Darstellung der “Acta sanctorum". Leipzig, 1923.
216
Как на иврите, так и по-гречески (tekon) слово, обозначающее род деятельности Иосифа, указывает не на профессию плотника, даже если просто иметь в виду мастера, работающего с деревом (латинское carpentarius), а только на обобщенное понятие «ремесленник».
217
Cм.: Le Goff J. Metiers licites et metiers illicites dans l'Occident medieval // Pour un autre Moyen Age. Paris, 1977, p. 91-107.
218
Thomas Cantimpratensis. Liber de natura rerum. Hg. von H. Bose. Berlin, 1973, S. 378 (De septem metallis, гл. VIII). (Коварнейшее железо (лат.). — Прим. перев.)
219
См.: Raynaud С. A la hache. Histoire et symbolique de la hache dans la France medievale (XIIIе-XVе s.). Paris, 2002, p. 32-37.
220
Плод, кажется, — единственный растительный элемент, которому средневековые традиции приписывали некоторую нечистоту, или, по крайней мере, не считали его абсолютно чистым. Возможно потому, что всякий плод есть прежде всего воплощенное состояние переходности. Возможно также, потому что всякий плод отсылает к тому, что съела Ева по наущению змея и который стал причиной грехопадения.
221
Первая (главная) материя (лат.). — Прим. ред.
222
Что делают из дерева в данном конкретном обществе? Это могло было стать темой обширного исторического исследования, которое еще только предстоит предпринять.
223
Pastoureau M. Couleurs, decors, emblemes // Figures et couleurs. Etudes sur la symbolique et la sensibilite medievales. Paris, 1986, p. 51-57 (особенно p. 52-53).
224
Rey A., dir. Dictionnaire historique de la langue franqaise, nouvelle ed. Paris, 1994, t. I, p. 740.
225
Стоит ли говорить, что во второй половине XX в. появилась, в свою очередь, тенденция приписывать эту функцию уже не металлу, а пластику?
226
Raynaud C. A la hache, op. cit., p. 161-234.
227
Об этих позорных профессиях см.: Danckert W. Unehrliche Leute. Die verfemten Berufe. Bern, 1963.
228
См. большую статью о лесорубе, “Holzhauer” в: Bchtold-Stubli Н. Hand- worterbuch des deutschen Aberglaubens. Berlin, 1932, Bd. IV.
229
Danckert W. Unehrliche Leute, op. cit., S. 199-207.
230
На миниатюрах угольщик представлен как персонаж, объединяющий в себе черты волосатого дикого человека и черного, почти зооморфного демона.
231
Bechmann R. Des arbres et des hommes. La foret au Moyen Age. Paris, 1984, p. 186-187.
232
Само собой разумеется, что первые карбонарии далеко не все были угольщиками, однако они присвоили имя, символику и цеховую организацию угольщиков, в частности, в Неапольском королевстве.
233
Pastoureau M. La foret medievale: un univers symbolique // Le Chateau, la Foret, La Chasse, Actes des IIе rencontres internationales de Commarque (23-25 sept. 1988). Bordeaux, 1990, p. 83-98.
234
Французское слово sauvage (дикий) происходит от латинского silva (лес). Диким (silvaticus) является тот, кто живет в лесу или часто там бывает. Это этимологическое родство прослеживается также в германских языках. В немецком, к примеру, существует очевидная связь между существительным Wald (лес) и прилагательным wild (дикий).
235
Здесь я отсылаю к классическим трудам Андре Леруа-Гурана (Andre Leroi-Gourhan), а также к: Velther A. et Lamothe М. J. Le Livre de Voutil. Paris, 1976, 2 vol.; Feller P. et Tourret F. L’Outil. Dialogue de L'homme avec la matiere. Bruxelles, 1969.
236
Как напильник и пила, рубанок «жульничает», потому что не в открытую нападает на материал, а стачивает его. В феодальную эпоху этот инструмент считается коварным. Однако когда в период позднего Средневековья терпение становится уважаемой добродетелью, рубанок реабилитируется и занимает почетное место в ценностной шкале орудий, так что даже такой влиятельный князь, как Иоанн Бесстрашный, герцог Бургундский, берет его себе в качестве эмблемы в начале XV в. (что было бы немыслимо двумя веками ранее).
237
Raynaud C. A la hache, op. cit., p. 63-318.
238
Об Исайе и распиливании мучеников: Bernheimer R. The Martyrdom of Isaias // The Art Bulletin, 34, 1952, p. 19-34; Reau L. Iconographie de l’art chretien. Paris, 1955, t. II, p. 365-372.
239
Пилы приводили в действие с помощью водяных мельниц. — Прим. ред.
240
Bechmann R. Des arbres et des hommes, op. cit., p. 87-92.
241
Kalian P. H. Die Bedeutung der Sge in der Geschichte der Forstniitzung // Actes du premier symposium d’histoire forestiere. Nancy, 1979, p. 81-96.
242
Male E. Les Saints Compagnon du Christ. Paris, 1958, p. 210-211.
243
Usure, «ростовщичество», по-французски также означает «износ», «истощение». — Прим. перев.
244
Об уничижительном характере любых форм ростовщичества: Le Goff J. La Bourse et la Vie. Economie et religion au Moyen Age. Paris, 1986, p. 17- 49.
245
Pastoureau M. Figures et couleurs pejoratives en heraldique medievale // Figures et couleurs. Paris, 1986, p. 193-207; Id., L'Etoffe du Diable. Une histoire des rayures et des tissus rayes. Paris, 1991, p. 37-47.
246
Я горячо призываю к проведению такого анализа, особенно в отношении древесных пород, которые использовались для создания произведений искусства. Только такой анализ позволит по-настоящему изучить символические связи между породой дерева и тем, в каком качестве его используют в социальном, художественном, культовом и идеологическом контекстах.
247
Приведено в: Brosse J. Les Arbres de France. Histoire et legendes. Paris, 1987, p. 210.
248
См., опять же, тексты, собранные Винсентом из Бове в Speculum nаturale, книга X, гл. СХ (Douai, 1624, col. 644).
249
По поводу средневековой символики липы позвольте рекомендовать мое исследование: La musique du tilleul. Des abeilles et des arbres // Coget J., dir. L'Homme, le Vegetal et la Musique. Parthenay, 1996, p. 98-103.
250
de Gubernatis A. Mythologie des plantes. Paris, 1878, t. II, p. 256.
251
Brosse J. Les Arbres de France, op. cit., p. 105-110.
252
Дерево смерти. - Прим. перев.
253
Исидор Севильский. Этимологии. Книга XVII, гл. VII, § 40 (ed. J. Andre, Paris, 1981, p. 117).
254
Leroux F. Les Druides. Rennes, 1981, passim.
255
Thomas Cantimpratensis. Liber de natura rerum. X, 33 (H. Bose (Hg.), Berlin, 1973, S. 222-223).
256
Sebillot P. Le Folklore de France: la flore, nouvelle ed. Paris, 1985, p. 38-39; Brosse J. Les Arbres de France, op. cit., p. 137.
257
Исидор Севильский. Этимологии. Книга XVII, гл. VII, § 21 (ed. J. Andre, p. 101).
258
Ольха, чаще всего встречающаяся во французских широтах, — еще одно дерево, которое, наряду с тисом и орехом, получает весьма негативную оценку: она странным образом связана с водой и тоже зачастую произрастает там, где не растут другие деревья (торфяники, болота), она горит почти без дыма и сбрасывает листья зелеными; это подозрительное дерево, призрак в тумане (вспомним стихотворение Гёте «Erlknig» (В переводе В. А. Жуковского «Лесной царь», буквально «Ольховый царь». — Прим. перев.)), вступивший в сговор с дьяволом; она даже «кровоточит»: когда ольху рубят, ее желтая древесина краснеет; она всем внушает страх.
259
Лучший специалист по геральдической лилии Капетингов — Эрве Пиното; самые ранние его труды, которые долгое время были рассеяны по труднодоступным изданиям, по большей части собраны в сборнике статей: Pinoteau Н. Vingtcinq ans d’etudes dynastiques. Paris, 1982. В примечаниях будут даны ссылки на ряд статьей этого автора, опубликованных после этой даты.
260
Chiflet J.-J. Lilium francicum veritate historica, botanica et heraldica illustratum. Anvers, 1658. Так как Шифле утверждал, что самым древним символом французской монархии были пчелы, и отрицал существование геральдических лилий до феодальной эпохи, некоторые авторы, в частности отец Жан Ферран, ответили на это в своих трудах и малых сочинениях: lе рerе Jean Ferrand. Epinicion pro liliis, sive pro aureis Franciae liliis... Lyon, 1663 (2e ed., Lyon, 1671).
261
Scevole de Sainte-Marthe. Traite historique des armes de France et de Navarre. Paris, Roulland, 1673. См. также еще четыре труда XVII в. по этой же теме: de La Roque G.-A. Les Blasons des armes de la royale maison de Bourbon. Paris, 1626; le рerе Rousselet G.-E. Le Lys sacre... Lyon, 1631; Tristan J. Traite du lis, symbole divin de l’esperance. Paris, 1656; Rainssant P. Dissertation sur Vorigine des fleurs de lis. Paris, 1678.
262
Кроме его рукописного трактата: Traite du droit et comportement des armes (Paris, BNF, ms. fr. 9466; Bibl. de l'Arsenal, ms. 4795), см. также его Dissertations sur Vhistoire de saint Louis, опубликованные в качестве приложения к Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis. Paris, 1850, t. VII, 2e partie, p. 1-28, 46-56, 97-108.
263
В качестве примера укажем две работы: de Beaumont A. Recherhes sur Vorigine du blason et en particulier de la fleur de lis. Paris, 1853; Van Maldergehm J. Les fleurs de lis de Vancienne monarchie francaise. Leur origine, leur nature, leur symbolisme // Annuaire de la Societe d’archeologie de Bruxelles. T. 8, 1894, p. 29-38.
264
Rosbach E. De la fleur de lis comme embleme national // Memoires de l’Academie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse. T. 6, 1884, p. 136-172.
265
Wolliez E. J. Iconographie des plantes arodes figurees au Moyen Age en Picardie et considerees comme origine de la fleur de lis en France // Memoires de la Societe des Antiquaires de Picardie. T. 9 (s.d.), p. 115-159.
266
Chatillon F. Aux origines de la fleur de lis. De la banniere de Kiev a l'ecu de France // Revue du Moyen Age latin. T. 11, 1955, p. 357-370.
267
Подобного рода нелепости доведены до крайней степени в труде: Sir Francis Oppenheimer. Frankish Themes and Problems. London, 1952, особенно p. 171-235, и в статье: Le Cour P. Les fleurs de lis et le trident de Poseidon // Atlantis, n° 69, janvier 1973, p. 109-124.
268
Гипотезу о том, что у графических и символических истоков королевской геральдической лилии стоит голубь, поддерживает сэр Ф. Оппенгеймер в своей удручающей работе, указанной в предыдущем примечании. Гипотеза о солнце, лучше аргументированная, но малоубедительная, отстаивается в: Lombard-Jourdan A. Fleur de lis et oriflamme. Signes celestes du royaume de France. Paris, 1991, особенно с. 95-127.
269
См. многочисленные примеры изображений цветков лилии на поверхности месопотамских цилиндрических печатей, приведенные в: Weber О. Altorientalische Siegelbilder. Leipzig, 1920; Francfort H. Cylinder Seals. London, 1939; Amiet P. Bas-reliefs imaginaires de l'Orient ancien d’apres les cachets et les sceaux cylindres. Paris, 1973.
270
Posener G. Dictionnaire de la civilisation egyptienne. Paris, 1988, p. 147— 148.
271
Muret E. et Chabouillet A. Catalogue des monnaies gauloises de la Bibliotheque nationale. Paris, 1889, p. 84, n°3765; Blanchet A. Traitedes monnaies gauloises. Paris, 1905, p. 417-418.
272
В частности, Беда Достопочтенный в своем комментарии к Песне песней (PL, t. 91, col. 1065-1236).
273
Dom Н. Leclerc. Fleur de lis // Dictionnaire d’archeologie chretienne et de liturgie. Paris, 1923, t. V, col. 1707-1708.
274
Среди обширной теологической литературы см. прекрасное сочинение Фульберта Шартрского: Fulbertus Carnotensis. Sermo de nativitate Beatae Mariae. PL, t. 141, col. 320-324.
275
Douet d’Arcq L. Archives de l’Empire... Collection de sceaux. Paris, 1867, t. II, n° 7252.
276
Demay G. Inventaire des sceaux de la Picardie. Paris, 1877, n° 1153.
277
Douet d’Arcq L. Archives de l'Empire..., op. cit., t. II, n° 7190.
278
См. пионерный труд: Braum von Stumm G. L’origine de la fleur de lis des rois de France du point de vue numismatique // Revue numismatique, 1951, p. 43-58.
279
Новых работ о цветах в символике Богородицы нет. За неимением лучшего см. более общие работы, в частности энциклопедическую статью, следующего автора: Behling L. Blumen // Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte. Berlin, 1937, Bd. II, Sp. 925-942.
280
Bossuat R. Роете latin sur Vorigine des fleurs de lis // Bibliotheque de l’Ecole des chartes. T. 101, 1940, p. 80-101; Langfors A. Un роете latin sur Vorigine des fleurs de lis // Romania. T. 69, 1946-1947, p. 525-528.
281
Укажем, к примеру, «Венец из лилий» Филиппа де Витри (1322) и «Роман о лилии» Гильома де Дигюльвиля (ок. 1338), которые были опубликованы А. Пьяже в: Romania, t. 27, 1898, p. 55-92; t. 62, 1936, p. 317-358. См. также: Faral E. Le Roman de la fleur de lis de Guillaume de Digulleville // Melange Ernest Hoepffner. Strasbourg, 1949, p. 327-338.
282
О политических и династических смыслах этой литературы: Beaune С. Naissance de la Nation France. Paris, 1985, p. 237-263.
283
Предисловие Рауля де Преля к своему переводу «Града Божьего» святого Августина: Париж, Национальная библиотека, ms. 22912, fol. 3 v.
284
Hindman S. et Spiegel G. The Fleur de Lis Frontispieces to Guillaume de Nangis’s Chronique abregee. Political Iconography in the Late Fifteenth Century France // Viator. T. 12, 1981, p. 381-407. Среди обширной литературы XVI в., посвященной происхождению лилий, укажем: de La Mothe J. Le Blason des celestes et tres chrestiennes armes de France... Rouen, 1549; Le Feron J. Le Simbol armorial des armoiries de France et d’Escoce et de Lorraine. Paris, 1555; Gosselin J. Discours de la dignite et precellence des fleurs de lys et des armes des roys de France... Tours, 1593.
285
Roy E. Philippe le Bel et la legende des trois fleurs de lis // Melanges Antoine Thomas. Paris, 1927, p. 383-388.
286
По поводы легенды о жабах Хлодвига, помимо трудов XVII и XVI вв., указанных в примечаниях выше, см.: Beaune С. Naissance de la Nation France, op. cit., p. 252-255.
287
Chatillon F. Lilia crescunt. Remarques sur la substitution de la fleur de lis aux croissants et sur quelques questions connexes // Revue du Moyen Age latin. T. 11, 1955, p. 87-200. He следует доверять всем гипотезам этого автора; некоторые из них необоснованны.См. тексты, собранные в: Cuin J.-C. et Cahours d’Aspry J.-B. Origines legendaires des lys de France. Paris, 1976.
288
См. тексты, собранные в: Cuin J.-C. et Cahours d’Aspry J.-B. Origines legendaires des lys de France. Paris, 1976.
289
Pastoureau M. La diffusion des armoiries et les debuts de l'heraldique (vers 1175 — vers 1225) // La France de Philippe Auguste, Colloque international du CNRS (1980). Paris, 1982, p. 737-760. Э. Пиното тем не менее отстаивает противоположную теорию — о раннем появлении герба у короля Франции: Pinoteau Н. La creation des armes de France au XIIе siecle // Bulletin de la Societe nationale des Antiquaires de France, 1980-1981, p. 87-99.
290
Demay G. Inventaire des sceaux de l'Artois. Paris, 1877, n° 1.
291
Schramm P. E. Der Konig von Frankreich. Weimar, 1939, S. 204-215; Carolus-Barre L. Le lis, embleme pre-heraldique de Vautorite royale sous les Carolingiens // Bulletin de la Societe nationale des Antiquaires de France, 1957, p. 134-135.
292
Bedos B. Suger and the Symbolism of Royal Power: the Seal of Louis VII // Abbot Suger and Saint-Denis. A symposium. New York, 1981 (1984), p. 95-103.
293
Bernard P. Saint Bernard et Notre-Dame. Paris, 1953.
294
Знаки могущества, власти и сана. - Прим. ред.
295
Датировка этого витража подсказана мне Франсуазой Перро, которая считает, что он был создан в то время, когда Людовик по призыву английских баронов готовился к походу на Англию, чтобы отстранить от власти Иоанна Безземельного.
296
Le Goff J., Bonne J.-C., Palazzo E. et Colette M.-N. Le Sacre royal a Vepoque de saint Louis. Paris, 2001.
297
По этим вопросам я отсылаю к прекрасной книге Марка Блока: Bloch М. Les Rois thaumaturges. Paris, nouvelle ed., 1983. Полезно будет прочитать наводящее на размышления предисловие Жака Ле Гоффа к этому новому изданию (p. I-LXI). (Перевод на русский: Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. — Прим. перев.)
298
Pastoureau М. L’Etoffe du Diable. Une histoire des rayures et des tissus rayes. Paris, 1991, p. 35-51.
299
Pinoteau H. La tenue de sacre de saint Louis IX, roi de France, son arriereplan symbolique et la renovation regni Juda // Vingt-cinq ans d’etudes dynastiques, op. cit., p. 447-504.
300
См., например, как ее истолковывают и как используют при Людовике XII и в начале правления Франциска I: Lecoq А.-М. Francois Ier imaginaire. Symbolique et politique a Vaube de la Renaissance frangaise. Paris, 1987, passim и особенно p. 150-151, 179-181, 342-347, 396-400.
301
Dalas-Garrigues M. Les sceaux royaux et princiers. Etudes iconographique // Archives nationales. Corpus des sceaux frangais du Moyen Age, t. II, Les Sceaux de rois et de regence. Paris, 1991, p. 49-68.
302
Prinet M. Les variations du nombre des fleurs de lis ans les armes de France // Bulletin monumental. 1911, p. 469-488.
303
Pastoureau M. Traite d'heraldique, 2e ed. Paris, 1993, p. 51-53, 160— 165.
304
Ibid., p. 165-167.
305
На гербе Флоренции геральдическая лилия появляется с 1250-х гг., однако в окончательном виде — в серебряном поле распустившаяся червленая лилия — герб закрепляется только в XIV в.
306
Douеt d’Arcq L. Archives de l'Empire..., op. cit., t. II, n° 5533; De Gellinck X. Sceaux et armoiries des villes... de la Flandre ancienne et moderne. Paris, 1935, p. 224.
307
Об «охоте» на лилии во время Революции: Mathieu R. Le Systeme heraldique frangais. Paris, 1946, p. 243-246.
308
В связи с этими сложными вопросами, позвольте обратить внимание на работу: Pastoureau М. Le roi des lis. Emblemes dynastiques et symboles royaux // Archives nationales. Corpus des sceaux frangais du Moyen Age, op. cit., t. II, p. 35-48.
309
Ibid., p. 140-143, n° 61-64.
310
Pinoteau H. La main de justice des rois de France: essai d’explication // Bulletin de la Societe nationale des Antiquaires de France, 1978-1979, p. 262-265.
311
Генеалогическое древо Иисуса Христа, распространенный сюжет в средневековом искусстве. Внизу композиции изображался Иессей (отец царя Давида), на ветвях — предки Христа, венчали композицию Дева Мария и Спаситель. — Прим. ред.
312
Joinville. Vie de saint Louis, ed. et trad. Monfrin J. Paris, 1995, p. 30-31, § 59.
313
Типичным в этом смысле был отказ от использования державы, которая была в ходу у всех прочих европейских монархов.
314
Самый амбициозный труд, широко охватывающий средневековый период, но отдающий предпочтение рассмотрению цвета скорее в искусстве и науке, чем в контексте социальных практик: Gage J. Color and Culture. Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction. London, 1993. Ценный теоретический подход к проблемам, поставленным историей и антропологией цвета, представлен в трех коллективных сборниках: Meyerson I., dir. Problemes de la couleur. Paris, 1957; Tornay S., dir. Voir et nommer les couleurs. Nanterre, 1978; Pouchelle М.-C., dir., Paradoxes de la couleur. Paris, 1990 (спецномер журнала Ethnologie franqaise, t. 20, octobre-decembre 1990).
315
Относящийся к теории познания. - Прим. ред.
316
В оригинале стоит слово “bleu”, представляющее при переводе на русский язык определенные трудности. В частности, “bleu” можно перевести и как «голубой», и как «синий». Чтобы не вносить путаницу, мы выбрали наиболее общее наименование этого цвета и во всех без исключения случаях переводили “bleu” как «синий», что в целом адекватно передает почти все случаи употребления этого слова в оригинале. — Прим. перев.
317
Pastoureau M. Jesus chez le teinturier. Couleurs et teintures dans l’Occident medieval. Paris, 1998, p. 72-78.
318
Ibid., p. 113-117. Аристотель не посвятил цвету специального сочинения. Однако отдельные рассуждения о цвете встречаются во многих его трудах, например, в “De anima” («О душе»), “Libri Meteorologicorum” («Метеорологика»), в связи с радугой, в трудах по зоологии и особенно в “De sensu et sensato” («О чувстве и чувственно воспринимаемом»). Наверное, именно в этом трактате его идеи о природе и восприятии цветов выражены наиболее ясно. В Средневековье был популярен трактат, специально посвященный природе и видению цветов, “De coloribus”. Он приписывался Аристотелю и его часто цитировали, комментировали и переписывали. Однако этот трактат принадлежит не Аристотелю и даже не Феофрасту, а вероятно, поздней школе перипатетиков. Он оказал большое влияние на энциклопедическую ученую традицию XIII в., особенно на XIX книгу “De proprietatibus rerum” («О свойствах вещей») Варфоломея Английского, наполовину посвященную цветам. Хорошее издание трактата на греческом языке осуществлено в: Loeb Classical Library: Aristotle, Minor Works, Cambridge (Mass.), 1980, t. XIV, p. 3-45 (ed. W. S. Hett). Что касается латинского текста, то его часто издавали вместе с “Parva naturalia” («Малые труды по естествознанию»). О Варфоломее Английском и цвете см.: Salvat М. Le traite des couleurs de Barthelemy l'Anglais // Senefiance, vol. 24 (Les couleurs au Moyen Age), Aix-en-Provence, 1988, p. 359-385.
319
Вид живописи, выполняемой разными оттенками какого-то одного цвета. — Прим. ред.
320
Игра слов. Слово “fait" выполняет функции и существительного, и глагола: социальный факт — fait de societe; общество «фактуализирует» цвет — la societe “fait” la couleur (букв.: делает, создает). — Прим. перев.
321
От nominatio (лат.) — называние, именование. Обозначение чего-либо языковыми средствами, словом. — Прим. ред.
322
По истории средневековой оптики см. работы, упоминаемые ниже, в прим. 12.
323
Историю теорий о радуге см.: Воуег С. В. The Rainbow. From Myth to Mathematics. New York, 1959; Blay M. Les Figures de Uarc-en-ciel. Paris, 1995.
324
Robert Grosseteste. De iride seu de iride et speculo, ed. L. Baur, in Beitrge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, Bd. 9, Munster, 1912, SS. 72-78. См. также: Boyer С. B. Robert Grosseteste on the Rainbow // Osiris, vol. 11, 1954, p. 247-258; Eastwood B. S. Robert Grosseteste s Theory of the Rainbow. A Chapter in the History of Non-Experimental Science // Archives international d’histoire des sciences, t. 19, 1966, p. 313-332.
325
John Pecham. De iride, ed. D. C. Lindberg, John Pecham and the Science of Optics. Perspectiva communis, Madison, 1970, p. 114-123.
326
Roger Bacon. Opus majus, ed. J. H. Bridges. Oxford, 1900, part 6, § 2-11. Cm. Lindberg D. C. Roger Bacon s Theory of the Rainbow. Progress or Regress? // Isis, vol. 17, 1968, p. 235-248.
327
Thierry de Freiberg. Tractatus de iride et radialibus impressionibus, ed. M. R. Pagnoni-Sturlese, L. Sturlese, in Opera Omnia, Hamburg, 1985, Bd. IV, SS. 95-268.
328
Witelo. Perspectiva, ed. S. Unguru. Warszawa, 1991.
329
Roger Bacon. Perspectiva communis // Opus majus, op. cit., p. 114.
330
По истории средневековых теорий зрения см.: Lindberg D. С. Theories of Vision, from al-Kindi to Kepler. Chicago, 1976; Tachau K. Vision and Certitude in the Age of Ockham. Optics, Epistemology and the Foundation of Semantics (1250-1345). Leyden, 1988.
331
Или, как полагают некоторые авторы, этот процесс происходит внутри самого глаза.
332
Черный цвет использовался во время отпеваний и в Страстную пятницу; фиолетовый, то есть получерный, — в период скорби и покаяния: во время Рождественского и Великого постов.
333
Близкий к черному (лат.). - Прим. ред.
334
Литература о Роберте Гроссетесте обширна. Особенно см.: Callus D. А., dir. Robert Grosseteste, Scholar and Bishop. Oxford, 1955; Southern R. W. Robert Grosseteste: The Growth of an English Mind in Medieval Europe. Oxford, 1972; McEvoy J. J. Robert Grosseteste, Exegete and Pholosopher. Aidershot, 1994; Van Deusen N. Theology and Music at the Early University: the Case of Robert Grosseteste, Leyden, 1995; также см. прекрасную книгу, не потерявшую своей актуальности: Crombie А. С. Robert Grosseteste and the Origins of Experimental Science (1100-1700), 2 ed. Oxford, 1971.
335
Об Иоанне Пеккаме см. побуждающее к размышлениям введение Д. С. Линдберга к критическому изданию “Perspectiva communis”: Lindberg D. С., op. cit. (прим. 7). Об оксфордских францисканцах XIII в., включая Гроссетеста и Пеккама, см. также: Sharp D. Е. Franciscan Philosophy at Oxford in the Thirteenth Century. Oxford, 1930; Little A. G. The Franciscan School at Oxford in the Thirteenth Century // Archivum Franciscanum Historicum, vol. 19, 1926, p. 803-874.
336
См., например, замечания энциклопедиста Варфоломея Английского в XIX книге его компилятивного труда “De proprietatibus rerum”, созданного в 1230-1240 гг.: Salvat М. Le traite des couleurs de Barthelemy VAnglais, art. cit. (прим. 3).
337
Это ставит под сомнение обоснованность наших сегодняшних исследований, посвященных изучению церквей XII и XIII вв. как бесцветных или одноцветных (каковыми они чаще всего становились с течением времени), хотя и в проекте, и при сооружении, и в дальнейшем они изобиловали цветами.
338
См. главу «Рождение черно-белого мира», а также Suntrup R. Liturgische Farbenbedeutung im Mittelalter und in der fruhen Neuzeit // Symbole des Alltags, Alltag der Symbole. Festschrift fur Harry Kuhnel zum 65. Geburtstag, Graz, 1992, SS. 445-467.
339
Роль цвета на праздниках, состязаниях и турнирах XIII в. еще предстоит изучить. Литературные тексты снабжают нас многочисленными свидетельствами. В качестве примера укажем на два больших цикла первой половины XIII в. — прозаические романы о Ланселоте и Тристане, а также на удивительное произведение немецкой литературы «Служение дамам» Ульриха фон Лихтенштейна. См. Fleckenstein J., dir. Das ritterliche Turnier im Mittelalter. Gottingen, 1985, S. 175-295; De Combarieu de Gres M. Les couleurs dans le cycle du Lancelot-Graal // Senefiance, vol. 24, Aix-en-Provence, 1988, p. 451-588.
340
Pastoureau M. Traite d’heraldique, 2 ed. Paris, 1993, p. 37-58, 298- 310.
341
Серебро, золото, червлень, лазурь, чернь, изумруд. - Прим. перев.
342
Piponnier F. et Mane P. Se vetir au Moyen Age. Paris, 1995, p. 22-28.
343
Le Goff J. Saint Louis. Paris, 1996, p. 631. (Перевод книги на русский: Лe Гофф Ж.. Людовик IX Святой. М., 2001. — Прим. перев.)
344
В XIII в. в некоторых областях выращивание этого растения, из которого получали синюю краску, было поставлено на промышленную основу: Пикардия, Нормандия, Линкольншир, позднее Лангедок, Тоскана, Тюрингия; эта новая культура обогатила такие города, как Амьен, Эрфурт, Тулуза. См. Pastoureau М. Jesus chez le teinturier, op. cit., p. 44-46, 108-112.
345
Существенное доказательство приоритета насыщенности над тоном в определении цвета следует из представления о бесцветности. Когда средневековый художник должен в цветах выразить бесцветность, он не выбирает для этого белый цвет (так станут делать только в XVII в.) или какую-то особую краску, он размывает или разбавляет вообще любую краску, пока та не станет настолько слабонасыщенной, что будет восприниматься как бесцветная. Цвет — это прежде всего насыщенность, концентрация, и только затем тон.
346
Pastoureau M. Bleu. Histoire d'une couleur. Paris, 2000.
347
Относящееся к чувственному восприятию, бессознательным представлениям. — Прим. ред.
348
В германских землях красные, зеленые и желтые тона дольше сопротивлялись неумолимому напору синих, а затем черных тонов.
349
О чем исчерпывающе свидетельствуют законы против роскоши и указы, регулирующие ношение одежды, которые появляются во второй половине XIII в. и широко распространяются в следующем столетии. Об этих законах и указах, которые в рамках различных постановлений, касающихся тканей и одежды, запрещают или, наоборот, предписывают использование тех или иных красителей, ношение тех или иных цветов представителям тех или иных социальных слоев и групп, см.: Baldwin F. Е. Sumptuary Legislation and Personal Relation in England. Baltimore, 1926; Vincent J. M. Costume and Conduct in the Laws of Basel, Bern and Zurich. Baltimore, 1935; Eisenbart L. C. Kleiderordnungen der deutschen Stdte zwischen 1350-1700. Gottingen, 1962 (лучшее исследование, посвященное законам, регулирующим ношение одежды); Baur L. Kleiderordnungen in Bayern von 14. bis 19. Jahrhundert. Мunchen, 1975; Hugues D. O. Sumtuary Laws and Social Relations in Renaissance Italy // Bossy J., dir. Disputes and Settlements: Law and Human Relations in the West. Cambridge, 1983, p. 69-99; Id., La moda prohibita // Memoria. Rivista di storia delle donne, 1986, p. 82-105; Ceppari Ridolfi М., Turrini P. II mulino delle vanita. Lusso e cerimonie nella Siena medievale. Siena, 1996.
350
О различии между светом и блеском, которое проводил святой Бернард, см. Pastoureau М. Les Cisterciens et la couleur au XII siecle // L’Ordre cistercien et le Berry, Colloque de Bourges (1998), Cahiers d'archeologie et d’histoire du Berry, vol. 136, 1998, p. 21-30.
351
Средневековый человек часто придает больше значения глубине предмета и изображения, чем протяженности, и никогда не путает эти два параметра. Например, в XIII в. носить белую сорочку, синюю тунику, зеленое платье и красный плащ не значит выглядеть пестро. Зато носить тунику или платье в красно-зелено-желтую полоску значит носить многоцветную, то есть некрасивую, неприличную или позорную одежду. Позвольте сослаться на свое исследование, где рассматриваются эти важнейшие вопросы: L’Etoffe du Diable. Une histoire des rayures et des tissus rayes. Paris, 1991, p. 17-58.
352
См. исследования, перечисленные в следующей библиографии: Sieben Н. J. Voces, eine Bibliographie zu Worten und Begriffen aus der Patristik (1918-1978). Berlin — New York, 1980.
353
Эта идея встречается уже у Аристотеля и Феофраста и, будучи подкреплена открытиями мусульманских ученых, проходит через все Средневековье. И все-таки цвет продолжают приравнивать к материи, то есть к оболочке. В XIII в., к примеру, большинство францисканских ученых оксфордской школы, которые много теоретизировали о свете, а значит и о цвете, определяют его одновременно и как материальную субстанцию, и как составную часть света. По истории теорий о природе цветов см.: Hoppe Е. Geschichte der Optik. Leipzig, 1929; Ronchi V. Storia della luce, 2 ed. Bologna (пер. на фр.: Histoire de la lumiere. Paris, 1956); Lindberg D. C. Theories of Vision, from al-Kindi to Kepler. Chicago, 1976; Halbertsma К. T. A. A History of the Theory of Color. Amsterdam, 1949 (в основном в связи с искусством). По эволюции аристотелевских теорий: Kucharski P. Sur la theorie des couleurs et des saveurs dans le “De sensu” aristotelicien // Revue des etudes grecques, t. 67, 1954, p. 355-390; Eastwood B. S. Robert Grosseteste’s Theory on the Rainbow // Archives international d’histoire des sciences, t. 19, 1966, p. 313-332; Hudeczek M. De lumine et coloribus (selon Albert le Grand) // Angelicum, t. 21, 1944, p. 112-138.
354
Переход (лат.). - Прим. ред.
355
Когда речь идет о терминах, обозначающих цвет (и возможных их толкованиях), историк должен с большим вниманием относиться к изданиям, редакциям, состоянию текстов и переводам, которыми пользуются Отцы Церкви и теологи. История перевода цветообозначений с греческого и иврита на латынь и с латыни на народные языки изобилует неточностями, вчитыванием смыслов и сдвигами значений. В средневековой латыни, в частности, в употребление вошло большое количество цветовых терминов, тогда как в тех же случаях на иврите, на арамейском и на греческом употреблялись слова, обозначающие материал, свет, а также насыщенность или качество. Если на иврите сказано сияющий, на латыни часто говорится candidus (ослепительно белый) или даже ruber (красный). Если на иврите сказано грязный или темный, на латыни говорится niger (черный) или viridis (зеленый), и на народный языках — черный или зеленый. Если на иврите или по-гречески сказано бледный, на латыни будет сказано то albus, то viridis, так же и на народных языках — то белый, то зеленый. Если на иврите говорится богатый, на латынь это часто переводится как purpureus, и на народные языки — как пурпурный. Во французском, в немецком, в английском слово красный широко используется для перевода слов, которые в греческом или древнееврейском тексте выражают не понятие цвета, а понятия богатства, силы, величия, красоты, смерти, крови, огня. Каждый раз, когда мы имеем дело с Писанием, следует произвести тщательный эвристический и филологический анализ, прежде чем выносить какие-либо суждения о символике цветов.
356
«Глуп тот, кто применяет в живописи цвета так, будто не ведает, из чего получается живопись» — провозглашает Григорий Великий в своем комментарии к Песне Песней; ed. R. Belanger, Paris, 1984, p. 72 (Sources chretiennes, vol. 314).
357
См. авторов, приводимых в в: Kristol А. М. Color: les langues romanes devant le phenomene de la couleur. Berne, 1978 (Romanica Helvetica, vol. 88), p. 9-14. Полезные сведения также можно найти в: Walde A., Hofmann J. В. Lateinisches etymologisches Worterbuch, 3. Aufl., Heidelberg, 1930-1954 (“color”: Bd. 3, S. 151 sq.).
358
См. наводящую на мысли (и местами спорную) словарную статью “Color” в: Ernout A. et Meillet A. Dictionnaire etymologique de la langue latine, 4e ed. Paris, 1979. С сожалением подчеркнем, что авторы большинства филологических и лексикографических трудов, касающихся названий цветов, чаще всего забывают изучить само слово «цвет». Этим, к примеру, отличилась примечательная диссертация: Andre J. Etude sur les termes de couleur dans la langue latine. Paris, 1949.
359
Исидор Севильский. Этимологии. Книга XIX, гл. XVII, § 1: Colores dicti sunt, quod calore ignis vel sole perficiuntur.
360
Результаты последних исследований см. в: Boespflug F.-D. et Lossky N., dir. Nicee II, 787-1987: douze siecles d’images religieuses. Paris, 1987. Однако авторы докладов, представленных на этом побуждающем к размышлениям коллоквиуме, исследуют скорее изображение, чем цвет scricto sensu [в строгом смысле слова].
361
Среди обширной литературы см.: Esser К. Н. Uber der Kirchenbau des heiligen Bernhard von Clairvaux // Archiv fur mittelrheinische Kirchengeschichte, t. 5, 1953, p. 195-222; Duby G. Saint Bernard et l'Art cistercien. Paris, 1976; Shapiro M. On the Aesthetic Attitude in Romanesque Art // Romanesque Art. London, 1977, t. I, p. 123-178. Разумеется, перечитаем и самого святого Бернарда, особенно знаменитую главу из «Апологии» — “De picturis et sculpturis auro et argento in monasteriis” (XII, 28-34).
362
Устаревшие исследования: Oursel С. La Miniature du XIIе siecle a l’abbaye de Citeaux... Dijon, 1926 ; Oursel C. Miniatures cisterciennes. Macon, 1960. Впредь стоит обращаться к двум трудам: Zaluska Y. L’Enluminure et le Scriptorium de Citeaux au XIIе siecle. Paris, 1989; Zaluska Y. Manuscrits enlumines de Dijon. Paris, 1991, p. 26-43.
363
Суета, тщеславие (лат.). - Прим. ред.
364
См. словари и индексы, прилагающиеся к изданиям Мабийона (1690), Миня (PL, t. 182, 181), который в основном повторяет Мабийона, и Леклерка-Тальбо-Роше (с 1957). К сожалению, ими снабжены не все тома. Также можно обратится к: Mohrmann С. Observation sur la langue et le style de saints Bernard // Leclercq J., Talbot С. H., Rochais H., ed. S. Bernardi opera. Roma, 1958, vol. 2, p. 9-33.
365
См. тексты, приводимые в: Aubert M. L’Architecture cistercienne en France. Paris, 1943, p. 147-148. Полезно также будет обратиться к старым трудам: d’Arbois de Jubainville Н. Etudes sur Vetat interieur des abbayes cisterciennes. Paris, 1858; Dohme R. Die Kirchen des Cistercienerordens in Deutschland whrend des Mittelalters. Leipzig, 1869. Наконец, различные сведения рассеяны по тексту диссертации: Auberger J.-B. LUnanimite cistercienne primitive: mythe ou realite? Achel (Belgique), 1986.
366
В XIII в еще один прелат проводит связь между светом и прозрачностью — Роберт Гроссетест. Но его замечания по этому поводу опираются больше на конкретные научные наблюдения (в частности, на феномен преломления света), чем на лексические факты и обыденное восприятие.
367
Об отношении Сугерия к искусству, цвету, свету: Aubert М. Suger. Saint-Wandrille, 1950, p. 110-139; De Bruyne E. Etudes d’esthetique medievale. Bruges, 1946, t. II, p. 133-135; Verdier P. La grande croix de l'abbe Suger a Saint-Denis // Cahiers de civilisation medievale, t. 13, 1970, p. 1-31; Id., Reflexions sur Vesthetique de Suger // Melanges E.-R. Labande. Paris, 1975, p. 699-709; Panofsky E. Abbot Suger on the Abbey Church of St. Denis and its Art Treasure, 2nd ed. Princeton, 1979; Grodecki L. Les Vitraux de Saint-Denis: histoire et restitution. Paris, 1976; Crosby S. M. et al. The Royal Abbey of Saint-Denis in the Time of Abbot Suger (1122-1151). New York, 1981.
368
"Об освящении". - Прим. перев.
369
Suger. De consecratione, ed. et trad, de J. Leclercq. Paris, 1945, или заменившее его издание в переводе Ф. Гаспарри (F. Gasparri): Suger. Euvres. Paris, 1996, t. I, p. 1-53.
370
Последний термин я заимствую из прекрасной статьи: Bonne J.-C. Rituel de la couleur: fonctionnement et usage des images dans le Sacramentaire de Saint-Etienne de Limoges // Image et signification (Rencontres de l’Ecole du Louvre). Paris, 1983, p. 129-139.
371
Racinet A. L’Ornement polychrome. Paris, 1887; Courajod L. La polychromie dans la statuaire du Moyen Age et de la Renaissance // Memoires de la Societe nationale des Antiquaires de France, E, t. 8, 1887-1888, p. 193—274; Van den Cheyn A. La Polychromie funeraire en Belgique. Anvers, 1894; Beaucoup F. La polychromie dans les monuments funeraires de Flandre et de Hainaut au Moyen Age // Bulletin archeologique du Comite des travaux historiques et scientifuques, 1928, p. 551-567. В связи с античностью можно обратиться также к: Nageotte С. Е. La Polychromie dans Vart antique. Besangon, 1884; Collignon M. La Polychromie dans la sculpture grecque // Revue archeologique, 1895, p. 346-358.
372
Суть последних исследований (и развернувшаяся вокруг них полемика) представлена, резюмирована или затронута в: La couleur et la Pierre. Polychromie des portails gothiques. Actes du colloque d’Amiens (octobre 2000). Paris, 2002.
373
См. пример в каталоге выставки: Tresors des musees de Liege. Paris, 1982, n° 67.
374
Honorius Augustodunensis. Luces incorporatae (Expositio in cantica... V, 10; PL, t. 172, col. 440).
375
Воля, власть (лат.)
376
Словарь средневековой латыни свидетельствует о том, что золотой и белый были связаны между собой гораздо теснее, чем золотой и желтый: aureus [золотой] часто становится синонимом candidus [ослепительно белый] или niveus [белоснежный] и редко бывает синонимом croceus [шафрановый], или galbinus, giallus, или luteus [оттенки желтого]. Это четкое различение золотого и желтого объясняет, почему в конце Средневековья все оттенки желтого, а также желтый, тяготеющий к зеленому или красному, утрачивают ценность. Вместе с тем золотой тесным образом связан с красным цветом, поскольку он отсылает к идее интенсивности, абсолютной насыщенности; такой золотой цвет характерен, к примеру, для Грааля и связанной с ним литургии.
377
Меровингская и каролингская эпохи, «варварские» по сути — если судить по предметам и изображениям, которые они нам оставили, — создают о себе очень красочное впечатление. Со второй половины XI в. оно несколько меркнет (только церковь продолжает изобиловать цветами), а затем к середине XIV в. разгорается вновь; с этого момента наступает «барочный» период, продолжающийся до начала XVI столетия, в течение которого цвету уделяется значительное место. Конечно, все это сугубо личные ощущения, которые следует уточнить, дополнить или скорректировать. Впрочем, работая с цветом, историк также вынужден ориентироваться на свои ощущения.
378
Некоторые основы в старых трудах: Bock F. Geschichte der liturgischen Gewander im Mittelalter. Berlin, 1859-1869, 3 vol.; Legg J. W. Notes on the History of the Liturgical Colours. London, 1882 (в основном no эпохе Нового времени); Braun J. Die liturgische Gewandung in Occident und Orients. Freiburg im Breisgau, 1907; Haupt G. Die Farbensymbolik in der sakralen Kunst des abendlandischen Mittelalters. Leipzig, 1944 (часто цитируется и всегда разочаровывает). По раннехристианскому периоду минимальные сведения см. в: Dictionnaire d’archeologie chretienne et de liturgie. Paris, 1914, t. III, col. 2999-3001. О папских обычаях: Schimmelpfennig В. Die Zeremonienbucher der romischen Kurie im Mittelalter. Tubingen, 1973, p. 286-288, 350-351; Diekmans M. Le Ceremonial papal. Bruxelles et Rome, 1977, t. I, p. 223-226.
379
См., к примеру, короткий трактат (X в.?): Moran J., ed. Essays on the Early Irish Church. Dublin, 1864, p. 171-172.
380
De sacrosancti altaris mysterio, PL, t. 217, col. 774-916 (цвета: col. 799-802).
381
Лучшие введения к трудам Гильома Дюрана см. в: Dictionnaire de droit canonique. Paris, 1953, t. V, col. 1014-1075, и в Actes du colloque de Mende (1990), Gy P.-М., dir. Guillaume Durand, eveque de Mende (v. 1230-1296), canoniste, liturgiste et homme politique. Paris, 1992. Первое печатное издание “Rationale” («Объяснение Устав») было выпущено в Майнце Иоганном Фустом и Петером Шеффером в октябре 1459 г. Еще девять изданий появилось в XVII в. Сейчас А. Давриль и Т. М. Тибодо публикуют научное издание: Guillelmi Duranti Rationale divinorum officiorurh;Turnhout, 1995, vol. 1. Глава о литургических цветах “De quatuor coloribus, quibus Ecclesia in ecclesiasticis utitur indumentis” (книга III, гл. 18) размещена на стр. 224-229.
382
Миссал — богослужебная книга в Римско-католической церкви, содержащая тексты для совершения литургии (мессы). — Прим. ред.
383
Накануне Тридентского собора система литургических цветов, которая была в ходу в большинстве диоцезов католической церкви, выглядела следующим образом: белый — для пасхального времени и для праздников и месс во славу Христа, Девы Марии и особо почитаемых святых; красный — для праздников и месс в честь Святого Духа, Креста, мучеников и Крови Христовой; фиолетовый — для дней и времени покаяния (Рождественского поста, Семидесятницы, Великого поста и т. д.); черный — для Страстной пятницы и заупокойных служб; зеленый — для дней, которым не свойственны собственные цвета. В исключительных случаях фиолетовый уступает место розовому — во время Gaudete и Laetare, то есть в третье воскресенье Адвента и в четвертое воскресенье Рождественского поста. Использование голубого характерно для некоторых диоцезов во время немногих местных праздников в честь Девы Марии.
384
Историки одежды редко пишут об одежде монахов. Единственный специальный труд, который был этому посвящен, датируется XVIII в.; он по-прежнему может представлять некоторый интерес: Helyot P. Histoire et costumes des ordres monastiques, religieux et militaires. Paris, 1714-1721, 8 vol. (изд. исправленное и дополненное, Guingamp, 1838-1842). Авторы большинства работ, посвященных истории того или иного ордена, почти не пишут или вообще не пишут об одежде и никогда не пишут о цветах; именно так, к примеру, дело обстоит с обширным, обобщающим трудом: Schmitz P. Histoire de Vordre de saints Benoit. Maredsous, 1942-1956, 7 vol. Некоторые сведения по ранним периодам в: Oppenheim P. Das Monchkleid im christlichen Altertum. Freiburg im Breisgau, 1931, S. 69-78; de Valous G. Le Monachisme clunisien des origines au XVе siecle. Liguge et Paris, 1935, t. I, p. 227-249.
385
Chap. 55 (“De vestiario vel calciario fratrum”), art. 7 (De quarum rerum omnium colore aut grossitudine non causentur monachi...). На интересные размышления может навести: Clement J.-M. Lexique des anciennes regies monastiques. Rome, 1978 (Instrumenta patristica, vol. 7).
386
Монашеское сословие (лат.). - Прим. ред.
387
Черные монахи (лат.). — Прим. ред. Реформаторский труд Бенедикта Анианского и «Монастырский капитулярий» 817 года не содержат никаких законов относительно цветов. «Черные монахи» рождены обычаем, а не правилами и уставами.
388
Монастыри, реформированные по образцу бенедиктинского аббатства Клюни в Бургундии. — Прим. ред.
389
От противного (фр.). — Прим. ред.
390
Ткань выстилали на лугу, и отбеливание происходило естественным образом за счет воздействия солнца и влаги. — Прим. перев.
391
Серые монахи (лат.). — Прим. ред.
392
Первая, а затем главная обитель ордена цистерцианцев основана в 1098 году. Первым настоятелем монастыря был Роберт Молемский, вторым — святой Альберих, третьим — Стефан Хардинг. — Прим. ред.
393
Один из пяти старейших монастырей ордена цистерцианцев, основан святым Бернардом. — Прим. ред.
394
Несколько верных замечаний в: Ducourneau J.-O. Les origines cisterciennes (IV) // Revue Mabillon, t. 23, 1933, p. 103-110. Позвольте также порекомендовать: Pastoureau M. Les Cisterciens et la couleur au XIIе siecle // L’Ordre cistercien et le Berry, Colloque de Bourges (1998), Cahiers d’archeologie et d’histoire du Berry, vol. 136, 1998, p. 21-30. По поводу «цветной» реакции на клюнийский черный цвет у картезианцев также см.: Bligny В. Les premiers Chartreux et la pauvrete // Le Moyen Age, t. 56, 1951, p. 27-60.
395
Это необычное со всех точек зрения письмо представляется мне одним из богатейших источников истории культуры, оставленных нам XII в. Текст его можно прочитать в превосходном издании: Constable G., ed. The Letters of Peter the Venerable. Cambridge (Mass.), 1967, t. I, letter 28, p. 55-58. См. также примирительное письмо 1144 г. (n° 111), p. 285-290.
396
Среди обширной литературы: Knowles М. D. Cistercians and Cluniacs, the Controversy between St. Bernard and Peter the Venerable. Oxford, 1955; Bredero A. H. Cluny et Citeaux au douzieme siecle: Vhistoire d'une controverse monastique. Amsterdam, 1986. Некоторые сведения о смыслах клюнийского черного цвета, как их представляет Петр Достопочтенный, опирающийся на более ранние традиции, можно найти в: Hallinger К. Gorze-Kluny. Rome, 1951, t. XI, p. 661-734.
397
Именно это предписывается во II главе “Regula bullata” («Устав, утвержденный буллой») 1223 г. Обобщающих работ о цвете францисканской одежды не существует; некоторые общие сведения можно найти в классических трудах: Gratien P. Histoire de la fondation et de revolution des freres mineurs au XIIIе siecle. Paris, 1928; de Sessevalle F. Histoire generate de Vordre de saint Francois: le Moyen Age. Bruxelles, 1940, 2 vol. О бедности и ее выражении через одежду: Lambert D. Franciscan Poverty... London, 1961. Устав 1223 г. предписывает: «все братья пусть носят грубую одежду; с Божьего благословления они могут залатать ее кусками мешковины и другими лоскутами»; отсюда — всякого рода крайности в радикальных движениях до середины XIV в. В булле, датированной 1336 г., папа Бенедикт XII требует от короля Неаполя, чтобы тот изгнал из своего королевства «дурных людей, которые называют себя братьями бедной жизни или другими именами, и носят короткую и безобразную одежду, составленную из разных цветов или кусков ткани...».
398
Ругательство “ventre saint Gris!”, которое часто использовали Рабле и Генрих IV, употреблялось до начала XVIII в. Оно означает что-то вроде клятвы «чревом святого Франциска».
399
О доминиканской одежде см. прекрасное исследование: Siegwart J. Origine et symbolisme de l'habit blanc des Dominicains // Vie dominicaine, t. 21, 1962, p. 83-128.
400
Heim B.-B. Coutumes et droit heraldique de l'Eglise. Paris, 1949; Pastoureau M. Traite d’heraldique, 2e ed. Paris, 1993, p. 48-55.
401
В данном случае: установление вселенского собора, касающееся вероучения или обрядов. — Прим. ред.
402
Trichet L. Le Costume du clerge, ses origines et son evolution en France d’apres les reglements de l'Eglise. Paris, 1986, p. 60, n. 17 (в этом труде рассматривается только одежда белого духовенства и притом вне всякого литургического контекста).
403
Вот пример, датируемый 1320 годом: «Колин д’Аннишье, починщик обуви, который якобы был клириком, был осужден и казнен, каковой приговор был вынесен за то, что вышеупомянутый Колин был женат, и за то, что взяли его в полосатой одежде» (Руан, Архив департамента Приморская Сена, G 1885, piece 522). Выражаю благодарность своему другу Клодии Рабель, которая познакомила меня с этим источником и сделала с него копию.
404
Pastoureau М. L’Etoffe du Diable. Une histoire des rayures et des tissus rayes. Paris, 1991, passim.
405
Связанных с одеждой. - Прим. ред.
406
Вот список основных трудов по этой теме, опубликованных за последние двадцать лет: Philips J. The Reformation of Images. Destruction of Art in England (1553-1660). Berkeley, 1973; Warnke M. Bildersturm. Die Zerstdrung des Kunstwerks. Munchen, 1973; Stirm M. Die Bilderfrage in der Reformation. Gutersloh, 1977 (Forschungen zur Reformationsgeschichte, 45); Christensen C. Art and the Reformation in Germany, Athens (USA); 1979; Deyon S. et Lottin A. Les Casseurs de Vete 1566. L’iconoclasme dans le Nord. Paris, 1981; Scavizzi G. Arte e architettura sacra. Cronache e documenti sulla controversia tra riformati e cattolici (1500-1550). Roma, 1981; Altendorf H. D., Jezler P. (Hg.), Bilderstreit. Kulturwandel in Zwinglis Reformation. Zurich, 1984; Freedberg D. Iconoclasts and their Motives. Maarsen, 1985; Eire С. M. War against the Idols. The Reformation of Workship from Erasmus to Calvin. Cambridge (Mass.), 1986; Crouzet D. Les Guerriers de Dieu. La violence au temps des guerres de religion. Paris, 1990, 2 vol.; Christin O. Une revolution symbolique. L’iconoclasme huguenot et la reconstruction catholique. Paris, 1991. К этим работам стоит добавить объемный научный каталог выставки: Iconoclasme. Berne et Strasbourg, 2001.
407
Видимо, Лютер терпимее, чем другие великие реформаторы, относился к присутствию цвета в храме, культе, искусстве и повседневной жизни. Его, действительно, в основном занимали совсем другие вещи, а ветхозаветный запрет на изображение уже не казался ему обоснованным, когда речь заходила о благодати. Отсюда подчас и происходило особое лютеранское отношение к искусствам и использованию цвета, и к иконографии вообще. О Лютере и общих вопросах, связанных с изображением (специальных исследований, посвященных цвету, нет), см. прекрасную статью: Wirth J. Le dogme en image: Luther et Viconographie // Revue de l’art, t. 52, 1981, p. 9-21. См. также: Christensen C. Art and the Reformation..., op. cit., p. 50-56; Scavizzi G. Arte e architettura sacra, op. cit., p. 69-73; Eire С. M. War against the Idols, op. cit., p. 69-72.
408
Иер 22:13. (В Синодальном переводе: «[Горе тому] кто говорит: “построю себе дом обширный и горницы просторные”, — и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит красною краскою», Иер 22:14. — Прим. перев.).
409
Andreas Bodenstein von Karlstadt. Von Abtung der Bylder... Wittenberg, 1522, S. 23, 29. См. также фрагменты, процитированные в: Barge Н. Andreas Bodenstein von Karlstadt. Leipzig, 1905, Bd. I, S. 386-391, и, по поводу Хетцера: Garside С. Zwingli and the Arts. New Haven, 1966, p. 110-111.
410
Pastoureau M. l'incolore n’existe pas // Melanges Philippe Junod. Paris — Lausanne, 2003, p. 11-20.
411
Выражение из: Christin О. Une revolution symbolique, op. cit., p. 141, n. 5. См. также: Scribner R. W. Reformation, Carnival and the World Turned Upside-Down. Stuttgart, 1980, p. 234-264.
412
Goody J. La Culture des fleurs. Paris, 1994, p. 217-226.
413
Давнее и слишком общее исследование: Fritsch К. Е. О. Der Kirchenbau des Protestantismus von der Reformation bis zur Gegenwart (Berlin, 1893) почти не содержит хронологических или типологических сведений по интересующей нас проблеме. Более информативно исследование, посвященное исключительно швейцарскому материалу: Germann G. Der protestantische Kirchenbau in der Schweiz von der Reformation bis zur Romantik. Zurich, 1963. В нем говорится о частичном возвращении цвета в храм с конца XVI в. и, особенно, в XVIII в.
414
В частности, из-за влияния католического культа и позиции, которую заняли по этому вопросу реформированные церкви. См. тонкие наблюдения в: Senn О. Н. Evangelischer Kirchenbau im okumenischen Kontext. Identitat und Variabilitat. Tradition und Freibeit. Basel, 1983.
415
Для начала Реформации см. несколько примеров (касающихся изображений вообще, а не цвета конкретно), приведенных в: von Campenhaussen Н. F. Die Bilderfrage in der Reformation // Zeitschrift fur Kirchengeschichte, Bd. 68, 1967, S. 96-128. Будем ждать новых исследований, которые позволили бы прояснить картину сопротивления верующих иконоборческой и хромофобской политике пасторов.
416
Множество примеров приведено в: Schelter A. Der protestantische Kirchenbau des 18. Jahrhunderts in Franken. Kulmbach, 1981.
417
Garside C. Zwingli and the Arts, op. cit., p. 155-156. См. также прекрасное исследование: Schmidt-Claussing F. Zwingli als Liturgist. Berlin, 1952.
418
Barge H. Andreas Bodenstein von Karlstadt, op. cit., S. 386; Stirm M. Die Bilderfrage..., op. cit., S. 24.
419
Несмотря на колебания Лютера. См. его удивительное письмо Шпенглеру от 8 июля 1530 г. в: Riickert Н. Luthers Werke in Auswahl, 3. Aufl. Berlin, 1966. С общей точки зрения о XVI в. в целом также см.: Waldenmaier Н. Die Entstehung der evangelishen Gottesdienstordnungen Siiddeutschlands im Zeitalter der Reformation. Leipzig, 1916.
420
См., например: von Lohe W. Vom Schmuck heiliger Orte. Neuendettelsau, 1859. По поводу всех этих вопросов полезно будет обратиться к обобщающему труду: Goldammer К. Kultsymbolik des Ptotestantismus. Stuttgart, 1960, хотя проблема цвета затронута здесь вскользь (с. 24-26, 69 и т. д.).
421
Направление в протестантизме, стремящееся к сохранению традиционного богослужения. Противостоит движению «низкой церкви», отрицающей его необходимость. — Прим. ред.
422
Много сведений можно почерпнуть из: Burnet J. History of the Reformation of the Church of England. Oxford, 1865, 7 vol., дополнив их: Dowden J. Outlines of the History of the Theological Literature of the Church of England, from the Reformation to the Close of the Eighteenth Centuty. London, 1897. Полезно будет обратиться к небольшому каталогу выставки, составленному Л. Леман: Lehman L., ed. Anglican Liturgy. A Living Tradition. Dallas, 1986.
423
Ряд вскользь упомянутых примеров см. в: Deyon S. et Lottin A. Les Casseurs de Vete 1566, op. cit., passim. См. также: Christin О. Une revolution symbolique, op. cit., p. 152-154.
424
В этом отношении типичен случай Лютера. См.: Jean Wirth. Le dogme en image..., art. cit. (прим. 43), p. 9-21.
425
Garside C. Zwingli and the Arts, op. cit., chap. 4, 5.
426
Institution (текст 1560 г.), III, X, 2.
427
Свойство вибрации цвета в живописи Рембрандта в совокупности с беспредельным торжеством света придает большинству его картин, и даже самым мирским, религиозное значение. Среди обширной литературы см. Акты берлинского коллоквиума (1970): von Simson О., Kelch J. (Hg.) Neue Beitrage zur Rembrandt-Forschung. Berlin, 1973.
428
Религиозное движение XVII—XVIII вв. за возвращение к раннехристианским ценностям, вначале существовало в рамках католической церкви, затем было осуждено как ересь. — Прим. ред.
429
Louis Marin. Signe et representation. Philippe de Champaigne et Port-Royal // Annales. ESC, vol. 25, 1970, p. 1-13.
430
Этот материал превосходно изложен в труде: Lichtenstein J. La Couleur eloquente. Rhetorique et peinture a l’age classique. Paris, 1989. Также рекомендую перечитать “Cours de peinture par principes” (1708) Роже де Пиля, лидера сторонников главенствующей роли цвета в живописи. Порвав с предшествующими теориями, с кальвинистским и янсенистским идеалом, автор защищает цвет как украшение, иллюзию, соблазн, как живопись в полном смысле слова.
431
В общих чертах (лат., ит.). - Прим. перев.
432
Особое отвращение у Кальвина вызывают мужчины, которые переодеваются в женщин или в животных. Отсюда негативное отношение к театру.
433
См. его неистовую проповедь Оratio contra affectationem novitatis in vestitu (1527), в которой он рекомендует всякому добропорядочному христианину носить одежду строгих и темных цветов и не «выделяться пестрыми цветами, как павлин». Corpus reformatorum. Halle, 1845, Bd. 11, S. 139-149. См. также Bd. 2, S. 331-338.
434
Движение в немецком протестантизме конца XVII — начала XVIII в. за возрождение первоначальных идей Реформации и Лютера. — Прим. ред.
435
О революции в одежде, за которую ратовали анабаптисты Мюнстера: Strupperich R. Das munsterische Taufertum. Munster, 1985, S. 30-59.
436
Pastoureau M. Vers une histoire sociale des couleurs // Couleurs, images, symboles. Etudes d’histoire et d’anthropologie. Paris, 1989, p. 9-68, особенно p. 35-37.
437
Ibid., p. 16-19.
438
Thorner I. Ascetic Protestantism and the Development of Science and Technology // The American Journal of Sociology, vol. 58, 1952-1953, p. 25-38; Bodamer J. Der Weg zu Aszese als Uberwindung der technischen Welt. Hamburg, 1957.
439
Lacey R. Ford, The Man and the Machine. New York, 1968; Barry J. Henry Ford and Mass Production. New York, 1973.
440
Самые древние из сохранившихся уставов, регламентирующих ремесло красильщика, происходят из Венеции. Они датируются 1243 г., но красильщики уже, вероятно, с конца XII в. объединялись в confraternita [братство]. См.: Brunello F. L’arte della tintura nella storia dell’umanita. Vicenza, 1968, p. 140- 141. В обширном собрании: Monticolo G. I capitolari delle arti veneziane... Roma, 1896-1914, 4 vol., найдется множество сведений о красильном деле в Венеции с XIII по XVIII в. В Средние века венецианские красильщики, видимо, пользовались большей свободой, чем красильщики, которые работали в других городах Италии, в частности, во Флоренции и в Лукке. От последнего города до нас дошли почти столь же древние уставы, как и венецианские: они датируются 1255 г. См.: Guerra P. Statuto del'arte dei tintiri di Lucca del 1255. Lucca, 1864.
441
В обширном уже упоминавшемся научном труде Франко Брунелло история красильного дела рассматривается в большей степени с точки зрения химии и технологии, чем социальная и культурная история красильщиков. Кроме того, страницы, посвященные Средневековью, по сравнению с более поздними работами автора по этому периоду (я имею в виду, в частности, его книгу о венецианских цехах в целом (Arti е mestieri a Venezia nel Medioevo е nel Rinascimento. Vicenza, 1980) или же работы о пигментах, которые использовали миниатюристы ("De arte illuminandi” е altri trattati sulla tecnica della miniatura medievale". Vicenza, 2 ed., 1992), оставляют желать лучшего. Так же и в труде Ploss Е. Е. Ein Buck von alten Farben. Technologic der Textilfarben im Mittelalter, неоднократно переиздававшемся (6. Aufl., Munchen, 1989), больше внимания уделяется рецептам и рецептурным книгам (не только по красильному делу, но и по живописи, чего не следует из названия книги), нежели ремесленникам, которые ими пользуются.
442
См., в частности, исследование: De Poerck G. La Draperie medievale en Flandre et en Artois. Bruges, 1951, 3 vol. (особенно t. I, p. 150-194). Впрочем, в отношении красителей и технологий окраски всем утверждениям автора доверять не стоит (в частности в t. I, р. 150-194): во-первых, он рассматривает технологии и ремесла в большей степени с филологической, нежели с исторической точки зрения, но, самое главное, все его знания (или большая их часть) почерпнуты не из средневековых документов, а имеют в качестве своего основного источника сочинения XVII и XVIII вв. Это подчас приводит к тому, что технологии, свойственные исключительно Новому времени, он приписывает Средневековью.
443
Несколько примеров по Древней Греции можно найти в: Brunello F. Larte della tintura..., op. cit., p. 89-98; примеры, связанные с Черной Африкой в каталоге выставки: Teinture. Expression de la tradition en Afrique noire. Mulhouse, 1982, p. 9-10.
444
Ж. Лe Гофф в статье “Metiers licites et metiers illicites dans l’Occident medieval”, повторно опубликованной в сборнике Pour ип autre Moyen Age. Paris, 1977, p. 91-107 (см. перевод на русский: Лe Гофф Ж. Другое Средневековье. Екатеринбург, 2000. — Прим. перев.), упоминает красильное дело среди подлых, презренных, запрещенных для клириков профессий (р. 93). Красильщики отмечены печатью грязи и нечистоты, как, впрочем, и значительное число ремесленников других текстильных профессий — которых в мятежных сукнодельческих городах в XIV-XV вв. иногда называли синими ногтями. С другой стороны, в замечательном труде Danckert W. Unehrliche Leute. Die verfemten Berufe (Bern — Munchen, 1963) красильщики вообще не упоминаются.
445
При изготовлении тканей невысокого качества, которые в латинских текстах называются panni non magni precii (ткань небольшой ценности), шерсть могли красить, пока она еще была не выпрядена, в частности, когда ее смешивали с другим волокном.
446
“Quiconques est toisserans a Paris, il ne puet teindre a sa meson de toutes coleurs fors que de gaide. Mes de gaide ne puet il taindre fors que en II mesons. Quar la roine Blanche, que Diex absoille, otroia que li mestiers des toissarans peust avoir II hostex es quex Ten peust ovrer de mestiers de tainturerie et de toissanderie [...].” de Lespinasse R. et Bonnardot F. Le Livre des metiers d’Etienne Boileau. Paris, 1879, p. 95-96, art. XIX, XX. См. также: de Lespinasse R. Les Metiers et Corporation... Paris, 1886, t. Ill, p. 113. Акт о даровании привилегии королевой Бланкой в период ее регентства не был обнаружен.
447
“Traite de la police” («Трактат о полиции»), написанный Деламаром (Delamare), советником-комиссаром короля при Шатле, 1713, р. 620. Я заимствую этот и следующий отрывок из дипломной работы: Debrosse J. Recherches sur les teinturiers parisiens du XVIе au XVIIIе siecle. Paris, EPHE (IVe section), 1995, p. 82-83.
448
В то время — черепичная фабрика (что и обозначает данное слово в буквальном переводе), строительство одноименного дворца началось только в 1564 г. — Прим. перев.
449
Traite de police, ibid., p. 626.
450
Я благодарю Дени Гю за предоставление данных сведений, почерпнутых им из рукописи Y 16 муниципальной библиотеки Руана: 11 декабря 1515 г. муниципальные власти учреждают календарный план (и даже почасовое расписание) доступа к Сене для тех, кто красит вайдой (в синий), и для тех, кто красит мареной (в красный).
451
В Германии Магдебург являлся крупным центром производства и торговли мареной (красные тона), а Эрфурт специализировался на вайде (синие тона). Соперничество между этими городами было весьма ощутимым в XIII-XIV вв., когда синие тона, снова вошедшие в моду, стали составлять красным тонам все более и более сильную конкуренцию. Тем не менее с конца XIV в. единственным крупным красильным городом в Германии, который в международном масштабе мог сравниться с Венецией или с Флоренцией, являлся Нюрнберг.
452
Scholz R. Aus der Geschichte des Farbstoffhandels im Mittelalter. Munchen, 1929, S. 2 und passim; Wielandt F. Das Konstanzer Leinengewerbe. Geschichte und Organisation. Konstanz, 1950, S. 122-129.
453
Лев 19:19 и Втор 22:11. Литература о библейских запретах на смешивание обширна, но зачастую оставляет желать лучшего. Для историка наиболее плодотворные перспективы намечены в работах антрополога Мэри Дуглас, посвященных теме чистого и нечистого. См., например, ее исследование: Douglas М. Purity and Danger, new ed. London, 1992; пер. на фр.: De la souillure. Essai sur les notions de pollution et de tabou. Paris, 1992.
454
Pastoureau M. L’etoffe du Diable. Une histoire des rayures et des tissus rayes. Paris, 1991, p. 9-15.
455
Scholz R. Aus der Geschichte des Farbstoffhandels..., op. cit., S. 2-3: автор утверждает, что он ни разу не встречал немецкого сборника рецептов, предназначенного для красильщиков, в котором бы говорилось о том, что для приготовления зеленого цвета необходимо смешать синий и желтый или же последовательно окрасить в эти цвета. Это станут делать только в XVI в. (это не означает, что подобное смешивание не практиковалось в экспериментальном порядке в той или иной мастерской и до этой даты): Pastoureau М. La couleur verte аи XVIе siecle: traditions et mutation // Jones-Davies M.-T., dir. Shakespeare. Le monde vert: rites et renouveau. Paris, 1995, p. 28-38.
456
Об этих запретах: De Poerck G. La Draperie medievale..., op., cit., t. I, p. 193-198. На практике эти запреты могли нарушаться. Если и в самом деле в одном чане не смешивают два различных красителя, даже если одну и ту же материю не погружают последовательно в два красильных раствора двух различных цветов для того, чтобы получить третий, то для плохо прокрашенного шерстяного сукна все же допускается отклонение от этих правил: если первая окраска не дала ожидаемого результата (что происходит относительно часто), то разрешается снова погрузить сукно в более насыщенный красильный раствор, обычно серый или черный (на основе коры и корней ольхи или ореха) и попытаться таким образом исправить недостатки первых прокрасок.
457
Отсюда противопоставление тех, кто красит в красный цвет, и тех, кто красит в синий, к которому я вернусь чуть ниже.
458
Heers M.-L. Les Genois et la commerce de Valun a la fin du Moyen Age // Revue d’histoire economique et sociale, vol. 32, n° 1, 1954, p. 30-53; Liagre M. Le commerce de Valun en Flandre au Moyen Age // Le Moyen Age, t. 61, 1955, p. 177-206; Delumeau J. L’Alun de Rome. Paris, 1962. В XVI в. эта торговля достигает своего апогея.
459
В конце Средневековья винный камень в соединении с квасцами часто использовали для получения качественного и не очень дорого закрепителя (винный камень стоил гораздо дешевле квасцов).
460
Liber magistri Petri de Sancto Audemaro de coloribus faciendis, M. P. Merrifield, ed. // Original Treatises dating from the XIIth to the XVIIIth on the Art of Painting... London, 1849, p. 129. По поводу этих вопросов полезно будет обратиться к диссертации, защищенной в Школе хартий (1995): Ines Villela-Petit. La Peinture medievale vers 1400. Autour d’un manuscrit de Jean Lebegue. Эта диссертация, к сожалению, пока не опубликована.
461
В настоящее время реализуется проект по созданию банка данных, где были бы собранны все средневековые рецепты, касающиеся цвета (в красильном деле и живописи). См.: Tolaini F. Una banca dati per lo studio dei ricettari medievali di colori // Centro di Ricerche Informatiche per i Beni Culturali (Pisa). Bollettino d’informazioni, vol. 5, 1995, fasc. 1, p. 7-25.
462
По истории рецептурных книг и трудностей, связанных с их изучением, см. справедливые замечания в: Halleux R. Pigments et colorants dans la Mappae Clavicula // Guineau B., dir. Pigments et colorants de d'Antiquite et du Moyen Age. Colloque international du CNRS. Paris, 1990, p. 173-180.
463
История нарастающего «соперничества» между красным и синим отчетливо просматривается в трактатах и учебниках по красильному делу, составленных или опубликованных в Венеции с конца XV до начала XVIII в. В венецианской рецептурной книге 1480-1500 гг., хранящейся в муниципальной библиотеке Комо (Rebore G. Un manuale di tintoria del Quattrocento. Milan, 1970), 109 из 159 предложенных рецептов касаются окрашивания в красный цвет. Примерно такое же соотношение обнаруживается и в знаменитом “Plictho” Розетти, опубликованном в Венеции в 1540 г. (Evans S. М., Borghetty Н. С. The “Plictho” of Giovan Ventura Rosetti. Cambridfe [Mass.] and London, 1969). Однако в многочисленных новых переизданиях “Plictho” на протяжении всего XVII в. число рецептов красного сокращается в пользу синего. В издании 1672 г., опубликованном Дзаттони, синий цвет даже догнал красный. И откровенно его опередил в “Nuovo Plico d’ogni sorte di tinture” Галлипидо Талльери, выпущенном, опять же в Венеции, Лоренцо Баседжо в 1704 г.
464
Инес Виллела-Пти в своей пока еще не изданной, упомянутой выше диссертации привлекает внимание к этим вопросам в связи с французской и итальянской живописью XV в. и анализирует случай Жака Коэна и «Часослова Бусико», а также Микелино да Безоццо (р. 294-338).
465
Который, действительно, в основном состоит из читательских заметок, которые Леонардо, вероятно, не успел привести в порядок (хотя некоторые ученые и полагают, что здесь уже в полном мере воплощаются его идеи). Об этом трактате, рукопись которого хранится в Ватиканской библиотеке: Chastel A. et Klein R. Leonard de Vinci. Traite de la peinture. Paris, 1960; 2 ed., 1987.
466
Что бы ни писали некоторые авторы, рецепты античного пурпура были утеряны в VIII—IX вв., и не только на Западе, который так до конца и не проник по все тайны его изготовления, но также ремесленниками восточного Средиземноморья: пурпур, производимый как в исламских странах, так и на территории Византии (где расцвет пурпура пришелся на эпоху Юстиниана), имеет мало общего с античным пурпуром. В западных источниках, написанных на средневековой латыни или на народных языках, слово «пурпур» редко обозначает цвет или краску, но почти всегда говорит о качестве ткани, обычно недорогой, цвет которой уточняется с помощью того или иного прилагательного. Например, в старофранцузском: pourpre inde, pourpre bise, pourpre vermeille, pourpre verte, и так далее. См. примеры, приводимые в: Ott A. Etudes sur les couleurs en vieux frangais. Paris, 1899, p. 109-112. Cм. также: Michel F. Recherche sur le commerce, la fabrication et Vusage des etoffes de soie, d’or, et d’argent et autres tissus precieux... Paris, 1854, p. 6-25 (несмотря на дату издания, этот пионерский труд еще не устарел и из него можно почерпнуть весьма достоверные сведения, касающиеся средневековых тканей). В языке геральдики, напротив, слово pourpre сохраняет свое хроматическое значение и обозначает цвет, который очень редко встречается в средневековых гербах и который изначально представлял собой серый или черный оттенок, а затем, начиная с XIV в., фиолетовый. См.: Pastoureau М. Traite d’heraldique, 2е ed. Paris, 1993, p. 101-102. — По поводу античного пурпура литература обширна. Особенно см.: Dedekind A. Ein Beitrag zur Purpurkunde. Berlin, 1898; Blumner H. Technologie und Terminilogie der Gewerbe und Ktinste bei Griechen und Romern, 2. Aufl. Berlin, 1912, Bd. I, S. 233-253; Wunderlich E. Die Bedeutung der roten Farbe im Kultus der Griechen und Romer. Giessen, 1925; Born W. Purple in Classical Antiquity // Ciba Review, vol. 1-2, 1937-1939, p. 110-119; Schneider K. Purpura // Paulys Realencyclopadie der klassischen Altertumwissenschaft, editio major. Stuttgart, 1959, Bd. XXIII, 2, Sp. 2000-2020; Reinhold M. History of Purple as a Status Symbol in Antiquity. Brussels, 1976; Stulz H. Die Farbe Purpur im friihen Griechentum. Stuttgart, 1990; Longo O. (a cura di) La porpora. Realta e im maginario di un colore simbolico. Venezia, 1998.
467
Несмотря на огромный прогресс в области окрашивания и красителей, начавшийся в XVIII в., проблема окраски ткани в зеленый цвет сохраняет свою актуальность в течение всего Нового времени и даже в современную эпоху. Именно гамма зеленых оттенков по-прежнему представляет наибольшие трудности в том, что касается получения, воспроизведения и особенно фиксации цвета. Это одинаково верно и для красильного производства, и для живописи.
468
He следует путать материю, действительно окрашенную в белый цвет (пусть даже это сложно осуществимая операция, результаты которой бывают неудовлетворительными), и многочисленные «белые» ткани, о которых часто упоминается в приходно-расходных и торговых документах. Последние представляют собой дорогой, неокрашенный текстиль, экспортируемый далеко за пределы места своего производства, окрашивание которого осуществляется на месте назначения. См.: Laurent Н. Un grand commerce d’exportation au Moyen Age. La draperie des Pays-Bas en France et dans les pays mediterraneens (XIIe-XVe s.). Paris, 1935, p. 210-211. Это рано засвидетельствованное использование прилагательного «белый» в значении «неокрашенный» чрезвычайно любопытно. Оно подготовило ассимиляцию понятий «белого» и «бесцветного», которая произойдет в системе знаний и представлений Нового времени.
469
Отбеливание на основе хлора и хлоридов появится лишь в конце XVIII в., так как хлор был открыт только в 1774 г. Известно также отбеливание на основе серы, но эта процедура освоена плохо и приводит к порче шерсти и шелка. Необходимо в течение дня держать ткань в разбавленном растворе сернистой кислоты: если в растворе слишком много воды, то отбеливание неэффективно; если слишком много кислоты, то портится ткань.
470
Pastoureau М. Ordo colorum. Notes sur la naissance des couleurs liturgiques // La Maison-Dieu. Revue de pastorale liturgique, t. 176, 1998, p. 54-66.
471
Id., L'Eglise et la couleur des origines a la Re forme // Bibliotheque de l’Ecole des chartes, t. 147, 1989, p. 203-230, особенно p. 222-226.
472
Robertet J. Euvres, ed. M. Zsuppan. Geneve, 1970, epitre 16, p. 139. Еще чаще желтый в средневековой культуре приравнивается к полубелому или белесому.
473
Трудности, связанные с изготовлением и фиксацией зеленой краски, как применительно к красильному делу, так и к живописи, возможно, объясняют тот факт, что этот цвет редко используется в гербах. По крайней мере, в реальных гербах, которые должны иметь материальное воплощение в самых разных техниках и на самых разнообразных носителях. Ведь в гербах литературных и воображаемых, которые существуют даже не будучи не нарисованными (одного описания уже достаточно), индекс частотности зеленого цвета (sinople в терминах геральдики начиная с XV в.) гораздо выше, чем в реальных гербах. Что позволяет авторам задействовать богатую символику зеленого цвета. По этим вопросам см.: Pastoureau М. Traite d’heraldique, op. cit., p. 116-121.
474
Смешивание желтой краски с синей для получения зеленой является одним из важнейших вопросов истории цвета на Западе, который заслуживает особого рассмотрения в специальных научных трудах.
475
Об этом важнейшем изобретении, которое стало поворотным для истории цвета в Европе, см. прекрасный каталог выставки: Anatomie de la couleur. L’invention de Vestampe en couleurs. Paris et Lausanne, 1996; о зеленом цвете, см. p. 91-93.
476
См.: Shapiro А. Е. Artists’ Colors and Newton’s Colors // Isis, vol. 85, 1904, p. 600-630.
477
Французский живописец и гравер (1686-1755). - Прим. ред.
478
Cм. b: Bergeon S. et Martin E. La technique de la peinture frangaise au XVIIе siecle // Techne. La science au service de l’histoire de Part et des civilisations, t. 1, 1994, p. 65-78; об этом см. p. 72.
479
Напомним, что дрок, применяемый, как правило, для окрашивания в желтый, иногда использовался и для получения зеленого цвета.
480
Estienne H. Apologie pour Herodote. Geneve, 1566; nouvelle еd. par P. Ristelhuber, Paris, 1879, t. I, p. 26.
481
Словарь (лат.). - Прим. ред.
482
Ed. Wright T. A Volume of Vocabularies. London, 1857, p. 120-138. Этот текст, принадлежащий, видимо, к ранним сочинениям плодовитого в писательском отношении Иоанна Гарландского, был написан около 1218-1220 гг. См.: Saiani A., Vecchi G. Studi su Giovanni di Garlandia. Roma, 1956-1963, 2 vol.
483
Brunello F. Arti e mestieri a Venezia..., op. cit. (прим. 2). См. также уставы, опубликованные в: Monticolo G. I capitolari delle arti veneziane..., op. cit. (прим. 1), passim. Иногда цитируется труд: Bologna G. L’arte dei tintori in Venezia. Venezia, 1884, но мне так и не удалось с ним ознакомиться.
484
«Они будут отстранены от всякой службы и всяких должностей», говорится в одном флорентийском городском постановлении XV в. (повторяющем предыдущие законы), процитированном в: Rebora G. Un manuale di tintoria del Quattrocento, op. cit. (прим. 23), p. 4-6.
485
Цех Калимала — цех торговцев, получивший название по улочке, на которой были сосредоточены мастерские и лавки. — Прим. перев.
486
Staley E. The Guilds of Florence. Chicago, 1906, p. 149-153. Красильщики подразделяются на три группы: те, кто окрашивает сукно, производимое в самой Флоренции; те, кто окрашивает завезенное сукно; те, кто окрашивает шелковые ткани. Как и обычно, в каждой группе есть те, кто окрашивает в красный цвет, и те, кто окрашивает в синий.
487
Во Флоренции в XIV в. словом чомпи называют самых бедных представителей текстильного ремесла, а именно чесальщиков. В июле 1378 г. они подняли восстание и назначили своего предводителя главой ополчения; затем они попытались сломить олигархическую власть корпораций, создав три новых цеха, в том числе цех красильщиков. Но со временем восставшие разобщились, их правление оказалось несостоятельным, и торговцы с банкирами быстро вернули себе власть. Среди обширной литературы см.: Rodolico N. / Ciompi. Una pagina di storia del proletatio operaio. Firenze, 1945; de La Ronciere C. Prix et salaires a Florence au XIVе siecle (1280-1380). Rome, 1982, p. 771-790.
488
О постоянных волнениях среди флорентийских красильщиков: Doren A. Studien aus der Florentiner Wirtschaftsgeschichte. I: Die Florentiner Wollentuchindustrie. Stuttgart, 1901, S. 286-313.
489
Bedarride J. Les Juifs en France, en Italie et en Espagne au Moyen Age. Paris, 1867, p. 179-180; Depping L. Die Juden in Mittelalter. Leipzig, 1884, S. 136, 353, 401; Strauss R. Die Juden in Konigreich Sizilien. Leipzig, 1920, S.66-77.
490
Schaube A. Handelsgeschichte der romanischen Volker de s Mittelmeergebiets bis zum Ende der Kreuzzuge. Munchen — Berlin, 1906, S. 585.
491
См. увлекательную книгу: Bril J. Origines et symbolismes des productions textiles. De la toile et du fil. Paris, 1984, особенно p. 63-71.
492
Strokes W. Lives of the Saints from the Book of Lismore. Oxford, 1890, p. 266-267. Выражаю благодарность Лоране Боби, которая снабдила меня этой ссылкой.
493
Принятое во французской литературе обозначение африканских стран, населенных негроидной расой. — Прим. ред.
494
Boser-Sarivaxevanis R. Ареrcu sur la teinture en Afrique occidentale. Bale, 1969; Etienne-Nugue J. Artisanats traditionnels en Cote-d'Ivoire. Marseille, 1974; Teinture, op. cit. (прим. 4), p. 9-10.
495
Ernout A. et Meillet A. Dictionnaire etymologique de la langue latine, 4e ed. Paris, 1979, p. 212; Rey A., dir. Dictionnaire historique de la langue frangaise. Paris, 1993, t. I, p. 1022.
496
См., например, замечания Варрона, «О латинском языке», книга VI, глава 96.
497
Tingere нередко встречается у таких великих авторов, как Тертуллиан, Августин или Григорий Великий; напротив, в более «технических» литургических текстах это слово не употребляется. С VI—VII вв. его отовсюду вытесняет baptizare. Точно так же термины tinctio или tinctorium, которые иногда могли обозначать крещение, отныне заменяются на baptisma (или baptismum). См.: Blaise A. Le Vocabulaire latin des principaux themes liturgiques. Turnhout, 1966, p. 473-474, § 331.
498
Di Stefano G. Dictionnaire des locutions en moyen frangais. Montreal, 1991, p. 203.
499
Наказы, принимавшиеся на собраниях различных уровней, во время выборов в Генеральные штаты. — Прим. ред.
500
Рокцелла — разновидность лишайника, который растет на скалистых берегах. Из него получают прекрасный краситель красно-фиолетового цвета. Его закрепляют с помощью обычных протрав (урины, уксуса), но при этом он не очень устойчивый. В рецептурных книгах рокцеллу часто трудно отличить от лакмуса (который используют миниатюристы), так как они часто обозначаются одним и тем же латинским словом: folium.
501
Например, в большинстве сукнодельческих городов Италии в XIV-XV вв. (кроме Венеции): Staley Е. The Guilds of Florence, op. cit., p. 149-153; Guemara R. Les Arts de la laine a Verone aux XIVе et XVе siecles. Tunis, 1987, p. 150-151.
502
Например, в Руане (с XIII в.), в Лувьере и в большинстве сукнодельческих городов Нормандии: Mollat du Jourdain М. La draperie normande // Instituto internazionale di storia economica F. Datini (Prato), Produzionze, commercio, e consumo dei panni di lana (XII-XVII s.). Firenze, 1976, p. 403-422.
503
В Париже такое братство собиралось с XV по XVIII в. в церкви Святого Ипполита (ныне разрушенной) в предместье Сен-Марсель. В долгосрочной перспективе этот квартал, где в XVII в. расположилась королевская мануфактура Гобеленов со своей весьма активно развивающейся красильной мастерской, оказался занят парижскими красильщиками, которые по необходимости своего ремесла пользовались речкой Бьевр.
504
Париж, Национальный архив, Y 6/5, fol. 98.
505
О святом Маврикии и легенде о нем см.: Devisse J. et Mollat М. L’lmage du noir dans Vart occidental. Des premiers siecles chretiens aux grandes decouvertes. Fribourg, 1979, t. I, p. 149-204; Suckale-Redlefsen G. Mauritius. Der heilige Mohr. The Black Saint Maurice. Zurich — Houston, 1987.
506
Et resplenduit fades ejus sicut sol, vestimenta autem ejus facta sunt sicut nix (Мф 17:2; также: Мк 9:2-3; Лк 9:29).
507
Male Е. L’Art religieux du XIIе siecle en France. Paris, 1922, p. 93-96; Reau L. Iconographie de Vart chretien. Paris, 1957, t. II/2, p. 574-578.
508
Апокрифические тексты о чудесах, совершенных в детстве Иисусом Христом. — Прим. ред.
509
Л. Po (L. Reau, ibid., p. 288) ошибочно утверждает, что эпизод с Иисусом в мастерской красильщика отразился только на одном изображении (на заалтарном образе Педро Гарсиа де Бенабарре, ныне хранящимся в приходской церкви Аинсы близ Лериды в Каталонии). Есть и другие изображения, иллюстрирующие эту легенду, в частности миниатюры в рукописях: см. Pastoureau М. Jesus chez le teinturier. Couleurs et teintures dans l'Occident medieval. Paris, 1998, p. 19-20, особенно n. 5. По евангельской иконографии детства Христа в целом основательные сведения можно почерпнуть из: Kirschbaum Е., Hg. Lexikon der christlichen Ikonographie. Freiburg im Breisgau, 1971, Bd. Ill, Sp. 39-85 (“Leben Jusus”).
510
Латинские версии: Кембридж, Университетская библиотека, ms.G.G.1.1., fol. 36-36 v, и Гренобль, Муниципальная библиотека, ms. 1137, fol. 59 v-60; весьма любопытная версия на англо-нормандском, создание которой можно отнести к 1315-1325 гг.: Оксфорд, Бодлеанская библиотека, ms. Selden Supra 38, fol. 25-27 v. Рукопись содержит цикл из 60 миниатюр, посвященных детству Иисуса, две из них представляют эпизод, связанный с красильщиком из Тивериады.
511
Согласно ряду рукописей XIII-XIV вв., чудо, совершенное в мастерской тивериадского красильщика, считается первым чудом Иисуса после возвращения из Египта. Это говорит о том, что ему придавалось особое значение.
512
Мое исследование “Jesus chez le teinturier”, на которое я ссылаюсь выше, специально посвящено этому эпизоду из Евангелий детства.
513
Работы по иконографии Иуды довольно немногочисленны и в основном написаны давно. Лучшее обзорное исследование, посвященное проблеме рыжих волос: Mellinkoff R. Judas’s Red Hair and the Jews // Journal of Jewish Art, n° 9, 1982, p. 31-46, можно дополнить обширным трудом того же автора: Outcasts. Signs of Otherness in Northern European Art of the Late Middle Ages. Berkeley, 1993, 2 vol. (особенно vol. 1, p. 145-159). В противоположность мнению P. Меллинкофф, полезно будет также обратиться к диссертации: Porte W. Judas Ischariot in der bildenden Kunst. Berlin, 1883.
514
В изображении Тайной вечери в капелле дель Арена в Падуе. Черный нимб, обрамляющий рыжую шевелюру апостола-предателя, мы также видим у Фра Анджелико в изображении Тайной вечери в монастыре Сан-Марко во Флоренции.
515
Список этих атрибутов и их критическое изучение в обиходном иконографическом репертуаре, в частности, можно найти в: Reau L. Iconographie de Vart chetien. Paris, 1957, t. II/2, p. 406-410; Schiller G. Iconography of Christian Art. London, 1972, t. II, p. 29-30, 164-180, 494-501 et passim; Lexicon der christlichen Ikonographie. Freiburg im Breisgau, 1970, Bd. II, Sp. 444-448.
516
Mellinkoff R. The Mark of Cain, Berkeley. 1981.
517
Raynaud C. Images medievales de Ganelon // Felonie, trahison et reniements au Moyen Age. Montpellier, 1996, p. 75-92.
518
Grisward J. Archeologie de l'epopee medievale. Paris, 1981, passim.
519
См. корпус изображений, собранных P. Меллинкофф, Outcasts, op. cit. (особенно vol. 2, fig. VII/1-38).
520
Быт 25:25. (В синодальном переводе: «красный, весь, как кожа, косматый». — Прим. перев.)
521
Нужно заметить, что в изобразительном искусстве Средневековья ни Иаков, ни Ревекка не показываются с отрицательной стороны. Их хитрости и несправедливое поведение по отношению к Исаву не вызывают негативной оценки ни у богословов, ни у художников.
522
По иконографии Саула см.: Lexikon der christlichen Ikonographie. Freiburg im Breisgau, 1972, Bd. IV, Sp. 50-54.
523
По иконографии Каиафы, который часто изображается темнокожим, рыжеволосым и курчавым — и этот тройной знак отличия делает его еще более отрицательным персонажем, чем Пилат или Ирод, см.: ibid., Sp. 233- 234.
524
1 Цар 16:12. В отличие от вульгаты, где употреблено слово rufus, в некоторых переводах на современный французский язык, а частности в протестантских библиях, вместо «рыжий» говорится «белокурый». Следует ли в этом видеть отголосок неприятия рыжего цвета волос как несовместимого с идей красоты? Работы по иконографии Давида многочисленны; их обзор, а также развернутую библиографию по этому вопросу см. в: Lexikon der christlichen Ikonographie. Freiburg im Breisgau, 1968, Bd. I, Sp. 477-490. (Ср. в синодальном переводе: «Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом». — Прим. перев.)
525
О сходстве между Сетом и Тифоном см.: Vian F. Le mythe de Typhee... // Elements orientaux dans la mythologie grecque. Paris, 1960, p. 19- 37; Russell J. B. The Devil. Ithaca and London, 1977, p. 78-79, 253-255.
526
Рыжий (лат.). — Прим. ред.
527
Рыжеватый (лат.). — Прим. ред.
528
См. справочное издание: Hand W. D. A Dictionary of Words and Idioms Associated with Judas Iscariot. Berkeley, 1942.
529
Evans E. C. Physiognomies in the Ancient World // Transactions of the American Philosophical Society, n.s., vol. 59, 1969, p. 5-101.
530
Bchtold-Stubli H., Hg. Handwdrterbuch des deutschen Aberglaubens. Berlin und Leipzig, 1931, Bd. III, Sp. 1249-1254.
531
По пословицам и поговоркам см.: Walter Н. Proverbia sententiaeque latinitatias Medii ас Recentioris Aevi. Gottingen, 1963-1969, 6 vol; Hassell J. W. Middle French Proverbs, Sentences and Proverbial Phrases. Toronto, 1982; Di Stefano G. Dictionnaire des locutions en moyen frangais. Montreal, 1991.
532
О бытовании этих суеверий в Новое время см. небольшую книгу: Fauche X. Roux et rousses. Un eclat tres particulier. Paris, 1997.
533
По поводу легенды о Фридрихе Барбароссе: Pacaut М. Frederic Ваrberousse, 2е ed. Paris, 1991; Opll F. Friedrich Barbarossa, 2. Aufl. Darmstadt, 1994.
534
Trotter M. Classifications of Hair Color // American Journal of Physical Anthropology, vol. 24, 1938, p. 237-259; картину разнообразит: Neel J. V. Red Hair Colour as a Genetical Character // Annals of Eugenics, vol. 17, 1952—1953, p. 115-139. См. также различные работы, приведенные в: Mellinkoff R. Judas’ Red Hair and the Jews, art. cit., p. 46, n. 40.
535
В противоположность широко распространенному ложному представлению, рыжих в Скандинавии, а также в Ирландии и Шотландии не больше, чем блондинов. Напротив, здесь они, как и в средиземноморских обществах, оказываются в меньшинстве, даже если это меньшинство в количественном и пропорциональном отношении более весомо, чем в других странах.
536
Расхожее подтверждение этому факту обнаруживается в современном спортивном дискурсе, где всегда отмечается присутствие в команде (особенно футбольной) игрока с рыжими волосами; такого внимания не обращают ни на брюнетов, ни на блондинов, ни даже на лысых. Рыжий на спортплощадке, как и любом другом месте, — это отклонение от нормы.
537
Le Blason des couleurs (вторая часть ошибочно приписывается сицилийскому герольду), Hippolyte Cocheris ed., Paris, 1860, p. 125. Как во всей литературе XV в., посвященной символике, рыжий в этом трактате приравнивается к цвету дубленой кожи и, стало быть, имеет главным образом коричнево-красный оттенок. В конце XV в. многие авторы забавляются тем, что устраивают соревнования между черным цветом и цветом дубленой кожи, с тем чтобы определить, какой оттенок самый уродливый. Черный не всегда оказывается в проигрыше. См., например: Le Debat de deux demoiselles, l'une nommee la Noire et l'autre la Tannee // Recueil de poesies frangaises des XVе et XVIе siecles. Paris, 1855, t. V, p. 264-304.
538
О средневековой символике цветов: Pastoureau М. Figures et couleurs. Etudes sur la symbolique et la sensibilite medievales. Paris, 1986, p. 15-57, 193-207; Id. Jesus chez le teinturier. Couleurs et teintures dans l'Occident medieval. Paris, 1998.
539
См. многочисленные примеры, собранные в: Langlois Е. Table des noms propres de toutes natures compris dans les chansons de geste imprimees. Paris, 1904; а также в: Flutre L.-F. Table des noms propres... figurant dans les romans du Moyen Age... Poitiers, 1962; и особенно в: West G. D. An Index of Proper Names in French Arthurian... Romances (1150-1300). Toronto, 1969—1978, 2 vol. О прозвищах «Красный» и «Рыжий» в артуровских романах см.: Brault G. J. Early Blazon. Heraldic Terminology in the Twelfth and Thirteenth Centuries with Special Reference to Arthurian Literature. Oxford, 1972, p. 33.
540
Приводятся в порядке убывающей популярности. Pastoureau М. Les couleurs aussi ont une histoire // L’Histoire, n° 92, septembre 1986, p. 46-54.
541
Sansy D. Chapeau juif ou chapeau pointu? Esquisse d’un signe d’infamie // Symbole des Alltags, Alltag der Symbole. Festschrift fur Harry Kuhnel, Graz, 1992, S. 349-375. Можно также обратиться к еще неизданной диссертации того же автора: L’Image du juif en France du Nord et en Angleterre du XIIе au XVе siecle. Paris, universite de Paris-X Nanterre, 1994.
542
Вопрос о позорных или отличительных знаках, вмененных некоторым социальным категориям на средневековом Западе, еще не стал предметом рассмотрения в обобщающих работах, действительно заслуживающих внимания. Я вынужден снова адресовать к давнему и наспех написанному исследованию: Robert U. Les Signes de Vinfamie au Moyen Age. Paris, 1891, замену которому мы ждем с нетерпением. Полезные сведения можно найти в большинстве исследований по истории средневекового костюма, например в: Danckaert W. Unehrliche Leute. Die verfemten Berufe. Bern und Munchen, 1963; Blumenkranz B. Le Juif medieval au miroir de Vart chretien. Paris, 1966; Eisenbart L. C. Kleiderordnungen der deutschen Stdte zwischen 1350 und 1700. Gottingen, 1962.
543
Например, Б. Блюменкранц или P. Меллинкофф, работы которых являются вместе с тем наиболее значимыми. Среди их многочисленных трудов укажем следующие: Blumenkranz В. Le Juif medieval au miroir de Vart chretien, op. cit.; Les Juifs en France. Ecrits disperses. Paris, 1989. Mellinkoff R. Outcasts, op. cit. С осторожностью также можно обратиться к: Rubens А. A History of Jewish Costume. London, 1967; Finkelstein L. Jewish Self-Government in the Middle Ages, new ed. Wesport, 1972. Отныне лучшее исследование, специально посвященное кружку: Sansy D. Marquer la difference. L’imposition de la rouelle aux XIIIе et XIVе siecles // Medievales, n° 41, 2001, p. 15-36.
544
Singermann F. Die Kennzeichnung der Juden im Mittelalter. Berlin, 1915, и особенно: Kisch G. The Yellow Badge in History // Historia Judaica, vol. 19, 1957, p. 89-146. Существуют, однако, многочисленные исключения из этой тенденции к унификации на базе желтого цвета. Так, в Венеции желтый головной убор со временем был заменен на красный: Ravid В. From yellow to red. On the Distinguished Head Covering of the Jews of Venice // Jewish History, vol. 6, 1992, fasc. 1-2, p. 179-210.
545
Обширную библиографию можно найти в статьях Киша и Рейвида, указанных в предыдущем примечании. Также сошлемся на труд Даниэль Санси, упомянутый ранее.
546
Перевод фрагмента текста, опубликованного де Лорьером в: Ordonnances des rois de France de la troisieme race. Paris, 1723, t. I, p. 294. Перевод полного текста этого ордонанса см. в: Nahon G. Les ordonnances de saint Louis et les Juifs // Les Nouveaux Cahiers, t. 23, 1970, p. 23-42. О Людовике Святом и евреях: Le Goff J. Saint Louis. Paris, 1996, p. 793-814. (Пер. на русский: Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. М.: Ладомир, 2001. С. 597-613. — Прим. перев.)
547
Pastoureau М. L’Etoffe du Diable. Une histoire des rayures et des tissus rayes. Paris, 1991.
548
Сегодня белка — это маленький, симпатичный, веселый, игривый и безобидный зверек, в Средневековье — ничего подобного. Белка — это «лесная обезьяна», как пишет один немецкий автор XIV в. Она считается ленивой, похотливой, глупой и жадной. Большую часть времени она спит, безобразничает с себе подобными, играет и скачет по деревьям. Кроме того, она запасает еду, которая ей вовсе не нужна, — а это большой грех — и тут же забывает, куда ее припрятала, — а это признак великой глупости. Ее рыжая шерсть — видимый знак ее дурной природы.
549
Пока не появилось обобщающего труда, посвященного пятнистости, см.: Pastoureau М. Figures et couleurs, op. cit., p. 159-173, 193-207.
550
Bertrand P.-M. Histoire des gauchers en Occident. Des gens a Venvers. Paris, 2002.
551
Имеющаяся в нашем распоряжении литература по вопросу о леворукости сама по себе является показательной с исторической точки зрения. Огромно число исследований в области нейропсихологии и анатомии коры головного мозга; во всех случаях авторы прилагают усилия, чтобы представить левшей как «нормальных людей», однако настойчивость, с которой они это делают, кажется, выдает обратное: быть левшой — это болезнь, по крайней мере, болезнь социальная. Недавно я зашел в большой книжный магазин в Латинском квартале Парижа, чтобы поискать книги по проблеме леворукости, и продавец предложил мне посмотреть в разделе «Инвалидность» (может, еще стоило поискать работы о левшах в секции «Преступность»?). Кроме прекрасной работы П.-М. Бертрана, указанной в предыдущем примечании, см. прежде всего: Jursch Н. und J. Hnde als Symbol und Gestalt. Berlin, 1951; Fritsch V. Links und Recht in Wissenschaft und Leben. Stuttgart, 1964; Kourilsky R. et Grapin P., dir. Main droite et main gauche. Paris, 1968; Hecaen H. Les Gauchers. Paris, 1984 (важная библиография); лучшим антропологическим исследованием, на мой взгляд, все же остается: Hertz R. La preeminence de la main droite. Etude sur la polarite religieuse // Melanges de sociologie religieuse et de folklore, 1928, p. 84-127; его можно дополнить: Needham R., dir., Right and Left. Essays on Dual Symbolic Classification. Chicago, 1973.
552
Напомним в этой связи, что в старо- и среднефранцузском слово gauche, образованное от франкского глагола *wankjan, означающего «качаться», обозначало нечто «косое», «кривое», «деформированное» (значение, которое сохранилось в современном французском). Для обозначения левой стороны используется слово senestre, образованное от латинского sinister, которое уже имело двойное значение «левый» и «неблагоприятный». Только в XVI в. слово senestre окончательно вытесняется словом gauche, которым теперь обозначается левая рука или левая сторона.
553
Существует, однако, исключение, так же как и в случае с рыжим цветом выполняющее регулирующую функцию: Аод, судия израильский, — левша; используя эту свою особенность, он убивает царя Моавитского и освобождает израильтян от моавитян (Суд 3:15-30).
554
Матф 25:32-33, 41.
555
Menestrier C.-F. Le Veritable Art du blason et l'Origine des armoiries. Paris, 1671, p. 109-194. См. того же автора: Origines des armoiries, 2e ed. Paris, 1680, p. 5-112, 135-158. Позвольте также порекомендовать мою статью, где представлена библиография по проблеме происхождения гербов: Origine, apparition et diffusion des armoiries. Essai de bibliographie // Academie international d’heraldique, L’Origines des armoiries, Actes du IIу colloque international d’heraldique (Brixen/Bressanone, octobre 1981). Paris, 1983, p. 97-104.
556
Теория рунического происхождения гербов, которую прежде энергично отстаивал Б. Кёрнер (Коеrner В. Handbuch der Heroldskunst. Gorlitz, 1920-1930, 4 Bde.), ныне полностью отброшена, в том числе и немецкими специалистами по геральдике. Зато серьезные сторонники остаются у теории догеральдической германской эмблематики. См.: Kittel К. Wappentheorien // Archivum heraldicum, 1971, p. 18-26, 53-59.
557
Prinet M. De Vorigine orientale des armoiries europeennes // Archives heraldiques suisses, t. 26, 1912, p. 53-58; Mayer L. A. Saracenic Heraldry. A Survey. Oxford, 1933, p. 1-7.
558
Обзор наших сведений по вопросу см. в: Pastoureau М. Traite d’heraldique, 2е ed. Paris, 1993, p. 20-36, 298-310.
559
Galbreath D. L. Manuel du blason. Lausanne, 1942, p. 28-43; Pastoureau M. L’apparition des armoiries en Occident: etat du probleme // Bibliotheque de l’Ecole des chartes, t. 134, 1976, p. 281-300; Id., La genese des armoiries: emblematique feodale ou emblematique familiale? // Cahiers d’heraldique du CNRS, t. 4, p. 91-126.
560
Большой щит, на котором в конце XI — в начале XII в. появляются первые протогеральдические знаки, имеет миндалевидную, изогнутую по вертикальной оси форму, заостренную книзу, так, чтобы его можно было втыкать в землю. Размеры такого щита довольно внушительные: в высоту — более 1,5 м, в ширину — от 60 до 80 см. Он закрывает воина от ступней до подбородка, а после сражения используется в качестве носилок. Он собран из пластин, ais (досок), скрепленных металлической обшивкой, которая может быть разной формы. Самая распространенная представляла собой кайму в сочетании с чем-то вроде большой восьмиконечной звезды с расходящимися из центра лучами. С внутренней стороны щит подбивается, с внешней — обивается полотном, кожей, шкурой. Посередине щита крепится металлическая, более или менее выступающая бляха, умбон, bocle; на парадных щитах такие умбоны бывали весьма искусной чеканки, иногда в них вставлялись стеклянные украшения. Если рыцарь не сражается, он может перекинуть щит через плечо или повесить на шею с помощью ремня с регулируемой длиной, guige. В бою он пропускает руку, в которой держит удила, через enarmes, более короткие ремни, закрепленные крестом или косым крестом, так что щит удерживается на предплечье. Кроме такого миндалевидного щита в сражениях использовались и другие щиты. В XII в. еще не полностью вышел из употребления древний круглый щит каролингских воинов. Но, видимо, круглыми щитами пользовались скорее пехотинцы и воины вспомогательных подразделений.
561
Точкой отсчета для новых исследований должна стать книга: Brault G. J. Early Blazon. Heraldic Terminology in the Twelfth and Thirteenth Centuries with Special Reference to Arthurian Literature. Oxford, 1972.
562
Военное знамя. - Прим. ред.
563
Точкой отсчета (лат.) - Прим. перев.
564
См. последние наработки: Musset M. La Tapisserie de Bayeux. La Pierre-qui-vire, 1989, p. 15-16. Некоторые исследователи между тем полагают, что ковер был сделан не в Англии, а на берегу Луары, в аббатстве Сен-Флоран близ Сомюра, возможно, по приказу самого Вильгельма.
565
CNRS, Catalogue international de Vceuvre de Limoges, t. I, L’Epoque romane. Paris, 1988, n° 100.
566
Huchet E. L’Email de Geoffroi Plantegenet au musee du Mans. Paris, 1878.
567
Gauthier M.-M. Emaux du Moyen Age occidental. Fribourg, 1972, p. 81-83, 327; fig. n° 40.
568
Сколько на нем изображено львов, не очень понятно. Большинство авторов считает, что их всего шесть; однако Роже Арминьи предложил считать, что их восемь: так как на видимой половине щита Жоффруа мы видим четырех львов, значит на другой половине их столько же. Harmignies R. A propos du blason de Geoffroi Plantegenet // L’Origine des armoiries, op. cit., p. 55-63.
569
Galbreath D. L. Manuel du blason, op., cit., p. 25-26; Mathieu R. Le Systeme heraldique frangais. Paris, 1949, p. 18-19; Viel R. Les Origines symboliques du blason. Paris, 1972, p. 1972, p. 29-30.
570
Jean de Marmoutier. Historia Gaufredi Normannorum ducis et comitis Andegavorum, ed. L. Halphen et Poupardin // Chroniques des comptes d’Anjou... Paris, 1913, p. 179.
571
Печать описана в: Demay G. Inventaire des sceaux de la Normandie. Paris, 1881, n° 20.
572
Было опубликовано несколько очень сходных списков самых древних «гербовых» печатей (в широком смысле этого слова). Наиболее удовлетворительны списки, составленные в: Galbreath D. L. Manuel du blason, op., cit., p. 26-27, и Wagner A. R. Heralds and Heraldry in the Middle Ages, 2 ed. London, 1956, p. 13-17). В них учитываются все печати до 1160 г. с явно геральдическими (щит с гербом) или же только с протогеральдическими чертами (знамя, гонфалон, куртка-налатник, конский потник либо же поле печати украшено знаками, которые со временем станут настоящими гербовыми фигурами). Несмотря на некоторые пробелы, два эти списка могут стать весьма солидной точкой отсчета для будущих исследований. Так, проанализировав пару десятков учтенных здесь печатей, можно заключить следующее: протогеральдические знаки, видимо, сначала изображались на знамени или на гонфалоне, а потом уже на щите; они появляются повсеместно в Западной Европе в промежутке между 1120 и 1260 гг.; наконец, до 1140-х гг. в составе этих знаков геометрические фигуры встречаются чаще, чем звериные или растительные.
573
Кроме статьи “La genese des armoiries...”, указанной выше, см.: l'origine des armoiries: un probleme en voie de solution? // Genealogica et Heraldica. Recueil du XIVе congres international des sciences genealogique et heraldique (Conpenhague, 1980). Copenhague, 1981, p. 241-254.
574
Знамена (лат.). - Прим. ред.
575
Я заимствую этот термин у Р. Фоссье: Fossier R. Enfances de l'Europe (Xe-XIIe s.). Aspects economiques et sociaux. Paris, 1982, 2 vol. См. также: Barthelemy D. L'Ordre seigneurial (XIe-XIIe s.). Paris, 1990 (Nouvelle histoire de la France medievale, vol. 3).
576
Bourin М., dir. Genese medievale de Vanthroponymie moderne. Tours, 1900-1997, 5 tomes en 7 vol.
577
Platelle H. Le probleme du scandale. Les nouvelles modes masculines aux XIе et XIIе siecles // Revue beige de philologie et d’histoire, t. 62, 1975, p. 1071-1096.
578
См. главу "Рождение черно-белого мира".
579
О происхождении, появлении и начальном распространении гербов: L'Origine des armoiries, op. cit.; Fenske L. Adel und Rittertum im Spiegel friiher heraldischer Formen // Fleckenstein J., Hg. Das ritterliche Turnier im Mittelalter. Gottingen, 1985, p. 75-160; Pastoureau M. La naissance des armoiries // Cahiers du Leopard d’or, vol. 3, 1994 (Le XIIе siecle), p. 103-122.
580
Налатник, накидка, надеваемая поверх доспеха. - Прим. ред.
581
О распространении гербов на все общество в целом и, шире, об отношениях геральдики и общества: Seyler G. A. Geschichte der Heraldik, 2. Aufl., Nurnberg, 1890, S. 66-322; Mathieu R. Le Systeme heraldique frangais, op. cit., p. 25-38; Galbreath D. L. et Jequier L. Manuel du blason. Lausanne, 1977, p. 41-78; Pastoureau M. Traite d'heraldique, op. cit., p. 37-65.
582
Некоторые примеры приведены в: Van Caeneghem R. С. La preuve dans l'ancien droit beige, des origines a la fin du XVIIIе siecle // Recueil de la Societe Jean Bodin, vol. 17, 1965, p. 375-430.
583
В связи с Францией см. прекрасное исследование: Chassel J.-L. L'Usage du sceau au XIIе siecle // Cahiers du Leopard d’or, vol. 3, 1994, p. 61-102.
584
Pastoureau M. Les sceaux et la fonction sociale des images // Cahiers du Leopard d’or, vol. 5, 1996, p. 275-303.
585
Вопреки чрезвычайно распространенному мнению, эта практика была далеко не всеобщей. Главным образом она касалась важных особ (императоров, королей, пап, князей и прелатов), реже — частных лиц. В германских странах матрицу дворянской печати зачастую уничтожали только тогда, когда пресекался род или ветвь рода; символически она существовала до тех пор, пока существовала фамилия и герб семьи или ветви. По этим вопросам см.: Ewald W. Siegelkunde. Munchen und Berlin, 1914, S. 111-116; Bresslau H. Handbuch der Urkundenlehre..., 2. Aufl., Leipzig, 1931, Bd. II, S. 554-557; Eygun F. Sigillographie du Poitou jusquen 1515. Poitiers, 1938, p. 79-83; Fawtier R. Ce qu'il advenait des sceaux de la couronne a la mort du roi de France // Comptes rendus de l’Academie des inscriptions et belles-lettres, 1938, p. 522-530. См. также: Baumgarten P. M. Das ppstliche Siegelamt bei Tode und nach Neuwahl des Papstes // Romische Quartelschrift fur christliches Altertum..., Bd. 21, 1907, p. 32-42.
586
Так, в Соборе Парижской Богоматери в склепе Изабеллы де Эно, первой жены Филиппа Августа, умершей в 1190 г., была обнаружена серебряная печать-матрица, вырезанная специально для похорон и явно не оставившая после себя ни одного оттиска. Douet d’Arcq L. Archives de l'Empire... Collection de sceaux. Paris, 1863, t. I, n° 153. Ныне она хранится в Британском музее.
587
Однако само собой разумеется, что если право на герб имеет каждый, это вовсе не значит, что у всех в обязательном порядке есть гербы. Так, некоторые сословия и социальные группы, особенно в ранний период, пользуются гербами чаще, чем другие: это знать, городской патрициат, высшие слои магистрата и купечества, богатые ремесленники. Это немного напоминает современные визитные карточки: визитка может быть у каждого, но не у каждого она есть. Лучший обзор французского гербового права см. в исследовании Реми Матье, указанном выше. По германским странам см.: Seyler G. А. Geschichte der Heraldik, op. cit., p. 226-322; Hauptmann F. Das Wappenrecht. Bonn, 1896. По Англии: Fox-Davies A. C. The Right to Bear Arms, 2 ed. London, 1900; Wagner A. R. Heraldry // Poole A. L., ed. Medieval England. Oxford, 1958, p. 338-381. По Италии: Cavallar О., Degenring S. and Kirshner J. A Grammar of Signs. Bartolo da Sassoferato’s Tract on Insignia and Coats of Arms. Berkeley, 1994.
588
Я сознательно употребляю здесь слова обыденного языка, а не геральдические термины. В конце Средневековья герольды добавили еще один цвет — фиолетовый (пурпур) — и цветов стало уже семь. Однако до XVII в. его использовали весьма ограниченно.
589
Круги золотого цвета. - Прим. ред.
590
О бризурах: Bouly de Lesdain L. Les brisures d’apres les sceaux // Archives heraldique suisses, t. 10, 1896, p. 73-78, 98-100, 104-116, 121-128; Gayre of Gayre R. Heraldic Cadency. The Development of Differencing of Coat of Armes. London, 1962; Academie internationale d’heraldique, Brisure, augmentations et changement d’armoiries. Actes du Vе colloque international d’heraldique (Spolete, octobre 1987). Bruxelles, 1988.
591
Чтобы не перегружать эту главу (претендующую на роль вводного обзора, а не подробного научного рассмотрения каждого отдельного случая) примечаниями, я сознательно не даю здесь исчерпывающих ссылок для всех примеров, которые здесь лишь упоминаются. Большинство этих примеров заимствованы из трудов, указанных в примечаниях выше, а также из: Brault G. J. Early Blazon, op.cit. и из основных французских, английских и немецких учебников по геральдике.
592
Это латинское выражение, тем не менее, возникло не раньше XVII в., тогда как французское armes parlantes встречается с XIV в. Английские авторы вместо canting arms иногда используют выражение punning arms (герб-каламбур).
593
Этого мнения придерживаются все французские и английские авторы XIX в. В современную эпоху запоздалое проявление такой дискредитации в отношении говорящих гербов обнаруживается в городской геральдике: многие маленькие французские города, названия которых можно легко проассоциировать с говорящей фигурой, отказываются от использования такой фигуры при создании гербов. Людям кажется, что такая говорящая ассоциация выглядит в той или иной степени нелепо и имеет мало общего с геральдическими принципами. Мнение ошибочное, но, к сожалению, неискоренимое. Настороженное отношение к говорящим эмблемам также встречается в сфере товарных знаков, по крайней мере, во Франции.
594
Candavene = Champ d’Avoine, т. е. буквально: «поле овса». — Прим. перев.
595
Гербы воспроизводились в ряде германских гербовников, в частности, около 1330-х гг. в знаменитом «Цюрихском гербовнике». См.: Merz W., Hegi F. Die Wappenrolle von Zurich... Zurich, 1930, n° 10, 11.
596
В «Общем гербовнике» Франции 1696 г., создание которого было предпринято скорее с фискальными, чем с собственно геральдическими целями, в избытке присутствуют нелепые говорящие гербы, официально приписанные физическим или юридическим лицам, которые не удосужились или отказались зарегистрировать в этом огромном общем гербовнике королевства свои настоящие гербы (и заплатить за это обязательную регистрационную пошлину...). Нотариусу Ниверне по имени Пьер Пепен был пожалован герб с изображением в серебряном поле три черные виноградные косточки [pepin]; в Канне некоему Ле Марье [букв. Женатому], адвокату по профессии, в качестве гербовой фигуры достались оленьи рога; а в Париже господин Бобо получил щит, где была изображена рука с пораненным и перевязанным указательным пальцем! Французская геральдика XVII в. не чуралась ни юмора, ни каламбуров. Несколькими годами ранее один геральдист составил для дедушки Жана Расина, великого драматурга Расина, «говорящий» герб с изображением крысы [rat] и лебедя [cygne]. См.: Mathieu R. Le Systeme heraldique frangais, op. cit., p. 75-86; Pastoureau M. Traite d’heraldique, op. cit., p. 68- 70. Сходные примеры, которые кажутся нам неудачным каламбуром или признаком дурного вкуса, встречаются также и в средневековых гербах и печатях: в XIV в. декан капитула Сен-Жермен д’Осер якобы имел печать с изображением обезьяны, окруженной звездами (обозначающими воздух) и стиснувшей лапы за спиной (= singe-air-mains-dos-serre) [букв, «обезьяна-воздух-лапы-спина-сжимает» — набор слов, омофоничный «Сен-Жермен д’Осер». — Прим. перев.]. К сожалению, ни одного оттиска этой удивительной печати до нас не дошло. См.: Gevaert Е. L’Heraldique, son esprit, son langage et ses applications. Bruxelles, 1930, p. 68.
597
Douet d’Arcq L. Archives de l'Empire..., op., cit., t. I, n° 1298.
598
London H. S. Aspilogia II. Rolles of Arms Henry III. London, 1967, p. 155, n° 203.
599
От mal (дурно, плохо) и traverser (переходить, пересекать). — Прим. перев.
600
Название города происходит от нем. Muhlhausen: Muhl — мельница, и Hausen — дома. — Прим. перев.
601
Висконти, герцоги Милана и графы Павии, сначала были сеньорами Ангварии (Anguaria), области, название которой напоминает слово «змея» (anguis). Возможно, что их знаменитая гербовая фигура в виде «змея» (драконоподобной змеи) была исходно говорящей и была связана с названием этой области. Но в середине XIV в. складывается следующая героическая легенда. Бонифаций, правитель Павии, женится на Бланке, дочери герцога Миланского. У них рождается сын. Пока отец сражается против сарацин, огромный змей похищает сына из колыбели и пожирает его. По возвращении из крестового похода Бонифаций отправляется на поиски змея. После многочисленных перипетий он обнаруживает его в лесу и между ними происходит яростная битва. С божьей помощью ему удается победить змея и заставить его изрыгнуть ребенка, который чудесным образом оказывается жив. В этой легенде присутствуют все повествовательные признаки сказки. Кроме того, она объясняет, почему у Висконти на гербе и в качестве нашлемника мы видим змея, изрыгающего ребенка. Остается выяснить происхождение фигуры ребенка на гербе и как в связи с этой эмблемой сложилась легенда. К сожалению, она до сих пор не становилась предметом научного изучения.
602
Cм.: Academie internationale d’heraldique, Le Cimier: mythologie, rituel, parente, des origines au XVIе siecle, Actes du VIе colloque international d’heraldique (La Petite-Pierre, octobre 1989), Bruxelles, 1990, p. 360, n. 22.
603
Большая семейная группа, связанная кровными узами, брачными союзами, общим земельным владением. — Прим. ред.
604
Ранний геральдический язык, долгое время не интересовавший ученых, после 1960-х гг. стал предметом исследования в нескольких серьезных трудах, написанных американским профессором Джерардом Дж. Бролтом и его учениками, которые изучили старофранцузский и англо-нормандский варианты этого языка, главным образом на материале гербовников и литературных текстов: Brault G. J. Early Blazon, op. cit.; Barstow A. M. A Lexicographical Study of Heraldic Terms in Anglo-Norman Rolls of Arms (1300-1350). University of Pennsylvania Press, 1974. К изучению немецкого и нидерландского геральдических языков ученые практически не приступали. Мы по-прежнему вынуждены обращаться к старому труду: Seyler G. A. Geschichte der Heraldik, op. cit., S. 6-70.
605
О блазонировании (весьма старательном) гербов на латыни флорентийскими нотариусами XIV в. см.: Klapish-Zuber С. et Pastoureau М. Parente et identite: un dossier florentin du XIVе siecle // Annales. ESC, vol. 5, 1988, p. 1201-1256.
606
В узком смысле (лат.). - Прим. ред.
607
По поводу средневекового нашлемника см. главным образом указанные выше “Actes du VIе colloque international d’heraldique”, вышедшие по результатам коллоквиума, организованного Международной академией геральдики.
608
Позвольте адресовать к моим статьям: «L’apparition des armoiries...» и «La genese des armoiries... », на которые я ссылаюсь выше.
609
Заметим, что на единственной сохранившейся печати Жоффруа, привешенной к документу, датированному 1149 г., нет ни следов нашлемника, ни герба (Париж, Национальный архив, Печати, N 20).
610
См.: Duby G. Le Dimanche de Bouvines. Paris, 1973, p. 41.
611
Эдуарда Плантагенета (1330-1376), старшего сына короля Англии Эдуарда III. — Прим. перев.
612
В этой связи подчеркнем, что средневековый нашлемник, в отличие от щита, лишь в очень редких случаях описывается герольдами и авторами позднего Средневековья.
613
В частности, популярность павлина как символического объекта была, кажется, столь же высока, как и в греческой античности. Он заслуживает глубокого, междисциплинарного изучения в долговременной перспективе.
614
См. в образец в Armorial Bellenville (ок. 1370-1390), Париж, Национальная библиотека Франции, ms. fr. 5230, fol. 20 r (см. также fol. 42).
615
По поводу бризур можно обратиться к: Actes du Vе colloque international d’heraldique, Brisures, augmentations..., op. cit.
616
Guenee B. Les genealogies entre l'histoire et la politique: la fierte d’etre capetien en France au Moyen Age // Annales. ESC, vol. 33, 1978, p. 450-477.
617
Lecouteux C. Melusine et le Chevalier au cynge. Paris, 1982.
618
Wagner A. R. The Swan Badge // Archaeologia, 1959, p. 127-130.
619
Женщина, обращающаяся в крылатую змею, героиня кельтских и средневековых легенд. Согласно одному из вариантов легенды, она является родоначальницей и покровительницей рода Лузиньянов. — Прим. ред.
620
Loutsch J.-C. Le cimier au dragon et la legende de Melusine // Academie international d’heraldique. Le Cimier, op. cit., p. 181-204.
621
А в ряде случаев и еще дольше, по крайнем мере в высших слоях аристократии. Вспомним, что представляло из себя понятие «расы» во Франции и в Англии в XVI и XVII вв. См. Jouanna A. L’ldee de race en France au XVIе siecle. Montpellier, 1981.
622
О нашлемнике в Польше: Kuczinski S. Les cimiers territoriaux en Pologne medievale // Le Cimier, op. cit., p. 169-179.
623
Я употребляю здесь слово «флаг», drapeau, в широком значении, охватывающем большинство вексилларных знаков, которые используются в Западной Европе с XVII в. по наши дни; сегодня это слово имеет более узкое и более специальное значение. Только в 1600-х годах за словом drapeau во французском языке окончательно закрепится исключительно вексилларный смысл; прежде оно означало просто небольшой кусок сукна, drap, то есть шерстяной ткани, или даже просто лоскут. Медиевисты избегают этого слова и с полным основанием предпочитают вместо него использовать термины banniere или enseigne, или даже латинское слово vexillum.
624
На ум приходит, в частности, судьба любопытной книги Арнольда ван Геннепа: Arnold van Gennep. Traite comparatif des nationalites. Les elements exterieurs de la nationalite. Paris, 1923. Незаконченный, написанный слишком рано, одновременно увлекающий и разочаровывающий труд не вошел в историю и сегодня о нем часто забывают, когда речь заходит о наследии великого ван Геннепа. Факт значимый и одновременно достойный сожаления.
625
Библиографию, посвященную работам о флагах, можно найти в справочнике: Smith W. The Bibliography of Flags of Foreign Nations. Boston, 1965. Пособия по вексиллологии в большом количестве издаются на всех языках (особенно на английском); часто они довольно посредственного качества. Из изданий на французском можно выделить: Smith W., Pasch G. Les Drapeaux a travers les ages et dans le monde entier. Paris, 1976 (перевод и адаптация американского издания, содержащего множество ошибок и исторических натяжек). Зато можно найти серьезные исследования по истории того или иного конкретного флага. Например: Wentsche P. Die deutschen Farben. Heidelberg, 1955; Henningsen H. Dannebrog og flagforing til sos. Kbenhavn, 1969. Особое место в вексиллологической литературе занимают превосходные труды замечательного ученого Отфрида Нойбекера, в частности: Neubeскеr О. Fahne // Reallexikon zur deutschen Kunstgeschitchte. Munchen, 1972, H. 108.
626
Из всего многообразия вексилларных знаков, современная французская терминология которых пока не совсем устоялась, специалисты по геральдике имеют обыкновение обозначать словом «знамя», banniere, полотнище прямоугольной формы, широкий край которого зафиксирован на древке. Это нечто вроде гонфалона без хвоста. В XII в. именно на знаменах, которые широко использовались в феодальную эпоху сеньорами, собравшими в поход своих вассалов, преимущественно изображались первые гербы. Помимо этого узкого значения, связанного с феодальными структурами и организацией похода, слово banniere может у некоторых авторов приобретать более расплывчатый смысл, соответствующий старофранцузскому enseigne или латинскому vexillum, и обозначать всякого рода эмблематические знаки большого размера, водруженные на древко. С XVII в. слово enseigne, до тех пор имевшее весьма общее значение, тоже приобретает более специальный смысл и начинает, как правило, обозначать военную командную эмблему, служащую сигналом к сбору войск. Что касается слова «штандарт», etendard, то оно изначально обозначает знамена треугольной формы, основание которых закреплено на древке, а свободный конец развевается на ветру; впоследствии штандарт приобретает более квадратную форму и слово в большей степени специализируется на обозначении знамен кавалерийских частей.
627
Neubecker O. Fahnen und Flaggen. Leipzig, 1939, S. 1-10 et passim.
628
Морские навигационные карты XIII-XVI вв. - Прим. ред.
629
Историкам как-нибудь стоит серьезно задуматься над тем, почему западная иконография вообще — а не только эмблематика — отдает предпочтение прямоугольной форме. Прямоугольник вовсе не отражает реальное поле зрения человека, и другие культуры редко ориентируются на эту форму как при обрамлении изображений, так и при проделывании проемов в стенах, отграничении зон и пространств, изготовлении тканей и т. д. Разумеется, именно Европа постепенно навязала всей планете прямоугольную форму флага.
630
Зеленый, красный и черный являются одновременно религиозными, династическими и политическими цветами во всех исламских странах; но в разное время и в разных странах их интерпретация различна. Зеленый — религиозный цвет ислама, красный — политический цвет. Кроме того, исторически зеленый является цветом Аббасидов, красный — Хашимитов, черный — Фатимидов, а белый — Омейядов.
631
См. ранее — «Рождение гербов».
632
Вспомогательная историческая дисциплина, изучающая печати. - Прим. ред.
633
Guenee B. L'Occident aux XIVе et XVе siecles. Les Etats. Paris, 1971, p. 113-132, 227-243.
634
Glaser H. Wittelsbach und Bayern. Die Zeit der fruhen Herzdge. Munchen, 1980, S. 96-97, Nr. 116; Rattelmuller P. Das Wappen von Bayern. Munchen, 1989, S. 20-22; Waldner H. Die Itesten Wappenbilder. Berlin, 1992, S. 14.
635
Воинствующий сепаратизм баварского герба на постоянной основе проявляется в серии геральдических календарей, каждый год, с 1884 по 1936, выпускаемых выдающимся геральдическим художником Отто Хуппом под названием Munchener Kalender.
636
Геральдическая фигура в виде прямоугольника в одном из углов щита, где размещается дополнительная эмблема. — Прим. ред.
637
Douet d’Arcq L. Archives de l'Empire... Collection de sceaux. Paris, 1863, t. I, n° 725.
638
De Raadt J. T. Sceaux armories des Pays-Bas et des pays avoisinants. Bruxelles, 1898, t. I, p. 72-74; Pinoteau H. Heraldique capetienne, nouvelle ed. Paris, 1979, p. 88-89.
639
См., к примеру, совершенно завиральные утверждения в: de Lisle du Dreneuc P. L’Hermine de Bretagne et ses origines. Vannes, 1893, а также их обоснованную критику: de La Nicolliere-Teijeiro S. L'Hermine. Observations a M. P. de Lisle du Dreneuc // Bulletin de la Societe archeologique de Nantes, 1893, p. 134-143.
640
Hermione: hermine — горностай (фр.). — Прим. перев.
641
У короля Артура, разумеется, могли быть только литературные гербы. Они появляются в конце XII в., и в качестве фигуры на них изображаются то дракон, то Дева Мария, то три венца (последний вариант окончательно закрепляется в следующем веке). Горностаевый мех на гербе Артура никогда не фигурировал.
642
Cм.: Pastoureau M. Armorial des chevaliers de la Table Ronde. Paris, 1983, p. 46-47.
643
Lobineau Dom G. Q. Histoire de Bretagne... Paris, 1707, t. I, p. 197.
644
Pastoureau M. L’hermine: de l'heraldique ducale a la symbolique de l'Etat // Kerherve J. et Daniel Т., dir., 1491. La Bretagne terre d’Europe. Brest, 1992, p. 253-264.
645
Pastoureau M. L’Etoffe du Diable. Une histoire des rayures et des tissus rayes. Paris, 1991, p. 37-48.
646
Величие (лат.). — Прим. ред.
647
См. работы М. Джонса, особенно: Jones M. Ducal Brittany (1364-1399). Relations with England and France during the Reign of Duke John IV. Oxford, 1970, p. 313-326; Id., Mon pais et mа nation. Breton Identity in the Fourteenth Century // War, Literature and Politics in the Late Middle Ages. Liverpool, 1976, p. 119-126. См. также: Kerherve J. Aux origines d'un sentiment national: les chroniqueurs bretons de la fin du Moyen Age // Bulletin de la Societe archeologique du Finistere, 1980, p. 165-206.
648
По всем этим вопросам я отсылаю к основным трудам по истории Бретани XVI в. и в эпоху абсолютистской монархии; особенно см.: Lobineau Dom G. A. Histoire de Bretagne... Paris, 1707, t. II (особое внимание уделяется всему, что связано с историей горностаевых хвостиков); Dupuy A. Histoire de la reunion de la Bretagne a la France. Paris, 1880, 2 vol.; Bossard E. Le Parlement de Bretagne et la Royaute, 1765-1769. Paris, 1882; Le Moy A. Le Parlement de Bretagne et le Pouvoir royal au XVIIIе siecle, Angers, 1909; de La Borderie A. et Pocquet B. Histoire de Bretagne. Rennes, 1914, 6 vol.
649
Крестьянское движение в Северо-Западной Франции (1793-1803 гг.). — Прим. ред.
650
Заметим, однако, что в последние десятилетия бретонские движения за отделение и независимость часто предпочитали эмблеме с полностью горностаевым полем, которая может восприниматься как устаревшая или слишком «геральдическая» (то есть слишком аристократическая?), другие эмблемы, в которых не всегда фигурировали горностаевые хвостики, зато всегда в качестве основного принципа присутствовало сочетание черного и белого цветов. Это были цвета Бретани уже в XV в.
651
Cм.: Le Menn G. Les Bretons tonnants // Kerherve J. et Daniel Т., dir. 1491. La Bretagne terre d’Europe, op. cit., p. 313-314.
652
Pastoureau M. Genese du drapeau // Ecole franсaise de Rome, Genese de l'Etat moderne en Mediterranee. Approche historique et anthropologique des pratiques et des representations (tables rondes, Paris, 1987 et 1988), Rome, 1993, p. 97-108.
653
Подчеркнем в этой связи, что региональный совет Бретани принял не так давно губительное решение, выбрав для региона эмблему в виде карты Бретани, в которой не фигурируют ни горностаевый мех, ни черный или белый цвета. Это, разумеется, максимально нейтральная эмблема, исключающая всякий намек на выражение националистических чувств; но, на мой взгляд, в символическом плане этот выбор нельзя назвать удачным, так как он совершенно не принимает в расчет историю.
654
Происхождение и история современного греческого флага не изучены. Минимальные сведения можно найти в: The Flag Bulletin, n° 12, 1973, p. 4-9.
655
Впоследствии (лат.). - Прим. перев.
656
Сначала полумесяц в исламском мире был лишь одним из многих других мусульманских символов. Представляется, что именно христианский крест с течением времени повлиял, почти на семиотическом уровне (croix [крест] vs croissant [полумесяц]), на тот факт, что полумесяц выдвинулся в ряд важнейших фигур мусульманской политической символики. В любом случае роль европейцев тут несомненна: именно они, начиная с XIII—XIV вв., стали обозначать весь исламский мир с помощью эмблемы полумесяца, сделав из нее некое магометанское соответствие христианскому кресту. Сами же мусульмане стали использовать полумесяц в таком значении довольно поздно, в османскую эпоху. Изучение этой любопытнейшей аккультурации представляло бы большой интерес.
657
См.: Artin Pacha Y. Contribution a l'etude du blason en Orient. London, 1902.
658
В начале 1980-х годов, занявшись исследованием происхождения, появления, значения и эволюции эмблемы французской социалистической партии (роза, зажатая в кулаке), я не смог выяснить ни у партийных работников, ни у членов или активистов партии, ни даже у специалистов по «связям с общественностью» и созданию имиджа партии никаких достоверных сведений относительно причин и обстоятельств выбора данной эмблемы: где, когда, в каком контексте и т. д. Что никоим образом не мешает этой эмблеме в полной мере выполнять свои функции.
659
Старинный астрономический прибор, предназначенный для определения координат небесных светил. — Прим. ред.
660
Сведения по бразильской геральдике и вексиллологии я почерпнул из трудов Эрве Пиното (Heraldique capetienne, op. cit., p. 117-130). Зеленый является эмблематическим и династическим, но не геральдическим цветом дома Браганса.
661
Родовые цвета польской династии Пястов (XI-XIV вв.). - Прим. ред.
662
По поводу датировки см. документы, цитируемые в: Murray Н. J. R. A History of Chess. Oxford, 1913, p. 405-407; а также в: Eales R. Chess. The History of a Game. London, 1985, p. 42-43. Эти книги, вторая из которых является сокращенным и исправленным вариантом первой, — лучшее, что было написано по истории шахмат.
663
Murray Н. J. R., ibid., р. 408-415.
664
Об игре четырех царей и ее пути из Индии в Персию см.: Murray Н. J. R., ibid., п. 6, р. 47-77.
665
Париж, Национальная библиотека, ms. 1173, fol. 6 (сборник шахматных партий и задач, вероятно пикардский, приписываемый некоему Николесу (Nicholes), переписанный и украшенный миниатюрами около 1320-1340 гг.).
666
Относительно истории игры в шашки и спада ее популярности в средневековую эпоху см.: Murray Н. J. R. A History of Board Games Other than Chess. Oxford, 1952.
667
Pastoureau M. Heraldique arthurienne et civilisation medievale: notes sur les armoiries de Bohort et de Palamede // Revue frangaise d’heraldique et de sigillographie, n° 50, 1980, p. 29-41.
668
Vaivre J.-B. Les armoiries de Regnier Pot et de Palamede // Cahiers d’heraldique du CNRS, t. 2, 1975, p. 177-212. Отметим, что и в долгосрочной перспективе имя Паламеда останется связанным с шахматной традицией: первый полностью посвященный шахматам журнал, основанный в 1836 г. в Париже Лабурдонне, назывался «Паламед»; он выходил с 1836 по 1839 г., затем с 1841 по 1847. В 1864-1865 гг. его продолжателем стал «Французский Паламед».
669
О так называемых «шахматах Карла Великого», хранящихся сегодня в Кабинете медалей Национальной библиотеки Франции, см.: Gaborit-Chopin D. Ivoires du Moyen Age. Fribourg, 1978, p. 119-126, а также справка 185; Gold-schmidt A. Die Elfenbeinskulpturen aus der Zeit der Karolingischen und Sschischen Kaiser. Berlin, 1926, Bd. IV, справки 161-165 и 170-174; de Montesquiou-Fezensac В. et Gaborit-Chopin D. Le Tresor de Saint-Denis. Paris, 1977, t. Ill, p. 73-74; Pastoureau M. L’Echiquier de Gharlemagne. Un jeu pour ne pas jouer. Paris, 1990.
670
Особенно это касается некоторых церквей северной Германии и Испании. См.: Murray Н. J. R. A History of Chess, op. cit., n. 6, p. 756-765.
671
По поводу понятия «сокровище» см. прекрасную книгу: Schramm Р. Е., Mutherich F. Denkmale der deutschen Konige und Kaiser. Munchen, 1962.
672
Murray Н. J. R. A History of Chess, op. cit., n. 6, p. 420-424.
673
Mehl J.-M. Jeu d’echecs et education au XIIIе siecle. Recherches sur le "Liber de moribus” de Jacques de Cessoles, these, universite de Strasbourg, 1975.
674
Об играх в кости в Средние века см.: Semrau F. Wurfel und Wurfelspiel im alten Frankreich. Halle, 1910; Pastoureau M. La Vie quotidienne en France et en Angleterre au temps des chevaliers de la Table ronde. Paris, 1976, p. 138— 139; Mehl J.-M. Tricheurs et tricheries dans la France medievale: l'example du jeu des des // Historical Reflections / Reflexions historiques, vol. 8, 1981, p. 3-25; Id. Les Jeux au royaume de France, du XIIIе siecle au debut du XVIе siecle. Paris, 1990, p. 76-97.
675
Mehl J.-M. Le jeu d’echecs a la conquete du monde // L’Histoire, n° 71, octobre 1984, p. 40-50, особенно p. 45. См. также: Mehl J.-M. Les Jeux au royaume de France, op. cit., p. 115-134.
676
Jean de Joinville. Histoire de saint Louis, ed. N. de Wailly. Paris, 1881, § LXXIX, et ed. J. Monfrin, Paris, 1995, § 405. Об этом эпизоде см. также: Le Goff J. Saint Louis. Paris, 1996, p. 541.
677
Alphonse X le Sage. Juegos de acedrex, dados у tablas. Leipzig, 1913 (факсимиле и комментарии — W. Hiersmann).
678
Обо всех этих животных см. тексты, собранные Винсентом из Бове: Vincent de Beauvais. Speculum naturale. Douai, 1624, col. 1403-1412, а также подробности, изложенные Олавом Магнусом: Olaus Magnus. Historia de gentibus septentrionalibus. Rome, 1555, p. 729-749.
679
О средневековой символике слона см.: Delort R. Les Elephants piliers du monde. Essai de zoohistoire. Paris, 1900; Druce G. The Elephant in Medieval Legend and Art // The Archaeological Journal, vol. 76, 1919, p. 11-73; Malaxechevarria I. L’elephant // Circe. Cahiers de recherches sur Timaginaire, t. 12- 13, 1982 (Le Bestiaire), p. 61-73; Scullard H. H. The Elephant in the Greek and Roman World. London, 1974; Thibout M. L’elephant dans la sculpture romane frangaise // Bulletin monumental, t. 105, 1947, p. 183-195.
680
О единороге см. обобщающий труд: Eihhorn J. W. Spiritualis Unicornis. Das Einhorn als Bedeutungstrger in Literatur und Kunst des Mittelalters. Munchen, 1976; См. также: Beer R. R. Einhorn. Fabelwelt und Wirklichkeit. Munchen, 1977; Jossua J.-P. La Licorne. Images d’un couple. Paris, 1985; Shepard O. The Lore of the Unicorn. London, 1930.
681
Альфин и рок — старофранцузские названия слона и ладьи, происходят от арабских названий соответствующих фигур: «альфил» и «рух». — Прим. перев.
682
Букв. становятся "pousseurs de bois". Прим. перев.
683
Strohmeyer F. Das Schachspiel im Altfranzosischen // Abhandlungen Herrn Prof. Dr. Adolf Tobler, Halle, 1895, S. 381-403; Jonin P. La partie d’echecs dans l'epopee medievale // Melanges Jean Frappier. Paris, 1970, p. 483-497.
684
Chretien de Troyes. Conte du Graal, ed. F. Lecoy. Paris, 1975, vers 5849 sq.
685
Франсуа Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. Пятая книга, главы XXIV и XXV: «О том, как в присутствии королевы был устроен веселый бал-турнир»; «О том, как тридцать два участника бала сражаются».
686
Mehl J.-M. Les Jeux au royaume de France, op. cit., p. 127-133.
687
О различии между войной и сражением см.: Duby G. Le Dimanche de Bouvines, nouvelle ed. Paris, 1985, p. 133-208.
688
Сражение между войсками французского короля Филиппа II Августа и англо-фламандско-немецкой коалиции, возглавляемой императором Священной Римской империи Оттоном IV. Завершилась победой французов. — Прим. ред.
689
Mehl J.-M. La reine de l'echiquier // Reines et princesses au Moyen Age. Montpellier, 2001, p. 323-331.
690
Pastoureau M. Figures et couleurs. Etudes sur la symbolique et la sensibilite medievales. Paris, 1986, p. 35-49.
691
Tronzo W. L. Moral Hieroglyphs: Chess and Dice at San Savino in Piacenza // Gesta, XVI, 2, 1977, p. 15-26.
692
Meyer H., Suntrup R. Lexikon der Mittelalterlichen Zahlenbedeutungen. Munchen, 1987, S. 566-579.
693
Murray H. J. R. A History of Chess, op. cit., p. 428.
694
См., например, справочное издание: Wichmann H. und S. Schach. Ursprung und Wandlung Ursprung der Spielfigure. Munchen, 1960, S. 281-282 und Fig. 1-3.
695
Wackemagel W. Das Schachspiel im Mittelalter // Abhandlungen zur deutsche Altertumskunde und Kunstgeschichte. Leipzig, 1872, S. 107-127.
696
С XIV в. некоторые авторы ограничивают ход альфина максимум тремя клетками.
697
С середины XIV в. некоторые итальянские авторы утверждают, что рок может перемещаться на любое количество клеток. Таким образом он, потеснив альфина, становится самой сильной фигурой.
698
Pastoureau M. L’Echiquier de Charlemagne, op. cit., p. 37-39.
699
Однако до XVII в. всякий раз, когда христиане играли против мусульман, последние выигрывали.
700
Mehl J.-M. Les Jeux au royaume de France, op. cit., p. 184-222.
701
Legare A.-М., Guichard-Tesson F. et Roy B. Le Livre des echecs amoureux. Paris, 1991.
702
"Книга о нравах людских" (лат.). - Прим. перев.
703
Среди весьма обширной литературы, посвященной Якопо ди Чессоли, см.: Rychner J. Les traductions franсaises de la Moralisatio super ludum scaccorum de Jacques de Cessoles // Melanges Clovis Brunei. Paris, 1955, t. II, p. 480-493 (важная библиография); Mehl J.-M. Jeux d’echecs et education au XIIIе siecle, op. cit.; Id. L’exemplum chez Jacques de Cessoles // Le Moyen Age, t. 84, 1978, p. 227-246.
704
Вождь Артур (лат.). - Прим. ред.
705
Лучшей книгой по истории артуровской литературы, о ее генезисе и эволюции остается коллективный труд под редакцией Р. Ш. Лумиса: Arthurian Literature in the Middle Ages. A Collaborative History. Oxford, 1959. Также можно обратиться к: Bruce J. D. The Evolution of Arthurian Romances from the Beginning down to the Year 1300, 2nd ed. Baltimore, 1928, 2 vol.; Faral E. La Legende arthurienne. Etudes et documents. Paris, 1929, 3 vol.; Lacy N., ed. The Arthurian Encyclopedia. New York and London, 1986; Regnier-Bohler D., dir. La Legende arthurienne, le Graal et la Table Ronde. Paris, 1989; Delcourt T. La Litterature arthurienne. Paris, 2000. Ежегодно в примечательном издании Bulletin bibliographique de la Societe internationale arthurienne (c 1949 г.) можно найти исчерпывающую текущую библиографию, полностью посвященную артуровским исследованиям и смежной тематике.
706
Geoffrey of Monmouth. Historia regum Britanniae, ed. N. Wright and J. C. Crick. Cambridge, 1985-1991, 5 vol. Перевод на русский: Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина. М.: Наука, 1984. (Литературные памятники). — Прим. перев.
707
Wace. Roman de Brut, ed. I. Arnold. Paris, 1938-1940, 2. vol.
708
Arnold I. et Pelan M. La Partie arthurienne du “Roman de Brut”. Paris, 1962.
709
Conjointure (старофр.) — букв, «соединение», «связка». Слово, используемое самим Кретьеном, в частности в прологе «Эрека и Эниды»: tret d’un conte d’aventure une molt bele conjointure, «извлекает из рассказа об авантюре прекраснейшее соединение <частей>» (ст. 13-14). — Прим. перев.
710
Среди весьма обширной литературы о Кретьене де Труа и его творчестве см.: Bezzola R. Le Sens de l'aventure et de l'amour: Chretien de Troyes. Paris, 1947; Loomis R. S. Arthurian Tradition and Chretien de Troyes. New York, 1949; Frappier J. Chretien de Troyes. L’homme et l'auvre, 2e ed. Paris, 1969; Chandes G. Le Serpent, la Femme et l'Epee. Recherches sur l'imagination symbolique d’un romancier medieval: Chretien de Troyes. Amsterdam, 1986. Также можно обратиться к библиографии Д. Келли: Kelly D. Chretien de Troyes: An Analytic Bibliography. London, 1976.
711
О взаимосвязях между рыцарской литературой и обществом: Benson L. D. and Leyerle J., eds. Chivalric Literature. Essays on the Relations between Literature and Life in the Later Middle Ages, 2nd ed. Kalamazoo, 1985; Bumke J. Hofische Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter. Munchen, 1986, 2 vol.; Kohler E. L'Aventure chevalresque. Ideal et realite dans le roman courtois. Paris, 1974; Paravicini W. Die ritterlich-hofische Kultur des Mittelalters. Munchen, 1994; Pastoureau M. La Vie quotidienne en France et en Angleterre au temps des chevaliers de la Table Ronde. Paris, 1976; Pickford С. E. l'Evolution du roman arthurien en prose vers la fin du Moyen Age. Paris, 1960.
712
Duby G. Les jeunes dans la societe aristocratique dans la France du Nord-Ouest au XIIе siecle // Annales. ESC, vol., 19/5, 1964, p. 835-846.
713
Артуровские романы, на мой взгляд, в гораздо большей степени, нежели песни о деяниях, выражали рыцарский идеал аристократии XII-XIII вв. и потому несли более серьезную идеологическую нагрузку. Эпическая литература не является в полном смысле слова литературой сословной, транслирующей исключительно воинские ценности; будучи предназначена для более широкой публики, чем собственно романы, она отрабатывает «архетипические» темы, которые восходят к более древнему пласту воображаемого, возможно слишком древнему, для того, чтобы он мог как-то воздействовать на ту социальную реальность, в которой жила ее аудитория. Пока не возродились сравнительные исследования эпической и куртуазной литературы, см. побуждающую к размышлениям книгу: Boutet D. Charlemagne et Arthur, ou le Roi imaginaire. Paris, 1992.
714
Будем опять-таки ждать, что появится больше скрупулезных исследований, сопоставляющих артуровскую модель с моделями королевской власти, представленными во второй половине XII—XIII вв. Плантагенетами и Капетингами. Имела ли литературная модель какое-то идеологическое воздействие на власть? Принес ли пользу идеологии английской монархии "династический" расчет Плантагенетов, связанный с артуровской легендой, или, скорее, навредил ей? См. на эту тему: Stormer W. Konig Artus als aristokratisches Leitbild whrend des spteren Mittelalters // Zeitschrift fur bayerische Landesgeschichte, Bd. 35, 1972, S. 946-971; Johanek P. Konig Arthur und die Plantagenets // Fruhmittelalterliche Studien, Bd. 21, 1987, S. 346-389; Chauou A. L’ldeologie Plantagenet. Royaute arthurienne et monarchique politique dans l'espace Plantagenet (XIIe-XIIIe siecles). Rennes, 2001.
715
См. пионерский труд Э. Кёхлера: Kohler Е. Ideal und Wirklichkeit in der hofischen Epik. Tubingen, 1956. Обвинения во "вчитывании" интерпретаций, которые иногда предъявляют Кёхлеру, всегда казались мне необоснованными.
716
Я попытался привлечь внимание к этим проблемам на XIV интернациональном артуровском конгрессе (Ренн, август 1984). Тезисы моего доклада «Распространение артуровской легенды: нелитературные свидетельства» (“La diffusion de la legende arthurienne: les tеmoignages non litteraires”), прочитанного на открытии, были опубликованы в: Bulletin bibliographique de la Societe internationale arthurienne, t. 36, 1984, p. 322-323.
717
Особый вид театрализованного турнира, в котором схватка между рыцарями представляла собой часть разыгрываемой истории. — Прим. перев.
718
Prinet M. Armoiries familiales et armoiries de roman au XVе siecle // Romania, t. 58, 1932, p. 569-573; Brault G. J. Arthurian Heraldry and the date of Escanor // Bulletin bibliographique de la Societe internationale arthurienne, t. II, 1959, p. 81-88; de Vaivre J.-B. Les armoiries de Regnier Pot et de Palamede // Cahiers d’heraldique du CNRS, t. 2, 1975, p. 177-212. Позвольте также рекомендовать различные исследования, которые я объединил в: L’Hermine et le Sinople. Etudes d’heraldique medievale. Paris, 1982, p. 261-316, а также к моей работе: Armorial des chevaliers de la Table Ronde. Paris, 1983.
719
К сожалению, работа, начатая Р.Ш. и Л. Лумисами (Arthurian Legends in Medieval Art. New York, 1938), имела мало продолжателей. Тем не менее, см. превосходные исследования: Fouquet D. Wort und Bild in der mittelalterlichen Tristantradition. Berlin, 1971; Fruhmorgen-Voss H. und Otto N. Text und Illustration im Mittelalter. Aufstze zu den Wechselbeziehungen zwischen Literatur und bildender Kunst. Munchen, 1975; Kiihebacher E., Hg. Literatur Und bildende Kunst im Tiroler Mittelalter. Iwein-Fresken von Rodenegg und andere Zeugnisse der Wechselwirkung von Literatur und bildender Kunst. Innsbruck, 1982; Woods-Marsden J. The Gonzaga of Mantua and Pisanello’s Arthurian Frescoes. Princeton, 1988; Whitaker M. The Legend of King Arthur in Art. Cambridge, 1990; Stones A. Arthurian Art since Loomis // Arturus rex. Acta conventus Lovaniensis 1987, ed. W. Van Hoecke, G. Tourny, W. Verbeke. Louvain, 1991, t. II, p. 21-76 ; Schupp V. und Szklenar H. Ywain auf Schloss Rodenegg. Eine Bildergeschichte nach dem “Iwein” Hartmanns von Aue. Sigmaringen, 1996; Le stanze di Artu. Gli affreschi di Frugarolo e rimmaginario cavalleresco nell’autunno del Medioevo, a cura di E. Castelnuovo. Milan, 1999.
720
Cм. Allen L. et al., The Relation of the First Name Preference to their Frequency in the Culture // Journal of Social Psychology, n° 14, 1941, p. 279-293; Besnard P. Pour une etude empirique du phenomene de mode dans la consommation des biens symboliques: le cas des prenoms // Archives europeennes de sociologie, n° 20, 1979, p. 343-351.
721
Lejeune R. La naissance du couple litteraire Roland et Olivier // Melanges H. Gregoire. Bruxelle, 1950, t. II, p. 371-401; Delbouille M. Sur la genese de la chanson de Roland. Bruxelles, 1951, p. 98-120; Aebischer P. L’entree de Roland et d'Olivier dans le vocabulaire onomastique de la Marca hispanica // Estudis romanics, n° 5, 1955-1956, p. 55-76.
722
Ряд исследований, однако, привлекает внимание к этим важным вопросам: Panzer F. Personnennamen aus dem hofischen Epos in Baiern // Festgabe fur E. Sievers. Munchen, 1896, S. 205-220; Kegel E. Die Verbreitung der mittelhochdeutschen erzhlenden Literatur in Mittel- und Norddeutschland nachgewiesen auf Grund von Personnennamen. Halle, 1905; Boekenhoogen G. J. Namen uit ridderromans als voornamen in gebruik // Tijdschrift voor Nederlandse taalen letterkunde, t. 36, 1917, p. 67-96; Gallais P. Bleheri, la cour de Poitiers et la diffusion des recits arthuriens sur le continent // Actes du VIIе congres national de la Societe franсaise de litterature comparee (Poitiers, 1965). Paris, 1967, p. 47-79; Lejeune R. Les noms de Tristan et Yseut dans l’anthroponymie medievale // Melanges Jean Frappier. Geneve, 1970, t. II, p. 625-630.
723
См. два великолепных справочника: West G. D. An Index of Proper Names in French Arthurian Verse Romances (1150-1300). Toronto, 1969; WestG. D. An Index of Proper Names in French Arthurian Prose Romances. Toronto, 1978.
724
«Петр по прозвищу Ланселот», «Жан по прозвищу Персеваль». — Прим. перев.
725
См. в особенности номер журнала L’Нотте, n° 20/4, octobre-decembre 1980, посвященный "Формам именования в Европе", Formes de nomination en Europe (особенно статьи F. Zonabend и С. Klapish-Zuber), а также серию книг, изданную университетом Тура: Genese medievale de l'anthroponymie moderne. Tours, 1989-1997, 7 vol.
726
Крестьянин (лат.). - Прим. перев.
727
Demay G. Inventaire des sceaux de la Normandie. Paris, 1881, n° 1116.
728
Реестры печатей нормандских крестьян XIII в. были составлены в: Douеt d’Arcq L. Archives de l'Empire... Collection de sceaux. Paris, 1867, t. II, n° 4137-4382, а также в: Demay G. Inventaire des sceaux de la Normandie, op. cit., n° 613-1630. Некоторые ученые считали, что владельцы этих печатей, возможно, и не были на самом деле крестьянами; но внимательное изучение терминов (rustici, villani, ruricilae), которыми они обозначаются в актах, не оставляет на этот счет никаких сомнений. Кроме того, М. Т. Клэнчи (Clanchy М. Т. From Memory to Written Record. England, 1066-1307. London, 1979, p. 184) отмечает, что в XIII в. у крестьян английского королевства также существовали печати; некоторые из них дошли до наших дней. О крестьянской сфрагистике см.: Kittel Е. Siegel. Braunschweig, 1970, S. 367-382; Clottu О. Uheraldique paysanne en Suisse // Archives heraldiques suisses, t. 85, 1971, p. 7-16; Pastoureau M. Traite d’heraldique, 2e ed. Paris, 1993, p. 51-53.
729
См. артуровские имена XIII в., приводимые в: Estienne J. Noms de personnes dans la region du Nord (1267-1312) // Bulletin historique et philo logique du CTHS, 1940-1941, p. 201-202; Vasseur G. Noms de personnes du Ponthieu et du Vimeu en 1311-1312 // Revue international d’onomastique, n° 4, 1952, p. 40-44, 145-149. Я дружески благодарен покойному Луи Каролюс-Барре за ряд сведений, касающихся моды на артуровские имена в Бовези в XIII-XIV вв.
730
См.: Duby G. La vulgarisation des modeles culturels dans la societe feodale // Hommes et structures du Moyen Age. Paris et la Haye, 1973, p. 299-308.
731
См. другие примеры, приводимые в: Вumkе J. Hofische Kultur, op. cit., 7 Aufl., Munchen, 1994, S. 711-712.
732
Мода на артуровские турниры и церемонии, по всей очевидности, возникла в Святой земле и в Кипрском королевстве. С 1230-1240-х гг. она засвидетельствована в южной Германии и в Тироле, а затем быстро распространяется по всему Западу. См.: Schultz A. Das hofische Leben zur Zeit der Minnesinger, 2 Aufl. Leipzig, 1889, особенно Bd. II, а также: Loomis R. S. Arthurian Influence on Sport and Spectacle // Loomis R. S., ed. Arthurian Literature..., op. cit., p. 553-559. Уже само по себе появление подобных рыцарских практик на заморских территориях, а не на Западе, является важным для социокультурной истории свидетельством. Ритуализированная инсценировка идеологических ценностей родной страны и родной культуры вдали от нее приобретает огромную значимость.
733
Турнир, во время которого сеньоры, дамы и рыцари переоделись в персонажей артуровской легенды. Трувер Сарразин посвятил ему поэму, которая, к сожалению, дошла до нас только в отрывках. См.: Henry A. Sarrasin. Le roman du Hem. Paris, 1939.
734
Loomis R. S. Edward I. Arthurian Enthusiast // Speculum, vol. 28, 1953, p. 114-127; Denholm-Young N. The Tournament in the Thirteenth Century // Collected Papers. Cardiff, 1969, p. 95-120. См. также: Cline R. H. Influences of Romances on Tournaments of the Middle Ages // Speculum, vol. 2, 1945, p. 204-211.
735
Об артуровском романе как модели для рыцарского общества: Pickford С. Е. L'Evolution du roman arthurien en prose vers la fin du Moyen Age. Paris, 1960, p. 215-289; Stanesco M. Jeux d’errance du chevalier medieval. Aspects ludiques de la fonction guerriere dans la litterature du Moyen Age flamboyant. Leyden, 1988. В частности о романе Ульриха фон Лихтенштейна «Служение дамам» с многочисленными перекличками между реальностью и вымыслом: Peters U. "Frauendienst". Untersuchungen zu Ulrich von Liechtenstein und zum Wirklichkeitsgehalt der Minnedichtung. Goppingen, 1971; Spechtler F. V. und Maier B. Ich-Ulrich von Liechtenstein. Literatur und Politik im Mittelalter. Friesach, 1999. И наконец, как всегда, вернемся снова к замечательной книге Й. Хёйзинги «Осень Средневековья»: Huizinga J. L'Automne du Moyen Age, nouvelle ed. Paris, 1975 (1-ое нидерландское издание: 1919).
736
Loomis R. S. Chivalric and Dramatic Imitations of Arthurian Romances // Medieval Studies in Memory of A. Kingsley Porter. Cambridge (Mass.), 1954, t. I, p. 79-97.
737
Bouton V. Armorial des tournois (a Tournai, en 1330). Paris, 1870; Popoff M. Armorial des rois de Vepinette de Lille, 1283-1486. Paris, 1984; Van den Neste E. Tournois, joutes et pas d’armes dans les villes de Flandre a la fin du Moyen Age (1300-1486). Paris, 1996.
738
Во Франции в XV в. при бурбонском, арманьякском, анжуйском дворах, при дворе герцогства Бар, а также в приграничных областях при лотарингском и савойском дворах любят устраивать праздники, копейные сражения, турниры и pas d’armes, инсценируя основные эпизоды артурской легенды и разыгрывая роли ее основных персонажей. См. ряд примеров, изученных в: de Merindol С. Les Fetes de chevalerie a la cour du roi Rene. Emblematique, art et histoire. Paris, 1993.
739
По Нидерландам: Arturus rex. Koning Artur en Nederlanden. La matiere de Bretagne et les anciens Pays-Bas. Leuven, 1987 (каталог выставки, Лёвен, муниципальный музей). По Италии: Gardner Е. G. The Arthurian Legend in Italian Literature. London, 1930; Breillat P. La quite du Saint Graal en Italie // Melanges d’archeologie et d’hostoire de l’Ecole francaise de Rome, t. 54, 1937, p. 264-300; Delcomo Branca D. Tristano e Lancillotto in Italia. Studi di letteratura arturiana. Ravenna, 1998.
740
См., к примеру, какое незначительное место отведено исследованиям средневековых крестильных имен в превосходных библиографических перечнях М. Мюлон: Mulon М. L’Onomastique en France. Bibliographie des travaux publies jusquen 1960. Paris 1977, а также в современных библиографиях, посвященных антропонимике.
741
Точное их число 40 127, если я не ошибся в подсчетах. В основном я пользовался изданными каталогами и реестрами печатей, дополнив их рядом слепков с неопубликованных печатей, хранящихся в Отделе печатей Национального архива в Париже. Я выражаю признательность трем сменявшим друг друга хранителям, моим друзьям И. Метману, Б. Бедос-Резак и М. Гарриг, которые в течение примерно пятнадцати лет разрешали мне практически ежедневно работать в этом отделе. Библиографию французской сфрагистики см.: Gandilhon R. et Pastoureau М. Bibliographie de la sigillographie franсaise. Paris, 1982.
742
В Южной Франции печатями всегда пользовались меньше, чем в Северной, по той причине, что там раньше развилась система публичного нотариата. Кроме того, большинство печатей южных областей еще не внесены в реестры и каталоги.
743
Baumgartner Е. Le “Tristan en prose”. Essai d’interpretation d’un roman medieval. Geneve, 1975, p. 15-28. См. текущее издание под редакцией P. Menard, Paris et Geneve, 7 vol., выходящее с 1994 г., но полезно также будет обратиться к старому исследованию: Loseth Е. Le Roman en prose de Tristan, le Roman de Palamede et la Compilation de Rusticien de Pise... Paris, 1891.
744
Panzer F. Personnennamen aus dem hofischen Epos in Baiern // Festgabe fur E. Sievers. Munchen, 1896, S. 205-220; Kegel E. Die Verbreitung der mittelhochdeutschen erzhlenden Literatur..., op. cit. См. также: Bumke J. Hofische Kultur, op. cit., S. 711-712.
745
Delcomo Branca D. Per la Storia del Roman de Tristan in Italia // Cultura neolatina, n° 40, 1980, p. 1-19.
746
Этимология имени Гавейна, как и большинство этимологий имен рыцарей Круглого Стола, — вопрос спорный. Можно, впрочем, поразмыслить, имеют ли все эти многочисленные исследования по этимологии литературных имен (которые, как правило, можно обнаружить в любой библиографии по артуровской тематике), в том виде, в котором они существовали по сей день, какую-то реальную ценность.
747
Le stanze di Artu, op. cit. a cura di E. Castelnuovo.
748
Gardner E. G. Dukes and Poets in Ferrara. A Study in the Poetry, Religion and Politics of the Fifteenth and Early Sixteenth Centuries. London, 1904; Bertoni G. Lettori di romanzi francesci nel Quattrocento alia corte estense // Romania, t. 65, 1918-1919, p. 117-122.
749
Об этой печати: Pastoureau M. L’Hermine et le Sinople, op. cit., p. 183.
750
Lefevre E. Documents historiques sur le comte et la ville de Dreux. Chartres, 1859; du Chesne A. Histoire genealogique de la maison royale de Dreux... Paris, 1631; Sirjean G. Encyclopedie genealogique des maisons souveraines du monde. Paris, 1967, t. XII, Les Dreux.
751
Члены этих ветвей носили имена Гавейн и Персеваль до начала XVI в. Благодарю Пьера Бони за сведения, которые он предоставил мне по этому вопросу.
752
О Бооре-персонаже: Pauphilet A. Etude sur la “Queste del saint Graal" attribuee a Gautier Map. Paris, 1921, p. 131-132; Frappier J. Etude sur “La mort le roi Artu". Paris et Geneve, 1972, p. 326-328; Suard F. Bohort de Gaunes, images et heraut de Lancelot // Miscellanea mediaevalia. Melanges offerts a Philippe Мenard. Paris, 1998, t. II, p. 1297-1317. Боор не только единственный выживший в «Смерти Артура», на закате артуровского мира, он еще и бесценный свидетель, благодаря которому мы знаем историю Грааля и рыцарей Круглого Стола.
753
См.: de Belleval R. Les Fiefs et Seigneuries du Ponthieu et du Vimeu. Paris, 1870; Id. Les Sceaux du Ponthieu. Paris, 1896, p. 603-624. О присвоении герба Гавейна пикардийской семьей, породнившейся с Киере: Pastoureau М. Armorial des chevaliers de la Table ronde, op. cit., p. 69-70.
754
Simonin M. La reputation des romans de chevalerie selon quelques listes de livre (XVIe-XVIIe siecles) // Melanges Charles Foulon. Rennes, 1980, t. I, p. 363-369.
755
Whitaker M. The Legend of King Arthur in Art, op. cit. (прим. 13), p. 175-286.
756
Церковь, видимо, не слишком положительно относилась к превращению имен литературных героев в крестильные имена. См. два текста, процитированные в: Bumke J. Hofische Kultur, op. cit., S. 711-712.
757
Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или о Воспитании. Книга II, глава II. Этой строке посвящена обширная библиография.
758
Однако этот образ поэта кажется непоколебимым; он является частью легенды о «добряке Лафонтене» и в основном подразумевает его так называемые наблюдения за собаками, кошками, ослами, крысами, мышами и... муравьями. Легенда гласит, что увлекшись их усердным изучением, поэт регулярно опаздывал к обеду.
759
Bassy А.-М. Les Fables de La Fontaine et le labyrinthe de Versailles // Revue franaise d’histoire du livre, n° 12, 1976, p. 1-63.
760
Bresson Н. La Fontaine et l'ameе des bites // Revue d’histoire litteraire de la France, 1935, p. 1-32, et 1936, p. 257-286.
761
Басенными сборниками. - Прим. перев.
762
Которое весьма далеко от двусмысленного понятия “naturel”, в том виде, как оно определяется в: Dandrey P. La Fabrique des Fables. Essai sur la poetique de La Fontaine. Paris, 1992, p. 155-166.
763
Некоторые старые труды (например: Damas-Hinard М. La Fontaine et Buffon. Paris, 1961), где баснописца представляют первым настоящим французским натуралистом, вызывают недоумение. Недавно предпринятая попытка сравнить описания некоторых птиц у Лафонтена с нашими современными знаниями об орнитофауне (Hall Н. G. On some of the Birds in La Fontaine’s Fables // Papers on French Seventeenth Century Literature, vol. 22, 1985, p. 15-27) кажется мне бесполезной и анахроничной.
764
Типичным в этом отношении примером являются зоологические «суммы» Конрада Геснера и Улисса Альдрованди, что бы эти авторы ни писали о мифах и легендах, от которых они стремятся откреститься. В этом вопросе я не согласен с утверждениями П. Дандре (Dandrey P. La Fabrique des Fables, op. cit., p. 142-151), который относит «возникновение современной зоологии» к слишком раннему времени.
765
Loskoutoff Y. L’ecureuil, le serpent et le leopard. Presence de l’heraldique dans les Fables de La Fontaine // XVIIе siecle, vol. 184, 1994, p. 503-528; Id. Entre la gloire et la bassesse: les armes parlantes dans l'Armorial general de Louis XIV // Revue francaise d’heraldique et de sigillographie, t. 67-68, 1997—1998, p. 39-62.
766
Напомним, что геральдическое воображение Великого века запросто наградило семью Жана Расина, самого Расина, гербом с изображением крысы, rat, и лебедя, cygnel Dubu J. Autour des armoiries de Jean Racine // XVIIе siecle, vol. 161, 1988, p. 427-431.
767
Говорящая эмблема со «смотрящим волком» несколько раз повторяется в скульптурном декоре Дома Инвалидов, в частности на северном фасаде.
768
Девиз. - Прим. перев.
769
Couton G. La Poetique de La Fontaine. Deux etudes: I. La Fontaine et l'art des emblemes... Paris, 1957.
770
Palliot P. La Vraye et Parfaicte Science des armoiries... Paris, 1660, 1661, 1664; Menestrier C.-F. Abrege methodique des principes heraldiques. Lyon, 1661, 1665, 1672, 1673, 1675, 1677; Id. Le Veritable Art du blason et l'Origine des armoiries. Lyon, 1671, 1673, etc.
771
П. Дандре справедливо замечает, что добавления и нововведения Лафонтена «важны скорее в смысловом, нежели в численном отношении». Dandrey P. La Fabrique des Fables, op. cit., p. 13.
772
Изучение цветовых терминов, которыми Лафонтен характеризует животных, показывает, что цветовая палитра его басен сопоставима с палитрой геральдики. См. какое развитие этой темы намечено в уже далеко не новом исследовании: Boillot F. Les Impressions sensorielles de La Fontaine. Paris, 1929.
773
Pastoureau M. Quel est le roi des animaux? // Figures et couleurs. Etudes sur la symbolique et la sensibilite medievales. Paris, 1986, p. 159-175.
774
Аu = а + lе (предлог, слитый с определенным артиклем). — Прим. перев.
775
Метафорические выражения l'ame de la devise и le corps de la devise — буквально «душа эмблемы» и «тело эмблемы» — используются для обозначения, соответственно, надписи и изображения, представленных на эмблеме. — Прим. перев.
776
Старейшее католическое объединение священников, живущих в послушании, но не приносящих монашеских обетов, возникшее в 1558 г. Риме. Его цель — возвращение к духу простоты апостольских времен в молитве, проповеди и совершении таинств. — Прим. ред.
777
Вопреки распространенному мнению, ораторианцы во Франции стали первопроходцами в области геральдической педагогики прежде иезуитов. См. Palasi P. Jeux de cartes et jeux de l’oie heraldiques aux XVIIе et XVIIIе siecles. Paris, 2000, p. 23-50.
778
В финале "Анжелики". См. Richer J. Nerval: experience et creation. Paris, 1963, p. 39, где дается полная цитата: «Геральдика — ключ к истории Франции»; в этом виде она больше не встречается ни в одном труде или справочнике. Настоящее исследование было опубликовано в Bulletin du bibliophile в 1981 г. На него, кажется, не обратили внимания ни специалисты по творчеству Нерваля, ни специалисты по геральдике. Я публикую его здесь почти без изменений, в том виде, в котором оно вышло более двадцати лет тому назад. Что касается — поистине необъятной! — литературы по жизни и творчеству Жерара де Нерваля, то она сознательно была оставлена в прежнем виде и поэтому заканчивается на 1981 г.
779
Lalou R. Vers une alchimie lyrique. De Sainte-Beuve a Baudlaire. Paris, 1927, p. 48-65; Le Breton G. La cle des Chimeres: l'alchimie // Fontaine, n° 44, 1945, p. 441-460; Constans F. Le Soleil noir et l'Etoile ressuscitee // Tour Saint-Jacques, t. 13-14, 1958, p. 35-46.
780
Luquet G.-H. Gerard de Nerval et la franc-maconnerie // Mercure de France, t. 324, n° 1101, 1955, p. 77-96.
781
Среди массы исследований по-прежнему остаются актуальны труды Ж. Ришера: Richer J. Gerard de Nerval et les Doctrines esoteriques. Paris, 1947; Id. Nerval: experience et creation, op. cit.
782
Помимо диссертации Ж. Ришера, см. Bechade-Labarthe J. Origines agenaisses de Gerard de Nerval. Agen, 1956; Peyrouzet E. Gerard de Nerval inconnu. Paris, 1965.
783
По периоду до 1968 г. я пользовался превосходным справочником: Villas J. Gerard de Nerval. A Critical Bibliography, 1900 to 1967. Columbia, 1968 (University of Missouri Studies, vol. 49).
784
Все перечислить просто невозможно. Помимо общих исследований, посвященных поэту, см. особенно: Le Breton G. La cle des Chimeres: l'alchimie, art. cit.; Moulin J. "Les Chimeres". Exegeses. Lille et Geneve, 1949; Richelle M. Analyse textuelle: El Desdichado de Gerard de Nerval // Revue des langues vivantes, t. 17, n° 2, 1951, p. 165-170; Cellier L. Sur un vers des Chimeres // Cahiers du Sud, n° 311, 1952, p. 146-153; Richer J. Le luth constelle de Nerval // Cahiers du Sud, n° 331, 1955, p. 373-387; Kneller J. W. The Poet and his Moira: El Desdichado // Publication of the Modern Language Association, t. 75, 1960, p. 402-409; Genaille J. Sur El Desdichado // Revue d’histoire litteraire de la France, t. 60/1, 1960, p. 1-10; Gerard A. S. Images, structures et themes dans El Desdichado // Modern Language Review, t. 58/4, 1963, p. 507-515; Goosse M.-T. El Desdichado de Gerard de Nerval // Lettres romanes, 1964, t. 18, n° 2, p. 111-135, et n° 3, p. 241-262; Lebois A. Vers une elucidation des “Chimeres" de Nerval. Paris, 1965 (Archives nervaliennes, 1); Geninasca J. Une lecture de “El Desdichado". Paris, 1965 (Archives nervaliennes, 5); Pellegrin J. Commentaire sur El Desdichado // Cahiers du Sud, t. 61, n° 387- 388, 1966, p. 276-295; Dhaenens J. Le Destin d’Orphee. Etude sur "El Desdichado” de Nerval. Paris, 1972 (Nouvelle bibliotheque nervalienne, 5); Laszlo P. El Desdichado // Romantisme. Revue du XIXе siecle, n° 33, 1981, p. 35-57.
785
См. исследования следующих авторов из предыдущего примечания: Le Breton, Richer, Genaille, Gerard, Goosse, Lebois. Едва ли не все предложенные значения резюмированы в труде Дананса (Dhaenens). Наконец, отметим, что П. Ласло высказывает необычное, но не лишенное оснований предположение, что “El Desdichado” — стихотворение XIV в.!
786
Снова см. исследование Ж. Дананса, в котором подчеркивается множественность потенциальных источников и резюмируются основные. См. также: Durry М. J. Gerard de Nerval et le Mythe. Paris, 1956.
787
Самое недавнее и самое полное издание «Манесского кодекса» — это внушительный каталог, опубликованный по случаю большой выставки, проходившей в Гейдельберге в 1888 г.: Mittler Е., Werner W. (Hg.) Codex Маnesse. Die Welt des Codex Manesse. Ein Blick ins Mittelalter. Heidelberg, 1988. Его может дополнить каталог выставки, проходившей в Цюрихе три года спустя: Brinker С., Fluher-Kreis D. (Hg.) Die Manessische Liederhandschrift in Zurich. Zurich, 1991. Кроме предисловий к различным факсимиле, также см.: Jammers Е. Das konigliche Liederbuch des deutschen Minnesangs. Heidelberg, 1965; Fruhmorgen-Voss H. Bildtypen der Manessischen Liederhandschrift // Werk, Typ, Situation. Festschrift H. Kuhn. Stuttgart, 1969, S. 184-216; Renk H.-E. Der Manessekreis, seine Dichter und die Manessische Handschrift. Stuttgart und Koln, 1974.
788
Об этом обмене: Delisle L. Bibliotheque nationale. Catalogue des manuscits des fonds Libri et Barrois. Paris, 1888, p. LVIII—LXIII.
789
См., в частности, прекрасную статью: Triibner K.-J. Die Wiedergewinnung der sogenannten Manessischen Liederhandschrift // Centralblatt fur Bibliothekswesen, Bd. 5, 1888, S. 225-227. В библиотеке Гейдельбергского университета рукопись теперь хранится в фонде Codices Palatini Germanici под n° 848.
790
«Рукопись Манессе» или «Большая гейдельбергская рукопись» (нем.). — Прим. ред.
791
Все перечислить невозможно; издания XIX в. в большинстве своем представляют собой частичные факсимиле. Особо упомянем: Kraus F.-X. Die Miniaturen der Manessischen Liederhandschrift im Auftrag des badischen Ministeriums in Lichtdruck herausgegeben. Strasbourg, 1887; von Oechelhauser A. Die Miniaturen der Universitatsbibliothek zu Heidelberg. Heidelberg, 1895, 2 Bd.; Pfaff F. Die grope Heidelberger Liederhandschrift... Heidelberg, 1909; Sillib R., Panzer F., Haseloff A. Die Manessische Liederhandschrift. Faksimile-Ausgabe... Leipzig, 1929; переизд. Berlin, 1930, 2 Bd. Все эти издания сегодня может заменить факсимиле, вышедшее в 1988 г. по случаю двойной выставки в Гейдельберге и Цюрихе: Walther F. Codex Manesse. Die Miniaturen der grofien Heidelberger Liederhandschrift. Frankfurt am Main, 1988.
792
О копии (неполной), сделанной для Роже де Геньера в конце XVII в., см. примечание 31.
793
Zangemeister К. Die Wappen, Helmzieren und Standarten der grofien Heidelberger Liederhandschrift (Manesse Codex). Gorlitz und Heidelberg, 1892; von Oechelhauser A. Die Miniaturen.., op. cit., passim.
794
Париж, Национальная библиотека, ms. fr. 22260, fol. 6-12. Название «Фантастический гербовник» фигурирует на корешке переплета и на титульном листе. В каталоге французских рукописей Национальной библиотеки об этой (неидентифицированной) копии «Манесского кодекса» сказано, что в ней представлены «раскрашенные гербы, либо сами по себе необычные, либо с необычными нашлемниками». Об этой копии, выполненной акварельными красками для Роже де Геньера, см. исследование: Prinet М. Un armorial des Minnesinger conserve a la Bibliotheque nationale // Bibliographie moderne, vol. 7, 1911, p. 9-19.
795
О происхождении этого оборота: Brault G. J. Early Blazon. Heraldic Terminology in the Twelfth and Thirteenth Centuries... Oxford, 1972, p. 227-228. — См. обзор различных интерпретаций этого стиха: Dhaenens J. Le Destin d'Orphee, op. cit., p. 25-29; Laszlo P. El Desdichado, art., cit., p. 42-57. О навязчивом возвращении Нерваля к теме своего рода (Лабрюни якобы владели тремя замками и Нерваль оставил нам зарисовку их вымышленного герба с тремя серебряными башнями) см.: Richer J. Nerval: experience et creation, op. cit., p. 29-52.
796
К работам, указанным в примечании 22, следует добавить: Coppier А.-С. Le Soleil noir de la melancolie // Mercure de France, t. 293, 1939, p. 607-610; Tuzet H. L'image du soleil noir // Revue des sciences humaines, fasc. 85-88, 1957, p. 479-502; Antoine G. Pour une methode d’analyse stylistique des images // Langue et litterature, Actes du VIIIе congas et colloque de l’universite de Liege. Paris, 1961, fasc. 21; Pieltain P. Sur l'image d’un soleil noir // Cahiers d’analyse textuelle, vol. 5, 1963, p. 88-94.
797
В первом варианте гравюры Melencolia I так называемое черное солнце, видимо, являлось ни чем иным как кометой, появившейся в 1513-1514 гг.. См.: Panofsky Е., Saxl F. Diirers “Melencolia Г. Eine Quelle und typengeschitliche Untersuchung. Leipzig — Berlin, 1923.
798
См. статью Элен Тюзе, указанную в примечании 33. Эстамп с гравюры Дюрера фигурирует в произведениях Нерваля по меньшей мере дважды (см.: Gerard de Nerval. Euvres. Paris, coll. “Bibl. de la Pleiade”, 1960, t. I [3e ed.], p. 362 et 1961, t. II [2e ed.], p. 132). Черное солнце появляется у Нерваля в таких произведениях, как «Аурелия», «Путешествие на Восток», «Христос в Гефсиманском саду», а также в различных переводах (в частности, из Гейне).
799
Отметим, что в средневековой геральдике огонь и пламя чаще всего были черного (чернь) или красного (червлень) цветов. То же самое наблюдается в иконографии ада, где начиная с середины XIII в. черный цвет преобладает над красным.
800
О создании текста “El Desdichado” и хронологии появления трех версий (некоторые критики, как, например, Ж. Дананс, даже говорят о четырех версиях) см.: Guillaume J. “Les Chimeres” de Nerval. Edition critique. Bruxelles, 1966; Dhaenens J. Le Destin d'Orphee, op. cit., p. 126-132. Последний автор предлагает следующую хронологию: публикация «предпервоначальной» версии в “Le Mousquetaire” 10 декабря 1853 г.; рукопись Ломбара; рукопись Элюара; окончательная версия в «Девах огня» в 1854 г.
801
Анализ этого стиха обычно касался проблемы прокламативного «Я» и просодии. Значение трех эпитетов и постепенное нарастание смысла, кажется, совсем запутали критиков, тем более что сделанная от руки запись Нерваля рядом с этим стихом в рукописи Элюара действительно может сбить с толку. См.: Dhaenens J. Le Destin d’Orphee, op. cit., p. 18-24.
802
О возможных значениях постановки рук и головы см.: Gamier J. Le Langage de Г image au Moyen Age. Paris, 1982, p. 165-170, 181-184.
803
Dhaenens J. Le Destin d’Orphee, op. cit., p. 44-45.
804
Следует подчеркнуть, что на страницах «Манесского кодекса» присутствует множество музыкальных инструментов. Их идентификация, а также их названия по-прежнему остаются под вопросом; поэтому не нужно удивляться тому, что Нерваль принял виеллу за лютню, а кларикорд — за лиру.
805
Другие элементы сонета можно также связать с «Манесским кодексом». Например, звезду (строка 3), которая, так же как и роза, является лейтмотивом миниатюр. А вторая часть 5-й строки («...ты, утешившая меня») вполне могла быть подсказана сценами, где поэта или рыцаря утешает дама (fol. 46v, 76v, 158, 179, 249v, 252, 300, 371 и т. д.). Впрочем, ввиду того, что подобные сцены представлены очень широко, а эта часть строки сама по себе поливалентна, утверждать этого нельзя.
806
Сомнения отпадут сами собой, если выделить содержащееся в нем ассоциации или оппозиции: север / юг, христианское Средневековье / языческая античность, Германия / Италия, Любовь / Смерть, двойственность / единичность.
807
По поводу этих четырех редакций см. примечание 22. Слова или формулировки менялись редко. Зато значительные изменения коснулись пунктуации, прописных букв и типографских особенностей (выделение курсивом некоторых слов).
808
Название «Судьба» появляется в рукописи Элюара. Вопрос о его происхождении стал предметом научных споров. См., например: Richer J. Nerval: experience et creation, p. 556; Dhaenens J. Le Destin d’Orphee, op. cit., p. 13- 17, 126-132.
809
В восьмой главе своего романа Вальтер Скотт, описывая сражения на турнире при Эшби, вводит в повествование неизвестного рыцаря, на щите у которого изображен вырванный с корнем дуб, а в качестве девиза написано испанское слово Desdichado. Это Уилфред Айвенго, который поссорился со своим отцом Седриком Саксонцем и участвовал в турнире инкогнито.
810
Перевод El Desdichado как Le Desherite, «Лишенный наследства», часто оспаривался, в частности см.: Kneller J. W., art. cit. Однако сегодня он одобряется большинством исследователей творчества Нерваля, хотя испанское слово desdichado исходно означает «обездоленный», «несчастный». Видимо, именно так его понимал и Нерваль. Между тем, первым допустил эту смысловую ошибку сам Вальтер Скотт: в тексте «Айвенго» он перевел Desdichado английским словом disinherited (лишенный наследства), спутав таким образом испанские слова desdichado и desheredado.
811
Mittler Е., Werner W. (Hg.) Codex Manesse, op. cit., S. 216-217, справка F39.
812
Луи Дуэ-д’Арк (1808-1882), выпускник Национальной школы Хартий, архивист, был первым французским ученым, предпринявшим научное издание источников средневековой геральдики (печатей, гербов, геральдических трактатов). Вместе с тем он был связан со многими художниками и писателями. См.: Bibliotheque de l’Ecole des chartes, t. 43, 1882, p. 119-124, et t. 46, 1885, p. 511-528.
813
См. каталог выставки: Gerard de Nerval. Exposition organisee pour le centieme anniversaire de sa mort. Paris, 1955, notice 72, p. 19.
814
О связях Нерваля с Германией см. фундаментальный труд: Dedeyan С. Gerad de Nerval et l'Allemagne, Paris, 1957-1959, 3 vol.
815
Rhodes S. A. The Friendship between Gerard de Nerval and Heinrich Heine // French Review, t. 23, 1949, p. 18-27; Du Bruck A. J. Gerard de Nerval and the German Heritage. Hague, 1965.
816
Minnesinger aus der Zeit der Hohenstaufen. Fac-Simile der Pariser Handschrift. Zurich, 1950.
817
Все эти работы опубликованы в: Abhandlungen der koniglichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, phil.-hist. Klasse (1842, 1845, 1850, 1852).
818
См. примечание 58.
819
Следовало бы, соответственно, изучить цвета и их семантику в произведениях Нерваля. Существенное, по всей видимости, влияние на него оказала геральдика, а также некоторые живописные школы. Пока такое исследование не предпринято, см.: Richer J. Nerval: experience et creation, op. cit. p. 133— 167 (глава “La race roug”); Dhaenens J. Le Destin d’Orphee, op. cit., p. 59-61; Dunn S. Nerval coloriste // Romanische Forschungen, t. 91, 1979, p. 102-110.
820
Об этих интерпретациях см.: Dhaenens J. Le Destin d’Orphee, op. cit., p. 25-29; Laszo P. El Desdichado, art. cit., p. 56-57.
821
Вообще интересно, не алхимия ли, эзотерика и символизм в большей степени пробудили интерес Нерваля к геральдике, нежели изыскания в области родословной и семейной истории или поэтическое очарование геральдического языка? Такая книга, как: Portal F. Des couleurs symboliques (Paris, Treuttel et Wiirz, 1837), которую он, несомненно, читал, должна была его к этому подтолкнуть.
822
Стоило бы, к примеру, попристальнее рассмотреть великолепную геральдическую химеру, которая украшает нашлемник, изображенный на 18-м листе «Кодекса». Возможно, она как-то повлияла на название «Химеры».
823
Например, 8 стих менялся (последовательно?) следующим образом: “Et la treille оu le pampre a la vigne s’allie” — «И зеленый шатер, где лоза сочетается с виноградом» (“Le Mousquetaire”); “Et la Treille ou le Pampre a la Vigne s’allie!” — «И Зеленый Шатер, где Лоза сочетается с Виноградом!» (рукопись Ломбара); “Et la Treille ou le pampre a la Rose s’allie” — «И Зеленый Шатер, где лоза сочетается с Розой» (рукопись Элюара); “Et la treille ou le pampre a la rose s’allie” — «И зеленый шатер, где лоза сочетается с розой» («Девы огня»). См.: Guillaume J., ed. "Les Chimeres"..., op. cit., p. 43; Dhaenens J. Le Destin d’Orphee, op. cit., p. 129.
824
Когда я работал над этим текстом, Эрик Бюффто подтвердил мою гипотезу, обнаружив на гравюре Эжена Жерве 1854 г. с изображением Жерара де Нерваля набросок, сделанный самим Жераром и воспроизводящий птичью клетку, которая фигурирует в «Манесском кодексе» на гербе, приписанном выдающемуся поэту начала XIII в. Вальтеру фон дер Фогельвейде. См. Buffetaud Е. et Pichois С. Album Gerard de Nerval. Paris, 1993, p. 230-231, 271.
825
На невозможность отделить “El Desdichado” от остального творчества Нерваля особо указала Мари-Терез Госс (в работе, указанной в примечании 22).
826
Текст воспроизводится по изданию: Guillaume J., ed. "Les Chimeres"..., op. cit., p. 13.
827
Историки литературы долгое время спорили о том, какой «роман» был самым читаемым со времен появления печатной книги: «Дон Кихот», «Айвенго» или «Война и мир». Сегодня споры умолкли: стало известно — и цифры это подтверждают, — что самый читаемый роман принадлежит не Сервантесу, не Скотту и уж точно не Толстому, а Агате Кристи. Причем это не «Десять негритят», а «Убийство Роджера Экройда».
828
Биографий Вальтера Скота издано много и они неравноценны. На французском языке можно прочитать превосходную «литературную биографию»: Suhamy Н. Sir Walter Scott. Paris, 1993.
829
Вальтер Скотт принадлежал к младшей ветви древнего мелкопоместного дворянского рода, не титулованного и не очень богатого. Титул баронета возвысил Скотта над всеми его родственниками, и он до конца своих дней очень им гордился.
830
На некоторые эпизоды долгой осады Торкилстона в «Айвенго» его, несомненно, вдохновило описание взятия замка Геца в драме Гёте.
831
В «Айвенго», к примеру, встречается странное нарушение правил комбинации геральдических цветов: описывая герб таинственного Черного Рыцаря — в черном поле лазурная цепь, — Скотт помещает голубую фигуру на черный фон, а это запрещено. Об интересе Вальтера Скотта к гербам и роли геральдики в его произведениях см.: Loskoutoff Y. I am, you know, a Herald. L'heraldique de Walter Scott // Revue frangaise d’heraldique et de sigillographie, t. 66, 1996, p. 25-52.
832
Encyclopaedia Britannica, Supplement. London — Edinburgh, 1818, t. III, 1st part, p. 115-140.
833
Процитировано Грэмом Таллохом в его введении к изданию «Айвенго» в серии “Penguin Classics”, London, 2000, p. XII.
834
На титульном листе, однако, стоит 1820 г.
835
Из-за спешки в этом переводе было множество неточностей и пропусков. Дефоконпре переделал его и с помощью сына издал в более приемлемой редакции в 1827 г.. Однако за это время были опубликованы другие переводы на французский язык.
836
Эта рецензия, весьма познавательная в том, что касается вкусов молодого Гюго, опубликована Реймондом Робером во французском издании «Айвенго» (Paris, Ed. du Delta, 1970, p. 493-494).
837
Paris, 1825, 3 vol.
838
Э. Фриман — первый историк, решительно поставивший под вопрос это мнимое этническое и политическое разделение Англии на саксонцев и норманнов в своем обширном труде: Freeman Е. The History of the Norman Conquest of England, its Causes and its Results. Oxford, 1875-1879, 6 vol. О задачах, которые ставила перед собой историография норманнского завоевания 1066 г., и о тенденциях ее развития в Англии и Шотландии в XIX в., см. прекрасное исследование: Simmons С. A. Reversing the Conquest. History and Myth in Nineteenth Century Literature. London, 1990.
839
Опять же процитировано у Г. Таллоха в его введении к изданию «Айвенго» в серии “Penguin Classics”, op. cit., p. XII.
840
Среди скудной литературы, посвященной «Айвенго», наилучшее впечатление оставляет книга: de Gatagno P. J. “Ivanhoe”, The Mask of Chivalry. New York, 1994. Она не превышает 120 страниц.
841
Paris, Ed. du Delta, 1970 (превосходные примечания и предисловие написаны Реймондом Робером).
842
Однако перевод Дефоконпре в слегка сокращенном варианте, рассчитанный на юного читателя, выходил в серии “Folio Junior” (Gallimard, 2 vol.). Сейчас, когда я пишу эти строки (октябрь 2003 г.), мне стало известно, что несколько романов Вальтера Скотта только что вышли в издательстве «Галлимар» в знаменитой «Библиотеке Плеяды»: «Айвенго» среди них нет.
843
Baschet J., Lapostolle С., Pastoureau М. et Regis-Cazal Y. Profession medieviste // Medievales, vol. 7, 1984, p. 7-64, в данном случае см. p. 27-28.
844
Jacques Le Goff. A la recherche du Moyen Age. Paris, 2003, p. 11-12.
845
Bloch M. Apologie pour l'Histoire, ou le metier d’historien, 7e ed. Paris, 1974, p. 2.