Книга: Дзэн и японская культура

Дзэн и японская культура

УДК 1/14 + 29 ББК 86.35 С 89
Судзуки Д. Т. Дзэн и японская культура.— СПб.: Наука, 2003. — 522 с.
ISBN 5-02-026193-9
Известный японский буддолог Дайсэцу Тэйтаро Судзуки (1870 —1966) приглашает читателя погрузиться в мир причудливой японской культуры. Своеобразие этой культуры во многом связано с долгим и плодотворным влиянием на нее дзэн-буддизма. Излагая тему одновременно и в качестве представителя японской ментальности, и с позиций светского последователя дзэн, автор умело описывает и анализирует творческий вклад этой школы буддизма в японскую духовную культуру, а именно в фехтование и чайную церемонию, поэзию и драму, живопись и изучение конфуцианства. Он объясняет, почему учение дзэн оказалось созвучным принципам самурайского сословия, а также показывает, какие особенности японского национального духа проявились под влиянием дзэн. Автор подводит читателя к мысли о том, что японцы вряд ли смогли бы образовать целостную нацию, если бы не испытали глубокого воздействия этой школы дальневосточного буддизма, основанной индийским монахом Бодхид- хармой в VI в. н. э.
Для широкого круга читателей.
© Издательство «Наука», 2003 © С. В. Пахомов, перевод, после
ТП-2003-П-№ 196словие> 2003
ISBN 5-02-026193-9© П. Палей, оформление, 2003
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие 5
I. Что такое дзэн? 7
II. Общие замечания о японской культуре .... 26
III. Дзэн и изучение конфуцианства 47
IV. Дзэн и самураи 68
V. Дзэн и искусство фехтования 97
VI. Дзэн и искусство фехтования (продолжение) 154
VII. Дзэн и хайку 245
VIII. Дзэн и искусство чая 305
IX. Дзэн и искусство чая (продолжение) 328
X. Рикю и другие последователи искусства чая 355 XI. Любовь к природе 369
Приложения
I. Два мондо из Хэкигансю 442
II. Вималакирти сутра 454
III. «Яма-уба», пьеса театра Но 463
IV. Фехтовальщик и Кошка 473
V. Чжуан-цзы 482
С. В. Пахомов. Дзэн как основа японской культуры 488
ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга под заголовком Дзэн-буддизм и его влияние на японскую культуру (Zen Buddhism and Its Influence on Japanese Culture) впервые была опубликована в Японии в 1938 г. Восточным буддийским обществом при Буддийском университете Отани в Киото.
С того времени я лучше узнал данную тему, и вполне естественно, что мне захотелось переписать все произведение. Но в нынешних условиях я не смог бы так поступить, поскольку это отняло бы слишком много времени и труда. Поэтому я решил просто переделать уже имеющийся материал в той мере, в какой это необходимо, и добавить к ним отдельные главы по темам, которые меня заинтересовали, а именно искусство меча (кэндо), искусство чая (тя-но ю) и хайку. В результате в некоторых случаях стали неизбежны повторы. Но поскольку я не рассчитывал превращать данную книгу в учебник или некое академическое пособие, то прошу читателей быть снисходительными, надеясь, что они не сочтут недостатки книги чересчур бросающимися в глаза или мешающими связности изложения.
Основная часть материала появилась в виде лекций, прочитанных при разных обстоятельствах в Англии и Америке в 1936 г. Раздел о любви к природе был прочитан автором в виде лекции в 1935 г. в Японии группе западных учеников и потом опубликован в журнале The Eastern Buddhist (Киото) (VII, 1) в 1936 г.
За разрешение использовать цитаты я выражаю благодарность журналу Atlantic Monthly, который предоставил мне отрывки из очерка Хуана Бельмонте о бое быков; издательствам Harcourt, Brace и Со. и Faber и Faber — за цитирование произведения Т. С. Элиота Опустошенная земля (The Waste Land); Harper и Brothers — за поэтические цитаты из Masterpieces of Religious Verse, изданных J. D. Morrison; The Macmillan Co. — за стихотворение Ральфа Ходжсона в той же работе; Новую Американскую библиотеку — за цитату из перевода Бхагавадгиты, сделанного Ишервудом и Прабхаванандой (Isher- wood/Prabhavananda), копирайт Ведантического общества Южной Калифорнии; Dodd, Mead и Со. — за цитаты из Okakura Kakuzo’s The Book of Tea; и John Murray из Лондона — за отрывок из перевода Ле-цзы, сделанного Lionel Giles.
С чувством глубокой признательности я вспоминаю, как многим обязан издательскому коллективу Bollingen Series, особенно мистеру и миссис Уильям Макгир, которые сделали все, чтобы улучшить мой стиль и давали мне советы в технике издания книги.
Дайсэцу Тэйтаро Судзуки
Нью-Йорк, 1958
ЧТО ТАКОЕ ДЗЭН?
1
Прежде чем начать говорить о влиянии дзэн на японскую культуру, я должен объяснить, что такое дзэн, поскольку, может быть, мои нынешние читатели ничего не знают о нем. Однако, так как я уже написал несколько книг по дзэн, я не стану здесь вдаваться в детали.
Если говорить вкратце, дзэн является одним из продуктов китайского сознания, обогащенного индийскими идеями, которые были введены в Китай в I в. н. э. вместе с буддийскими учениями. Некоторым аспектам буддизма, в той форме, в какой он появился в Китае, жители Срединного царства не слишком благоволили — например, поощрению бездомной жизни, устремленности в запредельное, пониманию мира как круговорота, отрицанию жизни и другим. В то же время его глубокая философия, его тонкая диалектика и стройная аналитика, его теоретические конструкции оказали воздействие на китайских мыслителей, особенно на даосов.
По сравнению с индийцами китайцы не слишком склонны к философским спекуляциям. Они, скорее, прагматики и потому посвящают себя мирским занятиям; они интересуются землей, а не небом. Хотя на китайское сознание глубоко повлиял индийский способ мысли, оно никогда не утрачивало контакта с миром множественности, никогда не пренебрегало практической стороной повседневной жизни. Эта национальная, этническая особенность китайского менталитета привела к трансформации индийского буддизма в дзэн-буддизм.
Одним из первых шагов, предпринятых дзэн в Китае, когда он уже достаточно окреп и мог существовать самостоятельно, стало установление специфической формы монашества, весьма отличной от прежних форм монашеского образа жизни. Дзэнский монастырь стал самоуправляемым организмом, состоящим из множества отделений, и каждое из них обладало своими функциями, необходимыми для обслуживания всей общины. Отличительным признаком этого учреждения был принцип полной демократии. Хотя старейшие монахи пользовались уважением, что естественно, они наряду с остальными членами общины участвовали в насущных повседневных занятиях, таких как заготовка топлива, обработка земли и сбор чайных листьев. В подобных делах к работавшим присоединялся и сам наставник — трудясь вместе с братией, он вел их к более глубокому пониманию дзэн.
Гакой образ жизни значительно отличал дзэнские монастыри от сангхи раннего индийского буддизма. Монахи дзэн были не только демократичными, они старались участвовать во всех сторонах практической жизни. Поэтому они обладали и хозяйственной хваткой, и расчетливостью в управлении.
Метафизика дзэн многое заимствовала из даосских учений, видоизмененных буддийскими идеями. Но в своей практической деятельности дзэн полностью игнорировал и даосскую запредельность, и индийскую отрешенность от производительной жизни. Когда одного дзэнского наставника спросили, кем ему хотелось бы стать в следующей жизни, он ответил без колебаний: «Пусть я стану ослом или лошадью и потружусь для селян».
Другое отличие дзэн от прежнего типа монашеского братства, будь то христианского, буддийского
или какого-то другого, состояло в том, что дзэнские монахи не занимались возношением молитв, практикой обетов или исполнением других так называемых благочестивых деяний, не читали и не декламировали священных книг, не обсуждали их содержание и не изучали их, поодиночке или в группе, под руководством наставника. Тем не менее дзэнские монахи помимо того, что они занимались различными практическими делами, как ремеслом, так и черной работой, также каждый день слушали проповеди наставника, краткие и загадочные, задавали ему вопросы и получали ответы. Эти ответы, впрочем, были двусмысленными и довольно неясными и часто сопровождались физическими действиями.
Я приведу один такой случай — возможно, кому-то он покажется эксцентричным. Хотя здесь главными действующими лицами являются не наставник и монах, а сами монахи, этот случай продемонстрирует сам дух дзэн, доминировавший на раннем этапе его истории, в конце династии Тан. Некий монах, выйдя за стены монастыря, которым руководил наставник Риндзай (Линь-цзи, умер в 867 г.), встретил группу из трех странствующих монахов, принадлежавших к другой буддийской школе, и один из этих трех рискнул спросить его: «Насколько глубока река дзэн?» Упоминание о реке было связано с тем, что их встреча происходила на мосту. Дзэнский монах, еще полный впечатлений от общения с Риндзаем, который был знаменит своими прямолинейными действиями, не стал лезть за словом в карман. «Узнай об этом сам», — сказал он и попытался сбросить вопрошавшего с моста. К счастью, вмешались два других его приятеля, призывая дзэн-буддиста к милосердию, и это спасло ситуацию.
Не стоит считать, будто дзэн настроен против слов, однако он хорошо понимает, что они всегда ответственны за то, что сознание отрывается от реальности и воспаряет к абстракциям. Именно против этой выхолощенности и протестует дзэн. Возможно, только что упомянутый случай с дзэнским монахом является крайностью, однако и здесь заметен дух этого неприятия. Дзэн настаивает на том, чтобы оставаться на уровне самих вещей и не пускаться в абстракции. По этой причине дзэн пренебрегает чтением или рецитацией сутр,[1] или рассуждениями на абстрактные материи. И это объясняет, почему дзэн обращен к людям действия, в самом широком смысле слова. Благодаря своему врожденному практицизму китайцы, а также до некоторой степени и японцы охотно принимали дзэн.
2
Дзэн — это практика достижения просветления. Просветление означает независимость, но не в меньшей мере — и свободу. Мы очень много говорим сегодня о различных видах свободы, политической, экономической и иной, но это все совсем не то. До тех пор пока разные виды свободы или прав, о которых мы столько болтаем, остаются на уровне относительности, они далеки от своей истинной сущности. Подлинная свобода — это результат просветления. Когда кто-либо поймет это, то в какой бы ситуации он ни оказался, он всегда внутри себя найдет свободу, ибо эта ситуация совпадает с его собственной линией поведения. Дзэн есть религия дзию (и,зы-ю), «самопо- лагания», и дзидзай (и,зы-и,зай), «самобытия».
Понятие просветления занимает центральное место в учениях всех направлений буддизма, хинаянских и махаянских, школы «полагания на себя» и школы «полагания на другого», школы Благородного восьмеричного пути и школы Чистой Земли, потому что все буддийские учения основываются на опыте просветления Будды, который имел место около двух с половиной тысяч лет назад в северной части Индии. Вот почему считается, что каждый буддист обретет просветление или в этой жизни, или в одной из будущих. Без просветления, либо уже осуществленного, либо где-то, когда-то, каким-то образом реализуемого в будущем, не может быть буддизма. Дзэн здесь не исключение. Фактически именно дзэн особенно подчеркивает просветление, или сатори (у по-китайски).
Для реализации сатори дзэн предлагает нам в целом два пути — вербальный (словесный) и практический.
Первый из них — вербальный — довольно характерная особенность дзэн, хотя он настолько отличается от лингвистической философии или диалектики, что вряд ли можно адекватно использовать термин «вербализм» применительно к дзэн в целом. Но мы, будучи людьми, не умеем — и это нам хорошо известно — обходиться без языка, ибо мы так устроены, что способны существовать только в обществе. Любовь — сущность человечества, но любовь нуждается в чем-то таком, что может ее поддерживать; жизнь человеческих существ должна быть проникнута взаимной любовью. Для своего выражения любовь нуждается в особом способе коммуникации, которым и является язык. Ввиду того что дзэн затрагивает самые глубокие человеческие переживания, он неизбежно обращается к языку, для того чтобы выразить их как другим, так и себе самому. Но вербализм дзэн имеет и свои собственные черты, которые опровергают все правила научной лингвистики. В дзэн опыт и выражение — одно. Вербализм дзэн выражает самые конкретные переживания.
Вот пример: некий дзэнский наставник поднимает свой посох перед собравшимися монахами и заявляет: «Не называйте это посохом. Как вы назовете это?» Кто-то из слушателей выходит вперед, вырывает посох у мастера, разламывает его надвое и бросает наземь. Его действия — результат алогичного заявления наставника.
Другой мастер, держа свой посох, говорит: «Если вы имеете посох, я дам вам свой, если у вас нет его, я его заберу». В подобных словах нет никакой рациональности.
Еще один наставник однажды произнес в проповеди: «Когда вы знаете, что такое этот посох, вы знаете все, вы завершили изучение дзэн». Без дальнейших комментариев он покинул зал.
Это то, что я называю вербализмом дзэн. Философия дзэн происходит отсюда. Эта философия, впрочем, заботится не о том, чтобы объяснить все эти словесные «загадки», но о том, чтобы обратиться к самому сознанию, которое словно окутывает, скрывает их — столь же естественно, сколь и неизбежно, как облака, поднимающиеся над горными пиками. Нас здесь интересует не субстанция, которую окутывают, скрывают слова, но «нечто», находящееся рядом, хотя мы и не можем точно указать на него и воскликнуть: «Здесь!» Назвать «это» сознанием — значит далеко отойти от данных опыта; его, скорее, можно определить как неизвестное «икс». Оно не абстрактно, а вполне конкретно и непосредственно, подобно тому как глаз просто видит солнце. Но это видение не подчиняется категориям логики. Как только мы пытаемся подчинить это логике, оно исчезает. Поэтому буддисты называют его «недостижимым», «неописуемым».
Именно по этой причине посох есть посох и в то же время — не посох, или, иначе, посох есть посох потому, что он не посох. Слово не должно быть оторвано от вещи, факта или переживания.
Дзэнские мастера говорят: «Исследуй живые слова, а не мертвые». Мертвые слова — это слова, которые уже не связаны непосредственно, конкретно и тесно с опытом. Они представляют собой концепции, они отрезаны от живых корней. Они уже перестали волновать мое существо изнутри, из глубин бытия. Они больше не являются тем, что наставники назвали бы «одним словом», которое, когда оно понято, прямо ведет к пониманию сотен, тысяч других слов или фраз, вышедших из уст дзэнских учителей. Дзэнский вербализм имеет дело именно с этими «живыми словами».
Второй способ, позволяющий пережить просветление, состоит в действии. В каком-то смысле и словесные средства тоже являются действенными, пока они конкретны и персональны. Но в том действенном, которое мы называем «телом», участвуют наши органы чувств. Так, однажды монах спросил Ринд- зая, в чем состоит сущность буддийского учения. Тот привстал со своего сидения и, взяв вопрошавшего за грудки, дал ему пощечину и велел убираться. Задавший вопрос в ошеломлении остался на месте. Окружавшие его монахи заметили: «Почему ты не кланяешься?» Это вывело его из оцепенения и, когда он собрался поклониться мастеру, он обрел сатори.[2]
Когда Басо (Ма-цзу, умер в 788 г.) прогуливался с Хякудзё (Бай-чжан), одним из своих ближайших помощников, он заметил улетавших диких гусей и спросил: «Куда они летят?» Хякудзё ответил: «Они уже улетели». Басо резко повернулся и, схватив Хякудзё за нос пальцами, сильно сдавил его. Хякудзё вскрикнул: «Больно, наставник!» — «Кто говорит, что они улетели!» — воскликнул мастер.[3] И тогда Хякудзё понял, что учитель имел в виду вовсе не абстрактных гусей, исчезнувших высоко в облаках. Он хотел обратить внимание Хякудзё на живого гуся, который движется вместе с самим Хякудзё, не вне, но внутри его «человека».
Этот «человек» есть тот самый «истинный человек» Риндзая, который «во всей своей наготе входит и выходит через ваши чувства». Интересно, не о нем ли говорят некоторые современные писатели, которые часто упоминают «третьего человека», идущего «возле тебя», или «на другой стороне тебя», или «позади тебя»Г
Мы можем сказать, что практический урок — это научение действием, обучение через деяние. Нечто похожее на это имеется и в способе достигать просветления через действие. Но прямое действие в дзэн имеет и иной смысл. Оно преследует более глубокую цель, которая состоит в пробуждении в уме ученика некоторого ощущения, которое созвучно пульсации реальности. Следующая история совершенно отличается от предыдущей; она просто показывает, как важно уметь ловко выпутаться из затруднительной практической ситуации самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. Она демонстрирует педагогические приемы, развивающие дзэнский дух «самопола- гания». Это полностью согласуется с учением Будды и других наставников: «Не полагайтесь ни на других, ни на чтение сутр и шастр.[4] Будьте сами себе светильниками».
Госо Хоэн (У-цзу Фа-янь, умер в 1104 г.), живший во времена династии Сун, рассказывает нам следующую историю, желая проиллюстрировать дзэнский дух, который превосходит интеллект, логику и мертвые слова:
«Если люди спросят меня, что такое дзэн, я отвечу, что он подобен обучению искусству взломщика. Однажды сын некоего вора-взломщика увидел, что отец его одряхлел, и подумал: „Если он не способен продолжать заниматься своим делом, кто станет кормильцем семьи, кроме меня? Я должен изучить это ремесло”. Он поделился своей идеей с отцом, и тот одобрил ее.
Однажды ночью отец вместе с сыном подошли к одному большому дому, пролезли сквозь дыру в заборе и проникли внутрь дома. Открыв один из больших сундуков, отец велел сыну залезть туда и вытащить одежду. Как только сын оказался в сундуке, отец опустил крышку и накрепко замкнул ее. Потом он вышел во двор и громко постучал в дверь снаружи, разбудив все семейство; затем он спокойно выскользнул наружу через щель в заборе. Жильцы дома встревожились, зажгли свечи, но обнаружили, что взломщик уже ушел.
Сын, который все это время оставался под замком в сундуке, думал о своем жестоком отце. Он был на него смертельно обижен, но тут блестящая идея осенила его. Он стал царапать сундук, подражая скребущейся крысе. Обеспокоенная семья велела служанке взять свечу и узнать, что там, в сундуке. Когда крышку открыли, наружу быстро выбрался плененный сын, который задул свечу, оттолкнул служанку и побежал. Люди бросились за ним. Приметив колодец по пути, он поднял большой камень и бросил его в воду. Все преследователи собрались вокруг колодца, пытаясь найти вора, нырнувшего в темный проем.
Тем временем сын целым и невредимым добрался до родного дома и в сердцах набросился на отца с упреками за его предательское бегство. Отец ответил: „Не обижайся, сын мой. Скажи только, как ты выбрался оттуда?” Когда сын поведал ему обо всех своих приключениях, отец заметил: „Ну вот, ты и научился нашему искусству”».[5]
Смысл этой истории в том, чтобы показать тщетность словесных наставлений и абстрактного представления, когда имеется в виду опыт просветления. Сатори должно стать результатом внутренней работы индивида, а не продуктом какого-то внешнего словесного влияния.
Известно изречение, высказанное одним из наставников ранней Тан, где утверждается, что дао — это только повседневные переживания человека. Когда мастера спросили, что он имел в виду, тот ответил: «Если вы голодны, то вы едите, если испытываете жажду, пьете, когда встречаете друга, вы его приветствуете ».
Некоторые могут подумать, что это лишь некий животный инстинкт или социальный обычай, здесь, мол, нет ничего такого, что можно назвать нравственностью, а тем более — духовностью. Они скажут: если мы такое называем «дао», то что за никчемная вещь это дао!
Те, кто не сумел проникнуть в глубины нашего сознания, в том числе и в бессознательное, склонны придерживаться подобной ошибочной концепции. Но нужно помнить, что, если дао будет чем-то высоко абстрактным, превосходящим наш обыденный опыт, оно ничего общего не будет иметь с реальностью жизни. Жизнь, которой мы живем, не имеет отношения к абстракциям. В противном случае интеллект стал бы самой главной вещью на свете, а философ — мудрейшим человеком. Однако, как указывает Кьеркегор, хотя философ строит прекрасный дворец, ему не суждено жить в нем: для себя у него есть пристанище возле того великолепия, которое он воздвигает, — воздвигает с той целью, чтобы и другие, и он сам любовались бы им.
Мэн-цзы говорит: «Дао рядом, но люди ищут его где-то вдали». Это означает, что дао и есть наша обычная жизнь. «Дао, которое вообще может быть названо, не есть настоящее дао (чан дао)».*
Цитата из Дао-дэ цзина. — Прим. пер.
І2 Д. Судзуки
В реальности дао — это гораздо больше, чем простой животный инстинкт и социальный обычай, хотя эти элементы также в него включены. Это нечто глубоко укорененное в каждом из нас, во всех существах, одушевленных и неодушевленных, и оно требует для своего познания чего-то такого, что совершенно отличается от так называемого научного анализа. Оно бросает вызов нашим интеллектуальным занятиям, потому что является слишком конкретным, слишком близким, и поэтому оно находится за пределами определимости. Несомненно, оно противостоит нам, но противостоит так, как Эверест — горновосходителям: не навязывая себя, не угрожая.
Одного мастера спросили: «Что такое дзэн?» (Это все равно что спросить: «Что такое дао?»)
«Я не знаю», — ответил он.
Спросили другого: «Что такое дзэн?»
«Взмах шелковым веером дает мне достаточно прохлады», — был ответ.
Спросили третьего: «Что такое дзэн?»
«Дзэн», — ответил мастер.
Возможно, слова Лао-цзы могут помочь нам в понимании дзэн даже больше, чем слова дзэнских наставников:
Дао — это что-то неясное, неопределимое;
Какое неопределимое! Какое неясное!
Но все же в нем есть форма.
Какое неясное! Какое неопределимое!
И все же в нем содержатся вещи.
Какое темное! Какое глубокое!
И все же в нем есть основа.
Основа изначальна
И в ней — искренность.
Исстари и до сего дня
Имя его никогда не отдаляется.
И поэтому оно управляет всеми вещами
Как мне понять все вещи в их таковости? Только благодаря ему.
Цель дзэнской практики — заставить нас понять, что дзэн лежит в основе нашего повседневного опыта, он не приходит откуда-то со стороны. Тэнно Дого (Тянь-хуан Дао-у, 748—807) показывает это еще более красноречиво в общении с монахом-новичком, тогда как неизвестный японский фехтовальщик демонстрирует это в более грозной манере, характерной для представителей его профессии. История Тэнно Дого звучит следующим образом.
Дого имел ученика по имени Сосин (Чун-синь). Когда Сосин был принят в монастырь в качестве послушника, он по привычке ожидал, что учитель преподаст ему уроки дзэн примерно так же, как школьнику преподают предметы в школе. Однако Дого не давал ему никаких особых уроков по дзэн, и это сбило с толку, разочаровало Сосина. Однажды он заявил мастеру: «Вот уже столько времени я здесь, но до сих пор не услышал от вас ни слова относительно сущности дзэн». Дого ответил: «Со дня твоего прихода я постоянно учил тебя дзэнским приемам».
«Каким же образом вы учили меня?»
«Когда ты приносишь мне чашку чая поутру, я беру ее; когда ты подаешь пищу, я ее принимаю; когда ты мне кланяешься, я возвращаю тебе поклон кивком. Как еще, по-твоему, я должен тебя учить созерцательной практике дзэн?»
Сосин понурил голову, пытаясь разобраться в непонятных словах учителя. Мастер сказал: «Если желаешь видеть, смотри без промедления. Когда ты начинаешь думать, упускаешь смысл».
История фехтовальщика такова.
Некий ученик пришел к наставнику,[8] чтобы научиться у него искусству владения мечом. Учитель, живший уединенно в горной хижине, согласился его обучить. Ученику было поручено помогать ему: собирать хворост, приносить воду из соседнего источника, рубить дрова, разводить огонь, готовить пищу, убираться в комнатах и в саду, в общем, присматривать за домом. Какого-то регулярного, практического обучения искусству не было. Спустя некоторое время юноша стал испытывать неудовлетворенность, ведь он не собирался идти в слуги к пожилому господину, но хотел обучаться искусству обращения с мечом. Поэтому однажды он подошел к мастеру и попросил его начать обучение. И тот согласился.
В результате молодой человек уже не мог заниматься никаким делом так же спокойно, как раньше. Когда он начинал рано утром готовить рис, внезапно появлялся мастер и бил его палкой. Когда он вовсю занимался уборкой, непонятно откуда также мог последовать удар. Юноша не знал покоя, ему приходилось постоянно находиться qui vive[9] Прошло несколько лет, прежде чем он смог успешно уворачиваться от любых ударов наставника, откуда бы они ни появлялись. Но мастер все еще не был вполне им доволен.
Однажды ученик застал учителя готовящим свою пищу на открытом огне. Ученик решил воспользоваться этой возможностью. Схватив свою большую палку, он обрушил ее на голову мастера, стоявшего над сковородкой и перемешивавшего пищу. Но палка ученика задела только дно сковороды, подставленной наставником. И это открыло сознанию ученика искусство, которое дотоле хранилось от него в секрете и которого он так долго был чужд. Тогда он впервые оценил беспримерную доброту мастера.
Тайны совершенного владения мечом состоят в создании некоей основы, структуры в уме, благодаря которой человек всегда готов мгновенно, то есть непосредственно, ответить на импульсы, приходящие извне. Конечно, тренировки по развитию техники имеют большое значение, но, в конце концов, в них есть нечто искусственное, целенаправленное, рациональное. Если ум, который использует технические навыки, каким-то образом оказывается в созвучии с состоянием высшей текучести, или подвижности, то никакие его достижения, никакие его ухищрения не помешают спонтанности и естественному развитию. Это состояние преобладает, когда ум пробужден к состоянию сатори. Мастеру фехтования удалось приблизить ученика к обретению этой реализации. Ее невозможно преподать с помощью какой бы то ни было системы, специально предназначенной для этой цели, она должна вырасти изнутри. Система наставника в реальности не являлась системой в точном смысле слова. Но при всем внешнем ненормальном поведении учителя в нем имелся «естественный» метод, и мастер сумел пробудить в сознании своего ученика нечто такое, что запустило механизм, необходимый для научения искусству владения мечом.
Дзэнскому мастеру Дого не пришлось все время нападать на своего ученика с палкой. Мастер меча преследовал более прагматические цели, они ограничивались рамками применения этого вида оружия, тогда как Дого хотел научить приобщаться к тому источнику бытия, из которого происходит все то, что формирует наш повседневный опыт. Поэтому, когда Сосин стал размышлять над словами наставника, Дого и сказал ему: «Не думай вообще. Если желаешь видеть, сразу же и смотри. Когда ты мешкаешь [то есть как только имеет место рациональная интерпретация или раздумывание], вещи искажаются». Это означает, что при изучении дзэн концептуализация должна исчезнуть, потому что если медлить на этой ступени, то можно никогда не достичь области, где открывается сущность дзэн. Дверь опыта просветления открывается сама собой, как только человек наконец выходит из мертвого тупика интеллектуальных построений.
Трудноуловимость, уклончивость истины, или реальности, или, я бы даже сказал, Бога, когда кто-то пытается ухватить ее или Его посредством концепций или рассуждений, напоминает тяжкие труды при ловле полосатой зубатки бутылкой из тыквы. Это удачно иллюстрирует Дзёсэцу, японский художник XV столетия. Его картина хорошо известна; верхняя ее часть испещрена стихами, написанными дзэнскими мастерами того времени.
5
Теперь мы уже можем обобщить то, что выше было сказано о дзэн.
Дзэнская дисциплина состоит в достижении просветления (сатори).
Сатори есть обретение смысла, до поры до времени скрытого в наших повседневных действиях, таких как прием пищи, питья, бытовые занятия.
Открывшийся смысл не есть нечто, пришедшее извне. Он находится в самом бытии, в самом становлении, в самой жизни. По-японски это называется коно-мама, или соно-мама [10] Коно- или соно-мама означает «бытийность»[11] вещи, реальность в своей бытийности, этости.
Некоторые могут возразить: «Не может быть никакого смысла в простой этости». Но подобного никогда не скажут последователи дзэн, полагающие, что именно этость и есть смысл. Когда я вглядываюсь в нее, я вижу ее столь же ясно, как и свое отражение в зеркале.
Это то, что заставило Хокодзи (Пан Цзю- ши), мирского последователя дзэн, жившего в VIII в., воскликнуть:
Как чудесно это, как таинственно!
Я ношу топливо, я таскаю воду!
Ношение топлива или воды помимо своего утилитарного значения исполнено особого смысла; отсюда — его «чудо», его «таинство».
Поэтому дзэн не увлекается ни абстракциями, ни концептуальностью. Если судить по внешним словесным выражениям, может иногда показаться, что дзэн занимается этим весьма активно. Но это заблуждение обычно разделяют те, кто совсем не понимает дзэн.
Сатори — это нравственная, духовная, а также умственная независимость. Когда я пребываю в своей бытийности, полностью очищенный от всех умственных наслоений, я свободен в исконном смысле слова «свобода».
Когда ум, отныне пребывающий в своей бытийности, — которая, если использовать дзэнский фразеологизм, не есть бытийность, — и тем самым освобожденный от интеллектуальных ухищрений и моралистических привязанностей всякого типа, осматривает мир чувств во всем его многообразии, он обнаруживает в нем все ценности, дотоле скрытые от взора. Здесь художнику открывается мир, полный чудес и удивления.
Мир художника — это мир чистого созидания, который может появиться только из интуиций, прямо и непосредственно произрастающих из этости вещей, не тронутой чувствами и интеллектом. Он творит формы и звуки из бесформенности и беззвучности. До этой ступени мир художника совпадает с миром дзэн.
Дзэн отличается от искусства следующим: в то время как художникам для самовыражения приходится обращаться к холсту и кисти, каким-то механическим инструментам или иным подручным средствам, дзэн не нуждается во внешних вещах, за исключением «тела», в котором, так сказать, воплощается приверженец дзэн. С абсолютной точки зрения, это не вполне корректно; я говорю так только потому, что поддаюсь обычному способу выражения. Дзэн стремится прочертить на бесконечных холстах времени и пространства путь летящих над водой диких гусей, которые совершенно без какого бы то ни было намерения отбрасывают на нее свою тень; в то же время и вода отражает гусей столь же естественно, сколь и непреднамеренно.
Человек дзэн есть творец в той же мере, в какой является творцом скульптор, высекающий гро
мадную фигуру из толщи инертной материи. Но человек дзэн превращает свою собственную жизнь в работу творения, которое существует, как сказали бы христиане, в уме Бога.[12]
После этих предварительных замечаний на следующих страницах мне хотелось бы обратиться к той роли, которую дзэн-буддизм сыграл в становлении японской культуры и японского характера, выражая себя как в искусстве в целом, так и, в частности, в развитии бусидо («пути воина»), в изучении и распространении конфуцианства и общего образования, в расцвете чайного искусства, а также в составлении формы стиха, известной как хайку; мимоходом также будут затронуты и некоторые другие темы.
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЕ 1
Отметив упомянутые выше отличительные признаки духовной атмосферы, выросшей из дзэн, мы теперь сможем перейти к рассмотрению того, какой вклад внес дзэн в формирование японской культуры. Примечательно, что влияние других школ буддизма на жизнь японского народа почти целиком было ограничено сферой идей, но дзэн вышел за эти рамки, глубоко проникнув во все области культурной жизни японцев.
В Китае это было не совсем так. В огромной степени дзэн соединился здесь с даосскими верованиями и практиками, с конфуцианским учением о нравственности, однако это не повлияло на культурную жизнь китайцев так глубоко, как в Японии. (Может, именно благодаря своим психологическим особенностям японцы приняли дзэн настолько энергично и глубоко, что он стал даже частью их жизни?) Тем не менее я должен отметить один значительный факт из культурной истории Китая: дзэн придал существенный толчок развитию китайской философии в эпоху династии Сун, а также расцвету одной из школ живописи. Большое количество образцов этой школы привозилось в Японию с начала эпохи Камакура, и особенно в XIII в., когда дзэнские монахи постоянно путешествовали из одной страны в другую. Тем самым полотна Южной Сун обрели своих восхищенных ценителей
по ту сторону моря, а ныне они являются национальным достоянием Японии, тогда как в самом Китае ни одного экземпляра этого класса живописи не осталось.
Прежде чем двигаться дальше, мы можем сделать некоторые общие замечания об одной яркой особенности японского искусства, которая близко связана и в конечном счете происходит из дзэнской ориентации на явления мира.
Среди характерных признаков живописи талантливых японских художников мы можем упомянуть так называемый стиль «одного угла», основателем которого был Баэн (Ма Юань, 1175 —1225), один из величайших художников Южной Сун. Стиль «одного угла» психологически связан с японской художественной традицией «бережливой кисти» — нанесения на шелк или бумагу как можно меньшего количества линий или штрихов. Эта бережливость очень созвучна духу дзэн. Достаточно бывает изображения простой рыбачьей лодки посреди бурлящих вод, чтобы пробудить в уме созерцающего ощущение обширности и в то же время спокойствия, умиротворенности моря — пробудить дзэнское ощущение великого одиночества. На первый взгляд, лодка безнадежно тонет. Эта примитивная конструкция, не имеющая механического устройства для поддержания устойчивого положения и для смелого вызова бушующим волнам, не располагающая хитроумным аппаратом для уверенного противостояния любым погодным условиям, — полный контраст современному океанскому лайнеру. Но сама эта беспомощность — достоинство рыбачьей лодки, ибо по контрасту с ней мы чувствуем непостижимость абсолюта, окружающего лодку и весь мир. Одинокой птицы на мертвой ветке, в которой подчеркнуты и контур, и оттенки, достаточно для того, чтобы выразить одиночество осени, тот период, когда дни становятся короче и природа начинает сворачивать свою великолепную демонстрацию роскошной летней растительности.[13]
Здесь мы встречаем высокую оценку запредельной отрешенности, возникающей посреди разнообразия жизни. Эта отрешенность в словаре японских культурных терминов называется вабы. Ваби буквально означает «бедность», или, апофатически, «отсутствие пребывания в светском обществе времени». Быть бедным — значит не зависеть от мирских вещей (от состояния, власти и репутации) и все-таки чувствовать внутреннее присутствие некоей ценности, превосходящей время и социальное положение. Это и образует сущность ваби. С точки зрения практической повседневной жизни, ваби — это быть удовлетворенным маленькой хибаркой, комнатой в два-три татами (маты), подобно деревянной лачуге Торо, и блюдом овощей, выращенных на ближайшем огороде, и, может быть, слушать скороговорку мягкого весеннего дождя. Поскольку мне позже еще придется говорить о ваби, здесь я просто скажу, что культ ваби глубоко вошел в культурную жизнь японского народа. Это подлинное почитание бедности — возможно, самый подходящей культ для такой бедной страны, как наша. Несмотря на современную западную роскошь и жизненные удобства, которые заполонили Японию, в нас все еще остается неискоренимое почтение к ваби. Даже в интеллектуальной жизни мы ценим не богатство идей, не тонкость или формальную логичность в выстраивании мыслей и разработке некоей философской системы; спокойно довольствоваться мистическим созерцанием природы и чувствовать мир как родной — вот что, скорее, вдохновляет нас, по крайней мере некоторых из нас.
Какими бы «цивилизованными» мы ни становились в искусственно созданном окружении, все мы, по-видимому, обладаем внутренним стремлением к первозданной простоте, к естественному образу жизни. Отсюда любовь горожан к летним пикникам в лесу или к походам в дикие, не тронутые цивилизацией места. Мы хотим время от времени припадать к истоку природы и непосредственно ощущать ее пульсацию. Дзэнская традиция разрушать все формы человеческого притворства и твердо держаться того, что находится вне их, помогла японцам не забывать о земле, дружить с природой и принимать ее безыскусную простоту. Дзэн не приемлет запутанных вещей, лежащих на поверхности жизни. Жизнь сама по себе довольно проста, но когда ее препарирует анализирующий разум, она начинает представлять из себя необыкновенную путаницу. Наш научный аппарат не помогает нам проникнуть в таинства жизни. Тем не менее, оказавшись в ее потоке, мы, похоже, способны понять жизнь во всем ее, на внешний взгляд, бесконечном многообразии и сложности. Очень вероятно, что самая примечательная черта характера восточных народов — это способность постигать жизнь из нее самой, а не извне. И дзэн как раз занят этим.
Для живописи особенно характерно пренебрежение к форме, когда много внимания уделяется возвышению роли духовного начала. Стиль «одного угла» и бережливость штрихов кисти также помогают отрешаться от правил условности. Там, где по привычке ожидаешь встретить линию, или массу, или элемент симметричности, они отсутствуют, и все-таки именно это отсутствие неожиданно пробуждает в тебе чувство удовольствия. Несмотря на изъяны или недостатки, которые, без сомнения, можно здесь разглядеть, их не ощущаешь как таковые; и действительно, само это несовершенство оказывается формой совершенства. Очевидно, красота не обязательно должна означать совершенство формы. Японские художники любили воплощать красоту в форме несовершенства или даже безобразия.
Когда эта красота несовершенства вещи сочетается с ее древностью или примитивной грубоватостью, мы имеем проблеск саби, которое столь ценят японские знатоки. Древность и примитивность не могут быть современными. Если какой-либо предмет искусства затрагивает в нас, пусть даже поверхностно, ощущение исторического периода, то в нем наверняка есть саби. Саби состоит в простой естественности или в архаическом несовершенстве, во внешней простоте или в отсутствии усилия в исполнении, в изобилии исторических ассоциаций (которые, однако, не всегда могут присутствовать), и, наконец, оно содержит некие необъяснимые элементы, которые поднимают данный предмет до уровня художественного произведения. Эти элементы вообще рассматриваются как происходящие из понимания дзэн. Приборы, которые используются в чайной церемонии, главным образом именно этой природы.
Вот как мастер чая определяет художественный элемент, входящий составной частью в саби, которое буквально означает «одиночество», или «уединенность»:
Когда поздней осенью днем выхожу я К этой рыбацкой деревушке,
Никаких пышных цветов не вижу,
Никаких ярких кленовых листьев
Действительно, одиночество влечет к созерцанию, само по себе оно не стремится к публичному показу. Может показаться, что это очень несчастное, незначительное, жалкое состояние души, особенно если его противопоставить современному западному стилю жизни. В самом деле, какая может быть зрелищность в состоянии уединения, столь далеком от мельтешения знамен, грохота фейерверков, которые неотъемлемы от пышного самовыражения беспредельно разнообразных форм и бесконечно изменяющихся оттенков цвета? Возьмите один из эскизов сумиэ, скажем, портреты Кандзана и Дзиттоку (Хань-шань и Ши-дэ),[15] повесьте его в какой-нибудь европейской или американской галерее искусства и посмотрите, какой эффект он произведет на посетителей. Идея одиночества принадлежит Востоку, там она чувствует себя как дома.
Чувство одиночества может появиться не только при виде рыбацкой деревни ранним осенним вечером, но и при виде пробивающейся травы ранней весной. Последнее, по всей вероятности, даже лучше передает идею саби или ваби, поскольку в образе этой зеленой травы, если судить по следующему стихотворению из тридцати одного слога, мы видим свидетельство того, как проявляется жизнь посреди зимней заброшенности:
Тем, кто молит только о вишнях в цвету,
Как хотел бы я показать родник.
Который отражает пучок травы,
Выросшей в заснеженной горной деревне!
Один опытный мастер чая приводит этот стих, указывая, что он в совершенстве выражает саби, один из четырех главных принципов чайной церемонии (тя-но ю). В этом четверостишии описано лишь робкое начало жизненной силы, принявшей вид зеленой травки, но имеющий глаза может легко различить источник, бьющий из-под снежной толщи. Можно сказать, что это лишь простое предположение, игра ума, но все-таки здесь — не просто робкий намек на жизнь, но в полной мере сама жизнь. С точки зрения поэта, жизнь присутствует в жалком пучке травы в той же степени, как и в поле, покрытом зеленью и цветами. Можно назвать это мистическим чувством художника.
Еще одна отличительная черта японского искусства — асимметрия. Идея асимметрии несомненно происходит от стиля «одного угла» Баэна. Самый ясный и отчетливый образец ее виден в плане буддийской постройки. Главные элементы, такие как привратная башня, зал Дхармы, зал Будды и другие, выстроены по прямой линии; элементы же вторичные, имеющие дополнительное значение, а иногда даже элементы важнейшие не расположены симметрично, например в виде крыльев по обеим сторонам основной линии. Можно обнаружить, что они в неправильном порядке разбросаны по территории в соответствии с особенностями местности. Вы легко убедитесь в этом, если посетите некоторые буддийские горные храмы, например святилище Иэясу в Никко. Мы можем сказать, что асимметрия вполне характеризует японскую архитектуру этого класса.
Асимметрия также может быть показана par excellence в конструкции чайной комнаты и в приборах, которые используются в ней. Взгляните на потолок (он может быть отделан по меньшей мере тремя различными стилями) и на некоторые разновидности чайной утвари, а потом на расположение и укладку камней и плит в саду. Мы встречаем массу примеров асимметрии, или, в известном смысле, примеров несовершенства, примеров стиля «одного угла».
Некоторые японские моралисты склонны объяснить этот интерес наших художников к асимметричному оформлению вещей, идущему вразрез с общепринятыми, или, лучше сказать, геометрическими правилами искусства, тем, что японцев с детства приучают не быть навязчивыми, всегда держаться в тени. Эта психологическая привычка к самоуничижению соответственно выражается и в искусстве — например, когда художник оставляет значимое, центральное пространство картины пустым. Но, по-моему, эта теория не совсем корректна. Может, более правдоподобным объяснением являлось бы то, что художественный гений японского народа был вдохновлен дзэнским отношением к индивидуальным вещам как совершенным в самих себе и в то же время как воплощающим природу целого, которая принадлежит Одному?
Аскетическая эстетика не столь органична, как дзэнская. Побуждения искусства более глубоки, более естественны, чем побуждения морали. Зов искусства непосредственнее проникает в человеческую природу. Мораль регулирует, искусство творит. Первая есть навязывание извне, второе — спонтанное выражение изнутри. Дзэн находит себя именно в искусстве, а не в морали. Дзэн может быть вне морали, но не вне искусства. Когда дзэнские художники создают вещи, не совершенные с точки зрения формы, они, бывает, охотно подчиняют свои художественные искания современному им понятию морального аскетизма; но нам не следует придавать слишком много значения их толкованиям, как, впрочем, и толкованиям критиков. В конце концов, уровень нашего сознания не является слишком надежным мерилом для правильного суждения.
Как бы то ни было, асимметрия — характерная особенность японского искусства, а также одна из причин нечеткости, приблизительности, присущих до известной степени предметам японского искусства. Симметрия внушает ощущение грациозности, величественности и выразительности; это относится также к формальной логике с ее нагромождением абстрактных идей. Японцев из-за их культуры, в целом не отягощенной жестким рационализмом, считают людьми неинтеллектуальными, не склонными к философии. Я полагаю, что эта критика объясняется любовью японцев к асимметрии. Ведь интеллектуалы прежде всего стремятся к равновесию, тогда как японцы умеют игнорировать его и больше настроены на нарушение равновесия.
Дисбаланс, асимметрия, «один угол», бедность, или саби, ваби, простота, одиночество и тому подобные идеи являются наиболее заметными, специфическими признаками японского искусства и культуры. Все они следуют главной истине дзэн — «одно во многом и многое в одном», или, лучше, «одно, остающееся одним во многом, как индивидуально, так и совместно».
2
Тот факт, что дзэн стимулировал творческий дух японского народа и внушал японским произведениям искусства свои идеи, связано со следующими обстоятельствами: во-первых, дзэнские монастыри слыли привилегированными центрами учености и искусства, по крайней мере в эпохи Камакура и Муромати; дзэнские монахи имели постоянные возможности вступать в контакт с носителями иностранных культур; во-вторых, монахи сами являлись художниками, учеными и мистиками; в-третьих, политические силы того времени поощряли их занятия коммерческой деятельностью, направленной на ввоз иностранных предметов искусства и ремесла в Японию; в-четвертых, аристократы и влиятельные политики Японии покровительствовали дзэнским учреждениям и охотно участвовали в дзэнском движении. Таким образом, дзэн не только непосредственно воздействовал на религиозную жизнь японцев, но и влиял на их культуру в целом.
Тэндай, сингон и дзёдо* внесли большой вклад в приобщение японцев к буддийскому духу и посредством своей иконографии развивали их художественные таланты в скульптуре, живописи, архитектуре, вышивке и литье. Но философия тэндай слишком абстрактна и глубока, чтобы ее понимал народ; ритуализм сингон слишком утончен и сложен, а значит, чересчур расточителен для простых людей. С другой стороны, представители сингон, тэндай и дзёдо создали прекрасные скульптурные произведения, живописные картины и художественно выполненную утварь, и все это применялось в повседневном культе. Наиболее высоко ценимые «национальные сокровища» относятся к периодам Тэмпё, Нара и Хэйан, когда сингон и тэндай были на подъеме и тесно взаимодействовали с культурной элитой общества. Дзёдо проповедует учение о величественной Чистой Земле, где пребывает во главе сонма бодхисаттв Будда Бесконечного Света, и эти проповеди вдохновляли художников писать прекрасные изображения Будды Амида, сохранившиеся в различных буддийских храмах Японии. Нити- рэн и син — творение японского религиозного духа. Школа нитирэн мало повлияла на нас в художественном и культурном отношении. Син с ее иконоборческими тенденциями не произвела в искусстве и литературе ничего, достойного упоминания, за исключением гимнов-васан и «благородных речений» (го- бунсё или офуми), главным образом принадлежащих Рэннё (1415—1499).
Помимо дзэн эти школы, а также син и нитирэн являют ся главными школами буддизма в Японии.
Дзэн появился в Японии уже после сингон и тэндай и сразу же был признан в среде военного сословия. В силу чисто исторической случайности дзэн встал в оппозицию к официальному жречеству. Знать также поначалу чувствовала некоторую неприязнь к нему и применяла свою политическую власть для того, чтобы противодействовать ему. Поэтому в Японии на ранних этапах своего развития дзэн избегал Киото и пользовался покровительством рода Ходзё из Камакура. Этот город, центр феодального правительства того времени, и стал штаб-квартирой дзэнского движения. Многие дзэнские монахи из Китая обосновались в Камакура, где встретили мощную поддержку со стороны членов клана Ходзё — Токи- ёри, Токимунэ, их преемников и вассалов.
Китайские наставники привезли с собой немало художников и произведений искусства, и те японцы, что вернулись из Китая, также везли шедевры искусства и литературы. Картины Какэя (Ся Гуэй, расцвет приходится на 1190—1220 гг.), Моккэя (Му Ци, расцвет около 1240 г.), Рёкая (Лян Кай, расцвет около 1210 г.), Баэна (Ма Юань, 1175 — 1225) и
других мастеров тем самым проложили себе путь в Японию. Рукописи знаменитых дзэнских наставников Китая также нашли приют в здешних монастырях. Каллиграфия на Дальнем Востоке — искусство в той же мере, что и живопись сумиэ, и она была очень широко распространена среди интеллектуалов старого времени. Дух, пронизывавший дзэнские картины и каллиграфию, оказал на этих людей сильное влияние, и они охотно обращались к дзэн, практиковали его. В дзэн есть нечто мужественное, несгибаемое. Мягкую, нежную и чарующую атмосферу, почти женственную, если можно так выразиться, которая доминировала в Японии до эпохи Камакура, теперь заменила атмосфера мужественности, лучше всего выразившая себя в скульптуре и каллиграфии. Грубая мужская сила воинов провинций на равнине Канто вошла в пословицу, контрастируя с утонченностью, рафинированностью кварталов Киото. Воинский дух, с его мистицизмом и отчужденностью от мирских занятий, тянется к силе воли. Дзэн в этом отношении идет рука об руку с духом бусидо («путь воина»).
В дзэнском движении, или, скорее, в монастырской жизни, в которой обычно и развивается дзэн, имеется и еще один фактор: поскольку монастырь по традиции располагается в горах, его насельники вступают в тесное общение с природой, они являются близкими и благодарными ее учениками. Они наблюдают за растениями, птицами, животными, скалами, реками — за всем тем, что горожане в основном игнорируют. И это их наблюдение основывается на их философии, или, лучше сказать, на их интуиции. Причем это не интуиция простого натуралиста. Она проникает в ту самую жизнь вещей, которая находится под наблюдением монахов. Все, что они станут рисовать, будет выражать эту интуицию; мы можем почувствовать, как «дух гор» мягко веет в их работах.
Глубинная интуиция дзэнских мастеров, обретаемая ими посредством практик, по-видимому, пробуждает их художественные настроения, если они вообще бывают чувствительны к искусству. Интуиция, которая побуждает мастеров создавать прекрасные вещи, то есть выражать чувство совершенства посредством вещей безобразных, несовершенных, похоже, тесно связана с творческим чувством. Дзэнские мастера могут и не становиться хорошими мыслителями, но они очень часто являются прекрасными художниками. Даже их техника рисования — это зачастую первоклассная техника, и, кроме того, они знают, как сказать нам нечто уникальное и оригинальное. Можно назвать одного такого мастера — это Мусо, императорский наставник (1275 —1351). Он был прекрасным каллиграфом и великим садовником-художни- ком; где бы он ни оказывался, — а он был в самых разных местах в Японии, — он разбивал великолепные сады, некоторые из них до сих пор сохранились в прекрасном состоянии, хотя прошло так много лет. Среди известных художников дзэн XIV и XV вв. мы можем упомянуть Тёдэнсу (умер в 1431 г.), Кэйсёки (расцвет приходится на 1490 г.), Дзёсэцу (расцвет в 1375 — 1420 гг.), Сюбун (расцвет творчества — 1420—1450 гг.), Сэссю (1421—1506) и др.
Жорж Дютюи, автор книги «Китайский мистицизм и современная живопись»,[17] по-видимому, понимает дух дзэнского мистицизма. Он говорит следующее: «Когда китайский художник рисует, какая у него концентрация мысли, какой быстрый, энергичный взмах руки, которая подчиняется направляющей воле! Традиция предписывает ему видеть, или, скорее, чувствовать содержание картины еще до прикосновения кисти к холсту. Если мысли человека путаются, он станет рабом внешних обстоятельств... Тот, кто обдумывает, прежде чем шевельнуть кистью и решиться создать картину, утрачивает в еще большей степени искусство живописи. [Это весьма напоминает автоматическое письмо.] Рисуйте бамбуки десять лет, станьте бамбуком, затем забудьте совсем о бамбуках, когда вы рисуете их. Обладая безошибочной техникой, мастер отдается на милость вдохновения».
Стать бамбуком и забыть, что ты одно с ним, когда рисуешь его, — таков дзэн бамбука, это движение в гармонии с «ритмичным течением духа», который пребывает в бамбуке в той же мере, как и в самом художнике. То, что ныне требуется от художника, это твердо держаться духа и все-таки не сознавать этого факта. Задача очень сложна, и решается она только после долгой духовной тренировки.[18] Восточных людей с ранних времен учат подчинять себя этому виду дисциплины, если они хотят достичь чего-то в мире искусства и религии. По сути, дзэн дал выражение ему в следующей фразе: «Одно во Всем и Все в Одном». Когда это понято в полной мере, есть место для творческого гения.
Чрезвычайно важно толковать здесь эту фразу в ее собственном смысле. Люди думают, что она по своему характеру пантеистична, и некоторые последователи дзэн, возможно, согласятся с такой мыслью. Это достойно сожаления, ведь пантеизм — это нечто чуждое дзэн, так же как и пониманию художником своей деятельности. Когда дзэнские учителя заявляют, что Одно содержится во Всем, а Все в Одном, они не имеют в виду, что есть нечто, называемое «Одно» или «Все», и что Одно — это другое, и наоборот. Поскольку Одно — во Всем, некоторые полагают, будто дзэн является пантеистической религией. Это совсем не так; дзэн никогда бы не стал постулировать Одно или Все как нечто такое, что можно ухватить с помощью чувств. Фразу «Одно во Всем и Все в Одном» нужно понимать как выражение абсолютной интуиции праджни, ее нельзя концептуально анализировать. Когда мы видим луну, мы знаем, что это — луна, и этого достаточно. Те, кто стремится анализировать переживания и пытается обосновать некую теорию познания, не могут быть учениками дзэн. Они перестают быть таковыми, если вообще ими были, в тот момент, когда приступают к анализу. Дзэн всегда держится непосредственного опыта, он отказывается подчиняться какой-либо системе философии.
Даже тогда, когда дзэн увлекается рационализмом, он никогда не придерживается пантеистической трактовки мира. Прежде всего нет Одного в дзэн. Если дзэн и говорит об Одном так, как если бы он признавал его, то всего лишь потому, что приноравливается к обычному словоупотреблению. Для учеников дзэн Одно есть Все, а Все есть Одно; и все-таки Одно остается Одним и Все — Всем. Выражение «не два» может привести логика к выводу: «значит, это — одно». Но сам мастер сказал бы: «и не одно!» Что же тогда? — спросили бы мы. Мы оказываемся в тупике, когда обращаемся к умственным построениям. Поэтому мастер говорит, что «если вы желаете напрямую войти в [реальность], я скажу вам: „не два!”»
Следующее мондо[19] помогает иллюстрировать положение, которое я хочу показать в связи с дзэнским отношением к так называемой пантеистической интерпретации природы.
Один монах спросил Тосу (Тоу-цзы), дзэнского мастера эпохи Тан: «Я думаю, что все звуки — это голос Будды. Правильно ли это?» Мастер сказал: «Это правда». Затем монах продолжал: «Не будет ли наставник столь добр прекратить производить шум, который напоминает звук хлюпающей грязи?» Тогда мастер ударил монаха.
Монах опять спросил Тосу: «Прав ли я, когда так понимаю сказанное Буддой: что все слова, какими бы они ни были тривиальными и унизительными, относятся к высшей истине?» Мастер сказал: «Да, вы правы». Монах продолжал: «Могу я тогда назвать вас ослом?» И мастер ударил его.
Возможно, следует объяснять эти мондо попроще. Я полагаю, что восприятие каждого звука, каждого шума, каждого произнесенного слова как исходящих из источника единой реальности, то есть от Бога, пантеистично. Ибо «Он Сам дал всем жизнь, и дыхание, и все» (Деян 17:25), и далее: «Ибо в Нем мы живем и движемся, и существуем» (Деян 17:28). Если это так, то хриплое горло какого-нибудь дзэн- ского учителя издает мелодичный отзвук голоса, исходящего из золотых уст Будды, и даже когда великого учителя обзывают ослом, эту клевету необходимо считать отражением высшей истины. Тогда надо сказать, что любая форма зла хотя бы частично выражает нечто истинное, благое, прекрасное и вносит определенный вклад в совершенство реальности. Если говорить более точно, зло — это добро, безобразие — это красота, несовершенство — это совершенство, и наоборот. Таков в реальности ход рассуждения тех, кто воспринимает божественную природу как имманентную всем вещам. Давайте посмотрим, как дзэнский наставник решает эту проблему.
Примечательно, что Тосу резко выступил против подобного рационалистического подхода, поэтому и ударил монаха. Последний, по всей вероятности, ожидал, что учитель будет сбит с толку его замечаниями, которые логично вытекали из его первого утверждения. Опытный Тосу, как и все дзэнские мастера, понимал, что бессмысленно выступать с какими бы то ни было словесными доводами против такого «логика». Ибо слова только ведут от одной сложности к другой, и этому нет конца. Чтобы заставить подобного монаха осознать ложность своего рассудочного понимания, наверное, единственный выход — это ударить его и тем самым позволить ему пережить внутри себя смысл утверждения «Одно во Всем и Все в Одном». Монаха следовало пробудить от логического сомнамбулизма. Отсюда и крутые меры Тосу.
Сэттё* приводит свои комментарии в следующих строках:
Жаль, что многие люди пытаются играть с приливом; Все они будут проглочены им и погибнут!
Пусть же они внезапно очнутся [от непонимания],
И увидят, что все реки текут вспять, вздуваясь
и вздымаясь.
Здесь необходим резкий поворот пробуждения, благодаря которому человек приходит к реализации истины дзэн — ни трансцендентальной, ни имманентной, ни трансцендентально-имманентной — истины, которую в следующих строках выражает Тосу.
Монах спрашивает: «Что такое Будда?»
Тосу отвечает: «Будда».
Монах: «Что такое дао?»
Тосу: «Дао».
Монах: «Что такое дзэн?»
Тосу: «Дзэн».
Мастер отвечает словно попугай, словно эхо. В сущности, нет иного пути просветить разум монаха, чем утверждать, что «это» есть это, то есть предельный факт переживания.
Для иллюстрации этого положения можно привести и другой пример.** Некий монах спросил Дзёсю (Чжао-чжоу), жившего в эпоху Тан: «Говорят, что совершенный путь не знает трудностей, что он питает отвращение к различениям. Что имеется в виду под неразличением?»
Дзёсю ответил: «Над небесами и под небесами я один достоин почитания».*
Монах сказал: «Здесь все еще есть различение».
Мастер отозвался: «О этот никчемный детина! Где тут различение?»
Различением дзэнские наставники называют то, чем мы обладаем, когда отказываемся принять реальность как она есть, или в ее таковости; в этом случае мы отходим от нее и анализируем ее при помощи концепций, опираясь на интеллект и оказываясь в конце концов в словесном тупике. Утверждение Дзёсю окончательное и недвусмысленное, оно не нуждается в процедуре доказывания. Нам просто надо принимать его как таковое и постараться удовлетвориться им. В том случае, если мы по каким-то причинам не можем этого сделать, нам следует предоставить его самому себе и обратиться к чему-то другому, к тому, что сможет помочь нашему просветлению. Монах не сумел увидеть, где находился Дзёсю, и он продолжал говорить, заметив: «Здесь все еще есть различение!» На самом деле это у монаха «различение», а не у Дзёсю. И потому «почитаемый» теперь оказывается «никчемным детиной».
Как я говорил раньше, фразу «Все в Одном и Одно во Всем» нельзя сперва анализировать как состоящую из отдельных понятий «Одно» и «Все», а потом устанавливать некие отношения между ними. Не стоит выискивать здесь какие-то различения, надо лишь принять эту фразу и пребывать в ней, что в действительности — вовсе и не пребывание. Дальше идти незачем. Отсюда и удары мастера, отсюда его ответы, повторяющие вопросы. Сам по себе он не раздражителен, не вспыльчив, он просто желает по
мочь своим ученикам выбраться из ямы, которую они выкопали сами. Никакой аргумент здесь не может помочь, никакое словесное убеждение. Только наставник знает, как вызволить их из логического тупика, как открыть для них новые пути; пусть они поэтому просто последуют за ним. Следуя за ним, все они возвращаются в свой родной дом.
Когда интуитивное, или внутреннее, понимание реальности выражается в речи как «Все в Одном и Одно во Всем», мы обнаруживаем здесь фундаментальный постулат, проповедуемый различными школами буддизма. В терминах школы праджня это звучит так: шуньята («пустота») есть татхата («та- ковость»), а татхата есть шуньята; шуньята есть мир абсолютного, а татхата есть мир различий. Как гласят широкоизвестные изречения дзэн, «ивы зеленые, а цветы красные» и «бамбуки прямы, а сосны шишковаты». Факты опыта принимаются в их очевидности; дзэн не является ни нигилизмом, ни чистым позитивизмом. Дзэн сказал бы, что только из-за своей прямизны бамбук пуст или что только из-за пустоты бамбук может быть только бамбуком, но не сосной. Но дзэнские утверждения отличаются от простого чувственного опыта тем, что их интуиция вырастает из праджни, а не из джни.** Именно поэтому, когда мастера спрашивают: «Что такое дзэн?», он иногда отвечает: «Дзэн», а иногда — «Не-дзэн».
Теперь мы можем увидеть, что живописный стиль сумиэ происходит из этого дзэнского опыта и что те качества, которые мы наблюдаем в восточном жанре живописи сумиэ, — непосредственность, простота движений, духовность, завершенность, — органично соотносятся с дзэн. Нет в сумиэ пантеизма, как нет его и в самом дзэн.
Есть еще одна вещь, которую я обязательно должен упомянуть в данной связи; возможно, это наиболее важный фактор в сумиэ, да и в самом дзэн. Это творчество. Когда говорят, что живопись сумиэ изображает дух предмета или что она придает форму тому, что не имеет формы, это означает, что в картине должно ощущаться присутствие некоего творческого начала. Тем самым художник должен не просто копировать или подражать природе, он должен придать предмету нечто такое, что живет по своим собственным законам. Точно так же обстоит дело и с дзэн- ским мастером. Когда он говорит, что ива зеленая, а цветок красный, он не просто дает нам описание того, как выглядит природа, но намекает на то, посредством чего зеленое есть зеленое, а красное есть красное. Это что-то и является тем, что я называю духом творчества. Пустота — это бесформенность, но она также и источник всех возможностей. Превратить возможное в действительность — в этом состоит акт творчества. Когда Тосу спрашивают: «Что такое Будда?», он отвечает: «Будда». Это ни в коей мере не ответ попугая или простой отклик: все ответы исходят из его творческого сознания, без которого не найти дзэн в Тосу. Понять дзэн — значит понять, какое сознание он содержит. Встреча Якусана с Рико сможет показать это.*
Якусан (Яо-шань, 751 — 834) был великим мастером эпохи Тан. Когда Рико (Ли Ао), правитель провинции, прослышал о его дзэнском опыте, он послал за ним с просьбой пожаловать в столицу. Но Якусан отказался прийти. Это повторялось несколько раз,
наконец терпение Рико лопнуло и он пришел лично, чтобы повидаться с наставником в его горном приюте. Якусан в тот момент читал сутры и не обратил внимания на прибывшего правителя. Монах-прислужник попытался привлечь внимание мастера к пришедшему, но тот по-прежнему продолжал чтение. Рико почувствовал себя уязвленным и промолвил: «Увидеть в лицо вовсе не то же самое, что слышать имя». Этим он хотел дать понять, что в реальности его статус не совпадал с его характером. Якусан отозвался: «О правитель!» Рико сразу ответил: «Да, мастер». Тогда мастер спросил: «Почему вы цените слышание больше, чем видение?» Правитель удивился и в ответ спросил: «Что такое дао?» Якусан поднял свою руку вверх, а потом опустил вниз и сказал: «Вы понимаете?» Рико ответил: «Нет, мастер». Тогда Якусан заметил: «Облака в небе и вода в кувшине». Говорят, что этот ответ очень понравился правителю.
Понял ли Рико в самом деле то, что имел в виду Якусан? Якусан лишь говорил о фактах как они есть, и мы могли бы, в свою очередь, спросить: «Где есть дао»? Рико был великим ученым и философом. Он, должно быть, имел какие-то абстрактные представления о дао. Мог ли он легко примирить свои взгляды со взглядами Якусана? Как бы то ни было, и Якусан, и Тоси, и остальные дзэнские наставники — все они движутся по одной и той же дороге. Художникам также необходимо найти ее.
ДЗЭН И ИЗУЧЕНИЕ КОНФУЦИАНСТВА
Как это ни парадоксально, последователи дзэн, учение которого направлено против всякой учености, против всякой литературной обработки, в Японии занимались популяризацией изучения конфуцианства и тем самым — поощрением печатного искусства, причем печатания не только буддийских книг, но также конфуцианской и синтоистской литературы. Периоды
Камакура (1185 —1338) и Асикага (1338 —1568)
обычно считаются темными веками японской истории; в реальности же все было совершенно иначе. В течение этих эпох дзэнские монахи активно внедряли китайскую культуру в Японии и готовили путь для ее ассимиляции в более позднее время. В самом деле, то, о чем мы теперь думаем как об исконно японском, созревало именно в периоды Камакура и Асикага. В них мы прослеживаем зачатки поэзии хайку, пьес Ногаку,[20] театра, садового искусства, аранжировки цветов и чайной церемонии. В данном разделе я хотел бы ограничиться темой развития изучения конфуцианства в Японии, в той форме, в какой на это изучение повлияли дзэнские монахи. Но прежде уместно сказать кое-что о «сунской философии» в Китае.
С политической точки зрения, эпоха Сун была беспокойным временем в истории Китая. Срединному царству постоянно угрожали с Севера. Его правителям пришлось искать убежища на юге, пересечь Хуай, однако в 1126 г. они наконец подчинились владычеству северных «варварских» племен. Это знаменует конец Северной Сун (960—1126 гг.). Южная Сун образовалась (1127 г.), когда император Гао-цзун взошел на трон в Линьани, к югу от реки Янцзы. Но в 1279 г. юаньские агрессоры сумели окончательно подчинить себе постепенно слабевшую династию, которая впервые была установлена еще кланом Чжао более чем за триста лет до этого. Несмотря на бурную политическую жизнь того времени, эпоха Сун, как Северная, так и, в большей степени, Южная, оставила блестящие достижения в мире мысли и в культуре в целом. Этому способствовали поэты, художники, конфуцианские философы и буддийские мыслители, включая дзэнских наставников.
Философия достигла феноменального расцвета на юге. Как будто бы изначальный интеллектуальный порыв, таившийся в эпоху Хань и во время последующих династий, в той или иной степени скованный могучей индийской мыслью, раскрылся в полную меру и утвердился в этот период, невзирая на угрозу политического вторжения извне. Результатом стал рост философии, которую мы можем назвать в полном смысле слова «китайской»; в ней все направления мысли, пришедшие из-за рубежа, равно как и направления, первоначально развивавшиеся в самом Китае, были сведены воедино и выражены с учетом особенностей китайской национальной психологии, а потому и оказались более легко применимыми к ней. Философия Сун — цветок китайского сознания.
По крайней мере одним мощным фактором, придавшим столь плодотворный стимул китайскому теоретизированию, было учение дзэн. Дзэн всегда стимулирует и провоцирует мысль, потому что он старается обращаться к самому корню вещей, оставляя
без внимания их внешние наросты. Когда конфуцианство выродилось в банальное исследование ритуала, в практику мирской морали и в комментаторскую традицию критики текстов, оно, сказали бы мы, оказалось на грани агонии и окончательной смерти. Наверное, эта ситуация стала источником новой творческой активности ума. Потребовалась сила для его обновления. В даосизме, соперничающей с конфуцианством школе китайской мысли, широко распространились популярные суеверные представления. В нем не было того интеллектуального задора, который смог бы влить свежую кровь в конфуцианство. Если бы дзэн не сумел встряхнуть глубины китайской психологии в течение Тан, то жившие в эпоху Сун конфуцианцы, вероятно, ни за что бы не взялись заново за свою философию, не стали бы возрождать и дальше развивать ее. Почти все мыслители Сун хотя бы раз в своей жизни отправлялись к дзэнским монастырям. Вынесли они из этих мест глубинные прозрения или же нет, но это заставило их переоценить свою собственную философскую систему. Сунская философия — это итог их духовных исканий. Отвергая буддизм и буддийский способ мышления, они в то же время жадно припадали к индийскому роднику, который предстал им в виде дзэн.
Дзэнские монахи, с другой стороны, тоже были учениками конфуцианства. Будучи китайцами, они не могли быть кем-то еще. Разница между конфуцианскими учеными и дзэнскими мастерами заключалась в том, что конфуцианская философия — это местная, китайская философия, в то время как дзэн-буддизм опирался на свою собственную философию, хотя и использовал конфуцианскую терминологию. Дзэн-буддисты действительно широко применяли конфуцианские понятия. Можно даже сказать, что различаются эти два типа сознания просто разными акцентами: дзэнские монахи интерпретировали конфуцианские
И4 Д. Судзуки
тексты, так сказать, на индийский манер, то есть более или менее идеалистически, однако не были расположены комментировать буддийскую литературу с конфуцианских позиций.
Эти монахи принесли в Японию и дзэн, и конфуцианство. Японские монахи, отправлявшиеся в Китай изучать дзэн, привозили то же самое, то есть они набивали свои дорожные сумки не только дзэнской литературой, но также конфуцианскими и даосскими книгами. Прибывая в Китай, они усаживались у ног дзэнско-конфуцианских мастеров, многое постигая и в дзэн, и в конфуцианстве. Таких китайских наставников было немало в сунских провинциях, особенно в Южной Сун.
Не стану чересчур вдаваться в детали отношений дзэн с конфуцианством и даосизмом в Китае. Пока достаточно отметить, что дзэн, в сущности, является китайской реакцией на индийское мировидение в его буддийском обличье и что дзэн, развившись в Тан и позднее — в Сун, не мог быть поэтому не чем иным, как выражением китайской ментальности, то есть учением с сильным уклоном в сторону практицизма и этики. В связи с этим было очень вероятно, что дзэн со временем приобретет конфуцианский оттенок. В начале своей истории философия дзэн была индийской, иначе говоря, буддийской, поскольку учение раннего конфуцианства никоим образом не могло удовлетворять его. Но некоторые дзэнские идеи поздние конфуцианские мыслители явно или неявно захотели ввести в свою собственную систему. Иначе говоря, дзэн заимствовал свой практицизм из конфуцианства, тогда как конфуцианство впитало через учение дзэн (хотя в некоторых отношениях опосредованно) индийскую традицию абстрактного умозрения, что, в конце концов, привело к метафизическому обоснованию учения Конфуция и его последователей. Обосновывая его, сунские философы подчеркивали
огромное значение Четверокнижия* для изучения конфуцианства. Они обнаруживали в них отдельные положения, которые можно было бы использовать для разработки своей системы. Это естественным образом вымостило путь для сближения дзэн и конфуцианства.
Так что вполне логично, что дзэнские монахи, оставаясь буддистами, стали также и пропагандистами конфуцианства. Строго говоря, дзэн не имеет своей собственной философии. Его учение базируется на интуитивном опыте, а интеллектуально этот опыт может быть выражен той системой мысли, которая не обязательно является буддийской. Наставники дзэн могут применить философское обоснование, не всегда вписывающееся в рамки традиционных истолкований, если сочтут это по ряду причин уместным. Дзэнские буддисты —иногда конфуцианцы, иногда даосы, а иногда даже синтоисты; дзэнский опыт можно также объяснить с помощью западной философии.
В XIV и XV вв. «Пять Гор», то есть пять дзэн- ских монастырей в Киото, являлись основными центрами, издававшими конфуцианские тексты, не считая собственно дзэнских сочинений. Некоторые из этих ранних буддийских и конфуцианских произведений, включая относящиеся к XIII в., дошли до наших дней, войдя в число наиболее ценных ксилографических оттисков Дальнего Востока.
Дзэнские монахи не только издавали и печатали пособия по буддизму и конфуцианству, но и составляли книжки для народного образования. Их они использовали в своих монастырях, куда во множестве стекались простые люди, стремясь улучшить свои познания и культуру. В моду постепенно входит термин тэракоя (тэра значит «буддийский храм», ко — «дети», а я — «дом»). Система тэракоя была единственным институтом народного образования в период феодальной Японии, вплоть до Реставрации 1868 г., когда ее сменила современная образовательная система.
Масштаб активности дзэнских монахов отнюдь не определялся только центральными районами Японии; их приглашали и провинциальные феодалы с целью повысить уровень образования своих вассалов и приверженцев. Эти монахи были буддистами-конфуци- анцами. Один из самых известных примеров — деятельность дзэнского монаха Кэйана (1427—1508), который отправился в Сацума, юго-западную провинцию на Кюсю. Главным предметом его внимания было Четверокнижие, которое он пояснял на основе комментариев Сюси (то есть Чжу Си). Но, будучи дзэнским монахом, он постоянно подчеркивал превосходство своего буддийского учения над конфуцианской философией. Исследование сознания направляло его духовную деятельность. Он также читал лекции по Шу цзину, тексту из Пятикнижия,[21] который содержит указы древних правителей Китая. Кэй- ан оставил после себя в Сацума глубокий духовный отпечаток. Среди его учеников через поколение мы встречаем Симадзу Ниссинсая (1492—1568), считающегося одним из самых знаменитых. Хотя Кэйан его лично не учил, мать и учителя Ниссинсая лично знали Кэйана, и все их родственники были большими поклонниками этого ученого-монаха. Ниссинсай являлся выходцем из клана Симадзу, а его старший сын был позже принят в главную семью клана и со временем получил в управление три провинции — Сацума, Осуми и Хюга, располагавшиеся на юго-западе Японии. Нравственное влияние Ниссинсая распространилось по всем феодальным землям, находившимся под властью его сына. Вплоть до Реставрации 1868 г. народ искренне почитал его как одного из величайших людей своего времени.
Среди дзэнских наставников «Пяти Гор» можно назвать Мусо, императорского наставника (1275—1351),
Гэнъэ (1269 —1352), Кокана Сирэна (1278—1346), Тюгана Энгэцу (1300—1375), Гидо Сюсина (1321 — 1388) и других, все они углубили изучение конфуцианской классики в соответствии с духом дзэн-буддизма. Императоры и сёгуны также следовали примеру дзэнских наставников. Они были серьезными учениками дзэн и в то же время слушали лекции по конфуцианству. Император Ханадзонэ (годы правления — 1308—1317) являлся искренним приверженцем дзэн, в изучении которого он вышел далеко за рамки дилетантизма. Увещевание, оставленное им своему преемнику, — замечательный документ его царственной мудрости. Его статуя в позе дзэнского монаха, сидящего с ногами крест-накрест и исполненного безмятежного достоинства, все еще находится в его комнате в Мёсиндзи, где он привык сидеть в медитации. Его «журнал» — важный исторический источник. А резиденция Ханадзонэ, в которой пребывал его дзэн- ский наставник Кандзан (1277 —1360), стала основой нынешнего Мёсиндзи, в западной части Киото, самой мощной линии школы риндзай-дзэн.
К слову сказать, еще в раннюю эпоху правления сёгунов Токугава, то есть в начале XVII в., конфуцианские ученые по привычке брили головы на манер буддийских священнослужителей. Этот пример показывает нам, что изучением конфуцианства занимались буддисты, особенно дзэнские монахи, и даже когда изучение его перешло в руки светских интеллектуалов, последние просто заимствовали старинный обычай.
Автор хотел бы добавить еще несколько замечаний о той роли, которую сыграл дзэн в воспитании националистического духа в периоды Камакура и Асикага. С теоретической точки зрения, дзэн не имеет ничего общего с национализмом. Пока он остается в рамках религии, его миссия сохраняет универсальную основательность, а сфера его применимости не ограничивается какой-либо одной национальностью. Но, с исторической точки зрения, он был подвержен случайностям и ограничениям. Когда дзэн впервые пришел в Японию, его последователей отождествили с людьми, на которых глубоко влияли конфуцианство и дух патриотизма, так что дзэн естественным образом окрасился в эти тона. Таким образом, дзэн не пришел в Японию в своей чистой форме, вне каких бы то ни было связей с конкретными регионами и эпохами. Но дело не только в этом. Японские последователи сами старались принимать дзэн со всем тем, что пришло вместе с ним, и это продолжалось до тех пор, пока случайные элементы не отпали от целого, с которым они раньше были соединены, пока не стали независимыми друг от друга ценой потери свой первоначальной связи. Описание этого процесса в истории японской мысли не относится к числу моих задач, но мне хотелось бы просто бегло коснуться его, проследив его развитие вплоть до становления собственно китайской мысли.
Как я говорил выше, пик китайской рационалистической мысли приходится на философию Сюси, или Чжу Си (1130—1200), который действовал главным образом в Южной Сун. Вероятно, он являлся самым великим китайским мыслителем, попытавшимся систематизировать китайскую мысль на основе ментальности своего народа. Правда, среди его соотечественников были и более великие философы, однако их мысль двигалась в русле индийского теоретизирования, как бы вразрез с присущим им изначально умонастроениям. По этой причине их философия не повлияла на людей столь явно, как философия Южной Сун. Нет сомнения, школа Южной Сун не смогла бы появиться без своих буддийских предшественников. Поэтому теперь необходимо рассмотреть, каким образом так называемая «наука дао» развивалась в эпоху Сун, потому что это поможет нам понять специфи
ку влияния дзэн на мышление и восприятие японского народа.
В китайской мысли имеются два основных течения — конфуцианство и чистый даосизм, то есть даосизм, очищенный от популярных верований и суеверий. Конфуцианство демонстрирует практицизм, или позитивизм, китайского менталитета, тогда как даосизм показывает его мистические и умозрительные настроения. Когда в Китай в эпоху ранней Хань (64 г. н. э.) был принесен буддизм, обнаружилось, что он имеет некоторое сходство с идеями Лао-цзы и Чжуан-цзы. Поначалу буддизм не очень влиял на китайскую мысль; его сторонники занимались главным образом переводом своих текстов на китайский, и китайцы еще не отчетливо себе представляли, как следует принимать его в свою систему мысли и верований. Но благодаря переводам они, должно быть, осознали, что в философии буддизма имелось нечто очень глубокое, нечто очень вдохновляющее. И уже со II в. н. э., когда на китайский были впервые переведены тексты Праджняпарамита сутры[22] они стали оказывать глубокое влияние на китайских мыслителей, начавших исследовать их со всей серьезностью. Не умея отчетливо ухватить смысл концепции шунъяты, «пустоты», они полагали, что она напоминает идею у, «ничто», о которой говорил Лао- цзы.
В эпоху Шести династий (386—587 гг.), когда изучение даосизма достигло такой степени, что даже конфуцианские тексты начали интерпретировать с даосских позиций, в Китай из одного западного царства в 401 г. прибыл переводчик Кумараджива. Он перевел на китайский с санскрита ряд махаянских сутр. Кумараджива являлся не только блестящим переводчиком, но и оригинальным мыслителем, способствовавшим более глубокому пониманию махаяны, а его китайские ученики занимались развитием его идей, используя такие способы, которые наилучшим образом подходили бы к психологии их народа. Так в Китае появилась буддийская школа саньлунь (по-японски санрон), сформированная Цзи-цзаном* (549— 623), который за основу своей философии брал учение Нагарджуны. Впервые на земле Конфуция и Лао-цзы возникла столь возвышенная система мысли. Но мы бы сказали, что основатель этой школы все еще находился под влиянием индийского мышления. Он мыслил так, как мыслили индийцы, и не всегда на китайский манер. Без сомнения, он был китайским буддистом, при этом буддийским ученым; прежде всего он был буддистом, а уже потом — китайцем.
Вслед за саньлунь в эпохи Суй и Тан появились школы тяньтай (тэндай), вэйши (юисики) и хуаянь (кэгон).** Тяньтай базируется на Саддхармапунда- рике, вэйши — на идеалистическом учении Асанги и Васубандху, а хуаянь — на философии бесконечного в изложении Лватамсаки. Последний текст стал
По-японски Китидзо. Он также известен как Цзя-сян Да-ши (Кадзё Дайси).
** Начало тяньтай положили Хуэй-вэнь (Эмон, 550— 577), Хуэй-сы (Эси, 514—577) и Чжи-и (Тиги, 538—597). Вэйши основал Сюань-цзан (Гэндзё, 600—644), переведя трактат Васубандху по философии «только-сознания» (виджнянаматра), а его великим комментатором был главный ученик Сюань-цзана, Куй-цзи (Кики, 632—682). Систематизатором школы хуаянь выступил Фа-цзан (Ход- зо, 643—712), а его великими предшественниками были Ту-
шунь (Тодзун, 557 — 640) и Чжи-янь (Тигон, 602
668).
кульминацией китайской буддийской мысли. Он демонстрирует уровень религиозной спекуляции, достигнутый китайским буддийским сознанием. Это самая замечательная интеллектуальная система, которую когда-либо разрабатывали на Востоке. Лва- тамсака сутра, включая в себя Дашабхумику и Гандавьюху, несомненно представляет пик индийского творческого воображения, совершенно чуждого китайскому мышлению и чувству, и поистине это интеллектуальный подвиг со стороны китайских буддистов, что они настолько чужеродное им индийское воображение смогли так рационально и систематически истолковать. Философия школы хуаянь показывает глубины китайского религиозного сознания, которые раскрылись через несколько столетий накопления буддийского образования и умственной работы. И именно она реально вывела китайский разум из его сонного оцепенения и придала ему тот мощный импульс, который впоследствии привел к появлению сунской философии.
В то время как школа хуаянь, так сказать, представляла собой интеллектуальное направление китайского буддизма, стала известна еще одна школа, начавшая расцветать наряду с ней, но приобретшая гораздо больше сторонников, — это дзэн, по-китайски чань. С одной стороны, дзэн отвечал эмпирическим наклонностям китайского национального характера, а с другой — его мистическим стремлениям. Дзэн презирал словесную ученость и подчеркивал интуитивное понимание; последователи дзэн были убеждены, что интуиция — самый непосредственный, эффективный инструмент для постижения высшей реальности. Фактически эмпиризм, мистицизм и позитивизм могут довольно легко уживаться друг с другом. Все они зиждятся на фактах опыта, все они остерегаются выстраивать вокруг себя какую-то интеллектуальную ограду.
Будучи социальным существом, человек не может ограничиваться простым опытом: он хочет передать его своим согражданам, и это означает, что интуиция для него должна обладать каким-то содержанием, выражаться в виде каких-то идей, воспроизводиться на интеллектуальном уровне. Дзэн же решил, не оставляя интуитивного плана понимания, интенсивнее опираться на фантазию, символы и на поэтическую игру словами, которая ставит в тупик обывателей. Впрочем, когда он должен был обращаться к рациональности, ему на помощь приходила философия хуаянь. Слияние дзэн и философии хуаянь, происходившее абсолютно непреднамеренно, стало особенно заметным у Чэн-гуаня (Тёкан, 738—838) и Цзун-ми (Сюмицу, 780—841), оба они были великими учеными школы хуаянь и в то же время последователями дзэн. Именно благодаря этой своей связи с хуаянь дзэн начал влиять на конфуцианскую мысль сунских ученых.
Тем самым династия Тан вымостила путь для развития сунской «науки дао» (дао сюэ) — на мой взгляд, самого драгоценного продукта, вышедшего из китайского умственного тигля, в котором смешались «вещества» хуаянь, дзэн, конфуцианства и даосизма Лао-цзы.
Чжу Си (Сюки, или Сюси) имел своих предтеч: это Чжоу Дунъ-и (Сю Тонъи, 1017—1073), Чжан Хэн-цюй (Тё Окё, 1077—1135) и братья Чэн (Тэй) — Мин-дао (Мэйдо, 1085 —1139) и И-цюань (Исэн, 1107 —1182). Все они пытались разработать чисто китайскую систему мысли, основы которой находили главным образом в «Четверокнижии» — в «Лунь юй», «Мэн-цзы», «Да сюэ» и «Чжун юн», а также в «И цзин».[23] То, что все они изучали дзэн и были обязаны ему формулированием своего учения,
видно уже из того факта, что они придают очень большое значение опыту внезапного просветления, которое происходит тогда, когда человек благоговейно погружается в изучение классики или в размышления над ее смыслом. Разрабатывая космогонию, или онтологию, они в качестве первичной вывели такую субстанцию, как у цзи (тай цзи, или тай сюй) — понятие, которое имеет буддийскую окраску.[24] В этике этот принцип называется «искренностью» (чэн), а идеал человеческой жизни состоит в воспитании добродетели искренности: ведь именно посредством искренности мир предстает тем, что он есть; именно посредством искренности мужской и женский принципы, возникнув в «великом пределе», вступают в контакт друг с другом и дают возможность всем вещам гармонично развиваться. Искренность также называется ли (причина), или тянь ли (небесная причина).
Для сунских философов ци (яп. — ки) противоположно ли (яп. — ри), и эта антитеза объединяется в тай цзи, или у цзи. Ли — причина, пронизывающая все вещи, составляющая их сущность; без ли ничто невозможно, существа утрачивают свою природу, приходят к небытию. Ци — это дифференцирующая деятельность, посредством которой причина умножает себя и производит мир множественности. Ли и ци, таким образом, взаимно проникают и взаимно дополняют друг друга.
Как относится тай цзи к ли и ци — не очень понятно, за исключением того, что это синтез двух принципов; видимо, сунская философия не желала оставаться дуалистической, что, вероятно, связано с влиянием буддийской школы хуаянь. Что касается самой идеи тай цзи, то она довольно смутна. По-видимому, тай цзи — это первичная материя, или же это — у цзи, «безграничное»; одно есть нечто «над- материальное», а другое — «подматериальное», и как может быть, чтобы то, что выше, становилось бы тем, что ниже, и наоборот? Та же самая дилемма может быть обнаружена в случае с ли и ци; правда, в этом отношении сунские философы были решительно верны своему китайскому характеру, не желая следовать за буддистами, поскольку те категорично отрицали материальный мир и утверждали, что он и все вещи в нем одинаково «пусты» (шунъя). Китайцы всегда держались мира обособленных вещей. Даже когда они близко подходили к хуаянь, они не хотели отказываться от материальности.
Что примечательно в сунской философии Чжу Си и что сделало ее весьма значимой в Китае и Японии, так это ее представление об истории. В ней развиваются идеи, доминирующие в «Веснах и осенях» (Чунь цю), одной из великих классических работ, составленных Конфуцием. Работа была написана Учителем в период, который был известен как «Борющиеся царства», а цель ее написания — морально оценить притязания различных государств своего времени. Китай в то время был разделен на несколько государств, и каждое из них пыталось захватить высшую власть; узурпаторы твердили, будто они являются носителями подлинной линии наследования; направление политики зависело от фантазии правителей, как если бы внутренний смысл ее был утрачен. Идея Конфуция о составлении хроник своего времени должна была установить универсальный этический стандарт для всех будущих государственных мужей его страны. Поэтому «Весны и осени» воплощают практический этический кодекс, проиллюстрированный историческими событиями.
Чжу Си последовал примеру Конфуция, составив историю Китая, основанную на фундаментальном
труде Сыма Гуана.[25] Чжу Си восхваляет великий принцип собственности, известный как «имена и функции» (мин фэнь), которому, как он полагал, следовало бы стать руководящим принципом политики на все века. Законы Неба управляют как Вселенной, так и человеческими делами; а эти законы требуют от каждого из нас исполнять как раз то, что присуще ему от природы. Каждый человек имеет «имя», выполняет какую-то «функцию», так как он занимает определенное положение в обществе; ему отводится некое место, где он, как член группы, к которой принадлежит, должен исполнять свою службу. Этой совокупностью социальных отношений нельзя пренебрегать, если требуется сохранить и укреплять мир и гармонию между вещами. Правитель имеет свои обязанности, его подчиненные — свои, у родителей и детей тоже есть определенные обязательства друг перед другом и т. д. Не следует препятствовать или узурпировать имена, титулы и функции.
Чжу Си достаточно настойчиво подчеркивал то, что он называл «именами и функциями». В то время кочевники с Севера упорно пытались лишить Сун независимости, а правительственные сановники колебались, как обращаться с этими агрессивными противниками; некоторые из сановников, стремясь к компромиссам, даже искали переговоров с варварами. Эти события развертывались на глазах Чжу Си и пробуж-
дали в нем патриотический и националистический дух. Он открыто, подчас с риском для жизни, отстаивал свои воззрения против тех политиков, которые пытались заставить правительство уступить давлению северян. Хотя его философия не была способна спасти Южную Сун от вторжения преобладавших монгольских орд, она с самого начала пользовалась большой популярностью, причем не только в Китае, но и особенно в Японии времен феодализма.
Одной из главных причин, почему философия Чжу Си оказалась столь притягательной для китайского характера и почему при последующих династиях стала официально признанной философией, было то, что она охватывала, вплоть до исполнения всех условий, необходимых для китайского мышления и настроения, все заметные мыслительные системы, которые играли какую-либо роль в развитии китайской культуры. Еще одна причина: это была философия порядка, ценимого китайским духом и страстно чае- мого людьми в целом. Китайцы несомненно столь же патриотичны и полны национальной гордости, как и любой другой народ; однако, по-моему, они скорее прагматичны, чем сентиментальны, и больше склонны к позитивизму, чем к идеализму. Ногами они крепко стоят на земле. Время от времени они могут поглядывать на звезды, ведь те так прекрасны для взора, но они никогда не забывают, что не могут ни дня прожить без матери-земли. Поэтому в философии Чжу Си их больше привлекают идеи социального порядка и пользы, чем его идеализм и эмоциональность. В этом отношении китайцы отличаются от японцев.
Следующее утверждение Чэн Мин-дао (Тэй Мэйдо) прекрасно иллюстрирует китайскую ментальность:
«Утверждение о непроявленной причине дао — вредоносный языческий взгляд. Вред от этого взгляда был более понятен в древние времена, тогда его можно было легко обнаружить; в наши же дни он скрывается глубже, его сложнее увидеть. В старину они [последователи язычества. — Д. Т. С.] пользовались преимуществом нашего неведения и приводили нас в состояние растерянности; но теперь, заявляя, будто бы проникли в таинства существования и знают причины изменений, они обращаются к нашему разуму. Однако их рассуждения не в силах привести к исследованию конкретных вещей и исполнению социальных предписаний. Они говорят об универсальной применимости своих учений, а в реальности идут вразрез с нравственным порядком нашей повседневной жизни. Они утверждают, будто их система охватывает все вещи глубоко и полностью, однако они не способны следовать путем мудрых мужей древности, таких как Яо и Шунь».
Несомненно, под «язычеством» здесь подразумевается буддийская мысль, которая, несмотря на всю свою возвышенность, не подходила (по мнению сун- ских философов) для их практичных и социально направленных соотечественников. Эта практичность сунских философов прибыла в Японию на одном корабле с дзэн и национализмом, взращенным милитаристским духом Чжу Си.
В те последние дни, которые доживала Южная Сун, в стране было немало патриотически настроенных солдат, государственных мужей и даже дзэнских монахов, охотно становившихся борцами с агрессорами. Дух национализма проник во все культурные сферы общества, и японские дзэнские монахи, посещавшие Китай в то время и возвращавшиеся обратно, были преисполнены тем националистическим духом и той философией, которые сформулировали Чжу Си и его школа. Не только японские путешественники, отбывавшие из Китая, но и китайские монахи, приезжавшие главным образом из Южной Сун в надежде обосноваться в Японии, привезли со своим дзэн уче-
ниє сунских философов. Их общие усилия распространять философию национализма в Японии встречали успех в каждом районе страны. Самый заметный пример их воздействия — эпохальное решение императора Годайго (правил в 1318—1339 гг.) и его двора взять в свои руки государственную власть, которая дотоле принадлежала ставке бакуфу[26] в Камакура. Это политическое движение, как считается, берет свое начало от вдохновения, которое император и его министры получили при изучении чжусианской истории Китая, проводившемся под руководством дзэнских монахов. Историки также утверждают, что монументальная работа Китабатакэ Тикафуса «Порядок наследования императоров, правивших в Японии» (Дзинно сётоки) была результатом его интереса к Чжу Си. Тикафуса (1292—1354) был одним из великих литераторов, входивших в окружение императора Годайго, и подобно своему августейшему наставнику, он был также и последователем дзэн.
К несчастью, император Годайго и его придворные не смогли вернуть себе власть. Впрочем, политический хаос, последовавший после этого, не означал ослабления конфуцианской учености среди интеллектуальной элиты Японии: поддерживаемое дзэнскими монахами системы Пяти гор, а также провинциальными монахами, изучение конфуцианства продолжалось столь же интенсивно, как и всегда. В течение периода Асикага приоритет философии Чжу Си в истолковании ортодоксального конфуцианства был признан повсеместно, и дзэнские монахи стали заниматься его изучением с еще большим пылом, стремясь расширить горизонты собственной мысли. Они знали, в чем больше всего нуждался их дзэн и чем сунская философия больше всего могла быть им полезной.
Таким образом, они стали подлинными официальными распространителями конфуцианства, и их влияние охватывало территорию от Киото до отдаленных частей страны.
Это стремление со стороны дзэнских ученых отделить дзэн от сунской философии, систематизированной Чжу Си и его школой, помогло точно определить разделение труда, или сферы влияния буддизма и конфуцианства, в Японии при режиме сёгуната Току- гава. Практический дух, оживляющий китайское мышление и настроение, особенно отчетливый у Чжу Си, привлек большой интерес основателей династии Токугава: придя к власти, они были весьма заинтересованы в том, чтобы после столь многих лет войны мир и порядок быстро воцарились по всей стране. Они сочли, что китайское учение наилучшим образом подходит для этой цели. Первыми официальными последователями сунской философии, которые стали использовать комментарии Чжу Си, были Фудзивара Сэйка (1561 —1619) и его ученик Хаяси Радзан (1583 —1657). Сэйка был первоначально буддийским монахом, но он столь долго занимался изучением конфуцианских текстов, что в конце концов сменил свою монашескую буддийскую одежду на мирскую, хотя еще какое-то время после этого брил волосы на голове на буддийский манер. После него и Радзана изучение конфуцианства обрело своих собственных приверженцев, а дзэнским монахам пришлось удовлетвориться, по крайней мере официально, изложением своей собственной доктрины. Мы, однако, должны также отметить, что в Японии, как и в Китае, сразу после введения сунской философии постоянно делались попытки синтезировать три учения — конфуцианство, буддизм и синтоизм. Один примечательный факт заслуживает внимания в истории японской мысли: синтоизм, который считается официальным воплощением национального духа Японии, не смог утвердиться в качестве учения, доктринально не зависимого ни от конфуцианства, ни от буддизма. Самая вероятная причина этого заключается в том, что синтоизм не имеет собственной философии, на которую он мог бы опираться; его самосознание пробуждается только тогда, когда он вступает в контакт с тем или иным учением и тем самым учится выражать самого себя. Это правда, что Мотоори Норинага (1730—1801) и его ученики начали решительную атаку на конфуцианство и буддизм как на иноземные учения, не вполне отвечающие японскому способу бытия и мировоззрения. Однако их патриотический консерватизм был стимулирован скорее политическим мотивом, чем философским. Несомненно, они весьма помогли в установлении нового режима Мэйдзи, вошедшего в историю как Реставрация 1868 г. Но, с чисто философской точки зрения, весьма сомнительно то, что их религиозно-националистическая диалектика выходила на уровень универсального охвата.
ДЗЭН И САМУРАИ
Может показаться странным, что дзэн вообще оказался связан с духом воинского сословия Японии. Ведь какой бы вид ни принимал буддизм в разных странах, где бы ни развивался, он оставался религией сострадания, и за всю свою разнообразную историю он никогда не имел отношения к военной деятельности. Почему же тогда учение дзэн стали привлекать для укрепления воинственного духа в японских самураях?
В Японии дзэн с самого начала своей истории был тесно связан с жизнью самурайского сословия. Хотя он никогда активно не призывал самураев принимать участие в различных военных действиях, все же пассивно он поддерживал их, когда те по каким-то причинам ввязывались в эти действия. Дзэн поддерживал их двояким образом — нравственно и философски. Нравственно — потому, что дзэн есть религия, которая учит не оглядываться назад, когда путь уже пройден; философски — потому, что он одинаково относится и к жизни, и к смерти. Это неоглядывание назад в конечном счете происходит из философского убеждения; однако, будучи религией воли, дзэн привлекателен для самурайского духа скорее с нравственной, чем с философской стороны. Но с философской точки зрения, дзэн больше акцентирует интуицию, чем рациональность, поскольку интуиция является более непосредственным способом достижения Истины. Поэтому дзэн и нравственно, и философски мо-
жет быть интересен для военного сословия. Воинское сознание, будучи — и это одно из существенных его качеств — сравнительно простым, не склонным к философствованию, находит родство в дзэн. Вероятно, это одна из причин для установления более тесных отношений между дзэн и самурайством.
Во-вторых, дзэнская дисциплина проста, непосредственна, способна и утверждать, и отрицать себя, ее аскетические настроения хорошо увязываются с воинственным духом. Воину следует всегда быть сконцентрированным на объекте своего внимания: чтобы сражаться, нельзя ни оборачиваться, ни глядеть по сторонам. Двигаться вперед, для того чтобы сокрушить врага, — вот все, что ему необходимо. Поэтому он не должен уступать каким бы то ни было препятствиям, будь то физическим, эмоциональным или интеллектуальным. Если воин поддается своим интеллектуальным сомнениям, они становятся серьезными препятствиями для движения вперед; если же он целеустремленно стремится к осуществлению своего призвания, тяжелейшими помехами становятся эмоции и груз имущества. Хороший воин обычно является аскетом или стоиком, что означает, что он наделен железной волей. Дзэн одобряет это при необходимости.
В-третьих, имеется и историческая связь между дзэн и военными классами Японии. Обычно считается, что буддийский монах Эйсай[27] (1141—1251) первым ввел дзэн в Японию. Однако его деятельность в целом не выходила за пределы Киото, который в то время был резиденцией старых школ буддизма. Казалось почти невозможным вводить здесь какое-либо новое вероучение — оппозиция с их стороны была очень сильной. Эйсаю пришлось до некоторой степени пойти на компромиссы, сделать уступки школам тэндай и сингон. Позднее же, в Камакура, резиденции правительства Ходзё, таких исторических трудностей уже не существовало. Кроме того, режим Ходзё был милитаристским, так как он наследовал клану Минамото, который восстал против семьи Тай- ра и придворных аристократов. Последние из-за своей чрезмерной утонченности и изнеженности утратили эффективность управления страной, что привело к деградации власти. Режим Ходзё известен своей строгостью и нравственной дисциплиной, а также могущественным административным и военным аппаратом. Сановитые чиновники столь мощной правительственной машины видели в дзэн своего рода духовный идеал, игнорируя предыдущую традицию в вопросах религии; дзэн, таким образом, оказывал многообразное влияние на общую культурную жизнь Японии начиная с XIII в. и далее, во время Асикага и даже в период Токугава.
Дзэн не имеет ни особой доктрины, или философии, ни набора концепций, или интеллектуальных формул; он только пытается освободить человека от оков рождения и смерти, освободить посредством некоторых интуитивных способов понимания, составляющих его суть. Поэтому он может исключительно гибко адаптироваться почти к любой философии и нравственному учению, ведь его интуитивистские воззрения не препятствуют им. Дзэн можно приспособить к анархизму или фашизму, коммунизму или демократии, атеизму или идеализму, к любому политическому или экономическому догматизму. Впрочем, в целом им движет своеобразный революционный дух, и, когда события заходят в тупик, что случается, когда мы перегружены конвенционализмом, формализмом и другими «измами», дзэн показывает свое лицо и превращается в деструктивную силу. Дух эры Камакура в этом отношении находился в гармонии с мужественным духом дзэн.
У нас в Японии говорят: «Тэндай — для императорской семьи, сингон — для аристократии, дзэн — для военного сословия, а дзёдо — для масс». Это изречение неплохо характеризует каждую школу японского буддизма. Тэндай и сингон богаты в ритуальном отношении, и их церемонии проводятся в самом изысканном и помпезном стиле, пригодном для вкуса рафинированных слоев общества. Дзёдо, естественно, более привлекателен для простонародья — из-за простоты своей веры и учения. А дзэн, помимо того что он является прямым методом достижения окончательной веры, есть также религия силы воли, а сила воли — это то, в чем крайне нуждаются воины, хотя эта сила должна быть освещена интуицией.
Первым дзэнским приверженцем из клана Ходзё был Токиёри (1227 —1263), который наследовал своему отцу Ясутоки в регентстве Ходзё. Он пригласил в Камакура японских дзэнских мастеров из Киото, а также некоторых китайских мастеров прямо из Южной Сун, под руководством которых он интенсивно стал изучать дзэн. В конце концов он достиг успеха в овладении этим учением, что, должно быть, очень вдохновило всех его вассалов на подражание примеру их мастера.
У-ань (Готтан, 1197—1276), китайский дзэнский мастер, у которого Токиёри обрел свое полное пробуждение после двадцати одного года постоянных занятий, составил следующий стих для своего блестящего ученика:
У меня нет буддизма, о котором я могу сейчас
говорить с вами,
И у вас нет сознания, с которым вы слушаете меня, надеясь обрести просветление. Там, где нет ни проповеди, ни достижения, ни ума, Там Шакьямуни находится в тесном контакте
с буддой Дипанкарой.
После довольно успешного правления Токиёри умер в 1263 Г., когда ему было только 37 лет от роду. Когда он понял, что время его ухода настало, он надел свое буддийское одеяние и уселся на соломенной подстилке для медитации. Написав прощальную песнь, он тихо отошел. Его песнь такова:
Зеркало кармы вознеслось высоко;
О, эти тридцать семь лет!
Отныне она разрушена ударом молота.
Великий Путь остается всегда безмятежным!
Ходзё Токимунэ (1251 —1284) был его единственным сыном. В 1268 г., когда к нему перешла власть от отца, ему было только 18 лет. Он стал одним из величайших людей, которых когда-либо рождала Япония. Без него страна вряд ли стала бы такой, какой она есть сейчас. Именно он очень эффективно противостоял монгольским вторжениям, происходившим на протяжении нескольких лет — по существу, в течение всего его регентства, с 1268 по 1284 г. Токимунэ оказался тем, кто, кажется, небесами был послан уберечь страну от ужасной опасности: он испустил дух почти сразу после завершения своего участия в этом величайшем событии в истории Японии. Его короткая жизнь была целиком и полностью посвящена этому делу. Он был, так сказать, телом и душой всей нации. Его неукротимый дух управлял всеми событиями, а его тело в облике хорошо организованной армии было подобно твердой скале, противостоявшей яростным волнам Западного моря.
Еще одна особенность жизни этой почти сверхчеловеческой личности вызывает интерес: он имел время, силы и желание посвятить себя изучению дзэн, которым и занимался под руководством мастеров из Китая. Он воздвиг храмы для них, в том числе и храм Энгакудзи для национального учителя Букко-кокуси (1226—1286), который был также призван ободрять японцев и китайцев, павших духом во время монгольских вторжений. Могила Токимунэ до сих пор находится в сохранности в вышеупомянутом Энгакудзи. Сохранилось и несколько писем, которые ему посылали некоторые его духовные наставники, и из них мы знаем, насколько усердно и энергично он занимался дзэн. Следующая история, хотя она и не вполне аутентична, поддерживает нашу гипотезу о его глубоком интересе к дзэн. Говорят, Токимунэ однажды спросил Букко: «Самый худший враг в нашей жизни — это трусость, как я могу избежать ее?»
Букко ответил: «Отрежьте источник, откуда происходит трусость».
Токимунэ: «И откуда же она происходит?»
Букко: «Она происходит из самого Токимунэ».
Токимунэ: «Но ведь трусость — это то, что я больше всего ненавижу, как же она может происходить из меня самого?»
Бу кко: «Интересно, что вы почувствуете, когда отбросите свое расфуфыренное „я”, известное как Токимунэ? Я на вас посмотрю тогда, когда вы сделаете это».
Токимунэ: «Как это можно сделать?»
Букко: «Не допускайте ни одной мысли».
Токимунэ: «Как мои мысли могут быть не допущены в сознание?»
Букко: «Сядьте с ногами крест-накрест в медитации и вглядывайтесь в источник всех своих мыслей, которые, как вы воображаете, принадлежат Токимунэ».
Токимунэ: «Я так сильно занят мирскими делами, что мне трудно выкроить свободное время для медитации».
Букко: «Какими бы мирскими делами вы ни занимались, принимайте их как ситуации для внутренней работы ума и однажды вы обнаружите, кто такой этот ваш любимый Токимунэ».
Должно быть, нечто подобное происходило между Токимунэ и Букко. Когда Токимунэ получил точные сведения о том, что монголы вторглись в пределы моря Цукуси, он появился перед национальным учителем Букко и сказал:
«Величайшее событие моей жизни уже близко».
Букко спросил: «Как же вы встретите его?»
Токимунэ вскричал: «Кац!»,[28] как бы пугая всех врагов, появившихся перед ним.
Букко был доволен и сказал: «Поистине львенок рычит подобно льву».
Так Токимунэ смело встретил преобладающие силы врагов, пришедших с материка, и успешно отбросил их обратно.
Конечно, с исторической точки зрения, очевидно, что не одна только смелость Токимунэ помогла сотворить этот величайший подвиг в истории Японии. Он только планировал все, что было необходимо для этой задачи, а его идеи проводились в жизнь армиями, размещенными в различных частях страны для того, чтобы сопротивляться могущественным врагам. Он никогда не покидал Камакура, но его войска, находившиеся далеко на западных рубежах Японии, исполняли его приказы быстро и эффективно. Это было удивительно для той далекой эпохи, когда самым надежным способом связи являлось только передвижение на лошадях. Если бы он не располагал полным доверием со стороны всех своих подчиненных, он вряд ли сумел бы достичь подобного успеха.
Хвалебные слова Букко в адрес Токимунэ на его погребальной церемонии в сжатом виде описывают характер регента: «В его жизни, в которой осуществились великие обеты (пранидхана) бодхисаттвы, было десять чудес: он был почтительным сыном своей матери; он был лояльным подданным своего императора; он искренне радел о благополучии народа; изучая дзэн, он познал высшую истину; реально управляя империей в течение почти двадцати лет, он не выказал ни радости, ни гнева; разогнав ветром добродетели грозовые облака, поднятые варварами, он не показал чувства превосходства; основав монастырь Энгакудзи, он хотел сделать его местом духовного поминовения мертвых [и японцев, и монголов[29]];
оказывая почтение учителям и отцам [буддизма], он искал просветления. Все это доказывает, что его приход к нам был лишь для блага Дхармы. А когда он уже был готов отойти окончательно, он смог подняться с ложа, набросил одеяние, которое я дал ему, на свое ослабевшее тело и написал свои последние стихи, полностью владея самим собой. О таком человеке, как он, следует говорить как о подлинно просветленном существе, как о бодхисаттве во плоти...»
Токимунэ по своей природе был несомненно великим человеком, но тот факт, что он изучал дзэн, наверняка должен был ему сильно помочь в управлении государственными делами, а также в его личной жизни. Его жена также ревностно практиковала дзэн, а после смерти мужа она основала женский горный монастырь, прямо напротив Энгакудзи.
Когда мы говорим, что дзэн — это учение для воинов, то данное утверждение имеет особое значение для периода Камакура. Токимунэ был не просто воинственным генералом, но и великим государственным мужем, стремившимся к миру. Его молитва, обращенная к Будде во время великой религиозной церемонии, исполнявшейся в Кэнтёдзи под руководством настоятеля, после того как стало известно о первом монгольском нашествии, звучит следующим образом:
«Буддийский последователь Токимунэ молится только о том, чтобы императорский дом продолжал процветать; чтобы еще долго он [император] был хранителем учения Будды; чтобы поверхность четырех морей не волновалась от падающих стрел; чтобы все злые духи пребывали в покорности и не надо было вынимать меч из ножен для их усмирения; чтобы народ благоденствовал при разумном правителе и мог бы всегда наслаждаться долгой и счастливой жизнью; чтобы темнота человеческого ума освещалась светочем запредельной мудрости, вознесшейся высоко; чтобы нуждающиеся получали то, что им нужно, а те, кто находится в беде, обретали спасение благодаря широко открытым сострадательным сердцам. Пусть все боги придут и защитят нас, пусть все святые окажут нам благую помощь, а каждый час дня станет великим собранием благоприятных знаков!..»
Токимунэ был великим буддистом и искренним последователем дзэн, и именно благодаря его стараниям дзэн прочно утвердился в Камакура, а потом и в Киото, все больше распространяя свое нравственное и духовное влияние среди воинских классов. Тем самым начавшиеся постоянные контакты между японскими и китайскими дзэнскими монахами вышли за пределы их общего дела. Книги, картины, фарфор, керамика, текстиль и многие другие предметы искусства вывозились из Китая; даже плотники, каменщики, архитекторы и повара приезжали вместе со своими дзэнскими наставниками. Так что торговля с Китаем, которая развилась позднее, в период Асикага, начиналась уже в Камакура.
Находясь под покровительством столь сильных личностей, как Токиёри и Токимунэ, дзэн с успехом входил в японскую жизнь, особенно в жизнь самураев. По мере того как дзэн приобретал все больше и больше сторонников в Камакура, в сфере его влияния оказался и Киото, где его активно проповедовали японские дзэнские наставники. Последние вскоре обрели серьезных последователей среди членов императорской семьи во главе с императорами Годайго, Ханадзонэ и другими. Крупные монастыри были построены в Киото, и учителей, известных своими добродетелями, мудростью и ученостью, приглашали стать основателями, а затем и настоятелями таких учреждений. Сёгуны режима Асикага также были большими покровителями дзэн-буддизма, поэтому естественно, что и большинство генералов следовало их примеру. В те дни, если можно так выразиться, японский гений был либо на стороне священнослужителей, либо на стороне военных. Духовная кооперация двух этих профессий не могла не помочь созданию того, что ныне известно как бусидо, «путь воина».
Раз уж мы вспомнили о бусидо, следует коснуться одного из тех внутренних отношений, которые существовали между самурайским умонастроением и дзэн. То, что в конце концов сформировалось как бусидо, в том виде, в каком мы обычно понимаем его сегодня, выражается в решительной защите достоинства самурая, а точнее, в лояльности, сыновней почтительности и доброй воле. Но чтобы исполнить эти обязанности успешно, нужно, во-первых, упражняться в нравственном аскетизме, и не только практически, но и теоретически; и во-вторых, всегда быть готовым встретить смерть, то есть пожертвовать собой без колебаний, когда возникает такая необходимость. Для этого требуются серьезные умственные и духовные упражнения.
Об одном документе очень много говорили в связи с японскими военными операцими в Китае в 1930-х годах. Это — небезызвестное Хагакурэ;[30] данное слово буквально означает «скрытый под листьями», что намекает на одно из ценных качеств самурая: он не мельтешит перед глазами, не трубит о своих победах, но таится от взора общества, в тиши трудится на благо своих собратьев. Некий дзэнский монах внес свой вклад в составление этой книги, которая содержит различные замечания, анекдоты, нравственные сентенции и т. д. Работа над ее составлением началась в середине XVII в. под руководством Набэсима Наосигэ, феодального правителя провинции Сага на острове Кюсю. Книга очень настойчиво подчеркивает готовность самурая расстаться со своей жизнью в любой момент, в ней утверждается, что ни одно великое начинание не сможет осуществиться, если тот, кто занимается фехтованием, не станет безумным, то есть, говоря современным языком, если он не прорвет поверхностный слой сознания и не выпустит силы, скрытые глубоко внутри. Эти силы могут подчас казаться дьявольскими, но нет сомнения, что они имеют сверхчеловеческую природу и способны демонстрировать чудеса. Когда бессознательное просыпается, оно преодолевает индивидуальные ограничения. Смерть теперь окончательно утрачивает жало, и это происходит там, где самурайская закалка соединяется с дзэн.
Вспомним одну историю, рассказанную в «Хагакурэ». Ягю Тадзима-но ками Мунэнори был великим мастером меча и преподавал это искусство Токугава Иэмицу, сёгуну того времени. Один из личных стражей сёгуна однажды пришел к Тадзима-но ками, желая обучиться ловкому владению мечом. Мастер сказал: «Как я вижу, вы и сами являетесь мастером этого искусства; умоляю вас сказать мне, к какой школе вы принадлежите, прежде чем мы вступим в отношения учителя и ученика».
Страж сказал: «Стыдно признаться, но я никогда не изучал этого искусства».
Вы хотите меня одурачить? Я учитель самого достопочтенного сёгуна, и я знаю, что мой зоркий глаз меня не обманет.
Мне жаль, что я бросаю тень на вашу уверенность, но я действительно не знаю ничего.
Этот решительный отказ со стороны посетителя заставил наставника искусства меча призадуматься ненадолго, и он наконец сказал:
Если вы так говорите, наверное, вы правы; но я все-таки уверен в том, что вы — мастер чего-то, а чего — я не могу понять.
Да, если вы настаиваете, я скажу вам. Есть нечто, в чем я, можно сказать, являюсь совершенным мастером. Когда я был еще ребенком, мне пришла в голову мысль, что, будучи самураем, я не должен никоим образом страшиться смерти. С тех пор я упорно пытался разрешить эту проблему, пока наконец не разрешил ее. Может, это то, о чем вы думаете?
Именно! — воскликнул Тадзима-но ками. — Это то, что я имею в виду. Я рад, что не ошибся в своем предположении. Ведь высшие тайны искусства меча также связаны с освобождением от страха смерти. Я натренировал уже сотни учеников в своей школе, но до сих пор никто из них в сущности не заслужил того, чтобы называться подлинным фехтовальщиком. Вам не нужно обучение в технике, вы уже мастер.[31]
Проблема смерти — великая проблема для каждого из нас. Однако она еще более значима для самурая, то есть для воина, чья жизнь целиком посвящена
сражению, а ведь сражение означает смерть для кого-то из сражающихся. В эпоху феодализма никто не мог предсказать, когда могла произойти эта смертельная схватка, и поэтому самурай, стоивший своего имени, всегда находился начеку. Писатель-самурай XVII в. Дайдодзи Юсан пишет в начале своей книги «Пример бусидо»: «Самая жизненная, самая сущностная идея для самурая — это идея смерти, и эту идею он обязан держать перед своим внутренним взором днем и ночью, ночью и днем, с рассвета первого дня года до последнего мгновения последнего дня года. Когда это понятие твердо укоренится в вас, вы сможете исполнять свои обязанности в полную меру: тогда вы лояльны к своему наставнику, почтительны к родителям, без усилий избегаете всяческих опасностей. Тем самым не только ваша жизнь продлевается, но укрепляется и ваше личное достоинство. Размышляйте, что это за хрупкая вещь — жизнь, особенно жизнь самурая. Поскольку так оно и есть, вы станете рассматривать каждый день своей жизни как последний день и потому посвятите его исполнению своих обязательств. Никогда не позволяйте мысли о долгой жизни увлечь вас, потому что тогда вы начнете потакать всевозможным развлечениям и окончите дни в полном бесчестии. Вот почему, говорят, Масасигэ завещал своему сыну Масацура все время помнить об идее смерти».
Автор этого «Примера» правильно выразил идею, которая не осознается большинством самураев. Понятие смерти, с одной стороны, заставляет мысль воина выходить за пределы ограничений этой конечной жизни, а с другой — придает повседневной жизни необходимую серьезность. Поэтому вполне естественным было для каждого здравомыслящего самурая подойти к дзэн с позиции подчинения смерти. Дзэн- ское стремление решать эту проблему без обращения к учености, к нравственному воспитанию, к ритуализ- му, должно быть, казалось весьма привлекательным
Д- Судзуки
для самураев, в массе своей людей малоискушенных. Так что была некая логическая связь между психологическим настроением самурая и непосредственным, практическим учением дзэн.
Далее в «Хагакурэ» мы читаем следующее: «Бусидо означает решительную волю умереть. Когда вы стоите на перекрестке дорог, не колеблясь изберите путь к смерти. Никакой особой причины для этого нет, за исключением той, что ваш ум так воспитан и вы готовы исполнять свои обязанности. Некоторые могут сказать, что, если вы умрете, не достигнув цели, это бесполезная, собачья смерть. Но когда вы стоите на перепутье, вы ведь не располагаете планом для достижения цели. Мы все предпочитаем жизнь смерти, и наше планирование, и наше рассуждение будут естественным образом принимать сторону жизни. Если тогда вы упустите цель и останетесь живым, вы — трус. Это важно понять. В том случае, когда вы умираете, не достигнув цели, это может выглядеть как собачья смерть, как поступок безумца, но по крайней мере честь ваша не будет задета. В бусидо честь ставится во главу угла. Поэтому каждое утро и каждый вечер пусть идея смерти живо запечатлевается в вашем уме. Когда ваша решимость умереть в любой момент полностью утвердится, вы достигнете совершенства в искусстве бусидо, ваша жизнь станет безупречной и ваши обязанности будут полностью исполнены».
Некий комментатор добавляет к этому стихотворение известного фехтовальщика Цукахара Бокудэна
(1490—1572):
Самурай должен учиться Только одному.
Только важному —
Встретить смерть лицом к лицу.
Нагахама Иносукэ так говорит в «Хагакурэ»: «Сущность искусства меча состоит в том, чтобы полностью сосредоточиться на уничтожении противника. [Пока вы заботитесь о собственной безопасности, вы никогда не сможете победить в бою.] Если враг также готов положить свою жизнь, чтобы убить вас, тогда вы с ним образуете хорошую пару. Окончательный результат будет зависеть от веры и от судьбы». Примечание к этому высказыванию гласит: «Араки Ма- таэмон [великий мастер меча эпохи Токугава] так наставлял своего племянника Ватанабэ Кадзума, когда они собирались дать смертельный бой врагам: „Пусть враг коснется вашей кожи, зато вы разрежете его плоть; пусть он разрежет вашу плоть, зато вы пронзите его кости; пусть он пронзит ваши кости, зато вы отнимете его жизнь!” В другом месте Араки советует: „Когда вы должны скрестить мечи со своим соперником, будьте готовы в любой момент отказаться от своей жизни. Пока вы хотя бы чуть-чуть тревожитесь за свое спасение, вы обречены”».
Далее «Хагакурэ» утверждает: «Самурай ни на что не годен, если он не способен преодолеть привязанность к жизни и смерти. Когда говорят, что все вещи происходят из ума, можно вообразить, будто имеется некая особая вещь, которую называют умом. Но на самом деле ум, привязанный к жизни и смерти, должен быть отброшен, и тогда можно осуществлять чудесные деяния». Иначе говоря, все становится возможным, когда достигаются ступени сознания «не-сознания», как это понимает великий дзэнский мастер Такуан, слова которого будут цитироваться ниже. Это такое состояние ума, когда перестаешь беспокоиться о вопросах смерти или бессмертия.
Упомянутый выше Цукахара Бокудэн доподлинно понял: суть фехтования состоит не в том, что меч — это орудие убийства, а в том, что это средство духовной самодисциплины. Хорошо известны два случая из его жизни.
Однажды Бокудэн пересекал озеро Бива в гребной лодке, в которой кроме него находилось еще несколько пассажиров. Среди них был самурай с грубой внешностью, рослый и невероятно спесивый. Он начал хвалиться своими навыками владения мечом, утверждая, что он — первейший человек в этом искусстве. Другие пассажиры всерьез слушали его кичливую речь, тогда как Бокудэн оставался невозмутимым, как будто ничего не происходило. Это очень не понравилось хвастуну. Он приблизился к Бокудэну и толкнул его со словами: «У вас с собой тоже есть пара мечей, почему же молчите?» Бокудэн спокойно ответил: «Мое искусство отличается от вашего: оно состоит не в том, чтобы побеждать других, но в том, чтобы не быть побежденным самому». Его слова жутко разозлили верзилу.
И к какой же школе вы принадлежите?
Моя школа — это мутэкацу. (Что означает разбить врага «без участия рук», то есть не используя меча.)
Почему же тогда вы таскаете меч?
Это для того, чтобы избавляться от эгоистических привязанностей, а не убивать других.
Гнев самурая не знал пределов, он воскликнул яростно: — Вы и впрямь готовы сражаться со мной без меча?
Почему бы и нет? — ответил Бокудэн.
Хвастливый вояка приказал лодочнику грести к
ближайшему берегу. Но Бокудэн предложил отправиться на островок подальше от берега, поскольку на берегу их бой привлек бы людей, которые случайно могли пораниться. Самурай согласился. Лодка направилась к одинокому островку, находившемуся неподалеку. Как только они приблизились, самурай, уже готовый сражаться, выпрыгнул из лодки и вытащил меч. Бокудэн же не спеша снял оба своих меча и вручил их лодочнику. По всем признакам Бокудэн собирался последовать за самураем на остров, но вместо этого он вдруг резко вырвал из рук лодочника весло и, сильно оттолкнувшись им от земли, направил лодку прочь от острова. Она стремительно покинула остров и вскоре оказалась в безопасности, вне пределов досягаемости самурая. Улыбнувшись, Бокудэн заметил: «Это и есть моя школа „без меча”».
Из другого интересного и поучительного случая явствует, что мастерство Бокудэна в этом искусстве в сущности выходило за пределы простого умения манипулировать мечом. У него было три сына, которые неплохо поднаторели в этом искусстве. Он захотел проверить их достижения. Мастер поместил небольшую подушку поверх занавеса при входе в комнату и устроил так, что даже легкое прикосновение к занавесу, когда его приподнимали при входе, вызывало падение подушки прямо на голову входившего.
Бокудэн сначала позвал старшего сына. Подойдя, тот заметил подушку над занавесом, поэтому снял ее, а когда зашел, положил на место. Позвали второго сына. Он тронул занавес, поднимая его, а когда увидел падающую подушку, сразу же поймал ее и осторожно положил обратно. Теперь настала очередь третьего сына коснуться занавеса. Он резко зашел, и подушка свалилась прямо ему на шею. Но он успел вспороть ее двумя своими мечами, прежде чем она упала на пол.
Бокудэн изрек свой приговор: «Старший сын, ты хорошо обучился искусству меча». С этими словами он вручил ему меч. Второму он промолвил: «Тебе надо быть более усердным в учении». А младшего сына Бокудэн сурово отчитал, заявив, что тот навлек позор на семью.
Двумя великими генералами XVI в. были Такэда Сингэн (1521 —1573) и Уэсуги Кэнсин (1530— 1578). То было время, когда Японию раздирали многочисленные войны. Оба генерала упоминаются вмес- те, потому что их провинции — одна на севере, а другая в центре Японии — располагались по соседству, так что несколько раз эти правители боролись за лидирующее положение. Они хорошо подходили друг другу: оба были искусными воинами, способными властителями, а также серьезными последователями дзэн. Когда Кэнсин однажды узнал, что Сингэн очень нуждался в соли для своих подданных, он снабдил врага запасами из собственной провинции, которая, примыкая к Японскому морю, производила достаточно соли.[32] Как рассказывают, во время одной из заранее спланированных битв при Каванакадзима Кэнсина стало обуревать нетерпение при виде незначительных успехов своей армии, и, пожелав одним махом разрешить исход сражения, он самолично поскакал в лагерь Сингэна. Завидев генерала враждебной армии, спокойно восседавшего на походном стуле в окружении немногочисленной охраны, Кэнсин вытащил свой меч и обрушил его прямо на голову Сингэна со словами: «Ну, что вы скажете в такой момент?» Это был типичный дзэнский вопрос. Но Сингэн совершенно не растерялся. Он ответил: «Снежинка на раскаленной печи», — и отбросил грозное орудие железной сковородой, которую случайно держал в руке. Возможно, события, описываемые в этом мондо, никогда не происходили, но эта история хорошо показывает, какими бесстрашными и отчаянными воинами были последователи дзэн.
Путь, которым Кэнсин пришел к серьезному изучению дзэн под руководством Экио, был следующим. Когда Экио однажды читал проповедь на тему о словах Бодхидхармы «я не знаю»,[33] Кэнсин тоже был среди слушателей. Он кое-что знал о дзэн и пожелал испытать монаха. Слившись с толпой, он появился в одежде обычного самурая и ожидал удобного случая, как вдруг монах внезапно повернулся к Кэнсину и спросил: «О господин генерал! Каково значение слов Дарума „я не знаю”?» Кэнсин был сбит с толку и не знал, что сказать. Тогда Экио продолжал: «О господин генерал, почему вы не отвечаете мне сегодня, ведь в другие дни вы так много рассуждаете о дзэн?»[34] Гордость Кэнсина тут же испарилась. После этого он самым серьезным образом начал изучать дзэн под руководством этого монаха, который иногда говаривал ему: «Если вы действительно желаете овладеть дзэн, вам необходимо однажды отбросить свою жизнь и погрузиться прямо в омут смерти».
Кэнсин позже оставил следующее назидание для своих вассалов: «Те, кто цепляется за жизнь, умирают, а те, кто боготворит смерть, живут. Основа — это сознание. Вглядитесь в это сознание и твердо укрепитесь в нем, и тогда вы поймете, что в вас есть нечто такое, что превыше рождений-и-смертей и что не тонет в воде, не горит в огне. Я сам сумел проникнуть в это самадхи и знаю, что говорю. Те, кто не хочет отринуть жизнь и соединиться со смертью, не могут быть истинными воинами».
Сингэн также упомянул дзэн и смерть в своей «Конституции»: «Окажите должное почтение богам и Будде. Когда ваши мысли в согласии с мыслями Будды, вы обретете еще больше сил. Если ваше преобладание над другими происходит из ваших злых побуждений, вы станете беспомощны, вы осуждены. Посвятите себя изучению дзэн. Дзэн не имеет особых секретов, за исключением того, что он серьезно относится к рождению и смерти».
Читая эти утверждения, мы безошибочно чувствуем, что есть некая внутренняя необходимая связь между дзэн и жизнью воина. Она очевидна также и в поведении самих дзэнских наставников, которые иногда чуть ли не забавляются со смертью. Дзэнским учителем Сингэна был Кайсэн, настоятель Эриндзи, в провинции Каи. Третьего апреля 1582 г., уже после смерти Сингэна, монастырь подвергся осаде воинами Ода Нобунага, поскольку настоятель отказался выдавать Нобунаге врагов, которые попросили там убежища. Солдаты вынудили всех монахов, включая самого Кайсэна, взобраться на верхний этаж монастырской башни. Они намеревались, подпалив весь монастырь, заживо сжечь осажденных. Монахи, возглавляемые настоятелем, спокойно собрались, уселись, положив ноги крест-накрест и заняли свои обычные места перед изображением Будды. Настоятель прочитал свою последнюю проповедь так же, как всегда, прибавив: «Мы теперь окружены пламенем, как бы вы вращали колесо Дхармы в такой критический момент? Пусть каждый из вас скажет свое слово». И каждый монах говорил в соответствии с собственным пониманием. Когда все было завершено, настоятель, а за ним и все остальные, вступили в огненное самадхи. Перед смертью настоятель успел сказать:
Ради мирного созерцания нам нет нужды идти
в горы или к потокам:
Когда мысли успокоены, даже огонь становится прохладным и освежающим.
Можно сказать, что в каком-то смысле Япония в XVI В. проявила много утонченных образцов чело-
вечности. Страну, так сказать, раздирали на куски, и в политическом смысле, и в социальном. По всей Японии феодальные князья враждовали друг с другом. Народ наверняка сильно страдал, но это смертельное соперничество за военное и политическое превосходство среди воинских классов помогало напрягать до предела умственные и моральные силы любым способом. Мужественность утверждалась в различных сферах жизни. Можно сказать, что большинство добродетелей, составлявших бусидо, сформировалось в этот период и что Сингэн и Кэнсин были типичными представителями князей-самураев. Оба они были храбры и никогда не пасовали перед лицом смерти; они были мудры, проницательны и находчивы — и не только на войне, но и дома, управляя подчиненными им людьми; они были не какими-то неграмотными, грубыми солдафонами, но понимающими толк в литературе и глубоко религиозными людьми. Примечательно, что и Сингэн, и Кэнсин являлись великими буддистами. Светское имя Сингэна — Ха- рунобу, а Кэнсина — Тэрутора, но оба они лучше известны под буддийскими именами. В юности оба получили образование в буддийских монастырях, а в зрелые годы обривали свои головы, называя себя буддийскими нюдо[35] Кэнсин соблюдал целомудренность и вегетарианство, подобно буддийским монахам.
Как и большинство деятелей японской культуры, они любили природу и слагали стихи, как на японском, так и на китайском. Одно из стихотворений Кэнсина, написанное им во время военной кампании в соседних провинциях, звучит так:
Бодрящий, морозный осенний воздух окутывает
солдат на бивуаке.
Ночь приближается, и вижу косяк диких гусей, летящих в лунном свете. Очертания гор Эттю над спящими водами
залива Homo —
Что за чудесная картина, и как она вдохновляет
меня!
Хоть и далеки мы от дома, кто может [при виде такого лунного света] подумать, будто
мы в походе?
Сингэновская оценка природы была столь же высокой, как и у его противника из Этиго. Когда однажды Сингэн посетил буддийский храм в отдаленной части своей провинции, там, где покоились мощи Ачалавидья-раджи (Фудо Мёо), настоятель соседнего монастыря пригласил его зайти к нему по пути домой. Сингэн сперва отклонил приглашение, говоря, что он занят подготовкой военной операции, которая должна была произойти через несколько дней, и поэтому не имеет возможности повидать настоятеля сейчас, и добавил, что когда он вернется домой из похода, то обязательно посетит монастырь. Но настоятель (кстати, именно тот, кто позже позволил солдатам Ода Нобунага сжечь осажденных монахов заживо) был настойчив: «Вишни только начинают цвести, и я уже приготовил прекрасное место для вас, откуда вы можете полюбоваться видом великолепной весны. Я надеюсь, что вы не откажетесь оценить цветы».
Сингэн согласился: «Если бы не эта возможность посмотреть на вишни, мне было бы несложно отклонить назойливое приглашение настоятеля».
В восторге от прекрасной возможности насладиться цветами и неспешной беседой с главой монастыря Сингэн оставил стих на японском:
Не получи я приглашения от своего друга,
Как много бы потерял, не увидев великолепного
цветения вишен!
Если бы я посетил монастырь в следующую весну.
Его могло бы всего засыпать снегом
Подобное незаинтересованное любование природой, которое показывали Сингэн и Кэнсин даже в разгар военных кампаний, называется фурю; те, кто не обладает чувством фурю, считаются в Японии самыми невежественными людьми. Это чувство является не только эстетическим, оно имеет и религиозный отенок. Вероятно, оно относится к тому же умственному настрою, который породил среди культурных японцев традицию писать перед смертью стихи — по-японски или по-китайски. Эти стихи известны как «стихи при расставании с жизнью». Японцев научили и приучили выбирать свободную минуту для отрешения даже от самых сильных волнений, которые могут охватить их целиком. Да, смерть — это серьезнейшее событие, оно поглощает все внимание человека; но воспитанные японцы полагают, что они должны уметь отходить от зацикленности на нем и смотреть на смерть отстраненно. Обычай оставлять прощальную песнь, свято соблюдавшийся всеми культурными людьми даже в феодальные дни, возник, по всей вероятности, в период Камакура у последователей дзэнских монахов. Когда Будда отходил в нирвану, он собрал вокруг себя учеников и дал им последнее наставление. Должно быть, эта легенда повлияла на китайских, особенно на дзэнских, буддистов, однако те вместо прощальных наставлений для своих последователей оставляли выражение собственных взглядов на жизнь.
Прощальные слова Такэда Сингэна были цитатой из дзэнского сочинения: «Ее тело — само совершенство; чтобы выглядеть прекрасной, ей нет особой нужды прибегать к краске и пудре». Это относится к совершенству реальности, из которой мы все происходим, в которую мы все возвращаемся и в которой мы все пребываем; мир множественности приходит и уходит, но то, что находится вне его, всегда и неизменно сохраняет свою совершенную красоту.
Уэсуги Кэнсин составил собственные стихи, один на китайском, другой — на японском языке. Они звучат так:
Даже долгое процветание умещается в чашечке сакэ; Жизнь в сорок девять лет проходит как во сне;
Я не знаю, что есть жизнь, что — смерть.
Год за годом проходит — но это только сон.
И небеса, и ад остаются позади;
Я стою, залитый лунным светом,
Свободный от облаков привязанности.
Следует упомянуть и о случаях смертей воинов Камакура, записанных в Тайхэйки (составленном в конце XIX в.). Эти случаи наряду с гибелью монахов Эриндзи прояснят влияние дзэн на бусидо, особенно в свете отношения самураев к смерти.
Среди вассалов Ходзё Такатоки, который был последним представителем семейства Ходзё, был некий Сяку Синсакон Нюдо, занимавший не очень высокий ранг в самурайской иерархии Камакура. Намереваясь совершить самоубийство вслед за своим господином, судьба которого была, кажется, решена, он подозвал своего старшего сына Сабуродзаэмона и сказал ему: «Камакура обречена, она окружена врагами со всех сторон. Я намерен разделить судьбу своего господина, ведь я верен ему. Но ты все-таки слишком молод, ты еще не служил в полной мере и не был столь близок господину, как я. Ты вправе избежать надвигающейся трагедии, и если спасешь свою жизнь, ты должен стать монахом и, служа Будде, заботиться о духовном благе для всех нас. Никто не осудит тебя за этот поступок».
Однако Сабуродзаэмон не выразил желания последовать рациональному совету своего отца. Он сказал: «Пусть даже я еще не так тесно и активно связан с нашим господином, но, будучи вашим сыном, я вырос под благосклонным покровительством его милости. Если бы я уже вел жизнь монаха, это одно дело. Однако, родившись в семье самурая, как я могу оставить вас и нашего господина и бежать, чтобы потом стать монахом? Нет более постыдного поступка, чем этот. Если вы должны разделить судьбу нашего господина, позвольте мне быть вашим проводником в иной мир». И едва проговорив последние слова, он отсек себе голову и испустил дух.
Его брат Сиро, наблюдая все это, стал спешно готовиться последовать его примеру. Но Нюдо остановил его, сказав: «Не торопись. Ты должен соблюдать порядок и подождать меня». Сиро вложил меч обратно в ножны и уселся перед своим отцом, ожидая его последних распоряжений. Тогда отец приказал ему принести сиденье. Нюдо сел на него, положив ноги крест-накрест на манер дзэнских монахов, спокойно обмакнул кисть в чернила и вывел свою песнь смерти на листе бумаги:
Орудуя этим мечом,
Я тщетно рассекаю пустоту;
В центре великого пламени —
Поток освежающего бриза!
Закончив писать, он совершил самоубийство, как и подобало такому храброму самураю, каким он был, и Сиро завершил его подвиг, отрубив голову отца в согласии с самурайским кодексом чести. Что касается самого Сиро, то, используя этот же меч, он разрубил себя снизу доверху и упал на землю мертвым.
В период упадка династии Ходзё жил еще один воин, последователь дзэн, которого звали Нагасаки Дзиро Такасигэ. Как-то раз он позвал к себе своего дзэнского наставника, которому также привелось быть учителем Ходзё Такатоки, и спросил: «Как должен смелый воин вести себя в момент, подобный этому?» Дзэнский учитель сразу ответил: «Иди прямо вперед, владея своим мечом!» Воин сразу понял, что тот имел в виду. Он боролся очень отважно, до тех пор, пока, измученный, не упал перед своим господином Такатоки.
Это и в самом деле был дух дзэн, который культивировался среди его воинственных последователей. Дзэн мог не соглашаться с ними по поводу идеи бессмертия души, понимания праведности, божественного пути, этических идеалов, но он побуждал человека двигаться вперед, и неважно, рациональными или иррациональными идеями был тот нагружен. Философию можно без опасений оставить на попечение интеллектуалов; дзэн желает действовать, а самый эффективный прием, когда умствования отброшены, — это идти вперед не оглядываясь. В этом отношении дзэн действительно может считаться религией самурайского воина.
«Умирать исаги-ёку» — одна из идей, очень дорогих японскому сердцу. В случае тех смертей, когда эта идея присутствует, даже к преступлениям, совершенным нападавшими, относятся с терпимостью.
Исаги-ёку означает «не оставлять сожалений», «с ясным сознанием», «подобно храброму мужу», «без сопротивления», «в полном равновесии ума» и т.д. Японцы не любят встречать смерть в нерешительности, замедленно; они хотели бы погибнуть сразу, словно цветы вишни, слетающие с ветки под порывом ветра. Несомненно, это японское отношение к смерти должно было очень хорошо увязываться с учением дзэн. Японцы могут не иметь никакой особой философии жизни, но они наверняка имеют философию смерти, которая иногда, возможно, кажется опрометчивостью. Самурайство, глубоко впитав в себя дзэн, распространило его философию даже среди простого народа. И простые люди, даже если они не особенно искушены в военном искусстве, усвоили его дух и готовы пожертвовать своей жизнью за любое дело, которое они сочтут достойным. Этот факт постоянно доказывался в войнах, которые Японии до настоящего времени приходилось вести. Один иностранный автор,[37] писавший на тему японского буддизма, метко замечает, что дзэн — это японский характер.
ДЗЭН И ИСКУССТВО ФЕХТОВАНИЯ
«Меч — душа самурая», поэтому когда речь заходит о самурае, то неизбежно вспоминают и о мече. Самурай, желающий быть верным своему призванию, сперва задаст себе вопрос: как преодолеть рождение и смерть, чтобы в любой момент, когда это необходимо для моего господина, уметь расстаться со своей жизнью? Это означает: уметь поставить себя под удар вражеского меча или направить собственный меч против себя. Таким образом, меч тесно связан с жизнью самурая; меч стал символом выражения лояльности и самопожертвования самурая. Почтение, повсеместно оказываемое мечу, по-разному доказывает этот факт.
Тем самым меч имеет двойное назначение: он разрушает все то, что противостоит воле его владельца, и приносит в жертву все импульсы, которые возникают из инстинкта самосохранения. Первая функция связана с духом патриотизма или, реже, милитаризма, а вот вторая наделена религиозным значением, значением лояльности и самопожертвования. В первом случае меч зачастую означает обыкновенное уничтожение, и тогда это — символ силы, иногда даже дьявольской силы. Поэтому он должен находиться под контролем второй функции и получить освящение от нее. Совестливый владелец меча всегда помнит об этом. Ведь тогда уничтожение оборачивается против духа зла. Меч отождествляется с разрушением всего
Д. Судзуки
того, что лежит на пути мира, справедливости, прогресса и человечности. Он защищает то, что является желанным для духовного благосостояния мира в целом. Тогда это воплощение жизни, а не смерти.
Дзэн говорит о мече жизни и мече смерти, и великий мастер дзэн знает, когда и как управлять обоими. Манджушри держит меч в правой руке, а сутру — в левой. Возможно, в этом он похож на пророка Мухаммеда, однако священный меч Манджушри призван убивать не каких-либо живых существ, но наши жадность, гнев и глупость. Он направлен на нас самих, и когда мы понимаем это, внешний мир, который является отражением того, что внутри нас, также освобождается от гнева, жадности и глупости. Ачала (Фудо Мёо) тоже несет меч, и он уничтожит им всех врагов, которые могут помешать практике исполнения буддийских добродетелей. Манджушри — это положительное качество, Ачала — отрицательное. Гнев Ачалы горит подобно костру, он не потухнет до тех пор, пока не уничтожит последний лагерь своих врагов; только тогда Ачала примет свои изначальные черты — черты Вайрочана Будды, чьим слугой и чьим проявлением является. Вайрочана не носит меча, он сам является мечом, пребывая в самом себе, охватывая собой все миры. В следующем ниже мондо «один меч» означает именно такой меч.
Кусуноки Масасигэ (1294 —1336) пришел в дзэнский монастырь в Хёго накануне битвы при Ми- натогава с численно превосходящей армией Асикага Такаудзи (1305 —1358) и спросил наставника: «Когда человек находится на развилке путей, ведущих к жизни и смерти, как ему следует себя вести?» Мастер ответил: «Отрежь свою двойственность, и пусть меч стоит безмятежно, уставившись в небо!»[38] Этот абсолютный «один меч» не является ни мечом жизни, ни мечом смерти, это меч, из которого происходит данный мир дуальности, на котором он основывается; это сам Вайрочана Будда. Вы берете его, и вы знаете, как себя вести на развилке.
Меч здесь обозначает силу интуитивной, или инстинктивной, направленности, которая в отличие от интеллекта не разделена и не препятствует собственному движению. Она движется всегда вперед, не оглядываясь ни назад, ни по сторонам. Она подобна рассекающему ножу у Чжуан-цзы, который режет суставы, как если бы они уже были готовы отвалиться сами. Чжуан-цзы мог бы сказать: суставы в момент их разрезания отделяются сами собой, поэтому даже после многолетнего использования нож остается столь же острым, как и тогда, когда он впервые вышел из рук ножовщика. Только «один меч» реальности никогда не тупится после отсечения столь многих жертв эгоизма.
Меч также играет роль в синтоизме. Но, как мне представляется, здесь меч не получил столь высокого духовного значения, как в буддизме. В синтоизме все еще сказывается его натуралистическое происхождение. Это не символ, но объект, обладающий некоей таинственной силой. В феодальную эпоху в Японии самураи руководствовались именно этой идеей меча, хотя трудно определить в точности, когда именно она овладела их сознанием. Так или иначе они оказывали мечу великое почтение. Когда умирал самурай, меч помещали у него в изголовье, а когда рождался ребенок, то меч тоже клали на определенное место в комнате. Вероятно, все это было нужно для того, чтобы помешать войти в комнату любым злым духам, которые могли бы поставить под угрозу безопасность и счастье уходящих или только что родившихся душ. В этом сказывается анимистический способ мысли. Идея священного меча также может быть истолкована в этом духе.
Стоит отметить, что перед изготовлением меча кузнец заручается помощью божества-охранителя. Чтобы зазвать его в мастерскую, кузнец окружает ее священными веревками, изгоняя злых духов, а сам исполняет ритуал омовения и облачается в церемониальную одежду, в которой приступает к работе. Ударяя по стальному бруску, погружая его в огонь и в воду, кузнец и его помощник пребывают в самом сосредоточенном состоянии. Уверенные в том, что божество оказывает им помощь в трудах, они работают на пределе своих сил — умственных, физических и духовных. Созданный таким образом меч — это настоящее произведение искусства. Японский меч должен выражать нечто такое, что лежит глубоко в народной душе. Японцы в самом деле считают, что меч — не столько орудие разрушения, сколько объект вдохновения. Ниже приводится легенда о кузнеце Окадзаки Масамунэ и его изделиях.
Расцвет деятельности Масамунэ пришелся на конец эпохи Камакура, и знатоки меча единодушно расхваливали его изделия за их превосходные качества. Возможно, мечи, изготовленные Масамунэ, остротой лезвия уступали мечам Мурамаса, одного из способнейших его учеников, но от личности Масамунэ, как говорили, исходило нечто нравственно вдохновляющее. Легенда рассказывает, что однажды кто-то попытался испытать остроту меча Мурамаса. Этот человек окунул его в реку и наблюдал, как меч противостоит опавшим листьям, плывшим вниз по течению. Он видел, что каждый лист, который наталкивался на лезвие, оказывался разрезанным надвое. Затем он поместил в воду меч Масамунэ и очень удивился, увидев, что листья избегали натыкаться на лезвие. М еч Масамунэ не стремился убивать, он был гораздо больше, чем просто рассекающее орудие, в то время как меч Мурамаса не мог выйти за пределы своего прямого назначения, в нем не было ничего божествен- ного. Меч Мурамаса ужасен, меч Масамунэ человечен. Первый деспотичен и властолюбив, а другой сверхчеловечен, если можно так выразиться. Масамунэ почти никогда не вычеканивал своего имени на рукоятке меча, хотя таков был обычай среди кузнецов.
Японская идея нравственного и религиозного значения выражена в Кокадзи, драме театра Но. Эта пьеса, по-видимому, была составлена в эпоху Асикага. Император Итидзё (правил в 986—1011 гг.) однажды заказал выковать меч Кокадзи Мунэтика, одному из величайших кузнецов того времени. Мунэтика почувствовал чрезвычайную гордость от оказанной ему чести, однако он не мог исполнить приказ, поскольку не располагал достойным помощником, столь же опытным, как и он сам. В молитве он просил Ина- ри, своего бога-охранителя, послать ему кого-то, кто был бы полностью пригоден для выполнения подобной работы. Между тем он приготовил свою сакральную площадку, как этого требовали традиционные правила. Когда весь процесс очищения был завершен, он вознес такую молитву: «Работа, которую я собираюсь исполнить, нужна не для моего тщеславного удовлетворения; я должен подчиниться августейшему приказу императора, правящего всем миром. Я молю всех богов, столь же многочисленных, как песчинки Ганга, прийти сюда и оказать помощь мне, ничтожному Мунэтика, который теперь собирается сделать все от него зависящее, чтобы создать меч, достойный добродетели августейшего владыки». Взирая на небо, распростершись на земле, он предложил богам нуса[39] знак своего серьезнейшего намерения выполнить работу успешно. Разве могли боги остаться безучастными к его искреннему призыву! Откуда-то раздался голос: «Молись, молись, Мунэтика, сознавая всю глубину своей ничтожности, молись со всей серьезностью. Наступает время ударить по железу. Верь в богов, и работа будет сделана». Таинственная фигура вдруг появилась перед ним и помогла ему расплющить раскаленную железную заготовку, которая, приняв форму совершенного святого меча, вышла из горна в должное время. Император был доволен мечом, стоившим того, чтобы с ним обращались как с предметом священным, приносящим благо.
Поскольку нечто божественное входит в меч при его изготовлении, то и собственник меча, использующий его, также должен соответствовать такому возвышенному духу. Ему следует быть человеком духовным, а не воплощением дикости. Разум его должен быть одним целым с душой, которая животворит холодную сталь. Великие мастера меча постоянно стремились запечатлевать это чувство в сознании своих учеников. Когда японцы говорят, что меч — это душа самурая, мы должны вспоминать все то, что связано с этим, как показано выше: верность, самопожертвование, почтительность, благожелательность и другие высокие чувства. Таким должен быть истинный самурай.
2
Таким образом, для самурая, который обычно носил с собой два меча — один подлиннее, чтобы атаковать и защищаться с его помощью, другой покороче, чтобы покончить с собой в случае необходимости, — было вполне естественным с великим рвением упражняться в искусстве фехтования. Самурая никогда нельзя было отделить от его оружия, высшего символа его достоинства и чести. Упражнения в фехтовании помимо собственно практической пользы благоприятно сказывались на его нравственном и духовном развитии. Именно в этом фехтовальщик сближался с учением дзэн. Хотя данный факт в известной степени уже был проиллюстрирован выше, мне хотелось бы привести и другой пример, проясняющий внутренние отношения между дзэн и мечом, а именно письмо Та- куана[40] Ягю Тадзима-но ками Мунэнори[41] (1571 — 1646), затрагивающее тему отношений между дзэн и искусством фехтования.
Поскольку это письмо длинное и в чем-то повторяется, я изложил его здесь в сжатой или перефразированной форме, стараясь сохранить важные мысли оригинала и иногда сопровождая его объяснениями и примечаниями. Этот документ важен сразу в нескольких отношениях, поскольку он касается и сущности учения дзэн, и секретов искусства в целом. В Японии, возможно как ни в одной другой стране, осознавалось, что простых технических навыков в каком-либо искусстве недостаточно для того, чтобы человек стал подлинным его знатоком; такому человеку следует глубоко погрузиться во внутренний дух искусства. Этот дух понятен только тогда, когда ум человека находится в полной гармонии с принципом самой жизни, то есть когда человек достигает определенного состояния сознания, известного как мусин (у-синъ по- китайски), или состояния «не-ума». В буддийской фразеологии это означает выходить за пределы любой двойственности, будь то жизнь и смерть, добро и зло, бытие и небытие. Именно там, в основе дзэн, черпают свои истоки все разновидности искусства. В этом письме к великому фехтовальщику Такуан особо подчеркивает значение мусин, которое в каком-то смысле можно понять в русле концепции бессознательного. С психологической точки зрения, в подобном состоянии сознание без всякого сопротивления отдает себя некоей неведомой «силе», которая приходит к человеку из ниоткуда, но все же является, вероятно, достаточно мощной, чтобы управлять всей областью сознания и заставить его работать на неведомое. Тем самым человек, когда речь заходит о его собственном сознании, становится, так сказать, каким-то автоматом. Но, как объясняет Такуан, его не следует путать с беспомощной пассивностью неорганической вещи, например с куском скалы или с обрубком дерева. Он «бессознательно сознателен», или «сознательно бессознателен». После этих предварительных соображений следующая далее инструкция Такуана станет более понятной.
Письмо Такуана Ягю Тадзима-но ками Мунэнори о таинстве неподвижной праджни
Аффекты присутствуют на ступени-пребывании невежества
«Неведение» (авидья) означает отсутствие просветления, то есть омрачение. «Ступень-пребывание» означает «место, в котором сознание останавливается для пребывания». В буддийской практике мы говорим о пятидесяти двух ступенях, среди которых встречается ступень, на которой сознание привязывается к какому-либо объекту. Эта привязанность известна как томару, «остановка», или «пребывание». Ум останавливается на одном объекте, вместо того чтобы перетекать от одного объекта к другому [как он действует, когда следует своей собственной природе].[43]
Например, в случае искусства фехтования: когда противник пытается поразить вас, ваши глаза сразу замечают движение его меча и вы можете попытаться последовать за ним. Но как только это происходит, вы перестаете владеть собой и наверняка проиграете. Это и называется «остановкой». [Но есть и другой способ встретить меч противника.]
Да, конечно, вы видите меч, который собирается пронзить вас, но не позволяйте уму «останавливаться» на этом. Не пытайтесь контратаковать его, реагировать на его угрожающие движения, старайтесь не думать вообще. Просто воспринимайте движение противника, не позволяя своему уму «останавливаться» на этом, идите сразу на противника и воспользуйтесь его атакой, повернув ее на него самого. Гогда его меч, предназначенный для вашего убийства, станет вашим собственным, и его оружие падет на него самого.
В дзэн это известно как «схватить вражеское копье и использовать его как оружие для убийства врага». Идея здесь такова: меч противника, когда он попадает в ваши руки, становится инструментом для его же уничтожения. Это «не-меч», говоря вашим языком. Как только ум «останавливается» на объекте, неважно на каком, — будь то меч противника или ваш собственный меч, личность противника, сосредо
точенного на ударе или на своем мече, манера и расчет ответного выпада, — вы перестаете быть самим собой и обязательно падете жертвой вражеского меча. Когда вы встанете против своего соперника, ваше сознание будет им унесено. Поэтому даже не думайте о себе. [Иначе говоря, следует преодолеть противопоставление субъекта и объекта.]
Для начинающих не так уж плохо учиться полностью сосредоточивать свое сознание на самом процессе происходящего. Важно не позволять своему вниманию останавливаться на мече или на вычислении его движения. Когда ваш разум беспокоится о мече, вы станете его же пленником. Это все благодаря тому, что ваш ум останавливается на чем-то внешнем и утрачивает свои умения. Мне кажется, все это вам очень хорошо известно; я только обращаю ваше внимание на него с моей, дзэнской точки зрения. В буддизме эта «остановка» ума называется «омрачением», поэтому и говорится, что «аффекты присутствуют на ступени-пребывании невежества».
[Нельзя смешивать понятия «бессознательного» в искусстве фехтования и в психоанализе, поскольку в первом отсутствует идея «я». Искусный фехтовальщик не имеет представления ни о личности врага, ни о своей личности: он является безразличным наблюдателем фатальной драмы жизни и смерти, в которой сам активно участвует. Несмотря на все заботы, которые он имеет или должен иметь, он становится выше самого себя, он преодолевает двойственное восприятие ситуации и все-таки не становится созерцательным мистиком, а остается в самой гуще смертельной схватки. Это различение следует помнить, когда мы сравниваем восточную культуру с западной. Даже в таких искусствах, как фехтование, где принцип противопоставления столь очевиден, тому, кто чересчур увлечен им, советуют отказаться от такой идеи.]
Неподвижная праджня
[Праджней обладают все будды, а также все живые существа. Это трансцендентальная мудрость, вытекающая из относительности вещей.] Праджня остается неподвижной, хотя это не означает неподвижности или бесчувственности таких объектов, как кусок дерева или камня. Это сам ум, наделенный бесконечной подвижностью: он движется вперед и назад, влево и вправо, во все десять сторон света и не встречает преград ни в одном направлении. Неподвижная праджня и есть этот ум, способный к бесконечным движениям.
Известен буддийский бог, которого называют Фудо Мёо (Ачала-видья-раджа), или Неподвижный. Его представляют с мечом в правой руке и с веревкой — в левой. Его зубы оскалены, а глаза яростно сверкают. Он стоит в угрожающей позе, чтобы уничтожить демонов, которые пытаются повредить буддийскому учению. Хотя он выглядит весьма реалистично, его на самом деле нельзя нигде найти. Он является символическим защитником буддизма, глубинным воплощением неподвижной праджни для нас, живых существ. Когда обычные люди сталкиваются с ним, его вид напомнит им, что именно он защищает, и тогда они воздержатся мешать распространению буддийского учения. С другой стороны, мудрые люди, приближающиеся к обретению состояния просветления, понимают, что Фудо символизирует неподвижную праджню, разрушающую иллюзии. Тот, кто таким образом становится просветленным и ведет свою жизнь по примеру Фудо Мёо, не будет затронут никакими дьявольскими духами. Мёо есть символ неподвижности и ума, и тела. Не двигаться означает не «останавливаться» на видимом объекте. Покуда объект виден, он пребывает в процессе, и ум не останавливается. «Останавливаясь» на каждом новом объек- те, ум омрачается всевозможными мыслями и чувствами. «Остановка» неизбежно ведет к колебаниям, то есть к омрачениям. Хотя ум тем самым подвержен «остановкам», внутри себя он остается неподвижным, каким бы неглубоким ни казалось это его положение.
Например, предположим, что десять человек нападают на вас, и каждый по очереди готов пронзить вас мечом. Едва расправившись с первым, вы сразу же переходите к другому, не позволяя уму «останавливаться» на чем-либо. Сколь бы быстро ни следовали удары друг за другом, у вас нет времени устраивать между ними какие-то паузы. Тем самым вы встречаете каждого из этой десятки последовательно и успешно. Но это возможно только тогда, когда ум движется от одного объекта к другому без «остановки», когда его ничто не задерживает. Если ум не в состоянии двигаться подобным образом, вы наверняка выйдете из игры где-то между двумя атаками.
Каннон Босацу (Авалокитешвара) иногда изображается тысячеруким, причем каждая его рука держит какой-то инструмент. Если его ум «остановится» на том, как применить, скажем, лук, все другие 999 рук окажутся бесполезными. Только потому, что его ум не «останавливается» на использовании орудия в одной руке, но движется от одного инструмента к другому, все его руки оказываются полезными и в высшей степени эффективными. По отношению к Каннон не следует думать, будто он имеет тысячу рук на одном теле. Число «тысяча» означает, что, когда осознается неподвижная праджня, даже такое количество рук, как тысяча, может тем или иным образом, порознь и вместе быть полезным.
Приведу другой пример. Когда я смотрю на дерево, то замечаю, что один из листьев красный, и мой ум «останавливается» на этом листе. Когда это случается, я вижу только один лист и не могу увидеть всю остальную листву на дереве. Если вместо этого я посмотрю на дерево без всяких предвзятых мыслей, то увижу все листья. Один лист успешно «останавливает» мой ум от созерцания всего остального. Но когда ум движется без «остановок», ему удается всмотреться в сотни, тысячи листьев. Когда мы понимаем это, то становимся бодхисатвой Каннон.
Простодушный человек примет держащего лук Каннон за нечто сверхъестественное — просто потому, что видит бога, наделенного руками и глазами, исчисляемыми тысячью. Другие же, не потрудившись помыслить глубже, отрицают реальность Каннон, говоря: «Как у кого-то может быть целая тысяча рук?» Те, кто знает причину вещей, не будут ни слепо верить, ни поспешно отрицать. Они откроют, что мудрость буддизма состоит в том, чтобы демонстрировать рациональность вещей посредством одного объекта. Это характерно и для других вероучений, особенно для синтоизма. Эти символические фигуры не следует ни принимать наивно, раз они появляются перед глазами, ни отклонять как нечто неправдоподобное. Следует знать, что в них имеется некая причина. Причины могут различаться, но все они в конечном счете указывают на одну истину.
Все начинают с первой ступени — неведения и аффектов — ив конце концов достигают ступени неподвижной праджни; а когда они достигают предела, то обнаруживают, что тот соседствует с первой ступенью. Этому есть объяснение.
Если говорить на языке фехтовальщиков, сперва новичок совершенно не знает, как правильно держать меч и как управляться с ним, и еще того меньше — как обращаться с самим собой. Когда противник пытается ударить его, он инстинктивно парирует этот удар. Это все, на что он способен. Но когда начинается обучение, его учат тому, как владеть мечом, где удерживать ум, и сообщают многие другие технические детали, которые заставляют его ум «остановиться» на различных вещах. По этой причине, когда бы он ни пытался ударить противника, он чувствует ка- кие-то трудности. [Он совершенно утрачивает присущие ему от природы открытость и естественность.] Но по мере того как проходят дни и годы, по мере того как его опыт приобретает все большую зрелость, положение тела, способ владения мечом приближаются к «отсутствию ума», напоминающему то состояние сознания, в котором он пребывал в самом начале своего обучения, когда он ничего не знал, когда он был совершенно невежествен относительно своего искусства. Таким образом, начало и конец тесно соединяются друг с другом. Сперва мы начинам считать: одна ступень, другая, третья, а когда наконец доходим до десятой, оказывается, что мы возвратились к первой.
В музыкальных октавах можно начинать с низкого тона и постепенно восходить к высокому. Когда достигаем высокого, то обнаруживаем, что он находится возле низкого. Точно так же и в буддизме: когда в его изучении достигают высшей ступени, человек прекращается в какого-то простака, который ничего не знает о Будде, ничего на знает о его учении и лишен всякой учености и схоластических ухищрений. Неведение и аффекты, характеризующие первую ступень, погружаются в неподвижную праджню, последнюю ступень буддийского пути: интеллектуальные вычисления теряются из вида и преобладает состояние отсутствия ума (мусин), или отсутствия мыслей (му- нэн). Когда обретают высшее совершенство, тело и его члены без вмешательства сознания делают то, что им и назначено делать. [Технические навыки настолько автоматизируются, что полностью выходят из-под сознательного контроля.]
Букко-кокуси (1241 —1316) из Камакура написал стихотворение:
Хоть пугало и не сознает,
Что охраняет поля риса от незваных гостей.
Все же оно торчит не так уж бесцельно.
Можно сказать иначе: пугало, имитирующее человеческую фигуру, воздвигается посреди рисовых посадок, оно держит лук и стрелу, словно вот-вот выстрелит, и, завидев его, птицы и звери испуганно бегут прочь. Эта человеческая фигура не наделена умом, тем не менее она отпугнет, скажем, оленя. Ей можно уподобить совершенного человека, достигшего вершины в своей практике.[44] На первое место здесь выходит [бессознательная, внерефлексивная] активность тела и его членов, в то время как сам ум останавливается на отсутствии объектов и указателей. Его нельзя поместить и ни в одном четко определенном месте. И все это существует само по себе, без мыслей, без аффектов, подобно пугалу на рисовых полях. Это так характерно для человека простодушного, чье наивное понимание не заходит чересчур далеко, держится собственных представлений и не занято самоутверждением. Эта скромность также присуща тому, кто достиг высшей ступени понимания. Но есть, впрочем, и такие люди, которые, хотя они и знают очень много, чересчур выпячивают свое знание. Мне попадалось много подобных людей среди представителей моей профессии, и я испытываю большой стыд за них.
Нам придется различать два вида тренировки — духовную[45] и практическую. Как я уже говорил, тема духовности решается очень просто, когда она осознается в полной мере; все зависит от того, насколько человек сумеет оставить собственное неведение и аффекты и достичь ступени отсутствия ума.[46] Это состояние развивалось постепенно. Но нельзя пренебрегать также и развитием технических навыков. Одно только понимание принципа не в состоянии вести человека к контролю за движениями тела и его членов. Под практическими средствами я имею в виду называемые вами пять способов положения тела, каждое из которых обозначается отдельным иероглифом. Само собой разумеется, принцип духовности следует постичь, но в то же время следует тренироваться в навыках фехтования. Но практика никогда не должна быть односторонней. Ри (ли) и дзи (ши)[47] подобны двум колесам повозки...
Искра, высеченная из кремня
Есть еще один способ выразить идею «не делать интервала даже шириной в волос». Например, когда огнивом бьют о кремень, то сразу же вылетает искра, при этом не происходит ни малейшей задержки. Это подобно сознанию, которое не «останавливается» ни на каком объекте, и никакого времени не выделяется на освобождение, [поскольку разнообразные аффекты стремятся утвердиться]. Но это не означает просто мгновенной смены событий. Смысл в том, чтобы не позволить уму «остановиться» на чем бы то ни было. Простая мгновенность бесполезна, если ум «останавливается» даже на мгновение. Пока есть «остановка» на мгновение, ваш ум не является вашим, ибо в таком случае он переходит под контроль другого. Когда ум высчитывает, насколько следует быть быстрым в движении, уже самая мысль делает ум пленником. [Вы больше не хозяин самого себя.]
В собрании стихотворений Сайгё Санкасю имеется такое:
Как я понимаю, вы — человек,
Смертельно уставший от мира;
Я только думаю о том, что вы совсем
не стремитесь*
К временному крову.
правильному и ложному, отдавая себя силе, которая пребывает в глубине его внутреннего существа. Стихи Бунана гласят:
Пока живешь,
Будь мертвым человеком.
Будь полностью мертв —
И делай все, что вздумаешь.
Все будет хорошо.
«Стремление к чему-либо» по-японски звучит как коко- ро томэру, о котором Такуан говорит столь часто в своем письме к Ягю Тадзима-но ками. Вторую часть стихотворения можно перевести и так: «Я только думаю, что вам не следовало бы „останавливать” свой ум на временном крове».
Д- Судзуки
Говорят, это стихотворение было составлено куртизанкой из Эгути. Я хотел бы обратить внимание на последнюю часть стихотворения, где содержится фраза «кокоро томуна», то есть «не „останавливать” ум». Она очень хорошо подходит к искусству фехтования, которое в конечном счете состоит в том, чтобы ум не «останавливался» ни на каком объекте.
В процессе дзэнской практики ученик может спросить: «Кто такой Будда?», и мастер замахивается на него кулаком. «Каково высшее значение буддийского учения?» — и мастер отвечает раньше, чем вопрошающий доведет фразу до конца: «Ветка цветущей сливы» или «Кипарис во дворе». Здесь важно не столько найти подходящий ответ, сколько увидеть, что ум «не останавливается» ни на чем. Такой ум не «останавливается»[48] ни на цвете, ни на запахе. Этот «неостанавли- вающийся» ум в своей таковости (тай) прославляется как Бог или почитается как Будда, не уступает дзэн- скому сознанию или высшему пределу искусства фехтования. Если на приведенные выше вопросы давать ответы обдуманные, то они, конечно, могут быть великолепными и полными мудрости, однако они не покинут ступени неведения и аффектов (авидья-клеша).
Дзэн стремится к движению мгновенности. Это движение подобно искре, высекаемой кремнем при ударе по нему огнивом. Это подобно вспышке молнии. Допустим, кто-то зовет: «Эй, Уэмон!», и тот сразу же отвечает: «Да». Это неподвижная праджня. Но бывает, что человек, к которому обратились: «Эй, Уэмон!», «останавливается» и, удивляясь про себя, размышляет: «Какое у него ко мне дело?» Наконец он отвечает: «Что нужно?» Это исходит от ума, пребывающего на ступени неведения и аффектов. Когда бы и где бы ни произошла «остановка», это становится признаком существа, отвлеченного чем-то внешним, чем-то омраченным. Таково сознание обычного существа, находящегося на ступени неведения и аффектов.
С другой стороны, то, что дает мгновенный ответ на призыв «Эй, Уэмон!», есть праджня всех будд. Будды и все существа, боги и люди не отдельны друг от друга. Бог, или Будда, — это имя, которое дали такому уму [тождественному праджне]. Путь Богов, путь поэзии, путь Конфуция — много может быть путей (дао), но все это пути, в основе которых лежит Один Ум.
Когда люди следуют только букве и не имеют подлинного понимания, чем же является «один ум» (неподвижная праджня), они отвергают его всевозможными способами в течение всей своей жизни. День и ночь они исполняют благие и злотворные деяния в соответствии со своей кармой. Они могут оставить семью, уничтожить целый народ или сделать что-то другое, противное законам «одного ума». Все они пребывают в беспорядочном состоянии и им совершенно не удается увидеть, на что же похож «один ум». К сожалению, совсем немногие действительно проникли в глубины «одного ума». Остальные уныло блуждают в потемках.
Но мы должны знать, что недостаточно только видеть, чем является этот «ум»; практикой должна быть вся наша повседневная жизнь, связанная с ним. Мы можем много говорить о нем, можем писать книги, объясняя его, но это останется слишком далеко от реальности. Как бы много слов мы ни сказали по поводу воды и как бы рационально ни описывали ее, это не сделает описание воды настоящей водой. То же самое и с порохом. Только лишь рассказ о нем не заставит пушку выстрелить. Чтобы понять, чем являются вещи, надо испытать их в реальной жизни. Книга по приготовлению пищи не утолит наш голод. Чтобы почувствовать сытость, мы должны получить реальную пищу. Если мы не перестанем болтать, мы не приблизимся к познанию истины.
Конфуцианство, как и буддизм, пытается объяснить, что такое «один ум»; однако пока жизнь сама не согласится с подобными объяснениями, буддийскими или конфуцианскими, мы не сможем считать себя знатоками «ума», даже если каждый из нас обладает им. Причина, почему те, кто посвящает себя изучению дао, все же не способны понять его высшее значение, заключается в том, что они слишком полагаются на ученость. Если они действительно хотят узреть «один ум», необходимо глубокое куфу[49]
Где помещать ум?
Часто спрашивают: куда ум [или внимание] должен быть направлен? Когда он направлен на движения противника, он будет унесен ими. Когда он направлен на меч, он будет унесен мечом. Когда он направлен на отражение противника, он будет унесен идеей сражения. Когда он направлен на ваш меч, он тоже будет унесен им. Когда он направлен на защиту вас, он будет унесен идеей защиты. Когда он направлен на позу, которую принимает противник, он будет унесен ею. В любом случае эти вопрошатели говорят, что не знают, куда надо направлять ум.
Некоторые могли бы сказать: куда бы ни направлять ум, человек склонен полностью увлекаться данным направлением, и враг наверняка воспользуется этим как полным своим преимуществом, что будет означать ваше поражение. Лучше удерживать ум в нижней части подбрюшья, пониже пупка, что позволит человеку приводить себя в соответствии с изменением ситуации от одного мгновения к другому.
Совет вполне приемлем, но, с высшей точки зрения, которой придерживаются буддисты, он все же выглядит ограниченным, поскольку не такова предельная, окончательная цель тренировки. В ходе совершенствования удерживание ума в нижней части, возможно, и является неплохой идеей. Но это все еще уровень почтительности,[50] соответствующий тому, о чем говорит Мэн-цзы — вернуть блуждающий ум[51] на свое изначальное место. Что касается «блуждающего ума», я объяснил его в другом письме для вас.
Сама идея удерживания ума в каком-то особом месте (скажем, вы пытаетесь заключить ум в нижней части живота) воспрепятствует уму действовать в других местах, и результат будет противоположным ожидаемому первоначально. Тогда может возникнуть вопрос: если запирание ума в районе пупка сдерживает его свободные движения, в какой части тела станем мы его хранить? Я отвечаю: «Когда вы переносите его в правую руку, он будет пленен правой рукой, и в остальной части тела будет ощущаться неудобство. Результат окажется таким же, когда вы удержите ум в глазу, в правой ноге или в любой другой части тела, потому что тогда оставшиеся части тела почувствуют его отсутствие».
Второй вопрос: где же следует удерживать свой ум?
Я отвечаю: «Дело в том, что не следует помещать ум где бы то ни было, но нужно позволить ему напол- нять все тело, пронизывать все ваше существо. Если вы этого достигли, вы можете пользоваться руками, когда необходимо, пользоваться ногами или глазами, когда потребуется, и не будет потеряно никакого времени или лишней энергии. [Локализация ума означает его застывание. Когда ум перестает течь свободно, он перестает быть самим собой, в своей таковости.]
[Локализация не ограничивается только физической стороной существа человека. Ум может быть пленен и психологически. Например], можно заняться обдумыванием, в то время как ситуация требует действовать немедленно, например в случае фехтования. Обдумывание обязательно воздвигнет преграду и «остановит» движение текущего ума. Не надо обдумывать и различать. Вместо того чтобы ум помещался где-то, насильно удерживался или застывал, пусть он свободно течет сам по себе, не встречая преград и не будучи ничем отягощенный. Только тогда, когда это сделано, ум по мере необходимости готов двигаться по всему телу без «остановки».
Последователи дзэн говорят о полном, или истинном (сё), и частичном (хэн) в своем учении. Когда ум наполняет тело полностью, говорят, что он правый; когда он помещается в какой-то точке тела, он частичный, или односторонний. Полный ум равномерно распределен по всему телу, он не является частичным. С другой стороны, частичный ум является разделенным и односторонним. Дзэн отрицает частичность, или локализацию в одном месте. Когда ум насильно удерживается на одном месте, он не может пронизывать или двигаться в любой части тела. Когда он не становится частичным из-за какого-то схематичного плана, он естественным образом рассеивается по всему телу. В такой ситуации можно встретить противника, когда он пытается поразить вас. Когда вам необходимы руки, они уже готовы к деятельности. В любой момент, когда требуются ноги, ум станет управлять ими соответственно ситуации. Уму необязательно совершать какие-то маневры, выступая из отдельных участков тела, в которых он раньше устроился.
С самим умом не следует обращаться как с котенком, привязанным к веревке. Ум должен быть предоставлен самому себе, чтобы он совершенно свободно двигался в согласии с собственной природой. Не размещать его, не обособлять — такова цель духовной практики. Когда он нигде, тогда он везде. Если он занимает одну десятую часть, он отсутствует в девяти десятых частях. Пусть фехтовальщик упражняется в предоставлении уму его естественных движений и не пытается намеренно ограничивать его в чем-то.
Основные положения письма Такуана Ягю Тад- зима-но ками в более или менее точной форме изложены почти полностью в вышеприведенных отрывках.[52] Они состоят в сохранении абсолютной текучести ума (кокоро) через освобождение его от интеллектуальных размышлений и аффективных помех любого рода, которые способны появиться от неведения и омрачения. «Текучесть ума» и «неподвижная праджня» могут казаться противоречивыми понятиями, но в реальной жизни они идентичны. Когда есть одно, есть и другое, поскольку ум в своей таковости одновременно и подвижен, и неподвижен. Он постоянно течет, никогда не «останавливается» ни на чем, и все-таки в нем имеется некий центр, никогда не подвергаемый никакому движению и всегда остающийся одним и тем же. Трудность состоит в том, чтобы отождествить этот центр неподвижности с никогда не прекращающимися движениями ума. Такуан советует фехтовальщику решать эту трудность при использовании меча в тот момент, когда он уже стоит напротив своего противника. Таким образом, фехтовальщика постоянно заставляют сталкиваться с логическим противоречием. Если он замечает это, то есть когда приходит в логическое замешательство, он обнаруживает, что его движения так или иначе находятся в затрудненном состоянии, или суки[53] и враг обязательно использует этот случай. Поэтому фехтовальщик не может позволить себе предаваться праздным интеллектуальным размышлениям, когда противная сторона готова уловить малейшее суки с его стороны. Вы не можете расслабиться, но не можете и намеренно сохранять состояние напряжения сколь угодно долго. Ибо именно это заставляет ум «останавливаться» и терять свою текучесть. Как же тогда он может быть и расслабленным, и напряженным одновременно? Здесь то же старое противоречие, хотя и представленное в иной форме.
Когда ситуация рассматривается под интеллектуальным углом, мы никогда не сможем избежать про- тиворечий в той или иной форме: двигаться и все-таки не двигаться, быть в напряжении и все же в расслабленности, видеть то, что происходит, и тем не менее совсем не беспокоиться о том, как все может обернуться, поскольку ничего специально не устраивается, ничего сознательно не вычисляется, не предвкушается, не ожидается. Короче говоря, следует быть невинным, как ребенок, и все же обладать всей хитростью и изощренностью тончайшего, полностью развитого ума. Как же можно этого достичь? Никакое рассуждение не способно принести пользу в этой парадоксальной ситуации.
Единственный способ для достижения такого результата — это куфу. Куфу исключительно персонально, индивидуально, оно развивается из самого человека, в пределах-его собственной внутренней природы. Куфу буквально означает «стараться», «бороться», «пытаться найти выход», или, если использовать язык христианства, «непрестанно взывать к помощи Божией». Употребляя терминологию психологии, можно сказать, что надо удалить все подавления, интеллектуальные, аффективные и эмоциональные, вывести наружу то, что прячется в бессознательном и позволить ему действовать самому, совершенно независимо от любого мешающего сознания. Поэтому куфу будет направлено на то, чтобы удалить подавления, хотя и не аналитическим путем. Если допустимо такое выражение, можно сказать, что куфу следует проводить волевым образом — как процесс, затрагивающий все существо человека; иначе говоря, оно должно быть тотальным, вырастающим из самых глубин собственного существа человека.
Чтобы прояснить идею неподвижности самого подвижного ума, Такуан отличает изначальный ум от ума омраченного, который состоит в интеллектуально двойственном состоянии сознания. Изначальный ум — это ум, не сознающий самого себя, тогда как омраченный ум отделяется от самого себя, мешая спонтанной деятельности изначального ума.
Изначальный ум есть хонсин, а омраченный ум — мосин. Хон означает «изначальный», «первичный», «реальный», «истинный», «врожденный», или «естественный», а мо означает «нереальный», «обманчивый», «обманывающий», «омраченный» или «омрачающий». Син — это кокоро, то есть «ум» в самом широком смысле слова.
Омраченный ум можно определить как ум, отягощенный интеллектуально и аффективно. Из-за этих отягощений он не в состоянии перемещаться от одной темы к другой без остановки и без размышлений о себе, и это препятствует его врожденной текучести. Прежде чем ум сделает следующее движение, он «сгущается», поскольку первое движение все еще медлит, а это есть суки для фехтовальщика — то, чего следует всячески избегать. Это соответствует уму, сознающему самого себя (усин-но син). Быть сознательным — характерная черта человеческого ума, отличная от ума животного. Но когда ум осознает свои действия, он перестает быть инстинктивным и его команды окрашиваются вычислениями и обдумываниями, а это будет значить, что связь между им и членами тела больше не непосредственна, потому что идентичность между командиром и его подчиненными утрачена. Когда имеет место дуализм, личность никогда не проявляется такой, какой она является в самой себе. Такуан называет эту ситуацию «остановкой», «удерживанием», или «застыванием». Нельзя искупаться в твердом льду, мог бы он нас предупредить. Сознание с его последующей дихотомией накладывает жесткие рамки на свободно текущий изначальный ум, и начинает функционировать омрачающий ум — что фатально для жизни фехтовальщика.
Сознательный ум — это усин-но син по контрасту с мусин-но син, или умом бессознательным. Му- син буквально означает «не-ум», это ум, отрицающий сам себя, отпускающий себя от себя, это натвердо застывший ум, позволяющий себе расслабиться до состояния совершенной неосмотрительности. [Мы резюмируем словами самого Такуана.]
Ум не-ума (Мусин-но син)
Ум, не сознающий самого себя, есть ум, которому совершенно не мешают никакие аффекты. Это изначальный ум, а не омраченный, битком набитый аффектами. Он всегда течет, никогда не задерживается, не застывает. Поскольку он не совершает различений, не следует никаким аффективным предпочтениям, он наполняет все тело, пронизывая каждую его часть, и все-таки он нигде не пребывает. Его нельзя назвать подобным камню или куску дерева. [Он чувствует, он движется, он никогда не покоится.] Если бы где-то он нашел место покоя, он не был бы умом не-ума. Не-ум ничего не держит в себе. Он также называется мунэн, то есть «не-мысль». Мусин и му- нэн — синонимы.[54]
.Когда обретается состояние мусин, или мунэн, ум переходит от одного объекта к другому, двигаясь подобно воде, наполняя все уголки. По этой причине ум исполняет любую обязанность, которая от него требуется. Но если он останавливается в какой-то одной точке, все другие точки окажутся без него, и в результате появится общая жестокость и закостенелость. Колесо вращается, когда оно не слишком тесно соединено с осью. В случае тесного соединения оно просто не сможет крутиться. Если ум что-то содержит в себе, он перестает действовать, он не может слышать, не может видеть, даже когда звук доходит до ушей или свет вспыхивает перед глазами. Когда ум что-то содержит в себе, это значит, что он этим озабочен и не имеет времени для чего-то другого. Но пытаться удалить мысль, уже находящуюся в нем, означает снова заполнить его чем-то другим. Это бесконечная задача. Поэтому лучше с самого начала ничем не загромождать ум. Это может быть трудно, но, когда вы продолжите упражнять куфу перед противником, вы через некоторое время окажетесь в этом состоянии ума, даже не заметив никакого движения к нему. Однако ничто не может быть исполнено поспешно.
[Мы вновь перифразируем. Такуан здесь говорит о старинном стихотворении на тему романтической любви:
Думать, что я не стану Больше думать о тебе —
Это все еще думать о тебе.
Пусть же я попробую не думать,
Что не стану думать о тебе.
Прежде чем мы расстанемся с Такуаном, я хотел бы коснуться одного вечного парадокса, который звучит примерно так: каким образом можно сохранять ум в этом состоянии не-мысли, если его назначение — мыслить? Как может ум быть одновременно умом и не-умом? Как может «А» сразу быть и «А», и «не-А»? Эта проблема не только логическая и психологическая, но и метафизическая. Фехтовальщик может решать ее самым конкретным и практическим образом, ведь для него это вопрос жизни и смерти. А вот большинство из нас занимают более или менее интеллектуальную позицию и остаются в целом безразличными к ней. Но, если подходить философски, она в той или иной степени касается нас, а также она является ключевым моментом для понимания восточной мысли и культуры. Мне кажется, эта проблема никогда не вставала перед западным сознанием так, как она вставала перед восточным.
Традиция утверждает, что Ягю Тадзима-но ками Мунэнори оставил для одного из своих сыновей стихотворение, выражающее секрет его школы фехтования. Стихотворение слабо в художественном отношении, как и вообще стихи подобного рода, называемые дока, «стихи о дао». Оно звучит так:
Знаю, что в основе техники Есть дух (ри):
Он рассветает теперь;
Открою окно —
И лунный свет виден в нем!
Мы бы сказали, что это глубоко мистично. Но вот что самое странное: зачем искусству фехтования мечом, — которое, грубо говоря, состоит в стремлении убить, — обращаться к тому, о чем говорится в этом стихотворении, — к восходящей луне? В Японии тема восхода луны несет богатые поэтические ассоциации. Аллюзия Ягю на нее понятна с этой точки зрения, однако какая связь между мечом и восходящей луной? В чем тут секрет? После того как он испытал так много трагических сцен в своей жизни, каким поэтическим взлетом хочет он увенчать весь свой прошлый опыт? Естественно, что здесь автор говорит нам о внутреннем свете психологии фехтования. Мастер Ягю знает, что одна только техника никогда не сделает человека совершенным фехтовальщиком. Он знает, что дух (ри), или внутренний опыт (сатори), должен служить основой искусству, которое достигается только через глубокое проникновение в самые укромные уголки ума (кокоро). Вот почему учитель Такуан никогда не устает пространно говорить об учении пустоты (шуньята), которая является метафизикой мусин-но син («ума не-ума»). Пустота, или не-умственность, может показаться чем-то совершенно далеким от нашего повседневного опыта, но мы теперь понимаем, как тесно она связана с проблемой жизни и смерти, которую в наши дни большинство из нас оставляет без внимания.]
Конец письма Такуана
Суть совета Такуана Ягю Тадзима-но ками можно обобщить, цитируя упоминаемые им встречи Бук- ко-кокуси с солдатами вторгшейся армии Юань, о чем Такуан говорит в конце своего длинного письма. Об этом инциденте рассказывается в следующем разделе. Такуан объясняет взмах меча, рассекающего весенний ветерок подобно вспышке молнии:
«Поднятый меч не имеет собственной воли, он весь состоит из пустоты. Он подобен вспышке молнии. Человек, который готов вас сразить, также состоит из пустоты, и таков же тот, который владеет мечом. Никто из них не обладает умом, который имеет какую-то вещественность. Поскольку все пусто и не имеет „ума” (кокоро), нападающий человек — не человек, меч в его руках — не меч, а „я”, на которое готовится нападение, подобно расщеплению весеннего ветерка вспышкой молнии. Когда ум не „останавливается”, взмах меча не отличается от дуновения ветра. Ветер не осознает, что он дует над деревьями и что производит среди них волнение. Так и в случае с мечом. В этом смысле показательны четверостишия Букко, приведенные выше.
Эта „пустотность ума” относится не только к фехтованию, но и вообще ко всем видам деятельности, которые мы можем выполнить, например к танцу. Танцор поднимает веер и начинает притопывать. Если он хоть на мгновение подумает о том, как бы с блеском продемонстрировать свое искусство, он перестает быть хорошим танцором, ибо его ум „останавливается” на каждом движении, которое он делает. В любых действиях важно забыть свой „ум и стать одним целым с тем, что вы делаете.
Когда мы привязываем кошку, страшась того, что она может поймать птицу, кошка продолжает рваться на свободу. Но выдрессируйте кошку так, чтобы она не волновалась в присутствии птицы. Тогда животное станет свободным и сможет идти туда, куда пожелает. Когда похожим образом связан ум, он чувствует подавленность в каждом движении, которое он совершает, и ничего не может осуществить спонтанно. Более того, сама работа будет плохого качества или вообще может быть не закончена.
Поэтому не позволяйте своему уму „останавливаться”, когда вы поднимаете меч; забудьте то, чем вы заняты, и поразите врага. Не удерживайте свой ум на том человеке, который стоит перед вами. Все состоит из пустоты, но сознавайте, что ваш ум пленен самой пустотой».
Дополняя сказанное Такуаном, мы приведем историю, которая иллюстрирует состояние ума «не-умст- венности».
Один дровосек был занят рубкой деревьев в далеких горах. Вдруг перед ним появилось некое животное, его звали «сатори». Оно выглядело очень диковинно, необычно для здешних мест. Дровосек захотел поймать его живьем. Животное прочитало его мысль: «Ты хочешь поймать меня живьем, да?» Сбитый с толку дровосек не знал, что и сказать, а животное продолжало: «Ты, верно, поражен, что я умею читать мысли». Еще сильнее удивившись, дровосек тогда решил покончить с животным одним взмахом топора, но сатори воскликнуло: «Теперь ты хочешь убить меня». Дровосек почувствовал себя полностью обескураженным и, осознав, что не может вообще ничего сделать с таинственным животным, подумал, что следовало бы вернуться к своему занятию. Сатори и теперь оказалось немилосердным, оно последовало за ним, говоря: «Наконец-то ты оставил меня».
Дровосек не знал, что делать и с этим животным, и с собой. Оставив все надежды, он поднял топор и, не обращая больше внимания на присутствие животного, энергично и сосредоточенно принялся рубить деревья. Пока он так работал, топор слетел с его топорища и прибил животное насмерть. Сатори со всей своей способностью читать мысли в уме не смогло прочесть мысль «не-ума».
Последняя ступень искусства фехтования предполагает тайное учение, которое передается только самому квалифицированному ученику. Простой технической выучки недостаточно, искусностью в этом деле способны овладеть и начинающие. Но тайное учение известно среди мастеров школы, которая называется «Луна в воде». Согласно одному автору, оно объясняется следующим образом (в сущности, ничем не отличаясь от учения дзэн — учения о мусин).
«Что означает „луна в воде”?»
«Это выражение объясняется по-разному в различных школах фехтования, но главная идея — уло-
9 Д. Судзуки
вить то, каким образом луна отражает себя там, где есть хоть сколько-нибудь воды. Это постигается в состоянии мусин. Вот как звучит одно из великолепных стихотворений, составленных на берегу пруда Хиро- сава:
Луна не стремится отбрасывать где-то свой отблеск.
И пруд не стремится вместить луну:
Как безмятежны воды Хиросава!
Это стихотворение позволяет проникнуть в тайны мусин, туда, где нет следов искусственности, изобретательства, где все основывается на самой природе.
Это подобно луне, отражающейся в сотнях водоемов: лунный свет не делится на множество отблесков, но вода отражает их; лунный свет остается всегда одним и тем же даже там, где нет вод, способных отразить его. Опять же лунный свет — всегда тот же самый, независимо от того, большая ли имеется масса воды или только одна маленькая лужица. Посредством этой аналогии легче понять таинства ума. Правда, луна и вода — осязаемые вещи, тогда как ум не имеет формы и его деятельность сложно проследить. Символы, таким образом, суть не вся истина, но только намеки на нее».
На основании всех этих цитат можно убедиться, что восточная мысль, восточная культура делают особый акцент на реализации психического состояния отсутствия ума. Когда оно не реализуется, ум всегда сознает свои деяния, — и это Такуан называет «остановкой ума». По его словам, вместо того чтобы перетекать с одного объекта на другой, ум останавливается и размышляет о том, что ему надо сделать или что уже сделано. Воспоминание и предвкушение — тонкие свойства сознания, которые отличают человеческий ум от ума низших животных. Они полезны и служат достижению каких-то целей; однако, когда возникает проблема жизни и смерти, эти свойства должны быть отброшены, чтобы не мешать текучести умственной жизни и молниеносной скорости действия. Человек должен стать куклой в руках бессознательного. Бессознательное должно предшествовать сознанию. С точки зрения метафизики, здесь имеется в виду шуньята (пустотность). Техника фехтования основана на этой психологии, а психология есть частное применение метафизики.
В февральском номере «Атлантического ежемесячника» (Atlantic Monthly) от 1937 г. есть статья, написанная одним испанским тореадором, Хуаном Бельмонте, который рассказывает о своем опыте в этом искусстве.[56] Несомненно, коррида весьма напоминает японское искусство фехтования на мечах. В его рассказе много ценных размышлений, я частично процитирую примечания переводчика и приведу сообщение самого Хуана Бельмонте о бое, благодаря которому он заработал славную репутацию первейшего бойца своего времени. В этом бою он обрел то состояние ума, о котором в своем письме к Ягю Тадзи- ма-но ками говорит Такуан. Если бы испанский герой упражнялся по методам буддизма, он бы обязательно постиг неподвижную праджню.
Переводчик снабдил свой текст такими примечаниями:
«Коррида — это не спорт, и нельзя сравнивать ее с ним. Коррида, нравится вам она или нет, одобряете вы ее или нет, есть искусство, подобно рисованию или музыке, и о ней можно' судить только как об искусстве: ее эмоция духовна, и она затрагивает такие глубины души, которые могут быть задеты только у человека, знающего, понимающего и любящего музыку в исполнении симфонического оркестра под руководством прекрасного дирижера».
Хуан Бельмонте так описывает свои переживания в самый ключевой момент боя:
«Как только мой бык вышел, я подошел к нему и на третьем выпаде услышал рев толпы, вскочившей на ноги. Что я сделал? Я сразу забыл о публике, о других тореадорах, о самом себе и даже о быке; я начал сражаться так, как часто сражался по ночам в загонах и на пастбищах, с такой точностью, словно рисовал чертеж на доске.
Говорят, что мои пассы с плащом и мои действия с мулетой в тот день были откровением искусства боя быков. Я не знаю, не могу судить об этом. Я просто сражался так, как мне казалось надо было сражаться, без какой-либо мысли вне моей веры[57] в то, что делал. С этим последним быком я впервые в жизни сумел отдаться телом и душой чистой радости боя, не думая о публике. Когда я в одиночку играл с быками в деревне, я, бывало, говорил с ними; и этим днем я тоже долго беседовал с быком — все то время, пока моя мулета выписывала арабески фаэны. Когда я не знал, что еще делать с быком, я наклонился под его рога и приблизил лицо к морде.
„Подходи, бычок, — шептал я, — Лови меня!” Я снова выпрямился, помахал мулетой у него под носом и продолжал свой монолог, подстрекая его нападать: „Ну же, бычок. Хорошенько атакуй меня. Ничего с тобой не случится... Вот так. Вот так... Ты
меня понимаешь, бычок?... Что? Ты устал?... Вперед! Хватай меня! Не будь трусом... Лови меня!”
Я идеально исполнил фаэну, ту фаэну, которую столь часто и столь подробно видел в своих снах, что каждая ее черточка была отчеканена у меня в мозгу с математической точностью. Фаэна моих снов всегда заканчивалась неудачно, потому что, когда я увлекался убийством, бык неизменно ударял меня в ногу. Должно быть, это подсознательное признание моих слабых навыков в убийстве всегда диктовало такой трагический исход. Тем не менее я продолжал осуществлять свою идеальную фаэну, поместившись прямо между рогов быка и слыша шумное одобрение толпы только как отдаленный гул; но в конце концов, словно опять в моем сне, бык ударил меня и поранил бедро. Однако я был так опьянен, был настолько вне себя, что едва заметил это. Я увлекся убийством, и бык упал к моим ногам».
Могу добавить, что до окончательной схватки с быком Бельмонте находился в совершенно хаотичном состоянии сознания: его обуревали идеи соперничества, жажда успеха, чувство неполноценности, страх того, что публика готова позабавиться над ним. Он признавался: «Меня подавляло отчаяние. С чего я решил, что я тореадор? „Ты сглупил, — говорил я себе. — Из-за того что у тебя был успех в поединке с парой телят, без пикадоров, ты возомнил, будто можешь делать все”». Однако помимо этого чувства отчаяния Бельмонте открыл в себе что-то еще, то, что оставалось совершенно сокрытым, — до той поры, пока он не увидел выходящего на него быка, готового напасть. Это «что-то» иногда всплывало в его снах, оно глубоко дремало в его бессознательном, но никогда не проявлялось при ярком дневном свете. Чувство отчаяния подтолкнуло его к самому краю умственной пропасти, из которой он в конце концов выпрыгнул и результататом стало: «Я был так опьянен, был настолько вне себя, что едва заметил это». Он не заметил не только того, что был ранен, но и вообще всего вокруг. Неподвижная праджня вела его, он полностью отдался ее руководству. Букко-кокуси, знаменитый дзэнский мастер эры Камакура, поет:
Лук сломан.
Стрелы все вышли —
Это критический момент:
Пусть сердце не дрогнет,
Стреляй без промедления
Когда стрела без древка пущена из лука без тетивы, она наверняка пронзит скалу, как однажды произошло в истории дальневосточного народа.
Во всех видах искусства, как и в дзэн-буддизме, этот момент кризиса считается очень важным для достижения источника всякой творческой активности. Мне бы хотелось специально обсудить его с религиозно-психологической точки зрения в отдельной работе по дзэн.
4
В Японии эпохи феодализма одной из самых популярных школ фехтования на мечах была синка- гэ-рю. Она появилась в период Асикага, ее основателем был Ками-идзуми Исэ-но-ками Хидэцуна (умер в 1577 г.). Он утверждал, что секреты этого искусства ему раскрыл непосредственно бог Касима. Несомненно, с тех пор школа прошла несколько этапов в своем развитии, и ее так называемые секреты, должно быть, умножились в числе, поскольку к настоящему времени сохранилось немало свидетельств, вручавшихся мастерами тем своим ученикам, которые считались достойными их. Среди таких документов можно найти выражения и стихотворные эпиграммы, навеянные духом дзэн, которые, на первый взгляд, вообще не имеют отношения к практике использования меча.
Например, тому человеку, который считается подходящим кандидатом на место мастера школы, выдается свидетельство, содержащее в себе только рисунок в виде круга. Предполагается, что круг представляет собой яркое, свободное от пыли и грязи зеркало, и его символика несомненно намекает на буддийскую идею «великой-совершенной-зеркальной-мудрости».[59] Она — не что иное, как Неподвижная праджня, о которой говорит 1 акуан. Ум фехтовальщика на мечах должен полностью освободиться от эгоистических страстей и рациональных ухищрений, чтобы «изначальная интуиция» смогла действовать в полную силу, войдя в состояние не-ума. Только лишь технические навыки владения мечом не дают фехтовальщику автоматически подлинной квалификации. В какой-то момент он должен осознать конечную ступень духовной дисциплины, которая состоит из не-ума, что символизируется кругом, пустым от всех содержаний, кругом, не имеющим окружности.
Наряду с различными сугубо техническими терминами в секретных бумагах школы синкагэ-рю встречается одно выражение, которое внешне не имеет отношения к данному искусству, с точки зрения своего буквального значения. Поскольку все эти секреты передавались в устной форме и поскольку я для этой традиции посторонний, не берусь точно утверждать, как получается, что эта странная фраза органично связана с реальной практикой фехтования. Однако, насколько я могу судить, эта фраза происходит из дзэн-буддизма, и за его пределами она ничего не может означать. Она звучит так: «Воды Западной реки». Один комментатор, скорее всего не знакомый с ее подлинным смыслом, интерпретирует ее как отчаянное, безрассудно смелое состояние ума человека, который готов выпить даже целую реку. Это выглядит смешно, если не сказать хуже. Фраза отсылает к дзэнскому мондо, которое произошло между Басо (Ма-цзу, умер в 788 г.), жившим при династии Тан, и его мирским учеником Хокодзи (Пан Цзю-ши). Хокодзи спросил:
—, Что это за человек, который не общается ни с кем и ни с чем?
Я скажу тебе, — отвечал Басо, — когда ты проглотишь одним залпом всю воду Западной Реки.
Говорят, этот ответ возвысил разум Хокодзи до состояния просветления.
Если мы вспомним этот эпизод, то сможем понять, почему фраза «Воды Западной реки» попала в тайные бумаги школы синкагэ-рю. Вопрос Хокодзи очень важен, и столь же важен ответ Басо. В практике дзэн это мондо часто упоминается, и нет сомнения, что среди фехтовальщиков эпохи феодализма было немало таких, которые положили свою жизнь на изучение дзэн, стремясь достичь состояния абсолютного не-ума, необходимого в их искусстве. Как было упомянуто в другом месте, мысль о смерти оказывается величайшим камнем преткновения в исходе сражения жизни и смерти. Преодолеть эту мысль — значит превзойти великую помеху и отдаться свободному и естественному обучению желанной технике; лучший путь для фехтовальщика — дисциплинировать себя в дзэн. Сколько бы фехтовальщик ни махал мечом, он не сумеет проглотить воды Западной реки. Но только дзэн осуществляет это чудо, и до тех пор пока не произойдет эта успешная реализация, человеку нечего и надеяться на то, что он сможет отвязаться от вечно довлеющего над ним призрака под названием «смерть». Дзэн — это не какое-то философское созерцание тщетности жизни, но самое непосредственное проникновение в царство необусловленное™, где пролившийся чай из чашки в моей руке мгновенно наполняет всю толщу Тихого океана, не говоря уже о малых реках в самых дальних уголках планеты.
Тайные документы также содержат несколько ва- ка, стихотворных эпиграмм на тему искусства фехтования на мечах; некоторые из них находятся под явным воздействием духа дзэн:
В душе (кокоро), абсолютно свободной
От мыслей и эмоций,
Даже тигр не находит места,
Куда бы он мог вонзить свои страшные клыки.
Один и тот же ветерок
Пролетает и над горными соснами, и
Над дубом в долине;
Но почему же он шелестит по-разному?
Некоторые думают, что удар — это удар;
Но удар — это не удар, а убийство — не убийство.
Тот, кто ударил, и тот, кого ударили,
Оба они — лишь сон, не имеющий реальности
Нет мысли, нет рассуждения —
Абсолютная пустота:
И все же в ней что-то движется.
Следуя своим путем.
Глаз видит.
Но руки не могут ухватить Луну в потоке;
Это тайна моей школы.
Облака и туманы —
Лишь изменения воздуха.
Над ними вечно сияют солнце и луна.
Победа будет у того Еще до боя,
Кто не думает о себе.
Пребывая в не-уме Великого Истока.
Все эти утверждения соответствуют принципу «пустоты», о чем знали Миямото Мусаси (умер в 1645 t.), Ягю Тадзима-но ками Мунэнори и другие великие мастера, учившие высшей тайне фехтования на мечах, которую можно раскрыть только в результате длительной интенсивной тренировки. Благодаря акценту на духовности данное искусство может называться созидательным. Так, Мусаси был не только великим фехтовальщиком, но и великим художником в стиле сумиэ.
Ниже приведены другие стихотворения, показывающие, каким образом дух дзэн и даже отчасти его философия повлияли на мастеров фехтования. Фехтовальщики, конечно, не философы: они никогда не пытаются обсуждать философские темы в связи со своим занятием. То, к чему они стремятся, имеет отношение не к концептуальному пониманию доктрины пустоты, или таковости, но к их собственному мастерству, когда они сталкиваются с проблемой жизни и смерти, возникающей в форме страшного меча в руках противника. Философ может принять этого «противника», или так называемого «врага», не конкретно, как делает фехтовальщик, но, скорее в форме таких понятий, как «объективный мир», или «Dasein»,[61] или «данность», или «очевидный факт», или «Геп- soi»,[62] или что-то другое. Мыслители пытаются разобраться с этими неясными понятиями, опираясь на любой надежный источник учености и мысли. Однако проблема, которая встает перед фехтовальщиком, намного более срочная и зловещая, и она не оставляет ему никакого времени на размышление и демонстрацию эрудиции. Ему приходится «решать» ее безотлагательно, его «смелость» не есть нечто такое, что он может проверить после своего освобождения. Вопрос стучится в двери, нависает над головой, «испепеляет междубровье». Если ответ не обретен — все рушится. Ситуация здесь более критичная, чем у философа. Неудивительно, что дзэн приходит на помощь фехтовальщику или фехтовальщик обращается к дзэн в поисках немедленной помощи. Все стихотворения, представленные как тайны фехтования, выражают дух дзэн, а значит, и философию дзэн. Все нижеследующие стихотворения[63] становятся понятны, когда
«Воды Западной реки» Басо, или у та Дайто-кокуси о дождевых каплях, столь же парадоксальные, как и изречение Басо, постигнуты в совершенстве. Сперва мы приведем у та, а потом все остальное:[64]
Если уши ваши увидят,
Л глаза услышат,
Несомненно вы запомните,
Как естественно дождь капает с ресниц!
Весна пришла, мягко дует ветер,
Персики и абрикосы — в полном цвету.
Роса густа осенними ночами,
Листья падают с павлонии.
Цветы, кленовые листья осенью И белые зимние снега, заметающие поля, —
Как прекрасны они сами по себе!
Я боюсь, что мои привязанности все еще не вышли За пределы чувств, [ибо я знаю теперь, что такое
реальность ].
Внутри священной ограды, перед которой
я склоняюсь,
Долусен быть пруд, наполненный чистой водой; Когда луна моего разума становится ярче,
Я вижу, как она отражается в воде.
Где бы и когда бы ты ни увидел,
Что ум привязался к чему-то,
Поспеши отвязаться от него.
Когда ты мешкаешь хоть сколько-нибудь,
Это возвращает тебя снова в старый город.
Забудь все навыки,
Которым ты обучился В фехтовании на мечах,
И одним залпом
Выпей все воды Западной реки.
Я все время считал,
Что учился для того, чтобы побеждать;
Но я понимаю теперь:
Победить — это то же самое,
Что и проиграть.
В невыкопанном колодце,
В воде, не налитой в него,
Отражается тень;
И человек, без формы, без тени,
Черпает из колодца воду.
Чел овек без формы, без тени Превращается в порошок из риса,
Когда он толчет рис.
5
Недавно один автор,[68] пишущий на темы «пути меча» и его истории, отметил следующий факт относительно основ этого искусства: в кэндо («путь меча») самое существенное — это не столько овладеть техникой, сколько обрести некий духовный элемент, который полностью контролирует данное искусство. Это состояние ума, известное как мунэн, или мусо — «не-мысль», или «не-раздумывание». Оно не означает только пребывать без мыслей, без идей, без чувств и тому подобное, когда вы стоите с мечом перед противником. Оно означает отпустить свои естественные наклонности действовать в сознании, свободном от мыслей, рассуждений или разного рода аффектов. Это состояние ума известно как не- эгоистичность (муга, или не-атман), в котором вы не сохраняете никаких эгоистических мыслей, ни осознания собственных достижений. Так называемый дух саби-сиори («одиночество»), подхваченный Сайгё или Басё, также должен происходить из психического состояния не-эгоистичности. Оно часто уподобляется отражению луны в воде. Ни луна, ни вода никоим образом не планируют вызвать событие, обозначенное как «луна в воде». Вода находится в состоянии «не-ума», равно как и луна. Но когда имеется поверхность воды, в ней видна луна. Луна только одна, но ее отражения видны везде, где есть вода. Когда вы понимаете это, ваше искусство становится совершенным. В конечном счете дзэн и путь меча сходятся в этом, оба они нацелены на то, чтобы окончательно преодолеть двойственность жизни и смерти. Мастера фехтования на мечах издревле понимали это, и самые великие из них неизменно стучали в ворота дзэн — чему примером Ягю Тадзима-но ками и Такуан, Миямото Мусаси и Сюндзан.
Автор названный выше книги приводит интересные сведения: оказывается, в феодальную эпоху в Японии искусного мастера меча или копья часто называли осё («мастер», или «учитель», на санскрите — упадхъяя), а это титул, который присваивают буддийскому священнику. Истоки этого обычая восходят к тому периоду, когда в храме Тофукудзи, в Нара, жил некогда один знаменитый монах. Он управлял небольшим храмом Дзидзоин, находившимся под юрисдикцией Кофукудзи. Монах был знатоком в искусстве метания копья, и все дзидзоинские монахи обучались у него этому искусству. Он естественным образом стал осё для всех своих учеников, и его титул перенесли на всех мастеров копья и меча, безотносительно к принадлежности их к какой-то буддийской школе.
Зал, в котором практикуется фехтование на мечах, называется додзё. Додзё — это название места, посвященного каким-то религиозным упражнениям, а его оригинальное санскритское название, бодхиман- дала, означает место просветления. Несомненно, это слово было заимствовано из дзэн-буддизма.
Фехтовальщики восприняли от дзэн и еще одну вещь. В стародавние времена они обычно путешествовали по всей Японии, совершенствуя свой дух перед лицом разных лишений, выпадавших им по пути, и обучаясь искусству фехтования в различных школах. Пример в этом им подали дзэнские монахи, которые тоже долго странствовали, прежде чем достигали окончательного пробуждения. Этот обычай известен среди монахов как ангя, «странствование пешком», тогда как фехтовальщики называют его муса-сюгё, «упражнение в воинском искусстве».
Я не знаю, когда именно эта традиция появилась у фехтовальщиков на мечах, но известно, что уже основатель синкагэ-рю путешествовал по стране. В одном эпизоде он встречается с дзэнским монахом, который занимался похожей дисциплиной. Однажды, когда Ками-идзуми Исэ-но ками проходил маленькой деревушкой, расположенной в отдаленном горном районе, он увидел, что сельчане находятся в крайнем возбуждении. Какой-то отчаянный разбойник занял пустовавший дом, захватив с собой маленького деревенского мальчика, и угрожал убить жертву, если деревенские попытаются арестовать его или причинить ему вред. Исэ-но ками осознал всю сложность ситуации. Заметив шедшего мимо монаха, который, очевидно, принадлежал к школе дзэн, фехтовальщик попросил его одолжить ему на время монашескую рясу. У него самого была обрита голова, так что он походил на странствующего монаха. Он подошел к захваченному дому с двумя коробками с провизией и сказал головорезу, что родители ребенка не хотят, чтобы ребенок умер от голода, и просили передать ему что-нибудь из еды. С этими словами он бросил одну из коробок перед тем человеком. Затем Исэ-но ками продолжал: «Возможно, вы и сами проголодались, тогда вторая коробка для вас». Когда разбойник протянул за ней ладонь, монах-фехтовальщик, не теряя времени, схватил его за руку и, с силой бросив его оземь, одолел его. Монашеская ряса была возвращена своему первоначальному владельцу, который высоко оценил действия мастера меча, сказав: «Ты поистине „человек меча”», и вручил ему кара (или ракусу), символ монашества, что-то вроде укороченной кэса (ка- шая на санскрите), который дзэнский монах обычно носил на своей груди. Говорят, Исэ-но ками никогда не расставался с ним. Путешествующий дзэнский монах нав’ерняка был не простым новичком в дзэн, а человеком знания. «Человек меча» — выражение, часто используемое в дзэн для обозначения закаленного дзэнского монаха, который, по существу, вышел за пределы жизни и смерти. Так что у Исэ-но ками явно была веская причина для того, чтобы бережно хранить кара как дар от монаха, «путешествующего пешком».
История, которая будет представлена ниже и которая, вероятно, циркулировала в семнадцатом столетии в кругах фехтовальшиков, показывает, что отношения между фехтованием на мечах и дзэн были одной из тем, которой они интересовались больше всего.
Мне кажется, что история эта, скорее всего, надумана, но уже сам факт ее широкого хождения говорит о том, что фехтовальщики серьезно интересовались дзэн и что дзэн считался неким таинственным явлением, способным чудесным образом победить даже опытного мастера меча.
Эта история приводится в Гэккэн содан, книге, состоящей из пяти частей и скомпилированной Мина- мото Токусю в 1844 г. Это сборник по фехтованию, в котором содержатся истории о различных школах, их основателях и некоторые легенды. Так, к концу XVII в. получила известность школа тэссин-рю, действовавшая в нескольких районах к западу от Киото и укрепившаяся в XVIII в. Основоположником этой школы был Оцука Тэссин. Он серьезно увлекался фехтованием на мечах и, еще будучи молодым, стал хорошим специалистом в этой области. Он был амбициозен и горел желанием испробовать свои силы в поединках с людьми своей профессии за пределами родной провинции, чтобы его имя стало известным в более широких кругах. Он был хорошо знаком с одним дзэнским настоятелем, который жил в соседнем монастыре, и посетил его на прощанье. Настоятеля звали Рюко, он принадлежал к школе сото-дзэн и был признанным мастером своего времени. Когда Тэссин рассказал ему о своем намерении, настоятель отсоветовал ему осуществлять его, сказав: «Мы живем в мире, гораздо более широком, чем ты можешь вообразить, и в нем наверняка немало людей твоей професии, которые намного лучше тебя владеют мечом, и потому результат твоей авантюры окажется неудачным». Однако юноша был слишком упрямым, чтобы внять дружескому совету.
Рюко продолжал: «Посмотри на меня. Я тоже мечтал стать известным в мире. Несколько последних десятилетий я практиковал здесь медитацию, и сколько учеников у меня сейчас? Что касается тебя, ты
10 Д. Судзуки едва ли и одного человека сможешь назвать своим учеником. Мы должны понять, где наше место, и согласиться с этим».
Эти слова привели Тэссина в негодование, он возбужденно вскричал: «Вы думаете, мой меч ничего не стоит? Фехтование — это совсем не то, чем занимаетесь вы. Если я покину мой дом, потом брошу вызов тому фехтовальщику, кто хорошо известен в своей провинции, и смогу победить его, то об этом событии несомненно будут рассказывать его друзья или ученики. Если я встречу мастера из другой провинции, и тоже выиграю у него, моя слава постепенно разойдется по всем окрестностям. Кроме того, я твердо убежден в своих фехтовальных достижениях. Я не боюсь никого, кто может встретиться у меня на пути».
Рюко не мог не усмехнуться, услышав такое хвастовство. «Ты бы лучше начал с того, кто находится перед тобой. Если ты выйдешь победителем, можешь устроить грандиозное путешествие по всей стране. В том случае, однако, если ты проиграешь, ты должен обещать, что станешь монахом и будешь моим учеником».
На это Тэссин, искренне рассмеявшись, заявил: «Возможно, вы и велики в своем дзэн, но вы наверняка не фехтовальщик. Если вы желаете испытать свою удачу, я готов».
Рюко дал ему бамбуковую палку, которая нашлась поблизости, а сам вооружился хоссу[69] Тэссин, полный самодовольства, попытался свалить дзэнского мастера одним ударом палки. Но его палка совершенно не задевала противника, хотя тот был вполне в пределах досягаемости. Тэссин был обескуражен и пытался снова и снова дотянуться до него, но это было бесполезно. Вместо этого он все время ощущал, как хоссу мягко касается его лица.
Наконец Рюко осведомился: «Что ты теперь скажешь?»
Хвастовство Тэссина было полностью сокрушено. Он униженно признал свое поражение. Рюко, не теряя времени, позвал своих помощников принести все необходимые инструменты для пострижения волос и превратил Тэссина в обычного монаха с обритой головой.
В своем комментарии Минамото замечает, что это, по всей видимости, легенда, придуманная последователями дзэн. Если бы дзэнский мастер Рюко не был знаком с искусством фехтования, он бы никогда не смог победить Тэссина, как рассказывается в этой истории. В противном случае Тэссин совершенно не знал того искусства, которое он изучал. Действительно, есть немало моментов, когда дзэн и фехтование идут рука об руку. Например, когда говорится о том, что «не остается места даже для того, чтобы просунуть волос» или об «искре от молота, ударяемого о сталь», эти выражения отсылают не только к дзэн, но и к искусству фехтования в целом, поскольку ни одна из этих школ не может пренебречь изучением упражнения в мгновенности. Каким бы исключительно квалифицированным дзэнским мастером, в любом смысле, ни был Рюко, но если он вообще никогда не упражнялся в технике фехтования, то вряд ли он вышел бы победителем из схватки с опытным фехтовальщиком. Дело в том, что совершенное искусство фехтования состоит в овладении и техникой, и принципом. Нет сомнения в абсолютной значимости духовных упражнений, однако в полной мере необходимо знать и практические детали фехтования.
Я думаю, что мнение Минамото, с профессиональной точки зрения, корректно: необходимо параллельно развивать и технику, и духовный принцип. Но есть, впрочем, и такая школа, которая в большей степени подчеркивает именно духовную сторону этого искусства, при этом не забывая и о технике. Ее главный представитель, Хори Кинтаю (1688 —1755), желал использовать фехтование как средство помочь человеку в его духовных достижениях. Его доводы заслуживают рассмотрения по многим причинам, поскольку они проливают свет не только на фехтование, но вообще на класс самураев. На Западе было большое непонимание относительно духа, значения и образа жизни самураев, которые были правящим классом Японии в феодальную эпоху, особенно в эпоху Токугава. Точку зрения Кимура, изложенную в Кэндзуи,у фусики хэн[70] в связи с размышлениями Хори о фехтовании, можно обобщить следующим образом.
Совершенный фехтовальщик избегает ссор или борьбы. Борьба означает убийство. Как может одно человеческое существо прийти к тому, чтобы убить своего собрата? Мы все призваны любить друг друга, а не убивать. Отвратительно, когда кто-то постоянно думает о том, как бы сразиться и стать победителем. Мы — нравственные существа, мы не должны опускаться до уровня животных. Какой смысл человеку становиться прекрасным фехтовальщиком, если он утратит свое человеческое достоинство? Лучше всего быть победителем, не сражаясь.
Меч — зловещее орудие убийства в некоторых неизбежных обстоятельствах. Поэтому, раз уж его надо использовать, пусть это будет меч, который приносит жизнь, а не меч, который убивает. Но когда человек рождается в семье самурая, его не отстраняют от изучения искусства фехтования на мечах, ведь его занятия и состоят в том, чтобы упражняться в нем. Однако надо использовать это искусство как средство для продвижения в постижении Пути (дао). Когда к нему относятся правильно, оно поможет эффективным образом культивировать ум и дух.
Одно большое преимущество имеет меч перед простым книжным знанием: когда вы делаете неверное движение, вы обязательно дадите противнику шанс победить вас. Вам приходится быть начеку все время. Хотя внимательность — не самая высокая цель в фехтовании, она сохранит в вас чувство быть верными самим себе; иначе говоря, она не позволит вам потакать своему праздному мышлению. Думание полезно во многих отношениях, но бывают случаи, когда оно мешает действию, и тогда вам приходится отбрасывать его и позволять бессознательному выходить вперед. В таких случаях вы перестаете быть хозяином своего «я» и становитесь инструментом в руках неизвестного. Неизвестное не имеет эго-сознания и, следовательно, не думает о том, чтобы победить в состязании, ведь оно действует на уровне недуально- сти, там, где нет ни субъекта, ни объекта. Именно по этой причине меч действует там, где ему следует быть, и это обрекает поединок на победу. Это практическое применение доктрины Лао-цзы о «деянии в недеянии». Сунь-цзы, великий авторитет в военных вопросах, говорит: «Не самая лучшая вещь — побеждать в любой битве, в которой участвуешь; лучше всего — побеждать, не планируя победить. Такова совершенная победа».
Быть начеку означает быть крайне серьезным, последнее, в свою очередь, означает быть искренним к самому себе, и именно искренность в конце концов ведет к открытию Небесного Пути. Небесный Путь находится над «я», в состоянии мусин, или мунэн. Когда мусин осуществлен, ум не встречает помех, в нем ничего не подавляется, и он освобождается от мыслей о жизни и смерти, обретениях и потерях, победах и поражениях. Пока над человеком довлеет мысль о победе над врагом, его ум будет целиком занят всевозможными проектами в достижении этой цели. Если, однако, врагу случится быть более продвинутым в техническом отношении, то поражение окажется не на его стороне. Если же противники — равные соперники, результатом станет взаимное убийство. Когда схема сталкивается со схемой, это неизбежно. Поэтому совершенный фехтовальщик выходит за пределы любых разграничений, и именно поэтому он — уже нечто большее, чем простой держатель меча.
Самурай носит два меча, длинный и короткий, и он обязан упражняться во владении ими. Но он не должен думать, что развивает силу и умение убивать с помощью меча. Ведь чувство силы всегда приводит к неправильному действию. Поэтому меч должен быть инструментом для убийства эго, корня всяких ссор и сражений. В школе Ягю «выпивание одним глотком вод Западной реки» становится кульминацией занятий фехтованием, поскольку дело касается ее принципа. Технические детали должны быть подчинены принципу, который в реальности формирует духовную личность фехтовальщика. Школа, представленная Хори Кинтаю, принадлежит прежде всего к изначальной школе Ягю Тадзима-но ками, а ведь именно Ягю увязывал каждую ступень обучения фехтованию с дзэн-буддизмом, о чем говорил и его наставник Такуан. Выражение «воды Западной реки», как я уже отмечал, происходит от ответа Басо мирянину Хо, вопрос которого звучал так: «Кто же он, пребывающий совершенно один, посреди десяти тысяч вещей?» Не знаю, понимали ли фехтовальщики, которые многословно говорят об этом дзэнском изречении, что же оно в действительности означало. Судя по тому, что они писали об этом, я боюсь, что они не постигли его на личном опыте. Однако, если это и так, самое важное здесь то, что они как-то связывали понятие «воды Западной реки» с высшим принципом, который управляет бессознательными процессами фехтования. Даже когда все они овладели всеми тонкостями техники, они не могли считаться совершенными фехтовальщиками до тех пор, пока не «погружались глубоко в Западную реку» и не вопрошали «того, кто пребывает один посреди десяти тысяч вещей». Вероятно, причина, побудившая Кимура Кюхо, ученика Хори Кинтаю, написать этот короткий трактат по фехтованию и назвать его «Неизвестное в искусстве фехтования», заключалась в том, что в его время было мало таких фехтовальщиков, которые реально понимали Басо.
Все сказанное мне хотелось бы закончить диалогом Кимура с Хори, в котором подводится окончательный итог размышлений о фехтовании.
Вопрос: Все, что вы говорите, чудесно. Я полностью согласен с вами. Но как трудно применить это к практическим деталям искусства!
Ответ: Надо только осознать, что все, выражаемое символами и словами, вторично, что символы и слова — лишь простые следы. Поэтому дзэнские мастера отказываются признать, будто буквы или слова являются истиной. Что важно, так это достичь высшей субстанции посредством этих следов, этих букв или этих символов. Высшая реальность сама по себе не является символом, она не оставляет следов, ее нельзя передать буквами или словами, но мы подхо- дим к ней, прослеживая их до источника, откуда они происходят. Пока мы останавливаемся на уровне символизации, простой спекуляции, мы не можем осуществить этот принцип.
Вопрос: Когда мы отбросим символизацию или спекуляцию, не остаемся ли мы в состоянии полного отсутствия вещей?
Ответ: Да, это очень трудно — прийти к реализации. Поэтому опытный наставник всегда тщательно обучает начинающих одновременно и техническим навыкам, и пониманию принципа. Последнее может вообще не появиться у человека даже за всю его жизнь. Главное — это увидеть принцип не во внешних вещах, но в самом себе.
Вопрос: В таком случае воообще нет никакой «тайной передачи» в фехтовании?
Ответ: Высшее никогда не может быть передано от одного человека к другому. Оно приходит изнутри самого человека. Любое обучение технике направлено на то, чтобы заставить фехтовальщиков в конце концов его увидеть. То же самое и в случае с ученостью. Нет большой пользы в простой учености. Вы можете прочесть все книги, какие только есть на тему духовной практики и ее достижений, но самое главное — это реализовать тайну бытия, и реализация эта идет изнутри вас, она не может прийти ниоткуда больше. Если же она приходит извне, тогда это не ваше, но кого-то другого.
Вопрос: Вы можете сказать мне что-нибудь об этой тайне?
Ответ: Все, что я могу сказать, это то, что я не знаю или что это непостижимо.
Вопрос: Если это так, значит, мы остаемся простыми глупцами?
Ответ: Нет, не так. Это значит знать и все-таки не знать.
Вопрос: Почему?
Ответ: Потому. Это значит знать, хотя и не знаешь. Я могу лишь сказать, что оно за пределами знания (фусики, или фути)[71]
ДЗЭН И ИСКУССТВО ФЕХТОВАНИЯ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Монах спросил Дайсю Экая (Да-чжу Хуэй-хай),[72] одного из наставников эпохи Тан, когда дзэн был в расцвете:
Что такое великая нирвана?
Наставник ответил:
Не связывать себя кармой рождений-и-смер- тей — это и есть великая нирвана.
Что же тогда карма рождений-и-смертей?
Стремиться к великой нирване — это и есть карма рождений-и-смертей.
В буддизме нирвана и сансара (рождение-и- смерть) противоположны, и нам говорят, что, для того чтобы достичь нирваны, следует превзойти сан- сару. Поэтому первый ответ Дайсю вполне корректен, но его второй ответ может смутить: если не стремиться к нирване, разве она придет сама по себе? Это выглядит не вполне логично. Поскольку нирвана — это нечто желанное и всем буддистам советуют стремиться к ней, для того чтобы избежать оков сансары, которые заставляют испытывать всевозможные горести, разве это не рационально — желать нирвану и стремиться к ее достижению всеми силами? Как воз-
можно, чтобы желание нирваны оказалось кармой рождений-и-смертей?
Ответ Дайсю надо рассматривать как нечто в высшей степени иррациональное. Но мастера дзэн — это иррациональные учителя, и они требуют от нас следовать этой иррациональности в нашей повседневной жизни. Большая ошибка — втискивать все в прокрустово ложе логики, и еще большей ошибкой будет делать логику высшим критерием в оценке человеческого поведения. То явление в японском искусстве, которое известно как мё, или мёю[73] достигается тогда, когда вещь перестает оцениваться рационально. Фактически все действия изначальной творческой способности суть плоды бессознательного, которое выходит за рамки рационалистической схематизации. Не только буддисты махаяны, но и все даосские философы настроены против интеллектуализации в вопросе духовного обучения. Потому дзэнский мастер заявляет, что нирвана достижима только тогда, когда она нежеланна. Желать — значит совершать выбор, а выбор связан с интеллектуальным действием, тогда как нирвана находится по ту сторону интеллекта.
В этой связи можно привести отрывок из послания апостола Павла коринфянам: «И плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся» (1 Кор 7 : 30, 31). И потому следует желать нирвану, не желая ее. Когда мы поймем этот парадокс, то сможем обладать нирваной, и это обладание ею должно быть необлада- нием. Быть сознательно бессознательным, или бессознательно сознательным, — такова тайна нирваны, из которой возникает мёю творчества. Мё, или мёю, — японское слово, означающее «то, что бросает вызов силе человеческого сознания». Другими словами, это такой способ деятельности, который происходит напрямую из внутреннего «я» человека, не испытывая воздействия со стороны различающего интеллекта. Это действие столь непосредственно и немедленно, что интеллект не находит там места, чтобы внедриться в него и разрезать его на кусочки.
Согласно другому дзэнскому мастеру, «пока ученик дзэн потакает любой мысли о рождении-и-смер- ти, он сворачивает на путь дьявола. Едва он позволит себе цепляться за какие бы то ни было взгляды, он присоединяется к группе философов-софистов». Это означает, что только тогда, когда мы находимся вне какого бы то ни было интеллектуального схватывания любого рода, мы превосходим рождение-и-смерть и можем действовать свободно в таинственном царстве «нерожденного», где творческие люди могут раскрыть мё во всех его разновидностях. «Взгляд», или «мысль», — результат интеллектуальной деятельности, и всегда, когда она обнаруживается, творчество «нерожденного», или бессознательного, наталкивается на всевозможные преграды. Вот почему дзэнский мастер советует нам не поощрять даже малейшей «мысли», малейшего «взгляда», отрицательного или утвердительного, относительно рождения-и- смерти, или нирваны. Интеллект — это утилитаризм, и какой бы творческий импульс ни появился в нем, он может действовать только в этих пределах и никогда — вне их.
2
Нечто подобное есть и в искусстве фехтования на мечах. Я называю его искусством, и это смертельно опасное искусство: ведь если человек совершит ка
кое-то неверное движение, он наверняка расстанется с жизнью. На вас направлен меч врага, готовый в любой момент пронзить вас. Мы можем сказать, что если в буддизме борются друг с другом идеи сансары и нирваны, то в фехтовании происходит борьба между жизнью и смертью. Буддийская «борьба» больше развертывается на концептуальном уровне, тогда как борьба фехтовальщика более реалистична и потому психологически ощущается острее. Но до тех пор пока и буддизм, и фехтование оцениваются в терминах борьбы и дихотомии, наилучший путь и единственный способ выпутаться, как считает обычное мышление, — это выбрать любой из двух вариантов дилеммы и идти вперед, не думая о последствиях, которые этот выбор может принести тому, кто принял подобное решение. Фехтовальщику такой выбор может грозить несомненной гибелью. Пока мысль о смерти присутствует в сознании фехтовальщика, она неизбежно приводит его именно к тому, чего он стремится избежать. Ему остается только один выход — отбросить саму идею выжить в бою. Ведь часто бывает, что тот, кто любит жизнь, теряет ее, а тот, кто ненавидит жизнь, обретает ее, как сказали бы христиане.* Истина же такова: вы можете «любить» или «ненавидеть» все что угодно, но пока какое бы то ни было чувство гнездится где-то в ваших мозгах, оно повлияет на ваше поведение, а значит, и ваше владение мечом будет находиться до некоторой степени под воздействием аффектов. Истинный фехтовальщик также должен быть «совершенным человеком» в даосском смысле: он должен быть превыше жизни и смерти, как и буддийский философ должен возвышаться над сансарой и нирваной. Любая борьба никогда
не завершится успешно, пока не будет достигнут тот уровень, когда ни одна из сторон не сможет воздействовать на другую. Не нейтральность, не безразличие, но преодоление противоположностей — вот что необходимо. Именно к этому и стремится фехтовальщик. Может казаться странным, что фехтовальщик желает быть философом, но в Японии, а также в Китае искусство — это не столько техника, сколько духовная интуиция и дисциплина. Фехтование не является исключением.
Тот, кто преодолевает двойственную идею жизни и смерти, начинает жить в первоначальном смысле слова. Когда есть какая-то мысль — о жизни, о смерти, негативная или позитивная, это наверняка окажется серьезной помехой на жизненном пути. Как мысли о сансаре и нирване следует оставить в буддийской «борьбе», так и фехтовальщик не должен думать ни о жизни, ни о смерти. Когда он достигнет этого состояния, он будет великим гением, или «совершенным человеком», в искусстве фехтования.
Фехтовальщик может не иметь никакого желания «вечной жизни», или «бессмертия», но он должен быть очень чутким к своему мечу, чтобы тот мог раскрыть всю тайну мёю[74] вверенную ему; ведь жизнь фехтовальщика полностью зависит от него, в то же время не будучи зависимой от него. Пока он использует свои технические навыки только с целью выиграть у противника, ему придется до мельчайших подробностей следить за каждым движением меча противника. Однако это заставит его ум временно «останавливаться», хотя бы и очень ненадолго. Вместо того чтобы сохранять ум в состоянии совершенной текучести, в котором фехтовальщик способен сокрушить врага, когда тот показывает суки* ему придется приковать все свое внимание к мечу врага. Это приковывание есть «остановка», а любая остановка — это преимущество врага, которое выражается в суки. Буквально слово «суки» означает «мгновение ослабления». Когда человек сражается не на жизнь, а на смерть, все его существо переживает чрезвычайный подъем; а потому, когда бы и где бы он ни ощутил проявление малейшей слабости, он наверняка нанесет смертельный удар.
То, что может быть названо «психической остановкой», происходит из гораздо более глубокого источника. Когда есть хоть малейшее ощущение страха смерти или привязанности к жизни, разум утрачивает свою «текучесть». Текучесть беспрепятственна. Если ум освобождается от всякого страха, от всех видов привязанности, он становится господином самого себя, не встречая никаких помех, подавлений, остановок, ничто не удерживает его. Тогда он следует собственным курсом, словно вода. Он подобен ветру, который дует, куда пожелает. Кроме того, его можно уподобить кругу, центр которого везде, поскольку у него нет окружности. С точки зрения онтологии, буддийские фйлософы называют это состоянием пустоты (шуньята). Художники могут и не достичь такой метафизической высоты сознания, которая в реальности не является сознанием в обыденном смысле слова. Но они наверняка испытывают что-то похожее, пусть
и не осознавая этого. Когда фехтовальщик, как и мастер дзэн, сравнивает свое искусство с отражением луны в воде, он, должно быть, переживает некое бессознательное состояние, находясь в котором держит свой меч так, как если бы не держал его, и использует его так, как если бы не использовал его.
С точки зрения морали, или, скорее, духа, это состояние не-я. Именно «я» жестко противостоит вещам, приходящим извне, и именно «я» делает для нас невозможным принять все то, с чем мы сталкиваемся. Мы уже больше не дети, не младенцы, которых Бог предпочитает мудрым мужам, предпочитает потому, что эти младенцы еще не «развились» до состояния интеллектуальной зрелости. Интеллект разделяет и различает, противостоит и отвергает, выбирает и решает, и именно эти его качества мешают нам сказать: «Да будет воля Твоя».[75] Без чувства «я» нет нравственной ответственности, однако божественное превосходит всякую нравственность. То же и в искусстве. Искусство живет там, где есть абсолютная свобода, потому что там, где ее нет, не может быть созидательности. Свобода, созидательность, мёю — синонимы. Искусство фехтования на мечах принадлежит к этой категории. Если фехтовальщик не достигает той ступени свободы, где он не обладает жесткостью «я», нельзя ожидать, что у него будет меч, который дарует жизнь, а не тот, который забирает ее.
Меч обычно ассоциируется с убийством, и большинству из нас удивительно, каким образом его можно связать с дзэн, который провозглашает любовь и милосердие. Однако в искусстве фехтования различают меч, который убивает, и меч, который дарует жизнь. Меч, используемый каким-нибудь искусным, с точки зрения техники, фехтовальщиком, может служить только орудием убийства, потому что такой фехтовальщик никогда не обратится к мечу, если не намерен убить. Все совершенно не так в случае с фехтовальщиком, который поднимает меч вынужденно. Ибо в реальности тогда не он, но сам меч совершает убийство. Сам владелец меча не имеет желания вредить кому-либо, но появляется враг и становится его жертвой. Получается, что меч как бы автоматически исполняет свое предназначение справедливости, которое совпадает с функцией милосердия. Именно об этом мече говорится, что его принес нам Христос.[76] Здесь вовсе не имеется в виду принесение мира, о котором думают мягкотелые, сентиментальные люди, а это тот самый меч, который использовал мастер чая Рикю,[77] жертвуя собой; это меч Ваджрараджи, который рекомендовал Риндзай (Линь-цзи)[78] последователям дзэн; это меч Бандзана Ходзаку (Пань-шань Бао-цзи),[79] описывающий в воздухе бесцельные движения. Когда оказывается, что меч в человеческой жизни играет подобную роль, то он — уже не орудие убийства и фехтовальщик становится художником высшей пробы, вовлеченным в первозданную творческую деятельность.
з
Некоторые спросят: как может меч, орудие, помогающее реализовать стремление к убийству, сам по себе выработать собственные функции, без участия человека, управляющего им? Какую вообще первозданную, созидательную работу может самостоятельно проводить бездушный механический инструмент? Когда инструмент исполняет ту функцию, которую его заставляют исполнить, можно ли говорить, что он достиг чего-то исконного?
Дело вот в чем: когда меч находится в руках ориентированного на технику фехтовальщика, искусного в его использовании, тогда он представляет собой лишь оружие, у которого отсутствует разум. Все его движения сугубо механистичны, в них нет никакого мё. Но когда меч находится в руках фехтовальщика, чьи духовные достижения столь велики, что он владеет им так, как если бы не владел, то подобный меч отождествляется с самим человеком, он обретает душу, он действует с той утонченностью, которая внедряется в него словно в некоего человека. Человек, освобожденный от всех мыслей, от всех эмоций, происходящих от страха, от всякого ощущения опасности, малейшего желания победить, не сознает, что он использует меч. Тогда и человек, и его меч становятся в каком-то смысле орудиями в руках бессознательного, и именно это бессознательное осуществляет чудеса созидания. Именно в нем игра с мечом становится искусством.
Так как меч не отделен от человека, он является продолжением его рук и соответственно частью его тела. Более того, не отделены в реальности тело и ум как в случае интеллектуальной активности. Ум и те действуют В совершенном единстве, не встречая " пятствий со стороны интеллекта или эмоций. У:-- жается и отделенность субъекта от объекта
ния противника не воспринимаются как внешние, а потому так называемый субъект действует инстинктивно в ответ на то, что предстает перед ним. С его стороны нет намерения реагировать каким-то особым образом. Его бессознательное автоматически позаботится обо всей ситуации.
Фехтовальщик называет это бессознательное «умом, который не является умом» (мусин-но син), или «умом, который не ведает остановок» (томарану кокоро), или «умом оставленным, но все-таки не оставленным» (сутэтэ сутэну кокоро), или «обычным умом» (хэйдзё син). Тайна фехтования на мечах состоит в обретении этого умственного состояния, или, другими словами, духовности, потому что оно находится за пределами психологического мира. Ягю Тад- зима-но ками Мунэнори (1571—1646), один из величайших мастеров меча в истории этого искусства, обучал фехтованию Токугава Иэмицу (1604—1651), третьего сёгуна династии Токугава. Тадзима-но ками изучал дзэн под руководством Такуана (1573— 1645), и много идей дзэнского учения содержится в его трактате по фехтованию. Он говорит, что ум, который есть не-ум, — это последняя ступень искусства фехтования. «Быть в состоянии не-ума» (мусин) означает «обычный ум» (хэйдзё син), и когда это состояние достигнуто, все получается наилучшим образом. В начале обучения фехтованию человек пытается научиться филигранной технике, что сделал бы он и при изучении любого другого искусства. Но как только ум «останавливается» на чем-либо, например на желании хорошо справиться со своим делом, или показать свои умения, или превзойти других, или, если он слишком ревностно настроен, овладеть своим искусством, он обязательно наделает больше ошибок, чем нужно. Почему? Потому что его самосознание, или эго-сознание, слишком выпирает во всем диапаше его внимания, а это мешает свободному развер
тыванию той сноровки, которую он уже приобрел или собирается приобрести. Он должен освободиться от этого мешающего само- или эго-сознания и заставить себя сделать необходимую работу так, как если бы ничего особенного не происходило в этот момент. Когда вещи исполняются в состоянии «не-ума» (мусин), или «не-мысли» (мунэн), то есть при отсутствии всех аспектов само- и эго-сознания, деятель полностью освобождается от подавлений и чувствует, что ничего не мешает его поведению. Например, если он собирается стрелять из лука, он просто достает лук, устанавливает в нем стрелу, натягивает тетиву, фиксирует взгляд на мишени и, когда решает, что корректировка верна, отпускает стрелу. Он не имеет ощущения, будто делает что-то специфически хорошее или плохое, важное или тривиальное. Это можно сравнить с тем, как если бы он обернулся на какой-то звук и увидел во дворе птицу. Это и есть «обычный ум» (хэйдзё син).
Таким образом, фехтовальщику советуют оставаться в этом состоянии ума, даже когда он участвует в смертельной схватке. Ему следует забыть о серьезности своего положения, не думать о жизни и смерти. Это его «неподвижный ум» (фудосин). Фудосин подобен луне, отраженной в потоке. Воды все время находятся в движении, но луна сохраняет свою безмятежность. Ум движется, реагируя на десять тысяч ситуаций, но остается всегда одним и тем же. В этом состоит кульминация искусства. Все беспокойство в интеллекте исчезает, он перестает «плести свои кружева».
В этой связи Ягю Тадзима-но ками цитирует слова Хокодзи (мирянин Пан): «Это подобно деревянному коню, которого задевают цветы или птицы».* Это состояние мусин. Деревянный конь не располага-
* См. ниже, стр. 186, 486.
ет умом, не имеет чувствительности. Его полная неподвижность не позволяет ему реагировать ни на прикосновение цветов, ни на птичье пение. Человек отличен от деревянного коня. Он обладает чувствительностью и подвержен всевозможным воздействиям. Но когда он обнаруживает, что действует тем или иным образом, он «останавливается». Даже вовлеченный в борьбу за жизнь фехтовальщик не должен ощущать помех, он должен оставаться господином самого себя, должен походить на деревянного коня, не способного чувствовать никакие внешние перемены.
Нечувствительность деревянного коня может заставить читателей вообразить, будто Ягю Тадзима-но ками желает, чтобы мы спустились до уровня умственной атрофии или идиотизма.[80] Но это совершенно не так: в действительности он собирается освободить ум от любой возможной психологической помехи и подавлений и сохранить его в первозданной чистоте — для того чтобы раскрыть его изначальную природу во всей полноте. В случае фехтования следует обострить психическую силу видения, для того чтобы действовать немедленно в соответствии с тем, что видится. Тадзима-но ками думает, что видение должно сперва возникнуть в уме, потом передаться глазам и, наконец, телу и конечностям. Последний способ видения означает действие. Поскольку не глаза, но внутренний ум первым схватывает движения врага, тело не теряет времени для приспосабливания к ситуации. Если же первым воспринимает внешний мир физический орган зрения, как уверяют нас психологи, то за этим первым восприятием обязательно должен последовать анатомический процесс передачи, как мы читаем об этом в медицинских учебниках. Однако для фехтовальщика в гуще битвы, сражающегося не на жизнь, а на смерть, это окажется довольно мучитель
ной процедурой. Он не может позволить себе такой роскоши или изысканности. Он должен действовать без интеллектуальных ухищрений или, как сказали бы некоторые, без глупостей. Поэтому можно оценить проницательность наблюдения Тадзима-но ками.
Это напоминает нам совет Чжуан-цзы относительно практики «голодного ума» (син сай). Чжуан-цзы вначале говорит о чрезвычайно сконцентрированном состоянии сознания, а потом добавляет: при слышании использовать не ухо, но ум (кокоро, син); использовать не ум, но дух (и,и). Когда вы используете ухо, слышание останавливается на объекте и ум не будет чем-то большим, чем просто символом. Ци есть нечто пустое и сопутствующее. Дао пребывает в пустоте, а пустота есть голод ума.[81]
Ци — труднопереводимый термин. Это нечто не- воспринимаемое, неосязаемое, то, что пронизывает всю вселенную. В каком-то смысле он соответствует духу (пневма), это — дыхание небес и земли. Там, где Чжуан-цзы определяет «голодный ум» как видение и слышание и,и, он имеет в виду, что нужно превзойти центрированность эго-сознания, ведь пока есть хоть «одна мысль» (итинэн, и-нянь) о нем, это напрочь заблокирует текучесть движения ума, что приведет к суки для врага, который воспользуется подобным преимуществом. «Голодный ум» Чжуан-цзы, естественно, есть нечто более глубокое, чем искусство фехтования. Ведь Чжуан-цзы сознает, хотя и не в обычном смысле познавательной деятельности, пустоту (кё, сю),[82] в которой скрываются бесконечные возможности, тогда как фехтовальщик, можно сказать, еще не прикоснулся к метафизическому источнику всех вещей. Впрочем, мастер, который глубоко проник в тайны своего искусства, способен обрести и основу реальности. Разница между интуитивным знанием фехтовальщика и мастера дзэн такова: фехтовальщик ограничен своим специфическим искусством, тогда как мастер дзэн, благодаря особенностям своего учения, техническим методикам и особому тренингу, обращен ко всей целокупности существования.
4
В этой связи, наверное, было бы небезынтересно привести подробные отрывки из трактата Ягю Тадзима-но ками по фехтованию,[83] в котором можно заметить серьезное понимание автором психологии и философии этого искусства. Ягю глубоко проникает во внутренний опыт своей профессии и показывает, как важно пережить духовность искусства, которое не является только лишь простой системой технических приемо'в. Владение мечом не означает простого умения сокрушить противника, но соотносится с работой дао и гармоничным соединением инь и ян в их космологической деятельности. Метафизика глубоко пронизывает фехтование.
Ягю Тадзима-но ками усердно изучал дзэн под руководством Такуана, который наставлял его в духовной природе фехтования. Согласно этому мастеру дзэн, искусство невозможно понять, если человек не пройдет курс обучения в философии буддизма. Тем самым писания Ягю становятся эхом такуановских взглядов, которые приводились в нашей книге выше. Эта зависимость может быть усмотрена также и в том, что Ягю, разделяя свой трактат на три части, использует термины, часто применяемые в дзэнских текстах, а именно в «Записках Лазурной скалы»: 1) «меч, который убивает»; 2) «меч, который дарует жизнь»; 3) «меч не-меча». Первая часть касается главным образом техники фехтования; вторая затрагивает «мистический» аспект дзэнского учения, ведущий к завершающей ступени; вторая и третья части показывают, как автор понимает дзэнский опыт применительно к искусству, или пути фехтования.
Ягю Тадзима-но ками о «мистическом мече»
Любое оружие, предназначенное для убийства, есть зло, и никогда не стоит им пользоваться, за исключением случаев крайней необходимости. Если вообще приходится пользоваться каким-нибудь оружием, следует помнить, что это должно происходить только в целях наказания зла, а не лишения жизни. Для понимания таких вещей необходимо в первую очередь обучение. Но простым обучением никогда не добиться этого. Оно — только входные врата, через которые человеку нужно пройти внутрь резиденции и приблизиться к самому господину. Господин есть дао (истина). Дао выше, чем простое обучение, но без обучения невозможно достичь высшего дао. Дао можно обрести, когда ум человека полностью освобождается от омрачающих мыслей и путаных эмоций. Когда это происходит и реализуется дао, вы обладаете знанием обо всем, но это знание не должно мешать вашей жизни в дао. Ведь и обучение, и знание, в конце концов, должны быть «забыты», но это бывает только тогда, когда вы, осуществляя любое дело, чувствуете себя совершенно свободным. Пока у вас сохраняется ощущение чего-то упущенного, или, с другой стороны, не отпускающего вас, на вас будет воздействовать либо чувство неудовлетворенности, либо чувство «связанности» чем-то, и вы не будете свободны.
Когда .человек, находясь в начале своего жизненного пути, не ведает ни о чем, тогда он не имеет сомнений, не встречает помех, не знает подавлений. Но спустя некоторое время он начинает учиться и становится робким, осторожным, начинает чувствовать что-то сдерживающее в своем уме, мешающее ему двигаться дальше так, как было ему привычно до начала обучения. Учеба необходима, но нельзя становиться ее рабом. Вы должны быть ее господином и использовать ее тогда, когда пожелаете. Вам следует применить эту психологию к фехтованию. Фехтовальщик не должен давать убежище в своем уме ничему внешнему, поверхностному, его ум должен быть совершенно чист от всех эгоцентрических ощущений. Когда это исполняется, и сам ум «теряется», так что даже демоны не могут определить его местонахождение, человек может впервые в полной мере применить технику, которой обучился. Нет, он продвигается даже дальше, потому что теперь он забывает все, чему он научился, потому что он — воплощение учебы и потому что уже нет границы между учеником и процессом обучения. Это высшая цель дисциплины во всех искусствах, когда учение обретенное становится учением утраченным.
Как бы хорошо фехтовальщик ни был натренирован в своем искусстве, он никогда не овладеет даже техническим знанием, если все его психологические помехи не будут отброшены и он не сумеет удерживать свой ум в состоянии пустоты, полностью забыв о любой технике, которую приобрел. Тогда все тело и его члены будут способны впервые и в совершенстве показать искусство, обретаемое в ходе многолетней тренировки. Члены его тела будут двигаться как бы автоматически, без сознательных усилий со стороны самого фехтовальщика. Его движения будут воплощать высшую модель фехтования. Весь опыт присутствует здесь, однако ум абсолютно не осознает этого. Можно сказать, ум даже не знает, где он сам находится. Когда это реализовано, когда опыт становится спонтанным процессом, а ум совершенно не сознает собственной деятельности, когда «я» исчезает в той сфере, о которой никто не знает, искусство фехтования достигает своего высшего предела, и тот, кто владеет им, называется мэйдзин («гений»).
Затем Ягю Тадзима-но ками говорит, что, для того чтобы стать совершенным мастером фехтования, необходимо избавиться от некоторых «болезней». На
основании цитированного выше мы можем легко увидеть, насколько схожа практика этого искусства с практическими установками дзэн. Обучение технике фехтования соответствует интеллектуальному постижению, как его понимают в дзэн. И в дзэн, и в фехтовании успех в этом не охватывает всей полноты пути. В обоих направлениях важно стремление к достижению высшей реальности, которая понимается как пустота, или абсолют. Абсолют превосходит все аспекты относительности. В фехтовании всякая техника должна быть забыта, должно остаться одно бессознательное, чтобы без помех управлять ситуацией, и тогда техника раскроет свои чудеса автоматически, спонтанно. Так и в дзэн: концептуализация, какую бы форму она ни приняла, должна быть выброшена из сознания, когда раскрывается пустота, освещая мир многообразия. Поэтому мы и говорим, что принцип дзэнской практики пронизывает все виды искусства, которые развивались в Японии. Личное переживание внутреннего смысла любого искусства, которым может заниматься человек, состоит в переживании всего во всем; конечно, техникой нельзя пренебрегать, но, в конце концов, она вторична. «Болезни», перечисляемые мыслителем фехтования, можно усмотреть в любой отрасли искусства, и их знание также весьма поможет нам понять японскую культуру в целом.
Любая идея, какая бы она ни была сама по себе достойная, ценная, становится болезнью, когда она овладевает умом. Болезни, или навязчивые идеи, от которых должен освободиться фехтовальщик, таковы: 1) желание победить; 2) желание прибегнуть к помощи технических ухищрений; 3) желание показать все, чему он научился; 4) желание внушить трепет врагу; 5) желание быть пассивным и, наконец, 6) желание освободиться от любой болезни, которой он наверняка может заразиться. Когда любая из этих помех довлеет над ним, он становится ее рабом, так как это заставляет его утрачивать свободу, которой он наделен как фехтовальщик.
Как освободиться от всех этих болезней, этих навязчивых идей, не-свобод? Если любое желание, присутствующее в уме, даже желание вообще избавиться от болезни, мешает спонтанному проявлению внутренней гармонии, что мы должны делать? Любое желание следует где-то и как-то взращивать, поскольку в противном случае ничего нельзя достичь; даже не- желанность должна желаться, хотя бы временно. Как можно разрешить эту дилемму? Нужен второй клин, чтобы выбить первый, но как мы освободимся от второго, если вместо него может встать третий? Если же мы захотим потом вытеснить и последний, этот процесс рискует стать бесконечным. Поскольку именно от «болезни», по мнению Ягю, должен освободиться фехтовальщик, у того не останется времени на состояние безболезненности, ведь желание освободиться от болезни также является болезнью. Это в чем-то похоже на преследование собственной тени: с каким бы пылом ни гонялся за ней человек, он никогда не сумеет преуспеть в этом, пока длится его жизнь.
В дзэн перед нами встает та же проблема. Желанна цель освободиться от привязанностей, но мы никогда не сможем разделаться с ними, если цель тем или иным образом желается. Говоря языком логики, желание может быть выражено в форме утверждения, либо позитивного, либо негативного. Например, мы можем сказать: «я желаю этого» или «я не желаю этого». «Желать» — это привязанность, «желать не- желаемое» — также привязанность. Тогда быть непривязанным означает быть свободным сразу от обоих утверждений, как позитивных, так и негативных. Другими словами, это сразу и «да», и «нет», что, с точки зрения интеллекта, абсурдно. Дзэнский мастер поднимает палку и спрашивает: «Я не называю это палкой, как же вы назовете это?» Или он может зая- вить: «Я держу лопату, и все-таки у меня ее нет, поскольку я реализую ее, когда обращаюсь к почве». От учеников дзэн требуют постичь эту невозможность.
Пытаясь решить эту вечную дилемму, Ягю цитирует старинное японское стихотворение:
Это ум омрачает Ум,
Ибо нет другого ума.
ОУм, не позволяй, чтобы тебя Обманывал ум*
Мыслитель-фехтовальщик старается объяснить, что именно эти строки означают в связи с решением загадки. Он сперва выделяет два вида ума: истинный, или абсолютный, и ложный, то есть относительный. Первый является субъектом психологии, тогда как другой — это Реальность, которая образует основу всякой реальности. В цитированных строках говорится, что есть ум ложный и есть другой Ум — истинный. Истинный Ум должен быть защищен от ложного, для того чтобы сохранить свою чистоту и свободу незапятнанной. Но неким образом желание вырастает из ложного относительного ума и омрачает абсолютный Ум. Поэтому за первым необходимо тщательно наблюдать. Но кто будет осуществлять это наблюдение? Им тоже может быть только ложный ум, который, таким образом, выступает и как загрязнитель, и как очиститель: ведь Ум, истинный Ум, всегда остается чистым и неомраченным. В сущности, все мы имеем довольно странный опыт. Возможно, это неизбежно в процессе интеллектуальной или языковой
Кокоро косо Кокоро ма'евасу Кокоро нарэ;
Кокоро ни,
Кокоро,
Кокоро юрусу на.
деятельности. Созданный так, как он есть, интеллект не в состоянии делать ничего иного, ведь по самой своей природе интеллект вовлекается в противоречия, а потом беспомощно оплакивает свою судьбу. До тех пор пока мы вынуждены тем или иным образом пользоваться языком, мы не можем не чувствовать какой-то раздвоенности внутри себя, а значит, и противоречивости.
«Почему» — слово, полезное только для мира относительности, там, где цепь причин и следствий имеет какое-то значение для человеческой интеллектуальной деятельности. Когда мы стремимся преодолеть ее, вопрос утрачивает свой смысл. Одинокое облачко каким-то образом, никто не знает — каким, появляется в голубом небе и, быстро увеличившись в размерах, покрывает его целиком, так что мы не можем видеть ничего за облачной завесой. Но вот, снова каким-то образом, в нас рождается желание пробиться сквозь нее, ведь мы не можем не стремиться видеть голубое небо. Таким образом, нас что-то побуждает полагать, что облака и голубое небо должны быть взаимосвязаны, хотя, на внешний взгляд, никакой причинной связи между этими двумя явлениями нет. Мы каким-то образом должны признать присутствие облаков вместе с голубым небом; мы каким-то образом видим голубое небо сквозь сумрачные облака. Сами облака тогда перестают быть облаками — да, они здесь, и все-таки они перестают беспокоить нас как таковые, как нечто, закрывающее голубизну.
огда мы находим согласие со всеми вещами, такими, какие они есть, и ощущаем свободу, не зависимую от оков, случайно наложенных на нас нашим же невежеством. «Почему» утрачивает свой смысл, противоречий больше нет, и мы счастливо наслаждаемся свободой и внутренней гармонией под голубым небом, которое есть для всякого нашего знания кладезь бесконечных возможностей, то есть источник созида- тельности. Голубое небо здесь — разумеется, метафора Ума.
Тем не менее прежний вопрос остается: как же нам обрести голубое небо? Существует ли какой-то «определимый» путь, которым можно следовать? В предыдущем абзаце мы часто использовали словосочетание «каким-то образом», однако понятно, что это вряд ли сможет удовлетворить наш интеллект. С другой стороны, следует помнить, что интеллект не способен вытеснить самого себя. Это интеллект ставит вопросы, но отвечает на них не интеллект. Сама жизнь решает все вопросы, или, точнее, это интуи- ция-праджня проникает в сущность жизни. Поэтому любая связь, которая происходит из этого источника, никогда не может быть «определенным образом» описана. Именно об этом идет речь в трактате Ягю Тадзима-но ками. Но то, что он говорит относительно новичков, над которыми всегда довлеет интеллект, вообще неясно. Он просґо замечает, что человеку нужно продолжать упражняться, если тот хочет, чтобы его «болезни» исчезли, и если «собрано» достаточно сил, «болезни» будут удалены сами собой, без осознания их человеком. Дзэн в этом случае обычно использует термин куфу (гун-фу по-китайски), синонимичный «дисциплине», или «практике» (сюгё, сю-син). Куфу, как говорилось выше, означает «прилежно заниматься, для того чтобы открыть путь к цели». В буквальном смысле это означает на ощупь идти в темноте, когда нет ничего определенного, когда совершенно теряешься в каком-то лабиринте. А может быть, автор имеет в виду, насколько далеко тот или иной мастер дзэн или фехтования будет сопровождать своих учеников. Он ведет их до тех пор, пока всякое руководство не утрачивает смысла, а остальное происходит в результате собственных усилий учеников. Если речь идет об интеллектуальной деятельности, путь к цели может быть «определен-
ным образом» предписан. Но в вещах, касающихся личного опыта человека, все, что мастер способен сделать, это заставить учеников осознать, что они, теперь по крайней мере, находятся в темноте или в лабиринте и что они должны обратиться к чему-то гораздо более глубокому, чем простая интеллектуальная активность, — к тому, что нельзя получить от другого человека. Путь к цели, если вообще есть такая вещь в данной практике, — это, в сущности, объект, который, по их мнению, является чем-то другим, чем «путь» сам по себе. «Поиск», или желание, — это, конечно, только предварительный шаг; однако этот шаг ведет не к запредельности, но внутрь самого ищущего или желающего. Поиск и ищущий, желание и желающий идентичны. Это естественно, потому что не может быть никакого ведущего интеллектуального положения. Когда путь и путник суть одно, может ли посторонний человек погубить его? Интеллектуальный, логический указатель всегда останется указателем или наблюдателем. Личное переживание и интуи- ция-пражня[85] — это одно и то же.
Ягю Тадзима-но ками иногда называет Ум «мечом тайны», симмё-кэн. Будучи фехтовальщиком, он, разумеется, подчеркивает активный аспект меча, а не его субстанциональность. Другими словами, он стремится показать функциональность меча. Меч, находящийся в его руках, пребывает в непроявленном центре круга, который не имеет окружности. Он готов либо утвердиться, либо отречься от себя. Отрицание есть небытие, а утверждение — бытие. Меч в соответствии с ситуацией может быть и тем и другим. Обычные люди всегда остаются односторонними. Когда они видят отрицание (небытие), они не могут видеть утверждение (бытие); когда они видят утверждение, они не способны видеть отрицание. Но опытный фехтовальщик видит и отрицание и утверждение одновременно. Он понимает, что отрицание является не совсем отрицанием, оно подразумевает и утверждение. Это Тайна.
Мыслитель Ягю обращается тогда к Лао-цзы и приводит свое истолкование его фразы: «Где вечное пребывает в состоянии небытия, мы можем видеть тайну [бытия]; где вечное пребывает в состоянии бытия, мы можем видеть пределы [небытия]». Ягю говорит, что этим самым Лао-цзы хочет заставить нас проникнуть в переплетение бытия и небытия. Они всегда готовы перейти из одного состояния в другое. Такова «текучесть» вещей, и фехтовальщик должен всегда быть начеку, когда встречает эту взаимоиз- менчивость противоположностей. Но как только ум «останавливается» на какой-то из них, он утрачивает свою текучесть. Поэтому фехтовальщика наставляют постоянно сохранять свой ум в состоянии пустоты, чтобы его спонтанная свобода никогда не встречала преград. «Текучесть» и «пустота» — тождественные термины.[86]
Когда отсутствуют какие бы то ни было препятствия, движения фехтовальщика подобны вспышкам молнии или зеркалу, отражающему образы. Ни на волосок нет расстояния между одним движением и дру
гим. Когда у человека имеется хоть какая-то тень сомнения, хоть какое-то ощущение страха или небезопасности, эта нерешительность сразу дает о себе знать в движениях меча, что означает поражение такого человека. Когда «меч тайны» не находится на своем исконном «месте», нельзя ожидать, что может проявиться какое-либо мё (мяо).
Этот меч возвышается до уровня символа невидимого духа, который приводит ум, тело и его члены к подлинной жизни. Но мы никогда не можем обнаружить его в какой-либо части тела. Это подобно духу дерева. Если бы в дереве не было духа, то не было бы набухания почек, распускающихся цветов. Это похоже на дух, или энергию (км, ци), неба и земли. Если бы не было такого духа, то не было бы ни грома, ни молнии, ни ливней, ни стремительных ветров. Но относительно того, где находится этот дух, мы ничего не можем сказать. Несомненно, дух управляет нашим существованием, хотя он и пребывает за пределами царства телесности. Необходимо воздвигнуть «меч тайны», чтобы занять это невидимое «место» духа и управлять каждым движением, в любой внешней ситуации. Таким образом, фехтовальщик должен быть исключительно подвижным, ни на чем никогда не «останавливаясь». Так, луна, едва она выходит из-за облаков, сразу же отбрасывает свои отблески во всех водоемах, независимо от того, много там воды или мало. Огромное расстояние между небом и землей — не помеха для движения лунного света. Дух фехтовальщика должен быть подобен ему. Возможно, он сочтет, что сложно действовать таким образом в каждой затруднительной ситуации, которая встретится ему в жизни. За исключением дзэнского мастера, который прошел все ступени практики и освобождается от любой психологической преграды и привязанности, остальным людям нелегко и принимать участие в различных общественных или личных ситуациях, и не быть так или иначе ими захваченными. Как бы то ни было, фехтовальщик должен сохранить это состояние духовной свободы и непривязанности, когда он стоит, крепко сжимая меч в своих руках. Он может не суметь перенести этот опыт фехтования на какое-нибудь другое искусство, но в пределах своей специальности он обязательно должен оставаться господином самого себя. Те, кто с совершенной легкостью может перенести накопленный в одной области опыт на другую, называются людьми «многоплановой текучести». Их мало; большинство из нас специализируются в чем-то одном. Во всех событиях самое важное — это уловить изначальный ум истины и всеобъемлемости, который не ведает фальши, а остальное придет само по себе.
На основании этого подробного парафразированного изложения фехтовальной философии Ягю мы можем убедиться, насколько глубоко дзэнская метафизика проникла в мир фехтования. Люди Запада, возможно, удивятся, как так случилось, что дзэн столь тесно оказался сращен с искусством убийства. Ведь если дзэн — это буддийская школа, а буддизм — очевидно, религия сострадания, как может дзэн поощрять занятие фехтовальщика? Эта критика часто звучит от моих западных читателей. Но я надеюсь, что они теперь должны понять то, что лежит в основе фехтования и как эта основа связана с практикой дзэн. Ведь, как уже может догадаться большинство из тех, кто изучает восточную культуру, какую ни взять разновидность японского искусства, в ней всегда подчеркивается значение «субъективной» ее стороны, а технику считают второстепенной, едва ли достойной внимания. Искусство остается искусством и обладает своим значением; но японцы используют его как способ личного духовного совершенствования. А оно состоит в продвижении к реализации дао, или к небесной первопричине вселенной, или к небесному уму в человеке, или к пустоте, таковости, вещей. Таким образом, меч становится уже не орудием неразборчивого убийства, но одним из каналов, через который жизнь открывает свои секреты. Поэтому Ягю Тадзима-но ками и другие мастера этой профессии — по сути великие мастера жизни.
5
Для дальнейшего прояснения позиции Ягю относительно связей между дзэн и фехтованием я приведу здесь резюме его философии, к которому добавлен трактат Такуана «Меч Гайа». Такуан, как мы уже видели, помогал своему ученику-фехтовальщику понимать значение дзэн для открытия глубочайших тайников человеческой души. Хотя я не думаю, что сам он был фехтовальщиком, все-таки он глубоко постиг принцип этого искусства, и нет сомнений, что Ягю в этом отношении был серьезным учеником своего наставника.
Насколько я вижу, философию Ягю можно представить пятью ключевыми темами, которые, если их понять, знакомят нас с тайнами его фехтования.
Первая из них у Ягю называется сюдзи-сю- ри-кэн. Кэн — это меч, но остальные слова загадочны, и он намеренно отказывается открыть их смысл. Они образуют суть его искусства. Хотя и невозможно понять, что за вид меча называется у него сюд- зи-сюри-кэн, символически или буквально, нельзя ли его отождествить с такуановским мечом I айа?[87]
Кажется, Ягю говорит языком психологии, когда заставляет свой меч увидеть невидимое так, как видимое — причем одновременно. Ибо видимое есть невидимое, и наоборот. В терминах логики «А» есть «не- А», а «не- А» есть «А». Меч как бы удерживается в точке отождествления противоположностей. Он никогда не бывает односторонним, он никогда не остается неподвижным, он — само становление. Основная цель фехтовальщика — обнаружить этот меч внутри себя. Пусть он будет специалистом во многих технических приемах, но если он не способен узреть такой меч, приемы эти окажутся бесполезны.
Вторая тема касается «основы», или «места», которое должен занимать фехтовальщик. Она называется «луна и вода», и это название — одна из буддийских метафор, которая обычно означает быстроту, или непосредственность, с какой ум воспринимает объект, появляющийся перед ним. Когда облака рассеиваются и появляется луна, она сразу же отражается в воде. Другой пример — с зеркалом, которое отражает цветок, едва последний подносится к нему. Точно так же обстоит дело и с положением, или «основой», фехтовальщика: когда он стоит перед своим противником, его позиция должна быть выбрана так, чтобы по мере необходимости он мог легко вторгнуться в пределы противника с непосредственностью луны, отражающейся в воде.
(Поскольку я сам не фехтовальщик, мне трудно в точности определить то, что здесь подразумевает Ягю. Когда он упоминает «основу», имеется в виду физический меч или духовный?)
Следующая тема — «меч тайны» (симмё-кэн). В ней меч понимается не в физическом смысле. Но мне не совсем ясно, каким образом отличить его от первого, тайного, меча, который Ягю отказывается определять. Он пишет: «Божественное [или бессознательное] находится внутри, а тайны проявляются вовне». Иначе говоря, когда божественное заступает место «меча тайны», тело и его члены способны передать любое «расцветание», относящееся к Немыслимому. Из данного утверждения следует, что этот меч, подобно такуановскому мечу Тайа, не материален. Это бессознательное, которое действует за сферой сознания. Обычно именно сознание вызывает всевозможные подавления, препятствующие свободным движениям человека. Из-за подавлений, созданных интеллектом и эмоциями, человеку не удается — с быстротой луны, отбрасывающей свое отражение на воду, увидеть, обнаружить движения вражеского меча. Умение видеть — наиболее важный фактор в искусстве фехтования. Если оно присутствует, то за ним мгновенно следует движение тела и его членов. Поэтому бессознательное должно быть пробуждено, чтобы оно заняло всю сферу умственной деятельности, с тем чтобы изначальная сила инстинктивной спонтанности свободно воспользовалась бы навыками, накопленными сознанием. Таково владение «мечом тайны».
Применяя современную психологию бессознательного к искусству фехтования, мы сможем истолковать методологию не только школы Ягю, но и других школ, например мудзусин-кэн. («Меч не-пребываю- щего Ума»), разговор о которой пойдет в следующем разделе.
Однако как же все-таки следует понимать тайну «меча сюдзи-сюри» относительно этого «меча тайны»? Вероятно, тайный меч принадлежит к духовной, или метафизической, области, которая должна находиться за пределами психологического бессознательного.
Освободиться от «болезней», или навязчивых идей, — такова четвертая тема, интересующая мыслителя Ягю. Но, поскольку об этом уже говорилось выше, ограничимся следующим замечанием: согласно Ягю, быть свободным от «болезней» — значит увидеть сюри-кэн, «меч тайны». Пока мы подчиняемся тем или иным мыслям, они обязательно будут мешать нам увидеть «хозяина дома»; когда же его не видно, все наши действия теряют под собой основу. Если это
случается в присутствии врага, готового в любой момент поразить вас, это самое опасное, что может произойти с фехтовальщиком. Поэтому ум, набитый идеями, должен быть отброшен, его необходимо полностью очистить от любых навязчивых мыслей и чувств, он должен находиться в состоянии совершенной «пустотности». Когда это понимается, сюдзи-сю- ри-кэн становится абсолютным главой, способным реализовать свою волю. Бессознательное, спящее у корня существования, пробуждается и теперь инстинктивно руководит всеми движениями и сознательного ума, и физического тела. Движения, будучи инстинктивными, столь же непосредственны и мгновенны, как и луна, которая, будучи бесконечно далека от нас, сразу же отбрасывает свое отражение на воду, едва облака рассеиваются.
Наконец, тема тела и конечностей. Видеть можно на уровне ума, однако такое видение нуждается в большей основательности. Поэтому видение и действие должны быть одним целым, должны реализоваться одновременно. У совершенного фехтовальщика это становится возможным потому, что он осознал: все движения исходят из пустоты, а ум — имя, данное этому динамическому аспекту пустоты. В таком уме нет искажений, нет эгоцентрических мотивов, потому что пустота — это искренность, исконность и направленность вперед, и она не позволяет, чтобы нечто постороннее возникло между умом и его движениями. Это veni, vidi, vici.[88] Едва появляется облачко эгоистических ухищрений, лунный свет пустоты омрачается и фехтовальщику суждено потерпеть поражение, ведь ум и тело не станут подчиняться указаниям отсутствующего господина.
Надеюсь, что эти ключевые темы дадут нам определенный материал для понимания внутреннего отношения между дзэн и фехтованием. Примечательно здесь то, что буддийская теория пустоты, которая, на внешний взгляд, выглядит абстрактной, нигилистической идеей, как могли бы понять иные критики, глубоко входит в структуру искусства фехтования, которое, в конце концов, отнюдь не детская игра, но опаснейшее занятие, касающееся проблем жизни и смерти. Когда удар пропущен, все потеряно навсегда и никакая праздная идея уже не сможет проявиться. Философия пустоты самым непосредственным и тесным образом связана с фехтованием. Вот несколько цитат из трехчастного трактата Ягю о мече.
Неподвижный ум есть пустота; двигаясь, он производит тайну.
Пустота — это однонаправленность ума, однонаправленность ума есть не-ум, а не-ум — это то, что обретает чудеса.
Помимо простых технических приемов имеются также и свободные, беспрепятственные действия, которые выражают совершенство ки (ци по-китайски).[89]
Отбросьте мышление, не отбрасывая его. Наблюдайте за своими техническими навыками, не наблюдая за ними.
Ничего не оставляйте в своем уме, сохраняйте его полностью очищенным от всех содержаний, и тогда зеркало отразит образы в их основе.
Смотрите сначала умом, затем глазами и, наконец, телом и членами тела.
Не бойтесь моргнуть, когда перед глазами неожиданно предстанет объект. Это естественная вещь.
Я движусь весь день, но совсем не движусь. Я подобен отражению луны в волнах, которые постоянно катятся и колеблются.
Позвольте себе идти с болезнью, будьте с ней, сохраняйте с ней контакт — это способ избавиться от нее.
Сказано, что вы овладеете искусством, когда техника будет действовать через ваше тело и его члены как бы независимо от вашего сознательного ума.
Превратитесь в куклу из дерева:[90] она не имеет «я», она ни о чем не думает; она позволяет телу и его членам действовать в согласии с практикой, которой они овладели. Это путь к победе.
6
оНЛГ'Р м
іхраткии трактат 1 акуана о «мече Іаиа», кото- рый приводится здесь в полном объеме, поможет нам понять то, что может быть названо «метафизикой меча» Ягю Тадзима-но ками.
Меч Тайа
Искусство фехтования, как я его себе представляю, состоит не в стремлении к победе, не в демонстрации силы, не в выполнении шагов вперед или назад; оно заключается в том, чтобы вы не видели меня, а я не видел вас.[92] Когда человек проникает туда, где еще не отделились друг от друга небо и земля, где инь и ян еще соединены, тогда, можно сказать, такой человек достигает совершенства [в искусстве].
Человек, который полностью овладел этим искусством, не использует меч, и противник убивает сам себя; когда же он использует меч, то заставляет его быть средством, приносящим жизнь другим. Когда законом является убийство, меч убивает; когда законом является дарование жизни, меч дарует жизнь. Если осуществляется убийство, фехтовальщик не имеет идеи убийства; если даруется жизнь, то в нем отсутствует мысль о даровании жизни: ибо и в убийстве, и в даровании жизни не присутствует никакого «я». Человек не видит «этого» или «того» и все-таки видит прекрасно, что есть «это» или «то»; он не совершает различений и все же знает хорошо, что есть что. Он движется по воде, словно по земле. Тому, кто достиг этой свободы, не может помешать никто на свете. Он абсолютно самодостаточен.
Вы хотели бы получить «это»?
Прогуливаясь или отдыхая, сидя или лежа, разговаривая или пребывая в молчании, поедая рис или выпивая чай, не позволяйте себе быть праздным, но энергично ищите «это». По мере того как проходят месяцы и годы, оно станет подобно появлению света в темноте, когда вы неизвестно как подходите к знанию, которое не передается от учителя, и открываете источник тайн, из которого возникает действие или не-действие. Достигая этого, вы реализуете состояние, которое превосходит относительность вещей, обычную для нашей повседневной жизни, но которое не выходит из нее. Я называю это мечом Тайа.
Этот острый меч Тайа, которым обладает каждый из нас, совершенен сам по себе. Когда он сверкает, даже дэвы (небесные существа) боятся его, но когда он загрязнен, злые люди станут насмехаться над вами. Когда искусная рука встречает другую руку и их мечи скрещиваются, ни одна из сторон не будет праздновать победу. Это было и тогда, когда Почитаемый миром поднял букет цветов, а Маха- кашьяпа улыбнулся.[93] Догадаться о трех углах квадратного сосуда, когда виден только один его угол, или обнаружить мелкое различие в весе, просто глядя на кусок золота или серебра, — это только обычные примеры работы сознания. Что касается того, кто достиг совершенства в искусстве, он разрежет вас на три части, прежде чем вы упомянете один или очисти- те три;[94] тем более когда вы стоите с ним лицом к лицу!
Такой человек никогда не выставляет напоказ свой меч. Он орудует им мгновенно, как вспышка молнии, как порыв шторма. Впрочем, те, кто не прошел через такие тренировки, наверняка останутся привязанными к чему-нибудь и утратят свободу передвижения. Они не только будут ранить других, но поранят и сами себя. Их совершенно нельзя называть искусными мастерами. Не взращивайте омрачающие мысли, не занимайтесь напрасными вычислениями. «Это» находится за пределами слов, его невозможно подделать, чтобы обучиться ему. Это «что-то» вы должны сами испытать, выйдя за пределы доктринального учения.
Когда «это» реализовано, меч движется с предельной свободой, безотносительно к любым обычаям и условностям. Иногда он утверждает себя, иногда отрицает себя, и даже дэвы недоумевают, как понимать его. Каков смысл всего этого? Один мудрый муж говорит: «Когда у вас нет картины хакутаку[95] в доме, тогда вы не боитесь злых существ». Когда вы приходите к этой мудрости после долгой самодисциплины, поднятие обычного меча сохранит весь мир в спокойствии. Никакого легкомыслия в этом!
[Коней, трактата Такуана]
7
Почти в одно время с Ягю Тадзима-но ками в Эдо (ныне Токио), на другом берегу реки Сумида, жил другой фехтовальщик, звали его Одагири Итиун. Если Ягю был связан с кланом Токугава, тогда находившимся в зените своего могущества, обладавшим влиятельностью, богатством и пользовавшимся заслуженной репутацией наставника третьего сёгуна, Иэмицу, то Итиун оставался почти неизвестным, за исключением круга близких друзей и учеников. Их положение в обществе было диаметрально противоположным. Впрочем, судя по сочинениям Итиуна, он был намного сильнее в качестве фехтовальщика. Он презирал всех тех профессиональных мастеров, которые крутились вокруг людей, имевших политический вес и широкую известность, воплощавших принцип, который его учитель Сэкиун характеризовал как
«звериный»: их жизненной целью были «имя и выгода» за счет собственной профессии.
Что имелось общего между Итиуном и Ягю, так это их философия фехтования, которая в целом была основана на учении дзэн-буддизма. С одной стороны, Итиун был склонен больше подчеркивать дзэн, чем технику меча, которой можно было легко овладеть после того, как человек прозревал сущность дзэн. С другой стороны, Ягю, по-видимому, определенное внимание на технику все-таки обращал. Разумеется, он также подчеркивал значимость дзэн в деле овладения этим искусством. Впрочем, он, похоже, не заходил столь далеко, как Итиун, который вообще игнорировал тактические навыки как таковые. Итиун открыто заявлял, что его меч был мечом «не-действия», или «не-искусства», «не-техники», или «полагания на ничто», «неритмичности»; такой меч, на первый взгляд, вообще не имел никаких характеристик, которые можно было бы отнести к фехтованию. Он сам говорил, что если бы кто-нибудь понаблюдал за его методом практической тренировки, то наверняка счел бы его «очень странным, сверхъестественным». Наконец, Итиун утверждал, что его меч заключается не в ай-ути, а в ай-нукэ[96]
Ниже следует изрядно сокращенный отрывок из рукописной копии (от XVIII в.) оригинального сочинения, подготовленного Одагири Итиуном, учеником Хария Сэкиуна, который, как утверждается, был основателем школы, носившей название «Меч непребывающего Ума» (мудзусин-кэн). Рукопись начинается с описания школы, упоминания имени мастера и отношения к нему Итиуна. В истории фехтования она имеет немалое значение, во-первых, потому, что показывает абсолютную важность того, что может быть названо духовной практикой, отличной от простого обучения этому искусству, а во-вторых, потому, что описывает отношение совершенной личности к техническому мастерству владения мечом. Фехтование не является искусством убийства; оно состоит в самовоспитании человека как нравственного, духовного и метафизического существа.
Школа «Меч не-пребывающего Ума», основанная Хария Сэкиуном
Мой наставник Сэкиун начал изучать фехтование, когда ему было около тринадцати лет. Потом он стал учеником Огасавара Гэнсина. Гэнсин являлся одним из четырех выдающихся учеников Ками-идзуми Исэ-но ками Хидэцуна (умер в 1577 г.), который основал новую школу, синкагэ-рю. Можно сказать, что японское фехтование сделало шаг вперед с появлением Ками-идзуми. В истории японского меча он считался великим творческим гением. После прохождения курса обучения в синкагэ-рю Огасавара Гэнсин отправился в Китай. Преподавая китайцам искусство фехтования, он случайно встретился с опытным знатоком владения неким китайским оружием, хоко. Обучаясь под его руководством, он отточил свою технику до необыкновенного уровня. Возвратившись в Японию, он попытался испробовать новый метод на своих старых друзьях и обнаружил, что никто из них не мог устоят перед его натиском. Веря в абсолютное превосходство своего открытия, он обучил ему большое количество учеников. После интенсивного обучения Сэкиун наконец преуспел в овладении всеми секретами новой школы.
Впрочем, мой учитель не чувствовал себя полностью удовлетворенным своими достижениями. Он начал изучать дзэн у Кохаку, бывшего настоятеля То-
фукудзи, одного из главных монастырей Киото. Под руководством Кохаку мой наставник достиг больших успехов в понимании дзэн-буддизма. В конце концов он пришел к такому выводу: никого из известных ему великих специалистов фехтования, включая и его собственного учителя Гэнсина, и учителя Гэнсина Ками-идзуми, нельзя назвать подлинными мастерами этого искусства. Ведь они совершенно не сумели понять фундаментальных принципов жизни; без этого понимания, какой бы продвинутой ни была их техника, все они оставались рабами омраченных мыслей, которые не стоят абсолютно ничего. Они не смогли выйти за пределы трех альтернатив: 1) победить более слабого врага; 2) быть побежденным более сильным врагом; 3) сражаясь с равным по силе, погибнуть, уничтожив друг друга (ай-ути).
Тогда Сэкиун занялся усовершенствованием искусства фехтования, следуя линии Небесной первопричины, или Первоприроды, которая пребывает в состоянии как-она-есть. Он был убежден, что такой принцип можно применить к искусству. Он постиг, что, занимаясь фехтованием, вовсе необязательно стремиться к улучшению так называемой техничности. Когда человек усаживается на троне Небесной первопричины, он чувствует себя абсолютно свободным и независимым и, находясь в подобном положении, он может легче овладеть любыми профессиональными фехтовальными приемами. Когда Сэкиун, мой учитель, испытал это открытие на своем наставнике Огасавара Г энсине, то легко одолел его, хотя Гэнсин испробовал все свои тайные приемы. Это было подобно попаданию сухого бамбука в пламя яростного огня.
Сэкиуну было уже за шестьдесят, когда я, Итиун, двадцати восьми лет от роду, пришел к нему и стал его учеником. В течение пяти лет обучения у Сэкиуна я упражнялся самым серьезным образом в искусстве фехтования, которое старый мастер теперь передавал
Д. Судзуки в новой форме, синтезированной с принципом и практикой дзэн. Когда я подумал, что наконец-то готов попробовать свои навыки на учителе, я бросил ему вызов. Итогом каждого поединка, которые мы провели, было то, что называется ай-нукэ.
[Ай-нукэ — еще один фехтовальный термин. Когда соперники равны друг другу по силе и сноровке, схватка обычно заканчивается ай-ути, и если она происходит на реальных мечах, то это приводит к взаимному убийству. Однако ай-нукэ вовсе не подразумевает никакого убийства или нанесения друг другу ран. Слово нукэ в отличие от ути означает не «уничтожить», но «идти мимоходом», или «пройти насквозь» неповрежденным. Поэтому, когда Итиун испытывал в поединке своего наставника Сэкиуна, ни тот ни другой даже не получил царапины, хотя оба они имели одинаковое вооружение. Ни с той ни с другой стороны не было «уничтожения». Каждый «избегал» другого, не проиграв ни в каком смысле. Итиун пишет: «Это было самой характерной для нашей школы чертой, которую дзэнский учитель Сэкиуна, Кохаку, называл „мечом не-пребывающего Ума”».[97] Итиун продолжает:]
Вскоре мой наставник умер и я оказался предоставлен самому себе. В течение шести последующих лет я находился в уединении, безмятежно созерцая Небесную первопричину, и не собирался распространять свое только что обретенное искусство. Вместо этого я посвятил себя самонаблюдению, так что я даже терял ощущения голода и холода.
Одну важную вещь я должен упомянуть в связи с моими поединками с мастером: после третьего из них мастер вручил мне свиток, в котором содержались слова, свидетельствовавшие о полном признании им реализации учеником принципа фехтования. Потом мастер достал четки из своего нагрудного кармана, возжег благовония и обратился ко мне, склонившись так, как обычно делают буддисты в знак почтения.
В сущности, я не знал, что хотел сказать мастер этим благочестивым поступком. Впрочем, нет сомнения, что мастер тем самым оказал своему молодому ученику высшее уважение, которое только и может один смертный оказать другому.
Хотя я не стремился становиться учителем новой школы, некоторые мои старые друзья нашли меня и вынудили раскрыть им новые формы опыта. Тем самым мое имя и школа постепенно становились известными в более широких кругах. Судя по тому как они в нынешнее время следуют учению и практике школы, сомневаюсь, что школа будет процветать в грядущих поколениях, что прекрасные достижения моего усопшего наставника в последние годы его жизни не будут утрачены в мире. Но целесообразно записать эти вещи, чтобы люди будущего смогли бы понять это учение, пусть каждый по-своему. Такое учение необходимо защищать против любого возможного непонимания...
После этого введения о себе и своем учителе Итиун говорит о вещах, имеющих первейшую необходимость для развития фехтовальщика.[98] Фехтовальщик должен отбросить всякое желание обрести имя и выгоду, отказаться от малейшего эгоизма и самопрославления, должен находиться в согласии с Небесной первопричиной и наблюдать Закон природы так, как он отражается в каждом из нас. Итиун пишет: «Мой учитель презирал людей низменного типа, говоря, что они омрачены звероподобным духом: подобно низшим животным, они всегда рыщут в поисках еды, то есть всегда ищут материальное благополучие для самих себя. Они не знают, что такое человеческое достоинство и в чем состоят нравственные законы, которые регулируют нашу жизнь».
Что касается фехтования, то Итиун заявляет, что основной принцип искусства состоит в отрицании использования технических фокусов. Большинство фехтовальщиков слишком заботятся о технике, иногда делая ее своим основным объектом внимания, чтобы с ее помощью доказать свои достижения. Поэтому, если человек хочет последовать «мечу не-обители», прежде всего от него требуется отбросить всякое желание превращать фехтование в какое-то развлечение, в обретение неких успехов. Кроме того, не следует думать о достижении победы над противником. Пусть фехтовальщик с самого начала равнодушно относится ко всему, что может случиться в его поединках, пусть сохраняет свой ум свободным от подобных мыслей. Ведь первый принцип фехтования состоит в совершенном проникновении в Небесную первопричину, которая действует согласно случайным обстоятельствам; остальное его не должно касаться.
Когда Небесная первопричина присутствует в нас, она знает, как вести себя в каждом конкретном случае: например, если человек видит огонь, его Причина знает, как использовать этот огонь; если он находит воду, она подсказывает ему, для чего она; если он встречается с другом, она заставляет его приветствовать его; если он видит человека, находящегося в опасности, она побуждает его оказывать тому действенную помощь. Пока мы составляем одно целое с ней, мы никогда не заблуждаемся в своем поведении, какими бы различными ни были ситуации. Она существует даже до нашего рождения, это принцип, который регулирует жизнь вселенной — как нравственную, так и физическую. Этот творческий принцип делится на четыре аспекта: гэнъ (юань, «тонкий»), ко (хэн, «успех»), ри (ли, «продвижение») и тэй (чжэнъ, «сохранение»).[99] Когда человек рождается посредством творческого принципа, он пользуется этими четырьмя аспектами в форме четырех главных социальных добродетелей: дзин (жэнь, «любовь»), ги (и, «справедливость»), рэй (ли, «собственность») и цзи (чжи, «мудрость»). Данные добродетели образуют человеческую природу, благодаря им человек, будучи духовным существом, отличается от остальных существ.
Изначальная природа в своей чистейшей форме действует в нашем детстве, когда нас баюкают материнские руки, когда нас кормит ее грудь. Как младенцу природа дает все, в чем он нуждается, так и взрослые должны быть самодостаточны, когда природе позволяют действовать так, как ей угодно, без помех со стороны относительного сознания. К несчастью, как только мы начинаем взрослеть, в нас самыми разными способами проникают всевозможные доктрины. Из-за влияния концептуальной мысли наши чувства дают нам неверную картину мира. Например, когда мы, смотрим на гору, мы не видим ее в ее таковости, но привязываем к ней всевозможные идеи, иногда чисто интеллектуальные, но зачастую зараженные эмоциональностью. Когда эти идеи обволакивают гору, та трансформируется во что-то чудовищное. Это происходит из-за того, что мы напичканы «школьной» ученостью и преисполнены «законными» интересами, будь то личными, политическими, социальными, экономическими или религиозными. Картина, сформированная в подобном стиле, ужасна, она искривлена и искажена всеми возможными способами. Вместо того чтобы жить в мире, предстающем перед Изначальной природой во всей своей наготе, мы живем в искусственном, «культурном» мире. Жаль, что мы не осознаем этого факта.
Если фехтовальщик желает знать, каким образом эта искаженная мировая картина воздействует на его поступки, пусть понаблюдает за собой, когда участвует в поединке. Он обнаружит, что все его действия направлены против принципа «меча не-обители», принципа, который от начала и до конца должен находиться в согласии с мышлением и действиями ребенка. Согласно этой практике соразмерности природе, шаги, которые делает фехтовальщик, когда сталкивается с врагом, не будут ни быстрыми, ни медленными, ни нейтральными. Он просто предоставляет себя Изначальной природе, так как та непрерывно управляет общей ситуацией, которая подвержена изменению. Фехтовальщик не должен демонстрировать безрассудную смелость, но не должен и считать, что ничтожен. Он также не должен сознавать присутствие врага, то есть ощущать, будто он противостоит кому-то. Он будет действовать так, как если бы занимался обычными делами, например с удовольствием поглощал завтрак. Пусть фехтовальщик держит меч так, как если бы он держал палочки для еды, отправляя в рот поднимаемый ими кусочек пищи и отбрасывая их после завершения приема пищи. Владение мечом не потребует от него большей озабоченности, чем сидение за обеденным столом. Если он желает что-нибудь сверх того, то не сможет закончить свою школу.
Итиун продолжает: для того чтобы объяснить таинственную работу Небесной первопричины, или Изначальной природы в человеке, мы пользуемся различными выражениями, но главное — это вернуться к невинности первого человека, то есть к невинности детства, которое часто именуется Великим пределом (тайкёку, тай-и,зи по-китайски), или природой в ее сущности, или состоянием не-деяния, или пустотой. Но большинство людей, вместо того чтобы непосредственно усматривать этот факт, цепляются за слова и комментарии и продолжают запутываться все больше и больше, пока в конце концов не попадают в неразрешимые противоречия.
Пусть подобные люди однажды вспомнят свое детство и понаблюдают, как ведет себя ребенок. Например, может случиться страшное землетрясение, но это не обеспокоит его. Убийца может ворваться в дом и угрожать, что убьет его, но тот будет улыбаться в ответ. Разве это не выражение великой отваги? А посмотрите, как он относится к мирской выгоде, ради которой мы готовы чуть ли не жертвовать своей жизнью или бесстыдно применять различные демонические ухищрения. Обуяет ли малыша радость, если ему подарят целую империю или украсят его медалью большого достоинства? Он даже не повернет головы. Можно, конечно, сказать, что младенец ничего не знает о мире взрослых. Но Итиун ответил бы: «Есть ли что-нибудь стоящее в мире взрослых? Все это суета сует. Что интересует ребенка, так это абсолютное настоящее. Он не вспоминает прошлого, не предвкушает будущего. Поэтому он свободен, он не ведает страха, опасности, беспокойства, „смелости быть”». Поэтому фехтовальщика на мечах, как, в сущности, и каждого из нас, интересует осознание этой Небесной первопричины, действующей в детях и младенцах. Дети не осознают ее, но они действуют в ней; а перед нами встает задача полностью осознать Природу, так как она открывает в нас Небесную первопричину. Достичь зрелости — это не значит стать пленником концептуализации, но значит прийти к реализации того, что лежит в нашем сокровеннейшем существе. Это «истинное знание» (рёти), «искренность» (ма- кото), «почтительность» (кэй), «безошибочность» (тантэки). Каким бы старым ни стал человек, он не обнаружит, что оно, это «истинное знание», износилось. «Детскость» всегда обладает свежестью, энергией и вдохновением.
По этой причине наставление Итиуна своим ученикам, по-видимому, является самым простым, самым легким из всех. Ведь он говорит: «Когда у вас меч в руках и перед вами враг, идите прямо на него, если расстояние слишком далеко, и поражайте его. Если же расстояние с самого начала вполне приемлемо, ударьте его с того места, где вы находитесь. Необходимо отсутствие мыслей. Но у большинства фехтовальщиков картина иная. Едва они встают против врага, они пристально смотрят на него; рассчитывают дистанцию между собой и им; занимают позицию, которая, как они считают, окажется наиболее выигрышной; измеряют длину меча; размышляют о том, какие технические ухищрения станут использовать — „по- давание”, „отнятие” или „замедление” движения; и так далее. Их разум действует самым напряженным образом, стараясь применить все тактические приемы, которым они выучились. Они не имеют ни малейшего представления о Небесной причине и о том, как она функционирует в различных условиях. Большая ошибка в фехтовании — это предвкушать результат поединка. Вы не должны думать о том, закончится он победой или поражением. Просто позвольте Природе действовать, как ей угодно, и ваш меч сам сокрушит врага в нужный момент».
Вероятно, самый важный совет, который Итиун дает человеку, собирающемуся заняться практикой фехтования, это то, что тот должен начать поединок с идеи ай-ути, то есть «взаимного убийства». Этот совет имеет большое психологическое значение. Ай-ути в данном случае означает вообще не обращать внимания на результат поединка, совершенно не интересоваться тем, останется ли человек жив или нет. Когда человек оказывается в смертельной ситуации, пребывая в таком расположении ума, он есть сама решимость, он становится самым отчаянным, самым смелым и перед ним никакой враг не сумеет устоять, если только тот сам не вступит в такое же состояние решимости. Подобные примеры уже приводились в нашей книге. Но следует помнить, что идея ай-ути — это ступень, предваряющая овладение искусством фехтования, но не ступень, которой оно должно завершиться. Следует внимательно отнестись к дальнейшим советам Итиуна, совершенного мастера и наставника «меча не-обители».
Второй урок Итиуна составляет сердцевину его методологии и одновременно показывает, насколько глубоко он проник в темные закоулки человеческой психики. Он пишет: «Может показаться, что идею ай-ути несложно сохранять в памяти в начале боя, но по мере его прогрессирования воин наверняка станет надеяться на победу, а это обязательно помешает естественному функционированию Небесной причины в нем». Потом Итиун продолжает: «Для вас настанет момент поразмышлять: „Как происходит, что мой ум оказывается в двойственном положении? Я начинаю с твердой решимости закончить поединок в ай-ути, однако же начинаю колебаться, желая стать победителем”. Подобное размышление поставит ваш ум в состояние куфу* Если вы продолжаете жить в таком духе несколько лет, то в конце концов постигнете Небесную причину, которая не подвержена никакому движению, то есть любой нерешительности ума. Ведь
Термин куфу уже встречался несколько раз на предыдущих страницах текста, но я чувствую, что он остается недостаточно полно раскрытым. Поэтому попытаюсь объяснить его — вероятно, в последний раз. Это одно из самых значимых слов, используемых в дзэн, а также в различных областях ментальной и духовной дисциплины. В целом оно означает «искать выход из противоречий», или «бороться, чтобы выбраться из тупика». Слова «противоречия», «выход из тупика», возможно, звучат как-то уж чересчур интеллектуально, но фактически они означают то состояние, когда интеллект уже не в состоянии идти дальше, однако некий внутренний импульс все-таки подталкивает его к движению. Поскольку интеллект бессилен, мы можем призвать на помощь волю; но простая воля, какая бы она ни была мощная, не способна помочь выбраться из тупика. Воля ближе к основаниям бытия, чем интеллект, но она все еще пребывает на поверхности сознания. Нужно двигаться глубже, но как? Это «как» и есть куфу. Любое учение, любая внешняя поддержка окажутся здесь бесполезными. Решение должно прийти изнутри. Надо продолжать настойчиво стучаться в дверь до тех пор, пока все, что заставляет человека ощущать себя индивидуальным существом, не разрушится. Таким образом, когда «эго» в конце концов отказывается от себя, оно открывает себя заново. Такой человек — словно новорожденный. Куфу — это разновидность духовных предродовых мук. Они затрагивают все существо. Некоторые физики и психологи предлагают ка- кое-то синтетическое медицинское средство, чтобы облегчить человеку такие муки. Но необходимо помнить, что, хотя человек отчасти действительно механистичен, или биохимичен, подобные средства никоим образом не исцелят его; в нем всегда остается что-то такое, чего никогда нельзя достичь с помощью медицины. Именно там располагается его духовность. В конце концов именно куфу пробуждает нас к духовной силе, отличающей нас и от животных, и от автоматов.
Причина, или Природа, или Ум (кокоро), или субстанция, — все эти слова обозначают одно и то же, — остается всегда спокойной, неподвижной и неизменной, и именно благодаря этому качеству она действует в бесконечном многообразии за пределами мысленного постижения».
Прежде чем завершить это долгое изложение учения школы фехтования, которое называется «меч не-пребывания», я хотел бы подчеркнуть четыре момента в рукописи Итиуна, которые характеризуют его Меч.
Отсутствие системы отшлифованных техник.
Мягкость духа (кшанти), или несопротивляе- мость, или недеяние; эти термины весьма напоминают нам философию Лао-цзы и Чжуан-цзы.
Убеждение, что «я — фехтовальщик, который не имеет себе равных во всем мире». Это напоминает утверждение, которое, согласно традиции махаяны, сделал Будда при своем появлении: «И в небесах, и на земле я единственный, кто достоин почитания!» Эта созвучность двух традиций интересна в двояком отношении: во-первых, Итиун восхваляет «детскость» как воплощение принципа фехтования, во-вторых, именно ребенком Будда сделал свое смелое заявление. «Ребенок» Итиуна — это полностью возмужавший фехтовальщик, который прошел через все испытания с риском для жизни. В любом случае дух и учение дзэн можно различить и в Итиуне, и в легендарном Будде. Оба хотят, чтобы мы очистились от всей грязи, которую накапливали еще до своего рождения, и открыли Реальность — в ее истинности, в ее таковости, в ее наготе, что соответствует буддийской концепции пустоты (шуньята).
Я должен добавить еще одну тему, которая, по всей вероятности, получила свое развитие в школе «меча не-пребывания»: это идея ай-нукэ. Ее не развивали другие школы фехтования. Когда поединок проходит безупречно, он обычно завершается ай- ути, «взаимным уничтожением», тогда как в «мече не-пребывания» нет такой трагической кульминации, поэтому концом здесь является ай-нукэ, а не ай-ути. Как я говорил раньше, нукэ буквально означает «отсутствие уничтожения», и потому, когда оно осуществляется, никто из противников не задевает другого и оба выходят из боя без повреждений. Когда кто-либо из соперников не является совершенным мастером «меча не-пребывания», он, так сказать, побуждает меч подлинного мастера пасть на него, тем самым совершая своеобразный суицид. Если говорить о самом мастере, то он не имеет какого-то намерения убить своего оппонента. Только неизбежность ситуации вынуждает его принять бой. Это его враг исполнен злым духом убийства, это эгоистический разум врага подавлен жаждой уничтожения. Поэтому, когда он встает перед мастером «меча не-пребывания», злой дух одерживает над ним верх и уничтожает его, в то время как мастер даже не сознает, что убивает своего противника. Можно сказать, что здесь Небесная причина наказывает тех, кто идет против нее, и что «детскость» мастера делает его совершенно невинным в отношении того, что происходит вокруг него.
Когда я прочитал трактат Итиуна, у меня создалось впечатление, что автор — не столько профессиональный фехтовальщик, сколько по существу дзэнский мастер, которому привелось заниматься фехтованием. Его меч подобен посоху мастера дзэн, посоху, который бьет монаха, приближающегося к мастеру с любой нечистой идеей о дзэн. Меч Сэкиуна, унаследованный Итиуном, в реальности есть меч недействия, то есть меч не-пребывания, образующего суть философии праджняпарамиты (по-японски хання-харамита).
В конце своего трактата по фехтованию Итиун обобщает значение своего меча в следующих словах: «В настоящее время есть множество школ фехтования — больше двухсот, но все они происходят от четырех главных учеников Ками-идзуми Исэ-но ками. Мой наставник Сэкиун изучал искусство под руководством одного из них, Огасавара Гэнсина. Гэнсин, после того как он посетил Китай и научился обращаться с неким китайским оружием, изобрел новый способ фехтования, свой собственный, который оказался столь удачным, что никто из его бывших соперников не смог победить его. Мой учитель Сэкиун учился у Гэнсина и полностью овладел его искусством. Но позже, когда Сэкиун подошел к пониманию дзэн, он отбросил все, чему научился у Гэнсина, и поднял меч недействия. Потом он обратил на своего бывшего наставника этот меч, обретенный им самим, чтобы посмотреть, как этот меч практически будет действовать против прежней школы, которая полагалась только на техническое мастерство и на превосходство тактических приемов. Результатом стало поражение старой школы, показавшее, что тогда моего учителя Сэкиуна, чье фехтование достигло высших пределов, никто в Японии XVII в. не мог бы победить».
Вывод Итиуна: тот факт, что даже лучший фехтовальщик Японии не мог победить его наставника Сэкиуна, овладевшего принципами дзэн, объясняется тем, что все тогдашние фехтовальщики, принадлежащие к различным школам, опирались на какую-либо схему технического превосходства. Меч же Сэкиуна, напротив, был мечом не-пребывания, воплощавшего саму Небесную причину, тем самым выходя за пределы человеческого понимания. После переживания опыта дзэнского сатори Сэкиун несомненно достиг состояния святости. Его «меч не-пребывания» не имел ничего общего с тактическими движениями, техническими трюками, в общем, со всем тем, что обычно связывают с фехтованием в его повседневном использовании. Кроме того, этот меч совершенно не зависит от каких-либо мирских интересов и мотиваций, которые отягощают характер его носителя. И только благодаря чистосердечию, «отсутствию ума» (мусин, кит. — у-синъ) в человеке меч проявляет это качество и играет свою роль с высшей степенью свободы. Именно по этой причине, заключает Итиун, никто не мог устоять против такого меча, если только не обладал той же степенью духовных достижений. В фехтовании главным является не мелочная техника, но высоко развитая личностная духовность. Отсюда и заявление Итиуна о том, что нет никого, кто мог бы быть равен ему.
Что делает искусство фехтования более близким духу дзэн, чем любое другое искусство, которое развивалось в Японии, так это то, что оно воспринимает проблему смерти в ее наиболее непосредственной, угрожающей форме. Если человек сделает хоть одно неверное движение, он погиб навеки, поэтому он не имеет времени для размышлений или рассчитанных поступков. Все, что он делает, происходит непосредственно из его внутреннего механизма, который не находится под контролем сознания. Он должен действовать инстинктивно, а не интеллектуально. В самый напряженный момент борьбы не на жизнь, а на смерть главной ценностью становится время, и оно должно быть использовано наиболее эффективным образом. Если появится хоть малейший момент ослабления (суки), враг почувствует его мгновенно и сразу же воспользуется этим, что будет означать ваше уничтожение. Так что это не обычное поражение или унижение.
Момент интенсивной концентрации — это момент совершенного совпадения субъекта и объекта, личности и ее поведения. Когда совпадение отсутствует, это означает, что поле сознания еще не полностью очищено, что еще остается «тонкий след мысли» (ми- сай-но итинэн), который мешает действию непосредственно и напрямик исходить из человека — то есть, говоря терминами психологии, из бессознательного. Результат всегда плачевен, поскольку меч противника разобьет этот зазор, имеющийся в сознании.
Вот почему фехтовальщику всегда советуют освободиться от мысли о смерти или от беспокойства об исходе битвы. Пока есть какая-то «мысль», неважно о чем, она наверняка окажется причиной катастрофы. Китайская поговорка гласит: «Когда вы поступаете решительно, даже боги будут вас остерегаться». Решительность сознания — вещь, которая абсолютно необходима в фехтовании. Без этого невозможна никакая концентрация, тем более никакое отождествление. Концентрация, сосредоточенность ума, однонаправленность (экаграта), решительность сознания — все эти слова означают одно и то же. Когда тот или иной поступок должен играть главную роль, он должен быть полностью предоставлен самому себе. Этот момент известен в дзэн как состояние «отсутствия ума» (мунэн), соответствующее «детскости», в которой еще нет даже зачатков размышления.
Некоторые удивятся, быть может: решительность сознания — ценное человеческое качество, признак высокоразвитого сознания. Мы не сможем достичь его, пока не пройдем курс обучения и не станем полностью зрелыми. Если это так, как можно требовать от человека, чтобы он отбросил эту свою естественную привилегию и вернулся к началу, после того как он проделал столь трудное путешествие? Да и как может человек отождествить высокоразвитый ум с беспомощностью ребенка? Эти вопросы — только один способ взглянуть на проблему, но нельзя забывать, что имеется и другой способ, в котором ребенок превосходит того, кто «полностью развит». Давайте посмотрим, в чем он состоит.
Спеша стать «полностью развитыми», мы полностью пренебрегли одним очень важным качеством, которым обладает ребенок и которым мы тоже наделены, — верой в непостижимое бытие. Непостижимое можно назвать Небесной причиной, Природой, истинным, или изначальным, сознанием, дао, Богом, бессознательным, или внутренним «я». Поскольку непостижимое, какое бы имя мы ему ни присвоили, отказывается быть выведенным в поле сознательного ума, или теряет свою сущность, или таковость, в тот момент, когда сознание пытается удержать его в своих тисках, оно затаивается в нашем человеческом племени, увлекшемся «развитием» и «созреванием», затаивается настолько, что мы забываем о его существовании, забываем о том, какую роль оно играет в нашей жизни, при этом не побуждая нас сознавать его реальность. Когда фехтовальщик или религиозный человек говорят о детскости, или о «не-уме», большинство из нас не могут понять, что они имеют в виду. Если же мы пытаемся понять это состояние, то ставим его наверху или внизу (в соответствии с тем, как мы его оцениваем) обыкновенного сознания и рассуждаем о нем так, как рассуждаем и о прочих вещах, воспринимаемых таким сознанием. В результате мы искажаем такое состояние, путаем, усекаем, уродуем его и заставляем его полностью утрачивать свои изначальные черты. Если кто-нибудь другой теперь упомянет о нем, мы можем и не узнать его. Решительность сознания подразумевает работу восстановления, в которую теперь вовлечены «полностью развитые». Это вопрос не о развитии того, что уже было развито, но вопрос извлечения того, что было спрятано от нас все время, никогда при этом не исчезая и не искажаясь, разве что когда мы в заблуждении пытались манипулировать им. Но фехтовальщик, вероятно, сперва вдохновленный дзэнскими мастерами, а потом обучившись и практикам своего искусства, должен прий-
ти к постижению этого важного «непостижимого качества», которое мы теперь стараемся по-разному описать.
После этого введения мы сможем лучше понять следующий ниже материал, оставленный различными фехтовальщиками, которые прежде всего были практиками и не слишком увлекались философскими спекуляциями.
Адати Масахиро
Некий Адати Масахиро из Киото, который, как считается, был основателем школы фехтования сим- бу-рю (или дзимму-рю), написал работу в двух частях под названием Хэйдзуцу ёкун («Основные принципы фехтования»). Она датирована 1790 г., но впервые была напечатана на 35-м году эпохи Мэйдзи (1905 г.) вместе с несколькими другими трактатами на схожие темы, составленными и изданными Арима Юсэем и Иноуэ Тэцудзиро в виде сборника, получившего название Бусидо сосё («Сборник трактатов о пути самурая»).
Адати Масахиро подчеркивает значение психической[100] практики. Несомненно, физические упражнения и техническое мастерство важны, но того, кому недостает психической практики, наверняка ожидает поражение. Будучи натренированным в искусстве, ученик должен быть в любом случае активным и динамичным. Но в реальном поединке его сознание должно успокоиться и не испытывать помех. Он должен чувствовать себя так, как если бы ничего особенного не произошло. Когда он движется, шаги его уверенны, а глаза не таращатся на врага, как у сумасшедшего. Его поведение в бою никоим образом не отличается от его обычного поведения. Никаких перемен не происходит в его облике. Ничто не показывает того, что он сейчас участвует в смертельной битве.
Чтобы фехтовальщик, когда сталкивается с противником, когда вся его жизнь зависит от малейшего движения, умел действовать в такой манере, он должен осознать «неподвижный ум». В психологическом смысле (как мы бы сказали сегодня) он должен в совершенстве научиться удерживать свое кокоро внизу, в брюшной области.[101] Если интерпретировать эту идею на современный лад, то получится, что фехтовальщик должен удерживать диафрагму в нижнем положении, чтобы в груди могло оставаться достаточно места для свободного дыхания легких и для беспрепятственного биения сердца. Ведь тот, кто в той или иной степени возбужден из-за ситуации, или тот, кто рассчитывает преодолеть противника агрессивной демонстрацией силы или хитроумной тактикой, обречен на поражение от врага, который выходит на поединок в сосредоточенном, сбалансированном состоянии сознания. Это позволяет увидеть, что в фехтовании технические навыки должны быть подчинены психической практике, которая рано или поздно возвысит фехтовальщика до уровня высокой духовности. Когда обретается состояние духовности, проявляется мё (мяо), и мы замечаем, что фехтование становится даже не искусством, а каким-то первозданным творчеством.
Не от всякого фехтовальщика можно ожидать духовных высот, даже если он отлично натренирован в технике, но когда он твердо решает не цепляться за жизнь, то может оказаться упорнейшим противником даже для самого хорошего фехтовальщика. Страх смерти или привязанность любого рода способны воспрепятствовать движению меча, и враг наверняка воспользуется своим преимуществом.
Как мы теперь отчетливо видим, искусство фехтования отличается от любого другого искусства прежде всего тем, что оно самым глубинным образом связано с предельной проблемой жизни и смерти. Пытаясь разрешить ее, фехтовальщик приходит к изучению дзэн и даже стремится к высоким духовным достижениям.
Чтобы показать, что он имеет в виду, Адати Масахиро рассказывает об одном отчаянном бойце, который вынудил отступить опытного фехтовальщика. Автор приводит этот случай как хороший пример того, на что может быть способен обреченный человек, даже если он совершенно не искушен в фехтовании.
Однажды в эпоху феодальной системы некоему человеку, который принадлежал к классу зависимых людей, случилось доставить какую-то серьезную неприятность одному политически влиятельному господину. Тот потребовал, чтобы мастер уступил ему этого слугу, что, конечно, означало неизбежность казни несчастного. Мастер не имел иного выбора, кроме как подчиниться требованию оскорбленного.
Мастер сказал слуге: «Мне очень жаль, что приходится выдавать тебя этому чиновнику, который наверняка приговорит тебя к смертной казни. Я же не могу тебе ничем помочь. Поэтому я советую взять меч и сразиться со мной в последнем бою, и после того как ты меня убьешь, ты сдашься сам обиженному тобой чиновнику».
Слуга отвечал: «Это было бы верхом глупости для меня. Вы — великолепный фехтовальщик и наставник в этом искусстве. Как могу я надеяться, что смогу победить вас, я, простой слуга, который никогда и меч в руках не держал?»
Мастер, будучи выдающимся профессиональным фехтовальщиком, лелеял втайне желание попытаться сразиться с человеком, который в любом случае не имел никакой надежды на собственное спасение, и сказал слуге: «Ты все равно попытай удачу, а я уж посмотрю, как встретить тебя».
После того как они встали друг напротив друга, подняв мечи и приготовившись к смертельной схватке, мастер фехтования оказался в более худшей позиции. Он был вынужден отступать назад, пока не уперся в стену, за которой уже не было места для дальнейшего отступления. Ему пришлось принимать окончательное решение. Это уже была не шутка, не
экспериментирование. Загнанный в угол, не имея надежды улучшить ситуацию, фехтовальщик издал выкрик: «Хэ!» и сокрушил противника одним ударом меча.
После этого мастер признавался своим ученикам: «Какая то была отчаянная битва! Слуга чуть не убил меня, его яростное размахивание мечом было невозможно сдержать. Никогда не пытайтесь экспериментировать с такими поединками. Если даже неуклюжий слуга может столь яростно нападать, что говорить о фехтовальщике высшего разряда!»
Один из учеников спросил: «Когда вы отступали шаг за шагом, было ли это с вашей стороны тактикой или вас реально столь сильно прижали?»
Мастер признался: «Да, он меня действительно сильно прижал».
Выкрикивая «хэ!», вы сокрушили слугу; вы открыли в нем суки?[102]
В нем вообще не было суки, но чудо (мё) было таким, что он наткнулся на меч.
История на этом заканчивается. Ее автор, Адати Масахиро, комментирует: «Чудо (мё), упомянутое здесь, обусловлено действием не [сознательного] ума фехтовальщика, но „неподвижного ума”. Когда чья-то воля примиряется с неизбежным, даже неискусная рука может оказать такое сопротивление знатоку... Поэтому фехтовальщик не должен ни думать легкомысленно о ком бы то ни было, ни чувствовать себя ничтожным перед сильным соперником. Главное — это забыть как о себе, так и о противнике и позволить мё [бессознательно] действовать самому».
Потом Адати цитирует Уэсуги Кэнсина (1530— 1578), одного из самых знаменитых генералов XVI в.: «Судьба в небесах, латы на груди, успех в ногах. Выходи на поле боя, твердо веря в победу, и ты вернешься домой вообще без всяких ран. Участвуй в битве, полностью смирившись с мыслью о смерти, и останешься жив; желая выжить в бою, обязательно встретишь смерть. Когда ты оставляешь дом, решившись не видеть его вновь, то вернешься домой невредим; если у тебя есть хоть какая-нибудь мысль о возвращении, ты не вернешься. Возможно, ты не так уж неправ, считая, что мир всегда подвержен изменению, но воин не может поощрять подобный строй мысли, ибо его судьба всегда предрешена».
Мы лишь отметим, что воин, или самурай, или фехтовальщик защищают детерминизм. Пока нас убеждают думать, что имеется сила непонятного происхождения, которая вдруг появляется посреди нашего по-человечески хорошо распланированного проекта и расстраивает все дело, мы не можем не признавать свою ограниченность. Свободная воля или свобода знания и действия тогда — только сон. Однако вот какой очень странный вопрос может возникнуть: что же заставляет нас мечтать, если мы в действительности ограничены со всех сторон? Что заставляет нас отрешаться от реалий своей жизни и размышлять о них так, как будто они не имеют для нас никакого интереса? Откуда же происходит сама идея ограниченности, если не из сферы безграничного?
Мастер чая и головорез
Ниже следует история об одном мастере чая, которому довелось исполнять роль фехтовальщика и сражаться с головорезом. Чайный мастер вообще ничего не смыслит в искусстве фехтования и никак не может быть достойным соперником ни для кого из носящих меч. Его профессия мирная. Эта история говорит нам о том, что человек может научиться владеть мечом, — даже если он никогда не занимался никакими техническими упражнениями, — если только он решится идти до конца в своем деле, пусть с риском для жизни. Это еще один пример значения решительности, ведущей к преодолению жизни и смерти.
Живший в конце XVII в. господин Яма-но ути из провинции Тоса однажды собрался нанести официальный визит в Эдо, столицу сёгуната Токугава, и решил захватить с собой своего мастера чая. Тот не хотел сопровождать его, потому что, во-первых, не обладал никаким самурайским рангом, а во-вторых, слышал, что Эдо не был таким тихим и благоприятным местом, как Тоса, где его хорошо знали и где он имел много прекрасных друзей. В Эдо же он наверняка попал бы в беду из-за вооруженных хулиганов, что в результате навлекло бы позор не только на него, но и на его господина. Путешествие оказывалось весьма рискованным делом, и у него не было желания его предпринимать.
Однако господин был настойчив и слушать не хотел возражения чайного мастера. Этот мастер чая считался очень хорошим специалистом в своем деле,
и,вполне возможно, господин втайне лелеял желание похвастаться им среди своих друзей и коллег. Не в состоянии сопротивляться настойчивым просьбам господина, которые, в сущности, выглядели как приказ, мастер снял свое чайное облачение,[103] оделся самураем и прихватил два меча.
Пребывая в Эдо в господском доме, мастер чая чувствовал себя весьма неуютно. Однажды господин все-таки дал ему разрешение выйти из дома и осмотреть достопримечательности. Одетый как самурай, он посетил парк Уэно возле пруда Синобацу, где издалека заметил какого-то подозрительного самурая, присевшего на камень. Ему не понравился вид этого человека. Однако чайный мастер, не пытаясь избежать встречи, двинулся вперед. Тот человек вежливо обратился к нему: «Как я вижу, вы самурай из Тоса, и я сочту за честь, если вы позволите мне попробовать свои силы, сразившись с вами».
Чайный мастер из Тоса с самого начала путешествия предчувствовал подобное столкновение. Теперь же, стоя лицом к лицу с ронином[104] вид которого не внушал ничего хорошего, он не знал, что делать. Но честно ответил: «Я непрофессиональный самурай, хотя и одет, как он; я мастер чая, и что касается искусства фехтования, то совсем не готов стать вашим противником». Но поскольку в реальности ронин хотел вытрясти деньги из жертвы, слабость которой теперь столь очевидно проявилась, он только еще сильнее принялся настаивать на поединке с чайным мастером из Тоса.
Убедившись, что уклониться от поединка с этим злонамеренным ронином невозможно, чайный мастер смирился с тем, что ему суждено погибнуть под ударами вражеского меча. Но он не хотел умирать недостойной смертью, поскольку это наверняка набросило бы тень на честь его господина. Внезапно он вспомнил, что за несколько минут до того проходил мимо какого-то учебного центра фехтования, который находился возле парка Уэно, и подумал, что мог бы туда сходить и попросить мастера показать, как обращаться с мечом в таких случаях, а также спросить, как достойно встретить неизбежную смерть. Он сказал ро- нину: «Если вы так настаиваете, мы попробуем испытать свое умение в фехтовании. Но поскольку я сейчас выполняю поручение своего господина, то должен сперва доделать его. Это займет некоторое время, а потом я вернусь к вам. Вы должны дать мне время».
Ронин согласился. Итак, чайный мастер поспешил в фехтовальную школу, замеченную им прежде, и, подойдя к воротам, сказал сторожу, что очень хотел бы встретиться с мастером меча. Сторож не был склонен пускать его, потому что посетитель не имел разрешения. Но, заметив серьезность намерений чайного мастера, которая чувствовалась в каждом его слове, в каждом движении, он согласился пропустить его к мастеру.
Мастер спокойно выслушал всю историю чайного специалиста, выразившего желание умереть, как подобает самураю. Фехтовальщик сказал: «Ученики, которые приходят ко мне, всегда стремятся узнать, как пользоваться мечом, а не как умирать. Вы же — уникальный случай. Но прежде чем я обучу вас искусству умирания, заварите мне по-дружески чашечку чая, ведь вы же говорите, что являетесь чайным мастером». Мастер чая из Тоса был очень рад заварить для него чай, ведь, по всей вероятности, он в последний раз практиковал свое искусство по зову сердца. Фехтовальщик пристально наблюдал за чайным мастером, выполнявшим необходимые действия. Совершенно забыв о надвигающейся трагедии, чайный мастер безмятежно занимался любимым делом — приготовлением чая. Он исполнил все элементы чайной церемонии так, как если бы это было единственное занятие, которое больше всего на свете интересовало его в тот момент. Мастер меча был глубоко потрясен сосредоточенностью чайного специалиста, из сознания которого исчезли все поверхностные треволнения, присущие обыденному сознанию. Он преклонил колено в знак искреннего уважения и воскликнул: «Вот вы какой! Вас нет нужды учить искусству умирать. Состояние ума, в котором вы теперь находитесь, достаточно для того, чтобы справиться с любым фехтовальщиком. Когда вы увидите вашего головоре- за-ронина, поступайте так. Прежде всего думайте, что собираетесь заварить чай для гостя. Вежливо приветствуйте его, извинитесь за задержку и скажите ему, что теперь вы готовы к бою. Снимите свое хаори [верхнее платье], тщательно сложите его, а потом положите на него свой веер, как обычно вы делаете, принимаясь за работу. Потом перевяжите голову тэ- нугуи [аналог полотенца], перехватите рукава веревкой и подберите хакама [рубашку]. Теперь вы готовы к тому, чтобы немедленно приступить к бою. Вытащите меч, поднимите его высоко над головой в полной готовности обрушить его на противника и, закрыв глаза, сосредоточьтесь на поединке. Когда услышите вопль противника, бейте его мечом. Вероятно, ваша схватка завершится взаимным истреблением». Чайный специалист поблагодарил мастера за наставления и вернулся обратно на место, где он должен был встретиться с противником.
Он скрупулезно исполнил все, что ему посоветовал фехтовальщик, оставаясь в том же состоянии сознания, в котором обычно готовил чай для своих друзей. Когда, смело встав перед ронином, он поднял меч, тот увидел совершенно другого человека. Ронин не имел возможности издать вопль, потому что не знал, откуда и как атаковать мастера чая, который теперь стоял перед ним как воплощение бесстрашия, то есть бессознательного. Вместо того чтобы наступать на противника, ронин стал отступать шаг за шагом, в конце концов закричав: «Хватит, хватит!» Отбросив меч, он простерся на земле и униженно стал просить прощения у чайного мастера за свою грубую настойчивость, а потом поспешно покинул поле боя.
По поводу достоверности этого случая я не могу сказать ничего определенного. Меня интересует только распространенная вера, заметная в этой истории и в других, похожих на нее: это вера в то, что в основе всякой практической техники или методологических деталей, необходимых для овладения искусством, лежат некоторые интуиции, которые непосредственно ведут к тому, что я называю космическим бессознательным. Все эти интуиции, принадлежащие к различным искусствам, не должны рассматриваться как индивидуально несовместимые или неродственные друг другу, их следует воспринимать как ответвления единой глубинной интуиции. Вообще японцы твердо верят в то, что различные частные интуиции, которых достигают фехтовальщик, чайный мастер, а также специалисты в других областях искусства и культуры, суть лишь конкретные воплощения единого великого переживания. Эта вера еще не изучена в той мере, чтобы под нее можно было подвести научное обоснование; но бесспорно признается то, что это глубинное переживание является проникновением в само бессознательное, источник всяких творческих способностей, всех художественных порывов. Бессознательное — это Реальность, стоящая над всеми формами изменчивости, пребывающая за пределами океана сансары, рождения-и-смерти. Дзэнские мастера, выводя свою философию из буддийской доктрины шу- ньяты и праджни, описывают Бессознательное как жизнь, то есть как рождение-и-смерть, которые в действительности не являются рождением-и-смертью. Таким образом, для дзэнских мастеров конечная интуиция — это выход за пределы рождения-и-смерти и достижение состояния бесстрашия. Сатори человека должно созреть до этого, и тогда смогут явиться чудеса. Ведь тогда Бессознательное позволит своим
привилегированным ученикам, мастерам различных искусств, увидеть всю бесконечность своих творческих способностей.
Ямаока Тэссю
Ямаока Тэссю (1836—1888), великий фехтовальщик и последователь дзэн, обучал своих учеников в стиле, характерном для его понимания дзэн. На внешний взгляд, его метод состоит в том, чтобы приводить учеников к состоянию истощения, как физического, так и умственного. Когда они входят в это состояние и уже совершенно не способны воспрянуть снова, мастер подает некий внешний импульс, который, действуя на учеников как электрошок, неожиданно открывает в них новый источник энергии, дотоле скрытой. Этот источник в целом можно понять как бессознательное, а в случае фехтования он, вероятно, совпадет с инстинктом самосохранения, хотя и не в его обычном биологическом смысле. Инстинкт обыкновенно тесно связан с представлением, идеей. Идея действует в нашем сознании подобно самому инстинкту, а значит, со всей жизненностью, присущей инстинкту, и при этом усиливается эмоционально благодаря свободным ассоциациям.
Когда инстинкт, особенно в его чисто онтологическом аспекте, действует без какого-либо вмешательства со стороны идеи, не существует ничего, что могло бы помешать его врожденной жизненной силе. Но когда концепции окутывают и обусловливают его, он колеблется, озирается и пробуждает ощущение страха в его различных видах, и спонтанная, слепая сила инстинкта обуздывается, разрушается. С момента пробуждения сознания человек превратился в концептуальное существо, которое в своем повседневном бытии имеет дело с абстрактными идеями. К самой жизни он теперь относится с концептуальных позиций. Хотя инстинкты и не подавлены, они многое утратили из своей исконной беспрепятственности, что порождает импульс к насильственным действиям. По крайней мере в одном случае инстинкт «сублимируется» и его цветы украшают различные сферы человеческой культуры. Я имею в виду области интеллекта и бытовой пользы, там концептуализация дала большие результаты. Но в других областях, в которых жизненные реалии, включая разнообразные инстинкты, должны восприниматься непосредственно, без мешающих посредников, так, как они существуют в своем состоянии таковости, наша привычка к выстраиванию концепций приносит большой вред. Этот вред главным образом выражается во всевозможных умственных болезнях и случаях духовной незащищенности (вероятно, сюда можно включить и случаи юношеской преступности), которые беспокоят современных людей. А ситуации, которые случаются в фехтовании, столь остры и не-посредственны (в смысле без «посредника»), что это не позволяет возникать концептуальным, сознательным интеллектуальным ухищрениям. С какой бы молниеносностью ни мелькал меч, но, когда ему мешает деятельность интеллекта, пусть и чрезвычайно недолго, время оказывается упущенным и враг получает шанс (суки) уничтожить вас. Фехтовальщик имеет дело с реальностью, а не с концепциями. Отсюда его интерес к дзэнской практике, о чем уже говорилось в разделах об Одагири Итиуне и Ягю Тадзима-но ками.
Господин Огура Масацунэ, один из моих друзей, большой авторитет в японском фехтовании, пишет в своих воспоминаниях[105] о том, как тренировал своих учеников Ямаока Тэссю. Огура примерно так говорит о некоем своем знакомом, который лично учился у Ямаока.
Ямаока применял учение дзэн к своей философии фехтования и в обучении побуждал своих учеников открыть в собственном внутреннем опыте значение «меча не-меча», которое основывалось на теории абсолютной идентичности, провозглашенной дзэнскими учителями. Он изобрел то, что стало известно как сэйган-гэйко. «Сэйган» — буддийский термин, означающий «обет», или «молитву», а гэйко, или кэй- ко, — это «дисциплина»; это его изобретение также именуется татикири-гэйко [106] или кадзу-гэйко.[107] Оно состоит в том, что надо участвовать в одном поединке за другим почти беспрерывно; впрочем, их число обычно ограничивается сотней по утрам и сотней днем. Те, кто возымеет желание пройти это испытание, сообщат о своем желании мастеру, но разрешение будет нелегко получить, потому что мастер знает, что испытание это — одно из самых суровых, только самый сильный и смелый способен выдержать его до конца. Когда разрешение все-таки получено, дается открытое объявление, так что все желающие могут испытать кандидата. Испытание может продлиться от трех дней до недели. Поскольку кожа на пальцах и руках, хотя ее и защищают перчатки, может покрыться трещинами и быть стертой до крови, то внутрь перчаток еще засовывают мягкий шелк. Кандидат должен сохранять стойкость во всех поединках, по мере того как на него один за другим, без перерыва, наступают все новые и новые соперники.
Первый день кандидат полон бодрости, на второй он начинает чувствовать усталость, а на третий его руки и ноги деревенеют, и он едва способен держать меч (сделанный из расщепленного бамбука) должным образом. В то время как он должен вытягивать его на уровне глаз противника, он обнаруживает, что перестал владеть собственными органами и его меч удерживается им в вертикальном положении. Что касается его диеты, то он может теперь принимать только полужидкую или жидкую пищу, и его моча приобретает красноватый оттенок.
Господин Огура ссылается здесь на одного такого кандидата, Кагава Дзэндзиро, который был первым претендентом, прошедшим через испытание, и описывает свой опыт примерно так:
«На утро третьего дня этих напряженных упражнений я едва мог подняться с постели, так что мне пришлось просить помощи у жены. Когда она пыталась поднять меня, то чувствовала, будто поднимает безжизненный труп, и даже бессознательно убрала свои руки, когда коснулась моей спины. Потом я ощутил, как ее слезы капают на мое лицо. Ожесточившись на себя в высшей степени, я запретил ей быть столь мягкосердечной. Кое-как я сумел с ее помощью приподнять верхнюю часть тела.
Мне пришлось взять трость, чтобы добраться до тренировочного зала. Также я вынужден был воспользоваться помощью, чтобы одеть свое защитное облачение. Как только я принял позицию, соперники начали заполнять зал. Через какое-то время я заметил, как к мастеру подошел человек, желая получить у него разрешение принять участие в состязаниях. Мастер дал ему разрешение. Я посмотрел на вошедшего и сразу узнал в нем того, кто был известен своим мошенничеством: пренебрегая обычаями фехтования, он мог прижать своим бамбуковым мечом обнаженное горло соперника, выступавшее из-под защитного воротника, и удерживать меч в таком положении даже после того, как тот в знак его победы описывал круг мечом над его головой.
Когда я увидел, как он приближается ко мне, то подумал, что это моя последняя битва, ибо я вряд ли бы выжил после такого поединка. Благодаря этой ре- шимости я почувствовал в себе прилив новой энергии. Я стал совершенно неузнаваем. Мой меч принял правильное положение. Я приблизился к сопернику, полностью ощущая свой новый внутренний порыв, и, подняв меч над головой, был готов обрушиться на него одним ударом. В этот момент раздался властный приказ мастера остановиться, и я опустил свой меч».
По словам Огура, Кагава добавил, что Ямаока в этот момент увидел, что его ученик пришел к реализации «меча не-меча».
Действительно, фехтовальщику под руководством Ямаока Тэссю пришлось выдержать весьма нелегкое, изнурительное испытание. Тэссю знал на своем долгом опыте изучения дзэн, что человек должен однажды умереть в своем обыденном сознании, чтобы пробудить в себе бессознательное. Фехтовальщик — это обычно человек большой физической мощи, способный вынести тяжелые физические упражнения, при этом его ум не столь интенсивно занят решением разнообразных метафизических проблем, как ум последователей дзэн. Поэтому физический метод можно считать единственно возможным в случае с фехтовальщиком, искренне желающим овладеть искусством. Таким образом, «великая смерть», о которой дзэнские люди говорят столь много, также должна быть пережита им.
9
Приведенные исторические примеры дают нам достаточно материала, чтобы прийти к следующему заключению: когда человек настроен умереть, то есть когда мысль о смерти исчезает из поля его сознания, в нем возникает, или, скорее, приходит к нему извне, присутствие чего-то такого, чего он никогда не осознает, и когда странное «что-то» начинает инстинктивно направлять его деятельность, случаются чудеса.
Эти чудеса называются мё. Мё, таким образом, в чем-то родственно инстинкту. Когда жизнь не обусловливается интеллектуально, а значит, и сознательно, она заботится о самой себе почти автоматически, как при физиологическом функционировании органического тела.
Может возникнуть вопрос: каждое живое существо инстинктивно ненавидит смерть, как же мы способны принять сознательное решение умереть? Действительно, даже в самый критический момент, когда смерть неизбежна, мы отчаянно пытаемся спасти себя. Мы умираем только тогда, когда сил уже не остается. Суицид — это, скорее, отклонение от нормы. Но в случае с человеком, который совершает самоубийство, видно, что для него есть что-то более достойное, чем жизнь, о сохранении которой мы больше всего печемся. Однако мы можем спросить: разве не только лишь свою сознательную мысль о смерти мы можем уничтожить, в то время как наше внутреннее желание жить продолжает существовать в нашем Бессознательном? Когда мы искоренили сознательное желание жить, мы воображаем, будто желаем умереть, но разве при этом мы бессознательно все-таки не желаем жить? Однако можно напомнить о низших животных и растениях, которые, не сознавая того, утверждают жизнь: они просто продолжают жить и стремятся продлить подобное положение бессознательно. Мы, человеческие существа, осознаем это стремление и поэтому порождаем всевозможные фантазии о жизни и смерти. И разве не эти фантазии, или, строго говоря, не это омрачение, создают в нас различные поводы для беспокойств, страхов, горестных предчувствий? Когда это омрачение удалено, разве жизнь сама не позаботится о собственном благе, о том, что она считает лучшим? И разве не этим способом фехтовальщик позволит своему инстинкту сохранения жизни действовать в полном соответствии
15 Д. Судзуки с Природой? Освободившись от человеческого вмешательства, которое состоит главным образом в сознательной интеллектуальной деятельности и самообмане, Природа знает, как лучше действовать. Несомненно, чрезвычайно трудно стереть идею смерти с поля сознания, но нет причины, почему мы не можем это сделать, если видим, что сознательное поле — это то, что мы преднамеренно культивировали, коллективно и индивидуально. Мы нуждаемся в сильной, решительной воле, которой помогает интуиция, но нам известно, что волю можно культивировать. Жизнь фехтовальщика особенно связана с подобной формой практики. Интеллектуальное понятие смерти, которое мы обыкновенно признаем, он удаляет из сферы сознания и позволяет инстинкту самосохранения выдвинуться вперед, чтобы тот потом занял все пространство бессознательного. Теперь инстинкт абсолютно необусловлен, отсутствуют помехи, созданные интеллектуальными и эмоциональными факторами. Но не только это: он знает, как воспользоваться техническими приемами, которым сознательно обучился человек. Когда впоследствии фехтовальщик размышляет обо всем происходящем, он очарован чудесными достижениями, осуществленными не столько сознанием, сколько внешним агентом. Я полагаю, что в целом такова психология совершенного фехтовальщика.
«Неподвижный ум», упоминаемый в ряде трактатов по фехтованию, возможно, есть то же, о чем говорит и Такуан в письме к Ягю 7 адзима-но ками, своему мирскому ученику и одновременно — наставнику правящего сёгуна Иэмицу. Но рассуждения Такуана глубже, чем фехтовальщика: последний останавливается на психологической ступени, тогда как Такуан, будучи дзэнским мастером, созерцает самый исток вещей, исток, который мы могли бы назвать метафизическим, или космическим бессознательным, — хотя
этот термин и может быть неверно понят из-за своего психологического оттенка. Интуиция фехтовальщика ограничена. Вот он держит меч; сталкивается с оппонентом или оппонентами; видит, что его жизнь висит на волоске, хотя вовсе и не боится встретиться с опасностью лицом к лицу; его инстинктивное желание жить, хотя и бессознательное, не исчезает; он еще не достиг состояния пустоты, которое наступает тогда, когда резервуар алаявиджняны полностью исчерпан. Он действует великолепно, когда дело касается его непосредственного занятия. Но когда он возвращается к своей повседневной обыденной жизни, то возвращается и его повседневное сознание, и тогда он — снова обычный человек, со всеми своими желаниями, привязанностями и треволнениями.
Дзэнский мастер отличается в этом от фехтовальщика. Его начала лежат в фундаментальной проблеме реальности, в предельном значении жизни, в тотальности своей личности. Фехтовальщик также сталкивается с вопросом жизни и смерти, который почти покрывает всю сферу существования; но только когда он чувствует непреодолимый порыв продвинуться еще глубже, он и дзэнский наставник начинают идти вместе по пути к высшей реальности. Фехтовальщик останавливается на пороге инстинктивного Бессознательного, тогда как последователь дзэн движется до тех пор, пока целая вселенная, или, скорее, вся пустота пространства, не разбивается на куски. Ягю Тадзима-но ками прав, когда пишет:[108]
«Ум (кокоро) есть сама пустота (ку, кун, шуньята), но из этой пустоты производится бесконечность поступков: это она схватывает руками, передвигается ногами, видит глазами и т. д. Этим Умом необходимо в какой-то момент научиться управлять, хотя в реальности очень трудно приобрести этот опыт — ведь его нельзя получить, просто обучаясь или просто слушая других о нем. Фехтование состоит в том, чтобы лично пройти через этот опыт. Когда это совершено, слова человека воплощают саму искренность, и мотивы его поведения исходят непосредственно из Изначального Ума, очищенного от всех эгоцентрированных идей. Ум, которым мы обычно обладаем, омрачен, но Изначальный Ум чист — это само дао.
Я говорю так, словно сам пережил все это, однако в реальности я далек от человека дао. Я пишу об этом просто потому, что человеческая жизнь должна следовать этому представлению об Уме. Мы, будучи фехтовальщиками, должны использовать это знание по крайней мере в упражнениях своего искусства, коль не способны применять его на каждой ступени своей жизни».
Ягю Тадзима-но ками достаточно откровенно признается, что все еще не сумел постичь Ум как пустоту, хотя и достиг при этом высот в области фехтования. Он наверняка досконально изучил наставления, которые ему дал его дзэнский учитель Такуан. Такуан был прославленным наставником дзэн. Возможно, он никогда не обучался фехтованию как потомственный самурай, однако несомненно, что он мог взять меч в руки и на равных сразиться с кем-нибудь из знатоков этого искусства, включая Ягю, который в ту эпоху считался лучшим фехтовальщиком Японии. Однако и сам Ягю, должно быть, понимал, что в реальности он не мог бы сопротивляться Та- куану; это мы можем заключить на основании письма, которое он написал своим лучшим ученикам по фехтованию, а также на основании некоторых других источников, которые упоминают поединки дзэнских мастеров с профессиональными мастерами меча.*
В этой связи рукопись Одагири Итиуна по фехтованию, о которой уже много говорилось выше, становится более понятной. Я имею в виду название его школы, которое намекает на философию махаянского направления буддизма, особенно на философию дзэн. Одагири Итиун, или, скорее, Хария Сэкиун, который был учителем Итиуна и основателем школы, называл ее «меч не-пребывающего Ума» (мудзу- син-кэн). Это название намекает на буддийский ма- хаянский текст Вималакирти сутра (Юима кё), который часто использовался последователями дзэн. Сутра описывает высший источник всех вещей как «не-пребывание». «Не-пребывание», или «отсутствие места для пребывания чего бы то ни было», означает, что высший источник всех вещей находится за пределами человеческого понимания, за пределами времени и пространства. Так как оно превосходит все формы относительности, оно называется «отсутствие пребывания» и к нему неприложимы никакие определения. Поэтому меч, используемый последователями его школы, является не обычным мечом, имеющим некую форму или по крайней мере конкретно предназначенную форму. Будучи фехтовальщиками, они несомненно держат меч в руках, когда сталкиваются с реальным противником, но этот меч таков, что его форма бесформенна. Когда враг оказывается перед ним, он не знает, как воспринимать его, не способен уследить за его движениями, и, прежде чем сможет приспособиться к нему, он разгромлен. Противник никогда не может понять, каким образом все это произошло, потому что, едва он появляется перед этим «не-пребывающим» мечом, его голова больше не принадлежит его плечам.
Читатель спросит: что же это за «меч не-пребывания»? Разве не настоящий меч фехтовальщик держит в руках, разве не он может окровавить нас, когда мы дотронемся до его острия?
Национальный наставник Букко (1226 —1286), основатель монастыря Энгакудзи в Камакура, прибыл в Японию по приглашению Ходзё Токимунэ в 1279 г. Когда он еще находился в Китае, его жизнь подверглась угрозе со стороны солдат монгольской армии, заполонившей Южный Китай. Относясь к религии без уважения, они были готовы растерзать даже одинокого монаха, посвятившего себя медитации. Монах, ничуть не обескураженный, прочитал им свое стихотворение:
Во всем мире нет места.
Куда можно вставить даже палочку;
Я вижу пустотность всего — нет объектов,
нет живых существ.
Я восхищаюсь мечом Великой Юань длиной
в три фута:
[Когда он рубит], то подобен прорезанию
весеннего бриза
Вспышкой молнии.
Меч в руках монгольских воинов был для дзэн- ского монаха подобен дуновению ветра. Он просто просвистел бы над его головой, ибо его, монаха, реальная суть, наполняя весь мир, всегда остается неизменной — ни мечи, ни снаряды никогда не могут задеть его. Солдаты были не способны понять, что все это значило, и, говорят, они оставили этого безумного монаха целым; возможно, они побрезговали его «неподвижностью» .
«м еч Великой Юань», с дзэнской точки зрения, был «мечом не-пребывания», неважно, держала ли его рука врага или союзника. Разница между Букко и Итиуном в том, что последний держит меч в своих руках, тогда как Букко готов погибнуть под его уда- ром; один — субъект, а другой — объект. Для Итиуна, равно как и для Букко, взмах меча — словно колыхание воздуха, шелест ветра.
В одном из стихотворений, сочиненных Фудайси (Фуси, 497—569), жившим во времена династии Лян, мы читаем:
Я держу лопату в руках, и все же не держу;
Я гуляю, и все же скану на буйволе.
Что за лопату можно держать в руках и все же не держать ее? Это не что иное, как «меч не-пребывания». Садовый инвентарь Фудайси и меч Итиуна, дающий жизнь, не отличаются друг от друга: оба они происходят от Ума, который не является Умом. Лопата Фудайси была некогда в руках Адама, когда он еще находился в саду Эдема; меч Итиуна — это меч в руках Ачалы (Неподвижный), а также меч Прадж- ни в руках бодхисаттвы Манджушри. Он убивает, но все же приносит жизнь, хотя это зависит от уровня понимания человека, который приближается к нему.
Бандзан Ходзаку (Пань-шань Бао-цзи) был одним из великих учителей дзэн эпохи Тан. Однажды он сказал: «[Дзэн] подобен взмаху мечом в воздухе, когда не спрашивают, поразит он предмет или нет; воздух не раскалывается, меч не разламывается». По другому поводу он сказал: «Нет дхарм [то есть объектов] в тройственном мире, где же мы будем искать Ум? Четыре элемента изначально пусты, где же Будда найдет себе пребывание? Небесная ось остается неподвижной, все спокойно, никакие слова не произнесены. Это предстает прямо перед вами, ничего больше делать не надо».
Докё Этан (1641 —1721), который лучше известен как Сёдзю Ронин («старый господин Сёдзю»), был учителем Хакуина (1685 —1768), одного из ве- дичайших дзэнских мастеров Японии нового времени. Однажды Сёдзю Ронина посетил некий фехтовальщик.[110] Он признался ему:
«Я учился обращаться с мечом с юных лет. Двадцать лет я усердно изучал это занятие у наставников из различных школ. И я владею всеми их секретами. И теперь мне очень хочется основать собственную школу и возглавить ее. Несмотря на ревностные поиски высшего принципа новой школы, я не сумел ухватить его. Все мои усилия осознать высшее мё до сих пор были тщетны. Не могли бы вы показать мне путь к нему?»
Внимательно выслушав его, Сёдзю Ронин встал с сидения и трижды ударил фехтовальщика обоими кулаками, вложив в удары всю силу. Более того, Ронин свалил его на пол. Действительно, это было грубое обращение, но оно произвело нужный эффект на фехтовальщика, потому что он в итоге обрел сатори. Говорят, что этот опыт открыл для него новые перспективы в его искусстве.
Слухи об этой встрече вызвали волнение среди фехтовальщиков соседних провинций. Они стали посещать Сёдзю Ронина, интересоваться, как применить дзэнские приемы в своей профессии. Однажды они пригласили Сёдзю Ронина на чай и посмотреть на их поединки друг с другом. Потом они сказали: «Вы — великий мастер дзэн, и что касается теории, вам нет равных. Но если речь пойдет о практическом владении мечом, мы боимся, что вы не сумеете нас одолеть».
Сёдзю Ронин сказал: «Если вы хотите сокрушить меня, пожалуйста, бейте, но, боюсь, что вы не сможете».
Фехтовальщики обменялись многозначительными взглядами и сказали: «Не позволите ли вы вступить в поединок с вами?»
Ронин согласился.
Они встали и были готовы сразиться на мечах с дзэнским мастером. Однако последний отказался брать меч и сказал: «Я буддист. Вот сковородка, пусть она и станет моим оружием. Бейте, если готовы. Если справитесь, я соглашусь, что вы хороши в фехтовании».
Высоко поднимая мечи и издавая громкие крики, они пытались всеми силами ударить мастера. Но его сковорода мелькала повсюду, так что их оружие не могло даже задеть его. В конце концов они признали свое поражение.
Позже какой-то монах спросил Сёдзю Ронина: «Что касается дзэн, не скажу ничего, но как вам удалось справиться с их мечами?»
Ронин сказал: «Если достичь правильного понимания, то не будешь знать помех, ведь его можно применить ко всему, в том числе и к обращению с мечом. Обычные люди интересуются именами. Как только они услышат какое-то имя, различение застилает им разум. Но имеющий истинное воззрение видит каждую вещь в ее подлинном свете. Когда он видит меч, то сразу видит и способ, которым тот действует. Он сталкивается с множественностью вещей, но все-таки не теряется».
Господин Такано Сигэёси, которому ныне уже восемьдесят лет, — один из величайших японских фехтовальщиков нового времени. В написанном им недавно небольшом эссе о бамбуковом мече[111] Такано затрагивает тему психологии фехтования.
«Когда у меня есть бамбуковый меч, который наилучшим образом подходит ко мне по своему весу, форме, стилю и тому подобному, я могу легче входить в состояние идентичности, и тогда мое тело и меч, который я держу, становятся одним целым. Разумеется, как только начинаешь думать о победе в поединке или о том, как показать собственную искусность в технике, фехтование становится никуда негодным. Когда же все эти мысли исчезают, в том числе мысль о теле, то можно осознать единство, в котором ты — это меч, а меч — это ты, ведь между тобой и им больше нет различий. Это называется состоянием му- га («не-эго», «не-ум»). Возможно, оно соответствует тому, что в буддизме понимается под «пустотой». Именно тогда все мысли и чувства, которые наверняка помешают свободному проявлению любых технических навыков, полностью очищаются и человек возвращается к своему «изначальному уму», освобожденному от своих телесных оболочек.
Иногда, когда я наблюдаю, как актер-марионеточ- ник полностью сосредоточивается на своем выступлении, я чувствую, что его сознание достигает того же уровня, что и у фехтовальщика. Тогда он не осознает различий между собой и куклой, которой он манипулирует. Когда мастер вступает в состояние пустот- ности, игра на самом деле становится искусством. Некоторые, возможно, найдут различия между кукольником и фехтовальщиком, поскольку последний сталкивается с живым человеком, который в любой момент готов уничтожить его. Но я думаю иначе: как только оба они реализовали состояние идентичности,
то должны действовать похожим образом, независимо от своих целей.
Когда идентичность реализована, я как фехтовальщик уже не вижу противника, противостоящего мне и угрожающего мне. Кажется, что я трансформирую себя в противника, и каждое движение, которое он делает, как и каждая мысль, которую он вынашивает, становятся как бы моими собственными, и я интуитивно, или, скорее, бессознательно, знаю, когда и как ударить его. Все кажется таким естественным».
То, что я назвал бы такановской «сверхпсихологией» самоидентичности, хорошо описывает сознание совершенного фехтовальщика, когда он в реальном поединке встречается с противником. Если фехтовальщик сознает то, что держит меч или что он стоит напротив кого-то и намерен использовать все технические приемы фехтования, которым он выучился, то он не является совершенным мастером. Он должен забыть, что у него есть какое-то индивидуальное тело, называемое «Такано», и что часть этого тела держит меч, который он должен применить против другого индивидуального тела. В реальности у него нет меча, нет тела. Но это не значит, что все провалилось в ничто, — нет, ведь здесь остается нечто, которое активно движется, действует и думает. Это то, что Такано и другие фехтовальщики, даосские и буддийские философы именуют «изначальным умом» (хонсин), или «умом ребенка» (акаго-но кокоро), или «истинным человеком» (синдзин; чжэнь-жэнь по-китайски), или «совершенным человеком» (сид- зин; чжи-жэнь), или «изначальным ликом» (хон- рай-но мэммоку, бэнь-лай мянь-му).
Эта таинственная «несуществующая» сущность «думает и действует», не думая и не действуя, поскольку, согласно Такано, «она» любую мысль, которая появляется в уме «того, кто стоит напротив», вос
принимает так, как если бы то был ее собственный ум, и потому «она» действует соответствующе. Разумеется, «она» — это не она, но в то же время и не не-она, как нам привычно было бы считать в нашем мире противоположностей. Когда эта не-она действует, то не знает, «она» это или не-она. Когда все завершается, «изначальный ум» возвращается обратно к себе, то есть к своему собственному сознанию, и это называется пробуждением «одной мысли» (итинэн), отделением света от тьмы, или субъекта от объекта, возникновением дихо- томичного мира. Это то, что Ашвагхоша, автор* Пробуждения веры,[112] называет «внезапным пробуждением мысли» (ху-жанъ нянь ци — по-китайски; коцу- нэн нэнки — по-японски). Это ситуация, в которой оказываются Такано или Ягю Тадзима-но ками, Одагири Итиун или Миямото Мусаси, — стоять с мечом перед так называемым «врагом».
Стихотворение Эмерсона «Брахма» прекрасно иллюстрирует психологию совершенного фехтовальщика:
Убийца мнит, что убивает,
Убитый мнит, что пал в крови, —
Ни тот и ни другой не знает,
Куда ведут пути мои.
Забвенье, даль — мои дороги,
Мне безразличны тьма и свет;
Во мне — отверженные боги,
Величий и падений след.
Кто прочь стремится в самомненье.
Тому я сам даю полет;
Я искуситель и сомненье,
Тот гимн, что мне брамин поет.
Ко мне стремятся боги тщетно,
Священных Семь, — но в тишине Добро творящий незаметно Придет и без небес ко мне!
Бог создает мир и восклицает: «Это хорошо». Бог не совершает никакого нравственного или безнравственного поступка. Это просто «хорошо». И эта «хоро- шесть» вещей — таких, какие они есть, — в терминологии японского дзэн и в синто называется соно-мама.
Следующий пассаж, парафраза из Чжуан-цзы (гл. XIX), может показаться небезынтересным.
Некий человек по имени Сонкю (Сунь-сю) прибыл к Хэнкэйси (Бянь Цин-цзы) и сказал: «Когда я жил в родном селении, я усердно следовал стезей добродетели, никогда не избегал никаких трудностей. Но все-таки, когда я работал на полях, они не давали хороших урожаев; когда я служил своему господину, он не показывал мне расположения. Меня изгнали из родных мест, запретили жить в моей провинции. Какие грехи я совершил против Неба? Какие испытания должен еще претерпеть?»
Хэнкэйси ответил: «Вы никогда не слышали о том, как совершенный (чжи-жэнъ) ведет себя? Он забывает о своих внутренностях, он не осознает собственного телесного существования. Он странствует вдалеке от мира омрачений, словно и не принадлежит ему, он занимается всеми деяниями, в то же время не занимаясь ими вообще. Как говорят, „работа сделана, поэтому не вспоминай о ней; позволяй вещам самим развиваться, не полагаясь на авторитет”. Но вы выставляете напоказ свой ум, что отпугивает людей простых; вы показываете свою добродетель, что делает видимыми изъяны в других. Вы так же исполнены блеска, как солнце или луна. А лучше бы радовались, что ваше тело с его девятью отверстиями в сохранности, что вам не выпала судьба оказаться глухим, слепым или хромым, что вы вообще имеете человеческий облик. Зачем вам роптать против Неба? Уходите прочь!»
Я бы хотел отметить еще один важный момент в этих размышлениях о фехтовании, высказанных различными авторами: японский фехтовальщик всегда помышляет не о собственной защите, но только об атаке, поэтому ему изначально советуют не рассчитывать на то, что он может выйти из боя живым. Особенно ясно это выразил Одагири Итиун, который рекомендует своим ученикам выходить к противнику с идеей ай-ути, то есть не имея мыслей о том, чтобы остаться в живых после битвы. Возможно, эта тактика постоянного полагания на нападение, а не на защиту является типично японской чертой и позволяет объяснить обычай японских фехтовальщиков использовать обе руки для держания меча, а не для обороны. Не знаю, насколько в глубь истории японского оружия уходит эта традиция. В любом случае примечательно то, что японский меч имеет длинную рукоять — явно для того, чтобы воин мог ухватить ее обеими руками и обрушиться на врага со всей своей силой.
Нападать на врага, используя силу обеих рук, означает, что человек во всех обстоятельствах настроен на сокрушение врага, безотносительно к своей безопасности, абсолютно отрешаясь от мысли о смерти или страха смерти. Если в уме человека сохраняется хотя бы слабая мысль о ней, он никогда не сможет занять верную позицию, ведь им еще руководит негативное сдерживание, принадлежащее к инстинкту самосохранения. Проблема смерти с самого начала должна быть отсечена. Ягю Тадзима-но ками настойчиво советует фехтовальщику оставаться бесстрашным или даже пренебрежительным по отношению к возможности благоприятного исхода. Как только фехтовальщик встает перед своим противником, он должен целиком отождествить себя с мечом в собственных руках и позволить мечу действовать так, как тот того хочет.
С психологической точки зрения, меч теперь символизирует бессознательное в личности фехтовальщика. Последний движется в таком случае словно автомат. Он больше не принадлежит себе. Он отдался влиянию того, что находится за пределами его обыденного сознания, — глубоко сокрытому в нем бессознательному, чье присутствие он дотоле не сознавал. Но следует помнить, что это состояние сознания нелегко реализовать, ведь человеку надо пройти этапы серьезной дисциплины, причем не только нравственной, но и глубоко духовной. Как говорит Итиун, первоклассный фехтовальщик должен быть и «совершенным мужем»; он должен стать не только значительным мастером в своей профессии, но и во всех отношениях высоконравственным человеком. Мастер меча обязан быть больше чем просто техничным фехтовальщиком, который может думать только о том, как раскрыть свои навыки в искусстве убивать. Пока «технику» не терпится демонстрировать свое искусство, он никогда не выйдет победителем из боя. Поединок некоего Умэдзу с Тода Сэйгэном[114] дает нам пре
красный пример печальной судьбы, выпавшей на долю несовершенной личности, и этот поединок также показывает, что меч, в сущности, есть символ духовности, а не орудие бессмысленного убийства.
Фехтовальщик Умэдзу, живший, вероятно, в начале XVII в., был известен своими достижениями в области искусства фехтования и сам об этом знал. Когда он услышал, что Тода Сэйгэн прибыл в Мино, где Умэдзу преподавал это искусство, он попытался вызвать его на бой. Однако Сэйгэн совсем не горел желанием принимать вызов. Он сказал: «Меч следует применять только тогда, когда надо наказать преступника или когда задета честь. Ни один из нас не преступник, и никто не задел честь другого. Какой же смысл устраивать поединок?» Умэдзу принял эти слова за стремление Сэйгэна избежать схватки. Он стал еще более самонадеянным и во всеуслышание заявил о своем превосходстве.
Сайто Еситацу, правитель Мино, прознал об этом вызове и, заинтересовавшись им, отправил двух слуг к Сэйгэну вежливо просить его согласиться на поединок. Но Сэйгэн отклонил это предложение. Просьбу повторяли трижды. Наконец, не находя возможным отказываться, Сэйгэн согласился. Был избран третейский судья, выбраны место и время.
Умэдзу подошел к предстоящему поединку очень серьезно: он посвятил две ночи и три дня на то, чтобы исполнить религиозный ритуал очищения. Кто-то предложил и Сэйгэну последовать этому примеру. Но тот преспокойно отказался, сказав: «Я всегда следовал сердцу искренности. Его мне не дадут боги в случае крайней необходимости. У меня нет желания кому-то навредить. Я просто принял вызов, потому что подумал, что, в конце концов, нехорошо так долго отказываться, когда просит сам правитель провинции».
Когда наступил назначенный день, оба участника появились в выбранном месте. Умэдзу сопровождало
большое количество его учеников. Он нес деревянный меч длиной в три фута и шесть дюймов, тогда как у Сэйгэна был короткий меч, длиной в один фут и три дюйма.[115] Затем Умэдзу попросил судью разрешить использовать настоящие мечи. Один из них был передан Сэйгэну, который, однако, отклонил предложение, сказав, что если Умэдзу желает, то может использовать в предстоящем поединке настоящий меч вместо деревянного; что до него, Сэйгэна, то он доволен и своим коротким деревянным мечом. Судья решил, что у каждого должен быть деревянный меч, а не стальной, а размер мечей может остаться на усмотрение противников.
Оба теперь были готовы к бою. Умэдзу со своим длинным оружием действовал словно разъяренный лев, пытаясь сокрушить врага одним ударом. Сэйгэн же выглядел почти неподвижным, напоминая полусонного кота, который готовится поймать мышь. Когда они встали напротив друг друга, Сэйгэн издал крик, и сразу же его короткий меч поранил шею Умэдзу, которая окрасилась кровью. Умэдзу, приведенный в ярость этим ударом, постарался со всей силой ударить противника одним взмахом своего длинного тяжелого меча. Но, прежде чем он успел это сделать, Сэйгэн нанес еще один мощный удар по правой руке своего противника, что заставило Умэдзу выронить оружие. Оно раскололось надвое под ступней Сэйгэна. Тогда Умэдзу попытался вытащить из ножен еще один меч, висевший у него за поясом, однако рука отказалась ему повиноваться, и он свалился на землю. Позднее один из зрителей отмечал: «Сэйгэн действовал так, словно рубил бамбук — легко, четко, безразлично». «И не встречая преград», — Добавили бы буддисты школы кэгон.
Сэйгэн был не простым фехтовальщиком, а «совершенным человеком» Чжуан-цзы, которого «нельзя утопить в воде и сжечь в огне». Умэдзу же являлся прямой противоположностью ему. Он ничего не знал о нравственной, духовной стороне своего занятия, которая на самом деле и составляет его суть. Эгоистическая гордость Умэдзу не знала пределов. Он считал, что его самоуверенная агрессивность, опиравшаяся на искусность в технике, обеспечит ему успех в фехтовании. Он так и не понял, что простое нападение, характеризующее японский способ фехтования, в конечном счете окажется бесполезным, если нечто, превосходящее спортивный дух побед и поражений, не станет контролировать весь ход поединка. Из сознания участника поединка должно полностью исчезнуть не только желание стать победителем или не оказаться побежденным, но и философская проблема жизни и смерти должна быть полностью решена, причем не теоретически, не концептуально, но самым конкретным, практическим образом. По этой причине Итиун, как и Ягю Тадзима-но ками, подчеркивал значимость дзэнской практики, посредством которой фехтовальщик смог бы преодолеть пределы своей техники.
Еще один психологический феномен, связанный с фехтованием, мог бы заинтересовать «парапсихологов». Это нечто вроде телепатии, то есть умение прочитывать чужие мысли, которое может развиться у некоторых мастеров меча. Говорят, что Ягю Тадзима-но ками обладал этим «шестым чувством». На мой взгляд, оно происходит из гораздо более глубокого источника и не может быть понято в смысле како- го-нибудь аномального, сверхобычного психического феномена.
Согласно автору книги Гэккэн содан, в один прекрасный весенний день Тадзима-но ками прогуливался в саду и, на первый взгляд, был полностью поглощен созерцанием вишен в полном цвету. Его сопровождал мальчик-служитель, который держал за своей спиной меч. Мальчик в этот момент подумал: «Каким бы умелым ни был мой господин в искусстве фехтования, на него можно легко напасть, когда он вот так безмятежно любуется цветущими вишнями». Тадзима-но ками резко повернулся, как бы желая увидеть, не скрывается ли кто-нибудь позади него. Не заметив никого, он возвратился в свою комнату. Опершись на столб, он какое-то время спокойно стоял, смотря на все вокруг с отсутствующим видом. Слуги боялись приближаться к нему. Один из них все-таки подошел и спросил, хорошо ли себя чувствует господин и не могут ли они как-нибудь помочь ему. Тадзима-но ками ответил: «Я себя хорошо чувствую, но меня обеспокоил один странный случай, и я не могу его объяснить. Благодаря многолетним упражнениям в фехтовании я способен чувствовать мысли, которые могут появиться в сознании того, кто стоит против меня или около меня. Когда я был в саду, совершенно неожиданно я почувствовал „смертельный воздух”. Я обернулся, но кроме мальчика-слуги поблизости не было даже собаки. Я не могу объяснить свои чувства. Я сам себе отвратителен. Отсюда и этот сумбур во мне».
Мальчик-слуга, услышав об этом, подошел к господину и признался во всем, что происходило с ним, когда он стоял позади господина, и униженно просил прощения. Это удовлетворило Тадзима-но ками, который сказал: «Теперь все ясно».
Интересна также еще одна история — о разумности животных. Если эта история произошла в действительности, то она может помочь нам глубже понять инстинкты обезьян. Мы, люди, утратили большинст
во этих инстинктов, которые часто демонстрируют так называемые низшие животные, и, скорее, готовы счесть, что подобные истории невероятны. Этот случай также связан с Ягю Тадзима-но ками.
Он держал у себя двух обезьянок как домашних животных. Им разрешалось наблюдать, как тренировались его ученики. Будучи по своей природе весьма склонными к подражанию, обожая разные игры, они учились владеть мечом и даже принимали участие в поединках. В каком-то смысле они даже стали знатоками фехтования. Когда некий ронин, который был другом господина, выразил свое желание померяться силами на копьях с мастером, тот предложил сначала попробовать свое умение в поединке с одной из обезьян. Ронин обиделся, он полагал, что его оскорбили. Когда они приготовились к сражению — обезьяна с синаи, а ронин с копьем, — человек, намереваясь сразить животное одним ударом, яростно вскинул копье перед собой. Но обезьяна, очень проворно увернувшись от удара, поднырнула под копье ронина и поразила его. Тогда ронин выставил копье в защитной позиции, но это оказалось бесполезным. Обезьяна прыгнула на древко. Копьеносец признал свое поражение.
Когда он, красный от стыда, вернулся к Тадзима-но ками, господин заметил: «Я был уверен с самого начала, что вы не сможете справиться с обезьяной».
Ронин перестал посещать господина. Миновало полгода. Потом, выразив желание еще раз встретиться в поединке с обезьяной, он появился перед господином. Но последний видел, что обезьяна уже не могла стать соперником для ронина, и отказался удовлетворить просьбу. Однако ронин был настойчив, и обезьяну привели. Едва только они встали друг против друга, приготовившись к сражению, обезьяна отбросила свое оружие и с криком убежала. Тадзима-но ками заключил: «Разве я не прав?» Позже он рекомендовал этого ронина на службу своему коллеге.
ДЗЭН И ХАЙКУ
Невозможно вести разговор о японской культуре, не упоминая буддизм, ведь на каждой ступени ее развития мы замечаем те или иные буддийские мотивы. В сущности, нет ни одной области японской культуры, которая не была бы задета буддийским влиянием, влиянием столь значительным, что мы, живя в самом ее центре, совершенно этого не осознаем. Со времени своего официального введения в Японию в VI в. буддизм всегда оставался очень важным фактором, формирующим ее культурную историю. Мы можем даже сказать, что само его введение было обусловлено стремлением части правящих кругов того времени сделать буддизм средством культурного развития и политической консолидации общества.
Как бы то ни было, буддизм быстро и неуклонно стал отождествляться с государством. С чисто религиозной точки зрения, можно сомневаться, была ли действительно такая идентификация полезна для здорового развития буддизма, однако история показала, что буддизм оказался неразрывно связан с политической властью следующих друг за другом правительств и помог им, хотя и по-разному, проводить в жизнь свои цели. И, поскольку судьбы японской культуры обычно находились в руках высших правящих классов, было естественно, что буддизм воспринял идеалы аристократов.
Чтобы убедиться, до какой степени буддизм вошел в историю и жизнь японского народа, представьте, что все храмы и все культурные сокровища, собранные в них, подверглись опустошительному разрушению. Каким унылым местом стала Япония, несмотря на всю ее естественную красоту и на дружелюбие ее народа! Она была бы подобна пустому дому без мебели, картин, ширм, скульптурных изображений, гобеленов, садового искусства, цветочных композиций, пьес Но, без чайного искусства и т. д.
Ограничивая себя изучением влияния школы дзэн на японскую культуру, или, скорее, взаимоотношениями дзэн с ней, я хотел бы еще раз, хотя бы вкратце, коснуться некоторых признаков дзэн-буддизма, которые имеют особое отношение к японской ментальности.
Несомненно, философия дзэн совпадает в целом с философией буддизма махаяны, однако она имеет и свой собственный метод реализации. Этот метод состоит в непосредственном проникновении в тайну бытия, которая, согласно дзэн, и есть сама реальность. Дзэн советует нам не следовать устному или письменному учению Будды, не верить в более высокую сущность, чем сущность самого человека, не практиковать аскетические упражнения, но добиваться внутреннего переживания, которое должно осуществиться в глубочайших уголках человеческого существа. Дзэн обращается к интуитивному способу понимания, который состоит в переживании того, что известно на японском языке как сатори (по-китайски — у). Без сатори нет дзэн. Дзэн и сатори — синонимы. Поэтому следует рассматривать этот опыт сатори как связанный исключительно с дзэн.
Принцип сатори отрицает концептуальное постижение истины: концепции полезны при определении истины вещей, но они бесполезны, когда мы имеем личный опыт переживания вещей. Концептуальное знание в известном смысле может заставить нас быть мудрыми, но эта мудрость поверхностна. Это не сама живая истина, в ней нет творчества, но есть только набор неживых субстанций. В этом отношении дзэн полностью созвучен восточному духу.
Есть определенная правда в том, что восточное сознание интуитивно, тогда как западное — логично и дискурсивно. Правда, интуитивный разум имеет свои минусы, но, когда он обращается к самому сокровенному в жизни, то есть к тому, что относится к религии, искусству, метафизике, он может проявить себя и с самой сильной стороны. И дзэн особенно подчеркивает этот факт в сатори. Высшая истина жизни и истина вещей в целом должны быть поняты интуитивно, а не концептуально, и это интуитивное схватывание является основанием не только философии, но и всякой культурной деятельности. Именно этой идеей дзэнская форма буддизма обогатила художественное наследие японского народа.[116]
В этом пункте и устанавливается духовное родство между дзэн и японским восприятием искусства. Какие бы определения при этом ни использовались, это родство возникает из признания значимости жизни — тайна жизни глубоко пронизывает подлинное произведение искусства. Поэтому, когда искусство выражает эту тайну в наиболее глубокой и творческой манере, оно направляет нас к глубинам своего бытия; тогда искусство оказывается божественной работой. Величайшие произведения искусства, будь то живопись, музыка, скульптура, поэзия, всегда наделены этим качеством, в чем-то напоминающим деятельность самого Бога. Когда творческое вдохновение художника находится на высшем уровне, тогда художник преображается в инструмент творца. Этот высший момент в жизни художника, если его выразить на языке дзэн, называется опытом сатори. В психологических терминах пережить сатори — значит осознать бессознательное (мусин, не-ум). Искусство всегда содержит в себе нечто бессознательное.
Поэтому опыт сатори невозможно обрести обычными методами обучения. Он имеет свой собственный метод, который состоит в указании на присутствие в нас тайны, превосходящей интеллектуальный анализ. Жизнь действительно полна тайн, и там, где мы чувствуем нечто таинственное, в том или ином смысле присутствует дзэн. Художники знают это как синъин (шэнъ-юнъ), или киин (и,и-юнь), то есть духовный ритм, совпадение с которым приводит к сатори.
Таким образом, сатори невозможно подвести под категории логики, и дзэн дает нам особые методики для его реализации. Конечно, концептуальное знание тоже имеет свою технику, состоящую в последовательном, постепенном приобщении к нему. Но это знание не позволяет нам вступать в контакт с тайной бытия, со смыслом жизни, с красотой окружающих вещей. Без проникновения в эти ценности человеку невозможно стать мастером или творцом в каких бы то ни было областях. Любое искусство обладает своей тайной, своим духовным ритмом, своим мё, как сказали бы японцы. Как мы уже видели, именно здесь дзэн оказывается тесно связан со всеми сферами искусства. Истинный художник, как и дзэнский мастер, — это тот, кто знает, как постигать мё вещей.
В японской литературе мё иногда называется югэн (ю-сюанъ), или гэммё (сюанъ-мяо). Некоторые критики утверждают, что все великие произведения искусства воплощают в себе югэн, которое и позволяет нам ухватить проблеск вечных вещей в мире постоянных изменений: иначе говоря, мы созерцаем тайны реальности. Где вспыхивает сатори, там проявляется творческая энергия; где ощущается творческая энергия, искусство дышит воздухом мё и югэн.[117]
Сатори имеет специфический буддийский оттенок, ведь оно означает проникновение в истину буддийского учения, касающегося реальности вещей, тайны, значения жизни. Когда сатори выражает себя в художественной форме, оно создает произведения, которые вибрируют «духовным» (или божественным) ритмом (киин), выражают мё (или таинственное) и намекают на непостижимое, югэн. Дзэн очень помог японцам почувствовать таинственный творческий импульс, действующий во всех сферах искусства.
2
Тайна — это то, что интеллектуальный анализ, систематизация, схема не в состоянии ухватить и заставить действовать. Поэтому можно сделать вывод, что сатори должно стать актом божественной милости, как сказали бы христиане, должно стать монополией художественного гения. Дзэн изобрел собственное средство достичь сатори и ввести его в рамки любого обыденного сознания, и именно этим дзэн отличается от других школ буддизма. Впрочем, в реальности этот дзэнский метод не является методом в обычном смысле слова. Иногда он выглядит даже весьма «брутальным», поскольку он ненаучен и «негуманен».
Говорят, что когда львице-матери приносят ее детенышей через несколько дней после их рождения, она бросает их в пропасть, чтобы посмотреть, достаточно ли они самостоятельны и смелы, чтобы вскарабкаться обратно. Если им этого не удается, она больше не обращает на них никакого внимания, как на не достойных ее рода. Примерно таким же «негуманным» способом обучал своего сына специалист по взломам, хотевший, чтобы сын вырос человеком, достойным семейной профессии. Этот случай описывался выше. Система обучения фехтовальщика также была изложена. Принцип дзэнской методики состоит в следующем: всякое искусство, или знание, которое приобретает человек внешними средствами, нельзя счесть его собственным, оно ему внутренне не принадлежит; только то прорастает из его внутреннего существа, что он действительно может назвать своим собственным. И его внутреннее существо открывает свои глубинные тайны только тогда, когда он исчерпал все, что относится к его интеллекту, или к его сознательным намерениям. Да, это правда, что гениями не становятся, ими рождаются. Но гений никогда не сможет состояться, если он не пройдет через серьезную, суровую практику. Дзэнский «гений» спит в каждом из нас и требует пробуждения. Пробуждение — это сатори.
Обычно сатори вспыхивает, когда человек исчерпывает все свои ресурсы. Тогда он ощущает, что внутри него остается нечто такое, что завершит его мастерство в искусстве, которым он занимается. Ему не надо учиться каким-то техническим приемам, однако, если он действительно посвящает себя избранной сфере деятельности и искренен к самому себе, он обязательно почувствует какой-то психический дискомфорт, вызванный его бессознательным, которое теперь активно пытается вступить в открытое поле сознавания. В случае с дзэнским психотренингом, как он проводится в наши дни, ученику противостоят мастер и коан. В случае с художественными дисциплинами индивидуальные переживания могут варьировать, хотя и есть ряд отработанных образцов.
Вот еще один пример сатори, обретенного неким монахом, мастером копья.
Последователи школы ходзоин пользуются особым типом копья, которое было изобретено основателем школы Инэем (1521 —1607). Он был монахом из храма Ходзоин, находившегося в ведении буддийской секты кэгон. Примерно в средней части наконечника этого копья имеется выступ в форме полумесяца. Идея снабдить копье этой лишней деталью пришла, как считается, в голову монаху при следующих обстоятельствах. У него была привычка по вечерам упражняться с копьем в саду при храме. Его ум занимала не мысль о том, как получше научиться владеть копьем. Он и так уже был неплохим специалистом. Он стремился реализовать состояние сознания, в котором было бы совершенное единство самого Инэя и его копья, деятеля и действия, мысли и поступка. Подобное единство называется самадхи (по-японски саммай), к нему и стремился монах-копейщик в своих ежедневных упражнениях. Как-то вечером, то вонзая, то вытаскивая копье, Инэй неожиданно заметил, как его копье сверкнуло на фоне лунного полумесяца, отразившегося в пруду. Это видение мгновенно разбило его дуалистические установки. Легенда говорит, что именно после этого случая он и добавил серповидную деталь к своему копью. Как бы то ни было, мы только хотим подчеркнуть, что это момент реализации, а не новшество.
Переживание монаха из Ходзоин напоминает мне переживание Будды. Его просветление произошло в тот момент, когда он ранним утром взглянул на утреннюю звезду. Много лет он занимался медитацией; интеллектуальные поиски не принесли ему никакого духовного удовлетворения. Тем не менее он ревностно пытался как можно глубже проникнуть в основы своей личности. Взгляд на звезду позволил ему осознать в самом себе именно то, что он искал. Так он стал Буддой.
Монах из храма Ходзоин проник в тайну владения копья и стал мэйдзином своего искусства. Мэй- дзин — это больше чем знаток, специалист, он тот, кто превзошел наивысшие пределы мастерства. Это творческий гений. Каким бы искусством он ни занялся, всюду заметна его яркая индивидуальность. Такого человека японцы называют мэйдзином. Мэйдзином нельзя родиться, им можно только стать, причем стать лишь после бесконечно сложных испытаний; лишь они ведут к пониманию тайных глубин искусства, то есть источника жизни.
Тиё из Kara (1703—1775), поэтесса в стиле хай- ку, желала добиться больших успехов в своем искусстве. Она зазвала к себе знаменитого мастера хайку того времени, который случайно посетил ее город. Сама она уже была известна среди своих друзей как тонкий автор хайку. Но ее не удовлетворяла только лишь местная слава; и не одна только творческая активность побуждала ее искать встречи со странствующим поэтом. Она хотела знать, какова суть подлинного хайку — хайку, которое действительно достойно этого названия, хайку, рожденного истинно поэтическим вдохновением. Мастер задал ей тему, на которую она могла бы написать стихотворение в стиле хайку. Это была обычная тема о кукушке. Кукуш
ка — птица, о которой очень часто пишут японские поэты хайку и вака.[118] Особенность этой птицы в том, что она поет тогда, когда летит в ночи, и по этой причине поэту трудно и услышать ее крик, и увидеть ее в полете. Вот пример вака о кукушке:
ХототогисуУслышав кукушки крик,
Накицуру ката-оЯ взглянул туда,
Нагамурэба,Откуда звук пришел;
Тада ариакэ-ноИ что я вижу?
Цуки дзо нококэру Только бледная луна
в рассветном небе.
Тиё сочинила несколько хайку на заданную наставником тему, однако тот отвергал их одно за другим, поскольку они исходили только из ума, а не из глубин сердца. Она не знала, что и делать, как выразиться более непосредственно. Однажды ночью она столь углубленно занималась стихосложением, что очнулась, когда уже рассветало и бумажные занавески начали пропускать слабый свет. И тогда вот какое хайку сложилось у нее в уме:
ХототогисуКрик: «ку-ку», «ку-ку»
Хототогису тотэ, Всю долгую ночь —
Акэникэри!И наконеи,, рассвет!
Когда она показала это произведение мастеру, тот сразу оценил его как одно из самых возвышенных хайку, когда-либо составлявшихся на тему о кукушке. Причина была в том, что это хайку безупречно передало авторское переживание крика кукушки, и в нем не было искусственной, рационально рассчитанной схемы, способной произвести тот или иной эффект;
иначе говоря, в нем отсутствовало «я» со стороны автора, желающего себя прославить. Хайку, как и дзэн, не приемлет эгоизма ни в какой форме. Произведение искусства должно быть совершенно безыскусным, лишенным любых скрытых мотивов. Между вдохновением поэта и его сознанием не должно быть никакого опосредующего звена. Автор становится абсолютно пассивным инструментом выражения вдохновения. Вдохновение подобно «небесной музыке» (тянъ-лай) Чжуан-цзы. Художнику необходимо услышать небесную музыку, а не человеческую. И когда это происходит, он превращается в автомат, лишенный человеческих ограничений. Пусть тогда бессознательное действует само, ведь именно в нем надежно скрыты от нашей поверхностной, суетной жизни творческие импульсы. Дзэн также пребывает в нем, причем именно здесь дзэн может сослужить великую службу любому творческому человеку.
Ночная медитация Тиё над хототогису помогла ей открыть свое бессознательное. До этого переживания она обычно размышляла над темой, которую собиралась использовать в стихотворении, и по этой причине любое хайку, которое она составляла, всегда было окрашено какой-то искусственностью или сопряжено с простой ловкостью ума, что не имеет ничего общего с поэзией в истинном смысле слова. Тиё впервые поняла, что хайку, как плод поэтического творчества, должно быть выражением внутреннего состояния человека, полностью лишенного ощущения «я». В этом смысле поэт хайку должен также быть и человеком дзэн. Сатори поэта, так сказать, — это художественное сатори, тогда как пробуждение последователя дзэн вырастает на метафизической основе. Первое ограниченно, второе же охватывает целиком все существо индивида. Сатори художника может и не пронизать всю личность творца, поскольку оно вряд ли распространится глубже
того, что я бы назвал художественным аспектом бессознательности.
Какие бы ни имелись в виду аспекты бессознательного, до них никогда не добраться, пока нет переживания самадхи, или саммай, которое есть состояние однонаправленности (экаграта), то есть концентрации. И это состояние реализуется только в том случае, если художник при всей своей техничности с верой стремится к полному овладению искусством. Без искренности и без веры никакой художник не может считаться подлинным творцом. Именно искренность и вера, или преданность сердца, помогают ему добраться до самых вершин, ведь простой «гений» никогда не способен ничего реализовать, если он пытается развивать все свое существо. Каждый из нас, пусть самый обыкновенный, имеет что-то в себе, в своем бессознательном, что лежит под внешним слоем сознания. Чтобы пробудить его, чтобы заставить его быть действенным для вещей, имеющих огромное значение в нашем человеческом мире, мы должны совершать крайние усилия и полностью избавиться от всех своих эгоистических интересов. Достичь сути своего бытия означает полностью очистить бессознательное от налета эгоизма, ибо «я» проникает даже в так называемое бессознательное. Не «коллективное бессознательное», но «космическое бессознательное» должно быть пробуждено безо всяких препятствий. Вот почему дзэн так подчеркивает значение «не-ума» (мусин), или «не-мысли» (мунэн), — той области, в которой сокрыты богатейшие сокровища.
Прежде чем двигаться дальше, мне следует подробнее рассказать о том, что такое хайку. Это самая короткая форма стиха, какую мы только можем
встретить в мировой литературе. Она состоит из семнадцати слогов, и в них вложены самые возвышенные чувства, на которые только способны люди. Некоторые читатели вполне резонно спросят, каким образом столь малое количество слогов способно выразить глубокие движения души? Разве Мильтон не написал Потерянный рай? И разве не Вордсворт написал Признаки бессмертия? Однако вспомним, что Бог просто сказал: «Да будет свет», и когда творение завершилось, он снова лаконично отметил, что свет был «хорош». И именно так, как нам говорят, начался мир, в котором происходили различные драматические события начиная с тех пор, как ему было положено столь простое начало. Бог не произнес и десятка слогов, и все же его творческая работа оказалась успешной. Когда Моисей спросил Бога, как назвать Его, чтобы от Его имени передать послание народу, Бог сказал: «Я есть тот, кто я есть», или «Бог, который есть».[119] И это ли не величайшее изречение, которое когда-либо знал мир? Не говорите, что это Бог, а не человек, произносил такие слова. Я бы сказал, что ведь это Человек, а не Бог, записал все эти изречения. Это записавший «Я есть тот, кто я есть», а не произнесший, потому что произнесший принадлежит прошлому времени, историческому беспамятству. А записавший вечен. Это именно он «Я есть тот, кто я есть», а не кто-то другой. В любом случае малое количество слогов в хайку еще не говорит о том, что в нем нет смысла. Так, в решительный момент, находясь на грани жизни и смерти, мы просто издаем крик или совершаем некий поступок, но никогда не спорим, никогда не пускаемся в длинные рассуждения. Чувства отвергают рассудочный подход, и хайку — это не плод интеллектуальной деятельности. И отсюда его краткость.
Позвольте мне привести пару примеров хайку. У Басё (1653—1694), основателя современной школы хайку, есть такое стихотворение, которое, как считается, положило начало революционному движению поэзии:
Фуру икэ я!Ах, старый пруд!
Кавадзу тобикому, Прыгает лягушка:
Мидзу но ото.Всплеск воды!
Что может быть короче? Но кто-то скажет: «Разве это подлинная поэзия? Разве она что-то говорит о глубинах нашего существа, о том, что достойно сообщения? Что общего имеют с поэтическим вдохновением „старый пруд”, „прыгающая лягушка”, „всплеск воды”?»
Процитирую P. X. Блиса, специалиста в области изучения хайку: «Хайку — это выражение временного просветления, когда мы проникаем в сущность вещей». «Временное» оно либо нет, но Басё в своих семнадцати слогах показывает, как глубоко он проник в реальность.
Доктор Блис продолжает: «Каждая вещь непрестанно проповедует Закон [Дхарму], однако этот Закон не является чем-то отличным от самой вещи. Хайку — выражение этой проповеди посредством нашей встречи с вещью, когда мы лишены всех умственных колебаний и эмоциональных прикрас; или, скорее, оно показывает вещь, как она существует и внутри, и вне ума, совершенно субъективно; показывает нас самих, не отделенных от объекта; показывает объект в своем изначальном единстве с нами... Это способ вернуться к природе, к нашей лунной природе, нашей природе вишни в цвету, нашей природе опавших листьев, словом, к нашей природе Будды. Это тот путь, благодаря которому холодный зимний дождь, вечерние ласточки, дневная жара и долгота ночи становятся поистине живыми, разделяют нашу человечность, говорят на своем молчаливом и выразительном языке».[120]
То, что доктор Блис называет лунной природой, природой вишни в цвету и так далее, — это только та- ковость вещей. Говоря в терминах христианства, это значит видеть Бога в ангеле как ангела, видеть Бога в блохе как блоху. Басё обнаружил это в звуке воды, когда лягушка прыгнула в старый пруд. Этот звук, исходящий из старого пруда, был воспринят Басё как наполняющий всю вселенную. Не только все окружающее полностью вошло в звук и исчезло в нем, но и сам Басё был вычеркнут из собственного сознания. И субъект, и объект, en-soi и pour-soi,[121] перестали противостоять и обусловливать друг друга. И все же это состояние не могло быть абсолютным уничтожением. Басё, старый пруд, да и все остальное тоже продолжали оставаться там. Но Басё уже не был прежним старым Басё. Он «воскрес». Он стал «Звуком», или «Словом», которое пребывало и тогда, когда небеса и земля еще не отделились друг от друга. Теперь он пережил тайну бытия-становления и становления-бы- тия. Старый пруд перестал быть старым прудом, а лягушка — лягушкой. Они появились перед поэтом в ореоле тайны, который на самом деле не был ореолом тайны. Когда Басё захотел передать это переживание другим, он не смог избежать подобного парадокса, но внутри него самого все было совершенно ясным, и никакие облака двусмысленности не окутывали его. Однако не стоит смешивать хайку и дзэн. Хайку — это хайку, а дзэн — это дзэн. У хайку есть собственная область — это поэзия, но в нем есть также и что-то от дзэн, есть точка, где хайку и дзэн встречаются друг с другом.
Приведу очевидный пример этой связи между хайку и дзэн. «Старый пруд» Басё можно истолковать как почти дзэнское стихотворение. Но вот еще одно стихотворение, выражающее тесное переплетение дзэн, хайку и чувства гуманности, характерного для личности автора. Когда Басё путешествовал по «узкой дороге Оку», ему довелось повстречать двух проституток, которые шли к святилищу в Исэ, и все они остановились на одном и том же постоялом дворе. Выслушав рассказ об их жалкой жизни, которую они сами ненавидели, Басё сложил такое хайку:
Хитоцу я-ниПод одной кровлей
Юдзо мо нэтари Проститутки также ночевали;
Хаги то и,уки.Цветы хаги и луна.
Стоило бы больших трудов полностью прояснить смысл этого хайку для тех читателей, которые не слишком хорошо разбираются в общественных условиях Японии XVII в. и которые не могут понять, что такое цветущие кусты клевера в ярком сиянии осенней луны. Опишу это подробнее. Вот одинокий поэт-странник, в чем-то чуждый дзэн; он встречает проституток, направляющихся в Исэ с целью поклониться святыне, посвященной духам предков японского народа; он выслушивает историю об их страданиях, бедствиях и кармическом воздаянии; поэт горячо им сочувствует, но не знает, что делать в сложившейся у данных особ ситуации, где в равной мере присутствуют и человеческая несправедливость, и нравственное осуждение, и личная беспомощность. При этом Басё — поэт природы. Он помещает проституток, равно как и самого себя, и кусты клевера и луну в сферу природного трансцендентализма. И в результате — семнадцать слогов хайку:
Под одной кровлей
Проститутки также ночевали;
Цветы хаги и луна.
Проститутки — уже не отбросы общества, они возвышаются до запредельного поэтического уровня, где находится место и цветам клевера в их скромной красоте, и луне, которая щедро проливает свет на все — на добро и зло, красивое и безобразное. Здесь нет рациональных схем, и все-таки хайку раскрывает таинство бытия-становления.
До Басё поэты хайку увлекались игрой в слова, что и побудило Басё поднять достоинство стиля на более высокий уровень. Можно сказать, что во многом хайку выражает особенности японского характера. Прежде всего японцы не приучены к многословию: они не любят спорить, избегают интеллектуальных абстракций. Они, скорее, интуитивны и стремятся показывать события, не комментируя их. Их кредо — «ками нагара-но мити»,[123] что значит «оставлять все на волю богов», не мешать ничему своими человеческими измышлениями. Это хорошо совпадает с буддийским учением о таковости (татхата) (по-японски — сономама). Сономама (или конома- ма) — это сама высшая реальность; мы, люди, не можем никогда превзойти ее, как бы яростно и отчаянно ни упорствовали в этом. Все, что мы в состоянии сделать, это писать хайку, признавая подобное положение, не спрашивая, почему или как. Это можно
счесть некоей покорностью. Но японцы не жалуются, не проклинают, как большинство людей Запада; они просто принимают это — с бодростью духа и с юмором.
4
Возможно, наиболее отчетливая особенность японцев — обращать внимание на незначительные явления природы и нежно заботиться о них. Вместо того чтобы говорить о великих идеалах или высоких абстрактных мыслях, они выращивают хризантемы и вьюнки, а когда подходит пора, радуются их прекрасному и желанному цветению. Вполне может быть, что, после того как я ниже приведу темы, которые брали поэты хайку для своих излюбленных семнадцати слогов, читатели впадут в искушение вообще не считать их достойными внимания поэта. Интересно, испытывал ли когда-нибудь западный ум поэтическое вдохновение от таких вот ничтожных тем?
Древесная лягушка на листе банана:
АмагаэруМаленькая лягушка
Басё-ни норитэ. Прыгает на лист бананового дерева.
Соёги кэри.Дрожание.
Не знаю, что хотел сказать здесь Кикаку (1660— 1707),[124] автор этого хайку, но я прежде всего вижу широкий распростертый банановый лист сочно-зеленого цвета, изумительно свежий в это время года, когда древесная лягушка начинает прыгать по саду. Стоит весна, и, возможно, лягушка только что выбралась из своего укрытия после проливного дождя, хотя обычно лягушачье племя любит мокнуть под ним.
И вот она прыгает на край листа, который трепещет под весом этого малого создания. Аист широк и достаточно упруг, он выдерживает лягушку, когда та вскакивает на него. «Прыжок» и «дрожание», или «колебание», предполагают движение в тихом весеннем саду, в котором все одето в зелень различных оттенков, и это контрастирует с зеленым цветом лягушки и бананового листа.
Обезьяна, мокнущая под дождем:
Хаи,у сигурэ.Первый зимний дождь:
Сару мо комино-о Похоже, обезьяна тоже хочет укрыться Хосигэ нари.Хотя бы накидкой
из соломы.
Путешествуя по горным тропам, Басё, должно быть, заметил маленькую обезьяну, сидящую на ветке и совершенно промокшую от холодного дождя. Жалкое зрелище тронуло в Басё струны сострадания, но мне лично хочется видеть здесь что-то более глубокое, чем простую сентиментальность. Поэт одиночества (он и сам в чем-то подобен обезьяне, мечтающей о накидке) полностью понимает, что приближается мрачная холодная зима, предсказываемая непрерывными ливнями. Согласно китайской философии, зима символизирует предел женского принципа, когда вселенная, сбрасывая внешнюю показуху, сохраняет в себе всю творческую силу, необходимую для будущей поры. «Одинокий странник», то есть Басё, что-то переживает внутри себя, когда наступает зима. Это жизнь в вечном ожидании.
«Незаметный объект»,[125] скажем, какое-то безымянное маленькое растение в цвету:
Куса мура я:Среди трав
На мо сирану.Неизвестный цветок
Сироку саку.Цветет белым цветом.
Это сочинил Сики (1869—1902), один из современных поэтов хайку. Сики — отнюдь не слепой подражатель Басё, он часто упрекает того в излишнем субъективизме. Однако это хайку о распустившемся белом цветке чем-то напоминает стихотворение Басё о траве надзуна. Хотя Сики и не говорит о «внимательном наблюдении» (ёку мирэба), как это делает Басё (что можно вменить ему в вину как субъективизм), стихотворение Сики фактически вторит «сентиментализму» Басё, если этот термин применить в отношении духовности «цветка в потрескавшейся стене» или библейских «лилий полевых». «На мо сирану» означает «неизвестное имя», «незначительный», «жалкий», «то, что завтра кинут в топку». Это эпитет, который нам приходится давать всему великому и малому, существующему само по себе. Но, если это «неизвестное имя» не связывается с целокупностью бытия, если не окружено божественной милостью, как сказали бы христиане, оно ничто, не имеет никакой ценности. Басё смотрел на свою надзуна у дикой изгороди именно в этой перспективе, и мне представляется, что и Сики созерцает «распустившийся белый цветок» посреди травы подобным же образом.
Осьминог в кувшине:
Тако цубо-ниОсьминог в кувшине;
Хаканаки юмэ-о Мимолетные сны,
Нацу-но цуки.Летняя луна.
Я вижу следующее: ловец погружает кувшин в море, и осьминог, решив, что это неплохое убежище, забирается туда. Когда он там засыпает и, может быть, наслаждается сладким сном, хитрый ловец вытаскивает кувшин вместе с его обитателем, а то и обитателями, если осьминогов несколько. Это то, что называется человеческим разумением, посредством которого мы не только способны выживать, но и в большей или меньшей степени разрушать друг друга, — по мере того как разумение становится «систематическим знанием». Что же до бедных плененных осьминогов, то они, как мне кажется, продолжают видеть «мимолетные сны» под летней луной. Но кто скажет, что люди более разумны, когда они продолжают изобретать всевозможные «чудесные» виды оружия взаимного уничтожения? Кто скажет, что это не «видение мимолетных снов под летней луной»? «Хаканаки» означает не только «мимолетный», но и «тщетный», «пустой», «жалкий», «бесполезный»; и это не только осьминог уютно спит в кувшине ловца, но и каждый из нас, включая и самого ловца, продолжает видеть праздные тщетные сны. Если бы не луна таковости, светящая в любое время, летом и зимой, наше существование на земле вряд ли стало бы чем-то иным, чем «суетой сует». Как восклицает Экклесиаст: «Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем»?[126]
Летящий светлячок трепещет крылышками:
О-ботару,Громадный светлячок,
Юрари-юрари то. Крыльями дрожа.
Тори кэри.Мимо летит.
Юрари-юрари то в переводе доктора Блиса означает «крыльями дрожа». Не знаю, подходящий ли это эквивалент японской фразы. Она — одно из тех удвоений, которое больше обращено к чувству, чем к интеллекту, и поэтому не переводимо в абстрактные концептуальные термины. И китайский, и японский языки изобилуют подобными удвоениями. Это говорит о том, что люди, использующие такие языки, не привыкли к абстрактному мышлению в отличие от большинства западных народов, а также о том, что люди Востока ближе к чистому переживанию реальности, чем народы, которые развили свои аналитические и абстрактные системы до предела. Возможно, нет вообще слов, которые могли бы передать юрари-юрари то; термины «дрожа», «колеблясь», «ненадежно», «недолго», «качаясь», «вибрируя», «неспокойно» и так далее — все они содержат оттенок рассудочности, тогда как фраза юрари-юрари то, несомненно выражая прерывистое движение, совсем лишена этого; она предполагает ощущение свободы, беззаботности, достоинства, отсутствия давления со стороны чего-либо внешнего, существо не спеша использует свое собственное время. Если же ощущения соединяются с глаголом действия тори кэри, то уже не маленький, а очень большой светлячок напомнит нам человека, живущего жизнью свободной, бесстрашной, исполненной личного достоинства, с видом отрешенности и запредельности. Светлячок, летящий по воздуху, не привязан к земной грязи. Говорят, Исса (1763—1827), автор этого хайку, потратил несколько месяцев, шлифуя его, прежде чем удовлетворился окончательной формой, хотя она выглядит как плод спонтанного, мгновенного вдохновения.
К сказанному выше позволю себе добавить, что частое использование удвоений и других наречных выражений подобного типа придает большое преимущество китайскому и японскому языкам при передаче определенных переживаний. Когда эти выражения передаются концептуальными и интеллектуальными, четко очерченными терминами, они утрачивают свою изысканность и символическую глубину, свою зыбкую неопределенность. Это очевидно, когда мы сравниваем, к примеру, описание человека дао у
Лао-цзы или у Чжуан-цзы с аналогичными английскими аналогами.[127] Какой прозаичный, неинтересный, безликий язык у этих последних! Говорят, восточным народам иногда не хватает глубины философской мысли и аналитической утонченности. Вероятно, это так, зато у них более богатое переживание самой реальности, реальности, которая никогда не бывает настолько четко определенной, что «да» в ней не может стать «нет», и наоборот. Я слышал, что сейчас физики стараются использовать понятие комплементар- ности, признавая, что не может все объяснять одна теория, исключающая другие теории. Жизнь продолжается, несмотря на то, будем ли мы логически понимать ее и механически ее контролировать или нет; хотя это, конечно, не означает, что мы обязаны отбросить все такие попытки. Но лучше признать, что в жизни есть некая тайна, которая выходит за пределы нашего интеллектуального понимания. Путь юрари-юрари огромного светлячка, пролетающего мимо моего окна, бросает вызов нашим релятивистским взглядам.
Опавшие листья на воде:
Мидзу соко-ноПод водой
Ива-ни отицуки На скале покоятся Коно ха кана.Опавшие листья.
Это произведение Дзёсо (1661 —1704), одного из главных учеников Басё. Большинство из нас обычно не придает значения опавшим осенним листьям, нашедшим свое последнее пристанище на речных скалах. Листья стали бесцветными, они лишились тех желтоватых или красноватых оттенков, которые у них были, пока они находились на деревьях. Но после того как их швыряло вверх и вниз, кидало тут и там, по всем углам сада, на крышу дома, они в конце концов осели под водой и замерли на скалах. Возможно, некоторых из них ждет дальнейшая судьба, но, как это видит поэт, они спокойно осели, как если бы это было их последнее место пребывания. Он не старается думать о чем-то большем. Он просто видит их там и не показывает, будто у него есть какая-то скрытая мысль. Именно это молчание поэта делает стих еще более красноречивым. Мы тоже вместе с поэтом останавливаемся здесь и все же чувствуем нечто гораздо более глубокое, что мы не в состоянии выразить. Так хайку раскрывает свои лучшие стороны. Доктор Блис усматривает здесь таковость вещей; я бы предпочел говорить о таинстве бытия.
Вши, блохи и конюшня:
Номи сирами,Блохи, вши.
Ума-но не суруЛошадь мочится
Макурамото.У моей подушки.
Какое странное сочетание вещей. Если оно что-то обозначает, тогда это нечто мерзкое, раздражающее, отталкивающее. Что еще бы мог чувствовать Басё в этих обстоятельствах? Есть ли здесь вообще что-либо значительное для поэтических чувств? Это вопросы, на которые нам следует ответить.
Данное хайку имеет предысторию. Когда Басё путешествовал по «узкой дороге Оку», ему довелось остановиться в какой-то жалкой горной лачуге. Дождь, не переставая, лил три дня. Одинокому страннику ничего не оставалось делать, кроме как терпеливо ожидать окончания дождей в конюшне. Однако он ведь был поэтом. Доктор Блис хорошо комментирует и саму ситуацию, и поведение поэта; этот комментарий показывает, как много от духа хайку впитал в себя сам комментатор.
«Стихотворение Басё следует читать в состоянии полного самообладания. Если начнет преобладать какое-то ощущение брезгливости и отвращения, то мотивы Басё останутся непонятными. Блохи несносны, вши — безобразнейшие твари, лошадь, которая мочится у изголовья лежащего человека, вызывает целый букет неприятнейших эмоций. Но во всем этом должно присутствовать ощущение целого, в котором моча и шампанское, вши и бабочки занимают отведенное им определенное место.
Конечно, Басё сам не говорит об этом; разумеется, это его переживание, но нам интересен его поэтический опыт, в котором вещи различны и в то же время тождественны друг другу. Иногда бывает, что простое, элементарное переживание вещей, будь то вши или бабочки, мочащаяся лошадь или полет орла, имеет глубокое значение, которое не выходит за пределы их самих, относится к их собственной сущностной природе. Но мы должны жить вместе с этими существами ночь, день, трое суток. Мы должны мерзнуть и голодать, страдать от укусов блох, терпеть одиночество, быть союзниками печали и познать горе. Стихотворение Басё — это не выражение сожаления или презрения, хотя он, конечно, чувствовал раздражение и дискомфорт. Это не выражение философского безразличия и не маловероятная любовь к вшам, грязи и бессоннице. Что же оно выражает? Оно выражает чувство „эти вещи также..," но всякий, кто пытался закончить это предложение, вряд ли догадывался, что же имел в виду Басё».[128]
Таковы некоторые темы, которые воплощались в стихах японских поэтов хайку. Луна и солнце, штормы и волны, горы и реки, все так называемые крупные явления природы будут, конечно, тоже занимать их внимание, однако я хочу подчеркнуть, во-первых, чуткость японцев к малым существам, обычно пренебрегаемым людьми Запада, и, во-вторых, тот факт, что эти незначительные и презренные существа находятся в тесном взаимодействии с великой целокупно- стью вселенной. Японский мистицизм не пренебрежет ими, не сочтет их слишком заурядными явлениями для человека или божественного сознания. Это совсем не хрупкая женская сентиментальность. Именно в этом дзэн ближе всего подходит к хайку.
5
Фуру икэ я!Ах, старый пруд!
Кавадзу тобикому,Прыгает лягушка:
Мидзу-но ото.Всплеск воды.
Говорят, что это стихотворение стало первым революционным ударом Басё по миру хайку в Японии XVII В. До него хайку было просто игрой слов, этот стиль воспринимали только в качестве развлечения. Именно Басё придал ему новый импульс своим высказыванием о «старом пруде». История о том, как он пришел к этому произведению, такова.
Когда Басё изучал дзэн под руководством своего наставника Буттё, тот однажды навестил его и спросил: «Как вы поживаете в эти дни?» Басё ответил: «После недавнего дождя мох стал зеленее обычного». Буттё запустил вторую стрелу, желая узнать глубину понимания дзэн у Басё: «Какой буддизм был уже до того, как мох стал более зеленым?»
Этот вопрос равносилен высказыванию Христа: «Я был прежде Авраама».[130] Мастер дзэн желает знать, кто такой этот «я». Возможно, для христиан простого утверждения «Я есть» достаточно, но в дзэн вопрос должен быть задан и более конкретный ответ должен быть получен. Ибо это сущностная часть дзэнской интуиции. Поэтому Буттё спросил: «Что было до того, как мир появился?» Это все равно что спросить: «Где был Бог до того, как он произнес: „Да будет свет”?» Дзэнский мастер Буттё не болтает о недавнем дожде и о том, что зеленый мох стал еще зеленее; он хочет знать о космическом ландшафте, предшествующем творению всех вещей. Когда было безвременное время? Не пустое ли это понятие? Если нет, мы должны суметь описать его как-то для других. Басё ответил так: «Лягушка прыгает в воду, слушайте звук!»
В ответе Басё, в тот момент, когда он был произнесен, отсутствовала первая строчка о старом пруде. Как сообщается, ее он добавил позже, чтобы составить полное семнадцатисложное хайку. Мы можем
спросить: где тут некий новаторский дух, то, что стало началом современной поэзии хайку? Основу стихотворения Басё образует интуитивное проникновение в природу самой жизни, или в жизнь природы. Он действительно проник в глубины всего творения и то, что он увидел там, стало в его хайку описанием старого пруда.
Позвольте мне дать несколько более ясное представление о мотивах Басё, благодаря чему мы, прозаичные современные люди, могли бы лучше понять его. Большинство из нас склонны истолковать хайку о старом пруде в смысле описания сцены одиночества или безмятежности. В таком случае нить рассуждения может выглядеть следующим образом: «Старый пруд, скорее всего, должен находиться в каких-нибудь старых храмовых садах, засаженных многочисленными неподвижными деревьями. Вокруг пруда есть также старые кусты и подлески с вытянутыми сучьями и густо растущими листьями. Такая обстановка добавляет спокойствия незамутненной поверхности пруда. Когда она взбудоражена прыгнувшей лягушкой, само это волнение усиливает царствующую вокруг безмятежность; звук от всплеснувшейся воды отдается вовне, и его эхо заставляет нас еще острее осознавать безмятежность целого. Однако это сознание пробуждается только у того, чей дух действительно созвучен самому мировому духу. И потому Басё, истинно великий поэт хайку, выражает подобную интуицию, или вдохновение».
Повторюсь. Понимать дзэн как евангелие квиетизма совершенно неправильно, равно как неверно и истолковывать в таком же духе хайку Басё, ибо оно не имеет целью одобрять безмятежность. Что касается дзэн, у меня было немало случаев изложить свои взгляды в нескольких книгах на данную тему, поэтому здесь я ограничусь попыткой точнее истолковать Басё. Прежде всего мы должны знать, что хайку не выражает идеи, оно предлагает образы, выражающие какие-то интуиции. Эти образы — не шаблонные фигуры, использующиеся поэтическим сознанием, они прямо указывают на оригинальные интуиции, более того, они интуиции сами по себе. Когда интуиции обретены, образы становятся ясным и непосредственным выражением переживания. Интуиция сама по себе, будучи слишком интимной, слишком личной, непосредственной, не может быть сообщена другим людям; она призывает образы, посредством которых и становится передаваемой. Но для тех, кто никогда не имел подобного опыта, трудно, да и невозможно, достичь реально события просто через образы, потому что в этом случае образы трансформируются в идеи или понятия и ум затем пытается дать им интеллектуальную интерпретацию, как иные критики пытаются истолковать хайку Басё про старый пруд. Такая попытка вообще разрушает внутреннюю истину и красоту хайку.
Пока мы движемся только по поверхности сознания, мы никогда не сможем отойти от рационализации; старый пруд понимается тогда как символ одиночества и спокойствия, а лягушка, прыгающая в него, и звук, возникающий от этого, становятся инструментами, посредством которых выделяется и подчеркивается общий смысл вечной безмятежности. Но в отличие от нас поэт Басё не озабочен этим; он прорвал внешнюю корку сознания, погрузившись вниз, в самые его потаенные уголки, в царство немыслимого, в бессознательное, которое даже глубже бессознательного, признаваемого психологами. Старый пруд Басё лежит на другой стороне вечности, там, где время останавливается. Он действительно очень «старый», нет на свете ничего более старого. Ни на какой шкале сознания нельзя измерить его возраст. Именно отсюда происходят все вещи, именно здесь источник этого мира множественности; и все же в самом себе он не содержит элементов множественности. Мы к нему приближаемся, когда выходим за пределы «дождя» и «мха, ставшего более зеленым». Но когда он воспринят интеллектуально, то становится идеей и получает существование вне этого мира множественности, тем самым становясь объектом представления. Только с помощью одной интуиции эта безвременность Бессознательного схватывается должным образом. Но этого интуитивного схватывания реальности никогда не случается, когда мир пустоты допускается вне нашего обыденного мира чувств; ибо эти два мира, чувственный и сверхчувственный, — не два отдельных мира, но один. Г 1оэтому поэт смотрит в свое бессознательное не через спокойствие старого пруда, но через звук, вызванный прыгнувшей лягушкой. Без звука у Басё не было бы проникновения в бессознательное, в котором и находится источник творческой деятельности и из которого все подлинные художники черпают свое вдохновение. Трудно описать этот момент сознания, когда прекращается поляризация субъекта и объекта, — или, скорее, начинается, — ибо здесь данное противоречие между этими терминами утрачивает свою силу. Настоящий поэт или религиозный гений действительно имеют подобный опыт. И в соответствии с тем, каким бывает этот опыт, он становится в одном случае хайку Басё, а в другом — речением дзэн.
Можно рассматривать человеческий ум как состоящий из нескольких слоев, от дуалистически ориентированного сознания вплоть до бессознательного. Первый слой — тот, на котором мы обычно и пребываем; здесь все устроено дуалистически, поляризация — принцип этой сферы. Слой, что пониже, — полусознательное, объекты, расположенные в нем, могут стать полностью сознаваемыми в любой момент, когда потребуется. Это сфера памяти. Третий слой — бессознательное, как его обычно определяют психологи: воспоминания, исчезнувшие с незапамятных времен, хранятся здесь; они пробуждаются, когда в сознании происходит переворот, и тогда воспоминания, погребенные неизвестно когда, выводятся на поверхность, если происходит катастрофическое событие — случайно или намеренно. Это бессознательный уровень сознания, однако он не последний; есть еще более глубокий, подлинное основание нашей личности, и оно может быть названо «коллективным бессознательным», чем-то похожим на буддийскую ала- явиджняну, то есть «все-сохраняющее сознание». Существование этой виджняны, или бессознательного, не может быть выведено экспериментально, но принятие его факта необходимо для того, чтобы объяснить самый смысл сознания.
С психологической точки зрения, эту алаявиджня- ну, или «коллективное бессознательное», можно рассматривать как основу нашей ментальной жизни; но, когда мы желаем понять тайны художественной или религиозной жизни, мы должны выйти к тому, что может быть обозначено как «космическое бессознательное». Космическое бессознательное — это принцип творчества, божественная мастерская, в которой расположена движущая сила вселенной. Все творческие действия искусства, жизнь и порывы религиозных людей, дух вопрошательства, который движет философами, — все это происходит из источника космического бессознательного, которое действительно является хранилищем (алая) всех возможностей.
Басё реализовал это бессознательное, и его опыт получил яркое воплощение в хайку. Эти хайку не столько воспевают безмятежность, которая, как некоторые воображают, лежит под поверхностным водоворотом мирской жизни. Они указывают на нечто более глубокое, которое мы встречаем и в этом мире противоположностей, и именно из-за него наш мир собственно и обретает свою ценность и свое значение. Без опоры на космическое бессознательное наша жизнь, протекающая в царстве множественности, вообще утрачивает связующую нить.
Мы можем теперь понять, почему японскому хайку не обязательно быть длинным, сложным и интеллектуальным. Оно избегает рациональности, концептуальных схем. Когда оно обращается к идеям, его прямое указание на бессознательное деформируется, искажается, прерывается, его просветляющая жизненность навсегда исчезает. Поэтому хайку нащупывает самые приемлемые образы, для того чтобы заставить нас вспомнить изначальную интуицию как можно более ясно. Так собранные и упорядоченные в хайку образы могут и не быть поняты теми, чей ум не настроился в полной мере на понимание значения, заключенного в них. Например, в случае с хайку Басё: что может большинство людей, которые не привыкли ценить хайку, увидеть особенного в описании таких банальных объектов, как старый пруд, прыгнувшая лягушка и звук, от этого происходящий? Правда, эти объекты не просто перечисляются; есть ведь усилительная частица я, глагол движения тобикому. Но, боюсь, непосвященные могут и не обнаружить поэтического значения в этих семнадцати слогах, соединенных столь естественно. И все-таки что за глубокая истина интуиции в приведенном выше стихотворении — истина, которая не может быть выражена так вдохновенно посредством даже самых замечательных идей!
Религиозные интуиции обычно передаются простыми терминами; это прямые, простые высказывания, без околичностей, хотя, например, в дзэн мы находим большое количество поэтических цитат, включая хайку. Но как только эти интуиции подвергаются интеллектуальному анализу, философы и теологи просто соперничают друг с другом, выпуская том за то
мом по данной теме. Точно так же и поэтические интуиции и порывы, которые движут поэтом хайку, могут легко стать основой для более детальных и более сложных образцов поэзии, когда они попадают в руки другого типа поэтов. Басё столь же велик, как и любой поэт Запада. Количество слогов в стихотворении не имеет отношения к истинному достоинству его поэзии. Средства, используемые поэтами, вполне случайны, они могут варьировать, но мы судим о вещах, как и о людях, не по какому-то случайному моменту, а по тому, что образует их сущность.
В качестве постскриптума я добавлю интересный комментарий Сэнгая на Басё и его лягушку. Сэнгай (1750—1837) был настоятелем монастыря Сёфукуд- зи в Хаката, что на Кюсю. Он был не только блестящим дзэнским мастером, но также и художником, каллиграфом, поэтом, полным юмора и проницательности, он был близок и мужчинам, и женщинам, старым и молодым, его любили люди всех сословий. Сэнгай как-то нарисовал картину, изображающую банановое дерево и лягушку, прыгнувшую на лист. По -японски название бананового дерева — «басё», и прозвище поэта, «Басё», происходит от него. Сэнгай же пишет на картине хайку — так сказать, лягушачий монолог:
Икэ араба,Если бы здесь был пруд,
Тондэ басё-ниЯ бы прыгнула в него,
и пусть Басё Кикасэтай.Услышит [всплеск]!
Асагао я!
Цурубэ торарэтэ Мораи мидзу.
Ах! Вьюнок!
Бадья взята в плен! Я попросила воды.
Это хайку составлено поэтессой Тиё из Kara (1703 —1751), автора стихотворения о кукушке.[131] «Лягушка» Басё вызвала звук своим прыжком в старый пруд, и это дало поэту возможность вступить в контакт с духом старого пруда — столь же старым, как сама вечность. В случае с Тиё вьюнок познакомил ее с духом красоты.
Здесь, мне кажется, нужно дать объяснение связи между вьюнком, бадьей и набиранием воды. В стародавние времена колодец с водой для повседневных нужд обычно располагался вне дома, особенно в сельской местности. Вода зачерпывалась бадьей, привязанной к некоему устройству, которое мы называем «журавлем».[132] Одним летним утром поэтесса Тиё увидела, что бадья обвита вьюнковой лозой, в которой расцвел цветок. Тиё так глубоко была тронута его красотой, что забыла на какое-то время о своей задаче. Когда она пришла в себя, то подумала о воде, в которой нуждалась для своих утренних работ, возможно на кухне. Она и не помышляла повредить цветок, поэтому пошла к другому колодцу. Это один из обычных эпизодов нашей повседневной жизни, которые летним утром могут произойти где угодно.
Некоторые могут заявить, что здесь вряд ли есть какая-либо поэзия, и будут рассуждать примерно так: в Японии, особенно в сельской местности, где на растения не обращают большого внимания, вьюнок воспринимается как обычнейший цветок, в котором нет ничего, что могло бы вызвать восхищение поэта. Отправляться за водой к другому источнику очень глупо со стороны Тиё. Почему она не отвязала или не перерезала лозу, чтобы освободить бадью? Ведь это проще простого. Хайку составлено по такому прозаическому поводу, разве здесь есть что-нибудь романтическое? В данной ситуации нет ничего такого, что стоило бы заключать в семнадцати слогах.
В ответ на столь «очевидное» истолкование хайку Тиё о вьюнке я бы сказал: для прозаических людей все прозаично и практично. Они забывают, а может, и не способны признать тот факт, что, когда человек находится в особом состоянии — я бы сказал, в каком-то божественном состоянии, — даже обычнейшие вещи, мимо которых мы равнодушно проходим, не обращая на них ни малейшего внимания, внушают глубоко религиозное или духовное чувство, которое человек до того никогда не переживал. Тогда он может стать поэтом неожиданно для себя. 1 иё уже была поэтессой и оставила нам бессмертное хайку.
И вот что еще мне хочется подчеркнуть: в тот момент, когда Тиё рано утром видит вьюнок, — утром, когда лучше всего созерцать цветы, — она так поглощена его неземной красотой, что для нее вся вселенная, включая ее саму, становится одним абсолютным вьюнком, расцветающим во всех вещах. Это то время, как сказали бы приверженцы дзэн, когда Тиё реально видит цветок, а цветок, в свою очередь, видит поэтессу. Это ситуация совершенного совпадения субъекта и объекта, видящего и видимого: весь мир — это всего лишь один цветок, который стоит здесь, бросая вызов всяким переменам и распаду. Здесь нет того, кто видит этот цветок и восхищается им. Это сам цветок, видящий себя, поглощенный собой. В этот наивысший момент произнести даже одно слово было бы верхом неуместности. Однако, поскольку Тиё — человек, она возвращается от мечтаний и бормочет: «Ах! Вьюнок!» Больше она ничего не может выговорить. Не сразу появляются и мысли в ее уме, например о том, что надо бы набрать воды для повседневных нужд. Но даже тогда она не желает прикасаться к цветку, ибо это было бы кощунственным поступком. Похожее переживание возникает ' многих благочестивых людей. Один из них, Содзё \эндзё (816—890), составил такую вака:
Если я сорву их,
Мои руки могут их омрачить;
Пусть они как и раньше стоят одиноко в поле,
Я почтительно поднесу эти цветы
Всем буддам прошлого, настоящего и будущего.
Тиё и в голову не приходит, что ей надо отцепить лозу, чтобы освободить для своих нужд бадью. Поэтому она идет за водой к другому источнику. Обычно хайку не описывает, что происходит в уме автора. Он, так сказать, только перечисляет самые заметные объекты, которые привлекли его внимание или вдохновили его. Что касается общего значения таких объектов, то читатель сам создает и истолковывает его в соответствии со своими поэтическими переживаниями или духовными интуициями. Вероятно, подобная интерпретация будет сильно отличаться от того, что предлагает автор, но это не так уж важно. Оригинал хайку прямо перед нами, и мы вольны высказывать свои суждения о его художественных достоинствах. Мы не можем выйти за пределы самих себя. Все является чистым для чистого ума. В конце концов, мир — это наша субъективная конструкция. Нет такой вещи, которую мы можем назвать абсолютно объективной, поскольку у каждого из нас своя внутренняя жизнь. Мы также можем сказать, что это в природе хайку, это формирует красоту.
Когда Тиё увидела цветок, это созерцание поставило ее вне пределов самой себя. Когда же она вернулась на повседневный уровень сознания, то обнаружила, что стоит с ведром в руке, думая о том, что надо пойти к другому источнику. Если бы она не сосредоточилась столь глубоко на хайку, ее стихотворение превратилось бы в совокупность упорядоченных идей, подробно описывающих ее небесное видение. Но в подобном случае это уже было бы не хайку из семнадцати слогов, а стихотворение такого типа, который мы встречаем в западной поэзии. Тиё же была японкой, выросшей в древней культуре, и, естественно, она не могла не выразить себя в хайку, одно из которых дошло до нас. Хайку — это поэтическая форма, самая естественная, самая приемлемая и самая жизненная для японского духа, она дает выход его творческим порывам. Вероятно, поэтому японцы и признают безоговорочно ценность хайку. Иностранные же критики, чей способ мироощущения не созвучен японскому, — потому что они не родились в этой атмосфере и зависят от собственной культурной традиции, — не сумеют понять дух хайку. Чтобы понять дух дзэн, понять хайку, требуется глубокое понимание японского характера и условий его выражения.
7
Чтобы показать, насколько желательно полное знание японских условий жизни — географических, нравственных, эстетических, философских, приведу еще одно хайку, на этот раз Бусона (1716—1783), который также был великолепным живописцем эры Токугава. Звучит хайку так:
Цури-ганэ-ниНа храмовом колоколе
Томаритэ нэмуру Усевшись, ах, дремлет Коте кана.Бабочка!
Полный смысл этого произведения трудно понять, если мы не будем знать все о храмовом колоколе и бабочке, о том, как эти символы предстают японскому воображению. Если говорить о сезоне, в хайку явно подразумевается раннее лето, когда обычно начинается лёт бабочек и они уже достаточно заметны, чтобы стать объектами поэтического вдохновения. Затем бабочка ассоциируется с цветами, а цветы теперь в полном расцвете в храмовых садах, где и находится колокол. Далее воображение ведет нас к горному монастырю, расположенному вдали от городов, к монахам, застывшим в медитации, к старым деревьям, диким горным цветам и, вероятно, к бормотанию ручейка; все исполнено безмятежной неземной атмосферы, не нарушаемой человеческой жадностью и раздорами.
Колоколенка находится недалеко от земли, и колокол доступен обзору и прикосновению к нему. Он из твердой бронзы, цилиндрической формы, темного цвета. Внушительно свисая с балки, он являет собой символ неподвижности. Когда по его дну ударяют большим куском дерева (около пяти дюймов в диаметре и шести футов или больше в длину), подвешенным горизонтально, он испускает серию умиротворенных звуковых волн. Гул — обычный признак японского храмового колокола, и иногда его издают для того, чтобы почувствовать, как дух буддизма вибрирует в этом резонансе, посланном из звонницы, особенно когда птицы, утомленные дневными трудами, возвращаются в свои гнезда.
Теперь обратим внимание на то, что на это сооружение, такое естественное, историческое и духовное, уселась и задремала белая бабочка. Контраст возникает разительный сразу в нескольких отношениях: бабочка — маленькое эфемерное существо, чья жизнь продлится не дольше конца лета, однако пока она живет, она радуется жизни в полную меру, порхая с цветка на цветок и иногда греясь в слабых лучах солнца. И вот теперь она дремлет в свое удовольствие на краю большого, внушающего трепет храмового колокола, символа вечных ценностей. Если говорить о величии и достоинстве, то в них насекомое резко уступает колоколу; цвет бабочки тоже контрастирует с цветом колокола: это утонченное белое созданьице, хрупкое и трепещущее, резко контрастирует с тяжелой темноватой массой бронзы. Даже с чисто описательной точки зрения хайку Бусона поэтично, оно прекрасно изображает сцену, происходящую ранним летом в горных монастырских садах. Но если на этом останавливаться, хайку окажется просто живописной зарисовкой. Некоторые люди могут подумать, что у поэта склонность к шутке, он, мол, помещает бабочку на храмовый колокол, в который может в любой момент ударить какой-нибудь невнимательный монах, и тогда его гулкое дрожание наверняка вспугнет бедное маленькое невинное существо. Это существо совершенно не сознает грядущих событий, хороших или плохих, но ведь это типично также и для человеческой жизни: мы танцуем на вулкане, совершенно не думая о том, что он может неожиданно извергнуться, совсем как не думает о гуле колокола бабочка Бусона. По этой причине у Бусона хотят найти какую-то нравственную отповедь нашим легкомысленным житейским привычкам. Эта интерпретация допустима: неопределенность судьбы всегда сопровождает нашу земную жизнь. Теперь, в современную эпоху, эту неопределенность пытаются исправить с помощью так называемых наук, но наша исконная жадность по-преж- нему с нами, всегда готовая проявить себя, причем зачастую в насильственной манере, и все «научные» выкладки оказываются бесполезными. Если не природа разрушает нас, мы разрушаем сами себя. В этом отношении мы гораздо хуже бабочки. Наша ничтожная «наука», которой мы так гордимся, заставляет нас ощущать всевозможные виды неопределенности, окружающей нас, и уверяет, что она способна рассеять их посредством наблюдения, измерения, эксперимента, абстрагирования, систематизации и т. п. Но есть одна большая Неопределенность, рожденная неведением и производящая все остальные неопределенности, которые опровергают все наши «научные» расчеты; и перед лицом этой Неопределенности, этой Небезопасности, homo sapiens ничуть не лучше бабочки, спящей на храмовом колоколе. Ироническую игривость невозможно найти у Бусона, и если она вообще здесь есть, тогда она направлена против нас самих. Это то, что указывает на пробуждение религиозного сознания.
Но на мой взгляд, есть в хайку Бусона и другая сторона, раскрывающая его более глубокое проникновение в жизнь. Я имею в виду интуицию бессознательного, как она выражена через образы бабочки и колокола. Что касается внутренней жизни бабочки, как видит это сам Бусон, то бабочка не осознает, что колокол существует отдельно от нее самой; фактически она не осознает и себя. Когда бабочка усаживается на колокол и дремлет на нем, словно колокол — это основание всех вещей, место, где они находят последнее пристанище, совершает ли она это действие, предварительно настроившись на него, подобно человеку? Когда, чувствуя вибрацию, созданную ударом по колоколу и возвещающую наступление полудня, бабочка вспархивает с колокола, сожалеет ли она, что совершила ошибку? Или она застигнута врасплох «неожиданным» ударом? Но не слишком ли много интеллектуальных представлений мы переносим на внутреннюю жизнь бабочки, более того — на нашу собственную внутреннюю жизнь или даже на Жизнь в целом? Разве жизнь в реальности так уж связана с анализом, занимающим большое место в нашем внешнем сознании? Разве не таится в каждом из нас нечто намного более глубокое и основательное, чем интеллектуальные намерения и различения, — жизнь самого бессознательного, того, что я называю «космическим бессознательным»? Наша сознательная жизнь обретает свой подлинный смысл только тогда, когда она соединяется с чем-то более фундаментальным, а именно с бессознательным. Если это так, внутренняя жизнь, которая и есть наша религиозная жизнь, представленная в образе бабочки из хайку Бусона, ничего не знает о колоколе, этом символе вечности, и вовсе не беспокоится о внезапном ударе. Бабочка порхает над прекрасно благоухающими цветами, в изобилии растущими на горных склонах; теперь она устала, ее крылья требуют отдыха, потрудившись ради этого крошечного живого тела, которое человеческие существа с их склонностью к различению обычно называют бабочкой; колокол праздно свисает, она примостилась на нем и, утомившись, собирается подремать. Вот она ощущает колебания — ни ожидаемые, ни неожиданные. Ощущая их в настоящем, она слетает прочь — столь же невстревоженно, как и прежде. Она не совершает «различений» и поэтому совершенно свободна от тревоги, беспокойства, сомнений, колебаний и т. д. Другими словами, она живет абсолютной верой и бесстрашием. Это человеческий ум заставляет бабочку жить «различениями», а значит, и находиться в «маловерии». Поистине хайку Бусона наполнено религиозными интуициями, имеющими огромное значение.
Мы читаем в Чжуан-и,зы: «Однажды я, Чжуан-цзы, видел во сне, что я был бабочкой, порхающей туда и сюда, по своим намерениям и желаниям я был бабочкой. Мои фантазии были фантазиями бабочки, и я не сознавал своей человеческой индивидуальности. Внезапно я проснулся — и вот я лежу, снова ощущая себя человеком. И теперь я не знаю, был ли я тогда человеком, которому снилось, что он бабочка, или это теперь я бабочка, которой снится, будто она — человек. Между человеком и бабочкой неизбежно появляется взаимная зависимость. Это называется Становлением».
Что бы ни означали слова «взаимная зависимость» (фэнь) и «становление» (у-хуа), Чжуан-цзы есть Чжуан-цзы пока он Чжуан-цзы, а бабочка есть бабочка пока она бабочка; «взаимная зависимость» и «становление» — человеческие понятия, вовсе не присущие миру Бусона, Чжуан-цзы и бабочки.
Тот тип интуиции, который имеется в стихотворении Бусона, также прослеживается в хайку Басё о цикаде:
Ягатэ синуО скорой смерти,
Кэсики ва миэдзу, Еще незаметной, Сэми-но коэ.Голос цикады.
Большинство критиков и комментаторов считают, что это стихотворение выражает такую идею: жизнь временна и мы, не вполне осознавая это, отдаемся всевозможным развлечениям подобно цикаде, поющей громко, на пределе своего голоса, словно она собирается жить вечно. Дескать, Басё здесь дает нам нравственное и духовное увещевание на конкретном, всем знакомом примере. Но, насколько я могу судить, подобная интерпретация совершенно искажает интуицию бессознательного у Басё. Первые две строчки (то есть первые двенадцать слогов) — несомненно человеческие размышления об изменчивости жизни, но на самом деле эти размышления — лишь предварение заключительной фразы, «сэми но коэ», или пению цикады («дзю, дзю, дзю..!»); на последней строке хайку и ставит наибольший акцент. Дзю-дзю-дзю — это способ самоутверждения цикады; так она дает знать другим о своем существовании; и пока это происходит, цикада совершенна, согласна сама с собой и целым миром, и никто не станет отрицать этого факта. Это только наше человеческое сознание, его рефлективная способность вводят идею временности жизни — вводят и утверждают ее против цикады, которая словно бы и не подозревает о своей грядущей судьбе. Однако ведь цикада и не знает человеческих проблем, ее не печалит, что она живет недолго, что ее жизнь может оборваться в любой момент, как только дни станут более холодными. Пока она может петь — она жива, и пока жива — у нее вечная жизнь; зачем же ей беспокоиться о временном? Цикада посмеялась бы над нами, людьми, фантазирующими о времени, которое еще не появилось. Цикада процитировала бы нам божественное изречение: «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!» (Мф 6: 30).
Вера — вот еще синоним интуиции бессознательного. Бодхисаттва Авалокитешвара (Каннон Босацу) — податель «бесстрашия», и тем, кто верит в него, даруется бесстрашие, которое есть то же, что вера и интуиция. Все поэты хайку — почитатели Каннон, они обладают бесстрашием и тем самым способны понять внутреннюю жизнь цикады и бабочки, которые никогда не страшатся будущего и того, что принадлежит ему.
Надеюсь, я прояснил по крайней мере один аспект отношений, существующих между дзэнским опытом сатори, или опытом неразличения, и прозрениями бессознательного со стороны поэтов хайку. Также мы можем видеть, что хайку — это поэтическая форма, возможная только для японского сознания и японского языка, и в развитие этой формы дзэн внес значительный вклад.
8
В следующей главе, посвященной искусству чая, я подробно опишу то, что известно — главным образом среди любителей чая — как ваби и саби, реально формирующие дух чая. Здесь же мне хочется сказать, что ваби (это слово буквально означает «уединенность», «одиночество» и более конкретно — «бедность») в каком-то смысле является характерным признаком всей японской культуры, выражающим дух дзэн. Я имею в виду не только экономическую бедность, но и бедность духовную. Действительно, любая религия одобряет бедную жизнь. Христос подчеркивает значение нищих духом, «ибо их есть царствие небесное». Этому вторит так называемая «молитва Господня» — в ней жизнь в нищете выглядит как исполненная блаженства. Такие выражения, как «хлеб насущный», «долги», «должники», а также «не думать о завтрашнем», «питаться крохами, упавшими со стола господина», «камень, отвергнутый строителями», «младенцы и дети, исполненные силы», «верблюд, который проходит сквозь игольное ушко», и так далее — все они показывают, как христиане относятся к добродетели нищеты. Пока мы привязаны к чему-либо, пока мы обладаем самой идеей обладания, мы никогда не станем свободными душами. Даже самой жизнью не следует обладать, ведь и «тот, кто имеет свою жизнь, потеряет ее, а кто потеряет свою жизнь ради Меня, найдет ее».[133] Нищета есть дзэн,[134] и таково же хайку. Мы не можем представить себе хайку, полное идеями, спекуляциями и образами. Хайку — это само одиночество.
Басё был инкарнацией этого духа. Прежде всего он был великим поэтом-странником, самым страстным поклонником Природы, своеобразным трубадуром Природы. Его жизнь прошла в скитаниях по Японии, из одного конца в другой. Это удача, что в те времена отсутствовали железные дороги. По-види-
мому, современные удобства плохо соединимы с поэзией. Современный дух научного анализа, механизации не оставляет возможности для тайны, а поэзия хайку, похоже, не живет там, где нет тайны, где нет чувства изумления. Проблема науки в том, что она старается не оставлять места для неопределенности или неясности, она хочет вывернуть вещи наизнанку; она ничего не может оставлять без анализа, без систематизации. Там, где правит наука, воображение торопится укрыться. Пока, к счастью, наука не вездесуща, не всемогуща, а значит, всегда останется простор для хайку, и поэзия будет трогать нас.
Все мы, современные люди, приучены доверять так называемым «твердым фактам», или тому, что обычно известно как «объективные истины». Все это приводит наш ум к закостенелости. Там, где нет искренности, где нет субъективности, поэзия исчезает: где слишком много песка, невозможно цветение растительности. Во времена Басё жизнь еще была не столь прозаична и не столь жестко устроена. Бамбуковая шляпа, дорожный посох, мешок из грубой ткани — этого было достаточно для поэта в его страннической жизни. Он мог остановиться везде, куда приводила его фантазия, и наслаждаться всем, с чем ему доводилось сталкиваться, пусть даже если этому сопутствовали трудности, обычные в период скитаний. Мы должны помнить, что, когда путешествие становится слишком легким и комфортным, его духовное значение утрачивается. Возможно, это сентиментализм, но какое-то чувство одиночества, взращенное путешествием, ведет человека к размышлению над смыслом жизни, ибо жизнь, в конце концов, есть путешествие от одного неизвестного к другому. Сколько бы мы ни прожили — семьдесят, восемьдесят, а то и девяносто лет, это вовсе не означает, что мы успеем отдернуть покрывало тайны. Слишком гладкий путь, пройденный в течение этого срока, крадет у нас этот смысл вечного Одиночества.
19 Д. Судзуки
То, что Басё неудержимо влекли странствия, заметно по одному из предисловий к его дорожным дневникам, озаглавленным Оку-но хосомити, то есть «Узкая дорога Оку»:
«Солнце и луна* — вечные странники, таковы же времена года, приходящие и уходящие без конца. Для тех, кто целую жизнь, старея, плавает по реке на лодке или едет в седле коня, путешествие является повседневным занятием, образом жизни. В стародавние времена много было таких, кто умер в путешествии.
Я не помню, когда именно у меня появилась сильная склонность к страннической жизни, обрекшая меня на судьбу одинокого облачка, гонимого ветром. Проведя некоторое время на морском побережье, я в минувшую осень обосновался в хижине-развалюхе, стоявшей у реки. Старую паутину я вымел и жилище мое стало чуточку более обитаемым.
Но по мере того как год подошел к концу, мой страннический дух вновь решительно проснулся. Словно меня преследовало какое-то сверхъестественное существо, чьим искушениям я не мог противиться. Я грезил о туманном небе, я был одержим идеей будущей весной посетить приграничный район Сира- кава. Покой оставил мое сердце. Мои гамаши были поспешно залатаны, тесемки на моей дорожной шляпе обновлены, я прижег голени травой мокса.** Наконец, поручив свою хижину другу, я отправился в путешествие на север, мое сердце было наполнено лунным светом от того, что вскоре встретит меня в Мацусима».
Предшественником Басё был Сайгё (1118—1190), живший в эпоху Камакура. Он тоже был поэтом- странником. Оставив служебную карьеру воина при дворе, он посвятил свою жизнь путешествиям и поэзии. Он был буддийским монахом. Всякий, кто приезжал в Японию, наверняка видел картину, изображавшую монаха в дорожной накидке, всегда одного, глядящего на гору Фудзи. Я забыл, кто написал эту картину, но она вызывает разные мысли, особенно о таинственном одиночестве человеческой жизни, которое, впрочем, не вызывает ни чувства заброшенности, ни чувства депрессии, но является своего рода признанием таинства абсолютного. Стихотворение, составленное тогда Сайгё, звучит так:
Дуновением ветра Дым с горы Фудзи Уносится прочь!
Кто ведает судьбу
Моей мысли, несущейся к ним?
Басё не был буддийским монахом, но он следовал пути дзэн. В начале осени, когда то и дело льет дождь, природа становится воплощением вечного одиночества. Деревья обнажаются, горы приобретают суровый облик, потоки более прозрачны, а вечером, когда птицы устают от своих дневных трудов и улетают домой, одинокий путешественник глубже задумывается о судьбе человеческой жизни. Он становится заодно с природой. Басё поет:
Таби-бито то «Странник» —
Вага на ёбарэру Пусть так меня назовут.
Хаиу сигурэ.Этот осенний дождь.
Не обязательно, чтобы мы все были аскетами, но я уверен, что в каждом из нас есть вечное стремление к миру, лежащему за пределами этой эмпирической, относительной жизни, к миру, где душа может спокойно созерцать свою собственную судьбу.
До Басё хайку было только словесным развлечением, лишенным связи с жизнью. Как уже отмечалось, Басё, которого его наставник спросил о высшей истине вещей, случилось увидать лягушку, прыгнувшую в воды старого пруда. Этот звук разорвал мнимую безмятежность всей картины. Басё сразу постиг источник жизни, от его безначального начала и до его бесконечного конца. После этого он стал художником; он наблюдал каждое состояние своего ума, вступающего в связь с миром вечного становления, и в результате оставил нам огромное количество семнадцатисложных стихов. Басё был поэтом вечного Одиночества.
Вот еще одно его хайку:
Карэ эда-ниВетка без листьев,
Карасу-но томари кэри. Ворон сидит на ней.
Аки-но курэ.Осенний вечер.
Простота формы не всегда подразумевает тривиальность содержания. Есть некая великая запре дельность в образе одинокого ворона, сидящего на сухой ветке. Все вещи исходят из неизвестной, таинственной бездны, и через каждую из них мы можем «прыгнуть» в бездну. Не надо составлять большую поэму из многих сотен строк, чтобы передать чувства, вызванные вглядыванием в бездну. Когда чувство достигает своей высшей точки, мы замолкаем, потому что никакие слова не могут помочь. Даже семнадцати слогов, наверное, слишком много. Во всяком случае японские художники, в той или иной мере испытавшие влияние дзэн, стремятся использовать как можно меньше слов, чтобы выразить свои чувства. Когда чувства выражены слишком многословно, не остается места для неизвестного, а ведь именно от этого неизвестного и отталкивается японское искусство.
Согласно Басё, выраженный здесь дух вечного Одиночества — это не что иное, как фуга (или фурю, как пишут некоторые). Слово фуга означает «совершенствование жизни», но не в современном смысле повышения уровня жизни. Это простое удовольствие от проявлений природы, это стремление к саби и ваби, а не поиск материального комфорта или сенсации. Жизнь фуга начинается тогда, когда человек отождествляется с творческим и эстетическим духом природы. Поэтому человек фуга находит себе верных друзей в цветах и птицах, скалах и водах, в дождях и луне. Басё в отрывке из предисловия к одному[135] из своих дневников ставит себя в ряд с такими художниками, как Сайгё, Соги (1421—1502), Сэссю (1421— 1506) и Рикю (1521—1591); все они были фурабо,[136] то есть «лунатиками» в том, что касалось их любви к природе. Предисловие Басё таково:
«С этим телом, в котором сто сочленений и девять отверстий, связано нечто, условно называемое фурабо. Не относится ли оно к ветхому одеянию в лохмотьях, хлопающих на ветру? Этот парень долгое время ревностно составлял кёку,[137] поскольку думал, что таково его предназначение. Впрочем, иногда, уставая от этого, он хотел отказаться от него; иногда, потакая стремлению превзойти других в этом занятии, он начинал слишком увлекаться мирскими заботами и по этой причине чувствовал себя неуютно. Однако, хотя он и часто заботился о мирском, [его любовь к хайку] подчиняла себе эту мысль. Он отбросил все заботы и стал уверенно держаться только одной линии — линии, которой следовали Сайгё в своих вака, Соги в своих рэнга[138] Сэссю в своих картинах и Рикю в своем чайном искусстве. Один дух действует во всех их произведениях — дух фуга. Тот, кто взращивает его, принимает природу и становится другом четырех времен года. Какие бы объекты ни встречал такой человек, все они относятся к цветам; какие бы мысли ему ни приходили в голову, они относятся к луне. Когда объекты не относятся к цветам, он дикарь; когда мысли не связаны с луной, он напоминает низших животных. Поэтому я заявляю: идите за пределы дикости, отделяйтесь от низких животных и примите природу, возвратитесь к природе».
Басё, называющий себя фурабо, «человеком, чья жизнь подобна гонимому ветром куску тончайшей ткани», пробуждает интересную линию ассоциаций, поскольку издревле ветер был загадочным явлением. Никто не знает, откуда он приходит и куда уходит. Но пока он дует, он создает самые разные и непредсказуемые явления. Чжуан-цзы дает прекрасное описание «земной музыки». Христос сравнивает ветер с Духом: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» (Ин 3: 8). Японский поэт пишет:
Осень наступает!
Хотя не видима Так ясно взглядом,
Об этом узнаешь по звуку Ветра, когда тот дует.
Ле-цзы, великий даосский философ, представляет себе ветер мистическим образом. Я приведу весь рассказ, так как он содержит типичные даосские идеи, которые впоследствии были введены в дзэнское мировосприятие, а потом — в восприятие жизни поэтом хайку.
«У Ле-цзы учителем был Лао-шан, а другом — Бо Гао-цзы. Когда Ле-цзы овладел учением этих философов, то отправился домой, оседлав ветер.
Инь-шэн услышал об этом и стал его учеником. Он провел с Ле-цзы несколько месяцев, не отлучаясь к себе домой. При каждом удобном случае Инь-шэн просил, чтобы Ле-цзы посвятил его в свое искусство. Он просил десять раз, но так и не получил ответа. Потеряв терпение, Инь-шэн заявил, что уходит, но Ле-цзы снова не проронил ни слова. Тогда Инь-шэн удалился. Но спустя несколько месяцев, не сумев успокоить свой ум, он вернулся и снова поступил в ученики к Ле-цзы.
Ле-цзы спросил его: „Что ты все то приходишь, то уходишь?’ ’ На что Инь-шэн ответил: „Не так давно я искал наставлений у вас, господин, но так и не дождался их. Это настроило меня против вас. Но теперь я избавился от этого чувства и потому пришел снова”.
Ле-цзы сказал: „Сначала я подумал, что ты проницательный человек, как же ты пал так низко? Садись, я расскажу тебе то, что узнал от своего наставника. Я служил ему, я наслаждался дружбой с Бо Гао; целых три года мой ум не осмеливался думать о правде и лжи, уста мои не осмеливались говорить о выгоде и убытке. И тогда впервые мой наставник мельком взглянул на меня — и все.
К концу пятого года произошли новые изменения: умом снова размышлял о правде и лжи, а устами говорил о выгоде и убытке. И тогда впервые на суровом лице моего наставника заиграла улыбка.
В конце седьмого года произошло еще одно изменение. Я позволил себе размышлять о чем хотел, но ум больше не интересовался ни правдой, ни ложью. Я позволял своим устам произносить то, что они хотели, но они больше не говорили о выгоде и убытке. И тогда наконец мой наставник разрешил мне усесться рядом с ним.
В конце девятого года мой ум свободно размышлял, мои уста свободно говорили. Но ни об истинном—ложном, ни о выгоде—убытке я ничего не знал ни по отношению к себе, ни по отношению к другим. Я не знал ни того, что один человек был моим учителем, ни того, что другой человек был моим другом. И внутри, и снаружи царила пустота. В конце концов исчезло различение между глазом и ухом, между ухом и носом, между носом и ртом; все стало одним и тем же. Мой ум был собран, мое тело исчезло, моя плоть и кости растворились. Я совершенно не сознавал, на чем покоилось мое тело или что было под моей стопой. Меня носило туда и сюда по воле ветра подобно сухой соломинке или листьям, упавшим с дерева. По сути, я не знал, ветер ли оседлал меня или я — ветер. А ты не провел и года в доме учителя и уже два-три раза терял терпение! Поэтому воздух никогда не вынесет ни крупицы твоего тела, даже земля не выдержит вес одной твоей ноги! Как ты можешь думать, что сумеешь странствовать в пустоте или быть влекомым ветром?”
Услышав это, Инь-шэн был глубоко пристыжен. Он едва мог вздохнуть, и прошло немало времени, прежде чем он выговорил хоть слово».[139]
Однако Чжуан-цзы не вполне доволен этой идеей Ле-цзы, поскольку тот вынужден зависеть от ветра, чтобы передвигаться. Чжуан-цзы[140] не имеет отношения к ветру, да и вообще ко всему внешнему:
«Что до Ле-цзы, который восседает на ветре и движется туда, куда захочет, это все очень хорошо. Иногда он даже отлучался дней на пятнадцать. Среди тех, кто обрел счастье, он — действительно редкая птица. Но, хотя он и освободился от хождения [по поверхности земли], он все же должен ждать чего-то, чтобы взлететь. А если он способен восседать на вечной первопричине вселенной,[141] управлять шестью элементами природы и свободно блуждать в царстве бесконечного, к чему ему ожидания?»
Как бы ни недоумевал даосский философ, все равно Ле-цзы и Чжуан-цзы говорят об одном и том же. Оба они странствуют в царстве беспредельного, где начинаются и куда возвращаются все вещи. Басё наверняка должен был знать эти мистические сочинения. Китайский ум достаточно практичен, но зачастую он стремится сломать все барьеры, которые удерживают его в рамках обусловленности; но японский ум очень привязан к земле, привязан к травам, пусть самым ничтожным, растущим прямо под ногами. Несомненно Басё многое впитал от даосизма, но в то же время он не летает на крыльях ветра и не пренебрегает вещами, непосредственно окружающими его, не теряет контакта с повседневной жизнью.
Есть одно известное дзэнское изречение:
Долгие года миновали, моя одежда в лохмотьях,
Да и то половину ее ветер унес.
Эти соображения заставляют меня поставить некоторые хайку в связь с японским менталитетом. Воспевая нищету, мастера хайку вовсе не зациклены на «эго», что иногда наблюдается у бедных людей. В противном случае они не были бы поэтами. Ведь у поэта, чтобы он мог расширить себя и объять весь мир, прежде всего не должно быть ощущения «я». Например, Рёкан из Этиго (1758—1831) терпел всех вшей, которые кишели в его нижнем белье, и даже устраивал для них временные проветривания, когда «его черное монашеское одеяние не было достаточно просторным, чтобы вместить весь этот бедный народец». Наверное, это крайний случай, но поэт хайку, если он вообще стремится быть один, не может утверждать свое «я» ни при каких обстоятельствах.
Ямадзи китэ Иду по горной тропе,
Нанияра юкаси Меня таинственно влекут
Сумирэ-гуса.Эти фиалки.
Это хайку Басё. Словом «таинственно» здесь переводится японское выражение нанияра юкаси; впрочем, чужой язык все равно плохо передает ощущения. Я не знаю, каким вообще словом можно перевести юкаси. Нанияра означает «не зная как», то есть «как-то». Что до юкаси, я бы выбрал и такие эквиваленты, как «чарующий», «нежный», «утонченный», «привлекательный». Японское слово имеет все эти оттенки, в то же время оно означает нечто более глубокое, нечто таинственно впечатляющее и влекущее, но в каком-то смысле и нечто оберегающее от излишне близкого или слишком фамильярного подхода, то есть предполагающее некоторую почтительность.
Должно быть, Басё прошел долгий, утомительный путь по суровому горному ущелью, пока не наткнулся на несколько цветущих фиалок, выглядывавших из диких зарослей. Это не самые яркие цветы, они не привлекают особого внимания; они выглядят как-то по-домашнему, но в этой самой домашней уютности есть что-то нежное, привлекательное, но тем не менее обладающее особым достоинством, которое препятствует слишком фамильярному с ними обращению. Их скромное достоинство и неподдельная простота, должно быть, оказали большое впечатление на Басё. Отсюда и фраза нанияра юкаси сумирэ-гуса.
У Басё есть еще одно хайку о незаметном цветке — о белой цветущей травке, известной в Японии как надзуна. На вид это совсем не привлекательное, не чарующее растение; оно довольно невзрачно даже по сравнению с фиалкой, и я сомневаюсь, становилось ли оно вообще когда-нибудь объектом поэтического внимания. Оно называется также «пастушьей сумкой». Наверное, Басё был первым, кто представил эту травку объектом, достойным вдохновения поэта хайку.
Еку мирэбаЕсли вглядеться
внимательно,
Надзуна хана саку, Надзуна цветет Какинэ кана.У плетня.
В хайку не так уж и много говорится об этой травке, скромно цветущей у обычного сельского плетня. Внимание Басё вначале было привлечено чем-то белым, растущим у дороги. Удивленный, он подошел, внимательно посмотрел и обнаружил, что это — цветущая надзуна, которую редкий прохожий способен заметить. Это явилось для него открытием и наверняка вызвало вереницу чувств, однако далеко не все из них стали достоянием семнадцати слогов. Он показывает читателям свою радость от своего открытия и узнавания. Как нам тогда интерпретировать это хайку?
Вордсворт пишет в своих Признаках бессмертия:
Но вот древо, одно из многих,
И поле одинокое; гляжу я на них:
Они говорят о чем-то прошедшем.
Анютины глазки у моих ног Повторяют ту же историю.
Куда плывет отблеск видения?
Где теперь слава, где мечты?
Воскресила ли пастушья сумка в памяти Басё образ потерянного рая? Вордсворт упоминает анютины глазки; но это растение в отличие от пастушьей сумки гораздо более многоцветно. Интересно, а надзуна смогла ли когда-нибудь привлечь внимание английского поэта так, чтобы тот склонился над ней и стал бы пристально ее изучать?
Теннисон, еще один великий английский поэт, написал стихотворение Цветок в разрушенной стене. Там есть такие строки:
Цветок в разрушенной стене,
Я вырываю тебя из расщелины,
Вот я держу тебя, с корнем и всем остальным, Малый цветок — но если бы я мог понять,
Что ты есть целиком, с корнем и всем остальным, Я бы понял, что есть Бог и что — человек.
Теннисон задает глубокие философские вопросы. Он полагает, что, если бы он узнал, что собой представляет маленький цветок, с корнем и всем остальным, он бы понял, чем является Бог и человек. Был ли у Басё такой же пытливый ум? Нет, его ум был далеко не таким. Прежде всего Басё и в голову не пришла бы мысль жестоко вырвать бедную надзуна с корнем и со всем остальным, держать ее в руке и при этом спрашивать себя о чем-то. Басё понимал глубже, чем Теннисон. Он не был ученым, склонным к анализу и эксперименту, не был он и философом. Когда он увидел белые цветы надзуна, такие жалкие, такие невинные и все же сохраняющие всю свою индивидуальность среди других растений, его сразу осенило, что трава была не чем иным, как им же самим. Но, даже если бы она была украшена лучше, чем «Соломон во всей славе своей», Басё все равно прославил бы ее. Если она «сегодня есть, а завтра будет брошена в печь»,* так ведь и Басё имеет такую же судьбу. Дзэнский мастер утверждает, что он может превратить стебель травы в тело Будды шестнадцати футов высотой и в то же время трансформировать тело Будды в стебель травы. Это тайна бытия-становления и становления-бытия. Это тайна самоидентификации и универсального взаимопроникновения, или взаимного смешения.
Однажды Манджушри, приказав Судхане принести ему некое лекарственное растение, добавил: «Ищи траву, которая не является лекарственной». Судхана пошел искать такую, но не нашел. Он вернулся обратно и сообщил: «Нет ни одной травы в поле, которая не была бы лекарственной». Манджушри сказал: «Тогда принеси лекарственную». Судхана тут же сорвал первую попавшуюся траву и вручил ее Манджушри, тот принял ее и заявил: «Эта трава лекарственная. Она и берет жизнь, и дает жизнь». Трава надзуна у Басё или трава в руках Манджушри — каждая содержит в себе эту таинственную силу. Не это ли произошло с Басё, когда он заметил под старым плетнем траву надзуна?
Напоследок хотелось бы добавить еще несколько слов. Если о западной поэзии, затрагивающей темы природы, говорить в целом, то она оказывается дуалистичной и личностной, любопытствующей и анали- тичной. Когда поэт видит «первоцвет у обочины», он вопрошает:[142]
* Мф 6: 29, 30. — Прим. пер.
Можно ли такое же прекрасное, грациозное Вылепить из глины?
Когда он видит розу, он удивляется и думает о подателе как о чудотворце:
Мы думаем о чудесах, которые Едва заметны в розе!
Кто дал ей аромат, кто — вспышку славы, Что светится в ней?
Вордсворт может смотреть на «фиалку у мшистого камня, наполовину скрытую от глаз», но его интерес не сосредоточен на самой фиалке. Он обращает на нее внимание только потому, что думает о судьбе сельской девушки, которая живет и умирает безвестной и невоспетой. И фиалка может цвести безвестной и невоспетой, может и завянуть безвестной и невоспетой. Поэт замечает ее постольку, поскольку он размышляет о девушке, которую любит. Его романтическое созерцание цветка обусловлено чисто человеческими мотивами.
Подснежник, цветущий «у поверхности земли, ... в белом и зеленом», видится «холостым, лишенным почвы» только тогда, когда не привносится «мысль о Боге». Если бы не Бог, он бы никогда не был бы «таким священным и в то же время таким низким». Если бы не Бог, он бы никогда не «пробился сквозь глину», наверняка оказался бы подвержен «разруше- нию» и никогда не заставил бы вас пасть на колени перед ним.
Другой поэт воспевает розу:
Он пришел и поднял меня Вверх, к кусту красных роз.
Он хранил свои мысли при себе,
Но дал мне розу.
Я не молил его раскрыть мне тайну. Достаточно было розы, чтобы Почувствовать запах небес И чтобы узреть Его лик.
Зачем поэту связывать «Его» с розой для того, чтобы в ней был «запах небес» и был виден «Его лик»? Разве роза сама не является «тайной» в собственной этости или таковости, зачем ей полагаться на внешнее? Басё не нуждается в дуализме и персонализме.
Если некоторые цветы — такие как нарцисс, фиалка, гиацинт, лилия, маргаритка, вербена, анютины глазки и другие — не избежали внимания со стороны западных поэтов, все же роза привлекала их больше всего. Следующие стихи Дж. А. Стаддерт-Кеннеди о розе по-разному обнаруживают типично западное, или христианское, мироощущение:
... Все тайны
Воплотились в этом цветке И переплелись;
Всеобщее и конкретное,
Человеческое и божественное
Слились в одну вещь, уникальную и совершенную, В единство Любви.
Это роза, как я вижу ее.
... Слезы Христа в ней,
И это Его кровь Окрасила ее в красное.
Я не могу увидеть ничего, кроме Него,
Потому что Он привел Меня к Божественной Любви,
От которой вся Красота.
Я и моя роза —
Одно.
В первой части этого отрывка автор философствует; во второй он, по-видимому, проявляет религиозное чувство. Но для того чтобы я осознал единство с розой, требуются такие образы, или символы, как кровь и слезы!
ИЛЛЮСТРАЦИИ
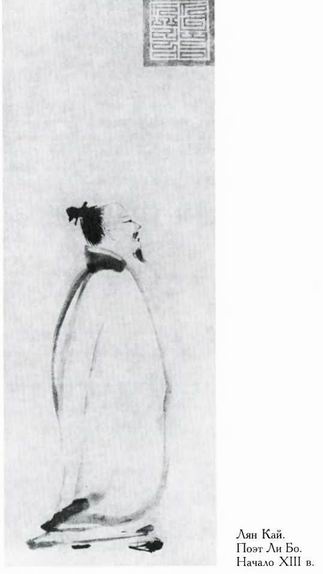

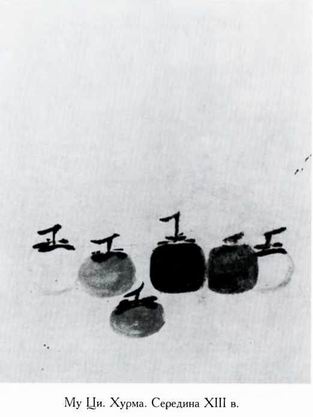











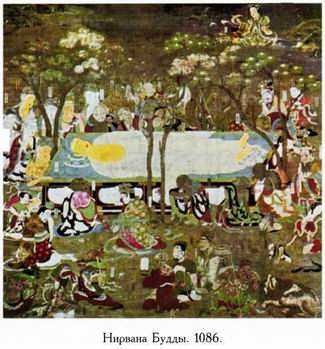


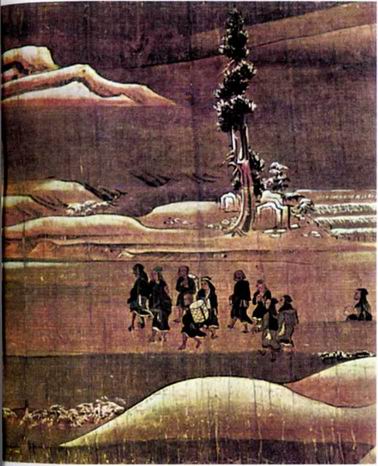



















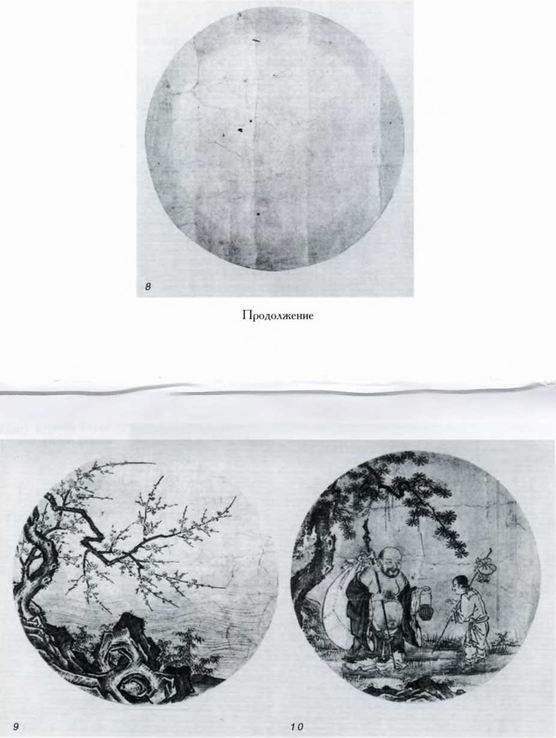
Продолжение















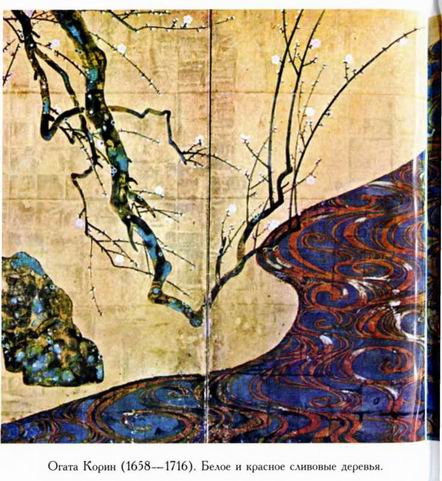


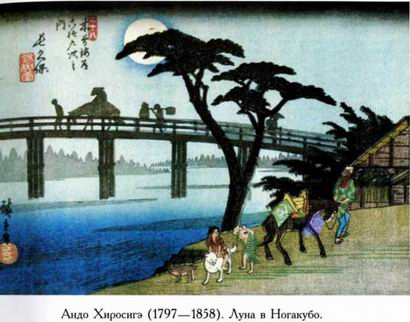



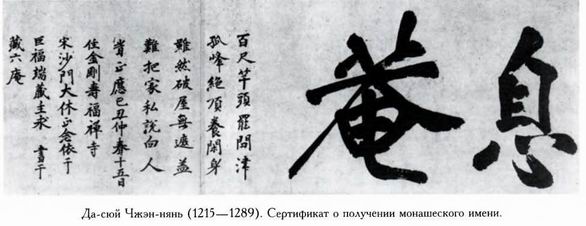


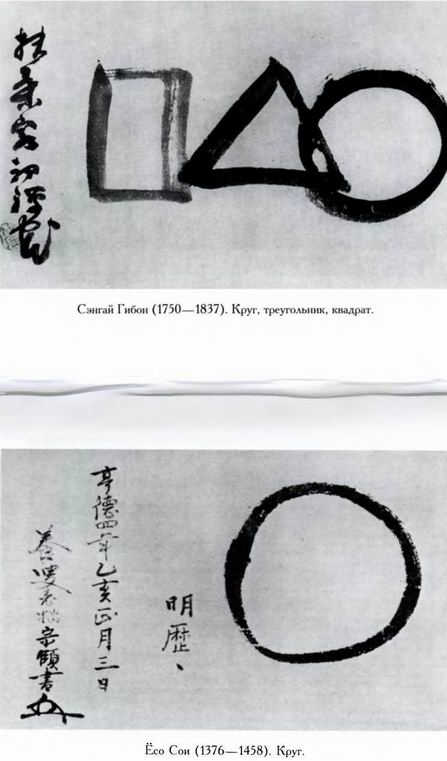



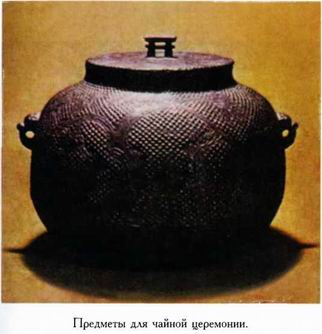

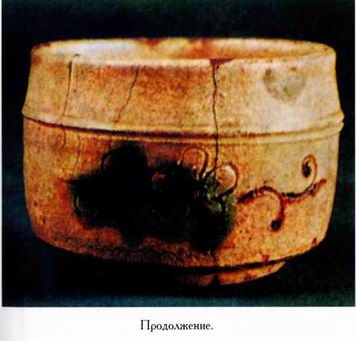

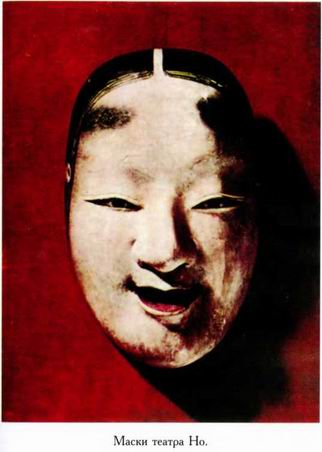
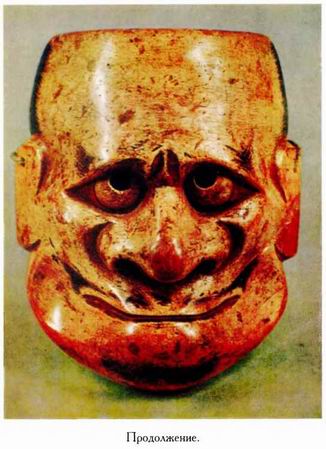
ДЗЭН И ИСКУССТВО ЧАЯ
1
Общее между дзэн и искусством чая — это постоянное стремление обеих традиций к простоте. Ликвидация ненужного достигается в дзэн через интуитивное схватывание высшей реальности; в чайном искусстве — благодаря образу жизни, олицетворяемому чайной церемонией, происходящей в чайной комнате. Искусство чая — это эстетизация первоначальной простоты. Его идеал — стать ближе к природе — реализуется в комнатке под соломенной крышей, в комнатке, которая едва ли достигает десяти квадратных футов, но которая должна быть искусно сооружена и обставлена. Дзэн также стремится к тому, чтобы разорвать все искусственные узы, изобретенные человечеством якобы для собственного удобства. Дзэн в первую очередь борется с интеллектом, поскольку тот, несмотря на всю свою практическую пользу, препятствует нашим усилиям погрузиться в глубины бытия. Философия может предложить любые вопросы и дать их интеллектуальное решение, но она никогда не утверждает, что дарует духовное удовлетворение всем и каждому, независимо от того насколько человек развит в интеллектуальном плане. Философия пригодна только для тех, кто интеллектуально подкован, она не может быть дисциплиной для всех. В дзэн, или, говоря шире, в религии, следует отбросить все привязанности, в том числе и привязанность к собственной жизни, и вернуться к предельному состоянию бытия, «изначальной обители», обители своего отца или матери. Это может сделать каждый из нас, ведь мы есть то, что мы есть, только благодаря этой обители, без которой мы ничего собой не представляем. Ее следует назвать последней ступенью простоты, поскольку нельзя перейти к более простым основаниям. Искусство чая символизирует простоту прежде всего неприметной, одинокой соломенной хижиной, воздвигнутой, вероятно, под старой сосной, как если бы хижина была частью природы, а не специальным сооружением человеческих рук. Таким образом, когда форма получила символическое выражение, к ней можно относиться эстетически. Разумеется, сам способ обращения с ней должен быть в совершенном согласии с первоначальной идеей, которая ее вызвала, то есть быть в согласии с идеей избавления от лишнего.
Чай был известен в Японии еще до эпохи Камакура. Но впервые, как обычно считается, его стал широко пропагандировать Эйсай (1141 —1215), дзэн- ский учитель, который вывез семена чая из Китая и выращивал их в монастырских садах своего друга. Говорят, что его книга о чае, а также чайный напиток, приготовленный из его растений, были подарены заболевшему сегуну Минамото Санэтомо (1192— 1219 гг.). Таким образом, Эйсай стал родоначальником разведения чая в Японии. Он полагал, что чай обладает некими лекарственными качествами, что он пригоден для лечения различных заболеваний. По всей вероятности, он не учил тому, как проводить чайную церемонию, которую он наверняка наблюдал, находясь в китайских монастырях дзэн. Чайная церемония — это способ развлечь посетителей монастыря или же самих монахов. Чайный ритуал принес в Японию дзэнский монах, национальный наставник Дайо (1236—1308),[143] примерно через полвека после Эйсая.
После Дайо было несколько монахов, настоящих мастеров этого искусства, один из которых — Иккю (1394 —1481), знаменитый настоятель Дайтокуд- зи, — обучил ему Сюко, одного из своих учеников (1422—1502). Творческий гений последнего развил ритуал чая, успешно адаптировав его к японскому вкусу. Тем самым Сюко стал родоначальником чайного искусства, он преподал его Асикага Есимаса (1435—1490), тогдашнему сёгуну, большому ценителю искусств. Позднее Дзёо (1504 —1555) и особенно Рикю еще больше улучшили его, усовершенствовав до такой степени, которая теперь известна как тя-но ю, что обычно переводится как «чайная церемония», или «культ чая». Оригинальная чайная церемония, как она практикуется в дзэнских монастырях, проводимая независимо от чайного искусства в целом, теперь в моде среди широкой публики.
Я часто размышлял об искусстве чая в связи с буддийским образом жизни, который во многих отношениях эстетичен. Чай сохраняет ум светлым и бодрым, но не опьяняет его. Его достоинства одобряют и ученые, и монахи. Поэтому естественно, что чай стал широко применяться в буддийских монастырях и что его первое введение в Японию произошло при посредничестве монахов. Интересно, если чай символизирует буддизм, то вино, наверное, является символом христианства? Вино широко используется христианами. Его применяют в Церкви в качестве символа крови Христа, которая, согласно христианскому учению, была пролита за грехи человечества. Возможно, по этой причине средневековые монахи сохраняли винные погреба в своих монастырях. В окружении бочек с вином они выглядят такими веселыми и счастливыми, когда держат в руках винные кубки. Вино сначала приводит в возбуждение, потом опьяняет. Во многих отношениях оно контрастирует с чаем, так что контраст между ними есть контраст между буддизмом и христианством.
Мы можем теперь видеть, что искусство чая очень тесно связано с дзэн не только на практическом уровне, но и с точки зрения принципа, в соблюдении того духа, который питает данную церемонию. Этот дух, если говорить о нем в терминах чувства, состоит из четырех элементов — «гармонии» (ва), «почтительности» (кэы), «чистоты» (сэм) и «спокойствия» (дза- ку), которые необходимы для того, чтобы довести это искусство до успешного завершения. Кроме того, все они являются сущностными элементами организованной общинной жизни, которая составляет жизнь дзэнского монастыря. О том факте, что монахи вели совершенно размеренную жизнь, можно судить из высказывания Тэй Мэйдо (Чэн Мин-дао), конфуцианского ученого эпохи Сун, который однажды посетил монастырь Дзёриндзи (Дин-линь сы): «Поисти- не здесь мы видим классическую форму ритуала, как его практиковали в трех древних династиях». Три древние династии — это идеальные времена, о которых вздыхает любой китайский ученый-государственник, времена, когда все было в самом благоприятном положении, когда люди радовались счастью, которое только и можно ожидать от хорошего правления. Впрочем, и теперь дзэнских монахов учат грамотно проводить церемонии, как индивидуально, так и коллективно. Считается, что Огасаварская школа этикета ведет свое происхождение от монастырских правил, составленных Хякудзё[144] и известных как Хя- кудзё синги. Хотя дзэнское учение состоит в схватывании духа через преодоление формы, оно неустанно напоминает нам также о том, что мир, в котором мы живем, — это мир множественности, и что дух
выражает себя только посредством формы. Поэтому дзэн одновременно и разрушает установления, и укрепляет их.
Иероглиф, обозначающий «гармонию», также читается как «мягкость духа» (явараги). На мой взгляд, «мягкость духа» — наилучшее выражение для описания того, что управляет всем искусством чая. Термин «гармония», скорее, отсылает к понятию формы, а вот «мягкость» больше подчеркивает внутреннее чувство. Общая атмосфера чайной комнаты помогает создать эту мягкость во всем — в прикосновении, в запахе, освещении, звуке. Вы берете выполненную вручную чашку для чая; она неправильной формы, глянец покрывает ее неровно. Но, несмотря на эту примитивность, маленький сосуд чарует особой мягкостью, спокойствием, ненавязчивостью. Возжигаемые благовония источают слабый, едва ощутимый аромат, мягкий и обволакивающий. Окна и перегородки — еще один источник мягкого и всепроникающего очарования, потому что свет, проникающий в комнату, всегда мягок и спокоен, он склоняет к медитативному настроению. Дуновение ветерка, шевелящего иглы старой сосны, гармонично смешивается с шипением железного чайника на огне. Таким образом, вся обстановка выражает личность того, кто ее создал.
«Самое ценное — это мягкость духа, самое главное — не противоречить другим» — таковы первые слова так называемой Конституции из семнадцати глав, составленной принцем Сётоку в 604 г.[145] Это нечто вроде нравственного и духовного наставления, дарованного принцем-регентом своим подданным. Примечательно, что подобное указание при всех своих политических оттенках начинается необычным подчеркиванием мягкости духа. Фактически это первое предписание, полученное японским народом, предписание, которое японцы с разной степенью успеха соблюдали в течение всей своей долгой истории. Хотя Япония с недавних пор прославилась своей воинственностью, на самом деле так думать о ней неверно, поскольку ее народ в целом считает себя мягким. И есть веская причина согласиться с этим, ибо сама физическая атмосфера, окружающая острова Японии, характеризуется общей мягкостью не только в климатическом, но и в метеорологическом плане, что объясняется главным образом повышенной влажностью воздуха. Горы, деревни, леса как бы погружены в некую атмосферу испарений, имеют приятный облик; цветы, как правило, не слишком красочны, их оттенки приглушены, утонченны, зато весенняя листва живописна и свежа. Чуткие души, попадая в подобную атмосферу, не могут не впитать многие ее особенности, в том числе и мягкость духа. Бывает, впрочем, что мы испытываем желание отойти от этой своей главной особенности, когда сталкиваемся с разными трудностями — социальными, политическими, экономическими и культурными. Нам приходится остерегаться таких гибельных желаний, и дзэн здесь приходит нам на помощь.
Когда Догэн (1200—1253) вернулся из Китая после нескольких лет изучения там дзэн, его спросили, чему он научился. Он сказал: «Мало чему, разве что мягкосердечию (нюнан-син)». «Мягкосердечие» — это «нежность ума», и в этом смысле оно означает «мягкость духа». Мы обычно чересчур эгоистичны, слишком преисполнены тяжеловесного, сопротивляющегося духа. Мы индивидуалистичны, не способны принимать вещи как они есть или как они являются перед нами. Сопротивление означает колебания, а колебания — это источник всех проблем. Когда нет «я», сердце становится мягким и не сопротивляется посторонним влияниям. Это не обязательно означает отсутствие чуткости или эмоциональности, просто они подчинены целостности духовного взгляда на жизнь. И в этом отношении, я уверен, и христиане, и буддисты знают, как следовать Догэну в признании значения не-«я», или «мягкосердечия». В искусстве чая «мягкость духа» понимается примерно так, как у принца Сётоку. Действительно, «мягкость духа», или «мягкосердечие», является основой нашей жизни на земле. Если последователи чайного искусства хотят превратить в землю Будды свою маленькую группу, им придется начать с мягкости духа. Чтобы проиллюстрировать этот момент, я процитирую письмо дзэнского мастера Такуана (1573—1645).
ТАКУАН ОБ ИСКУССТВЕ ЧАЯ ('ТЯ-НО Ю)
Принцип тя-но ю — это дух гармонического соединения Неба и Земли, он приносит всеобщий покой. Люди нынешнего времени превратили его в повод встретить друзей, поговорить о мирских делах и насладиться вкусной пищей и питьем. Как они гордятся своими элегантными чайными комнатами, где, находясь в окружении редких произведений искусства, они могут заваривать чай в самой комфортной обстановке, посмеиваясь над теми, кто не так искусен, как они. Однако совсем не в этом истинный смысл тя-но ю.
Лучше выстроим небольшую хижину в бамбуковой роще или под деревьями так, чтобы она гармонировала с ручьями и скалами, деревьями и кустами, а [внутри помещения] сложим древесный уголь, поставим чайник, разместим цветы, положим необходимые чайные реквизиты. И пусть все это напоминает нам, что в этой комнате мы можем наслаждаться ручьями и скалами, подобно тому как мы радуемся рекам и горам во внешней природе, ценим различные состояния и ощущения, вызываемые снегом, луной, деревьями и цветами, по мере того как они изменяются по временам года, появляясь и исчезая, расцветая и увядая. Как положено, почтительно приветствуются гости; мы спокойно слушаем звуки закипающей воды в чайнике, подобные легком^ ветру, шевелящему сосновые ветви, и забываем все мирские невзгоды и огорчения; затем мы зачерпываем из чайника воды, напоминающей нам о горном ручье, и тем самым наша умственная грязь смывается. Это воистину мир затворников, мир священной земли.
Правильный принцип — это почтение, которое на практике функционирует в виде гармонических взаимоотношений. Это утверждение Конфуция определяет пользу правильности, и это — также умственная позиция, которую следует культивировать как тя-но ю. Например, когда человек связан с людьми высокого социального положения, его поведение простое и естественное и он не раболепствует перед ними. Когда он находится в обществе людей ниже его по рангу, он сохраняет к ним уважительное отношение, полностью освободившись от чувства собственной важности. Это происходит благодаря присутствию некоего духа, пронизывающего всю чайную комнату, что приводит к установлению гармонических отношений между всеми, кто приходит сюда. Сколько бы ни длилась эта связь, всегда остается стойкое чувство почтительности. Должно быть, здесь витает дух улыбающегося Кашьяпы и качающегося Цзэн- цзы. Словом, это и есть таинственная таковость, которая лежит за пределами всякого понимания.
По этой причине необходимо найти принцип, одухотворяющий всю чайную комнату, начиная от ее закладки и до выбора чайной утвари, способа сервировки стола, приготовления пищи, ношения одежды и тому подобного, найти для того, чтобы избежать усложненного ритуала и показухи. Возможно, утварь и будет старой, но ум можно настроить так, чтобы он всегда был свежим и всегда соответствовал сезонным изменениям и различным настроениям, связанными с ним; тогда человек никогда не заискивает, никогда не завидует, никогда не склоняется к экстравагантности, но всегда бдителен и внимателен к другим. У него естественные мягкие манеры, он всегда искренен — это и есть тя-но ю.
Поэтому идти путем тя-но ю — значит ценить дух естественного гармонического соединения Неба и Земли, видеть всепроникающее присутствие пяти элементов (у-син) у своего очага в комнате, где горы, реки, скалы и деревья такие, какие они в природе, черпать свежую воду из колодца природы, вкушать своими устами то, что взращено природой. Как велико удовольствие от гармонического соединения Неба и Земли!
[Конец письма Такуана]
Повлияли ли как-нибудь дзэн и искусство чая на развитие демократического стиля в социальной жизни Японии? Несмотря на строгую социальную иерархию, установленную в феодальную эпоху, идея равенства и братства все-таки сохраняется среди людей. В чайной комнате площадью в десять квадратных футов присутствуют гости из различных социальных групп; там колени простолюдина касаются ног благородного, и тот и другой с должным почтением беседуют на темы, интересующие обоих. И приверженцам дзэн также не дозволяется обнаруживать симпатии к кому бы то ни было, дзэнские монахи одинаково ровно относятся ко всем сословиям, со всеми они чувствуют себя как дома. Вообще в человеческой природе глубоко укоренено стремление хоть иногда сбрасывать все социальные ограничения, которые на нее искусственно налагаются, и вступать в свободное, естественное, сердечное общение со своими собратьями, включая животных, растения и так называемые неодушевленные объекты. Поэтому мы всегда приветствуем любую возможность для обретения подобной независимости. Несомненно, именно это имеет в виду Та- куан, когда говорит о «гармоническом соединении Неба и Земли», подобном соединению ангелов в хоре.
По сути «почтительность» изначально является религиозным чувством по отношению к существу, которое предполагается более высоким, чем мы сами, бедные смертные. Это чувство затем переносится на социальные отношения, а потом вырождается в простой формализм. В нынешнюю эпоху так называемой демократии все люди равны, по крайней мере с социальной точки зрения, и нет никого, кто бы заслуживал особого почтения. Но когда это чувство продумывается до его исконного смысла, оказывается, что оно — результат мысли о собственной недостой- ности, то есть это — осознание своих пределов, физических и интеллектуальных, нравственных и духовных. Это осознание пробуждает в нас желание превзойти самих себя, а также вступить в общение с существом, которое по отношению к нам занимает противоположную позицию. Это желание часто направляет наши духовные порывы к объекту, находящемуся вне нас; но когда оно направлено внутрь нас, то становится самоотрицанием и ощущением греховности. Это отрицательное качество, если его доводить до крайности, и оно остается положительным, если ведет нас к почтительности, желанию не пренебрегать другими. Мы — существа, полные противо
речий: с одной стороны, чувствуем, что мы столь же добры, как и другие; с другой стороны, в глубине души подозреваем, что кто-то другой лучше, чем мы, то есть испытываем какой-то комплекс неполноценности.
Есть в буддизме махаяны один бодхисаттва,[146] которого зовут Садапарибхута (Дзёфукё Босацу), «тот, кто никогда не пренебрегает другими». Возможно, когда мы вполне искренни перед собой, когда мы пребываем совсем одни, погружаясь в самые сокровенные уголки своего существа, появляется чувство униженности по отношению к другим. Как бы то ни было, почтительность ума — это глубоко религиозное состояние. В дзэн можно сжечь все святые статуи в храме, чтобы обогреться в холодную зимнюю ночь; можно порвать все книги, хранящие драгоценное наследие, — для того чтобы спасти самое его существование в виде истины, очищенной от всех внешних оболочек, какими бы эффектными они ни казались со стороны. Но последователь дзэн никогда не забывает почтить своим вниманием какую-нибудь сломленную ветром жалкую травинку, он никогда не забывает подносить все дикие полевые цветы, именно такие, какие они есть, всем буддам трех тысяч миров. Дзэнский монах знает, как нужно почитать, потому что знает, как пренебрегать. В дзэн, как и во всем остальном, необходима искренность сердца, а не концептуальные построения.
Тоётоми Хидэёси был великим покровителем искусства чая того времени и поклонником Сэн-но Рикю (1521 —1591), который, вероятно, усовершенствовал это искусство. Хотя Хидэёси во многом являлся натурой чувственной, напыщенной и хвастливой, он, по-видимому, в конце концов понял нечто в духе искусства чая, как его исповедовали Рикю и его последователи, понял, раз дал такой стих Рикю на одной из «чайных встреч» последнего:
Когда чай готовится на воде, Почерпнутой из глубин ума,
Дно коего не измерить,
У нас подлинное тя-но ю.
Во многих отношениях Хидэёси был грубым и жестоким деспотом, но в том, что ему нравилось искусство чая, мы склонны усмотреть нечто более глубокое, чем простое «использование» этого искусства в политических целях. Его стихи наполнены духом почтительности, когда он говорит о воде, зачерпнутой из глубочайшего колодца ума.
Рикю учит, что «искусство тя-но ю состоит только в том, чтобы кипятить воду, заваривать чай и потягивать напиток». На первый взгляд, это выглядит довольно просто. Мы бы сказали, что человеческая жизнь состоит в том, чтобы рождаться, есть и пить, работать и спать, жениться и рожать детей и, наконец, уйти из этого мира — а куда, никто не знает. Кажется, нет ничего проще, чем жить подобной жизнью, когда она предстает таким образом. Но многие ли из нас живут этой повседневной, или, скорее, опьяненной Богом жизнью, не взращивая желаний, ни о чем не сожалея, абсолютно доверяя Богу? Живя, мы думаем о смерти; умирая, жаждем жить; едва осуществлено одно желание, как тут же многое другое, не всегда осмысленное и обычно неуместное, загромождает наши мозги, отвлекает и рассеивает энергию, которая должна быть сосредоточена на том, что происходит в данный момент. Когда воду наливают в чашу, то вместе с ней туда же вливают и множество вещей, хороших и плохих, чистых и нечистых, которые заставляют кого-то покраснеть, которые не могут
никогда излиться никуда, кроме как в глубинное бессознательное индивида. Вода для чая, если ее исследовать, содержит всю грязь, мешающую нам, загрязняющую поток нашего сознания. Искусство совершенно тогда, когда оно перестает быть искусством; когда есть совершенство безыскусности, когда утверждается сокровеннейшая искренность нашего бытия, тогда и открывается смысл почтительности в искусстве чая. Тем самым почтительность оказывается искренностью, или простотой сердца.
Можно сказать, что «чистота», которая составляет сам дух чайного искусства, является особенностью японского характера. Чистота, то есть опрятность, или упорядоченность, заметна во всем, что относится к этому искусству. Свежая вода берется в саду, который называется родзи (буквально — двор). В том случае, если в саду нет естественного водного источника, там ставится каменная чаша, которую наполняют водой, когда кто-нибудь приходит в чайную комнату; эта чаша всегда сохраняется в чистоте, свободная от пыли и грязи.
Чистоту в искусстве чая можно сопоставить и с даосским учением о Чистоте. Есть что-то общее для них обоих, ведь цель дисциплины и здесь, и там состоит в освобождении ума от омрачения чувствами.
Чайный мастер говорит: «Дух тя-но ю состоит в очищении шести чувств от загрязнений. При виде ка- кэмоно в токонома (альковная ниша) и цветка в вазе очищается чувство обоняния; когда слушаешь, как вода закипает в железном чайнике и стекает с бамбуковой трубы, очищается слух; когда вкушают чай, очищается чувство вкуса; когда касаются чайной утвари, очищается чувство осязания. Таким образом, когда очищены все органы чувств, очищается от омрачений и сам разум. В конце концов искусство чая — это духовная дисциплина, и я стремлюсь ни на шаг не отступать от духа чая, который отнюдь не простое развлечение».[147]
В одном из своих стихотворений Рикю пишет:
Если родзи означает переход За пределы этой жизни земной,
Как это только люди ухитряются Запачкать его пылью ума?
Вот еще одно его произведение, в котором Рикю сообщает о своем состоянии сознания в тот момент, когда он безмятежно выглядывал из окна своей чайной комнаты:
Двор покрыт Опавшей Сосновой хвоей;
Пыль совсем не клубится И спокоен мой ум!
Далеко в небе луна,
Взирая сквозь ставни.
Светит на ум.
Не омраченный сожалениями.
Действительно, это чистый ум, безмятежный, свободный от омрачающих эмоций, ум, радующийся одиночеством абсолютного:
Покрытая снегом горная тропа. Ветвящаяся сквозь скалы,
Подошла к концу;
Здесь стоит хижина.
Мастер совсем один;
Гостей нет у него,
Никто и не ожидается.
В книге Нанбороку, одном из самых важных, чуть ли не священных учебных пособий по чайному искусству, содержится следующий отрывок, показывающий, что идеал искусства — воплощение буддийской земли Чистоты, пусть и не на очень большой территории, а также видение совершенного общества, собравшегося там, каким бы оно ни было временным и малочисленным:
«Дух ваби заключается в том, чтобы выразить буддийскую землю Чистоты, совершенно свободную от загрязнений. Вот почему в этом родзи (дворе) и в этой соломенной лачуге не должно быть ни частицы грязи, а от мастера и гостей требуются отношения абсолютной искренности. Отбрасываются в сторону привычные мерки соподчинения, этикета или условностей. Огонь разведен, вода вскипела, чай заварен — это все, что здесь требуется, остальным мирским ухищрениям вход закрыт. Мы желаем дать полное выражение сознанию Будды. Когда настаивают на церемониальности, этикете и других подобных вещах, к этому приклеиваются различные внешние соображения, и тогда и мастер, и гости начинают искать изъяны друг в друге. Становится все труднее и труднее находить людей, в совершенстве понимающих смысл искусства. Если бы у нас мастером чая был Дзёсю,[148] гостем — Бодхидхарма, первый патриарх
дзэн, а Рикю и я сам делали бы уборку в родзи, разве нашлось бы собрание, более счастливое?»
Мы теперь видим, насколько глубоко насыщено духом дзэн это утверждение одного из главных учеников Рикю.
Следующий раздел будет посвящен прояснению понятия саби, или ваби, понятия, образующего четвертый принцип искусства чая — «спокойствия». Фактически это самый важный фактор в искусстве чая, без него вообще не может быть тя-но ю. Именно здесь дзэн самым тесным образом переплетается с искусством чая.
3
Я применил термин «спокойствие» для обозначения четвертого элемента духа чая, но, возможно, он не вполне подходит для передачи китайского иероглифа цзи или японского дзаку. Дзаку есть саби, однако понятие саби не ограничивается только значением «спокойствие». Действительно, его санскритский аналог шанта, или шанти, означает спокойствие, покой, безмятежность; кроме того, термин дзаку в буддийской литературе часто используется для обозначения смерти, или нирваны. Но в чайном искусстве этот термин употребляется в значении «бедность», «простота», «одиночество», и тем самым саби становится синонимично ваби. Чтобы оценить бедность, признать все то, что уже дано, требуется спокойный, пассивный ум, но и в саби, и в ваби есть намек на некую объективность. Просто быть спокойным, или пассивным, — это не саби и не ваби. Есть всегда нечто объективное, которое вызывает в человеке состояние, называемое ваби. И ваби — это не просто психологическая реакция на некий фрагмент действительности. Есть в нем активный принцип эстетизации, и когда он отсутствует, бедность вырождается в нужду, одиночество превращается в остракизм, в мизантропию или в избегание людей. Поэтому ваби, или саби, может быть определено как активное, эстетическое признание бедности. Когда этот принцип используется как элемент искусства чая, он творит, переоформляет окружающую обстановку таким образом, чтобы пробуждать чувство ваби, или саби. Мы могли бы сказать, что в нынешнее время саби относится в большей степени к индивидуальным объектам и обстановке вообще, а ваби — к средствам жизни, обычно соотносимым с бедностью, или недостаточностью, или несовершенством. Тем самым саби более объективно, тогда как ваби, скорее, субъективно, личностно. Мы говорим о ваби-дзумай, то есть об образе жизни ваби. Когда же оценивается, например, заварочный чайник, или чаша, или цветочная ваза, то этот сосуд часто характеризуется как имеющий оттенок саби, или кан-ми. Кан и саби — синонимы, ми означает вкус. Насколько я знаю, характеристикой чайной утвари ваби никогда не является.
Из следующих двух стихотворений первое, как считается, выражает идею ваби, второе — идею саби:
Среди сорных трав, растущих вдоль стены.
Сверчки, словно покинуты, таятся
В саду, омытом ливнями осенними.
Травы ёмоги в саду увядать начинают;
Осень слабеет.
Ее краски блекнут;
Не знаю почему, но сердце мое полно меланхолии.
Как считается, идея саби впервые возникла у мастеров рэнга, которые очень высоко оценивали вещи, показывавшие признаки ветхости, иссушения, окоченения, замерзания, помутнения, — все это негативные черты, противоположные теплу, весне, расширению, прозрачности и т. п. Фактически эти чувства
возникают от бедности, нищеты, но они также содержат качество, которое ведет их к высоко оцениваемому эстетическому экстазу. Последователи культа чая скажут, что объективно эти чувства отрицаются, но субъективно одобряются, с их помощью внешняя пустота наполняется внутренним богатством. В некоторых случаях ваби есть саби, в некоторых — саби есть ваби; эти понятия взаимозаменимы.
Сюко (умер в 1502 г.), ученик Иккю (1394 — 1481) и чайный мастер сёгуна Асикага Есимаса (1435— 1490), когда учил своих учеников духу чая, обычно рассказывал одну историю. Некий китайский поэт как-то составил такой стих:
В лесу, глубоко утопая под снегом, Прошлой ночью несколько ветвей сливового дерева зазеленели.
Он показал это произведение своему другу, который заметил, что следует изменить выражение «несколько ветвей» на «одну ветвь». Автор последовал совету друга, восхвалив его как своего «учителя одного иероглифа». Одинокая ветвь сливового дерева в цвету среди покрытых снегом деревьев — вот идея ваби.
В другой раз Сюко заявил: «Хорошо любоваться прекрасным конем, привязанным в сарае с соломенной крышей. Но не менее прекрасно увидеть, что в скромно обставленной комнате скрывается редкостный объект искусства». Это напоминает дзэнское изречение: «Наполнить оборванную рясу монаха прохладным освежающим ветром». На внешний взгляд, здесь нет никаких различий, явления всецело противоречат содержанию, которое в любом случае оказывается бессмысленным. Тогда жизнь в согласии с ваби можно определить так: невыразимая, безмятежная радость, глубоко сокрытая под внешней бедностью; именно искусство чая пытается выразить эту идею в художественной форме.
Но, если заметен хотя бы намек на неискренность, все совершенно разваливается. Пусть содержание и не имеет смысла, оно должно присутствовать изначально, оно должно присутствовать так, словно бы его никогда здесь не было, оно должно быть обнаружено, скорее, случайно. Поначалу, кажется, нет признаков чего-то экстраординарного, и все же что-то привлекает взор — и вдруг сверкнут золотые копи. При этом само по себе золото остается всегда одним и тем же, открыли его или нет. Оно сохраняет свою реальность, то есть искренность, для себя, независимо от случайностей. Ваби означает «быть истинным для себя». Наставник живет спокойно в своей скромной хижине, друг приходит неожиданно, чай заварен, свежий запах цветов распространяется, и гость, очарованный беседой и угощением, радуется мирному полудню. Разве это не подлинная чайная церемония?
Некоторые могли бы спросить: в нашу современную эпоху многие ли люди способны оказаться в схожей с мастером чая ситуации? Нет смысла рассуждать о досужем развлечении. Дайте нам сначала хлеба, убавьте немного рабочий день. На это можно ответить так. Да, это правда, что мы должны добывать хлеб в поте лица своего и работать каждый день по многу часов, словно машины. Поэтому наши творческие порывы находятся в жалком, угнетенном состоянии. И все же, я полагаю, не только по этой причине мы, современные люди, настолько утратили вкус к свободному времени, что не находим покоя в своих сердцах, не способны наслаждаться жизнью как-то иначе, чем просто удовлетворять одно желание за другим. Возникает вопрос: почему же мы стали жить, цепляясь за свои внутренние треволнения, успокаиваемые лишь временно? Как случилось, что мы больше не размышляем над жизнью глубже, серьезнее, так, чтобы осознать ее сокровенное значение? Когда поставлен такой вопрос, давайте, если это необходимо, отринем всю механистичность современного мира и начнем жить заново. Я надеюсь, что наше предназначение не состоит в вечной зависимости от материальных желаний и удовольствий.
Еще один чайный мастер пишет: «Дух ваби начинается с Аматэрасу Омиками.[149] Будучи великим правителем этой страны, он был волен воздвигать прекраснейшие дворцы, инкрустированные золотом, серебром и драгоценными камнями, никто и не осмелился бы сказать о нем плохо, но все-таки он обитал в хижине из тростника и ел неочищенный рис. При любых обстоятельствах он был самодостаточен, скромен и целеустремлен. Он поистине был замечательным чайным мастером, живущим жизнью ваби».
Чайный мастер представляет нам Аматэрасу Омиками как подлинного мастера, жившего жизнью ваби. Впрочем, это показывает, что искусство чая — эстетическое признание примитивной простоты, или, иначе, эстетическое выражение стремления, которое в глубине своей души чувствует каждый из нас; желания подойти к природе как можно ближе, насколько это позволяет наша человеческая природа, стать одним целым с ней.
Я думаю, что теперь читатель лучше понимает, что такое ваби. Можно сказать, что подлинная жизнь в ваби начинается с Сотана, внука Рикю, который утверждает, что ваби — это сущность искусства чая, соответствующая нравственным установкам буддистов:
«Большая ошибка — хвастаться ваби, ведь внутренне оно не имеет с показухой ничего общего. Подобные хвастуны сооружают чайную комнату с таким расчетом, чтобы выпятить ваби. На изделия для такой комнаты тратится много золота и серебра; за деньги, полученные от продажи продуктов с их хозяйств, приобретаются редкостные произведения искусства — и все лишь для того, чтобы покрасоваться перед посетителями. Они считают, что это и есть жизнь в ваби. Но это совсем не так. Ваби означает нехватку вещей, неспособность удовлетворить какое бы то ни было желание, а в целом — жизнь в бедности и унынии. Останавливаться в унынии из-за невозможности двинуться вперед — вот ваби. Но такой человек не размышляет над сложившейся ситуацией. Он учится быть самодостаточным, даже если ему не хватает многих вещей. Он ничего не ищет за пределами своих возможностей. Он перестает замечать, что находится в стесненных обстоятельствах. Впрочем, если бы он продолжал цепляться за идею бедности, лишенности или сетовал на свои жалкие условия, он бы был не человеком ваби, но только существом, зажатым в тисках бедности. Те, кто доподлинно знает, что такое ваби, свободны от жадности, насилия, гнева, лености, беспокойства и глупости. Таким образом, ваби соответствует буддийской парамите нравственности».
В ваби аскетизм переплетается с нравственностью, или духовностью, и именно по этой причине чайные мастера заявляют, что чай — это сама жизнь, а не просто вещь, приносящая удовольствие, каким бы оно ни было утонченным. Таким образом, дзэн напрямую связан с чайным искусством. И в самом деле, большинство древних мастеров чая изучали дзэн с полной серьезностью и применяли достижения в его изучении к своему искусству.
Можно иногда определять религию как способ избежать банальности земной жизни. Ученые могут возражать этому, говоря, что религия стремится не избегать, но преодолевать жизнь, для того чтобы достичь абсолютного, или бесконечного. Но, с практической точки зрения, мы «бежим» тогда, когда у нас остается слишком мало времени для отдыха и восстановления. Дзэн как духовная дисциплина знает это, но так как он слишком трансцендентален, слишком сложен для обыденных умов, наставники чая, изучавшие дзэн, изобрели собственный способ воплотить свое понимание на практике — в форме искусства чая. Вероятно, в этом в немалой степени преломились их эстетические устремления.
Читатели могут вообразить, что ваби — так, как оно описано выше, — является, скорее, негативным качеством и что оно подходит только для тех людей, которые потерпели жизненные неудачи. Возможно, в каком-то смысле это и так. Однако многие ли из нас действительно настолько здоровы, что в иные моменты своей жизни не нуждаются в каком-нибудь лекарстве или в стимуляторе? Кроме того, каждый из нас обречен покинуть этот мир. Современные психологи приводят массу примеров, когда активные деловые люди, крепкие физически и умственно, неожиданно умирали, когда отходили от дел. Почему? Потому что они не учились запасать свою энергию; иначе говоря, они понятия не имели, что можно периодически уходить в уединение, не прекращая активного образа жизни. Японский воин в стародавние времена войн и смут, будучи чрезвычайно занят в военных действиях, все-таки понимал, что он не сможет постоянно находиться в огромном нервном напряжении и что иногда ему необходимо уединение. Должно быть, чай давал ему именно такую возможность. Он ненадолго удалялся в спокойный уголок бессознательного, олицетворяемый чайной комнаткой площадью не больше десяти квадратных футов. И когда он покидал ее, то не только ощущал свежесть в уме и теле, но и, что
очень вероятно, его память сохраняла нечто гораздо более ценное, чем простую воинственность.
Таким образом, мы видим, что «спокойствие» — четвертый, и главный, фактор, формирующий дух чая, — в конечном счете означает разновидность эстетического созерцания бедности в понимании Экхар- та. Это тот дух, который приверженец культа чая называет ваби или саби, в зависимости от обозначаемых объектов.[150]
ДЗЭН И ИСКУССТВО ЧАЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 1
Однажды два монаха говорили о дзэн. Один из них, Тёкэй (Чан-цин Хуэй-лин, 853—932), заявил:
Даже на полностью просветленного архата все еще влияют три ядовитые страсти.[151] А вот Будда никогда не делает двусмысленных суждений. Все, что он утверждает, абсолютно истинно. Что вы скажете на это?
Хофуку (Бао-фу Цун-чжань, умер в 928 г.) спросил:
Каково же тогда утверждение Будды?
Тёкэй ответил:
Смерть не может услышать его.
Хофуку подверг это высказывание критике:
Вы опускаетесь на более низкий уровень.
Ив чем же тогда, по-вашему, утверждение Будды?
Угощайтесь чаем, о мой собрат-монах.[152]
Выпивание чая — вполне невинное занятие, и мы
практикуем его в своей повседневной жизни, особенно на Востоке. Но когда им занимаются дзэнские монахи, оно становится важным событием, ведущим прямо к состоянию Будды, к его абсолютной истине. Вероятно, для людей ординарных удивительно, как
дзэнские мастера могут совершать подобную трансформацию, тем более своими тонкими словесными шутками. Но дело в том, что мир этих мастеров — не тот, в котором живут настроенные на обыденность, зависящие от своих чувств люди. Это не означает, что, допустим, дерево в одном мире не является деревом в другом, и наоборот, хотя нечто подобное и имеется в сфере дзэн. Ведь в дзэн вещь — это одновременно и то, чем она является, и то, чем не является. Гора, стоящая перед нами, — это и гора, и не гора; ручка, которую я держу в своей руке, — это и ручка, и не ручка. Человек дзэн видит вещи под таким углом зрения. Поэтому для него выпивание чая — это не выпивание чая; оно происходит прямо из глубинных корней существования и опускается в них же. Согласно Экхарту, «блоха, которая живет в Боге, по своему положению выше, чем наивысший ангел, который живет в себе. Таким образом, в Боге все вещи равны, все вещи и есть сам
Б
ог».
Однажды, когда дзэнский мастер Сёдзан (Сун- шань) и мирянин Хо (Пан Цзю-ши) — оба жившие в восьмом столетии — наслаждались чаем, Хо поднял такусу[154] и спросил:
У каждого из нас это есть, почему же мы не можем сказать что-то об этом?
Это именно потому, что у каждого из нас это есть и мы не в состоянии сказать ничего об этом, — ответил Сёдзан.
Хо снова спросил:
Тогда как же вы способны вообще сказать что-то об этом?
Сёдзан воскликнул:
Нельзя оставаться, не говоря ничего!
На что Хо сказал:
Вот это вам и нужно!
Для этих последователей дзэн блюдце-такусу тоже не было просто такусу, оно несло более глубокое значение, чем мы, люди ординарные, обычно придаем ему.
Вот почему для японцев выпивание чая имеет такое огромное значение — они словно таинственным образом касаются самого основания реальности, нет, даже не «словно», а на самом деле. И именно благодаря искусству чая мы можем проникнуть в сущность восточной культуры.
«Выпивание чая», которое на японском известно как тя-но ю, а на Западе как «чайная церемония», или «культ чая», — это не просто выпивание чайного напитка, но также и все действия, связанные с ним, вся утварь, необходимая для этого, весь микроклимат данного действа, и самое важное — это особое состояние ума, или духа, которое непостижимым образом возникает из сочетания всех этих факторов.
Поэтому выпивание чая — не столько само по себе его выпивание, сколько искусство культивации того, что можно назвать «психосферой»,[155] то есть психической атмосферой, или внутренним полем сознания. Мы могли бы сказать, что оно появляется внутри индивида, когда он сидит в маленькой, несимметрично оборудованной полутемной комнате с низким потолком. Оно появляется, когда берешь в руки чашу для чая, которая, несмотря на свою грубую форму, говорит о личности создателя; когда слушаешь, как на древесном угле в железном чайнике закипает вода. Проходит немного времени, и человек, ощущая внутри себя гармонию, начинает замечать иные звуки, входящие из окон. Это вода, капающая из бамбуковой трубы, которая проводит воду откуда-то с горного склона. Она капает ни скудно, ни обильно, ее вполне достаточно, чтобы ум вошел в состояние спокойной пассивности. Но по-настоящему ум остается активным, поскольку он может полностью постичь гармоническую совокупность вещей, окружающих чайную комнату, как за ее пределами, так и внутри нее.
Таким образом, возникновению особого состояния ума, или психосферы, помогает реализация духа бедности, лишенной любых различений: между субъектом и объектом, добром и злом, истинным и ложным, честью и бесчестием, телом и душой, выгодой и утратой и т. д. Кёгэн Сикан (Сян-янь Чжи-сянь), дзэн- ский мастер конца Танской династии, приводит свою идею бедности (хин — по-японски, пинь — по-китайски) в следующем стихотворении:
Бедность в прошлом году не была полной;
В этом году бедность абсолютна.
В прошлом году было куда класть буравчик,
В этом из-за бедности он и сам исчез.
Такая бедность, которая не оставляет места ни для чего, даже для кончика иголки, в философии
праджняпарамиты (яп. — хання, кит. — банъ-жо) называется «пустотой» (санскр. — шунъята, яп. — ку, кит — кун). Принцип чайной церемонии основан на ней, ибо саби, или ваби,[157] есть не что иное, как эстетическое признание абсолютной бедности.
3
В этой связи было бы интересно отметить, что понятие бедности у Экхарта (armut) созвучно аналогичному понятию Кёгэна, приведенному выше. В одной из своих проповедей Экхарт упоминает того, кто «божественно беден, поскольку даже Бог не найдет в нем места для действия». «Этот человек свободен от объектов и во времени, и в вечности... Есть два объекта: один есть инаковость, а другой — собственное я человека».[158] Тот человек, который свободен от объектов, то есть свободен от различения между субъектом и объектом, есть «человек без обители», живущий в пустоте. «Истинная нищета духа требует, чтобы человек был пуст от Бога и от всех его действий так, что, если Бог захочет действовать в его душе, этот человек сам должен стать местом, в котором Бог действует».[159]
Именно из этой абсолютной бедности, воспетой Мейстером Экхартом, и рождается философия чая. В самом деле, именно в пустоте, где нет места не только для творений Бога, но и для самого Бога, — потому что пустота есть Бог, а Бог — это пустота, — иначе говоря, пребывая в состоянии ничто и вневре- менности, Дзёсю, Хофуку, Хо и другие мастера дзэн наслаждаются своим чаем.
Таким образом, философия чая — это философия бедности, или пустоты. Когда мы понимаем это, нам становится понятным, почему японцы любят и ценят чайное искусство.
4
В этом отношении интересно стихотворение древнего японского поэта Фудзивара Садайэ, которое в качестве своего девиза часто любят цитировать последователи чая:
Погляжу вокруг —
Ни цветов, ни кленовых листьев.
Это рыбацкая деревушка.
Осень наступает!
Впрочем, одиночество — это не обязательно прогулка по пескам и пустынным уголкам или созерцание бескрайних морских просторов. Уже можно заметить кое-какие весенние краски возле покинутых лодок, под порванными неводами, которые сушатся на берегу:
Тем, кто всегда стремится к ярким цветам,
Как хочется мне показать пятна зелени среди снега. Так выразительно говорящие о ранней весне!
Для наблюдательного, внимательного взора одинокая пустынность поздней осени в чем-то уже является провозвестником грядущей весны, и он видит, что каждый упавший на землю лист, каждый высохший стебелек травы, которая укрывала бесчисленных стрекотавших насекомых, готовят приход новой жизни. Как говорит Рикю, вода в чайнике, взятая из колодца ума, дно которого не знает глубин, и пустота, которая, с концептуальной точки зрения, часто ошибочно принимается за чистое ничто, фактически являются хранилищем (алая) бесконечных возможностей. В одиночестве поздней осени мы обнаруживаем элементы того, о чем пишет Сэттё (Сюэ-доу Чжун-сянь, 980 —1052), дзэнский поэт династии Сун:
Весенние горы покрыты разнообразными цветами.
Весенние потоки полны причудливых отражений.
Последователь чая, сидящий в одиночестве в чайной комнате, — это тот, кого Сэттё далее описывает как
Стоящего между небом и землей,
Лицом к лии,у с множеством существ.
Прежде всего дух чая — это одиночество, «сидение в уединении на вершине горы Махавира», как говорил Хякудзё. Сакэ, которое противопоставляют чаю, —напиток для общения и особенно для создания веселого настроения, а часто и для шумных споров. Чай аристократичен, сакэ демократично. Чай не столь фамильярен и не столь не-индивидуалистичен, как сакэ. Он интровертен и «самоколлективен». Говорят, великий танский поэт Рихаку (Ли Бо) имел пристрастие к сакэ, без которого он не мог писать свои вдохновенные стихи. Когда вдохновение получает человек чая, произведения его выглядят сосредоточенными и сконцентрированными, исполненными созерцательной мысли. Поэтому сакэ лучше поглощать в компании веселых приятелей, а вот чай уместнее прихлебывать наедине с самим собой в традиционной комнате площадью в десять или даже в шесть квадратных футов, в уединенном уголке, подальше от людных мест.
Следующее описание чайной комнаты взято из моей статьи, опубликованной в журнале The Cultural
East (1945):
«Чайная комната — это символ некоторых сторон восточной культуры. В ней в самой концентрированной форме можно найти почти все элементы, характерные для японского сознания, если его рассматривать со статической точки зрения. Что касается динамических аспектов, то им могли бы соответствовать только немногие элементы чайной комнаты, в которой движения настолько контролируются, что они лишь углубляют спокойствие, в целом царящее здесь.
Комната мала и потолок не так высок даже для роста среднего японца. Она лишена украшений, за исключением алькова (токонома),[160] где висит какэмоно* и перед которым ставится цветочная ваза, содержащая чаще всего единственный, еще не расцветший цветок. Если оглядеться вокруг, то заметно, что, несмотря на внешнюю простоту, комната подчинена определенному замыслу: проемы для окон несимметричны; потолок далек от идеала; использованные материалы, простые и безыскусные, разнородны; комната разделена неким возвышением, которое также образует и место для чайной утвари; на полу — маленький квадрат, служащий очагом, на котором кипятится вода в железном чайнике искусной формы.
Сёдзи из рисовой бумаги, покрывающие окна, пропускают только мягкий свет и препятствуют про-
никновению прямых солнечных лучей; если же последние настолько сильны, что это сказывается на чувствительности любителя чая, от них помогает избавиться грубое сударэ, висящее как раз за одним из окон. Когда сидишь спокойно перед очагом, постепенно воспринимаешь запах горящих благовоний. Этот запах необычайно успокаивает нервы; тогда как пряный аромат цветов производит на чувства противоположный эффект. Мне говорили, что сырье для благовоний происходит из тропических стран, его добывают из старых деревьев, пролежавших в воде долгое время.
Находясь в подобном состоянии ума, я слышу, как приятно шелестит ветерок в сосновых ветвях; этот звук смешивается со звуком воды, которая стекает из бамбуковой трубы в каменный бассейн. Эти спокойные течение и бриз созвучны уму того, кто сидит внутри хижины. Фактически они вызывают у созерцателя настроение погрузиться до основания своего бытия».
Таким образом, мы можем видеть, насколько глубоко дух чая укоренен в философии пустоты прадж- не[161] как ее исповедует дзэн. Пускай слово «пустота» может звучать слишком абстрактно для любителя чая, прихлебывающего напиток зеленоватого цвета из сработанной вручную чаши, пустота, в сущности, не менее конкретна, чем сама реальность. Это все зависит от того, как человек оценивает природу вещей. Если его чувства функционируют только лишь на уровне относительной реальности, он никогда не сумеет подняться выше. Человек, который видит глазами и слышит ушами, не может продвинуться дальше чувственного опыта. Если он не заставит себя видеть ушами и слышать глазами, ему придется остаться в рамках своих чувств. Только когда он выходит из них, он может достичь чудес, погружаясь в царство пустоты, ибо пустота есть источник бесконечных возможностей. Дайто-кокуси, основатель монастыря Дайтокудзи в Киото, как-то сказал:
Если ваши уши видят,
А глаза слышат,
Несомненно, вы запомните.
Как естественно дождь Капает с карниза!
Это можно понять лучше, когда мы изучим историю чая. Чай впервые был завезен из Китая в Японию в конце XII в. одним дзэнским монахом. Он привез не только семена чая, но и ритуал, который совершали китайские последователи дзэн, подносившие чашку чая своему первому патриарху, Бодхид- харме. Тем самым чай оказался тесно связан с дзэн. Действительно, есть что-то во вкусе чая, что соединяет любителя чая с запредельным духом дзэн. В отличие от чая сакэ, как я указывал выше, ведет нас к общительности и веселому настроению, а нередко и к животному высвобождению энергии.
В эпоху Асикага выпивание чая как искусство вышло за пределы дзэнского монастыря и получило распространение главным образом в самурайской среде. Когда правительство сёгуна утратило контроль над феодальными князьями, сильнейшим из них оказался Ода Нобунага (1534 —1582 г.). Он уже фактически объединил страну под своим руководством, однако встретил трагическую смерть. Ему наследовал Тоётоми Хидэёси (1536 —1598 гг.), самый способный из его офицеров. Хидэёси продолжил работу по объединению страны. Оба они, и Хидэёси, и Нобу- нага, покровительствовали искусству чая, достигшему большого развития к тому времени, особенно при Хидэёси. Человеком, который внес серьезный вклад в это развитие и который может считаться подлинным основоположником искусства чая, был Сэн-но Рикю
(1521—1591).
Возможно, это не больше чем историческая случайность, но, на мой взгляд, жизнь Рикю стала неизбежной иллюстрацией всех противоречий и трагедий, эстетизма и героизма, абсурдности и рациональности, погребенных в бездонной толще Пустоты. Рикю довелось родиться в период политических катаклизмов и смут. Он принадлежал к сословию торговцев, значение которого было довольно большим для сражавшихся феодальных правителей. Постепенно, без особых усилий Рикю достиг такого статуса, что стал исполнять некие тайные политические функции, связанные с его творческим гением и личностными качествами. Со временем он стал большим другом Хидэёси. Хидэёси же, который достиг властного положения благодаря своему высшему генеральскому чину и политической прозорливости, был в известном смысле грубым, неотесанным солдафоном, но он, по-видимому, понимал искусство чая. Странно, что, несмотря на крайнюю напряженность атмосферы, окутывавшей весь период Момояма, воины ощущали сильный интерес к искусству чая. Когда представлялся случай, они уединялись в чайной комнате и, созерцательно прихлебывая чай, вдыхали дух спокойствия и запре- дельности. По крайней мере на время их ум мог находиться в царстве пустоты. Кажется, Рикю, большой мастер этого искусства, пробудил этот дух в тех воинственных самураях, которые хотя и были частенько
весьма необразованными, всегда охотно погружались в мир великих творческих традиций. С другой стороны, и Рикю, несмотря на то что он принадлежал к торговому сословию, испытал влияние самурайства. Таким образом, он стал символом по крайней мере одного аспекта японской жизни в эпоху Момояма.
Там, где правит сила, даже малейшее подозрение заговора уничтожается с чрезвычайной поспешностью. Когда Хидэёси получил информацию — непонятно, ложную или истинную — о том, что Рикю замышляет интригу, последний немедленно подвергся верховной каре: он должен был умереть от своей руки — этой привилегией пользовались только почетные самураи. Последняя сцена драматически описана Окакура Какудзо (1862 — 1913), автором Книги о чае, в следующей манере:
«В день, отведенный для самоубийства, Рикю пригласил своих главных учеников на последнюю чайную церемонию. В назначенное время горюющие гости собрались у входа. Когда они смотрели на садовые тропинки, им казалось, что даже деревья дрожат, а в шорохе листвы им слышался шепот бездомных духов. Подобно величавым стражам, охраняющим врата Аида, стояли серые каменные фонари. Волна редких благовоний вынырнула из чайной комнаты: это было приглашением войти. Один за другим гости проходят и занимают свои места. В токонома висит какэмоно — чудесное произведение древнего монаха, своим содержанием намекающее на бренный характер всего земного. Пение чайника, закипающего на жаровне, — словно пение некоей цикады, посылающей свои вздохи вслед уходящему лету. Вскоре хозяин входит в комнату. Каждому по очереди наливают чай, каждый по очереди молча осушает свою чашку, а хозяин — позже остальных. Согласно установленному этикету, главный гость теперь испрашивает разрешения взглянуть на чайную утварь. Рикю расставляет различные изделия перед гостями, напротив какэмоно. После того как было выражено восхищение их красотой, Рикю дарит по одному изделию каждому из собравшихся в качестве сувенира. Себе он оставляет только чашу. „Никогда уже эта чаша, оскверненная устами неудачи, не будет использоваться мною”. — После этих слов он разбивает сосуд на части.
Церемония завершена. Гости, с трудом сдерживая слезы, прощаются в последний раз и покидают комнату. Только одного гостя, самого близкого и дорогого, просят остаться и засвидетельствовать конец. Затем Рикю снимает свое чайное облачение, осторожно кладет его на мат, и становится видно безукоризненной чистоты белое смертное одеяние, которое до этого момента было сокрыто. С нежностью он взирает на сверкающее лезвие рокового кинжала и адресует к нему возвышенный стих:
Приглашаю тебя,
Омеч вечности!
Благодаря Будде И благодаря Дхарме Ты проторил путь
С улыбкой на лице Рикю отошел в неизвестность».
Как мы можем свйзать эскапизм искусства чая с трагической концовкой мастера? Как можно надеяться узреть одинокий меч пустоты,‘летящий ввысь, убивающий и будд, и мар (демонов), друзей и врагов, тиранов и рабов? Когда однажды Хидэёси пожелал увидеть вьюнки Рикю, тот оборвал все цветы в саду; когда же Хидэёси вступил в чайную комнату, он увидел в вазе только один цветок, все остальное было пожертвовано ради одного. И теперь даже это одно было пожертвовано теми же руками, которые срезали сотни других цветов. Но была ли это настоящая жертва? Исчезла ли она без следа из культурной истории Японии? Нет, потому что все еще «стоит меч, уставившись холодным острием в небо».
7
Как я говорил выше, дух чая — это бедность, уединенность и абсолютность, и этот дух характеризует философию пустоты. Поэтому, когда в чайную комнату входит даже несколько человек, ее дух нарушается и необходимо установление каких-то «регулирующих принципов». Как говорит Лао-цзы, «великое дао стирается, когда утверждаются доброжелательность и праведность». По-настоящему чайная комната уместна только для одного человека, который, заменяя всех собой, восседает в ней с тем же духом, который вдохновил Будду при его рождении воскликнуть: «В небесах наверху, в мирах внизу я единственный, кто достоин почитания!» Когда входит еще один человек, Одно расщепляется и появляется дуализм, из которого проистекает мир множественности. Поэтому чайная комната требует правил, посредством которых должен сохраняться изначальный покой. В этом смысле искусство чая, или так называемая чайная церемония, — это вырождение, но для воинов в смутное время (1467 —1590 гг.) чайная комната была, по сути, единственным возможным способом проникновения в царство трансцендентального, в пустоту, была некоей духовной тренировочной станцией, а искусство чая — дисциплинирующей техникой.
Вообще существуют четыре принципа, регулирующих чайную комнату:
гармония (ва);
почтительность (кэй);
чистота (сэй);
спокойствие (дзаку).
Первые два принципа — социальные, или этические, третий — физический, психологический, а четвертый — духовный, или метафизический.
Если проанализировать эти четыре аспекта, то можно обнаружить аналогию с четырьмя школами восточной мысли: конфуцианство заметно в первых двух, даосизм и синтоизм — в третьем, буддизм — в четвертом.
Гармония — первый аспект — может быть соотнесена также и с даосским понятием, потому что даосизм учит тому, как войти в гармонические взаимоотношения с природой, то есть с мужским и женским принципами. Именно благодаря этой гармонии мир всегда сохраняется, не истощая своей энергии.[163] Ребенок может кричать целый день, но так и не охрипнет. Как говорит Лао-цзы, в его крике нет никакой дисгармонии. Поэтому гармония называется вечностью, или бесконечностью.[164]
Гармония упоминается в Конституции[165] принца Сётоку как «самое ценное качество». Здесь несомненно сказывается политическая подоплека, отражающая состояние дел того времени.
Третий «принцип» — чистота — несомненно синтоистский: мытье рук и очищение полости рта напоминают нам о ритуальном омовении. Но если отойти от внешней поверхностности, то мы увидим более глубокий смысл, и он будет касаться даосизма. «Небо чистое, потому что оно одно».[166] Очищение сердца — это буддийский принцип. Но искусство чая здесь больше связано с общим очищением и упорядоченностью, ведущими к тому, чтобы заставить ум освободиться от лишних психологических трудностей.
Спокойствие — последний «принцип», регулирующий искусство чая, — самый значительный принцип; там, где его не хватает, это искусство совершенно утрачивает свой смысл. Ибо каждая конкретная процедура в рамках чайного искусства нацелена на то, чтобы создать вокруг атмосферу спокойствия. Скальные массивы, колеблющаяся вода, соломенная лачуга, старые сосны, нависающие над ней, покрытый мхом каменный фонарь, шипение воды в чайнике и свет, мягко проникающий сквозь бумажные шторы, — все это служит только созданию созерцательного умонастроения. Но на самом деле принцип спокойствия — это нечто, исходящее из внутреннего сознания индивида, как это понимается в искусстве чая. Именно здесь заметен дзэн-буддизм, ставящий все действо в тесную связь с более великой сферой реальности. Чайная комната — это особый орган чувства для любителя чая, с его помощью он выражает себя. Он заставляет все в ней вибрировать в унисон со своей субъективностью. Человек и комната становятся одним целым, каждый говорит друг о друге. Те, кто находится в комнате, сразу понимают это. Таково искусство чая.
Любитель чая обычно очень чувствителен ко всему, что дисгармонирует с его окружением. Его нервы в этом отношении обострены, иногда даже слишком обострены. Но на самом деле для того чтобы оценить чай и наслаждаться им, не обязательно быть слишком критичным к подобным вещам. Пусть ум не тревожится о деталях; пусть он будет той основой, с помощью которой воспринимаются журчание воды и шуршание сосновых иголок, и тогда он сможет вдохнуть дух спокойствия во все окружающее. Чистота может относиться и к субъекту, и к объекту, но спокойствие, или безмятежность, — это духовное качество. С чисто внешней стороны, когда руки и рот любителя чая чисты, он может считаться очищенным, достойным того, чтобы войти в чайную комнату. Но эта внешняя чистота не обеспечит ему спокойствия. Конечно, окружение играет большую роль в формировании человеческого характера и темперамента. Но человек помимо всего прочего еще и формирует, даже творит свое окружение, поскольку он одновременно и творе
ние, и творец. Поэтому спокойствие — это то, что человек добавляет к своему окружению из глубины внутреннего «я». Чтобы создать общий эффект безмятежности, можно скрупулезно, со всеми деталями выстраивать композицию из чайной комнаты, родзи (сад), каменного бассейна, вечнозеленой растительности, окружающей хижину, — и все равно дух любителя чая будет блуждать где-то в другом месте. Если отсутствует это самое важное духовное качество, искусство чая предстает не чем иным, как фарсом.
Искусство чая — это синтез всех философских мыслей, циркулировавших в периоды Асикага
(1338—1568 гг.), Момояма (1568—1615 гг.) и То- кугава (1615 —1867 гг.), когда культ чая достиг высшей степени совершенства. Если Япония и не произвела собственной философской системы, она была оригинальна в воплощении в своей практической жизни всех полезных идей, которые можно извлечь из конфуцианства, даосизма и буддизма, и в превращении их в материал для своего духовного обогащения и творческого признания. Можно сказать, что японцы не развили все варианты индийской и китайской мысли и тем самым не раскрыли до конца свой интеллектуальный потенциал. Напротив, они старались растворить их в сумбуре повседневной жизни, тем самым трансформируя в то, что ощущалось на более высоком художественном уровне как удовольствие. Японский гений до сегодняшнего дня не преуспел в самоутверждении на интеллектуальном и рационалистическом уровне, но разве мы не скажем, что он больше проявил себя на уровне искусства образа жизни? Мне кажется, что японцы — мастера претворять философию в искусство, абстрактное рассуждение — в жизнь,
трансцендентализм — в эмпирический имманентизм. Можно сказать, что по этой причине чайная комната стала синтезом трех великих школ восточной религи- озно-философской мысли.
Китайский ум сконструирован иначе. Когда китайцы познакомились с индийским способом мышления, в буддийском его варианте, это повлияло на их интеллектуальную активность; в результате были разработаны, с одной стороны, философия кэгон (ху- аянь), тэндай (тянътай) и санрон (саньлунь), а с другой — создана философия времен Сунской династии, известная как ригаку (ли-сюэ), — китайская интеллектуальная реакция на интерпретацию махаян- ской буддийской мысли в лице дзэн и кэгон. До сих пор японские мыслители интеллектуально не воспринимали влияний из-за рубежа, хотя сейчас в изобилии встречаются признаки того, какое блестящее будущее обещают они развитию рационалистической мысли в Японии. К несчастью, ультранационализм поставил преграду на пути развития свежей оригинальной японской мысли. Вместо того чтобы выражать себя в свободном вопрошании и здравом размышлении о жизни, японцы больше старались избежать гнета феодальных отношенией такими средствами, как драма Но, искусство чая, литература и другие социальные и художественные развлечения. Я думаю, что японская политическая система должна нести ответственность за бессилие, беззубость японского философского гения.
9
«Спокойствие» — понятие par excellence буддийское. Иероглиф (дзаку — по-японски, чжи — по- китайски), которым оно передается, имеет в буддизме особое значение. Изначально, да и сейчас также, дза- ку означало «быть спокойным», или «быть одиноким», но когда это слово используется в буддийском и особенно в дзэнском контексте, оно приобретает глубокий духовный смысл. Оно указывает на жизнь, которая превосходит простые мирские различия, указывает на царство, находящееся за пределами жизни и смерти, царство, которое способны воспринять лишь люди пронзительной духовной интуиции. Буддийское стихотворение, обычно стоящее в конце какой-либо махаянской сутры, читается так:
Все составленные вещи непостоянны,
Они относятся к царству рождения и смерти;
Когда рождение и смерть преодолеваются,
Реализуется абсолютное спокойствие
и мы обретаем блаженство.
В буддизме термин дзаку обычно встречается в сочетании с мэцу (кит. — ме), и эта комбинация означает «абсолютное спокойствие». Его часто понимают как состояние полного уничтожения, или абсолютного ничто, и буддистов критикуют за их нигилизм или акосмизм. Это все из-за того, что критики не имеют достаточно ясного проникновения в затаенные уголки буддийской мысли, с чем легко согласятся все ученые, серьезно изучавшие данный предмет. Впрочем, сейчас не место для подобной ‘дискуссии, поэтому я воздержусь от дальнейших комментариев.
Я уже говорил, что искусство чая было воспринято как способ избежать феодальной регламентации, но, может быть, лучше говорить о том, что все мы наделены внутренним желанием преодолеть самих себя, живем ли мы в условиях феодальной системы или в либеральной демократической стране. В какой бы политической и социальной обстановке мы ни оказались, мы всегда ищем новую жизнь, которая смутно вырисовывается позади нас. Побуждаемые таким образом, мы никогда не удовлетворяемся тем, что имеем, но всегда ищем сферу иной культуры и ради ее появления никогда не ослабляем своих усилий. Когда нечто новое не соответствует нашим духовным нуждам и не обещает нам развития в будущем, оно отбрасывается.
Если бы искусство чая вобрало в себя лишь идеи конфуцианства и даосизма, оно стало бы только простым времяпрепровождением, приятным развлечением горожан, и в нем не нашлось бы ничего, что обогащает нашу духовную жизнь. Поэтому любителю чая пришла в голову мысль ввести в свое искусство элементы буддийской метафизики. Он нашел их в буддийском понятии дзаку, «спокойствии», истолковав его не как признак окружающей обстановки, но как идеальную установку, которую должен культивировать каждый любитель чая, если он действительно желает открыть в себе внутреннее зрение.
Поэтому спокойствие в искусстве чая — это не просто физическое или психологическое состояние, но духовное качество, преодолевающее рождение и смерть. Об этом следует помнить всегда, когда о чае говорят как о ступени, ведущей к жизни на более высоком уровне, с которого только и следует воспринимать наш повседневный мир, пребывая в этом мире так, словно бы и не пребывая. Сэйсэцу (1746—1820), японский дзэнский мастер конца эры Токугава, так представляет себе искусство чая.
«Мой чай — это не-чай, который не тот не-чай, что можно противопоставить чаю. Что же это тогда за не-чай? Когда человек вступает в утонченное царство не-чая, он осознает, что не-чай — это не что иное, как сам великий путь (да-дао).
На этом пути нет укреплений, выстроенных против рождения и смерти, невежества и просветления, истины и лжи, утверждения и отрицания. Достичь состояния не-укрепления — это путь не-чая. Среди всего, что существует на свете, нет ничего более прекрасного, чем добродетель не-чая.
Был такой случай. Некий монах прибыл к Дзёсю (Чжао-чжоу Цун-шэнь), и тот спросил: „Вы бывали когда-нибудь здесь?” Монах ответил: „Нет, учитель”. Дзёсю сказал: „Выпейте чашку чая”. Другой монах подошел, и мастер задал тот же вопрос: „Вы когда-нибудь были здесь?” „Да, учитель”, — был ответ. Мастер предложил ему выпить чашку чая.
Одна и та же „чашка чая” может быть предложена любому монаху, независимо от его прежнего визита к Дзёсю. Что это значит? Если человек до конца поймет смысл подобных историй, он вступит во внутреннее святилище Дзёсю и оценит горечь чая, приправленного солью сладости. Я слышу, как где-то звонит колокол».
«Не -чай» Сэйсэцу — это таинственная разновидность чая. Сэйсэцу желает обрести дух искусства чая с помощью отрицания. Дзэнские мастера иногда вооружались этой логикой философии праджни. До тех пор пока есть представление о событии, обозначаемом как «чай», это затемнит ваше внутреннее зрение и помешает ему проникнуть в «чай» как таковой. Это конкретный пример того, что можно назвать психологией чая. Когда человек все время осознает, что он исполняет процедуру, называемую им «чаепитием», сам факт подобного сознавания тормозит каждое его движение, что приводит к созданию искусственных укреплений. Он всегда чувствует, что противостоит этому замечательному состоянию, с которого начинается мир противоположностей, истины и лжи, рождения и смерти, «чая» и «не-чая», ad infinitum. Когда любитель чая зажат в этих дуалистических тисках, он отклоняется от великого пути, и его спокойствие навсегда утрачивается. Ибо искусство чая является искусством великого пути, это сам великий путь.
Эта трансценденталистская концепция искусства чая препятствует понимать чай как нечто, открывающееся прямо в нашей прозаической, повседневной жизни. Толковать чай подобным образом — значит не соглашаться с его духом. Спокойствие лежит в каждом движении, начиная с того момента, когда любитель чая вынимает чайный порошок из чайницы и взбалтывает его в чаше бамбуковой метелочкой. Спокойствие следует воспринимать динамически, иначе оно расщепляет ум надвое и заставляет человека чая пребывать вне самого себя: человек и то, что он делает, разделяются, чай перестает быть «не-чаем». Пока существует какое-либо осознавание расщепления между действием и деятелем, это противопоставление вызывает колебания, а колебания выстраивают «укрепления». Философ праджни мог бы сказать так: «Чай есть чай только тогда, когда чай есть не-чай». Пока имеется хоть какое-то «укрепление», не будет «беспрепятственного цветения». И тогда принцип спокойствия, на котором основывается искусство чая, будет самым очевидным образом упущен.
Плотин эту идею выражает таким образом: «Не было двух; смотревший был одним целым с тем, на что он смотрел; это было не понимаемое видение, но понимаемое Единое. Человек, так соединяясь с высшим, должен, если он только не утратит память, крепко помнить об этом образе единства: он становится Единым, нет никаких различий ни в нем, ни вне его; исчезают всякое движение, всякая страсть, желание, едва лишь достигается этот высокий уровень; рассудок пребывает в состоянии неопределенности, равно как и вся интеллектуальная деятельность и даже, осмелюсь сказать, самое „я”. Унесенный Богом, наполненный им, он достигает отрешенности, совершенной безмятежности; успокоив все свое существо, он не обращается ни к той стороне, ни к этой, ни к тому, что внутри него; пребывая в совершенном по
кое, он сам стал покоем».[167] Плотиновский «покой» — не что иное, как чайное дзаку.
Способ выражения, который выбирает Бхагавад- гита, более сильный, он глубоко созвучен духу Рикю, который тот выдохнул в последний момент, подбросив свой меч к небу:
Тот, чья мысль никогда не грязнится,
Чья природы всех действий причиной,
Тот своей помраченной мыслью Суть познать никогда не сможет.
На объективном, или относительном, уровне это может шокировать некоторых наших читателей; но необходимо помнить, что автор Гиты имеет собственную точку зрения, которая преодолевает наши пределы, ограниченные интеллектом. Нечто подобное, должно быть, испытал Эмерсон, когда написал стихотворение «Брахма», первые четыре строки которого читаются так:
Убийца мнит, что убивает,
Убитый мнит, что пал в крови, —
Ни тот и ни другой не знает.
Куда ведут пути мои.
Почему? Потому что
Забвенье, даль — мои дороги,
Мне безразличны тьма и свет;
Во мне — отверженные боги,
Величий и падений след.
м еч Рикю, которым тот выпустил себе кишки,
это тот же меч, который убивает будд и патриархов, святых и грешников, творца и творение. Когда искусство чая достигает этой высоты просветления, реализуется «чай не-чая» дзэнского мастера.
Процитируем Экхарта:
«„Тогда каким мне любить Его [Бога]?” — „Люби Его как Он есть: как не-Бога, не-дух, не-лич- ность, не-образ; как ясное, чистое, прозрачное существо, чуждое всякой дуальности. И в этом существе давайте вечно переходить от одного ничто к друго-
” [169] му ».
Если не добавлять ненужного комментария, то пить чай как не-чай, как рекомендовано японским дзэнским мастером Сэйсэцу, есть не что иное, как «любить Бога как не-Бога (mcht got)... вечно тонуть (versinken) от одного ничто к ничто». Следует понимать «принцип спокойствия» именно в этом смысле.
Некоторые мои читатели обвинят меня в том, что я делаю из мухи слона: «Выпивание чая — это вопрос, не имеющий большой важности; раздувать его до уровня высоких материй, занимающих ум человеческий, это уже чересчур. Если мы станем любой мелкий эпизод жизни воспринимать под таким углом, у нас не останется ничего приятного, свободного от затруднений и вынашивания мыслей. Какое в конце концов отношение имеет выпивание чая к какой-то скучной метафизике? Чай — это чай, и он не может быть чем-то другим. Когда мы испытываем жажду, мы выпиваем чашку чайного напитка, и этого достаточно. Какой смысл разводить из этого какое-то искусство? Восточные люди слишком суетливы. Мы, люди Запада, не имеем времени для подобных глупостей».
На это я замечу следующее. Является ли погребальная церемония более значительным событием, чем питье чая? Имеет ли свадьба большее нравственное или метафизическое значение, чем выпивание чая? С точки зрения «этости Бога» или «этости блохи», смерть неизбежно следует за рождением, поэтому в ней нет ничего особенного. Точно так же и со свадьбой. Почему же тогда мы так усиленно заботимся о них? Если бы мы захотели, то легко свели бы подобные вещи до того уровня, на котором поедаем утром завтрак или идем к месту службы. Мы превращаем все это в пышную церемонию только потому, что желаем этого. Когда мы считаем, что жизнь слишком монотонна, мы в каких-то случаях прерываем эту монотонность и даем иногда выход возбуждению, иногда — депресии. Все мы любим перемены, трансформации. Вселенная движется к концу, дзэн- ский монах спрашивает: «Идет ли это с ней?» Один мастер ответил: «Да», другой сказал: «Нет».[170] Где же истина? «Оба правы», — сказал бы последователь дзэн, и, сказав так, он позволит всему идти своим путем, радуясь или огорчаясь его уходу или никак к этому не относясь, в зависимости от состояний становления.
В том, что касается самой жизни, время и пространство не имеют решающего значения, хотя они являются посредниками в выражении жизни с нашей, человеческой, точки зрения. Наши чувства и интеллект так устроены, что они истолковывают объективность при помощи пространства и времени. По этой причине нас в реальности интересуют только количественные оценки. Мы думаем, что вечность — это то, что находится за пределами наших органов чувств, однако, с точки зрения внутренней жизни, даже одна минута или одна секунда — это весьма долго, это не менее важно, чем тысяча лет. Вьюнок, живущий только несколько часов летним утром, столь же значим, как и сосновое дерево, чей искривленный ствол бросает вызов зимним морозам. Микроскопические творения — такие же проявления жизни, как слон или лев. Фактически у них сила жизни развита больше, чем у прочих существ: даже если все другие живые формы исчезнут с лица земли, микробы все равно продолжат свое существование. Кто тогда станет отрицать, что, когда я прихлебываю чай в своей чайной комнате, я проглатываю вместе с ним и весь мир, и что в этот самый момент, когда я подношу чашу к губам, сама вечность преодолевает время и пространство? Искуство чая учит нас гораздо большему, чем просто гармонии вещей, чем просто сохранению их свободными от омрачений и чем просто погружению в состояние созерцательного спокойствия.
РИКЮ И ДРУГИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ИСКУССТВА ЧАЯ
Наверное, не будет неуместным привести здесь краткое описание жизни Сэн-но Рикю. Он является основоположником искусства чая, в том виде, в каком оно практикуется в Японии в наши дни, и каждый нынешний мастер чая обладает сертификатом, подтверждающим его квалификацию, который он получает из рук потомков Рикю. Наверное, искусство чая в наши дни не передает в точности дух, который оживлял его ранних учителей, и дзэн может и не присутствовать в этом искусстве в той же степени, как во времена Рикю. Скорее всего, этот упадок неизбежен.
Сэн-но Рикю (1521 —1591) был сыном преуспевающего торговца из Сакаи. Этот город в провинции Идзуми представлял собой в ту эпоху богатый порт, поднявшийся на торговле с иностранцами; именно среди состоятельных коммерсантов, по-видимому, впервые и расцвело искусство чая. Для них это была форма отдыха; будучи богачами, они владели множеством прекрасных керамических изделий, завезенных главным образом из Кореи, Китая и Южной Азии; эти изделия они использовали в искусстве чая. По всей вероятности, необычайная страсть любителя чая к редким произведениям искусства началась с торговцев Сакаи, которые в этом отношении вторили эстетическим запросам Асикага Есимаса. Позже я приведу несколько эпизодов из истории чая, в которых мы
найдем примеры сверхъестественной или неестественной привязанности к чайной утвари, привязанности, демонстрировавшейся не только самими любителями чая, но и феодальными правителями всех мастей. Они соглашались платить бешеные деньги за редкие чаши или чайницы, и владельцы подобных изделий становились объектами жгучей зависти со стороны различных князей, купцов и людей культуры.
Рикю начал изучать искусство чая еще в юности, а когда ему было уже под пятьдесят, его везде признали как одного из самых лучших мастеров этого искусства. Император Огимати присвоил ему особое буддийское имя Рикю, под которым он и стал известен. Ода Нобунага был великим покровителем этого искусства, и особенно он благоволил к Рикю. После смерти Нобунага Рикю сблизился с Тоётоми Хидэёси, который унаследовал власть и который в конце концов стал самым влиятельным политическим и военным деятелем тогдашней Японии. Хидэёси выделил ему как своему чайному мастеру три тысячи коку риса в год в оплату за его службу. Даже во время проведения различных военных кампаний против своих врагов Хидэёси находился в сопровождении Рикю. В те беспокойные дни чай был столь любимым развлечением феодальных правителей, что они не могли обойтись без него даже в разгар военных мероприятий. «Чайная партия» часто оказывалась политической маскировкой, и можно только догадываться, какие важные политические решения принимались генералами, скученными в комнатке на четыре с половиной татами. Наверняка и Рикю безмолвно принимал участие в этой партии. Он был человеком, вполне способным для подобной задачи.
Рикю изучал дзэн в Дайтокудзи в Киото, одном из монастырей системы «пяти гор». Он знал, что идея ваби, которой он придерживался в ритуале чая,
происходила из дзэн и что без дзэнской практики он не смог бы уловить дух своего искусства. Обладая значительным материальным богатством, политической силой и необычайным творческим потенциалом, во внешней жизни Рикю не мог считаться человеком ваби, или «нехватки», но в глубине души он стремился к жизни в ваби. Однако обстоятельства благоприятствовали иному: против собственной воли он все больше и больше погружался в мирскую путаницу; в конце концов каким-то непонятным образом он навлек на себя великое неудовольствие со стороны своего деспотичного господина. Хидэёси приказал ему покончить с собой. Видимые причины для столь жестокого наказания были тривиальны, но можно подозревать, что имелись гораздо более веские причины, вероятно относящиеся к сфере политики.
Рикю тогда было под семьдесят. Получив приказ, он удалился в свою комнату, приготовил себе последний чай, спокойно насладился им и написал прощальные стихи на китайском и японском языках. Китайское стихотворение в переводе звучит примерно так:
Семьдесят лет жизни —
Ха-ха! Какой пустяк!
Этим своим священным мечом Я убиваю и будд, и патриархов
Японское стихотворение таково:
Я поднимаю меч,
Этот мой меч.
Долго мне прослуживший.
Время подходит к концу —
К небу бросаю тебя!
Эта трагическая смерть, которая завершила блестящую жизнь, посвященную чаю и идеализации ваби, произошла в двадцать восьмой день второго месяца девятнадцатого года Тэнсё (1591).
Следующие далее истории о Рикю, неважно, реальные они или вымышленные, интересны тем, что проливают свет на характер этого человека.
Когда Хидэёси узнал о прекрасных цветущих вьюнках в саду Рикю, он выразил желание посмотреть на них. На следующее утро Хидэёси зашел в сад, но там не оказалось вьюнков — ни следа не осталось. Он очень удивился, однако ничего не сказал. Когда же он вошел в чайную комнату, то увидел стоявший в вазе одинокий цветущий вьюнок.
2
Однажды Хидэёси, задумав проверить способности Рикю, соорудил золотой бассейн, наполнил его свежей водой и попросил мастера украсить бассейн веткой цветущей сливы. Тот без малейшего колебания взял ветку в руки, оборвал цветы и позволил им беспорядочно упасть в бассейн. Почки и уже распустившиеся цветки, разбросанные по золоту, представляли собой превосходное зрелище.
Однажды весной Рикю позвал Хидэёси на угощение к себе в маленькую комнату шириной в один мат и три четверти, который в пересчете на нынешние мерки был меньше шести квадратных футов. Хидэёси уже собирался войти, но заметил несколько полностью расцветших ветвей вишни, свисавших из вазы, подвешенной к потолку. Цветы наполняли комнату целиком, вплоть до самого входа. Это очень понравилось Хидэёси, ведь он, несмотря на свою любовь к чаю, втайне испытывал склонность к роскошной экстравагантности. Он стоял снаружи, восхищаясь цветущими вишнями, в которых буквально утопала комната.
4
Когда Рикю еще учился искусству чая, его учитель приказал ему подмести родзи — двор, прилегающий к чайной комнате. Родзи до этого был уже подметен самим мастером. Когда Рикю вышел во двор, он не смог найти там ни одной соринки, но он сразу понял замысел мастера. Он слегка потряс дерево, и несколько листьев упало вниз. Это доставило учителю удовольствие.
5
Рикю обладал исключительно чутким восприятием ваби, или саби. Он сразу подмечал любые мелочи, которые противоречили им. Однажды зимой его впервые пригласили куда-то на чайный вечер, он пошел в сопровождении племянника. Когда они вошли во двор, то заметили выставленные напоказ ворота, а в них дверь, на вид весьма старинную. Племянник заявил, что дверь обладает возвышенным вкусом саби. Но Рикю улыбнулся как-то саркастически: «Здесь совсем нет вкуса саби, сынок; наоборот, это очень дорогостоящее изделие. Приглядись внимательнее. Такую дверь, как эта, нельзя было найти поблизости. Она явно происходит из уединенного горного храма вдалеке от человеческого жилья. Подумай о том, ка- них трудов стоило притащить ее сюда, за которые мастер, должно быть, щедро заплатил. Если бы он понял, в чем состоит истинное саби, он бы подыскал себе уже готовую дверь или заказал бы изготовить ее окрестным умельцам и, возможно, соединил бы ее вместе со старой доской, найденной около дома. Вот тогда-то дверь и носила бы несомненные признаки ваби. А здесь перед нами нет настоящего вкуса ваби». Так на практике племянник получил урок в искусстве.
6
Рикю присутствовал на тя-но ю, которую устраивал его старший сын. Когда он стоял в родзи, то сказал сопровождавшему его другу: «Среди этих камней для перехода через ручей есть один, который чуть выше остальных. Мой сын, кажется, не заметил этого». Это замечание подслушал сын, который сказал себе: «Я об этом и сам уже думал. Ну и острый ум у моего отца!» Пока гости отдыхали после первого чаепития, сын Рикю тихо выскользнул в родзи, выкопал небольшое углубление под нужным камнем и установил его на необходимый уровень. Чтобы скрыть изменение, он побрызгал вокруг камня свежей водой. Возвращаясь домой, Рикю снова проходил по камням, и изменение при всей своей незаметности не ускользнуло от его взора. Он заметил: «Так, так! Доан [имя его сына], должно быть, подслушал мою критику; как охотно он принял ее к сердцу и все исправил еще до нашего ухода!»
Однажды Рикю вместе со своими друзьями отправился по приглашению на чаепитие. Они увидели двор с прекрасными деревьями каси, галерею, покры- тую опавшими листьями, и почувствовали, будто оказались в горной долине. «Как чудесно!» — сказал Рикю. Но, поразмыслив, добавил: «Боюсь, что мастер выметет галерею, ведь он не имеет понятия о саби». И, разумеется, когда они снова вошли туда после первого чаепития, то увидели, что листья были полностью выметены. Тогда Рикю объяснил своим друзьям, как нужно размещать предметы в подобных случаях. Позже, проинструктировав одного из друзей насчет того, как ухаживать за родзи, он процитировал стихотворение Сайгё, выражающее представление об этом:
Листья деревьев каси
Еще до того, как изменят цвет.
Уже разбросаны
По дороге к горному монастырю —
По дороге одинокой и пустынной.
(Примечательно, что скалы, мхи и лишайники — одни из главных элементов японского садоводства, имеющего особое отношение к чайной комнате; они намекают на дзэнскую монашескую жизнь в горах и на принцип саби, который управляет всем в искусстве чая. Применение камней с горных склонов, учитыва- ние особенностей долин, русел рек и других природных ландшафтов укрепляют атмосферу прочности, одиночества и старины, окутывающую родзи. Мох, в большом количестве покрывающий скалы и землю, порождает ощущение гористой области, удаленной от городской суеты. Это ощущение существенно для чайной комнаты, ведь основная цель чая — избежать духа торгашества и всего, что им отдает.)
То, что Рикю считался авторитетом в ваби, показывает следующая история. Один любитель чая из Сакаи стал собственником чайницы особого типа под названием «ундзан катацуки». Поскольку это изделие было довольно хорошо известно среди любителей чая и восхвалялось ими, владелец, естественно, гордился своим приобретением. Однажды он пригласил Рикю на чаепитие, в приготовлении которого применил и чайницу. Но Рикю, казалось, не слишком заинтересовался ею и покинул дом, так ничего и не сказав. Владелец чайницы был этим весьма огорчен, он немедленно разбил ее, швырнув на готоку, и, вздохнув, произнес: «Какой смысл хранить в наше время изделие, которое не одобрил Рикю?»
Друг владельца этой чайницы позже подобрал разбитые ее части и тщательно их склеил в надежде восстановить былой образец. Его работа была сделана с большой искусностью, и он подумал, что воссозданный прибор оказался вовсе не так уж плох. Он задумал пригласить Рикю на чай и использовать чайницу, чтобы поглядеть, как тот отреагирует на нее.
Когда разносили чай, острый глаз Рикю сразу заметил прежнюю старую чайницу, представшую теперь в склеенном виде. Он сказал: «Разве это не та же самая чайница, которую я видел не так давно? Ее так искусно починили, что она превратилась поистине в изделие ваби». Друг был чрезвычайно обрадован этим замечанием и возвратил чайницу прежнему владельцу.
Многократно после этого сменив собственников, эта некогда разбитая, а позже в совершенстве восстановленная «катацуки» попала в руки какому-то феодальному правителю. Кёгоку Анти, один из самых прославленных в то время любителей чая в Киото, очень сильно возмечтал о ней. Его друг врач, услы-
шав об этом, посетил того правителя и как бы совершенно мимоходом упомянул об этом желании Кёгоку Анти приобрести чайницу. Правителя это позабавило, он в шутку сказал: «Если бы он захотел выложить за нее два лоуда[172] золота, я бы, пожалуй, расстался с ней».
Врач отнесся к этой шутке серьезно и рассказал об условиях Анти, который заявил: «Раз так, я бы хотел, чтобы ты посмотрел на то, за что я заплачу два лоуда золота».
Когда правителя известили о готовности Анти выплатить золото, он был совершенно ошеломлен. Он сказал: «Я с самого начала не хотел отдавать ее, какую бы сумму мне за нее ни предложили». Это заявление осложнило ситуацию. Врач, охотно действовавший в качестве посредника, не знал, что и делать. Он совершил много переходов туда и обратно, между Анти и правителем. Каждая из заинтересованных сторон, не желая поступаться честью, заняла в вопросе более жесткую позицию, чем прежде. Все любители чая интересовались этим делом, они предлагали свои услуги с целью как-то смягчить возникшие сложности. После ряда трудных дипломатических шагов стороны наконец смогли договориться о том, чтобы Анти все-таки выплатил две повозки золота правителю, но не в качестве цены за спорное сокровище, а как вспомогательный фонд для бедных и нуждающихся, живших в феодальном владении господина, и чтобы само сокровище стало бы свободным даром правителя Анти. Два лоуда золота были эквивалентны в то время 12 тысячам рё, что на нынешние деньги составляло бы по крайней мере 100 тысяч иен.[173]
Анти был полностью удовлетворен способом разрешения вопроса, хотя это несомненно нанесло серьезный урон его финансам. Однако его не вполне удовлетворяла сама чайница, он думал, как бы улучшить ее. Он посоветовался с Кобори Энею, еще одним великим чайным мастером того времени, насчет того, как заменить отдельные части прибора. Но Кобори Энею оказался более мудрым критиком. Он сказал: «Как раз из-за этих-то странностей ее и оценил высоко Рикю, а потом и у мастеров чая она стала почитаемым объектом. Вам бы лучше оставить все на своих местах».
9
В японской архитектуре ниша (токонома) играет значительную роль в нескольких отношениях. Эта ниша, вырезаемая в стене главной комнаты, происходит из дзэнских сооружений, в которых она предназначалась для священных изображений или статуй. Сегодня в ней можно встретить любое какэмоно, но присутствие в нише цветочной вазы и курильницы до сих пор намекает на ее прежнюю историю. В любом случае цветочная ваза — существенная черта токонома, и ни одна чайная комната не обходится без нее.
Некогда Тоётоми Хидэёси был занят осадой замка Одавара, защитой которого руководил Ходзё, но тот сопротивлялся очень упорно, так что без каких-либо успехов миновало несколько месяцев. Чтобы дать своим генералам отдохнуть, Хидэёси задумал устроить для них чаепитие. Но в комнате отсутствовала подходящая ваза для цветов, и тогда он приказал Рикю изготовить ее. Тот решил сделать вазу из ствола бамбука, что было довольно оригинальной идеей, потому что до него никогда вазы из бамбука не изготавливались и не применялись на практике. Он посе- тил близлежащие бамбуковые рощи в поисках подходящего материала и, найдя таковой, самолично сделал из него вазу. Высохнув, бамбук дал трещину, и эта трещина стала характерным признаком вазы такого типа, который впредь получил известность как «ваза Ондзёдзи». Ондзёдзи — исторический буддийский храм у озера Бива, и его колокол завоевал себе репутацию как раз своей трещиной. Именно из-за такого совпадения ваза Рикю и получила свое название.
Безыскусная на вид бамбуковая ваза Рикю стала сакральным сокровищем для любителей чая не только из-за своей художественной ценности, но и из-за своих исторических ассоциаций. Когда ее владельцем стал Иэхара Дзисэн, его друг, Номура Содзи из Нагоя, пришел в Киото специально посмотреть на вазу. Однако Дзисэн отказал ему в этом и попросил подождать с год, а сам тем временем занялся созданием новой чайной комнаты, в которой бы в любой форме отсутствовал бамбук. Ваза в токонома стала единственным изделием из бамбука. Затем пригласили Содзи и показали ему сокровище в наиболее выгодном обрамлении. Если год назад просьба Содзи увидеть ее осталась неудовлетворенной и он опечалился, то теперь, когда он увидел, что было тогда на уме у его друга, он почувствовал благодарность и полностью одобрил его художественно выраженную почтительность к Рикю и его работе.
Фуюки, богатый торговец из Фукагава в Эдо, захотел приобрести эту вазу для своей собственной чайной комнаты, но Дзисэн не хотел расставаться с ней. Позднее, когда Дзисэн оказался в стесненных финансовых обстоятельствах, он подумал о Фуюки, который когда-то был готов заплатить 500 рё за эту бамбуковую вазу, и отправил посланца в Эдо с сообщением, что мог бы продать ее теперь, сбавив цену на 50 рё, то есть за 450 рё. Фуюки отправил его посланца обратно без ответа, но вслед за посланцем Дзисэна послал своего представителя с 500 рё. Посланец Фуюки бережно доставил вазу обратно в Эдо. Идея здесь такова: не стоит преуменьшать ценность подобного сокровища, а следует обращаться с ним с должным почтением, невзирая на коммерческие интересы.
В более позднюю эпоху собственник вазы отправился к правителю Фумаи (1751—1819 гг.), еще одному феодальному барону эпохи Токугава, который любил чайный ритуал и очень тонко понимал саби. Когда он пользовался вазой в своей чайной комнате, развлекая своих друзей, его слуга заметил, что вода капала из трещины, тем самым увлажняя мат. Он спросил мастера, нельзя ли вместо нее использовать какой-нибудь цилиндрический предмет, однако правитель Фумаи сказал: «Фурю [то есть саби] этой бамбуковой вазы состоит именно в том, что она треснута».
10
Я думаю, имя художника Кано Танню (1602— 1674) хорошо известно любителям японского искусства, и поэтому не будет таким уж неуместным рассказ о нем в связи с чайным искусством, тем более что Кано очень интересовался последним. Он изучал его под руководством Сотана, внука Рикю и большого приверженца идеи ваби, вероятно даже еще более ревностного, чем Рикю. Танню был еще молод, когда начал посещать Сотана, — ему минуло едва ли двадцать лет. Когда он увидел белые оконные перегородки, пригодные для новой чайной комнаты, выстроенной Сотаном, он страстно захотел изобразить на ней что-то своей кистью. Но мастер чая не внял просьбе, полагая, что его юный ученик еще недостаточно опытен для такого дела. В тот день Танню скрыл свое желание.
Какое-то время спустя он случайно попал в новую чайную комнату Сотана. Мастер отсутствовал. Перегородки все еще были белыми. Танню счел, что ему представился редкий случай, и его желание разгорелось с новой силой. В сущности, он какое-то время уже раздумывал над тем, какая тема для картины была бы достаточно хороша, чтобы попробовать свои силы. Он вооружился кистями и сразу начал рисовать, решив, что это будет картина «Восемь мудрецов, пьющих чай». Втянувшись в работу, он рисовал все увлеченнее и уже почти завершил картину, когда услышал чьи-то шаги. Было бы очень неловко, если бы его застали за этим занятием. Он захотел закончить как можно быстрее. Шаги все приближались. Теперь оставалось только изобразить одной из фигур руки. Он кое-как нарисовал их и едва успел выскочить из комнаты, как в нее вошел Сотан. Тот был удивлен, увидев такую прекрасную работу кисти столь молодого художника, одаренность которого не была оценена им прежде в должной мере. Однако, изучив картину пристальнее, он обнаружил, что у одной фигуры руки нарисованы неправильно: левая рука оказалась справа, а правая — слева. Но он не сказал ничего об этом. И по настоящий день картина осталась в таком виде, в каком она была исполнена.
Позднее, когда репутация Танню как величайшего художника того времени, которого ценил сам сёгун Иэясу, распространялась все шире и шире, по всей стране, его старая картина с неправильно нарисованными руками вызвала неподдельный интерес у любителей искусства.
Танню стал владельцем чайницы рода «катацуки», известной как «танэмура», — объектом искреннего восхищения среди любителей чая. Он был высокого мнения о ней. Когда великий пожар в годы Мэйрэки (1657 г.) угрожал обратить дом Танню в пепел, он приказал одному из своих слуг спасти чайницу от ги
бели. Когда же распространившийся огонь стал угрожать собственной жизни верного слуги, тому пришлось выбросить драгоценное сокровище и спасаться самому. Уже потом, когда огонь угас, какому-то носильщику товаров из Киото посчастливилось обнаружить чайницу на обочине дороги. Он поднял ее и по возвращении в Киото продал изделие дельцу от искусства. Правитель города Макино Тикасигэ услышал о находке и купил ее у дельца. При ее изучении оказалось, что это действительно была «танэмура катацуки».
Какое-то время спустя Тикасигэ пригласил к себе Танню и угощал его чаем. Когда хозяин невзначай затронул тему чайницы, Танню сказал, что он невыразимо горюет по поводу ее утраты и попросил никогда не упоминать о ней. Тикасигэ приказал своему слуге показать упомянутое изделие гостю, заметив бесхитростно: «Вот экземпляр танэмура». Танню чрезвычайно обрадовался, не зная, как выразить свои чувства. Правитель был достаточно благороден, чтобы расстаться с предметом за ту же цену, которую сам уплатил дельцу. Кроме того, он выразил желание, чтобы Танню в качестве компенсации за его добрый жест нарисовал для него двенадцать видов горы Фудзи. Конечно, Танню согласился. Но это оказалось трудным предложением, и художнику пришлось потратить немало сил и времени, прежде чем он смог завершить картины. Эти картины вошли в число шедевров художника.
ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ
I
1
Я часто думаю, что любовь японцев к природе очень многим обязана горе Фудзи, которая располагается в средней части главного острова Японии. Всякий раз, когда я проезжаю мимо ее подножия по железной дороге Токайдо, я не упускаю возможности, если позволяет погода, взглянуть на нее и полюбоваться ее прекрасной вершиной, всегда покрытой чистым снегом и «поднимающейся к небу, словно перевернутый белый веер», как выразился поэт[174] эпохи Токугава. Чувство, которое она вызывает, по-видимому, нельзя назвать эстетическим, по крайней мере это не ощущение художественной красоты. Фудзи пробуждает нечто духовно чистое, возвышенное.
Один из ранних поэтов Японии[175] так воспевал гору Фудзи:
Когда из бухты Таго на простор Я выйду и взгляну перед собой, —
Сверкая белизной.
Предстанет в вышине
Вершина Фудзи в ослепительном снегу!
Другой поэт эпохи Нара,[177] испытавший более сильные религиозные чувства, чем Акахито, поет в Манъёсю:
Простираясь над Суруга и Каи,
Гора Фудзи высоко поднимает свою вершину.
Даже небесные облака, объятые трепетом,
Не смеют проплывать над этим крутым пиком.
Даже птицы напрасно пытаются
Воспарять над ее головокружительными высотами.
Это бог, который охраняет Японию,
Охраняет Ямато, Землю Восходящего Солнца,
Это ее священное сокровище и ее слава;
На пик Фудзи в Суруга
Долго можем мы смотреть и смотреть, никогда не уставая.
Поэма Сайгё о Фудзи имеет мистический оттенок, о чем уже сообщалось выше. В его эпоху, то есть в
в., Фудзи, должно быть, все еще представляла собой действующий вулкан, из которого временами вырывались облака дыма. Подобное зрелище всегда вызывает прилив вдохновения. Видение одинокого парящего облачка над высоким пиком уносит наши мысли прочь от земных хлопот.
Фудзи впечатляла не только поэтов. Даже воин находился под сильным впечатлением, выражая свои ощущения так:
Каждый раз, когда я гляжу на Фудзи,
Она кажется иной,
И каждый раз я чувствую.
Что вижу ее впервые.
Как же описать Фудзи Тем, кто еще не видел ее?
Она никогда не выглядит одинаковой,
И я знаю, что невозможно Описать это зрелище.
Написавший это — Датэ Масамунэ[178] (1565 — 1636), один из самых известных генералов времен Хидэёси и Иэясу. Он был бесстрашным воином, выходившим победителем из многих горячих схваток, в которых он принимал непосредственное участие. Он стал феодальным правителем области Сэндай, на северо-восточном берегу Японии. Кто бы мог подумать, что столь активный воин в жаркие времена рубежа XVI и XVII столетий способен оценить природу и писать стихи о ней? Но это было действительно так, и это позволяет понять, насколько укоренена любовь к природе в сердце японского народа. Даже Хидэёси, который вышел из крестьян, — а в те дни это было жестоко угнетенное и безнадежно невежественное сословие, — сочинял стихи и являлся покровителем искусств. Время, когда он жил, известно в истории японского искусства как период Момояма.
Образ Фудзи ныне полностью слился с образом Японии. Всегда, когда говорят или пишут о Японии, обязательно упоминают Фудзи. Это справедливо, и Земля Восходящего Солнца наверняка утратит свою красоту, если священная гора вдруг исчезнет с ее поверхности. Гору необходимо видеть непосредственно, чтобы составить впечатление о ней. Никакие картины и фотографии, пусть даже самые искусные, не способны заменить реальное восприятие. Как пишет Масамунэ, она никогда не бывает одинаковой, она всегда изменяет свои черты, так как на нее воздействуют ат
мосферные явления и топографически она может быть рассмотрена с разных углов, с различных расстояний. Тем, кто никогда не видел Фудзи, даже Хиросигэ (1797—1858) не сможет передать подлинную художественную ценность горы, о которой Ямаока Тэссю (1836 —1888)[179] пишет стихотворение с иной точки зрения, чем Масамунэ:
В ясную
Или облачную погоду Подлинно прекрасна И никогда не изменяется Эта вершина Фудзи!
В столь прозаическую эпоху, как наша, у молодых японцев распространилось поветрие карабкаться на высокие пики просто ради забавы, причем они называют это «покорением вершин». Какая профанация! Несомненно, подобная мода, как и многие другие, не всегда достойные того, чтобы их перенимать, завезена с Запада. Я полагаю, идея так называемого «покорения природы» идет от эпохи эллинизма, когда считалось, что земля создана для того, чтобы служить человеку, а ветры и воды должны подчиняться ему. Иудаизм соглашается с этим взглядом. Однако на Востоке восприятие природы как рабыни или служанки человека, подчиненной его эгоистическим желаниям, никогда не поощрялось. По отношению к нам природа никогда не бывает жестокой, она не представляет собой врага, которого человек должен под-
чинить своей власти. Мы, люди Востока, никогда не воспринимали природу как противостоящую нам силу. Напротив, природа была нашим постоянным, верным другом и товарищем, несмотря на бесконечные землетрясения, сокрушающие нашу землю. Идея завоевания вызывает отвращение. Если мы смогли взобраться на какую-либо высокую гору, почему нам нельзя сказать, что мы стали ее хорошими друзьями? Оглядываться вокруг в поисках объектов для завоевания — это не восточное отношение к природе.[180]
Да, мы тоже взбираемся на Фудзи, но наша цель — не «покорить» ее, а оказаться под воздействием ее красоты, великолепия и отрешенности, а также для того, чтобы почтить слабое утреннее солнце, во всем великолепии восходящее из-за разноцветных облаков. В том, что мы поднимаемся на гору, не обязательно усматривать какое-то поклонение светилу, хотя в этом поступке нет никакой духовной деградации. Солнце — великий благодетель всего живого на земле, и естественно, что мы, человеческие существа, стремимся приблизиться к любому благодетелю, живому и неживому, с чувством глубокой благодарности и признательности. Подобное тонкое чувство даровано только нам; низшие животные, по-видимому, лишены его. Некоторые высокие горы, особо популярные в Японии, в наше время обеспечены канатной дорогой, так что до вершины добраться легко. Материалистическая утилитарность современной жизни требует наличия таких приспособлений, и, вероятно, обойтись без них уже невозможно; я и сам часто пользуюсь ими, например когда поднимаюсь к горе Хиэй в Киото. И все-таки все мои чувства восстают против этого. Зрелище колеи, расцвеченной по ночам электричеством, отражает современный дух убогой выгоды и погони за удовольствиями. То, что к горе Хиэй, находящейся к северо-востоку от древней столицы Японии, — горе, которую впервые Дэнгё-дайси (767—822) освятил сооружением тэндайского монастыря и другими зданиями,[181] принадлежащими его школе, — относятся с таким лживым торгашеским духом, несомненно вызывает ощущение скорби у многих искренних жителей страны. В почтительном отношении к природе сказывается высокое религиозное чувство, которое мне бы хотелось видеть даже в нашу эпоху с ее наукой, экономикой и войнами.
2
В том, насколько любит природу японец, — несмотря на его нынешнее признание «покорительской» идеи, — можно убедиться, посмотрев на сооруженный им кабинет, или, скорее, комнатку для медитаций где-нибудь в горных лесах. По западным меркам это совсем небольшая постройка, площадь ее вряд ли превысит четыре с половиной или шесть матов (около десяти или пятнадцати квадратных футов). Она сделана из соломы и, вероятно, располагается под гигантской сосной, защищающей ее своими раскидистыми ветвями. Если на хижину смотреть издали, она будет занимать незначительную часть ландшафта, тем не менее она гармонично сочетается с ним. Она совсем не навязывает себя, она принадлежит к обще-
му горизонту видимого. Когда мастер восседает в этой простой каморке, в которой нет громоздкой мебели, а есть, наверное, только стол, подушка, цветочная ваза, курильница с благовониями, он знает, что специально она не отделена от окрестной обстановки, от природы, которая окружает хижину. Заросли банановых деревьев растут возле окна, имеющего причудливую форму; некоторые их широкие листья в разных местах изрезаны недавним штормом и теперь стали похожи на истрепанную монашескую рясу. По этой причине они вызывают в памяти дзэнские стихотворения Кандзана.[182] Поэтична не только форма этих листьев, поэтичен сам способ, каковым они — да и фактически все растения — вырастают из земли, способ, заставляющий наблюдателя почувствовать, что он живет той же жизнью, которой живут и они. Пол в комнате для медитации поднимается не слишком высоко от земли, как раз на тот уровень, чтобы оградить занимающегося от влаги и все-таки не терять ощущения общего источника, из которого происходят все жизненные ростки.
Сооруженная подобным образом хижина — неотъемлемая часть природы, и тот, кто находится в ней, является одним из ее объектов, как и все остальное. Он никоим образом не отличается от поющих птиц, жужжащих насекомых, кружащихся листьев, бормочущих вод, не отличается даже от горы Фудзи, вырисовывающейся на другой стороне залива. Здесь — полное погружение в природу, в человека и его творение, погружение, представленное в практической манере. Затронув снова тему Фудзи, я вспомнил стихи генерала Ота Докана (умер в 1486 г.). Когда император Гоцути-микадо попросил его пожаловать в свою резиденцию, генерал ответил в стихах:
Моя хижина стоит на берегу.
Обсаженном соснами,
И высокий пик Фудзи Вырисовывается над карнизами.
Император, живший в Киото, никогда не видел горы своими глазами, поэтому поэт-воин и счел уместным особо упомянуть о ней. И разве не интересно в этой связи отметить, что свое местопребывание он описывает как хижину (ихори, или ихо)? Будучи ге- нералом-воителем, первым, еще до Иэясу с его громадным замком, установившим свою штаб-квартиру на нынешнем месте Токио, Ота Докан располагал величественной резиденцией. И тем не менее он описывает ее как ихори’, этим словом мы обычно обозначаем ветхую соломенную хижину отшельника. Поэтический дух Докана, любящего природу, восставал против всего, что сильно отдавало человеческими ухищрениями. Его «хижина» естественным образом гармонирует с сосновым перелеском, с омываемым волнами берегом, с покрытой снегом Фудзи. В этом смысле Докан выражает любовь к природе, которая является доминирующим признаком японского характера.[183]
Пышная постройка* — это чересчур навязчивый объект, чтобы гармонировать с окружающей природной обстановкой. Конечно, с практической точки зре-
Поле боя, занятое недавно, на десять миль окрест напоено воздухом, пряным от пролитой крови.
Конь отказывается скакать, и человек, мрачный
и молчаливый.
Стоит совсем один за крепостью Цзинь-чжоу
в тени заходящего солнца.
Несомненно, любовь американцев к высоким зданиям экономически обусловлена и, возможно, связана также и с топографией. Но я подозреваю, что есть и некоторый психологический элемент в этом обожании гигантской архитектуры любого рода. В конечном счете здесь сказывается желание освободиться от земли, ведь в каком-то смысле земля символизирует всевозможные узы, сдерживание, порабощение, преграды на пути к свободе и независимости. В реальности же никогда нельзя быть свободным от земли, как бы высоко ты ни взлетел — в конце концов все равно опустишься на землю. Но с развитием своих интеллектуальных сил человек возжелал оттолкнуться от нее так далеко, насколько это возможно, пусть даже в ущерб другим, может быть более важным интересам. Башнеподобная архитектура — символ интеллекта, и современный человек забыл или же не осознает того факта, что эта интеллектуализация — одна из причин, влияющих на все виды ментального хаоса, которые мы все встречаем вокруг себя. Когда я недавно побывал в Чикаго, то встретил архитектора современного высотного здания, живущего на верхнем его этаже. Когда я восхитился прекрасными видами на город и озеро, которые открывались из комнаты, снабженной двумя огромными стеклянными окнами, архитектор сказал: «Это правда, но приходится признаться, что я испытываю чувство неуверенности, хотя и не знаю, отчего». Чувство неуверенности — разве это не болезнь, от которой страдают современные люди не только в общественном, но и в планетарном масштабе? Интеллект нажимает на кнопку и —: весь город разрушен, сотни тысяч человеческих душ безжалостно истреблены. А интеллект не будет иметь никакого раскаяния. Все делается механически, логически, систематически, и ум совершенно доволен, вероятно даже когда он разрушает себя вместе со свои-
ния, она может хорошо служить своим целям, но в ней отсутствует поэзия. Любое искусственное сооружение, если оно слишком бросается в глаза, утрачивает свою художественную ценность. Только тогда, когда оно лежит в руинах и больше не способно служить своим изначальным целям, оно превращается в явление природы и ценится именно как таковое; хотя, впрочем, даже в этой своей относительно ценной форме развалины сохраняют слишком много исторических ассоциаций.
Кроме того, император Гоцути, должно быть, слышал о равнине Мусасино, на которой стоял замок Докана. Япония — гористая страна, равнин на ней мало, и Мусасино, где теперь находится столица страны, — одна из самых больших. Императору, который, вероятно, никогда не покидал свой окруженный горами город Киото, было любопытно узнать, насколько широка равнина Мусасино. Поэтому он спросил Докана об этом, и тот ответил в стихах:
Ни одной капли росы не видно у моей хижины, Хоть летний ливень прошел Над равниной Мусасино —
Она, должно быть, гораздо шире,
чем дождевые облака.
Это чрезвычайно понравилось императору, и он дал следующий ответ талантливому поэту-воителю с дикого Востока:
Я думал, что Мусасино — это простая степь И там нет ничего, кроме дикого чертополоха;
Как приятно я удивлен,
Найдя такие сливы в цвету!
ми жертвами. Разве сейчас — не самое лучшее для нас всех время подумать о себе с иной точки зрения, чем с точки зрения голого рассудка? Разве не надо нам быть поближе к земле, на которой стоит хрупкая хижина любителя природы?
Докан — один из самых популярных японских героев. К несчастью, он жил в тот век, когда срок сёгу- ната Асикага быстро приближался к концу и страна находилась на грани полного развала. Докан был убит копьем коварного и трусливого врага. Его прощальная песнь звучала так:
До вчерашнего дня это мое тело,
Подобное сумке хэнамуси
Было скопищем неверных привязанностей — Может, сегодня оно наконец лопнет?
3
Поэту-генералу Ота Докану повезло — он мог наслаждаться зрелищем горы, одетой в белые снега на фоне пенящихся волн голубого океана. А вот сердца хозяина и хозяйки ветхой хижины Угэцу разрывались между луной и каплями осеннего дождя, они находились в сильном замешательстве, не зная, что предпринять. Все же и в этом незнании того, что делать с хижиной, — к тому времени пришедшей в полный упадок, — мы улавливаем такую же поэтичность, как и в случае с Доканом, даже, может быть, еще большую. Японская любовь к природе проявлена здесь самым отчетливым образом. История вкратце такова.
Угэцу, что буквально означает «дождь и луна», — это одна из пьес театра Но, написанная по мотивам происшествия, случившегося с Сайгё во время одного из его странствий по Японии. Поэт-монах Сайгё (1118—1190), живший в начале эры Камакура, однажды вечером подошел к какому-то одинокому дому и попросился на ночлег. Там жила чета стариков, а их дом выглядел почти полной развалюхой. Старик отказался удовлетворить просьбу Сайгё на том основании, что условия для ночлега были неподходящими, а вот жена, видя, что странник был буддийским монахом, соглашалась принять его. Но все равно оставалось фактом то, что хижина не была в достаточно сносном состоянии, чтобы принять незнакомца. Причина же ее ветхости заключалась в следующем: старуха так сильно любила свет луны, что пришедшая в негодность кровля не ремонтировалась именно по ее просьбе; старик же любил слушать капли дождя, стучащие по крыше, а они перестали стучать, поскольку последняя была разрушена. Итак, должна ли хижина быть без крыши ради луны? Или она должна быть покрыта ради дождя? Уже наступила осень. Приближался прекрасный лунный сезон, и в это же время осенние ливни так приятны, когда сидишь тихо и слушаешь их. До тех пор пока эта проблема не разрешена, было бы верхом негостепри- имства со стороны хозяина и хозяйки принимать любого странника у себя дома. Они спросили:
«Покрывать нашу жалкую лачугу или не покрывать?»
Сайгё воскликнул: «Вот хорошее стихотворение, только составленное наполовину!» «Если вы разбираетесь в поэзии, — сказали старики, — придайте ему цельный вид, и мы предоставим вам кров, каким бы он ни был». Сайгё немедленно откликнулся:
Для того ли луна, чтобы давать течь?
А ливни для того ли, чтобы бормотать?
Наши мысли разделены.
И этой жалкой хижине
Быть покрытой или нет?
Тогда поэта-монаха пригласили войти. Приближалась ночь, луна становилась ярче, освещая далекие поля, горы и заливая своим светом изнутри всю хижину. Но, слушайте, дожди приближаются! Деревья дрожат! Нет, это мертвые листья, бьющиеся о дом, они звучат словно дождевые капли. Ветер поднимается, но луна столь же яркая, как и прежде. Это дождь опавших листьев в лунном блеске.
Когда мертвые листья падают в изобилии И я тихо сижу ночью у себя в комнате.
Трудно понять,
Идет дождь Или же нет
Опавшие осенние листья часто пробуждали поэтическую чуткость любящих природу японцев. Эта обстановка намекает на одиночество и навевает созерцательное настроение. Сайгё также был глубоко тронут ею. Находясь в одиночестве в своем жалком прибежище где-то в горах, он был пробужден ночью опавшими листьями, подобно дождю ударявшими по кровлям и по амадо,[187] что несомненно многое добавляло к ощущению одиночества, которое вызывает вид осенней природы. Следующее стихотворение — не просто описательное, оно отражает настроение сезона.
Может, это идущий дождь Заставляет меня пробудиться в постели?
Нет, это осенние листья падают.
Безвольно гонимые бурей.
С практической точки зрения, дождь — вещь неудобная, но в японской, а также в китайской поэзии дождь упоминается довольно часто — особенно мягкий дождь, который шепчет нам о внутренних тайнах реальности. Послушаем снова Сайгё:
Полностью запертый в весеннем дожде,
Я совсем один в одинокой хижине,
Не известный людям.
Чтобы по-настоящему понять поэзию и философию весеннего дождя, надо жить в Японии, в маленьком, покрытом соломой домишке, вероятно с травяной лужайкой и маленьким прудом перед комнаткой в шесть матов. Поэт был «неизвестен людям», но знаком с природой.
Догэн (1200—1253) был основателем ветви сото японского дзэн-буддизма. В этой связи стоит процитировать самое знаменитое его стихотворение:
Как мы любим облака, парящие над рождениями
и смертями!
Тропа невежества и тропа просветления —
мы блуждаем во сне!
Только одно остается в моей памяти даже
после пробуждения —
Звук падающего дождя, который я слушаю,
укрываясь у себя в Фукакуса!
Торо в Уолдене говорит об ощущении, которое иногда называется космическим сознанием, или космическим чувством; он испытал его, когда слушал шум дождя:
«Я никогда не унывал по поводу одиночества, меня ни в малейшей степени не тяготило уединение.
Только однажды — это произошло через несколько дней после моего прихода в лес — меня примерно на час посетила мысль о том, что, наверное, близкое соседство людей было бы немаловажным для безмятежного и здорового образа жизни. Мне стало неприятно находиться одному. Но в то же время я осознавал легкое безумие в своем настроении, и это, по-видимому, предопределило мое выздоровление. В самый разгар мягкого дождя, когда меня одолевали подобные мысли, я внезапно ощутил сладостное и благотворное влияние природы, ощутил его в самом стуке капель, в каждом звуке, в каждой вещи возле своего дома; я почувствовал бесконечную и бесценную ее дружественность, и все это, словно некая атмосфера, окутало меня, сделав воображаемые преимущества человеческого соседства неважными, так что я потом никогда уже не думал о них. Любая сосновая иголка, с дружелюбием относясь ко мне, была преисполнена симпатии. Я глубоко осознал присутствие чего-то дружественного даже в ландшафте, который мы по привычке называем диким и сухим, осознал также, что самым близким мне по крови, самым человечным оказался не человек, не сельский житель. И мне подумалось, что никакой уголок природы уже никогда не стал бы для меня чужим» (гл. 5 «Одиночество»).
4
Отметим лишь мимоходом, насколько восточные идеи и образы укрепились в американском сознании XIX в. Трансценденталистское движение, основанное поэтами и философами Конкорда, все еще живет в Америке. Если согласиться с тем, что коммерческая и промышленная экспансия Америки на Дальнем Востоке, да и во всем остальном мире, — значительное событие XX в., мы должны также признать, что и Восток, в свою очередь, внес определенный вклад в интеллектуальное движение Запада — как Америки, так и Европы. В 1844 г. Эмерсон, отвечая на критику Карлейлем его трансцендентализма, написал такие примечательные строки: «Вы иногда упрекаете меня в том, что я не знаю этого небесно-синего, небесно-пустого идеализма. Поскольку это напоминает пристрастие, я боюсь, что могу быть задетым этим даже глубже, чем вы думаете. У меня очень радостные мечтания, которые я не только не могу доверить бумаге, но и попытаться осуществить их на практике; и я вовсе не кляну себя за эти мечтания, да они еще и не возобладали над моим домом и коровником... Я прерываю поклонение Брахме только для того, чтобы почтить вечного Будду».
Интересны эти слова Эмерсона об «идеализме пустого неба». По-видимому, он имеет в виду буддийскую теорию шунъяты («пустотность», «пустота»). Хотя вряд ли он сумел глубоко постичь дух этой теории, этого основного принципа буддийской мысли, от которого отталкивается дзэн в своем мистическом ощущении природы, все равно удивительно, что американский ум в лице последователей трансцендентализма делает попытки погрузиться в бездонную тьму восточного воображения. Теперь я начинаю понимать значение того глубокого впечатления, которое на меня произвело чтение Эмерсона в годы моей учебы в колледже. Я тогда не изучал этого американского мыслителя, но погружался в тайники своей собственной мысли, которая существовала с самого рождения восточного сознания. Вот причина того, почему я ощутил родство с ним — тогда я поистине познакомился с самим собой. То же самое можно сказать и о Торо. Кто не согласится с тем, что он, обладая склонностью, вероятно бессознательной, к восточному восприятию природы, с поэтической точки зрения, похож на Сайгё или Басё?
Напоследок мне бы хотелось познакомить вас с одним дзэнским мастером, который стал известен благодаря своему высказыванию о дожде. Однажды шел дождь, и мастер Кёсё (умер в 937 г.) сказал монаху: «Что ты слышишь за дверями?» Монах ответил: «Это дождь стучит, господин». Это был честный ответ, и мастер сам прекрасно знал о дожде. Однако он вынес такой вердикт: «Все существа имеют путаное сознание, они всегда движутся вне объектов, не зная, где искать подлинное „я”». Это трудный вопрос. Если внешний стук дождя нельзя назвать дождем, что же тогда дождь? Что означает «двигаться вне объектов» или «запутаться в понятии я»? Сэттё комментирует:
Пустой зал, и звук барабанящих капель!
В самом деле, это вопрос, на который не ответит даже пробужденный мастер!
Отношение американских трансценденталистов к природе несомненно содержит мистические моменты, но дзэнские мастера идут дальше этого и остаются по-настоящему непостижимыми. Но мы оставим ненадолго дождь, поскольку сейчас самое время вступить в учение дзэн.
II
1
Чтобы понять культурную жизнь японского народа во всех ее многообразных аспектах, включая горячую любовь японцев к природе, о которой мы как раз сейчас и ведем речь, нужно, как я уже не раз отмечал, познать тайны дзэн-буддизма. Без некоторого знакомства с ними трудно понять японский характер. Это, конечно, не означает, что только один дзэн формирует менталитет и общую культуру японского народа. Я имею здесь в виду лишь то, что, когда поймешь дзэн, можно относительно легко погрузиться в глубины духовной жизни японцев во всех ее разнообразных проявлениях.
Этот факт сознательно или бессознательно признается и учеными, и обыденными людьми. Первые соглашаются с ним на аналитическом и критическом уровне, уместном для их профессии; последние же непосредственно живут в нем, испытывая, например, удовольствие от слушания легенд и сказаний, прослеживаемых тем или иным образом в учении дзэн-буддизма.
На то, что дзэн внес значительный вклад в формирование японского характера и культуры, указывают также иностранные японисты, среди которых можно упомянуть следующих.
Покойный сэр Чарльз Элиот, который, к сожалению, покинул этот мир, не успев лично увидеть в печати свою ценную книгу Японский буддизм (Japanese Buddhism), пишет в ней на стр. 396: «Дзэн имеет большой вес в художественной, интеллектуальной и даже в политической жизни Дальнего Востока. До некоторой степени он сформировал японский нрав, но он также является и выражением этого нрава. Ни одна другая форма буддизма не может считаться столь полноценно японской». В этой цитате примечательно, что дзэн — это выражение японского характера. Исторически дзэн появился в Китае около пятнадцати столетий тому назад, но только в конце династии Сун (961 —1280 гг.), в начале XIII в., дзэн был введен в Японии. Таким образом, история дзэн в Японии намного моложе его истории в Китае, но, несмотря на это, он смог настолько гибко приспособиться к духу японского народа, особенно к его этическим и эстетиче- ским нормам, что сумел гораздо глубже и шире проникнуть в японскую жизнь, чем в китайскую. Следовательно, утверждение, сделанное автором Японского буддизма, вовсе нельзя назвать преувеличением.
Сэр Джордж Сэнсом, еще один талантливый английский японист, делает следующее замечание о дзэн в своей книге Краткая история культуры Японии (Japan, Л Short Cultural History) (p. 336): «Влияние этой школы [то есть дзэн-буддизма] на Японию было столь незаметным и всепроникающим, что это позволило ей стать сущностью ее утонченной культуры. Чтобы проследить все ее отзвуки в идейной и образной сферах, в искусстве, литературе и образе жизни, следовало бы исчерпывающе написать самую трудную и самую чарующую главу ее духовной истории...» Хотя позже у меня будет возможность покритиковать взгляд автора на любовь японцев к природе, аспект, который он выделяет, верен, и я полностью с ним согласен.
Каковы же характерные черты дзэн, отличающие его от других форм буддизма? Было бы необходимо узнать их до того, как мы продолжим исследование взаимосвязи дзэн и любви японцев к природе. Разумеется, за рамками нашего анализа останется детальное рассмотрение того, что подлинно и сущностно образует дзэн. В предыдущих разделах прямо или косвенно многое уже было сделано в этом направлении. Поэтому следующих далее кратких замечаний будет достаточно, чтобы осветить учение и практику дзэн в четырех его аспектах: религиозном, этическом, эстетическом и эпистемологическом.
2
Прежде всего я бы не стал утверждать, что дзэн является простой аскетической дисциплиной. Когда мы видим монаха в убогой лачуге, живущего на рисе, соленьях и картошке, мы можем подумать, будто он — отшельник, избегающий мирского, и принцип его жизни состоит в самоотрицании. Действительно, какая-то сторона его жизни соответствует этому мнению, ведь дзэн учит отрешенности и самоконтролю. Но если мы сочтем, что в дзэн больше ничего нет, мы останемся с поверхностным взглядом на него. Дзэн- ские интуиции проникают глубже в источник жизни, туда, где дзэн поистине становится религиозным. Под словом «религиозность» я имею в виду то, что дзэн тесно соприкасается с реальностью; и действительно, дзэн удерживается в ней и живет ею, и именно в ней дзэн выглядит религиозным.
Возможно, тех, кто знаком только с христианскими или бхактическими формами религии, удивит, где же в дзэн то, что соответствует их понятию Бога и их благочестивому отношению к нему. Слово «реальность» звучит для них чересчур концептуально и слишком мудрено, оно недостаточно эмоционально. На самом деле, буддизм довольно часто использует термины, звучащие еще более абстрактно, чем, например, термины «реальность», «таковость», или «этость» (татхата), «пустотность», или «пустота» (шунъя- та), «предел реальности» (бхутакоти) и т. п. И это иногда побуждает христианских критиков и даже японских ученых видеть в дзэн теорию квиетистской, созерцательной жизни. Но для последователей дзэн все эти термины отнюдь не концептуальны, они вполне реальны и непосредственны, жизненны и действенны, потому что реальность, или таковость, или пустота, ухватываются в сердцевине конкретных жизненных фактов универсума, а не абстрагируются от них усилиями мысли.
Дзэн никогда не покидает сферы непосредственных событий. Дзэн всегда живет в сердцевине реальности. Сторониться, удерживаться от мира имен и форм — это не для дзэн. Если есть Бог, личный или
безличный, он (или оно) должен быть с дзэн и в дзэн. Если объективный мир, рассмотренный с точки зрения религии, философии или поэзии, предстает как угрожающая, уничтожающая сила, настроенная против нас, то в этом нет дзэн. Потому что дзэн заставляет «слабую травинку действовать как тело Будды шестнадцати футов высотой[189] и, наоборот, тело Будды высотой шестнадцати футов действовать как слабая травинка». Дзэн как бы удерживает весь мир в своих ладонях. Это религия дзэн.
О дзэн часто думают как о разновидности пантеизма. Внешне это так, и буддисты сами иногда по неведению подписываются под этим мнением. Но, если считать его подлинной сущностью дзэн, тогда дзэн становится совершенно непонятен; ведь дзэн не пантеистичен в той степени, в какой пантеистично христианство. Прочитайте диалог между Уммоном (Юнь -мэнь, умер в 949 Г.) и его учеником.
м онах: «Каково чистое тело дхармы?»
Учитель: «Изгородь».
м онах: «Как ведет себя тот, кто это понимает?»
Учитель: «Он — златогривый лев».[190]
Когда Бог — это изгородь, отделяющая монастырские земли от близлежащих построек мирян, мы можем сказать, что здесь, вероятно, есть какое-то отдаленное подобие пантеизма. Но причем здесь златогривый лев? Это животное — не проявление чего-то еще, он независимый, он царь зверей, он совершенен в себе. Ничего в нем не говорит о манифестации чего бы то ни было в той или иной форме.
Для тех, кто не привык к дзэнским выражениям, фраза «златогривый лев» в передаче Уммона может быть недостаточно понятна, даже с его кратким пояснительным комментарием. Чтобы им помочь, я могу привести еще одно дзэнское мондо.
Монах: «Я знаю, что, когда лев набрасывается на свою жертву, будь то кролик или слон, он целиком расходует свою силу. Молю вас, скажите, что это за сила?»
Учитель: «Дух искренности» (буквально — сила не - заблуждения ). [191]
«Искренность», то есть «не-заблуждение», или
«напряжение всех своих сил», согласно Ниндзаю, является «действием посредством всего существа» (дзэнтай. саю), в котором ничего не остается в запасе, ничего не маскируется, ничего не оказывается тщетным. Когда человек живет таким образом, он, как говорится, становится златогривым львом; он есть символ мужественности, искренности, широты сердца; он божественно человечен; он не проявление, а сама реальность, поскольку он ничего не оставляет за собой, он — «вся истина», «истинная вещь».
В дзэнский способ восприятия жизни и мира следует проникнуть самым отчетливым образом. В дальнейшем будет показано, что в японской любви к природе нет никакого символизма.
Если уж необходимо как-нибудь определять дзэн, то о нем можно говорить как о политеистическом учении, хотя это «многое» (поли-) следует понимать в смысле «песчинок Ганга» (ganganadivaluka), когда
подразумеваются не несколько тысяч, но сотни тысяч коти богов. В дзэн каждый индивид — это абсолютная целостность; будучи таковым, он связан со всеми другими индивидами: эта цепь бесконечных взаимоотношений становится возможной в царстве пустоты потому, что они все находят здесь себя именно такими, какие они есть, то есть индивидуальными сущностями. Возможно, все это сложно понять тем, кто не искушен в буддийском способе мыслить. Но у меня здесь нет времени останавливаться и объяснять всю систему целиком, я должен поспешить к рассмотрению главной темы.
Если говорить кратко, дзэн обладает собственным способом отношения к реальности, и этот дзэнский способ образует внутренний смысл японской любви к природе, которую нельзя понимать так, как она обычно понимается. Это станет более ясным в дальнейшем.
3
Играя роль нравственной дисциплины, дзэн аскетичен — в том смысле, что он стремится к простоте во всех ее формах. Он обладает неким духом стоицизма, привлекавшего к себе самурайское сословие Японии. Несомненно, простота и умеренность жизни в эпоху Камакура, при режиме Ходзё, то есть в
в., были изначально обязаны влиянию дзэн. Более того, нравственная смелость и неукротимый дух Ходзё Токимунэ (1251 —1284), без которого история Японии, возможно, пошла бы по совершенно иному пути, были развиты под руководством китайских мастеров дзэн, которые по приглашению правительства Ходзё нашли свой приют в Японии. Токиё- ри (1227 —1263), отец Токимунэ, тоже был великим дзэнским посвященным, и именно по его настоянию Токимунэ посетил дзэнские монастыри, где прошел нравственный и духовный тренинг, став впоследствии одной из величайших фигур в истории Японии.
В дзэн мы встречаем китайский прагматизм, обильно сдобренный индийской метафизикой с ее зовущими ввысь спекуляциями. Без этого совершенного соединения двух высочайших форм восточной культуры вряд ли дзэн мог вырасти даже в духовно близкой и потому плодотворной почве Японии. Дзэн появился в этой стране в самый благоприятный момент ее истории: ведь к тому времени старые школы буддизма в Нара и Киото доказали свою неэффективность, не сумев откликнуться на запросы новой духовной эпохи. Большой удачей для дзэн стало то, что он в самом начале своего развития в Японии нашел таких способных учеников, как Ходзё Токиёри и Токимунэ. До сих пор значение той роли, которую семейство Ходзё играло в культурной, политической и экономической истории Японии, по достоинству не оценено. Виной тому милитаристски настроенные лица, которые пытаются истолковать историю на свой собственный, искаженный лад. Но как только японские ученые начнут изучать ее под иным углом зрения, ныне возможном благодаря трагическому опыту недавних лет, они наверняка придут к осознанию значимости эры Камакура, самыми замечательными представителями которой были Ясутоки, Токиёри и Токимунэ. И значение в тот период дзэн, как одного из самых эффективных формирующих факторов японского характера, также будет признано.
Какова самая заметная черта дзэнского аскетизма в связи с японской любовью к природе? Она состоит в том, чтобы оказывать природе самое почтительное уважение, которое та заслуживает. Под этим имеется в виду, что мы должны относиться к природе не как к объекту завоевания, покорному нашей воле, но как к другу, товарищу, который когда-нибудь, как и мы сами, станет Буддой. Дзэн хочет, чтобы мы обращались с природой как с дружелюбным, имеющим благие намерения деятелем, чья внутренняя сущность точно такая же, как и наша, всегда готовая действовать в согласии с нашими законными устремлениями. Природа никогда не является нашим врагом, стоящим против нас в угрожающей позе; она — не та сила, что убьет нас, если мы сами не убьем ее или не заставим служить себе.
Дзэнский аскетизм не обязательно состоит в обуздании или в разрушении наших желаний и инстинктов; он говорит об уважении к природе, а не о разрушении ее, будь то наша собственная природа или природа объективного мира. Самоумерщвление — не вполне подходящая позиция, которую мы можем занимать по отношению к себе; не подходит также и эгоистическое обоснование той идеи, что мы способны как угодно обращаться с природой. Поэтому дзэнский аскетизм совсем не симпатизирует материалистическим настроениям, столь очевидным в нынешнем мире, в науке, в промышленности, в коммерческом деле и в различных движениях мысли.
Дзэн нацелен на то, чтобы уважать природу, любить ее, жить ее жизнью; дзэн признает, что природа человека — это одно целое с внешней природой, причем целое не в математическом смысле, а в том смысле, что природа живет в нас, а мы — в природе. Поэтому дзэнский аскетизм отстаивает простоту, умеренность, откровенность, мужественность, не пытаясь использовать природу в эгоистических целях.
Некоторые опасаются, что аскетизм снижает уровень жизни. Но, скажем прямо, утратить душу — хуже, чем обрести мир. Разве мы сами постоянно не занимаемся тем, что запасаем военное оборудование, стремясь благодаря этому повысить или сохранить свой драгоценный уровень жизни? Если подобное состояние дел продолжится, несомненно одно — в конце концов мы уничтожим друг друга не только индивидуально, но и коллективно. Вместо того чтобы поднимать так называемый уровень жизни, не будет ли гораздо лучше поднять равенство жизни? Это трюизм, но никогда еще в истории не было нужды так громко декларировать его, как в эти дни жадности, зависти и беззакония. Нам, последователям дзэн, следует придерживаться аскетизма, которому тот учит.
4
Эстетический аспект дзэнского учения тесно связан с дзэнским аскетизмом: и здесь, и там отсутствует ощущение «я» и наблюдается слияние субъекта и объекта в одной абсолютной пустоте (шуньята). Возможно, это звучит странно, однако подобный взгляд повторяется в различных литературных источниках дзэн в качестве его основного учения. Объяснение его — трудная философская задача, чреватая интеллектуальными ловушками. Такая задача требует долгих напряженных усилий мысли, но часто сами интеллектуальные усилия приводят лишь к неверному пониманию истинного смысла дзэнского опыта. Поэтому, как уже говорилось, дзэн избегает абстрактных утверждений и концептуальных рассуждений, а его литература — это не что иное, как бесконечное перечисление так называемых «историй», или «случаев» (иннэн по-японски), или «вопросов и ответов» (МОН- до). Тем, кто не посвящен в таинства дзэн, он представляется дикой и непроходимой чащей, заросшей шиповником и ежевикой. Однако дзэнские мастера не из пугливых: они настаивают на том, что у них есть собственный способ самовыражения. Они думают, что благодаря этому они могут постичь истину, и они правы, потому что сущность их опыта определяет способ их коммуникации или демонстрации. Надеюсь, что, если я приведу следующее мондо, показы
вающее дзэнский эстетизм, вы не сочтете, будто я намеренно мистифицирую свою позицию.
Однажды Рикко (Лу Гэн), высокий правительственный чиновник времен династии Тан, разговаривал со своим дзэнским мастером Нансэном[193] и процитировал изречение Сэн-чжао (Содзе),[194] знаменитого ученого монаха, жившего во времена более ранней династии:
Небо, земля и я — все мы от одного корня,
Десять тысяч вещей и я — из одного вещества.
Рикко продолжил: «Разве это не самое замечательное утверждение?»
Нансэн обратил внимание посетителя на цветущее растение в саду и сказал: «Мирские люди смотрят на эти цветы словно во сне».
Эта «история» красноречиво описывает эстетическое отношение дзэн к объектам природы. Большинство людей на самом деле не знают, как смотреть на цветок; вместо того чтобы приближаться к вещи, они отступают от нее; они никогда не улавливают ее духа. Поскольку они не способны твердо удержать этот дух цветка, они словно видят цветок во сне. Смотрящий отделен от объекта, на который он смотрит, между ними существует непреодолимый зазор; смотрящий не в состоянии вступить во внутренний контакт с созерцаемым объектом. Когда мы сталкиваемся с подлинными фактами, мы не можем ухватить их. Если небо и земля, со всем многообразием вещей между ними, происходят из одной основы, откуда также происходим и мы с вами, на этой основе следует твердо укрепиться, чтобы было подлинное переживание ее. Именно в этом переживании цветок Нансэ- на в своей изначальной красоте взывает к его эстетическому чувству. Когда мы приходим к опыту этого признания природы, природы-жизни, мы понимаем, каким образом так называемая любовь японцев к природе соединима с дзэн.
Здесь мы должны помнить, что переживания чистого единства недостаточно для подлинного признания природы. Несомненно, подобное переживание дает философское обоснование сентиментализму любящих природу японцев, которые тем самым могут глубоко проникнуть в тайны собственного эстетического сознания. Можно сказать, что сентиментализм тогда очищается. Но чувство любви возможно только в мире множественности; замечание Нансэна не производит впечатления там, где есть одна тождественность. Это правда, что мирские люди пребывают словно во сне, потому что они не укоренены в реальной основе бытия. Сочетание единства и множественности, или, лучше сказать, объединение «я» с другими вещами, как в философии аватамсаки (кэгон), абсолютно необходимо для эстетического понимания природы.
Теннисон говорит:
Малый цветок — но если бы я мог понять,
Что ты есть целиком, с корнем и всем остальным,
Я бы понял, что есть Бог и что — человек.
Красота малого цветка в разрушенной стене по-настоящему познается только тогда, когда он соотносится с высшей причиной всех вещей. Но, само собой разумеется, это должно быть постигнуто не в чисто философской и концептуальной манере, а так, как предлагает дзэн; не пантеистически, не квиетистски, а «живым» методом, который использовали Нансэн и его последователи. Чтобы применить этот метод и правильно понять Нансэна, следует сначала поприветствовать Рикко и подружиться с ним; ибо только так можно ощутить всю силу замечания, сделанного Нансэном. Исконная красота цветка, какую он увидел в первый раз, отражается в душе-зеркале индивида.
Эстетическое признание природы всегда подразумевает что-то религиозное. Для меня выражение «быть религиозным» означает «быть над миром», выходить за пределы мира относительности, в котором мы обречены встречать только противоположности и ограничения, мешающие каждому нашему движению, физическому и психологическому, останавливающие свободный полет нашего эстетического ощущения мира. Красота ощущается тогда, когда есть свобода движения и выражения. Красота состоит не в форме, а в значении, которое она выражает, и это значение чувствуется, когда наблюдающий субъект вкладывает все свое существо в носителя значения и движется вместе с ним. Это возможно, если он пребывает в «сверхмирском», где отсутствуют взаимно исключающие друг друга противоположности, или, скорее, когда взаимно исключающие друг друга противоположности, которые всегда осознаются нами в этом мире множественности, принимаются такими, какие они есть, но на более высоком уровне, чем их уровень. Эстетизм теперь становится религией.
Сэр Джордж Сэнсом так комментирует дзэнскую любовь к природе (Japan, Л Short Cultural History, p. 392): «Но дзэнские художники и дзэнские поэты — и зачастую трудно сказать, где заканчивается их поэзия и начинается живопись, — не чувствуют противоречия между человеком и природой и даже в большей степени осознают идентичность, чем родство. Их не интересует беспокойное движение ПО ПОверхности жизни, но (как отмечает профессор Анэд- заки Масахару) сквозь перемены, вне перемен им видится вечное спокойствие». Это совсем не дзэн. Ни профессор Анэдзаки, ни сэр Джордж Сэнсом не могут ухватить истинно дзэнское отношение к природе. Оно не состоит ни в переживании тождественности, ни в чувстве «вечного спокойствия», о котором последователи дзэн якобы мечтают. Если поэты и художники задерживаются на том, что, как они чувствуют, находится «вне перемен», они согласны с духом Рикко и Содзё, но они еще очень далеки от того, чтобы быть друзьями Нансэна. Подлинным цветком поэт-худож- ник наслаждается только тогда, когда он живет с ним, в нем, когда даже ощущение идентичности прекращается, не то что чувство «вечного спокойствия».
Тем самым я хочу подчеркнуть, что дзэн не занимается «беспокойным движением по поверхности жизни». Ведь жизнь — это одно неотъемлемое, неделимое целое, не имеющее ни поверхности, ни глубины; следовательно, нет никакого «беспокойного движения», которое можно отделить от самой жизни. Как объяснялось в случае со «златогривым львом», жизнь движется, пребывая в абсолютном единстве, спокойно или беспокойно, так, как вы воспринимаете ее; но ваше истолкование не меняет этого факта. Дзэн принимает жизнь в ее целостности и движется или «беспокойно» с ней, или спокойно останавливается с ней. Везде, где появляется хоть какой-нибудь признак жизни, появляется и дзэн. Впрочем, когда «вечное спокойствие» абстрагируется от «беспокойного движения по поверхности жизни», оно трансформируется в смерть, и здесь уже нет больше никакой «поверхности». Спокойствие дзэн пребывает в гуще «кипящего масла», в бушующих волнах и в пламени, окружающем бога Ачалу.
Кандзан (Хань-шань) был одним из самых знаменитых поэтов-безумцев династии Тан — дзэн часто
производит таких «безумцев», — и одним из его стихотворений было такое:
Мой разум подобен осенней луне;
И как ясен и прозрачен глубокий омут!
Впрочем, никакое сравнение невозможно.
Это вообще нельзя описать.
На первый взгляд, в этом стихотворении предполагается идея спокойствия, или безмятежности. Осенняя луна безмятежна, и ее свет, одинаково льющийся на поля, реки и горы, может заставить нас подумать о единстве вещей. Но именно здесь Кандзан не может найти сравнения между своими чувствами и вещами этого мира. Причина наверняка в том, что он не желает принимать палец, указывающий на луну, за саму луну, чем часто грешат наши мирские критики. Сказать по правде, в этой картине нет ни малейшего намека ни на спокойствие или на безмятежность, ни на идентичность природы и человека. Если что здесь и предполагается, так это идея полной прозрачности вещей, которую поэт тонко чувствует. Он полностью отрешился от своего телесного существования, включая и объективный мир, и субъективный разум. Он не имеет никаких мешающих посредников ни внутри, ни снаружи. Он полностью чист, и с этой позиции абсолютной чистоты, или прозрачности, он взирает на мир так называемой множественности. Он созерцает цветы, горы и десять тысяч других вещей и признает их прекрасными. «Беспокойные движения» признаются точно так же, как и «вечное спокойствие». Полностью противоречило бы духу дзэн и японской любви к природе представление о том, что японские дзэнские поэты и художники избегают беспокоящего их мира множественности для того, чтобы окунуться в вечное спокойствие абстрактных понятий. Давайте сначала приобретем опыт прозрачности, и мы сможем полюбить природу и ее многоликие явления, полюбить недвойственно. Пока мы поощряем концептуальные иллюзии, возникающие из-за деления на субъект и объект, и пока верим, что это деление установлено навсегда, прозрачность затмевается, и наша любовь к природе омрачается дуализмом и ненужными сложностями.
Мне хочется процитировать еще одного дзэнского поэта, Дзакусицу (1290—1367), основателя великого дзэнского монастыря Эйгэндзи в провинции Оми:
Ветер бороздит струи водопада и посылает
в него освежающую музыку;
Луна встает над противоположным пиком
и тени от бамбука отбрасываются на мои
бумажные окна;
По мере того как я старею, горное убежище все сильнее взывает к моим чувствам;
Даже когда меня похоронят, то и после
смерти мои кости под скалой будут совершенно прозрачными, как всегда.
Некоторые читатели впадут в искушение вычитать в этом стихотворении ощущение одиночества или безмятежности, но то, что такое истолкование неверно, очевидно для всякого, кто мало-мальски знаком с дзэн. Если дзэнский художник не пропитан тем чувством, которое образно выразил Дзакусицу, он не может ожидать от себя понимания природы, он не может и любить природу. Прозрачность — узловой момент дзэнского понимания природы, и именно с нее начинается любовь к природе. Когда люди говорят, что дзэн дал философское и религиозное обоснование японской любви к природе, следует принять к рассмотрению именно это дзэнское отношение, или чувство. Когда сэр Джордж Сэнсом утверждает, что «они [аристократы, монахи, художники] были движимы верой в то, что вся природа пронизана единым
духом» и что «целью дзэнского практика, в частности, было очищение своего разума от эгоистических волнений, достижение спокойного, интуитивного состояния идентичности с миром» (р. 392), он игнорирует ту роль, которую дзэн действительно внес в японское эстетическое признание природы. Он не может выжать из дзэн идею «вечного спокойствия» или духовной «идентичности» субъекта и объекта.
Заманчивой выглядит идея «духовной идентичности», посредством которой умиротворяются наши эгоистические волнения и в которой переживается вечное спокойствие. Большинство изучающих восточную культуру и философию понимают ее как ключ к невыразимой психологии восточного народа. Но это западный ум пытается познать тайну по-своему; в сущности, он вряд ли способен на что-то еще. В том, что касается нас, японцев, мы не можем за чистую монету принять эту интерпретацию, предложенную западными критиками. Строго говоря, дзэн не признает «единого духа», пронизывающего всю природу, и не пытается реализовать идентичность, очищая разум от эгоистических волнений. Согласно автору этого утверждения, уловление «единого духа», очевидно, есть осуществление идентичности, которая остается тогда, когда ум очищается от эгоизма. Хотя и нелегко с уверенностью отказаться от этой идеи, пока мы движемся вдоль логического водораздела на «да» и «нет», я попытаюсь обозначить свою точку зрения яснее в следующих параграфах.
5
Теперь необходимо сказать немного о дзэнской эпистемологии. Термин «эпистемология», возможно, звучит чересчур философично, однако в данном случае я только стремлюсь прояснить, насколько это возможно, факты дзэнской интуиции. Дзэн всегда старается отвергнуть любое концептуальное посредничество. Всякий посредник, который встает перед дзэн с намерением истолковать события опыта, наверняка затемнит природу дзэн. Присутствие третьей стороны, вместо того чтобы прояснить, упростить ситуацию, всегда приводит к запутанности и омрачению. Поэтому дзэн обходится без посредников. Он советует своим последователям непосредственно переживать объекты, какими бы те ни были. Мы часто говорим о таком явлении в нашей дзэнской дисциплине, как идентификация, но это не совсем точное слово. Идентификация предполагает изначальную противоположность двух терминов, субъекта и объекта, но на самом деле нет двух изначально противоположных друг другу вещей, которые необходимо идентифицировать. Лучше сказать, что никогда и не было никакого разделения на субъект и объект и что всякое различение и отделение, которое мы имеем или, скорее, совершаем, — это более позднее явление, хотя понятие времени здесь не вполне уместно. Цель дзэн, таким образом, состоит в восстановлении опыта первоначальной неразделенности, что означает возвращение в первичное состояние чистоты и прозрачности. Вот почему концептуальные разграничения дзэн не приемлет. Приверженцев идеи идентичности и спокойствия следует предупредить: они слишком одержимы понятиями, им бы лучше обратиться к фактам, жить в них и с ними.
Тёся,[195] живший в эпоху Тан, как-то вернулся с прогулки по горам. Когда он подошел к воротам монастыря, главный монах спросил:
Где вы все это время были, достопочтенный?
Мастер ответил:
Я только что вернулся с прогулки в горах.
Монах продолжил:
Где в горах?
Я сперва прошелся по полям, пахнущим травами, а затем пошел домой, созерцая опавшие цветы.
Разве в этом примере есть некое выражение «спокойствия, находящегося вне перемен?» Считает ли Тёся идентичными себе травы и цветы, среди которых он прогуливался там и тут?
Однажды вечером Тёся наслаждался луной со своим другом Кедзаном.[196] Кёдзан, указывая на луну, сказал: «Все без исключения имеют это, только им не удается использовать это». (Есть ли здесь какая-нибудь идея «единого духа», или «спокойствия»?) Тёся ответил: «Вот ты так сказал; можно я попрошу тебя использовать это?» (Пока «идентичность», или «спокойствие», ослепляет ваш взор, как вы можете использовать это?)
Кёдзан: «Ну-ка лучше я посмотрю, как ты это используешь». (Вошел ли он тогда в вечно безмятежную нирвану?)
Тёся затем поклонился своему собрату-монаху до земли. Кёдзан, спокойно поднявшись, заметил: «О брат-монах, ты в самом деле похож на тигра». (Когда рычит этот тигр, подобно златогривому льву, единый призрачный «дух», столь ценимый критиками, исчезает, и «спокойствия» больше нет.)
Эта странная и все-таки живая зарисовка разговора двух дзэнских поэтов, которые якобы должны радоваться безмятежности лунного света, заставляет нас умолкнуть и подумать о смысле дзэн в его связи с японской любовью к природе. Есть ли в ней вообще что-то такое, что волнует двух монахов, на внешний взгляд, созерцательных, любящих природу?
Поэтому эпистемология дзэн отрицает обращение к посредничеству понятий. Если вы желаете понять дзэн, поймите его напрямую, без искуственных схем, не вертя головой туда-сюда. Ведь в противном случае объект, который вы ищете, исчезает. Это учение о немедленном постижении — характерная черта дзэн. Если греки учили нас, как рассуждать, а христиане — как верить, то дзэн учит нас выходить за пределы логики и не медлить даже тогда, когда мы подходим к «вещам невидимым». Ведь дзэн считает, что необходимо найти некую абсолютную точку, где нет никакого дуализма. Логика начинается с разделения на субъект и объект, а вера различает то, что видимо и то, что невидимо. Западный способ мышления не может никогда отойти от этой вечной оппозиции — этого или того, разума или веры, человека или Бога и т. д. Усилиями дзэн все, затмевающее наше интуитивное проникновение в природу жизни и реальности, стирается. Дзэн ведет нас в царство пустоты, туда, где нет никакого концептуализма, где деревья растут без корней и где веет над землей самый освежающий бриз.
На основании этой краткой характеристики дзэн мы можем видеть, каково отношение дзэн к природе. В природе дзэн любит не идентичность, не спокойствие. Природа всегда находится в движении, она никогда не бездействует; если любишь природу, ее следует понять именно в движении, и ее эстетическое значение должно быть оценено в движении. Видеть здесь спокойствие — значит, убивать природу, останавливать ее пульсацию и обнимать оставшийся от нее мертвый труп. Защитники спокойствия — поклонники абстракции и смерти. Здесь нет ничего достойного любви. Идентичность — это тоже статическое состояние, которое ассоциируется со смертью.
Когда мы мертвы, мы возвращаемся в прах, из которого были когда-то взяты, вот тогда-то мы идентичны земле. Идентификация — это не то, к чему нужно страстно стремиться. Давайте разрушим все эти искусственные барьеры, которые мы расставили между природой и самими собой, ведь только отсутствие этих барьеров позволяет нам проникнуть в сердце природы и жить с ней — а в этом состоит подлинный смысл любви. Поэтому удаление всех концептуальных подпорок является дзэнским императивом. Когда дзэн говорит о прозрачности, он имеет в виду это удаление, это полное стирание пыли с поверхности зеркала-ума. Впрочем, в реальности зеркало никогда не запылялось, и вроде бы нет нужды протирать его; но из-за таких понятий, как идентичность, спокойствие, единый дух, эгоистические волнения и так далее мы вынуждены заниматься генеральной уборкой.
Прочитав все эти интерпретации, некоторые могут заявить, что дзэн — это разновидность натурмисти- цизма, это философский интуитивизм, религия, которая отстаивает стоическую простоту и умеренность. Как бы то ни было, дзэн дает нам самое ясное представление о мире, поэтому царство дзэн простирается до крайних пределов великих космических миров и даже за пределы их всех. Дзэн обладает самой проникающей интуицией в реальность, и его отзвуки слышны в глубине всего существования. Дзэн знает самый совершенный способ постижения подлинно прекрасного, потому что он пребывает в теле прекрасного са- мого-по-себе, которое известно как златоцветное тело Будды с тридцатью двумя главными и восемьюдесятью меньшими признаками сверхчеловека. Основываясь на этом, японская любовь к природе открывает себя, когда вступает в контакт со своими объектами.
Ill
1
Без сомнения, любовь японцев к природе всегда основывалась на их врожденном вкусе к прекрасным вещам. Но ведь признание красоты уже в основе своей религиозно: не будучи религиозным, невозможно обнаружить и наслаждаться тем, что подлинно прекрасно. Нельзя отрицать, что дзэн дал огромный толчок исконному ощущению природы, и не только тем, что поднял это ощущение до высшей степени утонченности, но также и тем, что придал ему метафизический религиозный фундамент. Вероятно, поначалу японцы наивно тянулись к прекрасному, которое они видели вокруг себя. Возможно, на манер примитивных племен, которые воспринимают все неодушевленные вещи со своей анимистической точки зрения, они полагали, что абсолютно все вещи в природе наделены жизнью. Но по мере того как японцев воспитывало дзэнское учение, их эстетическая и религиозная чуткость развивалась дальше. И это развитие происходило в форме возвышенной нравственной дисциплины и высокодуховной интуиции.
Иначе говоря, покрытый снегом пик Фудзи стал возвышаться из глубин пустоты; сосновые деревья, украшающие монастырские сады, всегда свежи и зелены потому, что они «не имеют корней» и «не имеют теней»; капли дождя, барабанящие по крыше моей убогой лачуги, передают эхо древних времен, когда Кёсё и Сэттё, Сайгё и Догэн выражали свои переживания о звуке. Луна, что «просочилась» в пустую комнату Кандзана и комнату старой пары в доме в Угэцу, этим вечером посетит также и ваш отель, со всеми его современными удобствами. Вы скажете, вселенная остается одной и той же, что с дзэн, что без него. Но я со всей серьезностью утверждаю, что
новая вселенная создается всякий раз, когда дзэнский последователь выглядывает из своего покрытого соломой убежища в четыре с половиной мата. Это может прозвучать слишком мистически, но без полного признания такого утверждения ни одна страница истории японской поэзии, японских искусств и японского ремесла не смогла бы быть написана. Не только история искусств, но и история японской нравственной и духовной жизни утратит свое глубокое значение, если оно отдалится от дзэнского способа интерпретации жизни и мира. Иначе для японцев стало бы невозможным выстоять против беспрецедентной атаки современной науки, машин и коммерческого индустриализма.
Я проиллюстрирую дух дзэн на примере Рёкана (1758 —1831), буддийского монаха, который вел свою бесхитростную жизнь в провинции Этиго в начале XIX в. Его статус монаха не ослабляет, как можно было бы предположить, силу моего утверждения о том, что дзэн глубоко проник в жизнь японского народа; ибо все те, кто вступал в контакт с Рёка- ном, и общество, в котором он находился, одобряли его жизнь, угадывая в ней некую непреходящую ценность. Чтобы судить о направлении ветра, достаточно взглянуть на простую травинку. Когда мы знаем одного Рёкана, мы знаем сотни тысяч рёканов в японских сердцах.
2
Рёкан был дзэнским монахом из школы сото/ t Его хижина стояла на берегу Японского моря, в северной части страны. С обыденной точки зрения, он выглядел «большим глупцом» и безумцем; ему не хватало того, что обычно называется здравым смыслом, которым миряне наделены с избытком. Но он пользовался большой любовью и уважением у своих соседей, а ссоры и другие неприятные инциденты, которые подчас омрачают нашу повседневную жизнь, сразу угасали, едва только ему случалось появиться среди людей. Он был признанным поэтом, писавшим на китайском и японском языках, а также крупным каллиграфом. Деревенские жители и горожане осаждали его, желая получить автограф, и ему было очень трудно отказать им, поскольку они шли на разные ухищрения, чтобы заставить его выполнить то, чего они хотели.
Я сказал, что он был безумцем и «большим глупцом». Последнее прозвище стало его литературным псевдонимом. Но он обладал также сердцем, очень чутким ко всему, что было связано с людьми и природой. Он являлся настоящим воплощением любви — манифестацией Каннон Босацу.[197] На его уединенное горное убежище за деревней однажды (или дважды?) покушались разбойники. Должно быть, разбойник был совершенно чужим для этих мест, иначе он вряд ли осмелился бы залезть к нищему человеку, чтобы обокрасть его. Разумеется, красть оказалось нечего. Разбойник выглядел сильно разочарованным. Вид его тронул сердце Рёкана, он снял с себя одеяние и отдал ему. Разбойник поспешно выскочил наружу через открытое амадо, в которое светила яркая луна, заливая своим светом всю комнату Рёкана. В Рёкане пробудился поэт:
Разбойник не сумел унести луну,
А как она светит в окно!
А вот другое его стихотворение:
Где, интересно, проводит он ночь,
Эту холодную, ледяную ночь,
Когда начинает завывать ветер, —
Одинокий странник, бредущий в царстве мрака?
Говорят, что это стихотворение отшельник и человеколюбец составил после другого нежданного визита. Посетитель, должно быть, и сам пострадал от ледяной ночи в одинокой хижине. Действительно, на следующее утро он появился в своем отцовском доме, шмыгая носом и дрожа от холода, и попросил крова.
Рёкан был добр и к нищим. Возвращаясь домой после сбора милостыни, он был готов все раздать своим несчастным собратьям, которые попадались ему по пути. Наверное, следующие строки он сочинил по одному такому поводу:
Если бы мое черное одеяние
Было достаточно широким и просторным,
Я бы укрыл всех бедняков мира Под своими рукавами.
У него было очень мало личных желаний. Когда один феодальный правитель из соседней провинции однажды посетил его и пригласил к себе в город, — вероятно, он даже выстроил храм, где тот мог пребывать, занимаясь религиозными практиками, — этот поэт-нищий какое-то время молчал. Когда же его вежливо попросили дать какой-нибудь ответ, он написал вот что:
Все топливо, что мне нужно,
Доставляется ветром —
Я собираю эти опавшие листья!
Будучи таким блаженным бедняком, этот дзэнский поэт был и великим трубадуром бедности. Его стихи, особенно на китайском языке, исполнены этих ощущений. Должно быть, он был ревностным поклонником Кандзана (Хань-шаня), поскольку его стихи очень напоминают нам о высокой духовной атмосфере, в которой пребывал Кандзан. Вот песнь нищеты Рёкана:
В лохмотьях, в лохмотьях,
Снова в лохмотьях — такова моя жизнь:
В пищу мне идут придорожные травы;
При луне я сижу, медитируя ночь напролет;
Глядя на цветы, я забываю вернуться домой.
Эту простую жизнь я согласился принять С тех самых пор, как вступил в буддийскую общину.
3
Какие уроки извлек Рёкан, находясь в буддийском братстве? Вот некоторые из них:
Прошлое уже прошло,
Будущее еще не наступило.
Настоящее никогда не присутствует;
Вещи меняются постоянно, от них ничего
не зависит;
Так много имен и слов беспорядочно формируется — Зачем праздно прожигать жизнь день за днем?
Не поддерживайте свои изъеденные временем
воззрения.
Не следуйте своим вновь возникшим фантазиям; Искренне и чистосердечно задавайте вопросы
и размышляйте; Вопрошайте и размышляйте, размышляйте
и вопрошайте Пока не придет срок, когда спрашивать
уже невозможно; И тогда вы поймете, что неправильно вели себя
в прошлом.
Это показывает, как прилежно Рёкан старался изучать буддизм, прежде чем стал вести свою «простую жизнь» в вечном потоке кармы.
Откуда пришла моя жизнь?
Куда она уходит?
Я сижу один в своей хижине И медитирую спокойно и искренне;
Мой ум не знает, откуда И куда я иду;
Так и с моим настоящим,
Вечно изменчивым, — и все в пустоте!
В этой пустоте есть «я» на какой-то срок,
С его «да» и «нет»;
Я не знаю, где установить их,
Я просто следую своей раскрывающейся карме,
в совершенной удовлетворенности.
Каков практический результат этой философии «ничегонезнания» и этого позволения карме, какой бы она ни была, действовать по-своему? Иначе говоря, что такое жизнь Рёкана в своей абсолютной пассивности, своей зависимости, или пустотности? Его травяная хижина на самом деле была черезвы- чайно скромной, хотя и достаточно просторной для него. Отсюда и термин гого, то есть половина сё (меньше одной кварты): это то количество риса, которое считалось достаточным для пропитания взрослого мужчины в течение дня.
Эта уединенная хижина, называемая Гого-ан, Напоминает по форме висящий колокол;
Она стоит в окружении густых зарослей кедров,
И редкие стихи украшают внутренние стены; Горшок, в котором я варю пищу, иногда
покрывается пылью, И дым часто не поднимается из очага;
Если и придет кто, то разве что старик
с восточной деревни, Который случайно постучит в дверь,
когда луна ярка.
Ка к-то осенним вечером я пробудился.
Взял посох и вышел из дверей;
Сверчки пели под ветхими кровлями,
Сухие листья быстро опадали с дрожащих деревьев; Вдалеке слышалось журчание потока.
Луна медлила подняться над высокой горой;
Все погружало меня в глубокую медитацию,
И потом, очнувшись, вдруг увидел я,
что мои одежды насквозь промокли от росы.
4
Этот апостол бедности и одиночества — или лучше называть его великим мистиком природы? — очень чутко воспринимал природу и все, что с ней связано: растения, животных. В своих стихах он, например, упоминает бамбуковую рощу, окружавшую его хижину, — должно быть, много бамбуковых деревьев росло там. Наверное, они очень нравились ему — не столько за то, что давали ему пищу, сколько за свою прямизну, за то, что сохраняли свежую зелень в течение круглого года. Их корни твердо держатся за землю, тогда как ствол полый, что символизирует для буддистов пустоту. Рёкана привлекала эта особенность бамбука. Как рассказывают, однажды молодой побег бамбука начал прорастать сквозь пол прямо в его уборной. Он заинтересовался этим. Наконец, увидев, что бамбук подрос довольно высоко, он решил убрать ради него крышу сарайчика. Рёкан попытался поджечь крышу свечой. Может, он посчитал, что это самый легкий способ сделать дело? Но, возможно, у него не было такого намерения, он просто хотел освободить пространство для молодого растения и, подумав в тот момент, что свеча — это то, что надо, начал действовать. К сожалению, крыша загорелась гораздо сильнее, чем ему этого хотелось, и вся постройка, а также, видимо, и сам бамбук сгорели дотла. Действительно, вершина глупости — сжигать крышу ради бамбукового ростка; но так я говорю только с практической точки зрения. Я чувствую, что готов простить ему его глупость, готов даже восхититься ею. Есть что-то подлинное, или, я бы сказал, божественное в этой любви к ростку бамбука. Нечто подобное этому есть в каждом настоящем поступке любви. Мы, человеческие существа, настолько отдаемся различным прагматическим и корыстным ухищрениям, что не способны поверить чистому импульсу дружеского чувства. Разве редко мы подавляем, сдерживаем этот импульс? В нас он не всегда может действовать так же чисто, как в этом поэте-бе- зумце, и вполне может быть, что именно наш сознательный ум подавляет или сдерживает его. Если это так, нам следует очистить свою жизнь от всего нечистого, прежде чем мы будем критиковать Рёкана.
Любовь Рёкана к соснам тоже заметна в его стихах. Он, скорее всего, не был оратором или писателем; все, что проходило сквозь его восприимчивое сознание, воплощалось в его произведениях, которые принимали разную форму в зависимости от настроения. Это могли быть стихи на китайском или японском языках, либо в стиле классического тридцатиод- носложника, либо народной песни, либо в стиле манне, когда берется много слогов. Он вполне искусно владел всеми этими формами, хотя и не всегда жестко ограничивал себя правилами жанра, напротив, часто ими пренебрегал. Еще одним излюбленным способом выражения внутренней жизни для Рёкана была каллиграфия. Однако в нашем случае именно литературные произведения Рёкана лучше скажут нам о его внутренних ощущениях. Он воспевает одинокую старую сосну возле Кугами:
Возле Кугами,
Перед Отоно,
Растет сосна одиноко.
Видела она много поколений;
С каким божественным достоинством Возвышается она здесь!
Утром
Я прохожу мимо нее;
Вечером
Я стою под нею И, замерев, гляжу Без устали
На эту одинокую сосну!
Должно быть, есть что-то исключительно чарующее в этом древнем дереве. В сущности, любое старое дерево, какой бы разновидности оно ни было, внушает человеку мистическое чувство, которое ведет его к далекому миру вечности, отрицающей время.
Еще одна сосна, возле Ивамуро, вызвала у него чувство острой жалости. Это дерево, скорее всего, было еще молодым и его ветви не простирались величаво. Лил сильный дождь, и Рёкан увидел, что оно было совершенно мокрым:
Возле Ивамуро Посреди поля Одинокая сосна стоит;
Как мне жаль эту одинокую сосну,
Она стоит совсем одна,
Полностью залитая ливнями;
Если бы это был человек,
Я бы дал ему накидку от дождя.
Я бы подарил ему шляпу.
О,как мне жаль это одинокое дерево!
Япония — это страна сосен и кедров. Последние смотрятся выигрышно, когда стоят в группе или выстраиваются в ряд, а первые прекрасны, когда стоят в одиночестве. Японские породы сосен называются мацу, эти деревья обычно простирают свои ветки в беспорядке, а ствол у них искривлен. Одинокая старая сосна, растущая много лет перед комнатой, — это такой утешительный друг для ученого или монаха! Конечно, к дереву в поле, заливаемому дождем, Рёкан испытывал чувство жалости, а вот Сайгё видел сосновое дерево в иной обстановке; кроме того, он был другим по характеру человеком или, по крайней мере временами, другое душевное состояние обуревало им. Вот два стихотворения Сайгё:
Много времени прошло,
А ты все так же величаво возвышаешься. Помни о днях нашей дружбы Даже после смерти моей, о сосна!
Ведь я — тот, кто живет в мире Безвестным, нелюбимым.
Если мне, уставшему стоять здесь,
Вновь захочется отправиться в путь,
Ты не ощутишь себя брошенной, о сосна?
5
Рёкан, любивший деревья, был также большим другом вшей, а также, вероятно, блох, комаров и т. п. Он вообще с нежностью относился ко всем существам. В одном интересном, хотя и не вполне привлекательном случае описывается его трогательная забота о вшах. Эта история показывает, как он обычно относился к другим формам жизни. Часто доводилось видеть, как в ранние теплые зимние дни он устраивал вшам солнечную ванну и проветривал их на воздухе. Выкладывая паразитов одного за другим из своего нижнего белья на листы бумаги, он выставлял их на солнышке. Когда ближе к полудню становилось холоднее, он собирал их и возвращал в прежнее жилище. Он пишет об этом так:
О вошки, вошки,
Если бы вы были насекомыми.
Что поют в осенних полях,
Моя грудь (фудокоро) была бы Для вас словно равнина Мусасино.
Я боюсь, что эта тема может и не показаться поучительной, однако подлинная, настоящая любовь Рёкана к подобным существам несет в себе нечто нежное, трогательное. Мы со своей идеей гигиенической чистоты с большой брезгливостью относимся к этим назойливым тварям, но я знаю, что еще не так давно английские джентльмены и леди из высшего общества не вполне были свободны от паразитов. Они носили на головах парики частично из-за того, чтобы забыть об их раздражающем присутствии, хотя даже в этих париках зачастую кишели гниды. Один ученый заметил, что «даже в восемнадцатом столетии блох воспринимали как неизбежность».[198] Кроме того, он же отмечает, что Джордж Вашингтон в четырнадцать лет переписал один пункт из «правил воспитанного человека», в котором содержится следующее замечательное утверждение: «При других не убивайте паразитов, таких как блох, вшей, клещей и так далее. Если вы видите какое-либо грязное пятно или густой плевок, проворно наступите на него; если тварь появится на одежде ваших товарищей, удалите ее незаметно, а если она окажется на вашей одежде, поблагодарите того, кто удалит ее».
Рёкан очень любил детей, что и следовало ожидать от того, кто сам был ребенком. Ему нравилось играть с ними в прятки, а также в тэмари («гандбол»). Однажды под вечер подошла очередь прятаться ему, и он зарылся в копну сена, стоявшую на поле. Становилось все темнее и темнее, а дети не могли отыскать его. На следующее утро на поле пришел крестьянин, собравшийся убрать сено. Обнаружив там Рёкана, он воскликнул: «О Рёкан-сама, что вы тут делаете?» Поэт-безумец ответил: «Тсс! Не говори так громко! А не то дети меня найдут». Неужели он думал, что дети станут его искать всю ночь в сене? Разве ему никогда не приходило в голову, что юные создания могут быть такими же обманчивыми и ненадежными, как и взрослые? Но подобные мысли типичны для нас, людей, живущих в этом нереальном мире; сам Рёкан, скорее всего, следовал другой линии рассуждения, — как и тогда, когда он сжег крышу с целью спасти бамбуковый росток. Эта его простота заставила его провести целую ночь в открытом поле, сосредоточившись только на одном — укрыться от детей, от этих своих наивных, но временами озорничавших друзей. Эта история в чем-то является крайностью, и ее подлинность может быть оспорена, но сам факт ее широкого хождения показывает, что Рёкан в любой момент был готов вести себя подобным образом.
В нынешнюю эпоху мы живем под гнетом различных условностей. В реальности мы являемся рабами идей и понятий, мод и традиций, образующих психологическую основу того, что обычно именуется мировоззрением современного человека. Мы никогда не ведем себя так, как советует Уитмен.[199] Мы пребываем в состоянии полного рабства, хотя и не способны осознать это или, скорее, не склонны соглашаться с этим. Когда мы видим, как Рёкан отдается спонтанному движению своих чувств, слишком чистых, чтобы следовать обусловленному порядку эгоистически ориентированных омрачений, мы чувствуем себя освеженными, словно на нас повеяло другим миром. В его любви к детям мы признаем те же черты психологи
ческой независимости и спонтанности, которые были проявлены и в его отношении к одинокой сосне, и к ростку бамбука, прорастающему сквозь пол. Его интерес к игре в тэмари и отэдама с детьми также указывает на свободный играющий дух, которым наделены и все мы. Однако мы удерживаем себя от участия в этой игре, считая это ниже достоинства взрослых.
В игре в тэмари и отэдама[200] выигрыша добиваются через напевание популярного мотивчика. Отскок тэмари, поворот рук и ритмический хор голосов — все эти простые действия, вероятно, помогали Рёкану выразить свой простой, неомраченный дух. Примерно того же рода был и его интерес к примитивным деревенским пляскам по случаю праздников. Однажды заметили, как он, замаскировавшись под молодую женщину, пляшет с деревенскими жителями. Один из плясавших, узнав Рёкана, сказал вслух — намеренно громко, желая, чтобы Рёкан его услышал, — как, мол, хорошо тот (точнее, та) пляшет. Говорят, что позднее Рёкан рассказывал об этом случае своим друзьям с чувством гордости.
Наверное, каждый из нас хотел бы вернуться к более простой форме жизни — той, которая включает в себя более простые способы выражения чувства, достижения знания. Так называемый «путь богов» указывает на это. Хотя я в точности не знаю, какое значение теоретики ками нагара-но мити вкладывают в этот термин, мне кажется, что в какой-то мере под этим они понимают возвращение, сохранение, восстановление того порядка вещей, который, как предполагалось, был при богах до того, как появились люди. Это был путь свободы, естественности и спонтанности. Как же мы удалились от него?
В этом заключается фундаментальная религиозная проблема. Ее решение дает ключ к пониманию некоторых аспектов дзэн-буддизма и японской любви к природе. Когда мы говорим о естественности, мы имеем в виду прежде всего способность быть свободными, спонтанными в выражении своих чувств, непосредственными, не обдумывающими заранее свою реакцию на окружающую обстановку, не рассчитыва- щими последствия своих поступков ни по отношению к другим, ни по отношению к себе и вести себя так, чтобы не оставлять места для мыслей о выгоде, об оценках, о заслугах или о значимости. Поэтому «быть естественным» — это значит уподобиться ребенку, хотя и необязательно уподобиться детской интеллектуальной наивности или эмоциональной незрелости. В каком-то смысле ребенок — это комок эгоистических импульсов, но в своем осуществлении их он ведет себя «естественно», не церемонясь, не думая о практических и мирских заслугах и утратах. В этом отношении ребенок — это ангел, почти божество. Он игнорирует все социальные ухищрения, на которые идут взрослые, чтобы выглядеть приличными, стереотипными и законопослушными. Он не принимает подобных искусственных, чисто человеческих принуждений. Практический результат такого поведения ребенка не всегда может быть приятен вкусу так называемого культурного, рафинированного, утонченного человека. Но речь здесь идет не только о практических сторонах, но и о подлинности мотива, незаинтересованности чувства, непосредственности ответа. Мы говорим, что, когда в сердце нет кривизны, тогда человек естествен и подобен ребенку. В этом состоянии есть нечто высоко религиозное, и не случайно, что ангелы иногда изображаются в виде младенцев с крыльями. Вот почему дзэнские художники питают особый интерес к образам Кандзана и Дзиттоку или к Хотэю, окруженному детьми.
Поэтому возвращение к природе не означает возвращения к естественной жизни примитивных и доисторических народов. Оно означает свободу и независимость. Телеологическое понимание существования — вот что особенно мешает нам в современной жизни, вот что излишне усложняет ее; мы приучены любой эпизод своей жизни видеть под телеологическим углом зрения. Это понимание вполне приемлемо, когда дело касается нашего нравственного, экономического, интеллектуального и физического существования. Однако наше существование глубже всех этих соображений, и мы никогда не чувствуем, что удовлетворены ими до конца: мы ищем нечто гораздо более глубокое, чем просто нравственный и рациональный уровни. Пока мы цепляемся за телеологическое понимание существования, мы никоим образом
не можем быть свободны. А отсутствие свободы
это причина всех бед, всех страданий, всех конфликтов, которые происходят в мире.
Таким образом, быть свободным от всех ограничивающих правил или концепций — это сущность религиозной жизни. Пока остается осознавание нами любой цели, то какими бы ни были наши действия, мы не свободны. Быть свободным — значит быть бесцельным, что, впрочем, не совпадает с распущенностью. Идея цели — это нечто такое, что человеческий интеллект вычитывает в определенных формах движения. Когда телеология входит в нашу жизнь, мы перестаем быть религиозными, мы остаемся просто нравственными существами. Так же и с искусством. Когда цель слишком бросается в глаза в так называемом произведении искусства, то искусства больше нет, оно становится механистичным, рекламным. Таким образом, искусство родственно религии. Природа же представляет собой совершенный образец искусства, потому что нет видимой цели в волнах, катящихся с безначальных времен в Тихом океане, и нет ее в горе Фудзи, покрытой древними снегами, упирающейся своей абсолютно чистой вершиной прямо в небо. Мы, будучи существами, одержимыми утилитарными идеями, в цветке можем распознать семя, из которого он вырос, а в семенах увидеть жизнь, которая расцветет в грядущие годы; но под религиозным, эстетическим углом зрения, цветы — это цветы, красные или желтые, а зеленые листья — это зеленые листья, и здесь все утилитарные, телеологические или биологические концепции отпадают.
Мы восхищаемся машиной, устроенной чрезвычайно тонко и искусно, которая может действовать самым эффективным образом, но не испытываем тяготения к ней; это вещь, совершенно чуждая нам, и она в любой момент может быть использована нами. Она нам чужда потому, что мы знаем не только любую ее механическую часть, но и цель, ради которой она должна работать; во всей ее конструкции, так сказать, нет тайны, нет секретов, нет творческой самостоятельности; она полностью объяснима, подвержена законам, открытым физикой, динамикой, химией или какой-нибудь другой наукой. А вот эскиз чернилами, сделанный несколькими мазками кисти художника — на внешний взгляд, очень грубо сработанными, — пробуждает в нас глубочайшие чувства и обращает нас к самим себе. Точно так же, когда мы сталкиваемся лицом к лицу с природой, все наше существо растворяется в ней и чувствует каждый удар ее пульса, как если бы это было биением нашего сердца. Говорить об идентичности — это профанация, потому что идентичность — механическая и логическая концепция, которая не подходит к подобному уровню нашей жизни. Именно на этом уровне находится царство дзэн-буддизма, это та точка, с которой люди вроде Рёкана обозревают мир.
В этой связи я не могу не упомянуть сюжет картины, касающийся ухода Будды в нирвану. Возможно, это не самая подходящая тема, которую стоило бы здесь затрагивать. Могут спросить: какая связь между сюжетом нирваны и японской любовью к природе, или между ним и дзэн-буддизмом? Но то, что я хочу выделить в картине на данную тему, какой ее обычно рисуют в Японии, непосредственно касается буддийского отношения к природе. Так как картины на данный сюжет часто встречаются в дзэнских японских монастырях и содержат в себе нечто такое, что необычайно очаровывает японцев, я приведу здесь один-два факта, касающихся ухода Будды в нирвану.
Я не стал прослеживать историческое развитие концепции нирваны вплоть до сегодняшнего дня. Поскольку традиция приписывает первую идею, или, скорее, первое авторство этой жанровой картины У Дао-цзы, хорошо известному художнику эпохи Тан, надо полагать, что она впервые была написана в Китае. Но в настоящий момент я не имею возможности исследовать, насколько глубоко и интенсивно ее сюжет воздействовал на воображение китайского народа. Что касается Японии, то здесь он глубоко вошел в религиозное сознание людей, стал тесно связан с буддийской жизнью в Японии, особенно с дзэн. В нем явно есть что-то такое, что неодолимо взывает ко всем нам.
Самая заметная, центральная, фигура картины нирваны — это Будда, который спокойно покидает мир, окруженный учениками. Это контрастирует с картиной распятия Христа, с кровью, стекающей из его головы и боков. Христос вытянут вертикально на кресте, лицо и тело его выражают крайнюю боль и страдание, тогда как Будда выглядит так, словно он умиротворенно засыпает на ложе, без всяких признаков страдания. Вертикальный Христос воплощает интенсивный дух борьбы, тогда как горизонтальный Будда воплощает миролюбие. Когда мы взираем на последнего, все, что противодействует духу безмятежности, исчезает из нашего сознания.
Будда лежит удовлетворенный — не только самим собой, но и всем миром, всеми населяющими его существами, одушевленными и неодушевленными. Посмотрите на этих животных, на этих богов, на эти деревья, что оплакивают его уход. На мой взгляд, эта сцена наделена высочайшим значением. Разве это не самая яркая иллюстрация того факта, что буддисты не находятся в состоянии войны с природой, что они и природа живут одной жизнью в Дхарме?
Эта идея и реальное ощущение проживания одной жизни в Дхарме позволяют буддистам чувствовать себя в окружающей их природе, как дома. Когда они слышат крик горной птицы, они узнают голос своих родителей; когда они видят цветы лотоса в пруду, они открывают в них несказанную славу и величие Буд- да-кшетры, или Земли Будды. Даже когда они сталкиваются с врагом и вынужденно убивают его по ка- кой-либо причине, они умоляют его обратить это в их заслуги для своего последующего спасения. Вот почему есть у них и так называемый ритуал утешения, исполняемый, например, для вьюнков, которые рвут для того, чтобы освободить место для более ценных сортов растений; или для всех несчастных животных, которых убивают по разным причинам, выручая людей; или для изношенных кистей художника, которые так долго служили ему верой и правдой, помогая ему произвести на свет различные шедевры. Таким образом, любовь к природе у японцев несет на себе глубокий отпечаток религиозной интуиции и религиозных ощущений. Картина нирваны в этом отношении показательна, так как она проливает свет на японскую психологию.
Как я уже сказал, именно благодаря гению сун- ских дзэнских художников Будду или бодхисаттв стали изображать наряду с животными и растениями. До них Будды и бодхисаттвы изображались в виде существ, преодолевших сферу человеческих чувств; они были как бы сверхъестественными персонажами. Но когда дзэн стал важным элементом религиозного сознания китайского и японского народов, он изъял из буддийских фигур этот отчужденный, равнодушный, даже неприступный облик, дотоле характеризовавший их. Они спустились со своих запредельных высот, чтобы смешаться с нами, обыденными существами, с обычными животными и растениями, скалами и горами. Когда они говорили, «камни склоняли свои головы, а растения навостряли свои уши». Вот почему уход Будды в нирвану так близко воспринимается всеми формами существа, именно так, как мы и наблюдаем на картине.
Знаменитая картина нирваны из дзэнского монастыря Тофукудзи, в Киото, была нарисована монахом Тёдэнсу (1352—1431), одним из величайших художников Японии. Это одна из самых больших картин такого жанра в Японии, ее размеры 39 на 26 футов. Говорят, во время гражданской войны в начале XV столетия, которая опустошила большую часть Киото, армия клана Хосокава использовала эту картину для укрытия своего лагеря от ветров. С работой над этой знаменитой картиной связана одна легенда, характерная для буддийской философии жизни. Когда Тёдэнсу занимался этим масштабным проектом, какая-то кошка повадилась посещать его и усаживаться возле него, наблюдая за тем, как он пишет картину. Художник, которому не хватало ультрамаринового цвета, в шутку заметил: «Если ты так добра, принеси мне минерал, в котором ультрамарин, и я найду тебе местечко в картине нирваны». До него кошек, по неизвестным причинам, никогда не рисовали на картинах нирваны — отсюда и замечание Тёдэнсу. И вот чудо — на следующий же день кошка принесла ему требуемый материал, и больше того, она привела его к тому месту, где минерал лежал в изобилии. Восторг художника не знал пределов и, чтобы сдержать свое слово, он нарисовал кошку в своей картине нирваны. С тех пор в картинах такого рода кошка пользовалась особой популярностью. Не странная ли это история? Но она хорошо показывает буддийское отношение к животным, аналогичное отношению к ним всего японского народа.
8
В сущности, японская литература изобилует историями подобного рода. Но вместо того чтобы умножать их, мне бы больше хотелось обратиться к истории японской культуры и привести несколько примеров горячей любви к явлениям природы, которую испытывали наши поэты и художники. И примечательно то, что объекты их интереса далеко не всегда совпадают с вещами, которые обычно считаются красивыми или намекающими на сферу, далеко выходящую за пределы этого эфемерного, постоянно меняющегося мира. Однако и сама по себе изменчивость часто становится объектом восхищения. Ведь она означает движение, прогресс, вечную молодость, она ассоциируется с добродетелью непривязанности, которая характерна для буддистов, а также и для японского народа.
Вьюнок — один из самых обычных цветов в Японии. Японские цветоводы довольно искусно умеют придавать этому растению художественный облик, и ранним летом по всей стране проходят конкурсы на лучший цветок. Так много меняющихся условий следует учесть, когда надеешься вырастить прекрасные большие цветы на лозе. Но обычно вьюнок будет цвести в изобилии все лето, прорастая вдоль сельских оград, у стен, заборов — словом, везде. Его особенность заключается в том, что его лоза каждое утро принимает новый облик, на ней никогда не встретишь вчерашних цветков. Какими бы прекрасными ни были цветы этим утром, они увядают еще до ночи того же дня. Именно эта эфемерная слава вьюнка привлекала японское воображение.
Я не знаю, обязана ли эта «моменталистская» тенденция в японской психологии темпераменту японцев или она возникла в какой-то мере из-за буддийского Weltanschauung [201] но факт остается фактом — красота является чем-то мгновенным, она всегда проходит; и если ее не успевают оценить тогда, когда цветок еще преисполнен живительных соков, он становится воспоминанием, полностью лишенным жизни. Примером чему служит вьюнок:
Каждое утро, как встает солнце,
Цветы выглядят по-новому,
Они восхитительны в своем первом пробуждении
к жизни;
Кто скажет, что вьюнок живет слишком мало?
Он так долго сохраняет свое цветение.
Красота всегда жива, потому что там, где она есть, нет ни прошлого, ни будущего, но только настоящее. Вот вы засомневались, отвернулись — и все, ее больше нет. Вьюнком следует восхищаться по его первом пробуждении, когда встает солнце, так же надо относиться и к лотосу. Таким образом, дзэнское учение повлияло на японцев в том, как любить природу, как быть в общении с жизнью, пронизывающей все объекты, в том числе и человеческие существа.
А вот еще одно стихотворение:
Сосна живет тысячу лет,
А вьюнок — только день;
И все же каждый из них исполнит свою судьбу.
Здесь нет фатализма. И в сосне, и во вьюнке каждое мгновение пульсирует жизнь. Достоинство этого мгновения невозможно измерить ни за тысячу лет одной, ни за один день другого, оно измеряется только самим этим мгновением, ведь оно абсолютно в каждом из этих растений. Поэтому красота не должна быть искажена представлением о фатализме или об эфемерности жизни.
Когда Тиё (1703—1775), поэтесса хайку, о которой уже шла речь выше, обнаружила возле своего колодца цветущий вьюнок, она была настолько захвачена его красотой и исходящим от него ощущением святости, что не захотела вредить цветку, используя его для своих практических целей. Растение можно было бы легко и быстро оторвать от веревки, или бадьи, вокруг которой оно, по всей вероятности, обвилось. Но эта идея даже не приходила ей в голову. Чувство красоты и святости — это нечто такое, чего не должны касаться мирские руки. Отсюда и ее стихотворение (см. стр. 278 и сл.). То, что можно назвать божественным вдохновением, вспыхивает в ее сознании при виде объекта природы, который может и не быть прекрасен, он может быть и некрасив, с точки зрения так называемого здравого смысла. Когда возникает такое вдохновение, мы настолько возвышаемся над своими повседневными делами, что простое выражение своих ощущений другими может казаться чем-то курьезным, прозаичным, а то и кощунственным. Только тогда мы и возвышаемся до того уровня, на котором оказываемся способны понять полный смысл этого произведения и прозреть тайны, сокрытые в поэтическом отношении к природе.
Лягушка совсем не кажется прекрасным созданием, но когда поэт хайку замечает, как она прыгает на лист лотоса или лист басё, еще свежий от утренней росы, это пробуждает в нем вдохновение:
Одинокая лягушка, мокрая от дождя,
Сидит верхом на листе басё,
Колебля его.
Спокойная летняя сцена показана через образ маленького земноводного существа. Кому-то эпизод вроде этого может показаться слишком ничтожным, чтобы вызвать какое-то поэтическое вдохновение, но для японцев, особенно японских буддистов, в мире нет ничего незначительного. Лягушка столь же важна, как орел или тигр; каждое ее движение напрямую связано с первоисточником жизни, и в нем, через него можно уловить самые важные религиозные истины. Отсюда и стихотворение Басё о лягушке, прыгающей в старый пруд в его саду. Этот прыжок столь же значим, как и грехопадение Адама, ибо он тоже несет в себе истину, открывающую тайны творения.
Мимо маленького Фыркающего котенка Слизень ползет равнодушно.
В этом стихотворении тоже мало чисто человеческой шутливости и нежности. Упоминаниями о подобных маленьких природных событиях пестрит вся японская литература, но особенно поэзия хайку, которая в полную силу расцвела в период Токугава. Хайку чрезвычайно интересуется малыми живыми созданиями, такими как разнообразные мухи, блохи, вши, пчелы, поющие насекомые, птицы, лягушки, кошки, собаки, рыбы, черепахи и т. д. Ее также серьезно занимают растения, деревья, скалы, горы и реки. И как мы знаем, хайку для японского народа — один из самых популярных способов выразить свои философские прозрения и поэтическое понимание природы. В чувстве, спрессованном в очень небольшом количестве слогов, мы обнаруживаем душу японцев во всей ее прозрачной чистоте, во всей ее поэтичности или интуитивной восприимчивости к природе и к ее объектам, как неодушевленным, так и одушевленным.
Не стоит повторять, что хайку воплощает дух своего современного основателя Басё: дух Басё есть дух дзэн, выраженный в семнадцати слогах. Это уже было полностью объяснено и показано в разделе о связи между хайку и дзэн.
9
Вероятно, лучший способ проиллюстрировать японскую любовь к природе, навеянную духом дзэн-буддизма, — это проанализировать различные идеи, повлиявшие на сооружение чайной комнаты или чайного домика, где, в соответствии с определенными правилами, практикуется так называемое искусство чая. Эти правила не составлялись намеренно, они постепенно и непроизвольно вырастали из художественно окрашенных практик опытных мастеров чая. И в деятельности этих мастеров мы обнаруживаем, что японский инстинкт природы полностью проникся философией дзэн — нравственно, эстетически и интеллектуально. Когда мы знаем все о истории чая, его практике, его условиях, его духовном фундаменте, а также о нравственной атмосфере в моменты чайных церемоний, мы можем сказать, что понимаем и тайны японской психологии. Тема эта очень интересна, но она требует более подробного раскрытия, и поэтому ее следует отложить до подходящего случая.[202]
Давайте опишем чайную комнату в одном из храмов, относящихся к Дайтокудзи, дзэнскому храмовому комплексу, который является штаб-квартирой чайного искусства. Там, где ряд плит, расположенных в беспорядке, подходит к концу, стоит неказистого вида хижина, крытая соломой, низенькая и в высшей степени скромная. Вход в нее — не через дверь, а через какое-то отверстие; чтобы войти туда, посетитель должен сбросить все свое бремя, то есть освободиться от обоих мечей — и длинного, и короткого, которые в феодальную эпоху самурай привык носить при себе все время. Внутри находится маленькая, слабо- освещенная комнатка в десять квадратных футов; потолок низок, шероховат и кривоват. Подпорки неровные и выглядят незавершенными, они сделаны главным образом из натурального дерева. Однако через какое-то время, по мере того как наши глаза начинают привыкать к новой обстановке, в комнате становится постепенно светлее. Мы замечаем старинное какэмоно в нише, на которой мы видим какую-нибудь роспись или картину в стиле сумиэ. Дымящиеся благовония издают приятный аромат, который обладает способностью успокаивать нервы. В цветочной вазе находится не больше одного цветка, на вид совсем не роскошного и не яркого. Подобно маленькой белой лилии, расцветающей под скалой в окружении темных сосен, скромный цветок в этой обстановке приобретает особую красоту, привлекающую внимание маленького собрания.
Теперь послушаем, как закипает вода в чайнике, который покоится на треножнике в квадратном отверстии, вырезанном в полу. На самом деле этот звук издает не закипающая вода, а тяжелый железный чайник; и знаток ритуала самым естественным образом отождествляет его с бризом, который шевелит в роще ветви сосен. Этот звук делает обстановку в комнате еще более безмятежной, и человек ощущает себя в ней так, словно он сидит одиноко в горной хижине, где белое облако и музыка в соснах — его единственные товарищи-утешители.
Посидеть с чашкой чая в компании друзей в такой обстановке и говорить, возможно, об эскизе сумиэ в нише или на какие-нибудь эстетические темы, вызываемые чайной утварью, которая находится в комнате, — это так отрешает ум от жизненных проблем. Воин спасается здесь от своих ежедневных воинских обязанностей, деловой человек — от постоянных финансовых забот. В самом деле, разве не стоит найти в этом мире борьбы и суеты уголок, пусть и очень скромный, в котором человек может подняться над границами относительности и даже ощутить вспышку вечности?
IV
Следующие ниже стихи о вишне — случайная выборка из огромного наследия японской поэзии, сделанная с целью показать страстную привязанность народа Японии к цветам, да и фактически ко всем объектам природы. Это чувство не обязательно вызвано учением дзэн, но, как я показал в других разделах, дзэн глубоко повлиял на эстетическую восприимчивость японского сознания и основательно вкоренил в него религиозные интуиции, которые возникают из мистического понимания природы.
Эти японские стихи как, впрочем, и стихи на любом языке, со всеми их тонкими ощущениями и литературными нюансами нельзя перевести на какой-либо иностранный язык. Замечу, к слову, что, как и в случае с живописью сумиэ, японскому сознанию удается выражать свои поэтические ощущения в самом минимальном наборе слов. Вака из тридцати одного слога стала хайку из семнадцати. Некоторые подумают, что японский ум еще не достаточно отделил философию от жизни, а идеи — от непосредственных переживаний. Иначе говоря, он еще не достиг высшей степени интеллектуальности и по этой причине удовлетворяется кратчайшей поэтической формой, такой как вака или хайку, в которой нет никакого стройного порядка идей, никакого рационального описания утонченных переживаний. Другие утверждают, что японский язык беден и ограничен, а значит, не способен произвести какую бы то ни было разновидность возвышенной поэзии. Эта критика, возможно, в чем-то права, но любые обобщения выражают только часть правды. Японская поэзия все еще ожидает своего адекватного разнопланового анализа, включая исследование психологического, философского и исторического окружения, в котором она развивалась.
Мне хотелось бы отметить по крайней мере одно — то, что японский поэт, выбирая для своих стихотворений краткие формы, считает излишним заострять внимание на идеях, переживаниях и обстановке, либо приведших к составлению этих стихотворений, либо возникших на их основе. Эти пробелы следует заполнять читателю, который должен очень хорошо представлять себе физические и психологические условия, в которых живет поэт. Гений поэта состоит в том, чтобы выбрать несколько значимых моментов, способных заставить читателя вызвать в своем воображении все поэтические ассоциации, содержащиеся в семнадцати слогах стихотворения. Но необходимо
помнить, что секреты хайку совсем не обязательно заключены в этой его способности воздействия.
Приведу несколько примеров. У Рёта, жившего в XVIII столетии, есть хайку, описывающее его переживание луны, которая из-за постоянно льющихся весенних дождей не показывалась много ночей. И вдруг мягко и неожиданно она выплывает посреди сосен. Должно быть, это стало для него самым большим сюрпризом. Дождливый сезон в Японии очень мрачен и тяжел для тех, кто любит созерцать луну по вечерам, когда она отбрасывает свою нежную, приятную, спокойную тень на туманную, нереальную землю.
В июне дожди.
Однажды ночью, словно украдкой —
Луна сквозь сосны.
Это хайку, в его японском оригинале, несомненно останется непонятным для большинства читателей, тогда как его китайский перевод в четыре строки, по пять иероглифов в каждой, передает идею более полно:
Вот лета разгар, и моя травяная хижина высохла;
Каждый вечер я засыпаю с мыслью о дожде.
Вдруг полная луна выплывает [в небе] —
И тень от сосны в моем саду
Человечность поэта Тэнтоку вызвала к жизни следующее хайку, которое ныне стало поговоркой:
Первый снег!
Он тоже чей-то ребенок.
Этот носитель бочонков.
Это произведение кажется совершенной бессмыслицей. Для японцев, которые знают, что такое первый снег в году, а также что такое фигура носителя бочонков в феодальную эпоху, данное хайку исполнено глубокого смысла. День первого снега — это, скорее всего, первый холодный день зимы, но в то же время это и день, когда обеспеченные люди, попивая сакэ, посиживают в дружеской компании в пригородном ресторане с приятным садом. По всей вероятности, и сам поэт направлялся на такую встречу, когда он увидел бедного мальчугана, который собирал маленькие пустые бочонки от сакэ, выброшенные на улицу. Мальчик был плохо одет — наверное, в лохмотья — и разут. Это пробудило в поэте чувство сострадания. Этот мальчик — чей-то ребенок, и почему же ему приходится страдать, ведь так много детей его возраста живут счастливо в роскошной праздности? Здесь проявляет себя чувство справедливости. Если бы он был каким-нибудь Гудом,[204] он бы наверняка написал Песнь о рубашке.
Вака, или ута, состоит из тридцати одного слога и может выразить чуть больше чувств, чем хайку, но все же зачастую необходим ряд комментирующих фраз, чтобы соединить мысли, высказанные только намеком. Одна из причин, почему вака не расширилась в большее количество слогов, состоит в том, что, если поэт хотел выразить себя более полно, он обращался к жанру, который можно назвать «прозаическим стихотворением». Различные образцы этого жанра часто встречаются в японской литературе.
Следующие стихи о вишне разделены на четыре части. Первая (А) относится главным образом к ветру и дождю, из-за которых цветы всегда опадают слишком быстро. В любом случае вишни цветут недолго — не больше недели. Они внезапно расцветают в начале апреля, и тогда горы и берега рек просто утопают в цветах. Это особенно заметно потому, что большинство деревьев в этот период еще стоят голыми. Вторая группа (Б) воспевает великолепное зрелище, когда вишня расцветает в полную силу. Это действительно прекрасное зрелище — например, видеть, как вся гора Есино покрыта роскошными цветами, в основном розового оттенка. Едва теплое мягкое солнце бросит на них сквозь туман свои лучи — и все население Токио или Киото теряет голову. Третья группа (В) говорит о духе цветка, что бы ни понимали под этим словом поэты. Последняя группа стихотворений (Г) передает страстные желания поэта, чтобы вишни расцвели. По крайней мере одно заставляет японцев так много думать о них — это то, что вишня является для них символом весны. Когда вишни расцветают, весна вступает в свои права, дни становятся длиннее, и мы радуемся тому, что зима в самом деле осталась позади.
А
Где живет этот ветер, разбросавший цветы, Скажет ли мне кто-нибудь?
Я хочу застать его дома И подать свою жалобу.
Монах Сосэй (X в.)
Я думал, через эту пограничную заставу Никаким ветрам не позволено пройти
[как указывает ее имя];
Но смотри — горная тропа усеяна Опавшими лепестками цветов вишни!
Минамото Ёсииэ (1051—1108)
Как жаль, о вишни в цвету, вы так быстро
утратили цвет! Почему вы не последовали за духом весны. Таким мирным, спокойным, всегда безмятежным?
Фудзивара Тосинари (1114—1204)
Не будем винить неразборчиво вечер.
Что срывает цветы так жестоко;
Я думаю, они и сами хотят слететь до того,
как пробьет их час.
Монах Дзиэн (1155—1225)
Теперь весны нет нигде.
Я не виню ни ветер, ни мир;
Ведь даже в самых отдаленных уголках Есино Вишен уже не видно.
Фудзивара Садайэ (1162—1241)
Б
Я уже престарелый, я старый —
Нельзя отрицать этого.
Но когда гляжу на эти цветущие вишни,
Каким бодрым я наполняюсь духом!
Фудзивара Есифуса (804—872)
Вот сборщик хвороста
Бредет по извилистой горной тропе:
«Скажи мне, друг,
Там, на вершине, вишни цветут Или это облакаР»
Минамото Ёримаса (1104—1180)
Год за годом лелеял желание я Посмотреть в Есино на вишни в цвету —
И оно исполнилось ныне!
Тоётоми Хидэёси (1536—1598)
Как он лучезарен, как он мирен и спокоен.
Этот дух весны!
Наверняка из этого духа Расцветают все горные вишни.
Камо-но Мабути (1697—1769)
Вот бы все люди, что живут в этом мире, Пришли на нашу землю,
Подошли к этой горе Есино И взглянули на вишни в полном цвету!
Камо-но Мабути
Лучшим временем выбрав эти долгие весенние дни, Расцветают вишни;
Когда я смотрю на них, думаю о прежних днях
богов — [о днях безмятежных]. Исикава Ёрихира (1791—1859)
Есино-яма скрыта за туманами —
Я не знаю, как получилось,
Но, куда ни кину взор,
Всюду вижу только массу цветущих вишен.
Хатта Томонори (1799—1874)
На мне панцирь алого цвета, в руке держу Старинный меч;
Я бы прекрасно гармонировал С этими горными цветущими вишнями.
Отиай Наобуми (1861—1903)
Сайгё, о котором уже часто говорилось в настоящей работе, оставил о себе неизгладимую память не только в истории японской литературы, но и в истории влияния буддизма на японскую культуру. Он жил еще до распространения дзэн, но его дух, его понимание природы, его горячее стремление жить вместе с природой, быть всегда заодно с природой сближают его с Сэссю, Рикю, Басё и многими другими поэтами. Басё по сути записывает себя и Сайгё в один ряд. Огромная любовь Сайгё к вишням могла побудить его сказать, например, такое:
Моя мечта — умереть под Цветущей вишней В этот весенний месяц цветов,
При полной луне.
В я понии и Китае по традиции считается, что смерть Будды произошла в пятнадцатый день второй луны (по лунному календарю). Отсюда и желание Сайгё умереть примерно в это время, что совпадает с периодом, когда начинают цвести вишни. Вторая луна в целом соответствует концу марта или началу апреля нашего календаря. Мечта Сайгё исполнилась, поскольку он скончался в шестнадцатый день второй луны первого года Кэнкю (1190 г.). Свою привязанность к вишням он хотел бы ощутить и в загробной жизни, раз он просил:
Пусть подносят Будде вишни в цвету Люди будущего, коли вспомнят обо мне.
Есть у Сайгё и другие стихотворения на тему вишен, которые показывают, как страстно он любил их, впрочем, как и другие объекты природы:
Даже я, безвестный и незаметный,
живу на этом свете;
Почему же тогда эти вишни
Столь безжалостно покидают взор
восхищенных людей?
В эти последние дни не могут цветы забыть весну;
Они несомненно скоро отойдут.
Выждав время, я проведу весь день
Под этими деревьями.
Мне очень хочется узнать,
На какой из горных вершин
Зацветают первые вишни:
Как я желаю увидеть их!
Как и большинство японцев, он был также и большим любителем луны. Лунный свет особенно привлекает японское воображение, и любой японец, который когда-либо пытался сочинить вака или хайку, едва ли мог оставить без внимания луну. Метеорологические условия страны весьма способствуют этому. Японцы любят мягкость, нежность, полутьму, тонкую притягательность и тому подобные вещи. Их эмоциональность носит умеренный характер. Пусть временами их покой нарушают землетрясения, все равно им нравится сидеть спокойно при луне, окунувшись в ее бледно-голубоватые, умиротворяющие душу лучи. Как правило, их отталкивает все слишком яркое, раз
дражает слишком явное выпячивание своей индивидуальности. Хотя луна довольно светла, но все предметы, оказавшись в ее лучах, как бы теряют свои отчетливые границы, все пронизывает некий мистический туман, и это, по-видимому, чувствуют почти все японцы. Сайгё, находясь в полном одиночестве в своем горном укрытии, общается с этим духом луны, о котором он не сможет не думать даже после своей смерти или из-за которого он чувствует нежелание уходить из жизни, хотя в земном мире у него уже нет никаких привязанностей. Фактически Чистая Земля есть не что иное, как надмирная проекция этих духовно-эстетических упований.
Ни одна душа никогда не посетит мою хижину, Кроме дружеского света луны,
Скользящей сквозь лес.
В какой-то день мне, может быть,
Придется уйти из этого мира, увы!
Навсегда сохранив любовь К луне, к луне!
В
К горной деревне в канун этой весны Я прихожу и слушаю звон монастырского колокола, Созерцая вишни в цвету И мягкое падение лепестков.
Монах Ноин Хосси (X в.)
Теперь эта древняя столица Сига — само разорение, Кроме горных вишен.
Цветущих столь же роскошно, как и всегда.
Тайра-но Таданори (1144—1184)
Вечер наступает.
Я устрою сиденье вон под тем вишневым деревом,
И цветок будет моим гостем нынче вечером.
Тайра-но Таданори
Сначала цвели, а потом раскиданы,
Отданы целиком дождю и ветру —
Цветов вишен нет уже!
Но их дух всегда спокоен.
Дата Тихиро (1803—1877)
Г
«Когда вишни начинают цвести.
Дайте мне сразу знать» —
Горный человек не забыл моей просьбы;
Я слышу, как он подходит: «Седлайте коня, живее!»
Минамото Еримаса
Когда в Есино вишни вот-вот зацветут.
Мое сердце, замирая, тянется к белым облакам. Покрывающим вершины гор в эти весенние зори.
Сакавада Масатоси (1580—1643)
ПРИЛОЖЕНИЯ
I
ДВА МОНДО ИЗ ХЭКИГАНСЮ
Для иллюстрации отношения дзэн к отдельным религиозно-философским вопросам я приведу следующие два примера из одного дзэнского учебника,[206] который часто используется и высоко ценится всеми последователями дзэн.
Один монах спросил Тайдзуя Хосина (Да-суй Фа-чжэнь), ученика Тайана (Да-ань, умер в 883 г.) из Фукусю (Фу-чжоу): «Интересно, когда в конце кальпы огонь разрушит и поглотит все миры, „это” также будет разрушено?»
Тайдзуй: «Да, будет!»
Монах: «Если так, „то” последует за остальными?»
Тайдззуй: «Да, последует».[207]
По поводу этого мондо Энго дает такие комментарии.
Хосин с горы Тайдзуй был учеником Тайана и уроженцем Энтэй (Янь-тин), что в Тосэне (Дун-чу- ань ). Он изучал дзэн под руководством более чем шестидесяти мастеров. Находясь под началом Исана (Гуэй-шань), он трудился на кухне, заботясь об огне. Однажды Исан спросил его: «Ты со мной уже несколько лет, но, кажется, ты даже не знаешь, как задать мне вопрос и посмотреть, что из этого выйдет». На что Тайдзуй сказал: «Но какой же вопрос я должен вам задать?» Исан предложил: «Если не знаешь, спроси так: „Кто есть Будда?”» Тогда Тайдзуй сразу положил свою руку на рот мастера, прикрыв его. На это Исан сказал: «Если ты будешь действовать как сейчас, ты не поймешь даже того, кто будет подметать твой двор».
Тайдзуй позже вернулся в свой родной город и у подножия горы Хоко (Бэн-коу) соорудил небольшую палатку, в которой три года угощал чаем прохожих. Потом его пригласили стать настоятелем только что открытого монастыря на горе Тайдзуй. [Отсюда и его имя «Тайдзуй».] Один из монахов как-то спросил
его: «Когда в конце кальпы огонь сожжет все миры, будет ли „это” * разрушено или нет?»
Этот вопрос основывается на буддийском писании, в котором утверждается, что физическая история вселенной проходит четыре стадии: «появление существования», «продолжение существования», «разрушение» и, наконец, «исчезновение». Когда в конце кальпы (века) происходит грандиозный пожар, пламя поднимается даже до небес третьей дхьяны. На самом деле этот монах не постиг высшего смысла рассказанной в писании истории.
Позволительно спросить: «Что же на самом деле означает здесь слово „это”?» Некоторые предложат интеллектуальное объяснение и скажут, что «это» есть изначальная природа всех существ. Тайдзуй ответил: «Да, разрушается!» Монах снова спросил: «Если так, последует ли „то” за остальным?» Тайдзуй сказал: «Да, последует». Все это малопонятно людям, не способным уловить его истинное значение, в силу того что они слишком преданы умствованиям. Когда Тайдзуй заявляет, что «это» должно последовать за остальным, куда «оно» в действительности направляется? А если бы Тайдзуй сказал иначе: «„Это” не последует за остальным», что тогда? И потом, разве не знаем мы одного древнего учителя, утверждавшего, что, если вы действительно желаете постичь вещь, вам вообще следует отказаться от вопросов?[208]
В более позднее время один монах как-то спросил настоятеля Сюдзана (Сю-шань): «Когда в конце кальпы вспыхивает огонь и все миры разрушаются, будет ли разрушено „это” или нет?»
Мастер сказал: «Нет, не будет».
Монах снова спросил: «Почему нет?»
«Потому что „это” и все миры идентичны», — был ответ наставника.
В самом деле, скажете ли вы, что «это» будет разрушено или «это» разрушено не будет, — результат один: обоих утверждений достаточно, чтобы остановить дыхание.
Первый монах, который не смог понять Тайдзуя, очень хотел разрешить эту загадку, поэтому он пошел к Тосусану (Toy Цзы-шань) из Дзёсю (Шу-чжоу), чтобы тот помог ему.
Мастер Тосу спросил: «Откуда ты пришел?»
Монах: «От Тайдзуя из Западного Сёку (Шу)».
Тосу: «Что сказал Тайдзуй?»
Монах тогда повторил все слова, которые прозвучали в том диалоге на горе Тайдзуй на тему судьбы «этого». Тосу поднялся со своего сиденья и, воскурив благовония и почтительно поклонившись в сторону горы Тайдзуй, заявил: «В Западном Сёку появился Будда; ты должен немедленно вернуться на гору Тайдзуй».
Тогда монах направил свои стопы обратно к Сёку, но, когда пришел на Тайдзуй, — какая жалость! — он узнал, что его старый мастер уже отошел в нирвану.
Позже, в эпоху Тан, жил один монах, которого звали Кэйдзун (Цзин-цзунь), который посетил гору Тайдзуй и составил следующее стихотворение в память мастера Хосина:
Все ясно! Абсолютно Одно!
Кто говорит, что Эно получил передачу печати?
Изречение «„Это" последует за остальным»
Сделал бедный монах, переселявшийся с одной
горы на другую.
Сверчки стрекочут в эту холодную ночь
на каменной стене;
Духи поклоняются в тени темного фонаря.
Все спокойно и безмятежно теперь вокруг одинокой
святыни,
И я вижу себя гуляющим там и тут, глубоко
погруженным в невыразимые мысли.
[Сэттё, как мы увидим ниже, использует две строчки этого стихотворения в своем стихотворном комментарии к словам озадаченного монаха. Энго говорит:] Я предупреждаю, чтобы в этот момент вы не принимали «это» как разрушимое или неразрушимое. «Где же мы тогда, в конце концов?» — спросите вы. Сохраняйте свои глаза открытыми и зрите прямо в корень! Сэттё комментирует:
Посреди бушующего огня кальпы задан вопрос;
Монах, все еще колеблясь, стоит перед дилеммой.
Какая жалость! Одна фраза «„Это” последует
за остальным» оказывается роковой,
Заставляя его без конца блуждать вокруг
самого себя.
Стихотворение Сэттё весьма своевременно, и оно точно попадает в цель, поскольку он знает, как справиться с этой дилеммой, на какой крючок можно попасться. Вполне правильно, когда один говорит: «Разрушается!» И также вполне правильно, когда другой говорит: «Не разрушается!» Единственное, что по-настоящему важно, это держаться за саму истину, которая превосходит какие бы то ни было дуалистические объяснения. Иначе нам не избежать участи бедного монаха, который блуждает по горам туда-сюда, не имея возможности остановиться.
Некий монах спросил Хякудзё Экая (Бай-чжан Хуай-хай, 720—814):
«Какое самое чудесное событие на свете?»
Хякудзё ответил: «Я сижу здесь совершенно свободно».
Монах поклонился мастеру, а тот ударил его.
Энго комментирует следующим образом.[210]
Кто имеет различающее око, тот не мешкает, рискуя собой, когда это необходимо: ведь если бояться, что попадешь тигру в пасть, никогда не поймать и котенка. Хякудзё — великий мастер, он подобен быстрому тигру. Но этот монах, бросая вызов смерти, осмелился подергать тигра за усы. Отсюда и его вопрос: «Какое самое чудесное событие на свете?» У него возникло различение, поэтому Хякудзё потрудился ответить: «Я сижу здесь совершенно свободно». Монах делает поклон. Это будет понятно, если обратиться к тому, что предшествовало вопросу монаха. Поклон монаха — не обычный поклон, ведь монах хорошо знает Хякудзё. Но добрые друзья иногда ведут себя так, словно они не знают друг друга; они тогда остерегаются выплескивать все, что у них на душе. За поклоном следует удар палкой. Мы видим, что, когда мастер «расширяет», все сразу делается правильным; когда он «сужает», все стирается, и ни следа не остается.
Давайте спросим: что означает поклон монаха? Сделан ли поклон как следует? Если да, какой резон
Хякудзё бить его? Если же поклон был не таким, каким он должен быть, то в чем же он неправилен? Когда мы приходим к этому вопросу, то обнаруживаем, что необходим опытный ум, который, достигнув высот, сумел бы отличить черное от белого, благое от дурного. Поклон монаха подобен смелому выпаду против опасного существа: монах знает, как и куда повернуться. К счастью, старого мастера Хякудзё не обманули хитрые движения монаха: у него имелся глаз посреди лба, амулет — в руках, и это позволило ему сразу понять, что было на уме у того, кто кланялся ему. Его посох действовал эффективно. Будь на месте Хякудзё кто-нибудь менее значительный, он бы ничего не смог сделать с монахом.
[С другой стороны], этот монах знает, как ответить вызовом на вызов, каким бы тот ни был. Отсюда и его поклон.
Нансэн Фуган (Нань-цюань Пу-юань, 748 — 834) однажды сказал на собрании: «Прошлой ночью Манджушри и Самантабхадра пробудили в себе мысль о Будде, пробудили мысль о Дхарме, и я дал обоим двадцать ударов палкой и приказал им убираться подальше за горы». Тогда Дзёсю Дзюсин (Чжао-чжоу Цун-шэнь, 778—897) вышел вперед и спросил: «Кого вы собираетесь бить своей палкой?» Нансэн ответил: «Какие изъяны ты нашел у такого старика, как я?» Дзёсю поклонился.
Многоопытный дзэнский мастер почти всегда сумеет заметить, где находится противная сторона, и, как только он обнаружит в ней признаки какого-то движения, он молниеносно действует. Мой старый наставник Госо Хоэн (У-цзу Фа-янь, умер в 1104 Г.) как-то заметил: «Это подобно игре в борьбу: не остается никакого времени на то, чтобы обдумывать свои движения. Все, что проходит через чувства, все, что принадлежит царству видимого и слышимого, выбросьте сразу прочь. Если вот так сохранять себя и
стать собственным мастером, можно увидеть, где находится Хякудзё».
Но что случится, если я позволю вам действовать на свое усмотрение? Давайте посмотрим, что Сэттё сказал бы по этому случаю:
Посмотри на Пегаса, который свободно скачет по патриаршим полям!
Когда он сходит в мир множественности, появляясь внезапно и двигаясь вдаль, каким свободным и каким независимым он выглядит! Подобно вспышке молнии, подобно искре, вылетающей от удара кремня о кресало, каждый знает теперь, как действовать в ситуации: Осознай в себе тигра, который не позволяет никому дергать себя за усы.
[Из комментариев Энго к этой гатхе я привожу следующие отрывки, которые помогут понять все то, что произошло между мастером Хякудзё и монахом:] Монах спросил Басо Доити (Ма-цзу Дао-и):* «Каково высшее учение буддизма?» Басо ударил его, пояснив: «Если бы я тебя не стукнул, весь мир посмеялся бы надо мной!»
Другой монах спросил: «Каков смысл прихода Бодхидхармы с Запада?»[211] — «Подойди поближе ко мне и я скажу тебе». Когда монах подошел к нему, наставник схватил монаха за ухо, приговаривая: «Тайны трудно сохранить!»
Затем Энго упоминает Ганто Дзэнкацу (Янь-тоу Цюань-хуо, 828 — 889), который как-то сказал: «Самое лучшее — отвергать объекты, а вот бегать за ними — самое худшее». Когда оказываешься в гуще схватки, всегда следует быть хозяином положения, каким бы образом ни повернулась ситуация. Сэттё говорит: «Колесо становления, хотя и двигается, всегда остается неподвижным. Раз закрутившись, оно всегда вращается в двух направлениях, [к субъекту и к объекту]». В самом деле, если бы оно не вращалось вовсе, оно бы не имело никакого смысла. Если индивид наделен человеческим обликом, ему следует искать хоть малейшее движение, ибо для него это способ стать собственным мастером. Нынешние же люди стремятся к чему-то совершенно другому. Когда они действуют подобным образом, «их носы крепко зажмут пальцами другие люди», поэтому как они могут ожидать, что достигнут своей цели? Монах даже в момент «вспышки молнии» знал, как повернуться, как поклониться мастеру. Сэттё здесь сравнивает Хякудзё с грозным тигром и говорит, что выверты монаха были подобны попытке поиграть с усами тигра — а это вообще опасная затея.
Наверное, тем, кто не посвящен в секреты дзэн- ского отношения к этим религиозно-философским вопросам, упомянутые выше мондо и комментарии к ним покажутся совершенными загадками. Впрочем, по крайней мере они сумеют заметить, что дзэн отрицает обыденные рациональные правила, иначе смотрит на вещи и иначе судит о них. Мы можем спросить: «Почему бы дзэн, вместо того чтобы окутывать конкретные вещи необязательными, на наш взгляд, „тайнами , не показать их вполне открыто?» Ответ будет таким: дзэн вовсе не имеет намерений заниматься подобной, так сказать, мистификацией, но на самом деле у дзэн нет другого способа показать себя, чем тот, что принят сведущими мастерами Китая и Японии. Если бы они, подобно философам, применяли так называемый логический, или диалектический, способ, они не могли бы считаться последователями дзэн. В сущности, наставники делают все возможное для того, чтобы выразить себя самым живым и уместным образом. Сказать, что такое их поведение неизбежно — значит не сказать ничего. Когда плод созревает, он падает на землю. Когда жизненная сила собрана, она воплощается в иной форме, чем раньше. Когда наступает весна, поле зеленеет, и мы чувствуем себя освеженными; когда же иней покрывает его, мы дрожим, замечая, что все деревья сбросили листву. Это вовсе не означает, что вначале у нас есть логика, а потом мы накладываем ее на природу, чтобы последняя подчинялась ее законам. Логика идет уже после природы, причем мы сами конструируем ее. Когда одна логическая схема не годится, мы должны придумать нечто другое, что может выглядеть «логичным». Дзэн предшествует так называемой логике, его учителя ведут нас к общению с Богом, который еще не произнес своего «Да будет свет».
Если взять первое мондо, о судьбе «этого», когда весь мир движется к разрушению, то один мастер говорит, что «то» следует судьбе остального. Из чего мы можем заключить, что душа, которая отличается от тела, исчезает с исчезновением последнего. Но вот высказывание другого мастера, на внешний взгляд, противоречит этому утверждению, поскольку он говорит, что душа не следует судьбе тела. Его утверждение на вопрос «почему?» звучит так: «Душа есть тело, а тело есть душа, и поскольку они тождествен
ны, то ничего не разрушается». Это изречение мастера можно понять следующим образом: с самого начала нет никаких отличий между душой и телом, сознанием и бытием, мыслителем и мыслью, видящим и видимым, деятелем и действием, субъектом и объектом, теит и tuum, en-soi и pour-soi — отличий, которые проводят большинство философов и простых смертных. Из -за этого изначального заблуждения мы вовлекаемся в бесконечные логические хитросплетения. Самый лучший способ прийти к подлинному пониманию вопроса — это «не задавать вопрос», поскольку именно в этом и содержится дзэн. Задаешься ли ты вопросами о разрушимости или неразрушимости «этого» — все равно запутываешься в бесконечной череде ненужных тонкостей. Сказать, что «это» разрушимо — и мы будем тревожиться о судьбе своей драгоценной «души», о чем-то таком, что, по нашим утверждениям, дорого для нас. С другой стороны, сказать, что «это» неразрушимо, означает такое же беспокойство по поводу их «где?», «по какой причине?», «куда?»
Второе мондо разрубает все эти логические ухищрения и физические тревоги, поскольку ответ Хякудзё выглядит утвердительным и окончательным: «Я сижу здесь совершенно свободно!»
Философ, считающий, что cogito, ergo sum[212], не так уж и умен. Дзэнский мастер не признает подобных диалектических нюансов, он прямо провозглашает: «Я сижу здесь сам по себе!» Ему чуждо размышление, он, по сути, находится там, где мышление еще не началось. Если он начнет мыслить, будет слишком поздно. Поэтому он сразу подходит к «я есть», или просто к «есть». Дзэнский мастер — самый нетерпеливый человек; он не будет ждать, когда мы зададим вопрос, но скажет: «Если ты хочешь приблизиться [к реальности], никаких вопросов не нужно задавать, ведь ответ есть уже там, где вопросы еще не возникли». Выражения «вспышка молнии» и «искра от удара кремня о кресало» означают, скорее, не мгновенность, а не-посредственность. Когда вы задаете вопрос, когда вы вообще думаете, то появляется опосредованность, проходит какое-то время. Дзэн отвергает какую бы то ни было опосредованность, он всегда непосредствен, он стремится ухватить реальность в ее наготе, в ее «этости», или «таковости». Вопрос и ответ, или мышление или выстраивание логических рядов, — все это опосредованность, отнимающая время, и это раздражает дзэнского мастера, который всегда действует не-посредственно. Он не желает использовать пару щипцов, чтобы взять горящие уголья, он хочет, чтобы мы схватили их голыми руками. И тогда случается чудо: мы схватываем угли, но огонь не обжигает рук. Таков смысл изречения: «Всякий, кто потеряет жизнь, обретет ее».
Разве это не самое чудесное событие в мире? И то, что дзэн твердо удерживает это чудо и не задает о нем вопросов, — разве это не самый чудесный факт нашего опыта? В самом деле, ведь здесь невозможны никакие вопросы. Это не тот вывод, которого мы достигаем после тщательного рассуждения. Хякудзё представляет нам всю истину без остатка, и мы должны чистосердечно и без колебаний принять ее, пребывая в том же духе, что и он. Но если мы остановимся на этом, то еще не обретем истины дзэн. К счастью, — если это слово здесь уместно, — монах поклонился, а мастер ударил. Это то, чего мы не найдем в культурной истории человечества. И именно здесь обнаруживается подлинный дзэн.
Фразу «Я сижу здесь сам по себе» можно сравнить с лютеровским «Здесь стою», или с фразой
Христа «Я был до того, как был Авраам», или со словами Яхве «Я есть тот, кто есть». Но как быть в этой связи с поклоном? Этот поклон никоим образом не является чем-то бессознательным, но что же он означает в качестве реакции на фразу Хякудзё? Дзэн не дает объяснений, по крайней мере в словесной форме. Поклон становится настоящей загадкой.
А как относиться к удару мастера? К чему этот удар? В этой связи Энго говорит о Басо, который ударил спросившего его монаха. Энго очень высоко восхваляет Хякудзё за то, что тот является настоящим хозяином положения и прекрасно знает, как действовать при малейших изменениях. Для людей, не посвященных в дзэн, все это остается за пределами понимания. Что это за религия? Что это за философия, если в ней нет ничего рационального? Впрочем, я бы предпочел на этом остановиться и только сказать, что дзэн — это самый глубокий личный опыт, а все эти загадочные движения непосредственным и очевидным образом связаны с ним.
II
ВИМАЛАКИРТИ СУТРА
Вималакирти сутра, один из самых известных махаянских текстов, была создана в Индии, вероятно, где-то в начале нашей эры. Примечательно, что в названии текста фигурирует слово «сутра», несмотря на то что текст сочинил буддийский философ, а не сам Будда (впрочем, то, о чем рассказывается в ней, относится к жизни Будды). Фактически сутра представляет собой философско-драматический трактат, в котором учение махаяны представлено характерным для индийской психологии способом, контрастирующим с китайским. Тем, кто уже привык к дзэнским методам иллюстрировать реальность, эта сутра, конечно, покажется чересчур многословной и совершенно неестественной по содержанию. Сцена, на которой разыгрывается вся драма, фантастически велика, на ней происходят чудесные эпизоды, выходящие за пределы китайского воображения, которому небеса предстают в скучной, бесцветной приземленности; индийцы же наш земной повседневный мир превращают в пышные Елисейские поля. Как бы то ни было, к вершине ведет много дорог, ведь «в доме Отца Моего обителей много».
По-японски сутра называется Юима кё. Это одно из трех махаянских произведений, изученных и откомментированных принцем Сётоку (574—622) в начале седьмого столетия. Тот факт, что буддизм обрел надежное пристанище в Японии и немало повлиял на формирование характера японского народа, во многом обязан этому принцу, которого буддисты справедливо считают отцом японского буддизма. Он был велик не только в качестве благочестивого последователя буддизма, он был велик и на ниве государственных дел, просвещения, архитектуры, общественного служения; он покровительствовал различным видам искусства. Хорюдзи в Нара — памятник, обессмертивший память о нем. Знакомство с содержанием Юима кё может стать одним из путей, ведущих к пониманию дзэнской философии.
Впервые Юима кё была переведена Кумараджи- вой, который прибыл в Китай в 401 г. н. э. Благодаря своим глубоким философским и религиозным прозрениям, а также, вероятно, благодаря своему драматичному характеру и высоким художественным достоинствам, сутра оказала большое духовное и интеллектуальное влияние не только на японский, но и на китайский буддизм. Знание ее учения наверняка облегчит наше понимание буддизма. Не совсем ясно, когда именно эта сутра была составлена в Индии.
Мы можем сказать, что ее составление произошло незадолго до времени жизни Нагарджуны, то есть где-то в самом начале христианской эры. Главный персонаж этой сутры — Юима, которого описывают как богатого домовладельца Вайшали во времена Будды. Он в совершенстве знал философию ма- хаяны, был великим филантропом и тонким буддийским мыслителем. Хотя он и вел мирской образ жизни, его праведное поведение вызывало всеобщее восхищение. Однажды он заболел. На самом деле это было одно из его хобэн, «искусных средств», или «таинственных путей» (упаякаушалъя), посредством которых он хотел научить людей правильно относиться к изменчивости жизни. Весь город Вайшали, включая правителей, брахманов, слуг и другие социальные слои, поспешил навестить его, тревожась о его здоровье.
Будда, узнав об этом, решил послать кого-то из своих учеников к Юима. Но они отказались исполнить просьбу Будды, оправдываясь тем, что никому из них не под силу было задавать вопросы великому махаянскому философу. По крайней мере один раз они уже встречались с ним, причем тогда выглядели самым жалким образом, поскольку им не удалось победить его в дискуссии. Наверное, было бы небезынтересно привести пару примеров подобных религиозно-философских баталий между Юима и учениками Будды, поскольку в них можно увидеть, какие именно рассуждения отстаивает Юима, чтобы сокрушить хинаянских последователей Будды.
Великий Кашьяпа однажды собирался пойти за подаянием к беднякам. Юима пришел к нему и сказал: «Тебе не следует намеренно избегать богатых. Когда ты выходишь за подаянием, твое сознание должно быть полностью отрешено от подобных различений, твое сердце должно быть наполнено безраздельной любовью. Пищу надо брать так, словно ты не берешь ее. Взращивать мысль о получении — это различение. Поднявшись над идеями „я” и „не-я”, благого и неблагого, обретения и потери, ты впервые сможешь сделать подношения всем буддам и бод- хисаттвам даже одной чашей пищи, собранной у твоих подателей. Если ты не обретешь этого состояния духа, ты станешь бесполезным потребителем пищи, которую пытаешься собрать у бедных, думая, что им тем самым даруется шанс проявить свою щедрость».
Когда Субхути попросили посетить Юима, он сделал следующее признание, объяснив, почему он не достоин столь почетной миссии: «Однажды я пришел в обитель старого философа за подаянием, он наполнил мою чашу пищей и сказал: „Только тот достоин этой пищи, кто не имеет к ней привязанности, ибо для него все вещи равны. Находясь в гуще разнообразных мирских тенет, он свободен; он принимает все существа такими, какие они есть, и все же он к ним не привязан. Не слушайте Будду и не смотрите на него, а следуйте за своими еретическими учителями, идите туда, куда они идут. Если им суждено попасть в ад, вы тоже попадайте с ними; и когда, согласившись на это, вы не почувствуете колебаний или сопротивления, тогда можете взять пищу. Податели не накапливают заслуг; милосердие не является причиной блаженства. Если вы не способны находиться в компании с демонами и действовать с ними заодно, вы не достойны этой пищи”. Когда я услышал это, я был шокирован и собрался уже опрометью бежать от него, оставив чашу. Но он добавил: „В конце концов, все подобно призракам, все вещи — это одни названия. Лишь мудрый, который не имеет привязанностей, выходит за пределы логики и тем самым никогда не тревожится”. Вот почему я не смогу пойти к нему справиться о его здоровье».
Среди многочисленных примеров можно привести и такой. Когда очередь дошла до Майтреи, он сказал: «Я однажды пребывал на небесах Тушита, проповедуя владыке небес и его сонму как жить необратимой жизнью. Потом появился Юима и произнес: „О Майтрея, я знаю, что Будда Шакьямуни предсказал обретение тобой высшего просветления в течение одной жизни. И мне хочется узнать, что это за «одна жизнь»? Это твое прошлое, будущее или настоящее? Если «одна жизнь» — это прошлое, то тогда прошлое уже позади, и его уже нет; если это будущее, то будущее еще не наступило; если настоящее, то оно «не имеет пребывания». [Иначе говоря, настоящее не имеет фиксированной точки во времени. Когда ты говоришь, что это — настоящее, то его уже нет.] Поэтому о так называемой настоящей жизни, как ее проживает в этот самый момент каждый из нас, Будда учит как о чем-то не подверженном категориям рождения, старости и смерти.
Согласно Будде, все существа наделены тако- востью (татхата), и все они пребывают в тако- вости, причем не только все мудрецы и святые, но и каждый из нас — конечно, включая и тебя, Майтрея. Если тебе Буддой предсказано достичь высшего просветления и реализовать нирвану, то все живые и неживые существа тоже наверняка достигнут такого же просветления. Ведь поскольку все мы наделены таковостью и пребываем в таковости, эта та- ковость остается одной и той же; когда один из нас достигает просветления, все остальные разделяют его судьбу. И в этом просветлении нет мысли о различении. Каким же образом, о Майтрея, ты собираешься жить необратимой жизнью, если в реальности нет ни достижения, ни не-достижения, ни тела, ни ума?”
О Благословенный, когда Юима произнес эту речь на небе Тушита, две сотни божеств-правите- лей сразу реализовали „кшанти в нерожденной Дхар- ме”.[213] По этой причине я не могу быть тем, кого стоило бы отправлять в Вайшали к этому старому философу».
Похожим образом все ученики Будды на этом собрании один за другим отказались выполнить его просьбу, исполненную глубокого смысла. Наконец миссию согласился взять на себя Манджушри. В сопровождении восьмисот бодхисаттв, пятисот шрава- ков и сотен тысяч божеств он вступил в город Вайшали. Юима, заранее узнав об этом, убрал из своей комнаты всю мебель, оставив только одну кушетку, на которой и улегся. Никто из его последователей не присутствовал при этом. Он находился совсем один в этой комнатенке площадью в десять квадратных футов.
Разговор между лукавым философом-праведни- ком и бодхисаттвой, в своей мудрости не имевшем себе равных среди учеников Будды, начался следующим образом.
Юима: «О Манджушри, добро пожаловать. Но твой приход есть не-приход, а мое видение есть не-видение».
Манджушри: «Ты прав. Я прихожу так, как если бы и не пришел, я ухожу так, как если бы и не уходил. Ведь я прихожу ниоткуда и ухожу в никуда. Мы разговариваем, видя друг друга, и все-таки при этом не видим. Но оставим на время эти вопросы, потому что Будда поручил мне справиться о твоем здоровье.
Тебе полегчало? Как ты умудрился заболеть? Ты выздоравливаешь? »
Юима: «От глупости появляется желание, и это причина моей болезни. Из-за того что все живые существа больны, и я болен, а когда они исцелятся от болезни, я также исцелюсь. Бодхисаттва принимает жизнь рождения-и-смерти ради блага всех существ; пока имеется рождение-и-смерть, есть и болезнь».
Пару раз действующим лицом в беседе, которую вели в подобном стиле Юима и Манджушри, стал и Шарипутра, один из самых развитых «слушающих» (шравака) последователей Будды, собравшихся у Юима.
Шарипутра обратил внимание на то, что в комнате Юимы нет мебели, кроме кушетки, и подумал, каким образом хозяин собирается рассадить всех бодхисаттв и учеников, пришедших с Манджушри. Юима, прочитав эту мысль Шарипутры, спросил его, пришел ли тот ради Дхармы или ради сидения. Получив заверения, что ради Дхармы, Юима показал ему, как искать Дхарму: «Поиск дхармы состоит в том, чтобы ничего не искать, ни к чему не привязываться; ведь когда имеется какой-либо поиск или привязанность, из этого возникают всевозможные препятствия, и нравственные, и интеллектуальные, так что человек совершенно запутывается в сетях противоречий и пустой болтовни. Поэтому и нет в этой жизни конца болезням».
Юима узнает от Манджушри, где найти лучшие сиденья, так как последний в период своего духовного паломничества посетил все поля Будды, имевшиеся во всем этом огромном мире. Юима тотчас добывает тридцать две тысячи сидений с полей Будды. Каждое сиденье украшено искусным орнаментом, оно высокое и широкое, так что любой великий бодхисаттва может на нем усесться. Будучи внешне маленькой, комнатка Юимы вмещает все эти сиденья, столь же огромные, как гора Сумеру. Всех посетителей просят садиться. Бодхисаттвы садятся легко, а шраваки не могут взобраться на слишком высокие для них сиденья. Осознав, насколько мала комната, где приглашают садиться всех собравшихся, Шарипутра сомневается, как это вообще возможно осуществить, ведь в одном горчичном семечке не могут поместиться все горы мира, а одна пора кожи (ромакупа) не может поглотить все четыре океана со всеми их рыбами, черепахами, крокодилами и т. д. Подобный мотив отсылается к учению сутры Кэгон (Гандавьюха или Аватамсака), формирующей основы философии кэгон, которая развилась в Китае в седьмом столетии.
Еще один инцидент, связанный с Шарипутрой, — встреча с небесной девой, — затрагивает основное направление всей сутры. Дева находилась на этом собрании и слушала великую беседу Юима и Манд- жушри. Потом она заставила пролиться дождь из небесных цветов на всех собравшихся. Цветы соскользнули с тел всех бодхисаттв, но прилипли к телам шраваков, в том числе и к телу Шарипутры. Он попытался отодрать их, но тщетно. Богиня спросила его, зачем он так старается.
Шарипутра ответил: «Это противоречит дхарме».
Богиня: «Не говори так; эти цветы свободны от различения. Только благодаря твоему же различению они к тебе и прилипают. Взгляни на бодхисаттв. Они совершенно свободны от этого изъяна, и потому никакие цветы не остаются на них. Когда все мысли, рожденные различениями, удалены, даже злые духи не способны возобладать над такими существами».
Шарипутра: «Как долго ты находишься в этой комнате?»
Богиня: «Столь же долго, сколько длится твое освобождение ».
Шарипутра беседует с богиней дальше, хотя мало что понимает в ее словах. Он удивляется ясности ума этой прекрасной небесной спорщицы и спрашивает, почему она не примет мужской облик. Богиня сразу же парирует: «Я двенадцать лет искала в себе женственность, но не сумела найти. Зачем же мне тогда изменяться?»
Впрочем, эти диалоги являются побочными ответвлениями. Нам же следует вернуться к главным героям сутры — к Юима и Манджушри. В своей беседе они обращаются к теме недвойственности, то есть к адвайте. Юима хочет, чтобы каждый из бодхисаттв определил ее. После того как все выразили свою точку зрения, Юима предлагает высказаться и Манджушри. Тот говорит: «Насколько я понимаю, когда нет даже слова, которое можно высказать, нет признака, который можно увидеть, когда нет объекта для размышления и когда полностью отрешаешься от какого бы то ни было вопрошания, тогда вступаешь во врата адвайта («недвойственности»)».
Манджушри спрашивает: «О Юима, а что ты сам думаешь об этом?» Юима остается молчаливым, не произносит ни слова. И Манджушри замечает: «Хорошо сделано, хорошо сделано, Юима! Так действительно можно вступить во врата недвойственности, которую никакие слова, никакие знаки не могут выразить!»
Вопрос о том, что такое недвойственность, является стержневым в Юима кё. Помимо сюжета, связанного с ним, в тексте описывается и другой эпизод. Беспокойный Шарипутра, видя, что приближается обеденное время, думает о том, как Юиме удастся накормить всех этих бодхисаттв и других существ, собравшихся в десятифутовой комнатке. Разгадав то, что занимает ум Шарипутры, Юима сообщает, что сверхъестественная пища будет предложена каждому участнику собрания. Он входит в медитацию и благодаря своим божественным способностям пересекает все миры, столь же многочисленные, как пески Ганга. Достигнув наконец земли Будды, называемой «Благоухание», Юима просит Будду, который управляет этой землей, позволить ему взять у него немного пищи. Просьба удовлетворена, Юима возвращается с пищей к собравшимся у него, и каждый досыта ест, хотя количество пищи чрезвычайно мало. Впрочем, они питаются не грубой материальной, а эфирной пищей, и если понюхать ее ароматный запах, то этого оказывается достаточно, чтобы удовлетворить любое чувство голода, которое может появиться у этих странных существ.
После этого все они, включая великого свято- го-философа Юиму, подходят к Будде, и тот рассказывает им о стране, из которой происходит Юима. Страна называется Абхирати, «Земля совершенной радости», ею управляет Будда Акшобхья («Неподвижный»). По просьбе Будды Юима чудесным образом переносит страну Абхирати прямо в собрание. Она видна целиком — со своим главой, Буддой Ак- шобхьей, со своими бодхисаттвами, шраваками, всеми классами божеств и нагов, другими духовными существами, со своими горами, реками и океанами, со своими растениями и цветами, мужчинами и женщинами. Одной из особенностей этой страны Будды является то, что она снабжена тремя группами лестниц, спускающихся прямо до земли. Собрание восторгается зрелищем и желает возродиться в мире Акшобхьи. Сутра заканчивается обычной просьбой Будды сохранять Дхарму на земле, а собравшиеся обещают следовать предписаниям Будды.
III
«ЯМА-УБА», ПЬЕСА ТЕАТРА НО
Изучение пьес Но в реальности оказывается изучением всей японской культуры, поскольку они содержат нравственные идеалы, религиозные верования и творческие устремления всего японского народа. Благодаря тому что этим пьесам в стародавние времена покровительствовало самурайское сословие, они в большей или меньшей степени несут на себе отпечаток той аскетической атмосферы. Пьеса, следующая далее, выбрана из двухсот наиболее популярных и представляет для нас особый интерес.
«Яма-уба» — буддийская пьеса, насыщенная глубокими идеями, в том числе теми, что имеют отношение к дзэн. Возможно, она была написана буддийским священником в целях распространения учения дзэн. Эту пьесу зачастую неправильно понимают, и большинство любителей Но упускают из виду подлинный смысл пьесы. Яма-уба, буквально «старуха с гор», репрезентирует принцип любви, таинственно действующий в каждом из нас. Обычно мы не сознаем его, пренебрегаем им. Большинство из нас воображает, будто любовь есть что-то прекрасное по своему характеру, что-то юное, утонченное и чарующее. Однако на самом деле она не такова, она является терпеливой и незаметной труженицей, излучающей доброту. Мы замечаем то, что становится внешним результатом ее работы, и полагаем, что это прекрасно, естественно, ведь то, что сделано из любви, и должно быть прекрасным. Но сама любовь, подобно измотанной трудом старой женщине, выглядит, скорее, ветхой; из-за беспокойства за других ее лицо изборождено морщинами, ее волосы седы. Так много важных проблем требует ее решения. Ее жизнь — это череда мучений, которые, однако, она переносит с радостью. Она путешествует из одного конца мира в другой, не ведая покоя, отсрочки, перерыва. Любовь подобного типа, то есть с точки зрения своего неустанного труда, подходящим образом представлена в виде Яма-убы, старой женщины с гор.
История о Яма-убе наверняка была знакома японцам издревле. И далеко не всегда Яма-уба представа-
ла в виде отвратительной старухи. Хотя обычно ее и описывали как старуху, однако наделяли доброжелательным характером, веря, что она помогает людям, заходя в их селенья. Считалось, что она бродит где-то в горах и заботится о селянах и о тех, кто живет в горах. Автор пьесы Яма-уба ввел эту идею в свое произведение, сделав старую женщину неизвестным и незримым существом, которое действует в сердцевине природы и человечества. Мы обычно любим порассуждать о такой деятельности в своих философских, теологических, литературных произведениях, но все равно остаемся на уровне простой болтовни; мы не осмеливаемся подойти к ней вплотную. Мы подобны художнику, который как-то рисовал дракона; вдруг перед ним неожиданно появился сам дракон, чтобы дать ему возможность срисовать себя с натуры. Художник был в высшей степени напуган и потерял сознание. Мы воспеваем Яма-убу, но когда она появляется сама и позволяет нам увидеть внутреннюю сторону своей жизни, теряемся, не зная, что делать с самими собой. Поэтому, если мы хотим поглубже заглянуть в отдаленные уголки своего сознания, как и советует дзэн, нам не следует уклоняться от встречи с реальностью.
Эти предварительные замечания позволят прояснить смысл пьесы «Яма-уба», который совершенно не был понят ни иностранными, ни японскими авторами. Пьесы Но трудны для перевода на другие языки, вероятно, их совсем невозможно перевести, и у меня нет желания пытаться сделать невозможное возможным. Мы представим только общие очертания пьесы, без всех тех литературных красот, которыми она в изобилии наделена.
В столице страны жила одна танцовщица. Поскольку она блестяще исполняла песню-танец о Яма-убе, народ и прозвал ее Хякума Яма-уба. Однажды она решила посетить храм Дзэнкодзи, что в провинции Синано; в сопровождении своего слуги она предприняла долгий и утомительный путь по горам в северной части Японии. Пьеса описывает это путешествие своим обычным занимательным языком, характерным для литературы того времени. Наконец они подошли к реке Сакаи, отделяющей Эттю от Этиго.
Слуга: Мы подошли к границе между Эттю и Этиго. Давайте отдохнем здесь немного, а потом разузнаем, как двигаться дальше.
Танцовщица: Мы постоянно слышим о Чистой Земле на Западе, которая лежит за пределами тысяч миллионов земель Будды. Теперь же мы недалеко от храма Амиды, куда он сам прибудет в наш последний час на этой земле, чтобы приветствовать нас. Оставим свои повозки здесь, в горном ущелье Агэро, и пойдем пешком, чтобы накопить больше заслуг от этого путешествия: ведь оно должно духовно помочь нам.
Слуга: Как странно! Хотя по времени еще рановато, начало смеркаться. Что же делать?
Пока они пребывали в таком беспокойстве, появилась какая-то женщина, которая сказала им: «О странники, позвольте мне предоставить для вас приют. Находясь в этом ущелье Агэро, теперь вы далеки от человеческого жилья, а вечер приближается быстро. Проведите ночь в моей скромной хижине».
Даже не описать, как они обрадовались, услышав о таком предложении. Когда странники разместились, незнакомая женщина выразила желание послушать, как певица споет песню о Яма-убе. Подобное желание появилось в ней уже давно, поэтому она и заставила день поскорее обернуться вечером, чтобы тем самым открыть свое убежище для путников. Последние были изумлены, не понимая, каким образом хозяйке удалось угадать, кто они такие.
Женщина: Вам не имеет смысла скрывать, кто вы такие. Та, что напротив меня, — не кто иная, как
Хякума Яма-уба, чья слава ныне гремит по всей столице. Песня о Яма-убе слышится теперь то на одной горе, то на другой. Позвольте же и мне послушать этот чудный напев. Вот вы поете о Яма-убе, но, наверное, и не знаете, кто она на самом деле. Может быть, вы думаете, что она — это какой-то злобный дух, живущий в горах. Неважно, дух она или человеческое существо. Ведь «Яма-уба» — это старушка, живущая в горах, а это я и есть. Вы поете о ней, и если вы в самом деле думаете о ней с любовью, почему бы вам не исполнить служение Будде и не вознести молитву ради ее просветления и освобождения? Пусть ваша песня и ваш танец будут посвящены Будде — Будде, от которого проистекают все блага. Именно поэтому я и хотела видеть вас.
Танцовщица: Как удивительно это слышать! Вы действительно та самая Яма-уба?
Женщина: После долгого блуждания по разным горам единственной моей целью стало желание послушать собственными ушами обо всех добродетелях, связанных с моим именем. Спойте же, мой друг, свою песнь-танец о Яма-убе.
Чтобы порадовать хозяйку, столичная танцовщица согласилась, и когда она уже собиралась исполнить свою песню-танец, странная женщина сказала, что она откроет свой настоящий облик и присоединится к пению на всю ночь. Потом она исчезла.
(Здесь уместно заметить, что мы, особенно философы и интеллектуалы, любим играть с идеями, а не иметь дело с реальными вещами; и когда эти вещи появляются перед нами, мы пугаемся или пытаемся заставить их действовать по образцу своих идей. До некоторой степени это справедливо, ведь мы все являемся неисправимыми идеалистами, несмотря на постоянное давление реализма. Но нам не следует забывать, что существует нечто такое, что отказывается быть притянутым к какой-либо категории, будь то идеализм или реализм, и с этим «нечто» мы должны встречаться напрямую, чтобы обрести подлинное основание своей жизни.)
Интермедия
Когда танцовщица и ее слуга собрались исполнить песню о «старой женщине с гор», как о том просила старуха, та произносит монолог, который в общих чертах выглядит следующим образом:
«Как глубока долина! Как бездонна пропасть! Я вижу здесь людей, страдающих от своей скверной кармы, содеянной в прошлом, я вижу людей, радующихся своей благой карме, содеянной в прошлом. Впрочем, добро и зло относительны, ведь они происходят из одного источника. Что в реальности заслуживает огорчения или радости? Вглядитесь внимательнее в царство запредельной мудрости и в нем увидите мир множественности, расстилающийся перед нашими глазами. Ничто не скрыто от нас. Извилистые реки текут в долинах, скалы возвышаются напротив бушующих океанских волн. Кто вытесал эти темно-пурпурные хребты, нависающие над ними? Кто окрасил эти изумрудно-голубые воды, искрящиеся от солнца?»
Потом старуха выходит из-за густо растущих лесных деревьев в своем естественном обличье. Они почти напуганы. Голос у нее человеческий, волосы белы, как серебро, глаза светятся подобно паре ярких звезд, а лицо красноватое, напоминающее черепицу, которой покрывают крышу. Впрочем, она уверяет их, что им не следует опасаться, ведь свой настоящий вид она приняла для того, чтобы те поняли, какую деятельность она втайне ведет, которая открывается нам только с внешней стороны; кроме того, она позволяет им увидеть итоги ее духовных усилий, проступаю- щие в чертах ее облика. Вслед за этим идет напевный пролог к песне «Яма-уба», который исполняется одновременно и Яма-убой, и столичной танцовщицей. В реальности здесь трудно разграничить пение Яма-убы о самой себе и песню танцовщицы о ней: они переплетаются друг с другом. Идея всего этого действа — показать роль, которую играет «старуха с гор» в мировой драме, ежедневно разыгрывающейся на глазах всего человечества.
Песня начинается с упоминания о редкой возможности встречи танцовщицы и старухи, о воображении и реальности, об игре и о жизни.
«Поэт находит прекрасные слова, чтобы описать весенний вечер, когда цветы так чудесно пахнут и луна полна, и он говорит, что один миг такого вечера стоит тысячи слитков золота. Действительно, встреча с Хяку- ма Яма-убой стоит больше этого. Споем же вместе об этой удивительной встрече, пусть даже слова и не могут выразить до конца всего того, чем она является.
Будем петь подобно птицам, что машут крыльями, будем бить в барабан подобно водопаду, давайте встряхнем рукавами, как встряхиваются от снежинок цветы, когда дунет на них ветер. Каждый звук, каждое движение происходят от Дхармы. Даже блуждания Яма-убы от горы к горе, какими бы утомительными и полными невзгод они ни были, тоже коренятся в Дхарме».
Вслед за этим идет описание обиталища Яма-убы, символизируемого горой у океана.
«Гора на самом деле — это масса частиц пыли; но, когда она становится все выше и выше, достигая размера многих тысяч футов, ее пик теряется в облаках. Океан состоит из массы водяных капель; но когда эти капли собираются в одно целое, перед нами открываются бесконечные водные просторы, по которым катятся волны. Когда волны бьют о скалы, все долины и ложбины отзываются звуками грома; пустые пещеры откликаются эхом, умирающим в пустоте пространства.
Именно там — мое убежище; его окружают высокие пики, глубоко внизу расстилаются долины, а далеко за туманными горами видна бескрайняя водная гладь. Когда луна таковости (татхата) встает на другом конце горизонта, ее тень отбрасывается на бесконечно колеблющиеся волны, и они отливают серебром. Когда ветерок пробегает сквозь лес, позади моего убежища, тихого шелеста листьев бывает достаточно, чтобы пробудить мир от призрачного сна. Посреди всего этого, созерцая безмятежный лунный диск впереди, слушая бормотание деревьев позади, нахожусь я, словно пребывая совсем одна в старинном саду, где не слышны никакие раздражающие звуки, где не случается никакого злодейства.
Когда, находясь в одиночестве в горах, очень далеко от человеческой суеты, я слушаю, как поет одинокая птица или рубит лес смелый дровосек, то чувствую, что меня окружает полная тишина. Когда я гляжу вверх, на высший пик природы Дхармы, я думаю о наших вечных поисках величайшей истины; когда я гляжу вниз, в бездну глубоких долин, это напоминает мне глубины невежества (авидъя), в котором тонут все существа, и тогда я понимаю неисчерпаемость своей задачи.
Вы спросите, откуда я пришла; на самом деле я пришла ниоткуда. На облаках я переношусь с одной горы на другую, мои следы остаются даже в отдаленнейших уголках земли. Я не принадлежу к человеческому миру, но вступаю с ним в контакт, находясь в теле трансформации (нирманакая) [214] В соответствии со своей плохой кармой я живу сейчас в обличье гор
ной женщины. Добро и зло, если их рассматривать как одно и то же, окажутся относительными, ведь „форма есть пустота, а пустота есть форма” (riipafn eva sunyata sUnyata eva гїїраш).* Священные учения Будды растворялись в мирском; просветление (бод- хи) следует искать в гуще страстей и желаний; там, где находится Будда, находятся и существа, а там, где находятся существа, живет и Яма-уба. Ивы своими свежими зелеными листьями и цветы самых разнообразных расцветок приветствуют весну. Это — путь мира и путь Дхармы.
Самбхогакая, что буквально значит «тело наслаждения». Когда Будда еще находился на стадии бодхисаттвы, он совершал различные поступки, приносящие заслуги, постиг все виды самоумерщвления и в результате принял форму существования, совершенно отличную от облика простых смертных. Это тело соответствует нравственному закону кармических последствий, который заключен в пожинании плодов за все добрые или злые деяния, совершенные человеком;
Нирманакая, что означает «тело трансформации». Сущность состояния Будды двояка: это праджня и каруна, которые мы можем соотнести с христианскими понятиями мудрости и любви. Каруна Будды ко всем существам столь велика, столь интенсивна, что он использует любые средства (упая), чтобы привести их к состоянию просветления и счастья. Если человек имеет хоть малейший шанс спастись, Будда примет любое земное обличье (кая) — человека, животного, демона — и, приблизившись к этому человеку, враждебно или по-дружески, в зависимости от того, что он считает нужным в данной конкретной ситуации, будет действовать до тех пор, пока не достигнет своей цели — спасти данного человека. Эта ступень деятельности Будды называется его нирманакасй, «телом трансформации». Когда буддисты заявляют, что наш злейший враг станет нашим спасителем, они имеют в виду именно эту концепцию буддийской каруны, способной принять любую форму для осуществления своей цели. Таким образом, Яма-убу можно считать Буддой в одном из его тел трансформации.
Это известное высказывание из раннемахаянской литературы класса праджняпарамиты. — Прим. пер.
Когда я пребываю в мире и с миром, я иногда помогаю жителям деревень, приходящим в горные леса, собрать хворост. Сгибаясь под тяжестью дров, они радуются минутной передышке в тени цветущих деревьев, и я, разделив их ношу, иду с ними при луне, провожая их до деревень, где они мирно проведут ночной отдых после дневного труда. Иногда я помогаю ткачихам, хотя они совсем не подозревают об этом. Когда они ставят свои ткацкие станки у окон и начинают возиться с челноком, можно слышать, как соловьи в лесу напевают мелодию колес и педалей; работа идет мягко, словно сама по себе, без какого-то надзора, словно ее делают невидимые руки. Когда заморозки поздней осенью начинают изменять поверхность земли, когда наступает холодная пора, хозяйки думают о теплых одеждах, и тогда можно слышать, как в каждом доме в деревне валяют сукно или шелк при бледном свете луны. Они и не подозревают, что рука Яма-убы движется с каждым их ударом.
Когда вы возвратитесь в столицу, можете спеть о роли Яма-убы во всех этих делах. Но даже такое выражение желания с моей стороны будет привязанностью. Что бы вы ни сказали об этом, мне навсегда суждено блуждать по горам, какой бы утомительной ни казалась эта работа.
Даже когда вместе сидят в тени какого-нибудь дерева или черпают воду из одной и той же реки — это происходит из-за плохой кармы; как много больше ее в нашем случае! Не случайно, что вы снискали себе известность благодаря пению обо мне. Любые звуки, даже пение о пустяковых и тривиальных вещах, в конце концов приводят к наделению добродетелями Будды. Счастливого пути, о танцовщица из столицы, приходит время нам расставаться, счастливого пути!»
На этом Яма-уба покидает Хякуму и ее слугу. И потом они слышат вдали горную песнь Яма-убы, которая исчезла из поля их зрения, а куда исчезла — никто не знает: «До свидания, до свидания, я возвращаюсь обратно в свои горы. В поисках весенних деревьев, сгибающихся под тяжестью цветов, я блуждаю по горам; осенью я путешествую при луне, выбирая место, где лучше всего она видна; зимой я двигаюсь вместе с ослепительным снегом, покрывающим все горы. Вечно перерождаться — такова моя судьба; и эта моя привязанность ко всем существам воплотилась здесь ненадолго в форме Яма-убы, став темой вашего искусства».
Смотри, она была здесь совсем недавно;
Теперь ее не видно больше нигде;
Она летает над горами,
Ее голос эхом звенит в долинах;
Всегда с горы на гору блуждая.
Она исчезает в земле Нигде.
IV
ФЕХТОВАЛЬЩИК И КОШКА[215]
Жил некогда фехтовальщик по имени Сёкэн, которого крайне раздражала обитавшая в его доме злобная крыса. Крыса до того обнаглела, что выползала из своего укрытия даже при свете дня, нанося дому всяческий вред. Сёкэн заставил свою домашнюю кошку гоняться за ней, но силы были неравны, и когда крыса искусала ее, кошка с визгом убежала. Тогда фехтовальщик принес уличных кошек, славившихся своим умением и смелостью в ловле крыс. Он выпустил их, а крыса, забившись в угол, смотрела на приближавшихся кошек и яростно атаковала их одну за другой. Все кошки пугались и убегали.
Мастер пришел в отчаяние и попытался убить крысу сам. Взяв свой деревянный меч, он подошел к ней, но каждый взмах этого опытного мастера меча оказывался бесполезным, поскольку крыса ускользала от меча настолько ловко, что казалось, будто она летает по воздуху птицей или даже молнией. Прежде чем Сёкэн мог проследить за ее движениями, она делала успешный прыжок к нему на голову. Вспотев от напряжения, он в конце концов вынужден был отказаться от этой затеи.
В качестве последней меры он послал еще за одной Кошкой, известной в округе своими таинственными навыками ловца крыс. На первый взгляд, эта Кошка ничем особенным не выделялась среди других кошек, которых уже приглашали половить крысу. Фехтовальщик не слишком надеялся на нее, но тем не менее позволил ей пройти в комнату, где находилась крыса. Кошка вошла внутрь спокойно и не торопясь, как бы не замечая ничего необычного. Однако крыса пришла в крайний ужас при виде приближавшегося животного и застыла в своем углу без движения, почти оцепенев. Кошка почти безразлично приблизилась к крысе и вышла наружу, держа ее зубами за шею.
Вечером все кошки, которые участвовали в поимке крысы, устроили большое собрание в доме Сёкэна и уважительно обратились к великой Кошке с просьбой занять почетное место. Они глубоко поклонились ей и сказали: «Все знают нас как отважных и ловких, но мы и представить не могли, что на свете существует такая необычная крыса. Никто из нас не сумел с ней ничего поделать до тех пор, пока не пришли вы; и как легко вы справились с ней! Мы все просим вас раскрыть свои секреты ради нашей пользы, но еще до этого просим вас оценить, насколько мы сами разбираемся в искусстве охоты за крысами».
Тут вышла вперед черная кошка и сказала: «Я родилась в семье, известной своими навыками в этом искусстве. Еще будучи котенком, я тренировалась с прицелом стать великим ловцом крыс. Я способна подпрыгнуть на высоту в семь футов; я знаю, как протиснуться сквозь крошечное отверстие, куда влезет лишь одна крыса. Я могу выполнить все акробатические приемы. Я также могу заставить крыс поверить, будто крепко сплю, и знаю, как напасть на них сразу, как только они окажутся вблизи от меня. Даже те, что бегают под балкой, не могут ускользнуть от меня. Мне по-настоящему стыдно, что пришлось удирать сегодня от этой старой крысы».
Великая опытная Кошка сказала: «Вы изучили только технику искусства. Ваше сознание приучилось планировать, как напасть на противника. Древние мастера для того только поощряли технику, чтобы познакомить нас, как правильно исполнить эту работу. Этот способ, конечно, прост и эффективен, в него включены все существенные стороны искусства. Но те, кто следует за мастером, не смогут ухватить его принцип и слишком озабочены улучшением своей технической ловкости и умелости. Цель достигнута, и ловкость достигает своей наивысшей эффективности, но какой смысл во всем этом? Ловкость является деятельностью ума, это несомненно, но она должна соответствовать Пути. Когда Путем пренебрегают и стремятся к простой ловкости, та отклоняется от нормы и оказывается достойной только презрения. Это следует твердо помнить при искусстве ловли крысы».
Затем вперед выступила тигровая кошка и так выразила свои взгляды: «По-моему, в искусстве поимки важен дух (ки, по-китайски — Ци)', я долго упражнялась в том, чтобы пестовать и развивать его. Теперь я наделена сильнейшим духом, который наполняет небеса и землю. Когда я встречаю противника, мой дух всегда внушает ему благоговейный трепет, и победа уже на моей стороне еще до фактического поединка. У меня нет сознательного плана того, как использовать технические навыки, это происходит спонтанно, по мере изменений в ситуации. Если крыса должна пробежать по балке, я слежу за ней пристально, вкладывая в это все свои духовные усилия, и она обязательно упадет сама собой с высоты и станет моим пленником. Но эта старая странная крыса передвигалась так, что не оставляла никакой тени. Причину этого мне не понять».
Великая старая Кошка ответила так: «Вы знаете, как применять свои психические способности, но уже сам факт того, что вы сознаете это, действует против вас; ваше сильное „я” противопоставлено „я” противника, и вы никогда не уверены в том, что вы сильнее его, поскольку всегда имеется возможность, что вас превзойдут. Вы можете чувствовать, что ваше активное, энергичное „я” наполняет весь мир, но на самом деле это не сам дух, а лишь его тень. Он может напоминать кодзэн-но ки (хао-жань цзи ци) Мэн-цзы, но на самом деле это не так. Мэнцзыевское ци («дух»), как мы знаем, яркое и просветляющее, а значит, исполнено энергии, тогда как ваше ци обретает силу благодаря неким условиям. Из-за этого различия в происхождении есть и различие в деятельности. Одно — это великая река, текущая непрестанно, а другое — это временное повышение уровня воды после сильного дождя, вскоре прекращающееся, когда бывает сильное противодействие этому. Отчаянная крыса часто оказывается сильнее, чем нападающая кошка. Она забивается в угол, борется не на жизнь, а на смерть, и отчаянная жертва охоты даже не помышляет о том, чтобы уйти без повреждений. В таком расположении ума она отрицает любую опасность, которая может наступить. Все ее существо воплощает борющееся ци («дух», или «псюхе») и никакие кошки не могут выдержать этого сопротивления, подобного стали».
Тогда мягко выдвинулась вперед серая кошка: «Как вы нам сказали, „я”, каким бы сильным оно ни было, всегда сопровождается своей тенью, и враг наверняка воспользуется преимуществом этой тени, хотя она может быть очень неприметной. Я в течение долгого времени упражнялась делать вот что: не ошарашивать врага, не нагнетать борьбу, но занимать податливую и примирительную позицию. Когда враг силен, я сразу становлюсь податливой и просто следую за его движениями. Я действую словно занавес, уступающий давлению камня, на который он наброшен. Даже сильная крыса не найдет никаких средств, чтобы бороться со мной. Но та, с которой нам пришлось иметь дело сегодня, несравнима ни с кем, она не подчинилась моему психологическому обволакиванию, не поддалась моему внешне уступчивому „я”. Это было самое необычное существо, которое я когда-либо видела в жизни».
Великая старая Кошка ответила: «То, что вы называете уступчивым „я”, не находится в гармонии с природой; оно создано человеком, это ухищрение, выработанное вашим сознающим умом. Когда вы пытаетесь с его помощью сокрушить страстную, энергичную атаку противника, тот способен довольно быстро обнаружить малейшее колебание вашего ума. Таким образом, уступчивое „я”, созданное искусственно, в каком-то смысле затемняет и омрачает ваш ум, что наверняка помешает точности вашего восприятия и ловкости вашего действия, ведь тогда природа ощущает, что ее изначальному и спонтанному движению ставят заслон. Заставить природу раскрыть свой таинственный способ обращения с вещами — это значит расстаться со своими мышлением, изобретательностью и деятельностью. Пусть природа движется своим путем, пусть она действует так, как она себя ощущает в вас, и тогда не будет теней, не будет признаков, не будет следов, по которым вас можно поймать; тогда у вас не останется врагов, которые могли бы успешно сопротивляться вам.
Я, впрочем, не говорю, будто все дисциплины, которым вы учились ДОС еле, не имеют смысла. В конце концов, Путь выражает себя через свои сосуды. Техническая изощренность удерживает Причину (ри) в них, духовная сила действует в теле, и когда эта сила пребывает в гармонии с природой, она совершенным образом согласуется с окружающими изменениями. Когда же утверждается податливое „я”, она прекращает борьбу на физическом уровне и способна выстоять даже против скал. Но есть одно очень существенное соображение, которое, когда им пренебрегают, обязательно все расстраивает. А именно: нельзя поощрять даже намека на самосознающую мысль. Когда последняя присутствует в вашем уме, все ваши действия становятся самовольными фокусами, ориентированными на человеческие помыслы, что не согласуется с Путем. Именно тогда люди встречают в штыки ваш метод и относятся к вам враждебно. Когда вы находитесь в состоянии ума, называемом „отсутствие ума” (мусин), вы действуете в унисон с природой, без всякого обращения к искусственным ухищрениям. Однако Путь выше всех ограничений, и эта моя речь не претендует на то, что она в состоянии его до конца прояснить.
Какое-то время назад по соседству со мной жила кошка, которая все время спала, не показывая признаков духовно-жизненной силы. Она казалась обрубком дерева. Люди никогда не видели, чтобы она поймала хоть одну крысу, но где бы она ни появлялась, крысы не осмеливались в ее присутствии и нос показать. Я однажды посетила ее и спросила, как ей это удается. Она не ответила. Я повторила свой вопрос четырежды, но она осталась молчаливой. Не то чтобы она не хотела отвечать — на самом деле она просто не знала, как ответить. Поистине, знаю-
щий — не говорит, говорящий же — не знает.* Эта старая кошка забыла не только о себе, но обо всех вещах вокруг себя, она находилась в наивысшем духовном состоянии бесцельности. Она была существом, которое реализовало божественную воинственность, поэтому ей незачем убивать. Я с ней и сравниться не могу».
Кошка продолжала: «Что ж, я простая кошка; крысы — это моя пища, откуда мне знать о человеческих проблемах? Но если вы позволите сказать еще кое-что, то пожалуйста: вы должны помнить, что фехтование — это умение в критический момент реализовать причину жизни и смерти, что не означает обычной победы над противником. Самураю следует всегда быть внимательным к этому факту и упражняться не только в технике фехтования, но и в духовной культуре. Поэтому прежде всего он должен интуитивно проникать в причину жизни и смерти, когда его ум свободен от эгоистических мыслей. Когда это обретено, он уже не имеет ни сомнений, ни отвлекающих мыслей; он не вычисляет, не рассчитывает; его дух ровен и податлив, он в гармонии с окружением, он безмятежен, его ум пуст. Тем самым он способен свободно реагировать на изменения, происходящие время от времени в той обстановке, которая его окружает. С другой стороны, когда в нем хотя бы всколыхнется мысль или желание, это вызовет к жизни мир форм: появляются „я”, „не-я” и другие оппозиции. До тех пор пока не прекратят появляться эти оппозиции, Путь останется ограниченным и закрытым, а его свободная деятельность будет невозможна. Дух в таком случае, совсем утратив свою таинственную, врожденную ясность, погрузится в потемки смер- ти. Пребывая в этом состоянии ума, можно ли ожидать, что поднимешься на врага и одолеешь его? Даже если вы выйдете победителем, это будет чистой случайностью, отрицающей сам дух фехтования.
Под „бесцельностью” я имею в виду не простое отсутствие вещей, не пустое ничто. Дух по своей природе не имеет формы, и никакие „объекты” не могут в нем находиться. Когда что-то в нем содержится, ваша психическая энергия тянется к этому содержанию; а когда психическая энергия утрачивает равновесие, она искажает свою исконную природу и больше не находится в потоке. Если энергия течет неравномерно, ее становится слишком много в одном месте, тогда как в другом наблюдается ее нехватка. Где ее слишком много, она начинает перехлестывать и выходит из-под контроля; где ее мало, она „на голодном пайке” и делается бесполезной. В обоих случаях невозможно совладать с постоянно изменяющимися ситуациями. Но когда преобладает состояние „бесцельности” [которое также является состоянием «безмыслия»], дух ничего в себе не содержит и не склоняется в каком-то одном направлении; он превосходит и субъект, и объект, он отвечает пустотой на окружающие изменения и не оставляет следов. Книга Перемен (И цзин) говорит: „Нет мысли в нем, нет действия [или нет воли], нет беспокойства и нет движения; но оно чувствует, и когда оно действует, оно течет сквозь любые объекты и любые события”. Когда это поймешь в связи с искусством фехтования, становишься ближе к Пути».
Послушав внимательно мудрую Кошку, Сёкэн задал вопрос: «Что значит „Нет ни субъекта, ни объек- таг »
Кошка ответила: «Из-за того что есть эго, есть и враг; когда нет эго, нет и врага. Враг означает „противостояние”. Так, мужское противостоит женскому, а огонь противостоит воде. Если вещь существует,
она неизбежно имеет и свою противоположность. Когда нет признаков [движения мысли] в вашем уме, то не происходит и никаких конфликтов; а когда нет конфликтов, то попытка одного стать лучше другого известна как „ни враг, ни эго”. Когда сам ум забыт вместе с признаками [движения мысли], вы наслаждаетесь состоянием абсолютного ничегонеделания, вы пребываете в совершенном, пассивном спокойствии, вы находитесь в гармонии с миром, вы одно целое с ним. В то время как форма врага прекращает существовать, вы не осознаете этого, но и сказать, что вы совсем не осознаете этого, тоже нельзя. Ваш ум очищен от всех движений мысли, и вы действуете только тогда, когда есть некое побуждение к действию [из бессознательного].
Таким образом, когда ваш ум пребывает в состоянии абсолютного бездействия, мир тождествен вашему эго, а это значит, что вы не выбираете между правильным и ложным, удовольствием и неудовольствием, вы поднимаетесь над всеми абстракциями. Такие вещи, как удовольствие и неудовольствие, выгода и утрата, — суть создания вашего ума. В реальности универсум не следует искать за пределами ума. Один старый поэт сказал: „Когда в вашем глазу есть хоть частица пыли, тройственный мир становится узким путем; полностью освободите свой ум от объектов — и как далеко расширится эта жизнь!” Когда в глаз попадает даже крошечная песчинка, мы не можем долго удерживать его открытым; глаз можно сравнить с умом, который по своей природе ослепительно светел и свободен от объектов; но как только какой-либо объект попадет туда, ум утрачивает свое достоинство. Говорится также, что, „когда человека окружают сотни, тысячи врагов, эту форму [известную как мое „я”] можно разорвать на куски, но вот с моим умом никакая мощная армия ничего не сумеет поделать”. Конфуций говорит: „Даже у обычного человека есть хоть какая-то воля”. Всякий раз, когда разум запутывается, он становится врагом. Это все, что я здесь могу объяснить, ибо назначение мастера — передать технику и показать ее основы. Вы сами должны реализовать эту истину. Истину достигают самостоятельно, она передается от ума к уму особым образом — вне письменных знаков. В этом виде передачи нет намеренного отклонения от традиционного учения, ибо даже мастер бессилен передать что-либо. Не этим определяется изучение дзэн. Начиная с тренировки ума у древних святых и кончая практиками различных искусств самореализация остается их ключевым моментом. Она передается от ума к уму, это особая передача за пределами письменного учения. Задача письменного учения — указать вам на то, что вы уже имеете внутри себя. Нет никаких секретов, которые мастер передает ученику. Учиться нетрудно, слушать и вовсе несложно, но что поистине трудно, так это сознавать то, чем вы обладаете в себе и чем сможете воспользоваться как своим достоянием. Эта самореализация называется „видением собственной природы”, то есть сатори. Са- тори есть пробуждение ото сна. Пробуждение, самореализация, видение своей природы — все это одно и то же».
V
ЧЖУАН-ЦЗЫ Смысл жизни
Ле-цзы спросил Гуань-иня: «Совершенный муж проходит по скалам и не встречает препятствий; он ходит по огню и не обжигается; он движется поверх десяти тысячи вещей и не боится. Прошу вас объяснить, как это возможно».
Гуань-инь ответил так: «Это благодаря концентрации чистого духа (чунь ци), который совсем не связан с интеллектуальными ухищрениями или с совершенной физической ловкостью. Садись, я расскажу тебе. Любые вещи, будь они формами или обликами, звуками или оттенками, являются упорядоченными физическими объектами. Они обусловливают друг друга и не способны выйти за собственные пределы, ведь они материальны. Но есть нечто такое, что не имеет формы и поднимается до уровня несозданного. Тот, кто достигает этого предела, покидает все материальные вещи.
Т акой человек никогда не забывает меры, он скрывается в бездне неограниченного, он пребывает там, где начинаются и заканчиваются десять тысяч вещей. Его природа целостна, его дух (ци) насыщен, его добродетели гармоничны. Поэтому он соединяется с творческим источником вещей. Тот, кто подобен ему, поддерживает единство с небом и имеет сосредоточенную душу (шэнь). Какие внешние объекты могут в нее войти?
Когда пьяница выпадает из повозки, он может пораниться, но не убиться. Его кости и суставы подобны костям и суставам любого другого человека, но способ ощущения им боли совсем иной, а все потому, что он целостен в этом состоянии. Когда он едет, он не сознает этого; когда он падает, он тоже не сознает этого. Идея жизни и смерти, чувство тревоги и страха не проникают в его сердце. Поэтому перед лицом опасности он совсем не теряется. Подобной собранности он достигает посредством вина. Если это так, мы даже не можем сказать, насколько собраннее он стал бы благодаря небесам. Мудрый муж укоренен в небесах, и поэтому он вообще не страдает ни от какой боли.
Даже мстительный тип не стал бы гневаться на меч, который случайно поранил его. Даже закоренелый злодей не стал бы таить ненависть на осколок кирпича, задевший его. Поэтому мир находится в покое [когда люди понимают, что несчастные случаи сами по себе не содержат злой воли]. Причина того, почему нас не затронут ни военные нападения, ни уголовные наказания, состоит в том, что мы раскрываем в себе небесное блаженство, а не блаженство человеческое. Тот, кто открывает небо, обретает жизнь, но тот, кто открывает человеческое, повреждает ее. Когда мы почитаем небо и заботимся о нем, мы приближаемся к истине».
Только что упомянутый отрывок содержится также в трактате Ле-и,зы\ правда, там пропущен последний абзац. В этом отрывке автор хочет сказать, что мир оттого пребывает в хаотическом состоянии, оттого переполнен духом злобы и раздражения, что мы слишком много внимания уделяем аналитическому мышлению и физической силе. Если бы мы знали, как сохранить целостность чистого духа, который на самом деле представляет собой божественное небо (небо небес), и знали, как не смешивать эту целостность с низкой человеческой природой (человеческое небо), мир мог бы освободиться от всякой хаотичности. Низменная природа человека является результатом самоутверждения. У пьяницы чувство собственной значимости притупляется. И хотя это, конечно, связано с его состоянием, все равно он лишен самоутверждения. Словом, его «я» временно подавлено, он подобен «деревянному петуху»; с одной стороны, он жив, а с другой — лишен злой эгоцентрической воли, а потому не испытывает вражды по отношению к другим. Он также подобен падающему куску черепицы. Ведь данный кусок способен причинить увечье людям, не имея на то внутреннего намерения. Ягю Тад- зима-но ками сравнивает совершенного фехтовальщика с куклой-марионеткой в руках игрока. Сама по себе кукла неподвижна. Точно так же и меч фехтовальщика, крепко соединенный с рукой держащего его человека, самостоятельно не движется, то есть он свободен от всех эгоцентрических мотивов. Его поведение контролирует это его бессознательное, а не аналитическое разумение. Поэтому фехтовальщик ощущает, что его мечом распоряжается некто, не известный ему, хотя все-таки и связанный с ним. Все технические приемы, которыми он сознательно обладает и которые он столь усердно изучал, теперь исполняются так, словно напрямую исходят из источника бессознательного, то есть, в терминах Чжуан-цзы, из собранного чистого духа (чунь и,и). Таким образом, подлинный фехтовальщик должен по крайней мере частично реализовать «совершенного человека».
Плотник
Придворный плотник Цин вырезал из дерева раму для колокола. Когда работа была завершена, она оказалась превосходным произведением искусства, и видевшие ее считали, что в ней есть что-то сверхъестественное. Князь Лу увидел ее и спросил Цина: «Какую технику ты применял, чтобы создать это?»
Цин ответил: «Я простой ремесленник и не знаю досконально ни одного искусства. Но вот что я скажу. Когда я собираюсь начать работу над рамой для колокола, то пытаюсь опустошить свой дух (ци). Я пощусь, чтобы сохранить безмятежность ума. Через три дня у меня пропадает желание получить награду, заработок или общественную славу. Через пять дней мысли о хвале, позоре, о мастерстве полностью исчезают. Спустя семь дней я достигаю состояния абсолютной безмятежности, забываю, что обладаю телом, руками и ногами. В тот момент я также забываю, что работаю для двора. Я сосредоточен только на своей работе, никакие другие интересы не отвлекают меня. Тогда я вхожу в лес и выбираю самое подходящее дерево, чья естественная форма гармонирует с моей внутренней природой. Теперь я знаю, что могу вырезать свою раму. Если все эти условия не исполнены, я не приступаю к работе. Ведь я чувствую, что именно небо [в природе] объединяется с небом [в человеке]. Возможно, благодаря этому мое изделие и кажется сверхъестественным».
Бойцовский петух
Цзи Син-цзы воспитывал бойцовского петуха для своего господина. Миновало десять дней, и господин спросил: «Готов ли он?» Цзи ответил: «Нет, господин, он еще не готов. Он еще слишком суетлив и понапрасну гневается». Прошло еще десять дней, и князь снова спросил о петухе. Цзи сказал: «Еще нет, господин. Он сразу настораживается, когда замечает хотя бы тень другого петуха или слышит его крик». Прошло еще десять дней, и на очередной вопрос князя Цзи ответил: «Не совсем, господин. Чувство борьбы еще тлеет в нем, готовое в любой момент прорваться». Когда миновало еще десять дней, Цзи на вопрос князя ответил так: «Он почти готов. Даже если услышит крик другого петуха, не покажет возбуждения. Он кажется словно выточенным из дерева. Его дух сосредоточен. Никакие петухи ему не соперники, они сразу убегут прочь, завидев его».
4. Искусство стрельбы из лука
Ле -цзы рассказал о своем искусстве стрельбы из лука Бо -хуню У-жэню. Когда лук был полностью настроен, Ле -цзы поместил себе на локоть чашу воды и
начал стрелять. За первой выпущенной стрелой сразу же последовали вторая и третья. Сам же он стоял неподвижно, словно изваяние. Бо-хунь У-жэнь сказал: «Эта техника стрельбы прекрасна, но она не есть стрельба не-стрельбы. Давай поднимемся на высокую гору и встанем на камень, выступающий над пропастью глубиной в десять тысяч футов, и попробуем выстрелить».
Они вскарабкались на высокий пик. Бо-хунь У-жэнь встал спиной к пропасти в десять тысяч футов глубиной на камень, выдававшийся над ней, и треть его ступни свисала со скалы. Затем он предложил Ле-цзы подойти, но тот повалился на землю, покрывшись холодной испариной.
Бо-хунь У-жэнь сказал: «Совершенный муж взмывает над голубым небом, или ныряет в желтые источники, или блуждает между восемью пределами мира, и все-таки никакие изменения незаметны в его духе. Тебя же бросило в дрожь, глаза твои расширились от ужаса. Как ты можешь ожидать, что попадешь в цель?»
С. В. Пахомов
ДЗЭН КАК ОСНОВА ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Когда ум, освобожденный от интеллектуальных ухищрений, осматривает мир чувств во всем его многообразии, он обнаруживает в нем все ценности, дотоле скрытые от взора. Здесь открывается художнику мир, полный чудес и удивления.
Д. Т. Судзуки
Существует расхожее представление о Японии как о далекой экзотической стране, в которой существует настоящий культ красоты. Поистине японцы почитают красоту в самых разных ее проявлениях, подчас довольно неожиданных для нас. Там над водами залива величественно возвышается снежная вершина Фудзиямы, восхищающая взор; там утонченные поэты всего лишь в семнадцати слогах искусно запечатлевают всю глубину человеческих переживаний; там ценители природных красок и форм предаются восторженному созерцанию цветущей сакуры или умиляются скромной красоте придорожных растений; там в торжественной обстановке совершается изящное священнодейство чайного ритуала; но там же воинственные самураи, лишившись последней надежды на успех в сражении, красиво вспарывают себе живот. Конечно, любая национальная культура шире стереотипов, созданных о ней, однако все перечисленные мотивы «религии» красоты, равно как и многие другие, действительно есть в Японии, и в немалой степени это связано с тем эстетическим влиянием, которое оказал на эту страну дзэн-буддизм.
Очередная книга Дайсэцу Тэйтаро Судзуки «Дзэн и японская культура», возникшая на основе его более
ранней работы — «Дзэн-буддизм и его влияние на японскую культуру» (1938), посвящена как раз вопросу влияния дзэн-буддизма на различные аспекты японской культуры и общества. В своей книге мэтр японской буддологии уже не ставит своей целью изложить основы дзэн, считая данный вопрос достаточно проясненным раньше;[216] его задача —; проследить, что именно эта школа китайского буддизма привнесла в культуру Страны Восходящего Солнца и как именно происходил подобный процесс.
Японская культура — плод многовековой деятельности нескольких этносов, прослеживающих различные источники своего происхождения. Разные народности, племена, группы постепенно соединялись на Японских островах в одно целое, принося свои религиозные, экономические, бытовые представления в общий «котел». Характерно, что различия между этносами могли не сглаживаться в течение веков, однако сами их представители и не видели в этом какой-то особой нужды. Умение спокойно воспринимать противоречия и различия без попытки подвести под них разрушительное для частностей основание вошло в плоть и кровь японского народа.2 Хотя уже самый первый письменный свод японских мифов, Кодзики («Записи о деяниях древности»), представляет собой попытку объединения разрозненных мифологем, все-таки в целом ряде случаев бросается в глаза их явная «нелогичность» — например при описании страны мертвых. Это уживание противоположных компонентов в одном комплексе выработало в японском сознании определенную готовность к встрече с иррациональными, внешне противоречивыми моментами бытия, готовность соглашаться с ними, не устраняя их. У японцев нет особой склонности вводить в систему, состоящую, допустим, из двух противоположных элементов, некий дополнительный, третий элемент, который бы логически «исправил» альтернативу. Правда, это не означало, что японцы вообще отказывались от идеи единства, от объединения; но те элементы, которые входили в тот или иной объединяющий их комплекс, не утрачивали при этом своей специфики. В подобном слабом интересе к синтезу японское мышление явно отличается от европейского, которое просто не терпит противоречий и пытается устранить их через синтез. Мы могли бы сказать, что вместо синтетических конструкций японское сознание тяготеет к симбиотическим, аспекты которых взаимно дополняют, гармонизируют друг друга, но не «растворяются» в чем-то абстрактном по отношению к ним. Это сказывается и на самом функционировании японского мышления. Как признается и Судзуки, японцы так и не развили за всю свою более чем двухтысячелетнюю историю склонность к абстрактной мысли, в отличие от тех же индийцев и, в меньшей степени, китайцев; они были прагматично сориентированы на земное, на конкретные, даже мелкие детали повседневной жизни. В их мышлении остался значительный элемент мифологизма и магизма, свойственный архаичным народам. Можно даже предположить, что японцы в каком-то смысле продолжают традицию архаики, переосмысленной эстетически, причем в этом переосмыслении им немалым образом помог дзэн-буддизм.
Для японской культуры на всем протяжении ее истории был исключительно важен фактор заимствований. Ими особенно характеризовался ранний период истории Японии, когда множество культурообразующих элементов было почерпнуто из Китая. Китайская иероглифика, китайская политическая и бюрократическая система и многое другое активно усваивались японской культурой.[217] Первая постоянная столица Японии, город Нара, была устроена по образцу китайской столицы Чанъань, позднее такие же принципы планировки применялись и в отношении другой столицы Японии — Хэйана (Киото). Немало талантливых японских юношей переплывали полное опасностей море для того, чтобы, оказавшись на континенте, освоить достижения китайской цивилизации. Однако, несмотря на большие масштабы заимствований, этот перенос не стал слепым копированием. Япония брала извне то, что было ей выгодно и что она могла органично ассимилировать. Далеко не все иностранные идеи получали распространение на Японских островах. Скажем, понятие «мандата Неба», вручаемого владыке Срединной империи (т. е. Китая) и потенциально содержащего момент насильственного свержения правителя, который по каким-то качествам этому «мандату» не отвечал, — так вот, подобное важное понятие китайской политической культуры японцами востребовано не было. Следует также вспомнить и специфику географического положения страны, благодаря своей изолированности не испытывавшей сколько-нибудь серьезного давления и угроз со стороны за всю свою историю и тем самым получавшей поистине уникальную возможность для самостоятельного выбора тех образцов иностранных культур, которые ей были нужны.
Усваивая различные формы иностранных культур, Япония не могла не обратить свое внимание и на буддизм. Это индийское учение появляется на островах еще в V—VI вв. н. э., и его носителями на первых порах выступали иммигранты из Кореи и Китая. Но очень скоро буддизм стал объектом интереса крепнущей императорской власти. Причин такого интереса было как минимум две. Во-первых, империя постепенно расширялась, она нуждалась в удобном идеологическом средстве, обосновывающем объединение всех земель и иерархию сословий под императорской властью. Во-вторых, в буддизме усматривали эффективное средство воздействия на потусторонний мир, позволявшее сохранять государство, в том числе главный его центр — персону императора, — сильным и процветающим.[218] Политическая воля реализовалась в росте храмов, монастырей, в росте количества обращений в это учение, что особенно стало заметно в эпоху Нара (710—784 гг.). В столице развивается шесть школ японского буддизма, которые были своего рода «филиалами» китайского буддизма на Японских островах. Буддизм фактически превратился в государственную религию Японии. Буддийские храмы находились на содержании государства, монахи получали жалованье и имели свои ранги, словно чиновники. Правители Японии часто сами принимали монашеские обеты, продолжая, впрочем, влиять на ситуацию в стране. Однако такое сращивание государства и религии не могло не привести и к некоторым изъянам. Так, государство слишком пристально следило за положением дел в буддийской общине, вмешиваясь в них при любом удобном случае, оно активно контролировало буддийские школы и храмы, диктовало им свои условия. Фактически императорская власть (а позже сёгунская) относилась к буддизму весьма утилитарно, почти не обращая внимания на его доктринальную сторону, зато строго заботясь о том, чтобы буддизм четко соответствовал поставленным перед ним магическим целям по поддержанию благосостояния государства. Молебны во здравие императора стали непременной частью буддийских ритуальных служб.5 Но постоянная культивация государственни- ческого духа среди монашества привела и к политизации многих буддистов. Это особенно заметно в случае с монахом Докё, который в середине VIII в. стал очень влиятельной политической фигурой при императрице Кокэн и даже едва не устроил дворцовый переворот.
Ко времени активного внедрения школы дзэн в Японии (XIII в.) прошло семь-восемь столетий, за которые буддизм успел стать неотъемлемой частью жизни японцев. Но был и еще один фактор, подготовивший развитие дзэн, как раньше он помог утвердиться и буддизму в целом, — это фактор национальной религии Японии, или синто («путь богов»). Интересно, что японцы далеко не всегда эту свою религию воспринимают именно как религию; для них это, скорее, сам их образ жизни, совокупность обычаев, уходящих корнями в очень отдаленное прошлое.6 Синто как бы растворено в жизни японского народа, оно является воздухом, которым дышат эти люди, воплощено в природе, окружающей их. Как замечает исследователь синто А. А. Накорчевский, «выбор слова „путь” не случаен — в отличие от буддизма, христианства, даосизма и прочих религий, чтущих своих основателей и потому называемых по-японски „учение”, синто никем и никогда не было создано. Это естественный, природный „путь”, существующий с незапамятных времен, и им должен следовать всякий рожденный в этой стране».7 Культ природных явлений, культ духов, культ предков — все эти и некоторые другие элементы синтоизма глубоко воздействовали на древнее японское сознание. При этом отправление синтоистских церемоний вполне уживалось с приверженностью к другим религиозным традициям, в том числе и к буддизму.8 Уже в хронике Нихон сёки («Анналы Японии»), созданной в 720 г., можно прочесть, что император Емэй (конец VI в.) почитал закон Будды и следовал пути богов (т. е. одновременно был и буддистом, и синтоистом). И это сочетание отнюдь не выглядело в глазах японцев чем-то неестественным; скорее, одна традиция органично дополняла другую. Со временем выяснилось, что буддизм не хуже синто может быть приспособлен для повседневных нужд общества. Так, синтоизм старательно избегал всего того, что имеет отношение к внешней загрязненности, к смерти, поскольку это отдаляет человека от мира богов (ками). Поэтому ритуалы очищения занимают в синтоизме немалое место, при этом граница между очищением от физической грязи и очищением от нечистоты этической ничтожно мала. В буддизме же махаяны вообще не было такого жесткого противопоставления чистого и нечистого, при котором первое безоговорочно принимается, а второе категорически отвергается: в махаяне властвовала идея тождества сансары и нирваны, а как следствие — тождества омрачения и просветленности. Исторически это привело к тому, что буддизм принял на себя функцию погребальной обрядности (поэтому в основном именно вокруг буддийских храмов и располагаются кладбища), тогда как за синтоизмом закрепилась функция проведения обрядов, связанных с рождением или браком. Интересно, что один и тот же человек мог принимать участие как в синтоистских, так и в буддийских ритуалах, не ощущая никакой несуразности в подобном смешении, никакого внутреннего «раздвоения личности». Он просто был прихожанином храмов и святилищ, относившихся к разным религиям. Гармония двух традиций выразилась и в отношении к миру божеств. Буддизм всегда довольно терпимо относился к божествам и духам тех мест, регионов, стран, в которых он получал распространение. С одной стороны, синтоистские божества (ками) приобрели характер защитников буддийского учения, вошли в буддийский пантеон в качестве будд и бодхисаттв;[219] с другой — исконные бод- хисаттвы и будды в глазах народа утратили свою изначальную специфику, превратившись в местные, национальные божества, приносящие счастье, материальное изобилие, защиту домашнего очага^0... Любопытно, что наряду с чисто буддийскими (как, например, бодхисаттва Авалокитешвара, который под влиянием Китая был воспринят в Японии как женское божество — Каннон) японцы адаптировали к своим условиям культы некоторых небуддийских божеств, относящихся к сфере индуизма и даосизма.
Тем самым можно сделать вывод, что японское сознание было хорошо подготовлено для принятия
дзэн-буддизма. Если не считать спорадических попыток высадить это неприхотливое растение на японской почве еще в VIII в., данный процесс в полную силу начался с тех пор, когда власть перешла в руки представителей самурайского сословия из династии Асикага (с XIII в.). К тому времени китайский чань-буддизм мало походил на то учение, которое проповедовалось в Китае за много столетий до того.[220] Д. Судзуки подробно описывает постепенную инфильтрацию дзэн-буддийской идеологии в эту суровую, но в чем-то сентиментальную среду, показывает определенную схожесть во взглядах у самураев и дзэн-буддистов, демонстрирует, как воинственные японские рыцари безропотно подчинялись скромным дзэнским мастерам, смиряли свою гордость, старались в своей повседневной деятельности стать истинными сторонниками этого учения. Разумеется, буддизм уже достаточно хорошо знали в Японии к тому времени, так что еще одной буддийской школой эту страну было трудно удивить; однако на сей раз речь шла о весьма самобытном направлении, которое пыталось показать неразрывность повседневного опыта человека с его трансцендентальными устремлениями.
Появившись на островах, дзэн-буддизм занял свою особую идеологическую нишу, несколько потеснив другие буддийские направления. Автор вспоминает поговорку о соотнесении различных школ с разными группами населения: «Тэндай — для императорской семьи, сингон — для аристократии, дзэн — для военного сословия, а дзёдо — для народа». Имевшаяся в средневековой Японии социальная стратификация делала возможной ситуацию, при которой дзэн-буддизм удачно вписывался в идеологемы именно динамично развивавшегося военного класса. Поис- тине дзэн стал удачной находкой для самураев, не
имевших к тому времени таких многовековых культурных традиций, которые были в императорском окружении, но которые им были нужны как воздух.12 Будучи лишен сложной спекулятивности, он при этом был наделен особой изысканностью и утонченностью, некоей поэтичной отрешенностью от мира. Отрицая книжную интеллектуальность, дзэн при всем при том не был и экзальтированно-эмоциональным направлением, наподобие народных культов Будды Амиды, и не увлекался сложными ритуальными действиями, к чему тяготела школа сингон, и не стремился быть вовлеченным в общественно-политическую жизнь, вроде школ тэндай и нитирэн. В то же время дзэн обладал качествами религии «золотой середины», способной удивительным образом приспосабливаться к любому строю, к любым историческим и религиозным обстоятельствам. Недаром Судзуки отмечает, с налетом провокационности, что дзэн можно приспособить к любому учению, будь то «анархизм или фашизм, коммунизм или демократия, атеизм или идеализм». Дзэн не стремился к тому, чтобы непременно оказаться идеологией самурайства, однако он все-таки был подхвачен этим сословием и стал одной из основ их формировавшейся культуры, — чтобы позже распространиться и в других стратах японского общества, включая императорскую фамилию.
Добавим к этому, что дзэн по своему характеру являлся прямым и строгим учением; его последователи отличались упорством в своем желании постичь Истину, порой даже ценой тяжелого увечья, а то и ценой самой жизни. Это было близко самураям, привыкшим рисковать собой на полях сражений и воспринимавшим жизнь, как свою, так и чужую, в качестве инструментального дополнения к идеологической стороне. Иначе говоря, индивидуальная жизнь для
12 Там же. С. 220.
самурая — это не то, что ценно и значимо само по себе; жизнь — это частный случай мирового целого, функционирующего по законам порядка и долга, в том числе и долга верности своему господину. Не задумываясь, расставались самураи со своей жизнью или лишали жизни другого человека, когда ощущали необходимость подтвердить правоту этого незримого, но властного мирового порядка. И последователь дзэн тоже не привязан к своей жизни, для него это всего лишь какое-то облачко, путешествующее по ясному небу сознания неизвестно куда и неизвестно зачем. Что важно для дзэн, так это момент обнаружения истины собственной природы, или сатори; по сравнению с сатори все меркнет и отступает на второй план, — хотя при этом «второй план» и открывает парадоксальным образом просветленную истину в пучине банальной обыденности.
Проблеме связи дзэн и воинского сословия Суд- зуки уделяет немало страниц своего исследования. Эта связь подчас выглядит весьма необычной, например в том месте, где говорится о «мече жизни». Меч — орудие убийства и силы — неожиданно оказывается символом стержня мира, оси вселенной, вокруг которой вращаются светила и планеты. Такой меч распространяет вокруг себя какой-то динамичный и животворящий покой, совершенно не похожий на пассивную туповатую безмятежность. Подобный «меч жизни» уже не предназначен служить орудием смерти, он превосходит ее (поскольку он превосходит само разделение на смерть и жизнь). Впрочем, если даже фактическая смерть и наступает, сам меч в этом вовсе не виноват: просто меч и носитель меча (по сути, сливающиеся в нечто нерасторжимое) встречают агрессивный выпад противника, и этот выпад как бы оборачивается на самого агрессора, который и погибает, хотя со стороны может показаться, что именно «меч жизни» и вызвал такой печальный конец.
По-настоящему же «меч жизни», как считает автор, не способен убить. Он не убивает потому, что является мечом животворящей пустоты, действующей спонтанно и бессознательно, а не мечом осознанных целенаправленных усилий. Если целеполагание вообще приходит, то это случается позже творения, в связи с деятельностью различающего сознания.
Дух подобной креативной и просветляющей пустоты (которая отнюдь не означает чистого ничто и небытия, но должна быть понята как исток самой жизни) привносится дзэн и в другие области человеческой деятельности. Дзэн образует вокруг себя ка- кую-то центрифугу творческой активности, затягивающую в себя ищущего человека, заставляющую его раскрываться навстречу собственному истинному «я». Поэтому неудивительно, что это направление оказало такое большое влияние на японское искусство. Дзэн во многом стал участником и даже организатором того долговременного процесса, который привел к формированию традиционной японской культуры с ее склонностью создавать и понимать ценность намека, теневой, незаметной стороны вещей, соглашаться с очарованием двойного смысла, любить асимметричность пространства и динамичность пустоты, проявленную в художественной композиции.
По своему характеру дзэн сугубо эстетичен и при этом вполне равнодушен к этическим проблемам. Судзуки замечает: «Дзэн может быть вне морали, но не вне искусства». Дзэнское отношение к этичности становится понятным, если мы вспомним восприятие дзэн-буддизмом морали как чисто человеческого изобретения, с помощью которого люди просто пытаются как можно более комфортно устроиться в этом мире. Мораль, которая разбивается на пары оппозиций типа «добро—зло», не в состоянии, по мнению этой дальневосточной школы, обеспечить истинное познание реальности. Но не следует спешить упрекать дзэн-буддизм в безнравственности. В дзэн происходит своеобразная «гностизация» этики. Иначе говоря, отрицая «этику различений», онтологизирующую понятия блага и зла, которые в основе своей весьма относительны, дзэн согласен с этикой как путем самопознания. Человек нравственный — это такой индивид, который наилучшим образом откликается на зов вещей, существующих вокруг него. Такой человек не чувствует никакого отличия от этих вещей, его сознание взаимосвязано с ними. Устранившись от противопоставления морали и имморальности, от желания переделывать «плохой» мир, последователь дзэн оказывается, как это ни парадоксально прозвучит, настоящим праведником, который обладает эстетическим взглядом на реальность. Последователь дзэн воспринимает вещи с художественной точки зрения, творчески, не пытаясь извлечь из них какую-то утилитарную выгоду. В эстетике дзэн мир предстает как самосущий, а не возделанный (или переделанный) человеческим сознанием. Существенно, что дзэнская эстетика преодолевает типичное противопоставление «красивого» и «безобразного»; в дзэн эстетично не то, что красиво и привлекательно, что стремится радовать глаз, а то, что возникает как некое неповторимое, а зачастую и мгновенное, никогда более не повторяющееся со-бытие. При этом созерцаемая вещь не обязательно окажется каким-то чудесным произведением искусства или природы, как раз наоборот, это может быть чем-то совершенно простым и безыскусным, чем-то устаревшим или вышедшим из употребления — какая-нибудь треснувшая чайница или ветхая, покосившаяся дверь. Стремление же украшать предметный мир отнюдь не приветствуется в дзэн, поскольку свидетельствует о внесении в реальность человеческих установлений и ухищрений. Скромность, простота, незаметность, одинокость — вот характерные признаки японской эстетики, выросшей на основе эстетики дзэн. Об этих чертах автор много рассуждает в главах, посвященных чайному искусству. Эстетическое отношение к миру позволяет устанавливать особые взаимоотношения с вещами природы, позволяет существовать в неразрывной гармонии с ними.
По мнению Судзуки, мастер-творец, который следует дзэн-буддизму в своей жизни, наилучшим образом исполняет свое предназначение, когда отключает свое активное индивидуальное «я» и «настраивается» на волну бессознательного: тогда «творец превращается в автомат, лишенный человеческих установок». Людям, воспитанным на уважении личностного начала в человеке, будет, наверное, довольно трудно согласиться с этим тезисом, поскольку они привыкли к тому, что творец в той или иной мере всегда вкладывает в свое творение частицу собственного «я», что любой творческий труд есть труд авторский, труд сознательный. Автомат же по определению не способен быть творцом. Однако в XX в. благодаря открытиям глубинной психологии появилась возможность говорить о личности не только в категориях сознательного «я», но в категориях, сочетающих рациональное и иррациональное, сознание и бессознательное. В этом смысле личность оказывается более глубоко укорененной в человеке, черпая свои силы из тайников бессознательных процессов, помогающих ей лучше понять саму себя.
Когда человек «отключает» свое сознание, намеренно или же случайно, когда он отказывается от рационально оформленной деятельности, он подпадает под мощное влияние неосознаваемых психических процессов. Сам японский буддолог в своем стремлении отыскать подлинный ключ к поступкам человека идет даже дальше, чем К. Г. Юнг с его коллективным бессознательным: Судзуки говорит о «космическом бессознательном», в котором уже нет места собственно человеческому началу. Правда, автор не поясняет, что это такое, однако из контекста ясно, что речь идет об абсолютном принципе бытия, о буддийском Теле Дхармы, или Дхармакае. Исходя из того, что он пытается высказаться на языке, понятном западной аудитории, мы могли бы развить мысль Суд- зуки и назвать дзэнский подход к миру чем-то вроде «космического психоанализа». При этом сам «психоаналитик» вовсе и не должен пребывать в медицинском кабинете, выполняя функции психотерапевта; он способен исполнять свои обязанности (и прежде всего по отношению к самому себе) везде, где этого требует специфика его деятельности, например будучи художником, ремесленником, мастером в какой-либо области или просто обычным бродягой. Главное, что требуется от такого мастера, — давать полный простор таинственной и всепроникающей силе, ничем не стесняя ее действия. Малейшее сомнение или интеллектуальное размышление вызовет ее остановку, поставив преграду на ее пути. В этом случае вопрос об истоках творчества снимается: подлинным творцом выступает эта универсальная сила, проявленная через человеческое бессознательное, а человек в лучшем случае может только эффективно подготовить себя к тому, чтобы стать каналом для ее творческого проявления.
Судзуки отмечает определенную ограниченность художника по сравнению с последователем дзэн как таковым: если художник испытывает необходимость в инструментарии, — ведь для того чтобы создать некое произведение, требуются и средства для этого созидания, — то приверженец дзэн сам себя делает инструментом деятельности абсолютного. Однако мы в этой связи добавим, что подобный «инструмент» наилучшим образом реализует себя в монастырских стенах, за пределами которых адепта подстерегали бы многочисленные искушения променять свой благородный путь на нечто куда более ничтожное. Мирской же последователь дзэн всегда будет ограничен в своих возможностях и способностях к реализации, — если, конечно, он не ведет жизнь «монаха в миру».
Созерцательно-эстетическое мировоззрение дзэн повлияло и на отношение японцев к окружавшей их природе. Несомненно, это отношение — плод многих столетий, в течение которых природа была неотъемлемой частью жизни японцев; уже элита древнего японского общества, которая в основном жила в столице, задолго до распространения дзэн выработала особый изысканный вкус любования природой. Заслугами дзэн в этой области стали, во-первых, усиление ощущения окружающего мира как чего-то священного; во-вторых, равное отношение ко всему множеству природных явлений, причем внимание уделяется и тем из них, которые совершенно незаметны на внешний взгляд; в-третьих, и это самое главное, природа становится соучастником в обретении человеком сатори. Немало дзэнских историй повествуют о том, как природа помогает человеку обретать окончательное пробуждение от сна неведения. Багровый солнечный диск, в предрассветных сумерках выплывающий из-за моря, может внезапно уничтожить хаос, гнездящийся в сознании адепта, которое уже подготовлено к последнему «прыжку» благодаря длительной, интенсивной практике, — и все мгновенно становится ясным и понятным. Неудивительно, что и сам опыт просветления адепты дзэн часто выражали через символику природных объектов. Природа оказывается выражением абсолютного принципа, и прежде всего потому, что в ней отсутствует сознательная целенаправленность: природа бессознательна, а потому может считаться подлинным источником творчества. Несомненно, подобное понимание природы во многом пантеистично, хотя сам автор и возражает против связывания дзэн с пантеизмом. Тем не
менее в отсутствии представления о высшем Боге, творце вселенной, творце природы, поздняя буддийская мысль (включая дзэн) неизбежно должна была продвигаться в сторону обожествления или абсолютизации самой природы — впрочем, без каких-либо специфических внешних ритуалов, прославляющих ее. Для дзэн-буддизма природа была важна не столько сама по себе, сколько потому, что она тесно связывалась с феноменом сатори.
Итак, «культ» природных красок, природных форм и явлений благодаря дзэн вошел в традиционное японское сознание как одна из основополагающих установок. Этот «культ» есть не что иное, как отражение гармонических отношений между человеком и природой. Будучи чрезвычайно важным аспектом бытия человека в мире, гармония с природой могла воспроизводиться в японской культуре и искусственным путем, в контексте различных эстетических практик. Наверное, самой необычной из этих практик для западного восприятия была и остается так называемая «чайная церемония» (тя-но-ю). Впервые изобретенная еще в чаньских монастырях Китая эпохи Сун, изобретенная прежде всего для развлечения монахов и их светских гостей,[221] эта церемония получила в секу лярной культуре Японии новый, мощный импульс к своему развитию. Уставая от окружающей суеты, японский горожанин (именно в городах и распространялась первоначально эта практика) мог на какое-то время уйти от нее в искусственную идиллическую обстановку, которая воспроизводила идеальные природные формы, дышавшие первозданным спокойствием.14 Чайный ритуал, по словам Судзуки, создает особую «психосферу», погружая его участников в гармонию с природой и с самими собой. Эта гармония, которая присутствует в нашей жизни постоянно, но которая не всегда осознается, в ходе тя-но-ю выходит на передний план, незаметно давая ответы на самые насущные вопросы. Простой акт выпивания обычного напитка перестает быть банальным действием и превращается в нечто священное. Сакрализация чего бы то ни было всегда предполагает отказ от каких-то профанирующих, случайных моментов. Так и чайная церемония требует предельной сосредоточенности сознания и в то же время глубинной открытости миру, плавных ритуальных движений и избегания обычных мирских фраз. Скромность, смирение, молчаливость, простота, склонность к уединению — таков необходимый набор качеств, требующихся от участников этой операции, которых обычно всего двое: хозяин чайного павильона и его гость. Участники церемонии созерцают единство вещей в их цело- купности и устанавливают с миром внутренний контакт, как бы пропуская его через собственное сердце.
Влияние дзэн на средневековую японскую культуру было огромным.15 Но Судзуки в своих исследованиях значения дзэн-буддизма для культуры Японии не ставил перед собой задачу охватить все без исключения ее сферы, получившие импульс со стороны дзэн. Темы, связанные с искусством составления цветочных композиций (икебана), театральным искусством (особенно драма Но), искусством разбивки садов и парков, с музыкой, живописью, каллиграфией и некоторыми другими формами искусства, явно испытавшими на себе творческое воздействие дзэн, остались либо мало затронутыми автором, либо не затронутыми вообще. Автор использовал другой подход: ограничив свое рассмотрение такими сферами ку-
15 Там же. С. 138.
льтуры, как «путь меча» (кэндо), распространение неоконфуцианства, чайная церемония, поэзия хайку, отношение к природе, он попытался именно на этих примерах показать, как дзэнские представления закладывали основы для становления традиционной японской культуры.
Конечно, было бы слишком поверхностно утверждать, что дзэн-буддизм — это единственная основа японской культуры. Несомненно, имелись и другие ее источники, о которых автор не пишет просто потому, что это не вписывается в логику его размышлений. Ясно одно, — и к этому выводу Дайсэцу Тэйтаро Судзуки подводит читателя исподволь, — что без школы дзэн японская культура никогда не смогла бы стать тем, чем она стала, никогда не сложилась бы в тех своеобразных, уникальных и порой причудливых формах, в которых она известна сейчас и которые до сих пор продолжают вызывать восхищение у всех тех, кто соприкасается с ней.
УКАЗАТЕЛЬ
Абхирати 463 Абэ Садато 436 Авалокитешвара 108, 109, 287, 408 Аватамсака сутра 57, 58, 461
Августин 444 авидья 104, 470 Агэро 466
адаршанаджняна 135, 185 Адати Масахиро 209, 211, 213, 214 адвайта 462 Адлер 210
ай-нукэ 191, 194, 203
204
ай-ути 191, 194, 201, 204,
238
акаго-но кокоро 235 Акшобхья 463 алая 334
алаявиджняна 185, 227, 275 амадо 381, 408 Аматэрасу Омиками 324 Амида 35, 466 Амитабха, см. Амида анабхинивеша 194 ангя 143 анимизм 406
анутпаттика-дхарма-кшанти
459
Анэдзаки Масахару 398 апратиштха 194 Араки Матаэмон 83 араясики, см. алаявиджняна
Арима Юсэй 209 Асанга 57
Асатаро Миямото 370 Асацума 92
Асикага, период 47, 54, 65, 70, 337, 345, 379 Асикага Ёсимаса 307, 322, 355
Асикага Такаудзи 98 Ачалавидья-раджа 91, 98, 107, 231, 398 Ашвагхоша 236
Баки, см. Ма Гуэй бакуфу 65
бай-цзе, см. хакутаку Бай-чжан Хуэй-хай, см. Хякудзё Экай Бандзан Ходзаку 162, 231 бань-жо, см. праджня Бао-фу Цун-чжань, см. Хо- фуку Дзутэн бао-шэнь, см. самбхогакая
Басё 142, 258—264, 268— 278, 286, 288 — 294,
296—301, 303, 384, 428,
429
Басо Доити 14, 74, 136, 140, 154, 449, 454 Баэн 27, 32, 36 Бельмонте 131—134 Бива 84, 365
Би-янь лу, см. Хэкиганроку Би-янь цзи, см. Хэкигансю
Блис 258, 259, 265, 268, 269
Бо Гао-цзы 295 Бодай Дарума, см. Бодхи- дхарма бодхи 471
Бодхидхарма 87, 153, 319, 337, 449
бодхимандала, см. додзё бодхисаттва 75, 424, 459, 461, 471
бонно, см. клеша босацу, см. бодхисаттва Бо-хунь У-жэнь 486, 487 Буби вакун 239 Будда 71, 92, 203, 253, 301, 341, 389, 422—424, 438, 448, 454, 456, 458— 460, 463, 467, 470 — 472
Будда-кшетра, см. Земля Будды Будзуцу сосё 140 букка, см. у-хуа Букко-кокуси 72—75, 111, 127, 134, 230
бун, см. фэнь Бунан-дзэндзи 112, 113 Бунгэй Сюндзу 234 бусидо 37, 78, 82 Бусидо сосё 209 Бусон, см. Еса Бусон Буттё 271 бу-чжи, см. фути
бу-ши, см. фусики Бхагавадгита 351 бхакти 388 бхутакоти 388 бэй, см. каруна Бэн-коу, см. Хоко бэнь-лай мянь-му, см. хон рай-но мэммоку Бянь Цин-цзы, см. Хэн- кэй-си
ва 308, 342, 343 ваби 28, 287, 319 — 327,
357, 359, 360, 362 ваби-дзумай 321 Ваджрараджа 74, 162 Вайрочана 99 Вайшали 459
вака 137, 254, 280, 294, 432, 434, 436 васан 35 Васубандху 57 Ватанабэ Кацума 83 Вашингтон 416 Великое учение, см. Дайга- ху
Весны и осени, см. Сюндзу виджня 44 виджняна 275 виджнянаматра 57 виджняптиматра, см. йогача- ра
Вильгельм 197 Вималакирти 457—463 Вималакирти сутра 229, 454, 455 Вордсворт 257, 300, 302 Вэй-мо и,зин, см. Юима кё вэйши 57
вэнь-да 40, 136, 389, 394, 451
Вэнь-сю, см. Манджушри
Ганг 390
ганганадивалука 390 Гандавьюха сутра 58, 461 Ганто Дзэнкацу 450 Гао-цзун 48 Гё, см. Яо ги, см. и Гидо Сюсин 54 гобунсё 35
гогася, см. ганганадивалука
гого 411 Гого-ан 411 Годайго 65, 78 Годоси, см. У Дао-цзы Госо Хоэн 15, 448 Готоба 436 готоку 362 Готтан 71 гохэй 101
Гоцути 376, 378 Гуань-инь 482, 483 Гуд 434 Гунин 141, 445 гун-фу, см. куфу Гуэй-шань Линъ-ю, см. Исан Рэйю гэйко 222
Гэккэн содан 145, 243 гэммё 249
Гэндзё, см. Сюань-цзан гэнь 197 Гэнъэ 54
Да-ань, см. Тайан да-дао 348 Дайгаку 51, 58 Дайдодзи Юсан 81 дайкёку, см. тай-ци
Дайо 306 Дайсю Экай 154 Дайто-кокуси 140, 337
Дайтокудзи 103, 307, 337 356, 430 дайэнкёти, см. адаршанадж- няна дайю 158
Да-мо, см. Бодхидхарма
Дансо
дань-си 267
дао 17, 18, 117, 168, 170 Дао-дэ цзин 19, 267, 342, 343, 479 даосизм 49, 50, 56, 297, 317, 342, 343, 348
дао-сяо см. дайгаку Д арум а, см. Бодхидхарма Да-суй Фа-чжэнь, см. Тайдзуй Хосин Да сюэ, см. Дайгаку Датэ Масамунэ 87, 371, 372 Датэ Тихиро 441 Да-чжу Хуэй-хай, см. Дайсю Экай Дашабхумика сутра 58 да-юн, см. дайю Де Бэри 302 джня 44
дзаку 308, 320, 342, 346— 349
дзакумэцу 154, 155, 320 Дзакусицу 400 дзёдо 35, 71 Дзёо 307 Дзёриндзи 308 Дзёсо 268 Дзёсэцу 22, 38 Дзёсю 42, 43, 319, 349, 448
Дзёсю Дзюсин, см. Дзёсю Дзёфукё Босацу 315 дзи, см. ши дзидзай 11 дзидзи мугэ 178 Дзидзоин 143
дзимму-рю 209 дзин, см. жэнь Дзинно сётоки 65 Дзиттоку 31, 375, 420 Дзиэн 436 дзию И
Дзэнкодзи 466 дзэнтай саю 390 Дипанкара 71 до, см. дао Доан 360
догану, см. дао Дого, см. Тэнно Дого Догэн 310, 311, 382, 407 додзё 143 дока 126
Докё Этан, см. Сёдзю Ронин Дотоку-кё, см. Дао-дэ цзин Ду-шунь 57
Дхарма 76, 258, 423, 448, 460, 463, 469—471 Дхармакая 470 дхармачакра 89 дхьяна 88, 444 дэвы 188 Дэйли 302 Дэнгё-дайси 374 Дэнтороку 45, 162, 328, 329, 331, 390, 443
Дэ-шань, см. Токусан Дютюи 38
ёку мирэба 264 ёмоги 290, 321 Ёса Бусон 281, 283—286 Есай, см. Эйсай Ёсино 435—437, 441 Есино дневник 293 жэнь 118, 197
Записки Лазурной скалы, см. Хэкигансю Земля Будды 311, 423, 462
и,справедливость 118, 197 Ивамуро 414 Идзуми 355 Иккю 307, 322 Имагата Косэн 232 Инари 101 иннэн 394
Иноуэ Тэцудзиро 209 инь 53, 187
Ин-цзун 62
Инь-шэн 295, 296
Инэй 252
и-нянь, см. итинэн
исаги-ёку 95
Исаи Рэйю 403, 443
Исикава Дзёдзан 369
Исикава Ерихира 437
Исса 266
Исэ 260
Итидзё 101
итинэн 167, 236
Итиун, см. Одагири Итиун
Ито Кагэхиса 473
итторю 473
ихори 376
И цзин 52, 197, 480 Иэхара Дзисэн 365 Иэясу 32, 367, 371, 376
йогачара 135
Кагава Дзэндзиро 223, 224 Кадзё-дайси, см. Цзя-сян Да-ши кадзу-гэйко 222
Каи 86, 370 Кайсэн 89 Какэй 36
какэмоно 317, 335, 339, 364,
430
кальпа 443, 444 Камакура 34, 36, 47, 54, 65, 70, 76, 291, 306, 379, 391
Ками-идзуми Исэ-но ками Хидэцуна 135, 143, 144, 192, 205
ками нагара-но мити 261,
418
Камо-но Мабути 437 Кандзан 31, 54, 375, 398, 406, 409, 420 Кандзан си 31 кан-ми 321
Каннон Босацу, см. Авало- китешвара Кано Танню 366—368 Канто 37 кара 144 Карлейль 384 карма 154, 410, 411, 468 каруна 471 каси 360 Касима 135
КатадзимаТакэнори 239 катацуки, см. ундзан ката- цуки «кац!» 74 кашая 144 Кашьяпа 312, 456 кая 471 кё 167, 330 кёгай 330
Кёгоку Анти 362—364 Кёгэн Сикан 288, 331
Кёдзан Эдзаку 403 кёку 293 Кёсё 385
ки, см. ци ки-ин 249 Кикаку 262 Кики 57
Кимура Кюхо 148, 151 Киото 36, 54, 66, 69, 78,145, 362, 368, 378, 392, 424 Китабатакэ Тикафуса 65 Китидзо, см. Цзи-цзан клеша 104
Книга Анналов, см. Шу цзин Книга о чае 339 Книга Перемен, см. И и,зин Книга песен, см. Ши цзин Книга ритуалов, см. Ли цзи ко 197 коан 252
Кобори Энею 364 кодзэн-но ки 476 Коисикава 92 Кокадзи 101
Кокадзи Мунэтика, см. Му- нэтика Кокан Сирэн 54 кокоро 118, 120, 127, 137, 203, 209, 210 кокоро томуна 114 кокоро томэру ИЗ Конкорд 383 кономама, см. татхата Конституция из семнадцати статей 309, 343 Конституция Сингэна 88 конфуцианство 47 сл., 116, 342, 348 Конфуций 51, 53, 61, 312, 481
Корейская война 76, 340 Кофукудзи 143 Кохаку 192 коцунэн нэнки, см. ху-жань нянь ци Коя 76
ку, см. шуньята Кугами 413
Кумараджива 56, 395, 455 кун, см. шуньята Кусуноки Масасигэ 81, 98 Кусуноки Масацура 81 куфу 116,122,125, 176, 202 Куча 395
Куй-цзи, см. Кики кшанти 203, 459 Кьеркегор 17
кэгон 57, 59, 61, 112, 178, 252, 346, 396, 461
Кэгон и,зин, см. Аватамсака сутра, Гандавьюха сутра
кэй 117, 200, 308, 342 Кэйан 52, 53 Кэйдзун 445 кэйко, см. гэйко Кэйсёки 38
Кэндзуцу фусики хэн 148 кэндо 141
Кэнсин, см. Уэсуги Кэнсин Кэнтёдзи 77 кэса, см. кашая Кэсин, см. нирманакая
Лао-цзы 18, 149, 178, 267, 341, 342 Лао-шан 295 Ле-цзы, книга 484 Ле-цзы, мудрец 295—297, 482, 486, 487
ли, причина 60, 61, 111, 112,
127, 478 ли, продвижение 197 ли, собственность 197 Ли Ао, см. Рико Ли Бо 334
Линь-ань 48
Линь-цзи И-сюань, см. Ринд- зай Гигэн Линъ-и,зи лу, см. Риндзай-
року
линь-цзи чань, см. риндзай, школа ли-сюэ, см. ригаку
Ли цзи 53 Локаракша 56 Лу, государство 53 Лу, князь 485 Лу Гэн, см. Рикко лунь, см. шастра
Лунь-юй 51, 318 Лян Кай, см. Рёкай ляо-си 267
Майтрея 458 Макартур 376 Макино Тикасигэ 368 макото, см. чэн
Манджушри 98, 231, 301, 448, 459—462 маннё 413 Манъёсю 369, 370 Марэсукэ, см. Ноги Китэн Масасигэ, см. Кусуноки Масасигэ
Масацура, см. Кусуноки Масацура Махавира, гора 334 Махакашьяпа, см. также Кашьяпа 188 махаяна 155, 246, 315, 346, 454, 459, 470 Ма-цзу Дао-и, см. Басо До- ити мацу 414 Мацусима 291 Ма Юань, см. Баэн ме, см. мэцу
мё 155, 156, 158, 179, 211, 213, 225, 249 Мёсиндзи 54
Мёхо рэнгэ кё, см. Саддхар- мапундарика мёю 155, 158, 159, 161 Мильтон 257 Минамото, _род 70 Минамото Еридзанэ 381 Минамото Еримаса 437, 441
Минамото Есииэ 437 Минамото Санэтомо 306 Минамото Токусю 145, 147 Минатогава 98 Мино 240
мин фэнь 62
Мироку, см. Майтрея
мисай-но итинэн 207
Миямото Мусаси 138, 160
могуса 290
Моккэй 36
моку, см. ромакупа
Момояма 336, 345, 371 Мондзу, см. Манджушри мондо, см. вэнь-да Моей, см. Мэн-цзы МОСИН 123
Мотоори Норинага 67 му, см. у муга 142, 234
Мугаку Согэн, см. Букко- кокуси
мудзусин-кэн 183, 191, 229 мумё 104
мунэн 103, 110, 124, 141, 150, 206, 207, 248, 478
Мунэтика 101, 102 Мурамаса 100, 101 Муромати 34 Мусасино 378, 416 муса-сюгё 143 мусё-бонин, см. анутпатти- ка-дхарма-кшанти мусин, см. мунэн мусин-но син 123, 164 мусо 142
Мусо-кокуси 37, 53 Мусо Сосэки, см. Мусо-кокуси мутэкацу 84 Му-Ци, см. Моккэй мэйбун, см. мин-фэнь
Мэйдзи 67, 209 МЭЙДЗИН 171, 253 Мэйрэки 367 Мэмё, см. Ашвагхоша Мэн-цзы 17, 118, 476 мэцу 347 мяо, см. мё мяо-юн, см. мёю
Набэсима 318 Набэсима Наосигэ 79 Набэсима ронго 318 Нагарджуна 57, 456 Нагасаки Дзиро Такасигэ
95
Нагахама Иносукэ 82 Нагоя 365
надзуна 264, 299—301 Накано Кадзума 318 Накосо 435 на мо сирану 364 Нанбороку 319 нанияра юкаси 298 Нансэн Фуган 395 — 399, 402, 448
Нань-цюань Г1у-юань, см.
Нансэн Фуган Нара, город 142, 392, 455 Нара, период 35, 370 нё, см. татхата Никко 32
нирвана, см. дзакумэцу 422— 425
нирманакая 470 нитирэн, школа 35 Нитэн, см. Миямото Мусаси Но, см. также Ногаку, Угэ- цу, Кокадзи, Яма-уба 101, 379, 463—465 Ногаку 47, 346 Ноги Китэн 376 Ноин Хосси 440 Номура Содзи 365 Ното 91 нуса 101
нюань хэ хэ ди 343 нюдо 90 нюнан-син 311
Огасавара Гэнсин 192, 193,
205
огасавара, школа 308 Огимати 356
Огура Масацунэ 221, 223 Огура Масацунэ дансё 221 Одавара 364
Одагири Итиун 190—195, 199 — 201, 203 — 206, 221, 229, 231, 238,
239
Ода Нобунага 89, 337, 356 Окадзаки Масамунэ 100, 101
Окакура Какудзо 339 Оку-но хосомити 290 омовану 125 омоу 125 Ондзёдзи 365 Осака 239 осё 142 Осуми 53
Ота Докан 375, 376, 378, 379
Отиай Наобуми 438 отэдама 418 офуми 35
Оцука Тэссин 145—147
Пан Цзю-ши, см. Хоко- дзи
Пань-шань Бао-цзи, см. Бан- дзан Ходзаку парамита 325
Передача Светильника, см.
Дэнтороку пинь, см. хин
Плотин 350 Порт-Артур 376 праджня 39, 107 177, 219, 247, 332, 336, 349, 350, 471
праджня неподвижная 104 сл. праджня, школа 44 праджняпарамита 204, 331 Праджняпарамита сутра 56 пранидхана 75 Пробуждение веры 236 пу-са, см. бодхисаттва Пу-ти Да-мо, см. Бодхидхарма
пуэбло 210 Пять канонов 52
Райки, см. Ли цзи ракусу 144
Речения Линь-цзи, см. Рин- дзайроку
рё 363, 365 Рёкай 36
Рёкан 298, 407—418 Рёта 433
рётари, см. ляо-си рёти 200 ри, см. ли
ригаку 346 Рикко 395, 397 Рико 45, 46 Рикю, см. Сэн-но Рикю Ринан 87, 88
Риндзай Гигэн 9, 13, 14, 74, 162, 389 риндзай, школа 54 Риндзайроку 13, 390 Ри Рюмин, см. Ли Лун- мянь
Рихаку, см. Ли Бо родзи 317, 319, 345, 359, 361 Родэн 116 ромакупа 461 рон, см. шастра Ронго см. Лунь-юй ронин 216 Роси, см. Лао-цзы рударэ 336 рэй, см. ли рэнга 294, 321 Рэнгэкё, см. Саддхармапун- дарика Рэннё 35 Рюко 145—147
саби 30, 287, 320 — 322, 327, 332, 359, 361, 366 саби-сиори 142 Сабуродзаэмон 94 Сага 79
Садарапарибхута, см. Дзё- фукё Босацу Саддхармапундарика сутра 57
Сайгё ИЗ, 142, 291, 293, 361, 370, 379—382, 384, 415, 438—440 Сайто Еситацу 240 Сакавада Масатоси 441
Сакаи, город 355, 362 Сакаи, река 466 сакэ 334, 337, 434 самадхи 89, 252, 256 Самантабхадра 448 самбодхи, см. сатори самбхогакая 471 саммай, см. самадхи самьяк-самбодхи 459 сангха 8
Санин си, см. Кандзан си Санкасю 113
Санрай си, см. Кандзан си санрон, см. саньлунь сансара 154, 219 Сань-инь или, см. Кандзан си Сань-лай или, см. Кандзан си
саньлунь 57, 346 сань-мэй, см. самадхи сатори 11, 16, 22, 24, 104, 205, 232, 246—253, 482 сатори, животное 129 Сацума 52, 53 сё 119
сёгун 79, 190 Сёдзан 329, 330 сёдзи 335
Сёдзю Ронин 231—233 Сёкё, см. Шу цзин Сёку Западный 445 Сёкэн 473, 474, 480
сёмон, см. шравака Сётоку Тайси 309, 311, 343, 455
Сёфукудзи 277 Сига 440 сидзин 235 Сикё, см. Ши и,зин Сики 264 Сикэ, см. Сэккаку Симадзу, семья 53, 76 Симадзу Есихиро 76
Симадзу Ниссинсай 53, 76 симбу-рю, см. дзимму-рю симмё-кэн 177, 182 син, см. шэнь син, школа 35 синаи 234, 244 Синано 466 сингон 35, 70, 71 Сингэн, см. Такэда Сингэн синдзин 235 синкагэ-рю 134 сл., 192 Синкокинсю 436 Синобадзу 216 синсай 167
синтоизм 66, 67, 99, 109, 342
синь, см. кокоро синь-чжай, см. синсай синъин 249 Сиракава 290 Сиро 94, 95
Сити цуган, см. Цзы-чжи Тун-и,зянъ Соги 293 Содзё 395 Содзё Хэндзё 280 Содзи, см. Чжуан-цзы Сонкю 237
сономама, см. татхата Сонси, см. Сунь-цзы Сосин 19, 22 Сосэй 435 Сотан 324, 366 сото 382, 407 Стаддерт-Кеннеди 303 Субхути 457 сударэ 336 Судхана 301 Суй 57
суки 121, 123, 159, 160, 167, 178, 206, 213 Сумеру 461 Сумида 190 сумиэ 31, 45, 430 Сун 47—50, 62, 386 Сун Северная 48 Сун -шань, см. Сёдзан Сун Южная 48—50, 55, 63, 64
Сунь-цзы 149 сутра 454
сутэтэ сутэну кокоро 164 Сыма Гуан 62 сэй 308, 342
сэйган 222 сэйган-гэйко 222 сэйсин 209
Сэйсэцу 348, 349, 352 Сэкиун, см. Хария Сэкиун Сэккаку 116 Сэнгай 277 Сэндай 87, 371 Сэн-но Рикю 162, 293, 307,
316, 318, 320, 324,
338—341 Сэнсом 96, 387, 397, 398, 400
Сэн-чжао, см. Содзё Сэссю 38, 293, 438 Сэттё Дзукэн 42, 334, 385, 442, 446, 449, 450
сю, см. кё
сюань-мяо, см. гэммё Сюань-цзан 57 Сюбодай, см. Субхути Сюбун 38 сюгё 176 Сюдзан 444
сюдзи-сюри-кэн 181, 183, 184
Сю Кайан, см. Чжу Хуэй- ань, Чжу-цзы Сюки, см. Чжу Си Сюко 307, 322 Сюмицу, см. Цзун-ми Сюндзан 142
Сюндзу 52, 61 сюри-кэн, см. сюдзи-сюри- кэн
Сюси, см. Чжу Си, Чжу-цзы сю-син, см. сюгё Сю Тонъи, см. Чжоу Дунь-и Сюхо Мёхо, см. Дайто-ко- куси
Сю-шань, см. Сюдзан Сюэ-доу Чжун-сянь, см.
Сэттё Ся Гуэй, см. Какэй Сякамуни, см. Шакьямуни Сяку, см. Сабуродзаэмон Сяку Синсакон Нюдо 93 сяко 444
Сян-янь Чжи-сянь, см. Кё- гэн Сикан
тай, см. татхата
Тайа 181, 186 —188 Тайан 443
Тайдзуй, см. Тайдзуй Хосин I айдзуй Хосин 353, 443 — 445
Тайра, род 70 Тайра-но Таданори 440, 441 тай сюй 60 Тайхэйки 93 тай-цзи 60, 199 1 акано Сигэёси 233, 235 Такано Хиромаса 141 Гакуан 89, 103, 104, 120—
127, 150, 164, 168, 169, 181, 187, 190, 226, 228, 311 такусу 329, 330 Такэда Сингэн 85, 86, 88— 93
Тан 154, 231, 395, 398, 442, 445
тантари, см. дань-си
тантэки 200 танэмура 367 Тасиро Матадзаэмон 318 татами 28, 356 татикири-гэйко 222 татхата 23, 44, 237, 261, 388, 458, 470 Тёдэнсу 38, 424, 425 Тёкан, см. Чэн-гуань Тёкэй Эрё 328 Теннисон 300, 396 Тё Окё, см. Чжан Хэн- цюй
Тёся Кэйсин 402, 403 Тиги, см. Чжи-и Тигон, см. Чжи-янь Тиё 253—255, 270, 278— 280, 427 тикуто 234
Тинь-линь сы, см. Дзёрин-
ДЗИ
тобикому 276 Тода Сэйгэн 239—242 Тодзан, см. Дун-шань Тодзун, см. Ду-шунь Тоётоми Хидэёси 315, 316, 338 — 341, 356 — 359, 364, 371, 437 Токайдзи 103 Токайдо 369
Токиёри, см. Ходзё Токиёри
Токимунэ, см. Ходзё Токимунэ
Токио 190, 215, 365, 435 токонома 317, 335, 364 Токугава, династия 54, 66, 70, 168, 215, 281, 345, 369, 428 Токугава Иэмицу 79, 103, 164, 190 Токугава Иэясу, см. Иэясу томарану кокоро 164, 178 томару 105
Тонго нюмон рон 154
тори кэри 266
Торо 382, 384 Тоса 215
Тосоцу, см. Тушита Тосу 40—42, 45 Тосу Дай до, см. Тосу Тосусан 445 Тосэн 443
Тоу-цзы Да-тун, см. Тосу Дайдо
Toy Цзы-шань, см. Тосусан Тофукудзи 142, 193, 424 Тушита 458 тэй, см. чжэнь Тэй Исэн, см. Чэн И-цюань Тэй Ко, см. Чэн Хао Тэй Мэйдо, см. Чэн Мин- дао
тэмари 416, 418 Тэмпё 35
тэндай 35, 57, 70, 71, 346, 374
Тэнно Дого 19, 22 тэнрай, см. тянь-лай тэнри, см. тянь-ли Тэнтоку 433 тэнугуи 218 тэра-ири 76 тэракоя 52
Тэрутора, см. Уэсуги Кэн- син
тэссин-рю 145 Тюган Энгэцу 54 Тюё 51
тя-но ю 32, 307, 311—313,
330, 360 тянь-лай 255 тянь-ли 60 тяньтай, см. тэндай Тянь-хуан Дао-у, см. Тэнно Дого
У,император 153 у, ничто 56 у, см. сатори У-ань, см. Готтан Угэи,у 379, 406 У Дао-цзы 422 Уитмен 417 у-мин, см. авидья Уммон Монъэн 389 Умэдзу 239—242 ундзан катацуки 362, 367 у-нянь, см. мунэн упадхьяя, см. осё у пая 471
упаякаушалья, см. хобэн у-син, пять элементов 313 усин-но син 123 У-сюэ Цзу-юань, см. Бук- ко-кокуси ута, см. вака у-хуа 286 у-цзи 60
У-цзу Фа-янь, см. Госо Хо- эн
уцуру 114
Учение о Срединном, см. Тюё Уэйли 267 Уэно 216
Уэсуги Кэнсин 85—88, 214
фа, см. Дхарма фа-линь, см. дхармачакра фан-синь, см. хосин Фа-цзан 57
фа-шэнь, см. Дхармакая фаэна 132, 133 фуга 293
Фугэн Босацу, см. Саман- табхадра Фудайси 231 Фу Да-ши, см. Фудайси Фудзивара Есифуса 437
Фудзивара Иэтака 31 Фудзивара Садайэ 30, 333, 436
Фудзивара Сэйка 66 Фудзивара Тосинари 436 Фудзияма 291, 368—373, 375, 376, 406, 421 фудокоро 416
Фудо Мёо, см. Ачалавидья- раджа
фудо-симмё-ти, см. праджня неподвижная фудосин 165 Фукагава 382 Фукоси 186 Фукуи Кюдзо 168 Фукусю 443 Фу Кю, см. Фудайси Фумаи 366 фуни, см. адвайта фурабо 293
фурю 92, 153, 293, 366, 436
Фуси, см. Фудайси фусики 153 фути 153
Фу-чжоу, см. Фукусю Фуюки 365, 366 Фэн Ху-цзы, см. Фукоси фэнь 286
Хагакурэ 79, 82, 83, 318
хаги 260, 261
хайку 245 сл., 427—429, 432—434
хакама 218 хаканаки 265 Хаката 277 Хакуин 231 хакутаку 189, 190 Ханадзонэ 54, 78 хання, см. праджня
хання-харамита, см. прадж- няпарамита
Хань 48, 56 Хань-шань, см. Кандзан Хань-шань или, см. Кандзан си
хао-жань цзи ци, см. код- зэн-но ки хаори 218 хаппо бираки 160 Хария Сэкиун 190—195, 205, 229
Харунобу, см. также Такэда Сингэн Хатта Томонори 438 Хаяси Радзан 66 Херригель 134 Хёго 98 хи, см. каруна
Хидэёси, см. Тоётоми Хи- дэёси хин 331 хинаяна 11 Хиросава 130 Хиросигэ 372 Хиэй 373, 374
Хо, дзэнский мастер, см.
Хокодзи хо, см. Дхарма «хо!», см. кац Хобэн 456 Ходжсон 302
Ходзё, династия 36, 70, 71, 364, 391 Ходзё Такатоки 93, 95 Ходзё Токиёри 36, 71, 72, 391, 392 Ходзё Токимунэ 36, 72— 77, 229, 391, 392 Ходзё Ясутоки 71, 392 Ходзо, см. Фа-цзан Ходзоин 252, 253 хоко 192
Хоко, гора 443 Хокодзи 23, 136, 165, 329, 330
хонрай-но мэммоку 235
хонсин 123, 235
Хори Кинтаю 148, 150, 151
хорин, см. дхармачакра
Хорюдзи 445
хосин, см. самбхогакая
хосин 118
Хосокава 424
Хоссин, см. Дхармакая
хоссу 146
хототогису 254
Хотэй 420
Хофуку Дзутэн 328
Хуай 48
хуа-шэнь, см. нирманакая хуаянь, см. кэгон ху-жань нянь ци 236 Хун -жэнь, см. Гунин Хуэй-вэнь 57 Хуэй-нэн, см. Эно ХуэЙ-СЫ 57 хэ, гармония 343 «хэ», см. «кац»
Хэйан 35
хэйдзё син 164, 165 Хэйдзуцу ёкун 209 Хэкиганроку, см. Хэкигансю Хэкигансю 14, 42, 153, 353, 385, 389, 395, 402, 443, 447 хэн 119 хэн, см. ко хэнамуси 379 Хэнкэйси 237 Хюга 53
Хякудзё синги 308 Хякудзё Экай 14, 308, 334, 447, 449, 452, 453 Хякума Яма-уба 465, 467, 469, 472 цзи, см. дзаку
цзи, см. чжи
цзин, см. кэй
цзин, см. сутра
цзин-ай, см. кёгай
цзинту, см. дзёдо
цзин-цзиэ, см. кёгай
Цзин-цзунь, см. Кэйдзун
Цзин-цин Дао-фу, см. Кёсё
цзин-шэнь, см. сэйсин
Цзи Син-цзы 486
цзи-цзан 57
Цзун-ми 59
Цзы-сы 51
цзы-цзай, см. дзидзай Цзы-чжи тун-цзянъ 62 цзы-ю, см. дзию Цзэн-цзы 312
Цзя-сян Да-ши, см. Цзи- цзан
ЦИ 60, 61, 167, 179, 185, 475, 483, 485 Цин 485, 486 Ци-юнь, см. киин Цукахара Бокудэн 20, 82— 85
Цукуси 74
Цюань-дэн лу, см. Дэнтороку Чанъань 395
Чан-цин Хуэй-лин, см. Тёкэй Эрё ча-ча
Чан-ша Цзин-цэнь, см. Тёся Кэйсин Чжан Хэн-цюй 59 Чжао, семья 48 Чжао-чжоу Цун-шэнь, см.
Дзёсю Дзусин чжи, см. дзаку чжи, мудрость 197 чжи-жэнь, см. сидзин
Чжи-и 57
чжи-мо, см. татхата Чжи-янь 57 Чжоу, династия 53 Чжоу Дунь-и 59 Чжуан-цзы, книга 167, 237, 285, 297, 395, 482 сл. Чжуан-цзы, мудрец 99, 167, 267, 278, 285, 294, 296, 297, 482
Чжун юн, см. Тюё Чжу Си 51, 55, 59, 61—66 Чжу Хуэй-ань, см. Чжу Си Чжу-цзы, см. Чжу Си чжэ-гэ, см. сяко чжэнь, см. син чжэнь, сохранение 197, 297 чжэнь-жэнь, см. сидзин
Чистая Земля 35, 440, 466 читтагочара 330 Чун-синь, см. Сосин чунь ци 483, 485 Чунь цю, см. Сюндзу чэн, искренность 60, 200 Чэн-гуань 59 Чэн И-цюань 59 Чэн Мин-дао 59, 63, 308 Чэн Хао, см. Чэн Мин-дао
Шакьямуни, см. Будда шанта 320 шанти 320
Шарипутра 459—461 шастра 15 ши 112
Ши-дэ, см. Дзиттоку ши-мо, см. татхата Ши цзин 52 шравака 459—461 Шу 445 Шунь 53, 64
шунья, пустота 61 шуньята 44, 56, 131, 160, 167, 203, 219, 227, 332, 384, 388, 394, 446 Шу цзин 52 Шу-чжоу, см. Дзёсю шэнь, дух 489 Шэнь-цзун, император 62 шэнь-юнь, см. синъ-ин
Эгути 114 Эдо, см. Токио Эйгэндзи 400 Эйзенхауэр 376 Эйсай 69, 306 экаграта 207, 256 Экикё, см. И цзин Экио 87
Экхарт 327, 329, 332, 352 Элиот, Томас Стерн 14 Элиот, Чарльз 96, 386 Эмерсон 236, 351, 384 Эмон, см. Хуэй-вэнь Энгакудзи 72, 75, 230 Энго Букка 442, 443, 446, 447, 449, 450, 454 Эно 124,141,178, 445, 446 Энтэй 443 Эриндзи 89 Эси, см. Хуэй-сы Этиго 86, 298, 407, 466 Эттю 91, 466
ю 155
юань, см. гэнь Юань, династия 127, 442 Юань-у Фо-гуо, см. Энго Букка югэн 250
Юима, см. Вималакирти Юима кё, см. Вималакирти сутра
юисики, см. вэйши юн, см. ю Юнг 210
Юнь-мэнь Вэнь-янь, см. Ум мон Монъэн ю-сюань, см. югэн
явараги 309
Ягю Тадзима-но ками Му- нэнори 79, 80, 103, 104,
127, 138, 150, 164— 169, 171, 173, 174, 176— 178, 180—183, 185, 190, 191, 221, 226—228, 239, 243, 244, 484 Якусан Игэн 45, 46
Ямабэ-но Акахито 369 Ямамото Дзётё 318 Яма-но ути 215 Ямаока Тэссю 220—222, 224, 372 Яма-уба 463—473 ян 53, 187
Ян-шань Хуэй-цзи, см. Кё- дзан Эдзаку Янь-тин, см. Энтэй Янь-тоу Цюань-хуо, см. Ган- то Дзэнкацу Яо 53, 64
Яо-шань Вэй-янь, см. Якусан Игэн Ясутоки, см. Ходзё Ясуто- ки
Известный японский буддолог Дайсэцу Тэйтаро Судзуки (1870-1966) приглашает читателя погрузиться в мир причудливой японской культуры.
Своеобразие этой культуры во многом связано с долгим и плодотворным влиянием на нее дзэн-буддизма. Излагая тему одновременно и в качестве представителя японской ментальности, и с позиций светского последователя дзэн, автор умело описывает и анализирует творческий вклад этой школы буддизма в японскую духовную культуру, а именно в фехтование и чайную церемонию, поэзию и драму, живопись и изучение конфуцианства. Он объясняет, почему учение дзэн оказалось созвучным принципам самурайского сословия, а также показывает, какие особенности японского национального духа проявились под влиянием дзэн.
** В Опустошенной земле (The Waste Land) (V. 359— 365) Т. С. Элиот дает такое описание скорби апостолов после Голгофы:
Кто этот третий, который всегда идет рядом с тобой?
Когда я считаю, то нахожу лишь себя да тебя.
Но когда я гляжу вперед на белую дорогу,
То всегда ощущаю, что кто-то еще идет рядом с тобой.
Неслышно, закутанный в бурую накидку,
Я не знаю, мужчина это или женщина.
Но кто же это, по другую сторону от тебя?
Элиот отмечает в своих записках, что эти строки были ему навеяны отчетом об антарктической экспедиции: «У измотанных до предела полярников имелась постоянная иллюзия, будто среди них находился еще один человек, которого даже можно было бы вычислить» (Complete Poems and Plays.
P. 48, 54).
Эта идея третьего лица весьма показательна. Можно ли ее принять за иллюзорную проекцию риндзаевского «истинного человека», которая объективизируется у индивида, когда он физически измотан? Впрочем, наверное, это было бы слишком смелым допущением.
*Идея о том, что и друзья, и враги, когда они умерли, требуют равного к себе уважительного отношения, исконно буддийская: буддизм учит, что мы все обладаем одной и той же природой Будды. Пока мы живем в этом мире обособленности, мы можем придерживаться разнообразных условностей и принципов; но эти противоречия исчезают, когда мы переходим в мир трансцендентальной мудрости. С точки зрения самураев, идея лояльности и искренности более важна, чем все остальное. Враги столь же верны своим принципам, как мы верны своим, и это чувство, если оно искреннее, следует ува
** Общение Датэ Масамунэ со своим дзэнским монахом- наставником произошло в такой манере. Масамунэ, чьи стихи о горе Фудзи цитируются на стр. 371 и сл., был горячим сторонником дзэн. Он захотел получить хорошего настоятеля для дзэнского храма, где находились гробницы его предков, и ему рекомендовали некоего монаха, который пребывал в каком-то незначительном деревенском храме. Пожелав проверить его способности, он пригласил монаха в свой замок в Сэндай. Монах, его звали Ринан, принял приглашение и в назначенный день прибыл в город. Он был сразу проведен в резиденцию Масамунэ. Когда он прошел длинный коридор, ему сообщили, что господин ожидает его в одной из соседних комнат. Монах открыл дверь, вошел в комнату, но там никого не оказалось. Пройдя через нее, он вышел в следующую комнату. И опять никто его не встретил. Чувствуя что-то неладное, он прошел еще дальше. Когда он открыл очередную дверь, Масамунэ неожиданно приветствовал его обнаженным мечом, которым, казалось, он был готов зарубить монаха на месте, и
*Мёю (мяо-юн по-китайски), или дайю (да-юн), или просто мё, — достаточно сложное слово для понимания западными людьми. Это некое художественное качество, которое, впрочем, можно увидеть не только в произведениях искусства, но и вообще во всем в природе или в жизни. Меч в руках фехтовальщика приобретает это качество, когда он не просто демонстрирует технические навыки, которым терпеливо обучается под руководством хорошего наставника. Мё — это нечто исконное, творческое, вырастающее из нашего бессознательного. Руки могут действовать в соответствии с техникой, которой обучают каждого ученика, но когда техника, схематизированная и универсальная, управляется опытной рукой, то появляется и особая спонтанность, и личное творчество. Мё может относиться и к действиям разумных существ, и к инстинктивным действиям различных животных, скажем, когда птица-бородач строит гнездо, паук ткет свою паутину, осы или муравьи воздвигают свои сооружения под карнизами или под землей. Все это — чудеса природы. Фактически вся вселенная — чудесная проекция гениального ума, и мы, люди, являясь одним из прекрасных ее достижений, напрягаем свой интеллект с момента пробуждения сознания на земле. Во всех повседневных вещах природа показывает непостижимое и неистощимое мёю. Пробуждение сознания стало великим космологическим событием в истории эволюции. Мы, прагматично применяя его, способны проникнуть в тайны природы и воспользоваться ими, чтобы те служили нашему образу жизни. В то же время, по всей вероятности, мы утратили многое из того, чем могли бы наслаждаться и что природа довольно щедро даровала нам. Функция человеческого сознания, как я понимаю ее, состоит во все более и более глубоком погружении в собственные истоки, в бессознательное. А бессознательное имеет совокупность различных слоев: биологического, психологического, метафизического. Одна нить тянется сквозь них, и дзэнская дисциплина состоит в удержании ее во всей цельности, тогда как другие искусства, например фехтование или чайная церемония, ведут нас к пониманию сравнительно частных аспектов этой нити.
Суки, как уже говорилось, означает «пространство между двумя объектами» или «щель, расщепление, трещину в каком-то твердом объекте». Когда непрерывность нарушена и начинают возникать трещины, то случается суки. Когда напряжение ослабевает, возникают некоторые признаки вялости,
*На следующих страницах я привожу собранные в одно целое отрывки из текста Ягю, безотносительно к разделам, для того чтобы представить философию фехтования Ягю так, как я понимаю это. Оригинал текста чересчур длинен, он изобилует трудной терминологией, далекой от современных реалий, и вряд ли стоило бы его переводить целиком на какой-нибудь индоевропейский язык. Любой перевод подобной литературы неизбежно становится интерпретацией, смешанной с идеями, на которых основывается переводчик. Главным образом по этой причине я не пытался отделять слова Ягю от своих. В результате они безнадежно перемешаны. Надеюсь, что однажды кто-нибудь по
** Хакутаку (бай-и,зе по-китайски) — это мифическое существо, тело которого похоже на руку, а голова — человеческая. В древности верили, что это существо поедает наши скверные сны и плохие переживания, и по этой причине люди,
*Сначала в практических целях использовался деревянный меч, позже он был заменен бамбуковым. Бамбук расщепляется на планки, которые связываются друг с другом и удер
*Югэн — двусложное слово, каждая его часть, то есть ю и гэн, означает «облачную непроницаемость», а их комбинация обозначает «темноту», «непознаваемость», «тайну», «за пределами рациональности», но не «полную тьму». Подобный объект не подвержен ни диалектическому анализу, ни четкому определению. Он совершенно не предстает перед нашим чувственным интеллектом как «то» или «это», что, впрочем, не означает, будто он вообще не может быть достигнут. Факти
** Какэмоно — это свисающий со стены и украшающий угол свиток, на котором запечатлены живописные образы или каллиграфически выполненные иероглифы.
*Бодхисаттва Авалокитешвара.
*Есииэ из клана Минамото был великим воином, особенно искусным в стрельбе из лука и в понимании фурю. Когда он разбил силы Абэ Садато в его Крепости Одежд, он послал ему такое стихотворение:
Ах, ваша Крепость Одежд Наконец-то превращена в лохмотья!
Не смутившись таким выпадам, Садато немедленно ответил:
Какая жалость!
От долгого ношения
Одежда обтрепалась.
** Один из составителей Синкокинсю. Это новое собрание песен вака, содержащее наилучшие образцы жанра времен экс-императора Готоба, было издано в 1205 г. под личным руководством экс-императора.
*О его интересе к чайному искусству см. стр. 338 И 356 В разделах об искусстве чая.
1
Данная сентенция скорее характеризует субъективное авторское восприятие дзэн, чем описывает реальное положение вещей. Особенно не характерны его установки для раннего дзэн VI—VII вв., который даже называли «школой Ланки», указывая тем самым на значение, которое имела для данной школы Ланкаватара сутра, один из авторитетнейших махаянских текстов. Тщательно изучались в дзэн и другие буддийские сутры и трактаты, а рецитация Сутры Сердца Праджняпарамиты стала на определенном этапе распространенной литургической практикой в дзэнских монастырях. — Прим. пер.
2
Эпизод из Речений Линь-цзи.
3
Хэкигансю («Записки Лазурной скалы»), случай 53. Более полное объяснение этой книги см. стр. 442, прим.
4
Шастра — философский трактат.
5
Речения Госо Хоэна.
6
Когда имя не отрывается — как мы обычно делаем — от вещи, с которой оно неразрывно связано, имя есть вещь, а вещь есть имя. Они абсолютно тождественны друг другу. И тем самым как только «имя» произнесено, вещь, то есть все, «управляется», причем не в абстрактном состоянии, а в своей «искренности» и конкретности.
7
Дао-дэ цзин, 21. [Перевод текста с китайского на английский язык сделал сам Судзуки. — Прим. пер.]
8
Может, это был Цукахара Бокудэн (1490 —1572), расцвет деятельности которого падает на эпоху Асикага? Я не припомню, где именно читал эту историю, и в настоящее время не имею под рукой источников, чтобы подтвердить свою догадку.
9
Начеку (лат.). — Прим. пер.
10
Коно есть «это», соно — «то», а мама — «то, что есть». Коно-мама, или соно-мама, таким образом, соответствует санскритской татхате, «таковости», и китайскому чжи-мо, или ши-мо.
11
У автора — isness, буквально — «есть-ность». Другой возможный перевод этого термина — «этость», «тако- вость». — Прим. пер.
12
Написав все это, я чувствую определенное беспокойство, что читатели могут не понять значение дзэн в наши дни. В сегодняшней жизни видна тенденция к окончательной механизации, не оставляющей ничего, что могло бы стать достойным человеческого существования. Два отрывка из Хэкигансю (Записки Лазурной скалы) и один отрывок из Юима кё (Вималакирти сутра) составляют первую часть Приложений. Тем, кто пожелает изучать дзэн-буддизм дальше, лучше обратиться к соответствующим работам автора данной книги.
13
О похожей картине см. мои Zen Essays. III. P. 310. Аналогичные замечания см. на стр. 22 настоящего издания.
14
Фудзивара Садайэ (1162 —1241).
15
Дзэнские поэты-отшельники, жившие в эпоху династии Тан. До наших дней дошел сборник их стихотворений, носящий название Кандзан си (Хань-шань ши), или Санрай си (Сань-лай ши), или Санин си (Санъ-инь ши). Образы этих двух приятелей, Кандзана и Дзиттоку, были излюбленной темой дальневосточных художников. Есть что-то в их облике запредельно свободное, что привлекает наше внимание даже в нашу современную эпоху. Мы приводим две серии типичных картин на тему танских поэтов-отшельников.
16
Фудзивара Иэтака (1158—1237).
17
Georges Duthuit. Chinese Mysticism and Modern Painting. — Прим. пер.
18
СР. текст Такуана о «Неподвижной праджне», стр. 104 и сл.
19
Это и следующие мондо взяты из Хэкигансю, случай 79.
Сэттё (Сюэ-доу, 980—1052), один из великих дзэн- ских наставников Сун, стал известен своим литературным талантом. Сборник Хэкигансю основан на «Ста случаях» Сэттё, которые он отобрал из различных анналов дзэн. Для дальнейшей информации см. стр. 442, прим.
Согласно жизнеописаниям, едва появившись на свет, бу- дущий Будда сделал несколько шагов и произнес эти слова. — Прим. пер.
Автор имеет в виду махаянскую школу мадхьямака. — Прим. пер.
Дэнтороку (Передача Светильника), 14.
20
Отрывок из пьесы театра Но Яма-уба приводится в Приложении II.
«Четыре Книги» таковы: 1) Дайгаку (Да сюэ), «Великое учение»; 2) Тюё (Чжун юн), «Учение о Срединном»; 3) Рон го (Лу нъ юй), «Изречения Конфуция»; 4) Моей (Мэн-цзы), «Труды Мэн-цзы». «Великое Учение» и «Учение о Срединном» изначально содержались в «Записях о ритуалах» (Ли цзи), одной из пяти канонических книг (см. след, прим.). Они приписываются Цзы-сы, внуку Конфуция, и содержат сущность учения Конфуция. В таком статусе их впервые приняли сунские ученые, один из которых, Чжу Си (1130—1200), написал к ним комментарии. «Изречения Конфуция», составленные учениками после его смерти, содержат речи наставника, случаи из его жизни, его разговоры с учениками и т. д. Мэн-цзы (372—289 гг. до н. э.), один из самых выдающихся проповедников конфуцианства раннего периода, был ярким и глубоким мыслителем своего времени.
«Пятикнижие» выглядит так: 1) Экикё (И и,зин), «Книга Перемен»; 2) Сикё (Ши и,зин), «Книга песен»; 3) Сёкё (Шу и,зин), «Книга Анналов»; 4) Сюндзу (Чунь и,ю), «Вес
21
ны и осени»; 5) Райки (Ли и,зи), «Записи ритуалов». «Книга Перемен» — очень странный и загадочный текст. Считается, что в нем выражен древнекитайский способ мысли, основанный на дуалистических принципах инь (женское) и ян (мужское). Эта книга также содержит десять истолкований, приписываемых Конфуцию. «Книга песен» — это сборник народных песен, а также гимнов, исполнявшихся по официальным случаям, циркулировавших примерно с XV до III в. до н. э. «Книга Анналов» — нечто вроде трактата по политической истории, ведущей свое начало от эпох Яо (легендарного императора, правившего с 2357 по 2255 г. до н. э.) и Шуня (2255— 2205 гг. до н. э.) до династии Чжоу (1122—255 гг. до н. э.). «Весны и осени» — еще один источник по политической истории, впервые составленный историками государства Лу, пересмотренный Конфуцием и законченный в 478 г. до н. э. «Записи ритуалов» содержат описание ритуалов, имевших хождение от конца династии Чжоу до 140 г. до н. э. «Записи» в дошедшем до нас варианте состоят из 47 разделов, куда входят «Великое учение», «Учение о срединном» и другие тексты.
22
Первый китайский перевод фрагментов этого важного махаянского текста был завершен в 179 г. н. э. Локаракшей, выходцем из Древней Бактрии (ныне Северный Афганистан), который прибыл в Лоян, Китай, в 147 г.
23
См. выше, прим. на стр. 51.
24
У цзи — «беспредельное», тай цзи — «великий пре дел», тай сюй — «великая пустота». — Прим. пер.
25
Эта фундаментальная политическая история Китая была составлена по приказу императора Ин-цзуна из Сунской династии. Сыма Гуан (1019 —1086) вместе со своими сотрудниками потратил на составление этого произведения девятнадцать лет исключительно упорного труда. Император Шэнь-цзун, наследник Ин-цзуна, был чрезвычайно доволен книгой и лично выбрал название для нее: Цзы-чжи тун- цзянь (яп. — Сити цуган), что можно примерно перевести как «Царственное руководство для успешного правительства».
26
Бакуфу — правительство сегуна, обладавшее в то время реальной властью в Японии. — Прим. пер.
Д. Судзуки
27
Правильнее произносить это имя, как мне сообщили, «Ёсай».
28
Выражение «кац!» на современном китайском произносится как «хэ!». В Японии, когда его произносят последователи дзэн, оно звучит как «кац!» или «квац!». Первоначально это было бессмысленным словом. После того как его впервые использовал Басо Доити (Ма-цзу Дао-и, умер в 788 г.), благодаря которому, можно сказать, дзэн и начал интенсивно развиваться в Китае, этот крик очень часто применялся дзэн- скими мастерами. Риндзай отличает четыре вида «кац!»: 1) иногда «кац!» подобен мечу Ваджрараджи; 2) иногда — льву, припадающему к земле; 3) иногда он подобен звучащему столбу или связке густой травы; 4) иногда он вообще ни на что не похож. Здесь следует объяснить третий вид «кац!». Согласно комментатору, полая трубка используется взломщиком, чтобы узнать, есть ли кто в доме или нет, тогда как связка травы применяется рыболовом, для того чтобы приманить рыбу. Для дзэн самым важным среди этих четырех «кац!» является четвертый, когда крик перестает служить каким бы то ни было целям, хорошим или плохим, практическим или непрактическим. Некто заметил, что Риндзай с его проницательностью пропускает пятый «кац!», и затем обращается к нам: «Вы знаете, что это такое? Если знаете, дайте мне его». См. ниже, стр. 162, прим.
29
жать, где бы и когда бы оно ни проявлялось. Известен один памятник, посвященный духам друзей и врагов. Семейство Симадзу воздвигло огромный каменный монумент на горе Коя для всех, кто пал во время Корейской войны 1591—1598 гг. Этот факт, без сомнения, был связан с духовным влиянием Симадзу Ниссинсая (1492— 1568), который являлся одним из величайших ученых-аристократов в феодальную эпоху. Интересно отметить, что Симадзу Есихиро, один из внуков Ниссинсая, установил для своих провинившихся подчиненных оригинальную форму наказания, которая называется тэ- ра-ири, «вхождение в буддийский монастырь». Ослушники, находясь в монастыре, должны были заниматься изучением конфуцианских текстов под личным присмотром главного монаха. Когда они достигали прогресса в понимании классики, им возвращали первоначальную свободу.
30
Текст в двух томах был опубликован в Токио в 1937 г.
31
Ср. раздел V, где упоминается письмо дзэнского мастера Такуана Ягю Тадзима-но ками о «Неподвижной праджне», стр. 104 и сл. Это письмо — примечательный документ, ибо оно устанавливает определенную связь между дзэн и искусством меча.
32
Солевой голод был вызван в сингэновской провинции Каи вот почему. Каи окружена горами, и ее жителям запасы соли приходилось пополнять из южного района, примыкавшего к Тихому океану. Но Сингэн был не в ладах с феодальными правителями, управлявшими этим районом, так что те ухитрились пресечь поставки соли в Каи. Уэсуги Кэнсин из Этиго, который также находился в состоянии войны с Сингэ- ном, прослышал об этом и был очень возмущен трусливой позицией военных князей с Тихоокеанского побережья. Он считал, что любая борьба между ними должна вестись на честной основе, то есть на поле боя. Потом он написал Сингэну и спросил, согласится ли тот принять столь нужный ему продукт из Этиго. Сингэн высоко оценил великодушие своего щедрого противника с Севера.
33
Zen Essays. I. P. 187.
34
произнес: «Что вы скажете в этот момент жизни и смерти?» Ринан, похоже, вовсе не испугался столь необычному приему со стороны своего господина. Не теряя времени на промедление, он поднырнул под меч, схватил Масамунэ за пояс и резко встряхнул его. И тогда великий бог войны, господин всех северо-восточных провинций Японии воскликнул: «Какую опасную шутку вы придумали!» Отпустив его, монах резко возразил: «Что за чванливый тип!»
В старые времена много таких встреч происходило между дзэнскими монахами и феодальными господами, хотевшими лично, в реалистической манере испытать монахов с точки зрения их отношения к практике дхьяны и понимания дзэн. Будучи воинами, которым приходилось сталкиваться со смертью в любой момент, даже, на первый взгляд, в мирной домашней жизни, они должны были быть искушенными в этом практическим образом, а не схоластически. Они не нуждались в так называемой философии и религии, они хотели только некоего практического руководства, дававшего немедленный эффект в их профессиональной жизни. Дзэн давал им именно то, в чем они испытывали необходимость.
35
Буквально «вступившие на путь», то есть на духовный путь, в буддийскую жизнь.
36
У японцев любовь к вишням в цвету, похоже, является второй природой. Некогда, во времена Токугава, томилась в заключении в тюрьме Коисикава некая женщина. Ее должны были казнить весной. Она привыкла смотреть в окно и наблюдать за вишневым деревом; ей хотелось увидеть, как оно будет цвести. Когда приговор был объявлен, она настойчиво пожелала посмотреть на цветущее дерево до своего окончательного расставания с этим миром. Тюремщик оказался человеком добросердечным, понимавшим фурю, и обещал, что выполнит ее последнюю волю. Говорят, что женщина встретила смерть в самом радостном расположении духа. Вишню потом назвали ее именем — Асацума.
37
Эта цитата либо из книги сэра Джорджа Сэнсома по Японии или из книги по буддизму уже умершего Чарльза Элиота. Возможно, впрочем, что я почерпнул ее в одной из тех бесед, которые вел с доктором Элиотом при его жизни, когда он часто заезжал в Киото (см. ниже, стр. 386).
38
Буквально «Отрежь две головы, и пусть один меч стоит одиноко, вперившись в небо!»
39
Или гохэй. Это пара бумажных фигурок, которые символически предлагают синтоистским божествам.
40
Такуан (1573—1645) был вначале настоятелем Дайто- кудзи в Киото. Третий сёгун, Токугава Иэмицу, пригласил его прибыть в Токио и стать настоятелем выстроенного Иэмицу огромного дзэнского храма Токайдзи.
41
Ягю Тадзима-но ками Мунэнори принадлежал к славной семье фехтовальщиков, расцвет которой пришелся на раннюю эпоху Токугава. Тадзима-но ками был учителем Иэми- Цу, а сам изучал дзэн под руководством Такуана.
42
Буддизм махаяны иногда выделяет пятьдесят две ступени, ведущие к высшему просветлению (самбодхи). «Неведение» (авидья) может быть понято как первая из этих ступеней. «Аффекты» (клеша) суть аффективные препятствия, которые сопровождают тех, кто находится на этой ступени. По -японски «неведение» называется мумё, а «аффекты» — бонно.
43
Здесь и далее текст в квадратных скобках принадлежит Судзуки. — Прим. пер.
44
Ср. с притчей о «деревянном петухе» из Чжуан-цзы в Приложении V, стр. 486.
45
Мне не нравится этот термин в данном контексте, поскольку он имеет какой-то неприятный привкус. В японском оригинале стоит ри (ли по-китайски). Обычно это слово означает «нечто трансцендентальное», «нечто находящееся вне конкретной действительности» и относится к внутреннему, сверхчувственному характеру вещей.
46
На японском все предложение читается так: Тада ис- син-но сутпэ ё нитпэ соро, буквально «все зависит от того, насколько человек сможет отбросить свое сознание». В этом случае «сознание» есть не «одно абсолютное сознание», но «сознание, которым обычно наделен человек», то есть «сознание неведения и аффектов, которое останавливается на объекте или на возможном опыте и которое отказывается возвращаться к своему исконному состоянию текучести, или пустот - ности, или отсутствия ума».
47
Ри (ли) и дзи (ши) — термины, очень часто используемые в философии кэгон. Дзи — отдельный объект, событие, а ри — универсальный принцип. До тех пор пока они не связаны друг с другом, жизнь лишена своей свободы и спонтанности, и человеку не удается стать хозяином самого себя. Говоря на языке психологии, должно произойти бессознательное вламывание в поле сознания, когда сознание теряет себя, ставит себя под контроль бессознательного. С точки зрения религии, это умирание своего «я» и жизнь во Христе или, как сказал бы Бунан-дзэндзи, «жить в виде мертвеца». В случае с фехтовальщиком: он должен освободиться от всех идей, имеющих отношение к жизни и смерти, приобретениям и утратам,
48
Такуан использует здесь термин уцуру, который мы переводим как «остановиться», «остановка». Уцуру — синоним кокоро томэру. Буквально он означает «пассивное стремление, переход от одной вещи к другой», или «внимание кого-либо, остановленное объектом, перенесенное на него и оставшееся там».
49
Куфу было объяснено в другом месте. Это вовсе не состояние абстрактного мышления, но состояние, когда все тело вовлекается в процесс мысли и участвует в решении проблемы. Типичным здесь выглядит «Мыслитель» Родена. Японцы часто говорят: «живот спрашивает», или «живот думает», или «живот видит, или слышит». Это и есть куфу. Голова не связана с телом, но живот, в котором находится целая система внутренних органов, символизирует целостность индивидуальной личности.
Мне кажется, полезно было бы сравнить «Мыслителя» Родена с медитирующим дзэнским мастером, изображенным Сэккаку. Оба героя глубоко задумались о чем-то таком, что представляет высший интерес или значимость. Но фигура Родена, по-моему, находится на уровне относительности и рассуждения, тогда как восточный мастер в чем-то уже уходит с него. Также следует заметить разницу в позе, принятой каждым из двух «мыслителей». Один сидит на приподнятом сиденье, другой же восседает на земле. Первый меньше контактирует с землей, чем второй. Дзэнский «мыслитель» как бы укоренен в основу всех вещей, и каждая мысль, которая у него может появиться, непосредственно связана с тем источником бытия, из которого мы все происходим. Подняться с земли даже на одну ногу означает отторжение, отделение, абстрагирование, уход в царство анализа и различения. Восточный способ сидения состоит в сведении корней к центру земли и осознавании великого источника, в котором и пребывают наши «откуда» и «куда».
50
Кэй — по-японски, цзин — по-китайски. Конфуцианские ученые, особенно те, что жили при Сун, считают, что чувство почтительности имеет огромное значение для развития успеха в изучении дао (Пути). Но дзэнские монахи полагают, что почтительность не является высшей целью практики. Она подходит для начинающих.
51
Хосин — по-японски, фан-синь — по-китайски. Хо (фан) означает «свободный и не встречающий преград», «стремящийся неудержимо», «уходящий беспрепятственно», «утраченный», «отпущенный». Мэн-цзы (книга VI, «Гао -цзы») говорит, что жэнъ («любовь») есть человеческий ум («сердце») и что и («справедливость») — это человеческий путь. Жаль, что люди оставляют свой путь и не следуют ему, что люди отпускают ум и не ищут его. Выпуская цыплят или собак, они знают, что должны найти их, но отпуская ум, они не знают, что должны искать его. Путь образования и заключается в том, чтобы найти сердце, которому они позволили уйти. Кокоро означает и ум, и сердце, и интеллект, и чувство; в философском смысле часто используется как субъект, субстанция и душа. Когда в этом письме Такуана упоминается слово «ум», его всегда следует понимать в познавательном смысле.
52
Следующие несколько параграфов состоят главным образом из отрывков из письма Такуана, которое мы перифразировали на современный манер, чтобы оно стало более ясным для читателей. Оригинальные тексты Такуана и наши объяснительные вставки могут вызвать некоторую путаницу в умах читателей. Но мы просим их быть более снисходительными, ведь тщательное чтение может быть вознаграждено не только пониманием отношения психологии фехтовальщика к дзэнской метафизике, но и прояснением некоторых аспектов психологии, которые обычно затрагиваются при изучении искусства Востока.
53
Суки буквально означает любое пространство между двумя объектами, куда может поместиться что-то еще. Психологическое, или ментальное, суки возникает тогда, когда состояние напряжения ослабевает. Более подробные замечания на эту тему см. в разделе «Дзэн и искусство фехтования», II, стр. 159, 160, прим.
54
Мусин (у-синь), или мунэн (у-нянь), — один из самых важных принципов дзэн. Он соответствует состоянию невинности, которое ощущали обитатели сада Эдема, или даже разуму Господа, когда тот готовился произнести свое «Да будет свет!» Эно (Хуэй-нэн), шестой патриарх дзэн, определяет мунэн (мусин) как самое существенное в изучении дзэн. Когда это состояние обретается, человек становится адептом дзэн, и, как сказал бы Такуан, именно таким адептом является совершенный фехтовальщик.
55
«Думать» по-японски — омоу. Это слово означает не только «думать», но и «вспоминать», «стремиться», «любить» и т. д. Оно имеет и интеллектуальное, и эмоциональное значение. Это слово — чуть ли не общий термин для всего того, что входит в человеческий ум. Поэтому «не думать» (омова- ну) означает сохранять ум совершенно пустым от всех содержаний, находиться в чистом состоянии пустоты, которое есть мусин, или мунэн.
56
«The Making of a Bullfighter», tr. Leslie Charteris.
57
Курсив мой. Вера здесь — это сам абсолют, соответствующий тому, что я называю бессознательным.
(Слово фаэна, о котором говорится чуть ниже, означает «последнюю ступень боя, заканчивающуюся убийством».)
58
Есть другое стихотворение того же автора и на ту же тему:
Никакой мишени не поставлено.
Никакой лук не согнут.
Но стрела летит с тетивы:
Она может не поразить,
Но она не промахнется!
Именно об этом состоянии ныне покойный профессор Ойген Херригель, автор книги «Дзэн в искусстве стрельбы из лука» (Zen in the Art of Archery), пытался узнать у своего мастера.
59
Санскритское адаршана джняна — одно из четырех видов знания (джняна), выработанных в буддийской школе йогачара, или виджняптиматра. Это общее фундаментальное поэтическое качество сознания, которое здесь сравнивается с отражающим качеством зеркала.
60
Эту и предыдущую вака ср. со стихотворением Эмерсона «Брахма», которое целиком приводится на стр. 236—237.
61
Dasein (нем.) в немецкой философии — конкретное, наличное бытие, здесь-бытие. — Прим. пер.
62
En-soi (фр.) — буквально «в себе», нечто пребывающее в себе, для себя. — Прим. пер.
63
Я имею в виду разновидность стихотворения из 31 слога, которая называется ута, или вака.
64
Эти стихи взяты из книги, озаглавленной (в переводе) «Собрание работ по фехтованию на мечах» (Будзуцу сосё.
Токио, 1925).
65
То есть «остановился».
66
То есть в прежнее эгоистическое «я» человека.
67
Как известно, Хуэй-нэн (Эно), шестой патриарх дзэн в Китае, занимался именно этой повседневной работой (толок рис), когда учился под руководством своего наставника Хун -жэня (Гунин).
68
Такано Хиромаса.
69
Этот предмет носили с собой дзэнские священники. Обычно его использовали для того, чтобы отгонять комаров; он состоит из короткой палки с прикрепленным к нему пучком конского хвоста.
70
Кэндзуцу фусики хэн («Неизвестное в искусстве фехтования на мечах») — небольшой трактат по фехтованию, составленный Кимура Кюхо в 1768 г. Кимура был учеником Хори. В своей книге он описывает диалог мастера с неким посетителем. Рукопись была опубликована в 1925 г.
71
При встрече Бодхидхармы с императором У из династии Лян последний спросил: «В чем состоит высшая святая истина?» Дхарма ответил: «Это сама пустота, и в ней нет ничего святого». — «Кто же тогда тот, кто стоит передо мной?» — «Я не знаю (фусики, бу-или)\» (Хэкигансю, или «Записки Лазурной скалы», часть 1, случай 1).
72
Экай был одним из учеников Басо Доити. Следующее мондо взято из его работы Тонго нюмон рон, «Трактат о достижении внезапного просветления».
73
Мё (мяо по-китайски) есть «нечто за пределами аналитического понимания»; ю (юн) — его «движение», или «деятельность». Более полное объяснение приводится в следующем параграфе.
Автор имеет в виду место из Нового Завета: «Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее» (Мф 10 : 39). — Прим. пер.
74
то есть суки. Говоря языком Такуана, суки соответствует «остановке». В фехтовании это дает преимущество врагу, который всегда готов не упустить счастливого случая. На одном из автопортретов Миямото Мусаси, великого фехтовальщика и художника XVII в., его поза вроде бы указывает на то, что он полон суки, но его глаза остаются широко открытыми, чтобы не позволить врагу воспользоваться суки, в реальности чисто внешним. Изрядная духовная практика требуется фехтовальщику, для того чтобы достичь такой ступени, верно названной «открытой на все стороны» (хаппо бираки).
75
Мф 26 : 42. — Прим. пер.
Ч Д. Судзуки
76
«Не мир пришел Я принести, но меч» (Мф 10 : 34). — Прим. пер.
77
Рикю, или Сэн-но Рикю, был великим мастером чая. См. главы «Дзэн и искусство чая» и «Рикю и другие последователи искусства чая».
78
Риндзай Гигэн (Линь-цзи И-сюань, умер в 867 г.) различает четыре вида звука «кац!» (хэ по-китайски), один из них похож на священный меч Ваджрараджи, который разрезает и уничтожает все противоположности, появляющиеся перед ним. См. выше, стр. 74, прим.
79
Бандзан (VIII в.) в одной из своих проповедей сравнивает бесцельную активность дзэн с размахиванием меча в воздухе. Дэнтороку («Передача Светильника»), часть 7.
80
См. ниже, стр. 184, 482 и СЛ.
81
Отрывок из Чжуан-цзы, IV. Ср. с переводом Giles.
Р. 43.
82
Это соответствует буддийской идее илуньяты, то есть пустоты (кун), но сю, в том смысле, как его понимают Лао-цзы, Чжуан-цзы и другие даосы, все же сохраняет остаток относительности, поэтому им не удается ухватить всей глубины понимания шунъяты махаянской метафизики.
83
Трактат был написан в 1632 г. для сыновей автора. С тех пор он передавался из поколения в поколение в рукописной форме как секретный документ, который запрещено было давать посторонним. В 1937 г. доктор Фукуи Кюдзо сделал ряд подобных рукописей доступными для широкой публики. Они были написаны главным образом феодальными князьями и другими выдающимися деятелями, жившими во времена режима Токугава, и циркулировали в узких кругах. Разумеется, рукопись Ягю о фехтовании показывает влияние Такуана, его дзэнского учителя.
84
старается специально написать о том, что можно назвать психологией дзэн, проявлявшейся в различных областях искусства по мере его распространения на Дальнем Востоке.
85
См. мои Studies in Zen. P. 85 ff.
12 Д. Судзуки
86
«Текучесть» — важное восточное понятие. Эно (Ху- эй-нэн), шестой патриарх китайского чань, утверждает, что дао всегда должно течь беспрепятственно. И фехтовальщику советуют не «останавливать» разум в каком-либо месте, но пребывать в состоянии непрерывной подвижности — чтобы меч мог мгновенно поражать противника, едва тот проявит малейшие признаки слабости (суки). Это томарану кокоро («неостанавливающийся ум»), то есть «текучесть». В философии кэгон она известна как «реальность в ее аспекте дзидзи мугэ» (ср. мою работу The Essence of Buddhism. P. 48 ff.). Дзидзи мугэ можно понимать как метафизическое соответствие психологическому состоянию — томарану кокоро.
87
Полный перевод такуановского «Меча 1 айа» приводится ниже в этом же разделе.
88
Veni, vidi, vici (лат.) — «пришел, увидел, победил», слова Юлия Цезаря, сказанные им после победы над боспорским царем Фарнаком в 47 г. до н. э. — Прим. пер.
89
Это соответствует современной концепции «космического бессознательного», которое может быть понято в смысле алаявиджняны (по-японски араясики), трансформировавшейся в адаршанаджняну, «зеркальную мудрость» (по-японски дайэнкёти).
90
Это сравнение могут не понять те читатели, которые никогда не представляли, что можно трансформировать самих себя в куклы из дерева, глины или другого материала. Идея здесь такая: наше сознание, которое обычно переполнено мыслями, чувствами и тому подобным, способно успешно и мгновенно решать проблемы жизни и смерти, и наилучший метод справиться с ситуацией — это очистить поле сознания от всякого ненужного хлама и обратить сознание в автомат в руках бессознательного. См. также Чжуан-цзы, Приложение V, 3.
91
Тайа — один из трех мечей, которые носил с собой Фу- коси (Фэн Ху-цзы) по приказу императора древнекитайского царства Чу. Этот меч известен своими прекрасными качествами и является синонимом идеального меча.
92
Выражение «„ты” и „я” не видят друг друга», согласно комментатору, означает, что до тех пор пока человек находится в царстве реальности, он не замечает никаких противоположностей, потому что небо и земля, начала инь (женское) и ян (мужское) не противостоят друг другу. Идея Такуана состоит в том, что сражающийся человек не должен придерживаться мыслей о «я» и «не-я», потому что, когда подобные мысли присутствуют в его уме, его движения являются причиной раздвоенности и помех и в бою он наверняка проиграет.
93
Почитаемый миром — эпитет Будды Шакьямуни, Ма- хакашьяпа — один из его ближайших учеников. Упомянутый автором случай относится к легендарным истокам дзэнской традиции, освящающей передачу учения вне слов и знаков. — Прим. пер.
94
Упоминание «одного» или «трех» не имеет особого значения, если речь заходит о числах. Это намек на быстроту, с которой дзэнский мастер или фехтовальщик обнаруживают малейшее движение, сделанное со стороны того, кто стоит перед ним, будь то монах или другой фехтовальщик. Мастер заявляет: «Если вы произнесете хоть слово, я дам вам тридцать ударов палкой. Если вы не произнесете слов, будет то же самое — тридцать ударов палкой. Говорите, говорите!» Какой-то монах выходит вперед, но, когда он собирается поклониться мастеру, тот его бьет. Монах протестует: «Я не произнес ни слова. К чему этот удар?» Мастер отвечает: «Если бы я дождался, когда ты заговоришь, стало бы уже слишком поздно».
95
желавшие, чтобы оно съело все несчастья, которые заставляют их страдать, часто вешали его изображение на входные ворота или внутри дома. Такуан здесь имеет в виду, что хакутаку из всего, что мы знаем, может съедать все плохое, но в то же время это означает, что мы, сознавая присутствие мифического существа, фактически приглашаем прийти в наш дом плохие вещи. Лучше не иметь вокруг ничего такого, что связано со злом, ибо сама мысль о зле подталкивает нас ко злу. «Лучше не делать даже хороших дел». Добро и зло взаимодополняемы, и когда мы приглашаем одно, другое наверняка последует за ним.
96
Ай-нукэ — очень важный термин в философии фехтования Итиуна, означающий взаимное избегание убийства. Он противоположен ай-ути, взаимному стремлению к убийству. Подробнее см. ниже, стр. 194.
97
«Не-обитель», или «не-пребывание» (в буддийском смысле), на санскрите — апратиштха. Это слово тождественно «пустотности» (шуньята), а иногда «непривязан- ности» (анабхинивеша). Буквально оно означает «не иметь никакого дома там, где можно поселиться»; его реальное значение — «поселиться там, где нельзя селиться». Это своеобразный парадокс, с точки зрения нашей обыденной логики. Но буддисты могут сказать нам, что жизнь больше, чем логика, и что логика должна согласовываться с жизнью, для того чтобы быть логичной, а не жизнь должна приноравливаться к логике только ради самой логики. Когда это — то, что философ может назвать «абсурдностью», — фактически понято в нашей повседневной жизни, мы реализуем «пребывание, где нет пребывания». Фехтовальщику также требуется достичь этого состояния в своем искусстве.
98
Ниже следует авторская интерпретация идей Итиуна, которая часто перемежается словами самого Итиуна.
99
Я взял эти термины из английского перевода И цзина, или «Книги Перемен», одного из пяти классических китайских произведений. Этот текст был переведен на английский Кэри Ф. Бэйнсом с немецкого перевода Рихарда Вильгельма.
100
«Психическое» в данном случае не имеет отношения к экстрасенсорным явлениям. Сюда входит все, что не является материальным или физиологическим. Слово «ментальное» также относится к психологии, а «духовное» имеет некоторый теологический оттенок. Я бы использовал понятие псюхе для передачи японского термина кокоро, или сэйсин. Кокоро — очень глубокий термин. Прежде всего он означает физическое «сердце», а потом уже и истинное «сердце» (эмоционально-волевое начало), «ум» (интеллектуальное начало), «душу» (в смысле одушевляющего принципа) и «дух» (метафизическое начало). Для фехтовальщика кокоро имеет, скорее, кона- тивный смысл; это воля в ее глубинном значении.
Д. Судзуки
101
Автор уже выделил выше два вида кокоро: один — это физическое «сердце», а другой — истинное «сердце». Сердце, подверженное эмоциональности, относится к первому типу. Когда оно удерживается в точке пониже пупка, то становится неподвижным. Если этого не происходит, все навыки, которыми может овладеть фехтовальщик, бесполезны. К. Г. Юнг (в «Основных психологических концепциях», выпущенных в виде пяти лекций мимеографическим способом под эгидой Института медицинской психологии в Лондоне в 1935 г.) пишет: «Индейцы пуэбло говорили мне, что все американцы безумны. Я, конечно, был этому удивлен и спросил, почему. Они ответили: „Ну, они говорят, что думают при помощи головы. Ни один нормальный человек не думает головой. Мы думаем сердцем”. Они похожи на героев гомеровского века, когда область диафрагмы считалась местом психической активности». (Я признателен доктору Герхарду Адлеру за информацию).
102
См. выше, стр. 159, прим. Это слово означает пробел в концентрации, когда благодаря вторжению мешающей идеи или чувства напряжение ослабевает.
103
В эпоху феодализма у чайного мастера имелось особое одеяние, и он не носил с собой оружие. Но мне все-таки не совсем понятно, почему этому мастеру пришлось менять свое обычное облачение на одежду самурая.
104
Ронин — это самурай, который в силу различных причин утратил связь со своим господином. Термин «ронин» в чем-то схож с понятием «наемник».
105
Огура Масацунэ Дансё (Tokyo: Koko-an, 1955).
106
Татикири означает «сохранять стойкость».
107
Кадзу есть «число», «множество».
108
Я парафразирую.
См. выше, стр. 108, 167.
109
Монгольская династия (1260—1367), которая вторглась в Китай и сместила Сунскую династию.
110
Следующая далее история взята из книги Имагита Косэ- на (1817—1893) Жизнь Сёдзю Ронина. Сначала она была опубликована самостоятельно, а потом вставлена в Собрание трудов Хакуина и дзэнских мастеров, близких к нему (Токио, 1935).
111
живаются кусками кожи. Четыре хорошо выделанные бамбуковые полосы образуют неплохое синаи (буквально «уступчивый»), или тикуто (буквально «бамбук-меч»). Эссе было опубликовано в популярном журнале Бунгэй сюндзу («Литературные анналы», июль, 1956).
Ашвагхоша — великий индийский философ махаяны. Текст был переведен мной с китайского на английский.
112
Речь идет о Пробуждении веры в махаяну (Махаяна шраддхотпада шастра), однако авторство Ашвагхоши (жившего в I —II вв. н. э.) современные буддологи отрицают. По всей видимости, этот текст был создан в Китае примерно в V в., а затем переведен с китайского на санскрит. — Прим. пер.
113
Цит. по: Американская поэзия XIX—XX вв. в русских переводах. М., 1983. С. 119 («Брахма», перевод М. Зенкевича). «Священных Семь» — семь святых мудрецов индийской мифологии. — Прим. пер.
114
Приведенная история взята из книги Буби вакун, написанной Катадзима Такэнори, который жил в Осака в начале XVIII в. Эта книга, опубликованная в 1717 г., содержит общие нравственные предписания для самурая.
115
Иначе говоря, меч Умэдзу был примерно 106,6 см в длину. а меч Сэйгэна — 38,1 см. — Прим. пер.
Д. Судзуки
116
«Интуиция» имеет различные смысловые оттенки. С онтологической точки зрения, самое главное ее качество — непосредственный контакт с реальностью. Человеческий разум обычно переполнен всевозможными идеями и концепциями. Когда человек видит какой-нибудь цветок, к этому смотрению примешиваются различные ассоциации, аналитические мысли, так что цветок не предстает в своей таковости. Таковость можно уловить, когда благодаря интуиции-праджне видят, что «цветок красный, а ива зеленая». Более подробное изложение этой темы см. в моих Исследованиях дзэн (Studies in Zen) в разделе «Разум и интуиция в буддийской философии».
Впрочем, недавно я пришел к мысли, что для того опыта, о котором говорит дзэн, слово «чувство» — более подходящий термин, чем «интуиция»; я имею в виду «чувство» в его наиболее глубинном смысле, а не то «чувство», которое обычно выделяют психологи, отличая его от других форм деятельности сознания. Переживание, которое имеет человеческое сознание, когда оно отождествляется с целокупностью вещей или когда конечное начинает сознавать бесконечное, пребывающее в нем, — это переживание есть первейшее чувство, лежащее в основе всех известных нам видов психической деятельности. Все-таки понятие «интуиция» еще содержит в себе некий интеллектуальный оттенок.
117
чески он переживается нами, но тем не менее мы не способны увидеть его в ярком дневном свете объективности, публичности. Это «что-то» мы чувствуем в самих себе, и все же это объект, о котором можно вести разговор, объект, понятный только тем, кто испытывал подобные переживания. Он скрыт за облаками, однако не выпадает совсем из поля зрения, поскольку мы чувствуем его присутствие, его тайное сообщение, переданное через тьму, какой бы непроницаемой она ни казалась интеллекту. Это ощущение «всего во всем». Действительно, облачность, или темнота, или неопределенность характерны для этого чувства. Но было бы большой ошибкой принимать облачность за то, что не имеет опытной ценности, что лишено смысла для нашей повседневной жизни. Нам следует помнить, что реальность, или источник всех вещей, — качество, непонятное человеческому разумению, но мы можем прочувствовать его самым непосредственным образом.
118
Вака, или ута, состоит из тридцати одного слога (5 + 7 + 5 + 7 + 7) и тем самым она длиннее хайку (здесь семнадцать слогов: 5 + 7 + 5). Следовательно, у поэта здесь больше простора для описания объектов или своих переживаний.
119
См. Исх 3: 14: «Бог сказал Моисею: „Я есмь Сущий (Иегова)”». — Прим. пер.
17 Д. Судзуки
120
R. Н. Blyth. Haiku. I. P. 270 ff.
121
В себе, для себя (фр.). — Прим. пер.
122
Хаги — это клевер (Lespedeza striata), он цветет ранней осенью. Это растение очень ценят японцы, особенно поэты, работающие в стиле хайку и вака.
123
См.: History of Philosophy Eastern and Western / Eds S. Radhakrishnan et al. I. P. 596 ff. (Chap. XXV «Japanese thought»).
124
Один из «десяти учеников» Басё.
125
Доктор Блис в своем Haiku. I. Р. 289.
126
Еккл 1: 3. — Прим. пер.
127
Есть ряд англоязычных переводов Дао-дэ цзина. На мой взгляд, перевод Артура Уэйли — один из лучших. Следующее ниже взято из его перевода главы двадцатой, где от первого лица описывается идеальный человек, «человек дао»: «Поистине все люди расплываются в улыбке (си-си)... Я же отдаюсь на волю судьбы (чэн-чэн), как будто ни к чему не отношусь. Мой ум похож на ум дурня, таким пустым (дунь-дунь) я выгляжу... Они выглядят живыми и самоуверенными (ча-ча); я один подавлен (мэнъ-мэнь). Я нигде не покоюсь (дань-си), как океан; меня бросает, словно щепку (ляо-cu), без остановки».
Китайский язык может быть выражен не иначе как иероглифически. В этих неуклюжих, но, на мой взгляд, очень выразительных словах-знаках китайская ментальность запечатлена самым глубоким образом. Китайские мысли и ощущения и эти идеограммы неразделимы. Впрочем, английский переводчик не перевел две последние строки правильно. У Лао-цзы идея такая: «Я безмятежен, как океан, я подвижен, как ветер».
128
Haiku. III. Р. 195—196.
129
«Ах» здесь передает японское слово я. Это слово довольно часто является важным элементом в хайку, когда акцент всего стихотворения ставится именно на данном элементе. Но в настоящем хайку «я» не играет такой весомой роли, как в других случаях, например у Тиё в «Асагао я!», «старый пруд» здесь указывает на место, где произведен «звук». Ведь самое значительное в хайку Басё — это сам «звук», как я и пытаюсь объяснить в тексте.
130
Ин 8: 58. — Прим. пер.
131
См. выше. С. 254.
132
Это устройство было в ходу уже в Древнем Китае во времена Чжуан-цзы (ок. 369—286 гг. до н. э.), оно все еще применяется в некоторых частях Японии, так же как и в Египте, откуда и его название, если верить словарю.
133
Лк 9: 24: «Кто хочет душу свою спасти, тот погубит ее; кто же погубит душу свою ради Меня, тот и спасет ее». См. также: Мф 10: 39. — Прим. пер.
134
Ср. стихи Кёгэна о нищете, которые приводятся на стр. 288.
Выражение «солнце и луна» подразумевает время, и все предложение означает, что «время летит с нами в своей колеснице».
135
Дневник Есино.
136
Фу — ветер, ра — тонкая ткань, а бо — монах. В целом это слово означает «старого монаха, который путешествует, порхая словно тонкий кусочек ткани, колеблемый ветром».
137
Буквально «безумная фраза», синоним хайку.
138
Вака — японское стихотворение, состоящее из тридцати одного слога. Рэнга — это форма из нескольких вака, объединенных в одно целое.
139
Taoist Teachings from the Book of Lieh Tzu, tr. Lionel Giles. P. 39—42. Незначительные изменения были внесены в текст мной. — д. с.
140
Книга I.
141
В оригинале термин, обозначающий «вечную причину», — это чжэнь, что значит «состояние вещей как они есть»: огонь горит, вода течет, ветер дует, камень падает, пар поднимается и т. п.
142
Все, что следует ниже, взято из Masterpieces of Religious Verses / Ed. James D. Morrison. P. 19—21. (Первые три процитированных поэта — Анна Банстон де Бэри, Эдит Дэйли и Ральф Ходжсон).
143
Он вернулся из Китая в 1267 г.
144
Бай-чжан Хуэй-хай (720—814) — великий мастер эпо хи Тан.
145
Ср. прим. к стр. 343.
146
The Saddharmapundarika Sutra, tr. H. Kern. P. 356.
147
Накано Кадзума в Хагакурэ. Хагакурэ буквально означает «то, что скрыто под листьями», то есть «незаметная практика доброты», или «не быть как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах останавливаться молиться» (Мф 6: 5). Этот текст содержит мудрые поучения Ямамото Дзётё, дзэнского философа-отшельника, своему ученику Тасиро Ма- тадзаэмону; оба они жили на землях своего господина Набэ- сима. Текст состоит из одиннадцати частей, составленных между 1710 и 1716 гг. Эта книга также известна как Набэси- ма ронго, написанная в подражание конфуциевым Изречениям (Ронго).
148
Это старый китайский мастер дзэн, известный своим изречением: «Угощайтесь чашкой чая». См. мое Introduction to Zen Buddhism, p. 80, а также стр. 43 данного издания.
149
На самом деле Омиками — это богиня солнца в японской мифологии, но писатель, по-видимому, понимает ее как мужское божество, которое он, презрев временные рамки, увязывает с искусством чая.
150
В следующем разделе я коснусь тех же самых сюжетов, но с несколько иной точки зрения. Это переработка лекции, прочитанной в 1954 г. группе иностранных жителей Иокогамы. Надеюсь, она поможет сделать более ясными моменты, на которые я обратил внимание в данном разделе.
151
Жадность, гнев и глупость.
152
Дэнтороку (Передача Светильника), гл. 19 «Хофуку». Эта книга никогда не переводилась на другие языки.
153
Meister Eckhart / Ed. Pfeiffer. Sermon 96, p. 311.
154
Что-то напоминающее блюдце, но сделанное из дерева и с подставкой. Эта история описана в Дэнтороку, случай 8.
155
Иначе говоря, это структура, или основа, сознания, определяющая всякую психическую активность, которая приобретает общую окраску или тональность самой структуры. Это соответствует тому, что известно в буддийской психологии как читтагочара («ментальное, или сознательное, поле»). По-китайски это цзин-цзиэ, или цзин-ай (по-япон- ски кёгай), или просто цзин (кё).
156
Дэнтороку, случай И.
157
См. выше, стр. 320 и сл., относительно различного использования этих двух важных терминов.
158
Пер. Evans. I. Р. 122, 123.
159
Пер. Blakney. Р. 230.
160
Токонома — это разновидность ниши, занимающей угол комнаты, где вывешивается какэмоно. Главный гость сидит перед этим почетным местом.
161
Данный санскритский термин обычно переводят как «запредельная мудрость». Это разновидность интуитивного знания в его самом глубоком смысле. Когда оно пробуждено, человек приобретает опыт просветления, который образует сердцевину буддийской философии.
162
Это стихотворение, написанное на китайском, доставило немало трудностей последователям Рикю, желавшим правильно понять его. Среди прочего оно содержит цитату из одного китайского источника (последние три строки), который сам по себе не очень ясен. Я привел свой перевод текста «Рикю и другие последователи искусства чая» ниже, на стр. 357. Читателю будет интересно узнать, что девять лет спустя (1598 г.) самому Хидэёси привелось умереть в разгар Корейской кампании, и его лебединой песней стало следующее стихотворение:
Словно выпавшая капля росы,
Словно сгинувшая капля росы —
Увы, такова моя жизнь!
Что до дел в Нанива,
Это сон во сне!
163
Дао-дэ цзин, 42.
164
■к*ГГ
ам же, jj.
165
Ср. стр. 309. Годы жизни Сётоку Тайси — 574—622. «Конституция» состоит из семнадцати статей, основанных на буддийской и конфуцианской этике и философии. Она открывается с утверждения о гармонии. Китайский иероглиф для слова «гармония» (хэ) также означает «мягкость» (жуань хэ хэ ди), как это уже объяснялось на стр. 309. Помимо этого он означает «теплоту» (нюань хэ хэ ди). Человек, которого овевает мягкий теплый успокаивающий весенний ветерок, должен испытывать подобные чувства и в чайной комнате. В каком бы смысле составителем Конституции ни истолковывалась в а (или хэ), нет сомнения, что идея любителей чая относительно ва заключается в том, чтобы создать в комнате мягкую, нежную, успокаивающую, уютную атмосферу, удаляющую все высокомерное, индивидуальное, эгоистичное, столь характерное для современной японской молодежи.
166
Дао-дэ цзин, 49.
167
Plotinus, tr. Stephen MacKenna. VI. 9, 11.
168
Бхагавадгита, XVIII. 17 [цит. по: Бхагавадгита / Пер. с санскрита В. С. Семенцова. М., 1999. С. 89. — Прим. пер.].
169
Meister Eckhart, tr. Evans. I. P. 247—248. 352
170
Хэкигансю (Записки Лазурной скалы), случай 29, «Тайдзуй Хосин о вселенной». См. также Приложение I.
171
Версию Окакура, которая, очевидно, основывалась на ином тексте, см. выше, стр. 340.
172
Автор приводит японскую меру веса в английском эквиваленте. Лоуд — английская мера веса, чуть больше одного кубометра. — Прим. пер.
173
На нынешний день почти 30 тысяч долларов. [Н а начало 60-х годов XX в. — Прим. пер.]
174
Исикава Дзёдзан (1583 —1672).
175
Стихотворение Ямабэ-но Акахито (умер около 736 г.) из Манъёсю, или Собрания мириад листьев.
176
Цит. по: Манъёсю. Избранное. Пер. А. Е. Глускиной. М., 1987. С. 44. — Прим. пер.
177
Автор неизвестен (Манъёсю, V, III), он также относится к периоду Нара. Перевод на английский сделан Асатаро Миямото.
178
Он оставил свой след в японской истории еще и тем, что отправил посольство к Папе Римскому в 1613 г.
179
Возможно, это стихотворение не является оригинальным стихотворением Тэссю. Но я помню, что оно мне попадалось в его бесчисленных каллиграфических работах. Будучи по роду занятий поэтом, он был также и одним из великих фехтовальщиков того времени. Глубоко изучив дзэн, он применил свое понимание к искусству фехтования. См. также стр. 220 и сл.
180
СР. мою статью «Значение природы в дзэн-буддизме» в Studies in Zen, p. 176 ff.
181
Недавно (в 1956 г.) одно из зданий («зал для проповедей»), входящих в общий ансамбль, было сожжено каким-то негодяем. Это безвозвратная потеря не только для последователей тэндай, но и для культурной истории Японии. Подобный инцидент — один из отрицательных примеров, отражающих дух бессмысленного вандализма.
182
Хань-шань, безумствующий монах времен Танской династии. Он всегда появлялся в компании с Дзиттоку (Ши-дэ) и оставил множество стихотворений.
183
Подчас я думаю, писал ли когда-нибудь стихи тот или иной западный полководец? Например, если взять недавние времена, можно ли себе представить, чтобы генерал Макартур или генерал Эйзенхауэр оставили бы стихотворение, посетив один из разрушенных бомбами городов? А вот генерал Ноги, воевавший в русско-японскую войну, после великой битвы под Порт-Артуром, в которой он потерял двух сыновей, написал на китайском языке такое произведение:
Какими высохшими и безутешными они выглядят — горы и реки, деревья и травы.
184
Я не знаю точно, что значит это слово. Вероятно, это жаргонное словечко, которое использовали в XV в. воины в Японии. Возможно, оно означает «нечто незначительное».
185
У Сайгё есть и другое стихотворение на схожую тему: Хижина течет, когда идет дождь,
И я промокаю;
Я думаю о дружеском посещении луны.
186
Автор — Минамото-но Еридзанэ, живший в XIII в.
187
Буквально «дверь для дождя». Японский дом почти не имеет окон, как это принято на Западе. Все это — двери, скользящие двери, которые служат для разделения на комнаты, пропускают свет, защищают дом от дождя, снега, ветра и т. п. Амадо находится за пределами скользящих дверей, которые закрываются регулярно по ночам или когда погода холодна.
188
Из Хэкигансю («Записки Лазурной скалы»), случай 46.
189
Традиционно у Будды тело золотого цвета, высотой в шестнадцать футов.
190
Хэкигансю, случай 39.
191
Дэнтороку (Передача Светильника), часть 27. Имя учителя пропущено.
192
Речения Риндзая Гигэна. Риндзай Гигэн (Линь-цзи И-сюань, умер в 867 г.) был одним из величайших дзэнских наставников Танской эпохи, и его речения, известные как Риндзайроку (Линь-цзи лу), относятся к высшим образцам дзэнской литературы.
193
Нань-цюань (748—834), Хэкигансю, случай 40.
194
Сэн-чжао (384—414), один из четырех главных учеников Кумарадживы (который прибыл из Куча в Центральной Азии в китайскую Чанъань в 401 г.), написал несколько трактатов по буддизму. Данная цитата взята из одного из них. Его источник находится в Чжуан-цзы, гл. 2.
195
Тёся Кэйсин (Чан-ша Цзин-цэнь), ученик Нансэна. История о нем изложена в Хэкигансю, случай 36.
196
Кёдзан Эдзаку (Ян-шань Хуэй-цзи, 814—890) был учеником Исана Рэйю (Гуэй-шань Линъ-ю, 770—853). Там же, с комментариями Энго.
197
Основана Догэном в эпоху Камакура (1185—1338 гг.).
198
Dr. Hans Zinsser. History of the Louse II Atlantic Monthly. January, 1935.
199
Уитмен Уолт (1819—1892) — известный американский поэт. — Прим. пер.
200
В эти игры в прежние времена играли главным образом маленькие девочки.
201
Мировоззрение (нем.). — Прим. пер.
202
Кое-что об искусстве чая было рассказано в предыдущих разделах. Впрочем, и сказанное выше никоим образом не исчерпывает всего, что подразумевается под искусством чая. Обращаться к теме целиком означало бы предпринять очень серьезную работу.
203
Перевод с японского на английский: Basil Hall Chamber lain. Basho and the Epigram, pt IV II Japanese Poetry.
204
Гуд Томас (1799—1845) — английский поэт и юморист. — Прим. пер.
205
Это стихотворение было составлено на пограничной за ставе Накосо. «Накосо» буквально означает «не входить».
206
Хэкигансю, или Хэкиганроку (Би-янь и,зи, или Би-янь лу), что значит «Скрижали Лазурной скалы», или «Записки Лазурной скалы», — это работа, составленная частично Сэт- тё Дзукэном (Сюэ-доу Чжун-сянь, 980—1052), частично Энго Букка (Юань-у Фо-гуо, 1062—1135) в эпоху Сун. Сэттё выбрал сотню «случаев» из истории дзэн и в стихотворной форме написал что-то вроде комментария к каждому из них. У него был огромный литературный талант, и его стихи вызывали большое восхищение. Позднее Энго, откликаясь на просьбы своих учеников, по меньшей мере в двух разных местах читал проповеди о ста случаях Сэттё, включая и стихотворные вставки. Энго, если верить сообщениям, не намеревался составлять книгу из своих проповедей или комментариев. Но его монахи записали их и сохранили рукопись у себя. По крайней мере известны две попытки его учеников — оба действовали независимо друг от друга — собрать свои записи воедино и придать им законченную форму. Первое отмечено в 1124 г., второе — в 1128-м. По всей вероятности, они трудились в разных местах. Текст, который в ходу в настоящее время, вероятно, основывается на книге, напечатанной в 1304 г. при династии Юань.
207
Хэкигансю, случай 29. См. также Дэнтороку (Передача Светильника), гл. XI.
Сяко — по-японски, чжэ-гэ — по-китайски.
208
Ср. понятие времени у Августина (Исповедь, кн. XI. 17).
Эти слова отсылают к истории об Эно (Хуэй-нэн, умер в 713 г.), шестом патриархе, которому Гунин (Хун-жэнь, 602—675), пятый патриарх, вручил печать передачи созна
209
ния, удостоверяя тем самым понимание Эно ортодоксального дзэн. Идея здесь такова: не может быть никакой передачи дхармы от одного индивида к другому. В царстве «абсолютной пустоты» (шуньята) невозможны никакие различения.
210
Хэкигансю, случай 26.
Ма-цзу, или Басо, как его обычно называют в Японии, — это наставник, который помог дзэн развить новое направление в истории буддизма в Китае. У него было множество учеников, в том числе и самый выдающийся — Хякудзё, о котором упоминалось выше. Энго вводит имя Басо для того, чтобы проиллюстрировать, насколько мастерски Хякудзё обошелся с монахом.
211
Это все равно что спросить о высшем учении буддизма. Бодхидхарма — первый дзэнский патриарх в Китае, принесший дзэн-буддизм из Индии.
212
Я мыслю, следовательно, существую (слова французского философа Декарта, 1596—1650). — Прим. пер.
213
На санскрите звучит как анутпаттика-дхарма-кшан- ти. Это один из ключевых терминов в учении буддизма маха- яны. К несчастью, он не был понят некоторыми ранними переводчиками санскритских буддийских текстов. Кшанти не означает «спокойствие» или «терпение», как это слово обычно переводят. Оно означает «принятие», «узнавание», или «признание», а слово «нерожденное» обозначает саму реальность (дхарма), не подверженную рождению и смерти. Тем самым вся эта фраза синонимична понятию высшего просветления (самьяк-самбо дхи).
214
В буддизме махаяны считается, что у Будды есть три тела (трикая):
Дхармакая, «тело Дхармы», которое соответствует Бо- гу-Отцу в христианстве. Это Будда в своей таковости, в своей этости, то есть в состоянии идентичности с Дхармой;
215
Из одной старой книги по искусству фехтования, вероятно написанной ранним мастером школы итторю, которая была основана Ито Кагэхиса в XVII в.
Это цитата из Дао-дэ цэина, 56. См., напр.: Дао-дэ цзин / Пер. Е. А. Торчинова. СПб., 1999. С. 266. — Прим. пер.
216
См., например: Судзуки Д. Т. Очерки о дзэн-буддизме. Первая часть / Под ред. С. В. Пахомова. Пер. Н. М. Селиверстова. СПб.: Наука, 2002.
217
Конрад Н. И. Очерк истории культуры средневековой Японии. М., 1980. С. 20, 23.
218
«Так как правящий род и служилая знать были заинтересованы в укоренении буддизма прежде всего в качестве общегосударственной идеологии, то на уровне официального летописания буддизм поэтому был осмыслен в первую очередь как покровитель и охранитель государства» (Мещеряков А. Н. Древняя Япония. Буддизм и синтоизм. М., 1987. С. 67).
Конрад Н. И. Очерки истории... С. 30 — 31.
Накорчевский А. А. Синто. СПб., 2000. С. 13.
219
Мещеряков А. Н. Древняя Япония... С. 85.
220
Буддизм в Японии. М., 1993. С. 215.
221
Кроме того, чай использовался и как лекарственное и тонизирующее средство. См.: Эйсай. Кисса ёдзё-ки // Буддизм в Японии. Пер. с яп. А. Г. Фесюна. С. 592—594.