Книга: Последний окножираф

Последний окножираф
Автор выражает признательность Стояну Церовичу, Филипу Давиду и Милете Продановичу за помощь в работе над этой книгой
Первая буква венгерского алфавита — А.[1]
Мы видим как бы сквозь тусклое пуленепробиваемое стекло.
Пускай разгоняют. Я смотрю на него в упор. Омоновцы стоят неподвижной стеной. Темные очки. Солнечный зайчик сверкнувшего портсигара. Казалось, до Золотого века было рукой подать. Нужно только поверить проносившимся мимо «заставам» и отрезанным от родного отечества соотечественникам: мол, не жизнь тут, а сказка, они уже не цепные псы, не правоуклонисты, а неприсоединившиеся; Дубровник, Опатия, Зимние олимпийские игры в Сараево. Распахнутое окно с видом на море, где горизонт не затянут туманом борьбы за мир. Страна, где сплотившиеся в федерацию итальянцы, албанцы, боснийцы и македонцы, сербы, хорваты, словенцы и черногорцы, румыны и венгры — все нашли свое место, нашли горы и леса, пастбища и воды. Я завидую их ностальгии и вспоминаю о золотых временах монархии. А — как аурум, золото. Пусть это и будет первым окном моего окножирафа.[2]
Я всегда мечтал смотреть новости живьем. Узнавать места и участников свершающихся событий. Наблюдать вечернюю хронику как любительский ролик о последней школьной экскурсии. В ноябре 1996-го в Югославии власти подтасовали результаты муниципальных выборов. Разочарованные белградцы вышли на улицу. Из этой энциклопедии ты можешь узнать много интересного про Белград. А также про дикие джунгли — если откроешь книгу на 24-й странице. Сержана я увидел сначала по CNN и только потом встретил на демонстрации. Он выделялся своей молчаливостью. Из-под надвинутой на уши шляпы видны были только зубы, да и то лишь когда он скалился. Из кармана Сержана торчала книга. Разобрав сербское название, я спросил, зачем ему «Сто лет одиночества» на массовом митинге.
Он ищет девчонку, у которой еще до войны одолжил книгу. И вот, кажется, подвернулся случай вернуть.

Полковник Аурелиано Буэндиа поднял тридцать два вооруженных восстания и все тридцать два проиграл. Он уцелел после четырнадцати покушений на его жизнь, семидесяти трех засад, расстрела и чашки кофе с такой порцией стрихнина, которая могла бы убить лошадь. После войны он до глубокой старости жил на доход от золотых рыбок, изготовляя их в своей алхимической мастерской.[3]
Время в Белграде измеряется лицами. Мне достаточно было недели, чтобы начать узнавать их. Через год я буду узнавать здесь всех. Обретая лицо, человек обретает время. И часы уже можно носить в качестве украшения, ибо стрелки занимают всегда произвольное положение относительно душевного состояния их владельца. Оставаясь на улице, я не боюсь никуда опоздать — время переселилось на лица манифестантов. Достаточно взглянуть на кого-нибудь, и ты знаешь: время идет. Но не стоит спешить на свидание: ни один из вас на него не поспеет, но зато вы встретитесь в другом месте, где не встретились бы, если бы отправились туда, где условились встретиться. Астрономическое время больше не властвует над Белградом. Люди смотрят друг другу в глаза. Осыпаемые дождем конфетти, кружатся на фантастической карусели. Цепная реакция лиц в сработавшем взрывном механизме. Лицо белградца — горючий, легко вступающий в реакцию материал. Стать невидимкой здесь невозможно. Толпа в Белграде не обезличена. Одно из любых двух лиц всегда — ты. Сержан нахально ухмыляется всем своим существом. Белградцы весело прощаются с прошлым, охваченные всеобщим порывом бесчинства и озорства. Дудеть-пердеть-свистеть-горлопанить! Рядом со мной блажит во все горло пожилая дама. Она знает, что это можно. Часы стали отставать от истории. Долой безликое время!

Окножираф представлял собой книжку с картинками, по которой мы учились читать, когда читать еще не умели. Правда, я-то уже умел, но учиться все же пришлось — иначе зачем нужна школа?
Построенный наподобие лексикона, Окножираф в доступной детскому пониманию форме знакомил нас с миром. Всему в этой книжке нашлось свое место, и все имело свой смысл — буквальный и символический; из нее мы могли узнать, что солнце встает на востоке, что сердце находится слева, что Октябрьская революция была в ноябре, а окно пропускает свет, даже если оно закрыто.[4] Окножираф населяли драконы и феи, принцы и черти рогатые, которых, как там писалось, в природе не существует. Одних семиглавых драконов, которых в природе не существует, там, помнится, было четыре. И, кажется, трое принцев. Окножираф по слогам научил нас читать между строк. Он был столь же естественным и привычным, как мишка с телеэкрана, вместе с которым я после вечерней сказки укладывался в постель. Никто и не спрашивал никогда, что такое окножираф. Потому что окножираф — это окножираф. Для меня окножираф — это детство, школьная раздевалка, спортзал, ощущение постоянного роста, предвкушение лучших времен, мягкая диктатура, уроки, невинность, мое поколение. Окножираф — это книга, одним из героев которой являюсь я сам. И лишь через двадцать лет, когда кто-то спросил, что же это такое, я догадался, что окножираф — это первое и последнее слово, альфа и омега, потому что тот лексикон начинался со слова «аblак» и заканчивался словом «zsiraf».[5] В самом деле. Окно есть начало, через окно к нам приходит свет, а жираф — конечная бесконечность, сюрреализм, пылающие жирафы, загробное бытие! Лексикон, в котором есть то, что в него не вошло.

В Париже тоже есть окножираф, я видел его на открытке, только зовут его эйфиглева-башня. Мне прислала его Жофи Брюннер, которая эмигрировала во Францию и училась уже по французскому букварю. У эйфиглевой-башни тоже длинная шея, четыре ноги и множество окон. Тут тебе и окно, и жираф, да и имя красивое, сочетающее в себе озорство и посул, обещание вознести тебя до небес, оторвав окончательно от младенческой перспективы, открывающейся из-под стола, что при наличии скоростного лифта, скользящего внутри башни, — дело чисто техническое. Жофи Брюннер и сама слегка смахивала на жирафа, только без окон и скоростного лифта внутри. Лифт я ощутил у себя в глотке, когда однажды она подошла к моей парте на тонюсеньких своих ножках и позволила мне понюхать свой ароматизированный ластик. А потом я всю ночь, как хмельной, читал по слогам, пялясь в буквы, которые двигались на меня, словно кошачьи глаза, выплывающие из темноты. На следующий день Жофи эмигрировала. Как объявил нам классный руководитель, они внезапно уехали. А мог бы сказать: покинули нас «с трагической скоропостижностью», как уходили тогда генсеки. В моей душе тот ароматизированный ластик оставил неизгладимый след. Лишь поздней мы узнали, что уехали они не на отдых, не в отпуск, потому что вместо себя Жофи прислала нам эйфиглеву-башню, чем-то похожую на окножираф, во всяком случае, в ней был заложен смысл, доступный умеющим читать между строк. Красивое слово, примерно такое же, как артишок.
Омоновцы проносятся мимо, мы тоже бежим, но в другом направлении. На противоположной стороне площади они избивают нескольких человек и растерянно останавливаются. Один из ментов с важным видом пытается резиновой дубинкой стереть стилизованную виселицу. Под ней красной краской: «Слобо, свинья, ты будешь висеть!»
«Петеру хочется рисовать. Он думает о цветных карандашах и о своем альбоме. Он прекращает играть, садится за стол и принимается рисовать. Если Петер что-то решил, то он это сделает».[6] Они протестуют, потому что им хочется чего-то другого. Всем хочется разного. Свободных выборов, независимой прессы, власти, женщин, Великой Сербии. Но никто не хочет Милошевича.[7] Им хочется, чтобы его не было.
В осажденном городе не хватает кроватей. Катарина, итальянская журналистка, глядя на спящих в школьных помещениях репортеров, вспоминает романтику 68-го. Кто бы подумал, что на одном матрасе уместится столько газетчиков! Поскольку меня в 68-м еще не было, мне этого не понять. Хватит того, что в поезде меня трижды расталкивали югославские пограничники, как будто я трижды пересекал границу! Мне хочется преклонить голову на подушку, я разыгрываю из себя важную птицу и бывалого человека и в конце концов добываю угол в старом еврейском квартале. На двустворчатых дверях спальни вырезаны символы каббалы. После моего отъезда в той же спальне и в той же кровати, по слухам, спала Биби Андерсон. Знаменитая шведка. Снималась в «Кремлевском письме». Приехала поддержать белградских студентов. В следующий свой приезд, лежа на кресле-кровати в нетопленой комнате для прислуги, я думал ночами о Биби Андерсон, о «Прикосновении», о «Персоне» и «Часе волка».

Поэт сравнивает слиянье рек с женским лоном. Белградская крепость стоит у слияния Дуная и Савы, в той точке, на том выступе, который истинные — якобы — знатоки этого дела считают самой чувствительной частью женского тела. Тут, в этой точке, пятьсот лет назад решалась судьба нашей страны. Великая Венгрия пала на белградском клиторе, а Мохач[8] — это уж так, крем на торте. Белград, осажденная крепость, которую мы не сумели отстоять, так и остался осажденной крепостью. В течение трех месяцев внимание средств массовой информации было приковано к этой чувствительной точке, а вуайеристы толпами валили от мягких округлостей железнодорожного вокзала к отвесной стене набережной Дуная, чтобы насладиться зрелищем сверху.
Личные капиталы диктатора укрыты, видимо, на Кипре. Вот почему Средиземноморский флот приведен в состояние боевой готовности.

Когда государству находиться в чрезвычайном положении, решает само государство. И государство решает, какое оно, это государство. Государство может быть тюрьмой, отчим краем, родиной, небесами, соединенными штатами, дружественным, союзным. В государстве может быть состояние войны, мира, апатии, дел и умов. Государство угнетает, цивилизует, дает привилегии, подписывает пакты о ненападении. Государство национализирует, сажает в тюрьму, награждает, вооружается до зубов и отмечает годовщины своего рождения. Государство контролирует граждан: государственные экзамены, государственная полиция, государственная безопасность. Государство решает, что — не государство, посмотри хотя бы на себя в своем государстве. Государство — это государственные деятели, государственный бюджет, государственные визиты, государственные перевороты. Государство — это магазины, рестораны, пивные, кафе. Это государственные железные дороги, пионерская железная дорога, электричка, узкоколейка, канатка, Статуя Свободы, Эйфелева Башня, Биг-Бен, Падающая Пизанская Башня. Государство — это Опера, Балет, Стадион, Ипподром, Музей Изящных Искусств, Консерватория, Госпиталь на горе Янош, Мемориальное Кладбище Фаркашрети, Начальная Школа на улице Эрди. Государство — это киношка, казарма, столовка самообслуживания, архив, церковная община, дом культуры, зоопарк, каток, детский дом, дом престарелых, общество слепых. Государство — это универмаг «Домус», универмаг «Центрум», тотализатор, лотерея, хозмаг, магазин «Ткани», комиссионка, библиотека имени Лёринца Сабо. Государство — это городской пляж. Государство — это язык. Государство — c’est moi. Каждый, кто в нем живет. Само государство живет одиноко, живет в вечном страхе, находит друзей, устанавливает отношения, заключает, расторгает и нарушает договоры, объявляет войну, нападает, добивается перемирия и подписывает, подписывает, подписывает, становится членом, вступает. Государство — это закрытый клуб с ограниченным членством, государственная тайна, государственный обвинитель, государственные интересы, государственная религия. Государство — это стипендии, визиты, представления к наградам, почетные похороны. Государство гарантирует, выпускает и собирает. Государство — это финансовое учреждение: государственные облигации, государственная казна, государственные долги, государственное обеспечение, государственные кредиты, дефолт. Государство меняет форму, размеры, язык, религию и друзей. Государство — это граница. Государство в государстве. Иногда государство разваливается на меньшие государства. Когда такое случается, то люди государственные начинают собирать камни.
Один ученический на Балканский экспресс. Только туда. Она просит паспорт, я пропихиваю его в маленькое окошко, подставляю к ее очкам. Вы знаете, что вам уже не положена ученическая скидка, говорит она. — Это что, вопрос?! Ну пожалуйста, что вам стоит, вы только посмотрите на меня — кто даст мне хотя бы на день больше пятнадцати? Она смотрит. Я совсем обнаглел, дата рождения у нее перед глазами. Нет мне больше семидесятипроцентной скидки, отъездился. Неужели я думаю, что Венгерские государственные железные дороги — сборище идиотов. Вот вам крест, мне и в голову не приходило, что ВГЖД — это сборище идиотов, чес-сло! БОТ, Будапештский Общественный Транспорт, — те, естественно, идиоты. Но она смотрит на меня возмущенным взглядом: как я смею такое подумать про ВГЖД? Может быть, тут и грязно, но идиотов все-таки нет. Да мало ли кто как выглядит! Куда бы мы докатились, если бы раздавали билеты по внешнему виду! Она отчитывает меня, как будто и впрямь мне не больше пятнадцати.
Я — единственный венгр во всем поезде, и проводник советует мне запереться изнутри. Наши люди (полиция!) сойдут на границе. А что дальше — одному Богу известно. Сквозь мелькающие спицы деревьев я взираю на звезды и, сидя спиной по ходу поезда, напеваю себе под нос: Every time Yugo…
Из прочитанных книжек мне вспоминается, с каким трепетом, выехав поездом из Будапешта, ждали прибытия на Балканы Брэм Стокер и Троцкий.[9] Автор романа ужасов и военный корреспондент описывают Балканы почти одинаково. Заглянув в вагон третьего класса, Троцкий открыл в нем, как ему показалось, Ноев ковчег национальностей. Эта балканская атмосфера вдохновила обоих на создание их главных шедевров — графа Дракулы и Красной Армии.
Итак, полноценный, бесскидочный пассажир, я трясусь, не в силах заснуть, в Балканском экспрессе. Когда мне не спится, я должен выпить, а выпив, должен отлить. Вагон мотает из стороны в сторону, поезд идет нарочито медленно — мы уже въехали в другое время. По коридору катается пивная бутылка. В поисках буфета я иду в направлении, которое указывает ее горлышко. В одном из купе слышна музыка, звенят струны, завывает волынка — вино, женщины, песни, — я спрашиваю, не подскажут ли, где буфет. Они трясут головами в такт музыке и посылают меня подальше на всех сербохорватских языках, вместе взятых.

Летом мы ходили под парусами по Балатону, зимой озеро замерзало и тренировки проходили в Будайской Крепости. Мы бегали вдоль крепостных стен вокруг фаллического надгробия Абдурахмана с чалмой на верхушке, которую я по неразумию принимал за земной шар. Я строил честолюбивые планы: совершить плавание вокруг света и при этом не заблевать его. Спортивные травмы вроде бы подтверждали мысль, что земля круглая, а не плоская. Ближайшая морская гавань была на карте, моя эпоха великих открытий началась на 16-й странице Атласа. Поначалу я принял Америку за Индию, но моя упорная одиссея не осталась невознагражденной. Однажды, к концу игры в города — мы играли в нее на деньги, — я обнаружил, что столицы, начинающиеся на букву «Б», расположены на прямой, которую можно провести с помощью линейки между Брюгге и Басрой от Северного моря до Персидского залива. Ось Брюссель-Бонн-Беч[10]-Будапешт-Бухарест-Багдад говорит сама за себя, а когда я узнал, что на формирование городов оказывают влияние реки, моря и горы, то мне не показалось натяжкой включить в игру Белград, Братиславу и Берн. Берлин, конечно, находится севернее, что можно расценивать как тектонически-лингвистический сдвиг, однако после Второй мировой войны великие державы внесли нужные коррективы. Более мелкие города на «Б» вдоль линии разлома лишь подтверждали мое открытие: Бреда на бельгийской границе, Базель и альпийский Больцано, Баден-Баден в земле Баден-Вюртемберг, Байрейт и Бамберг в Баварии, исконно словацкая Бестерцебаня, она же Банска-Бистрица, моравский Брно и Бадачонь на берегу Балатона. Баня-Лука в Боснии, быть может, стоит чуть-чуть в стороне, зато трансильванский Брашов расположен точно на этой линии. Миновав Балканы, лингвистически-тектонический разлом идет по берегу Черного моря от болгарского Бургаса к Босфору, а затем к Стамбулу и Бурсе, столице древней Турции. Среди многочисленных турецких городов на букву «Б» упоминания достойны знакомо звучащие Батман и Бетлис. Добравшись до Бейрута, мы делаем короткий библейский крюк с заходом в Библос, Баальбек и Бетлехем, руины же Бабилона[11] расположены близ Багдада. Мне стало ясно, что следует создать карту, которая бы показала, что буква «Б» в развитии цивилизации сыграла никак не меньшую роль, чем долины великих рек. От расположенной близ Багдада разрушенной башни и до Брюсселя история вращается вокруг мировой оси, связанной с буквой «Б», — начиная с неосмысленного гуканья новорожденного беби до Банска-Бистрицы. Перед моими глазами обретал очертания земной шар, не поделенный на нации и народы, и я был твердо уверен, что правильная карта и соответствующая помощь логопедов могут вернуть нас в блаженные, довавилонские времена, когда мы все говорили на одном языке. Зная, насколько часто перемещались линии на карте в одном только этом веке, я чувствовал, что следую верным путем.[12]

Перед самым Белградом поезд окутывает туман. Если бы я не знал, что мы в долине, я решил бы, что это дурное предзнаменование. Туман настолько густой, что видно сантиметров на десять, да и то, что видно, — тоже туман, а за ним и за всем остальным туманом, как подсказывает мне чутье, — Белград. Поезд останавливается, и я выхожу на перрон.

Прибыв в чужой город, я всегда чувствую себя дома, иду так, словно знаю, куда иду, как будто бывал здесь уже сто раз, водители такси даже не обращают на меня внимания, я присматриваюсь к подробностям, разглядывая ноги, часы, уличные фонари, окурки, женские шляпки. Что-нибудь покупаю, не важно, что, и уже не выделяюсь в толпе. Сажусь на скамейку и наблюдаю — движения, цвета, пропорции. Белград. Я уверен, что уже бывал здесь.
Окножираф: «Туман — это облако, которое спустилось к самой земле. И когда мы идем в тумане, мы на самом деле идем внутри облака».

Во время вечернего коктейля я слышу выстрелы. Утром на перекрестке лежат два венка. В газете — молодые ребята в одинаковых пальто. Однажды я видел фильм о преступном мире Белграда: «Преступность, которая изменила Сербию». К тому времени, когда фильм закончили, большинство действующих лиц уже были убиты. В семидесятых годах госбезопасность выпускала крутых парней из страны. Им давали поддельные паспорта в обмен на пустяковые услуги определенного свойства, как, например, ликвидация политически неугодных лиц под видом несчастных случаев и проч. Гастарбайтеры регулярно наведывались домой, приезжали сюда тратить свои немецкие марки, французские франки и шведские кроны, а позже, в девяностых, разразилась война между бандами. Оргпреступность, жалуется в фильме местный мафиозо, не может сложиться в Белграде, потому что никто не смотрит дальше собственного носа. Они скорее перестреляют друг друга из-за какой-нибудь ерунды, но не станут ждать серьезного дела. А всего-то и нужно — чуть-чуть подождать. Взять хотя бы Боснию и Аркана.[13]
Б — третья буква венгерского алфавита. С «Б» начинается Бильбо. Мой первый друг в Белграде — Филип Давид.[14] Каждый день он выгуливает свою собаку перед оцеплением. Собаку зовут Бильбо, и это — мой второй белградский друг. У нас с ней литературная дружба. Бильбо Сумникс — это Бабо (перевод А. Гёнца).[15] Я не хотел ехать в Югославию во время войны. У меня здесь был друг, который демобилизовался из армии со снайперским значком. Его мать была наполовину хорватка, наполовину венгерка, а отец — боснийский серб. Я не знал, на какой стороне он теперь сражается, дезертировал он или нет, если жив, конечно. Мне не хотелось оказаться под чьим- то прицелом.
Во время осады Сараево Шашкия, сын Караджича,[16] хороший парень и хороший солдат, оказался лицом к лицу с Юсуфом, своим другом детства. Юка, старый бандит, стал одним из командиров сопротивления в Боснии. Он показывал Шашкии свои раны, они вспомнили старые добрые времена. По ночам Шашкия переправлялся через боснийские позиции, чтобы гульнуть, как бывало, с Юсуфом. По слухам, оттягивались они по полной программе.
Омоновцы, с завтраками в пакетиках, прибывают на автобусах, как тургруппа из захолустья. После беглого осмотра города они становятся в оцепление вдоль проспекта Революции и перегораживают площадь Республики. Появления демонстрантов приходится ждать часами, они покупают у уличных торговцев тыквенные семечки, а свои резиновые дубинки, чтоб не мешали, засовывают за поднятый фартук-намудник бронежилета. Прохожие дружелюбно общаются с ними, рассказывают политические анекдоты и раздают листовки. Девчонки украшают ментов цветочками, приносят пирожные и размазывают крем по пластиковым щиткам их шлемов.
В фильмах про коммунистов-подпольщиков нам показывали, как хорошенькие девушки в очках и славные рабочие пареньки швыряют с фабричных труб, с крыш домов и из окон поездов листовки — прямо под ноги представителям рабочего класса, трудового крестьянства и интеллигенции, которые, оглядываясь по сторонам, украдкой их подбирают и спешат дальше. Листовки всюду — на мостовой, в воздухе, на стенах домов. Чтиво льется потоками, цель его — просвещать, информировать, где и когда нам следует протестовать. Расписание самых интересных событий и выступлений, комиксы, призывы сексуального свойства, записочки с неба: «Избей себя! Помоги ОМОНу!»
Я покупаю динары в обувной лавке, на хвосте у меня люди в штатском. Словно я в Москве и снимаюсь в старом черно-белом фильме. «Драгстор» написано кириллицей. Общая атмосфера демонстрации: «Заварили кашу — расхлебывайте!» CNN пытается провести уличный опрос; что бы вы хотели получить на Рождество, спрашивает корреспондент у маленькой старушки, напялившей на голову кастрюлю. Ответ краток, это непереводимо, говорит переводчик после некоторого размышления. От меня не отстают, им нравится моя шапка, спрашивают, где купил. Я для них тоже с Запада, и это досадно. Первое, что я ощущаю в качестве западного человека, — я фуфло. ООН — фуфло, НАТО — фуфло, уж югославы-то знают. Не такое фуфло, конечно, как Варшавский Договор, но все же. Западники живут по правилам, уважают правила, у них все работает. Все умеют делать цивилизованно. Это у них изнутри идет, как и мнимая самоуверенность. Главное — корректность, даже в бешенстве. С элегантной небрежностью забыть, как зовут бывшую жену, построить кошке мавзолей, надеть белый пиджак, вылетая бомбить женщин в черном.
Венгрия и Сербия — расчлененные страны. Ты венгр, ты поймешь наши чувства. Прожиточный минимум ностальгии — Трианон и Дейтон.[17] Воспоминания о большой и богатой стране. Во времена санкций будапештский аэропорт стал белградским аэропортом. Венгерское меньшинство Сербии воздержалось от бунта. Одно-единственное благоразумное меньшинство. Короче, сплошные плюсы. Редкий случай — быть венгром в Белграде хорошо. Будапешт и Белград — города, которые регулярно уничтожают. Общий опыт, потерпевшие поражение маленькие народы с большими амбициями, меланхолия, замурованный выход к морю. Венгры и сербы потеряли одно и то же морское побережье, только в разное время. Вот она, общность исторических судеб!
Окножираф: «Петер исправился. Это значит, что он допустил ошибку, но потом сделал все как положено».
Гости являются насквозь промокшие, отведав воды из брандспойта, они шутят: теперь хорошо бы чаю отведать погорячей или чего покрепче. Веселые люди. Большому, как шкаф, историку попали прямо в лицо, с его бороды стаивает лед. Милета[18] рассказывает, что, когда он был маленький, они стояли на мосту Бранков с флажками в руках и махали диктаторам. Он помнит, как мимо в открытой машине проследовал абиссинский император Хайле Селассие, который вел свою родословную от царя Соломона и царицы Савской. Милета ходит к омоновскому кордону с зеркалом: омоновцы смотрят на себя, наблюдающих за демонстрантами, а те наблюдают за омоновцами, чтобы видеть, как омоновцы наблюдают за ними.

Чедомир[19] говорит, что лидеры оппозиции скомпрометировали себя, нужны новые люди, его любимая группа — «Лав Хантерс», он не верит журналистам, «Лос-Анджелес, конфиденциально» — самый нормальный фильм, который когда-либо был сделан в Голливуде, он обращает мое внимание на монолог Ким Бейсингер и добавляет, что без Косово у сербского народа не будет жизненного пространства.

Входит растрепанная студентка, она не смеет поднять на него глаза, говоря, покусывает губы. Она принесла ему куколку, талисман на счастье. Убережет от милиции. Из-под пальто видны ее трясущиеся коленки. Чеда кивает, улыбается и берет куколку, но по-прежнему грустен. Девчонки несут шоколадки, пирожные и цветы, просят автограф, предлагают выйти за него замуж. У одной на груди плакат: «Чеда, женись на мне!»

Чеда заканчивает отделение драматургии, ему нравится быть в гуще жизни, как Бельмондо, «на последнем дыхании», вот так и надо жить. Он мечется по городу, поднимает студентам настроение. Всюду масса девчонок и очень высокий дух. Он слегка приволакивает ногу, искусственная коленная чашечка, спортивная травма.
Чеда был военным корреспондентом в Восточной Славонии. Чеда не спит, это больше чем честолюбие, он — прирожденный лидер, ему плевать даже на пневмонию. На рассвете он обращается к озябшей толпе: им не сломить нас — он делает эффектную паузу, мертвую тишину нарушает только жужжание мухи, — с Божьей помощью мы прорвемся.
Чедомир пишет пьесу. Она называется «Жажда смерти». Про конфликт отцов и детей в водовороте истории. Отец — дьявол во плоти. Зовут его Свобода (с прописной «С»), его Жажда смерти (с прописной «Ж») и является двигателем эдипова хода событий. В пьесе есть и Красивая девушка (с прописной «К»), которая заслуживает огррромного счастья, но обстоятельства этому не благоприятствуют, и девушка жертвует собой.
Отец Милошевича от учителя Закона Божьего вырос до преподавателя русского языка, прежде чем броситься со скалы в Черногории. Мать Милошевича повесилась, дядюшка-генерал продырявил себе голову сразу из двух (для стереоэффекта, наверное) револьверов. Один из плакатов протестующих студентов призывает к соблюдению семейных традиций.
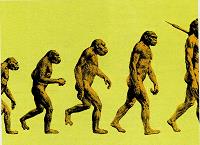
Флаг выскальзывает из потной руки Дуговича.[20] Он бросается за ним. Он охвачен сомнениями. Был ли он хорошим отцом? Хорошим мужем? Хорошим солдатом? За древко они хватаются одновременно. Его кольчуга цепляется за талисман знаменосца. Дугович и турок застывают в кажущейся неподвижности на самом верху крепостной стены. Скованные смертельным объятием, они все же пытаются скинуть один другого. Два жука-оленя в куске янтаря. Дугович борется со временем, памятью и забвением. Он видит огромное полотно в музее. На картине — он сам, в той самой кольчуге. Собственное лицо напоминает ему лицо, которое он видел на конце своей пики в сражении у Варны.
По официальной версии, не было иного способа сорвать турецкое знамя — только схватить врага и броситься с ним со стены. Перед сном, лежа в постели, я таращусь в потолок и снова и снова представляю себе, как бы я отобрал флаг у турка. Я заломил бы ему руку за спину, как это сделали с Немечеком, или врезал бы ему двойным нельсоном, как врезал Шохару, когда он гнался за мной по коридору с циркулем. Может, руки у них были заняты древком, или они одновременно выронили свои мечи, как в «Гамлете». И пришлось перейти на борьбу сумо. Дважды второгодник Шохар сказал, что Дугович, небось, слишком сильно налег на строительные леса, как когда-то случилось с одним из его дядюшек. Он упал в яму с негашеной известью. Вопреки живучему ученическому фольклору, фамилия Дугович происходит вовсе не от венгерского глагола «dug», который обозначает совать, втыкать и прятать одновременно. По-сербохорватски «dug» означает высокий, что полностью соответствует статье в журнале для младших школьников, которая должна была раз и навсегда поставить точку в вопросе о Дуговиче. В ней доказывалось, что высокий и тощий Дугович не мог столкнуть со стены приземистого и толстого янычара и потому увлек его за собой вниз. Я, молодой растущий организм, был в восторге от того, что рост может стать причиной героической смерти. Я думал, что это классно. То, что сделал Дугович, — символично и неповторимо, как венгерская история, и над его героической смертью будут ломать голову все последующие поколения школьников. Через время и через расстояние он на наших глазах бросается навстречу смерти, химически чистый образец истинного патриотизма. Вместе с ним навстречу смерти бросается в бездну страна, стараясь увлечь за собою Азию: турок, татар, Золотую Орду, Советы, — пятнадцать миллионов стоят на страже шенгенских границ. Пятнадцать миллионов камикадзе, оставшихся без врагов. Передовой бастион Европы. Венгры — это статистика. Статистика самоубийств.

По CNN показывают Душана — последний раз мы виделись неделю тому назад, — он направляется в Генеральный штаб югославской армии как член студенческой делегации. Следующий кадр. Он делает заявление: солдаты не причинят вреда студентам, на сей раз танков на улицах не будет. Переговоры проходили в спокойной и дружеской атмосфере, комментирует CNN. Когда я снова встретился с Душаном в Белграде, я спросил его, как было там, в генштабе. Генералы шутили, сказал Душан, один из членов студенческой делегации еще не служил в армии, так они обещали послать его в Новы-Пазар, и уж там он напазарится по самое не могу. В армии Душан был танкистом, но генералам об этом он не сказал. Он говорит об ответственности, он боится, что кто-нибудь пострадает, он совсем не может спать. Всегда может найтись какой-нибудь псих, а если что случится, во всем обвинят его. Гаврило Принцип тоже был белградский студент.

Вечеринка в дипломатическом квартале. За граппой и лососиной мы беседуем о том, почему протестуют студенты. Потому что они студенты?
Окножираф: «Барабанщик бьет в барабан, он бьет в барабан барабанными палочками».
Тернистый путь к половой зрелости в моем случае был вымощен смертями коммунистических диктаторов. Мое первое сексуальное впечатление совпало с кончиной Мао: в детском садике меня укусила девчонка по имени Диана. Когда умер Тито, у меня стал ломаться голос, а смерть Брежнева вызвала первое семяизвержение. Три дня по радио передавали классическую музыку, мне казалось, что это слишком, а в некоторых школах даже отменили занятия. Потом какое-то время ничего не происходило; в виде эксперимента я пригласил девчонку в кино, но фильм был слишком хорош, а я слишком скован. В гимназии дело пошло живей, от первого поцелуя до первой безумной ночи пролетело лишь несколько месяцев. Вслед за Андроповым отдал концы и Черненко. А через неделю-другую за ними последовал Энвер, но об этом рассказывать мне не хочется. Когда казнили Чаушеску, я узнал, что такое G-point. Ким Ир Сен вообще едва не перевернул мою жизнь — хорошо еще, что судья оказался порядочный, отклонил обвинение. Ну а если Фидель? Какой тут гром великий грянет?..
С вечеринки мы все уезжаем одновременно, все нарочно едут на черепашьей скорости, разъяренные сторонники правительства беспрестанно сигналят нам. Мы еле ползем, пробка, автомобильная демонстрация. Мы тут, в Белграде, без машин никуда, и демонстрации у нас автомобильные. Америка, да и только. A drive-thru demonstration. В такой веселой пробке мне торчать еще не приходилось, полгорода ржет до колик. Мы жмем на тормоза времени. Пешеходы тоже начинают тормозить, двигаются, как в замедленной съемке. Протест-пантомима. На повороте они теряют равновесие, валятся друг на друга. И тут пантомиме конец — невозможно хохотать в замедленном темпе.
Милован Джилас,[21] приятель Тито, оттрубил девять лет в два приема. В промежутке полтора года провел на свободе. За девять лет ему дали 116 свиданий по полчаса. Его жена всегда засекала время.

Сын Джиласа живет в доме напротив, я иду к нему.
Алекса занят, он готовит для телевидения передачу по международной политике, но полчаса для меня выкраивает. Разговор начинается замечательно. Алекса называет венгров самыми большими неудачниками всех времен. Оправдываться мне не приходится. Краткий экскурс в статистику самоубийств, Мохач, Косово поле, Трианон — и вот мы уже друзья. Его отец уговорил Тито разрешить джаз. Сталину Джилас нравился, он хотел было сменить маршала Тито на Джиласа, но тот возьми и скажи, что советские солдаты насиловали женщин во время осады Белграда. Не умел он держать язык за зубами. В 56-м его посадили, потому что он был против оккупации Венгрии. Когда в квартире делали обыск, нашли револьвер, подарок маршала Конева. Одна пуля выкатилась, Алекса подобрал ее и стал запихивать в свой игрушечный пистолет. Они уводят отца. Последнее, что Джилас запомнил о своем доме: смеющиеся гебешники и сын, пытающийся зарядить пистолет.
Окножираф: «Dz — седьмая буква венгерского алфавита. В венгерском языке нет ни одного слова, которое начинается с dz».
«Дзо» — слово, заимствованное из тибетского языка, оно обозначает помесь оленя, коровы и яка. «Чистые» яки встречаются только в зоопарках. Дзо — домашнее животное, то есть каждый отдельно взятый дзо — помесь, и чем дальше, тем примесей больше. Цивилизованное стадо, в котором каждая особь выглядит по-своему В наши дни китайские ученые пытаются выделить из дзо остатки яка.

Во время осады сараевский зоопарк был на ничейной земле. Смотрители, оказавшиеся под перекрестным огнем, боялись кормить животных, ведь их этническая принадлежность оставалась непроясненной. Загнанные в гетто животные не смогли дать достойный ответ на вызов цивилизации. Первыми жертвами стали жирафы, не умевшие быстро пригибать голову.
Зоран Джинджич,[22] демократ номер один. Про него часто пишут в «Вашингтон Пост». Лидер самой организованной оппозиционной партии, будущий президент Югославии, красавец. Джинджич сидел при старом режиме, потом получил стипендию в Германии. В начале войны он поддерживал Караджича, программа его партии включала пункт о Великой Сербии, а также предусматривала планирование семьи для албанцев. Приятель Джинджича, мультимиллионер, рассказывает в интервью, как они в свое время встречались в Германии. Зоран умел жить красиво, говорит он, рядом с ним всегда были великолепные женщины. Джинджич идет в рядах демонстрантов, посадив на плечи сынишку, подходит Вук[23] и целует ребенка. Одна большая семья.
Окножираф: «Джунгли — тропические леса. Подробнее смотри на букву О».
Милета Проданович рассказывает эпизод из истории этнической миграции на Балканах. В шестнадцатом веке один из кланов албанцев-католиков бежал в мусульманскую область Санджак. Там они обратились в истинную веру и перешли на язык местного населения — сербов. Одна группа отправилась дальше на север, в Срем, где снова крестилась, переняв язык и обычаи проживавших в этих краях хорватов. Когда в 1993 году, за счет беженцев из Хорватии, этнический перевес в Среме оказался на стороне сербов, новый мэр города Хртковцы на стихийном митинге предложил переименовать улицы. Как оно и положено, заклеймив проклятое прошлое, мэр переименовал улицу печально известного предводителя усташей Владимира Назора[24] в улицу Царя Душана. Затем сменил название улицы печально известного агента усташей Иосипа Юрая Штросмайера,[25] дав ей имя князя Милоша. И, наконец, Шандор Петефи, сказал мэр и сделал паузу, мы о нем ничего не знаем, поэтому с сего дня улица будет называться проспектом Короля Петра! Эх, не знал мэр, что Петефи был сыном печально известного четника, мясника Петровича.[26]

Закат с милицейским кордоном; солнечные лучи играют на пластиковых щитах. Появляется парень, он взволнован, хочет попасть к больной матери, которая живет поблизости. Он просит их пропустить его, иначе ему надо делать огромный крюк. Его прогоняют. Появляется пес. Рычит. Оцепление расступается.
Мы как-то не обращали на него внимания, но оцепление было здесь всегда.
Они и до этого здесь стояли, и только теперь мы заметили, как много их собралось в одном месте и в одно время. Сейчас мы хотя бы можем взглянуть им в лицо. Чтобы мы могли посмотреть им в лицо, потребовалось такое их множество, множество людей, которые хотят, в одно время и в одном месте, дать нам понять, что все идет так, как идет, а не так, как хотим этого мы. Они не будут нас бить. Они просто нас не пропустят. Мы можем оставаться здесь, можем разойтись по домам, мы не можем только пройти туда, куда мы хотим. По одному мы можем спокойно передвигаться по городу, но вместе мы бессильны. По какой бы улице мы ни пошли, ее сразу перегораживает ОМОН, как будто мы пленники незримого силового поля, как будто мы заключенные в стране, из которой я, впрочем, могу уехать в любой момент.
Трое вместе: двое мужчин, одна женщина, всех троих уже били, поэтому они до сих пор вместе. Популист, прагматик, западница. Вместе: «Заедно» — так называется оппозиция.[27]
Визит Джека Ланга, французского дипломата, вызвал живой отклик в средствах массовой информации. Ланг приехал, чтобы выразить солидарность со студенческими демонстрациями. У белградской оппозиции были две основательные причины к тому, чтобы его пригласить. Во-первых, он был студенческим лидером в 68-м и потому найдет общий язык со студентами, а во-вторых, он бывший министр культуры и потому может помочь с финансовой поддержкой их культурных фондов. У летчика, который вел самолет Ланга, не было визы, его задержали в аэропорту, и все оставшееся время он пил там кофе с приставленными к нему четырьмя гебешниками. Интересно, что мог узнать летчик о Белграде, который, если не считать этих четырех филеров, он видел лишь с высоты птичьего полета, о городе, где сотни тысяч людей вышли на улицы с требованием свободных выборов?

Ланг — человек общительный, добродушный и гибкий, даже с Жискаром сработался. Он делает заявления, произносит речи, в общем, пригласившая сторона счастлива. Когда он приезжает в университетский штаб, студенты — историки и философы просят его пройти с ними наверх. На пятом этаже его предупреждают, что никаких речей они ему не позволят, поскольку во время боснийской войны он подписал петицию в ООН с требованием бомбардировок Белграда. Ланг реагирует на это спокойно. О существовании такого документа он даже не слышал, говорит он и спрашивает: не сербский ли писатель Кафка? Не оценив его французского остроумия, студенты-философы окружают дипломата и требуют, чтобы он немедленно покинул здание. Журналисты CNN и Рейтер, ожидающие его у выхода, остаются без интервью, так как Ланг ураганом проносится мимо. Так бывший министр спас пилота от кофеинового отравления.
На следующий день, столкнувшись в лифте с очевидцем, я спросил, что там было с Лангом. Как — что, Ланг ненавидит сербов, разве мне это не известно? Ланг — враг! Я приехал из дружественной страны, и мне ли не понимать, что такое идеологическая война. Ланг — маоист разлива 68-го года. Студенческий лидер, ставший министром культуры! Узнай своего врага, и ты узнаешь, кто ты.
Сказка о неприсоединившемся короле. Мария жила на правом берегу, в Австрии, Франьо — на левом, в Венгрии. Франьо переправлялся на другой берег и воровал дрова, а поскольку тогда эти две страны были одной страной, то никому не было никакого дела до того, что Франьо и Мария влюбились друга в друга. Они были бедны как церковные мыши, они голодали, они холодали, восьмеро их детей умерло. Но семеро выжили, и Мария надеялась, что ее седьмой сын станет священником. Франьо хотел отослать его в Америку, но скопить 400 крон на дорогу не сумел. Иосипа призвали в Императорско-королевскую армию, он сражался, попал в плен, бежал. Летом 17-го он пытался бежать из России через Санкт-Петербург, потому что из Финляндии можно было морем переправиться в Америку. Его поймали, он сидел. Америка уплыла, разразилась революция, великая, октябрьская, потом настал Советский Союз и открылись новые возможности. Он женился на русской и познакомился с путиловским рабочим, который воспитал из него подпольщика. Вернувшись в свою деревню, он не снимал очки — для маскировки — и через очки увидал, что река уже разделяет не Венгрию и Австрию, а Словению и Хорватию, но никому до этого не было никакого дела, поскольку две эти страны были одной страной. Он шел вверх по ступенькам подпольной лестницы, попадал в тюрьму, объявлял голодовки, стал партизанским вождем и югославским президентом. Когда Сталин подослал к нему наемных убийц, он во всем разочаровался. Советский Союз тоже уплыл, и он затосковал по новому, третьему миру, такому, который был бы обоими мирами сразу и ни одним из них в отдельности. Он посмотрел на карту и обнаружил неприсоединившиеся страны. Став некоронованным королем третьего мира, он гастролировал по всему миру, о нем сняли фильм с Ричардом Бертоном в главной роли. В предсмертном телеинтервью он сказал, что все было не совсем так, как написано. Его бриллиантовое кольцо сверкало с экрана, и восьмидесяти-с-чем-то-летний диктатор казался довольным человеком. Тито не дожил до того, как югославская баскетбольная сборная завоевала золото, не дожил он ни до конца второго мира, ни до того времени, когда речка, некогда разделявшая, но и соединившая его родителей, стала настоящей границей.

Окножираф: «Однажды отпустив, обратно не вернешь. Что было, то сплыло».
В огромном парке детского садика было полно укромных местечек, где можно было спрятать все что угодно. Наверное, большая часть моих захоронок сохранилась до сих пор. Однажды у заборчика я нашел ночную бабочку и спрятал в опавшей листве. Я думал, это игрушка, но в сумерках она улетела. Жизнь, нахалка, отняла ее у меня. Но не беда, я готовился к большому броску: хотел научить летать кошку. Встав на верхней ступеньке лестницы, которая вела в подвал, я объяснил ей, что надо делать, и — туда ее! Однако живые существа неисповедимы. Моя коллекция ночных бабочек пополнялась, и кошки, собаки, черепахи, друзья, родственники, любимые женщины так и порхали над городом. Я за ними еще вернусь.
Ожившие дома, человеческие лианы в окнах — они свистят, жестикулируют, мигают карманными фонариками: пришедшие в движение амурчики и кариатиды. В витринах магазинов стоят продавцы, смотрят на улицу — манекены, машущие нам руками. Со строительных лесов, потрясая молотками, нас подбадривают рабочие. На шестом этаже какой-то человек, перегнувшись через перила балкона, вращает трехрожковую люстру, словно собирается забросить эту удочку в проплывающую внизу толпу. Улицы стали руслами рек, я отдаюсь течению, на шею мне вешается женщина, увы, я не говорю по-сербски. Нет проблем. Она меня все равно любит.

Окножираф: «Мир полон радости и счастья».

День моего рождения врачи назначили на 7 ноября, годовщину революции. Мать заявила, что умрет, но выдержит еще один день.[28]
Бутылка идет по кругу, стаканов нет; если будем вести себя хорошо, нам обещают подкинуть виски. Надо греться, на улице минус пять. Я не одет для демонстрации, я выскочил на минутку, чтобы взглянуть на вечерний кордон. Кто-то протягивает мне сливовицу. Два динамика громыхают музыкой из «Подполья» Кустурицы, не хочешь замерзнуть до смерти — танцуй! Омоновцев сменяют каждый час, за ночную смену они получают сверхурочные, как дворники во время снегопада. Они не пьют, они не танцуют, они стоят на своем месте при минусовой температуре, их согревает ненависть. Демонстрация — как пикник, все дружно едят, иначе не выдержать. Бутерброды, вафли, пирожки с творогом, четыре напитка на выбор. Подходят двое студентов, говорят, что омоновцы собираются применить слезоточивый газ, есть ли у нас противогазы, а если нет, то не могли бы мы их раздобыть, без противогазов и пикник не пикник. А я-то думал, что ко всему подготовился! Поднимается ветер, похоже, газовая атака не состоится, милиция снимается с места. Свист, аплодисменты, овации, в час ночи город наш. Нас человек пятьсот, но через час уже тысяч тридцать. В окнах видны огоньки зажигалок и свечей, вспыхивает и гаснет свет, мы идем по улицам под барабанный бой, ненавидишь Слобо — дуй с нами! Мы забрасываем резиденцию Милошевича снежками. Снег скоро кончается, зато у противника пороху еще хватает. Трое в штатском врезаются в толпу на автомобиле. Остаются живы- здоровы. Дисциплинированная демонстрация. К трем ночи господствующим напитком становится ерш, смесь водки и пива, всеобщая эйфория, мы, пританцовывая, движемся дальше, забираемся в такие уголки, где никогда никаких манифестантов не бывало, узкие улочки, кварталы, застроенные особняками, потом по проспекту Партизанских отрядов возвращаемся в центр города.

К этому времени уже не кажется преувеличением слоган на десятиметровом транспаранте в голове колонны: БЕЛГРАД — ЭТО ВЕСЬ МИР!
Кто-то дает мне затянуться, я иду позади транспаранта и бормочу под нос чью-то строчку: «Весь мир — шарнир, шарнир моей коленки, не более того».
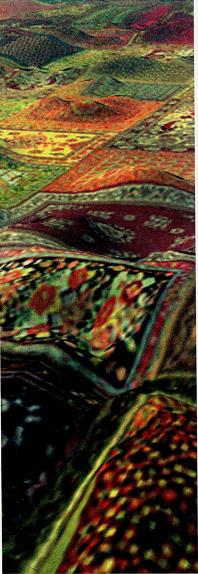
Купание проходило, пока шли новости. Время от времени мать заглядывала в ванную — убедиться, что я на месте. Отец в гостиной смотрел телевизор. Дабы уберечь меня от лжи, им следовало быть в курсе дел. До меня доносились причитания матери: опять наплещет воды, всю квартиру затопит. Я с головой погрузился в воду И некий голос стал вещать о том, что в тот день произошло в мире: в Бангладеш в результате оползня погибли 150 человек, в Западной Африке началась революция, где-то открыли детсад и олимпийский бассейн, клуб МТК со счетом 2:0 выиграл у Ференцвароша. Не знаю, кто мне вещал и что хотел сообщить, но ясно было, что у них на меня имеются виды, ведь мне даже объявили, какая будет погода. На следующий день я различил в ванне уже несколько голосов, что свидетельствовало о том, что со мной имеет дело организация. Способ коммуникации мне казался логичным: я не мог ничего передать им, ибо под водой разговаривать невозможно, они же, дабы о наших контактах не прознали родители и воспитатели, могли выйти со мной на связь только во время купания. Мне трудно было понять, почему для организации так уж важно подробно информировать меня о военных учениях в Польше и о том, какие села на территории Задунайского края стали городами, но я знал, что, если буду внимателен, получу сигнал. Моя жизнь под водой обретала глубинный смысл. Как-то в воскресенье, во время мытья головы, мать, ничего не подозревая, окунула меня с головкой, и приятный женский голос шепнул мне на ухо, что градом побило весь урожай. Тут я понял, чего от меня ожидают, и, честно сказать, это было мне по душе: я должен был творить беспорядки. Мне и раньше случалось после того, как меня укладывали в постель, сражаться в темноте с субмаринами и штурмовиками, и даже бывало, что я оказывался на полу, но все же благодаря несгибаемой воле в конечном счете победа всегда оставалась за мною. А с того дня я стал саботировать развитие нашей народной демократии с трудолюбием пчелки. Мой путь был отмечен землетрясениями, взрывами газа и отключениями электричества. Получаемая во время купания информация позволяла мне засекать стратегические объекты, и если в стране сдавали новый завод или электростанцию, я был тут как тут и делал, что должен был делать. Тем временем СЭВ топтался беспомощно у «железного занавеса», не допетривая, что враг у него в тылу.

Я был еще невинным, но мне это не мешало. О том, что это такое, я не имел понятия. Мир в ту пору был черно-белым, и увидеть его можно было по телевизору. До сих пор у меня перед глазами овертайм финального матча Голландия-Аргентина, дуэт Баадера с Майнхоф,[29] «Аполлона» — с «Союзом», гибель Элвиса, короля рока (не знаю уж почему, но отец был в отпаде), прорыв газа в местечке Жана, облака вулканического пепла над горой св. Елены, полет в космос венгра и всемирный чемпионат по кубику Рубика в Будапеште. Спорт в черно-белом изображении был очень занятен, во время боксерских матчей приходилось замечать, у кого сколько полосок на носках. Даже на первом свидании, которое тоже было черно-белым, я не забыл подсчитать, сколько полосок было у той девчонки, цвет глаз ее помню хуже. А после первого поцелуя родители купили цветной телевизор, и сразу выяснилось, что голландцы — апельсиновые, итальянцы — синие, что есть зеленые и есть красные дьяволы, только немцы, словно бы в наказание, как были черно-белыми, так и остались, и страна у них была разорвана надвое, так что я не завидовал им.
Сынок Милошевича — автогонщик, он разбивает «феррари» одну за другой. Размахивать флагом «Феррари» — такая же шутка, как ходить на первомайскую демонстрацию с флагом швейной фабрики «Первое мая». Пародируя проправительственный лагерь, студенты выходят на демонстрацию с бразильским флагом и портретом Сенны. Сколько еще «феррари» надо ему разбить, чтобы сравняться с Сенной?[30]
Между двумя демонстрациями мы дергаем по пивку.
На площади Теразие ребята лениво разминаются, перешнуровывают ботинки, выстраиваются в шеренгу.
Потихоньку начинают собираться демонстранты, откуда-то появляется мяч, они распасовывают его перед кордоном. Прибывает основное ядро, фанаты «Красной звезды» с флагами, дудками и барабанами. Гип-гип-ура, мы прорвемся, орут они трем тысячам омоновцев.
Во мне просыпается Сепеши,[31] и я начинаю вести репортаж для стоящих рядом со мной. Итак, дорогие друзья, сегодня нам представляется возможность выяснить, чего стоит такой фактор, как игра на своем поле. Игроки Милошевича получили подкрепление, однако соседние переулки вполне могут преподнести ей сюрприз. Нет никаких оснований полагать, что гости непобедимы. Ходят слухи, что некоторые из них собираются перейти в другой клуб, что в их тренировочном лагере царит враждебность.
Мяч вбрасывается в игру. Он на стороне хозяев. Милиция пытается блокировать игру, перехватив мяч. В центре поля — какая-то свалка, решающего удара не получается, защитники оттягивают противника на себя, атака захлебывается, молниеносный прорыв, передача, го-о-о-л!!!

Революция должна продолжаться, говорил Тито. Революционная улица — бульвар Революции — самая длинная в Белграде, хотя никакой революции в Белграде никогда не было. Манифестанты забрасывают тухлыми яйцами телецентр, редакции правительственных газет и Дом радио. Они прокалывают скорлупу иголкой и выдерживают три дня. Когда вонь становится невыносимой, яйца готовы к употреблению. Лимонка по-белградски. Главное — точно рассчитать время. Взлетевшие до небес цены на яйца ограничивают сферу применения яиц как тактического оружия, но фольклор сохраняет память о них: к демонстрациям, как к стенам домов — следы тухлых яиц, прилипает название: «желтая революция».
В ночь накануне битвы при Нандорфехерваре[32] на противоположном берегу Дуная, у Зимони, подошедшие к осажденной крепости крестоносцы разжигают костры ради вящей славы христианства. С той стороны тысячи костров представляются безбрежным морем огня. Всякий раз, когда на другом берегу начинают играть турецкие трубы, крестоносцы поднимают умопомрачительный шум — свистят в свистки, дудят в дудки, бьют в барабаны, горшки, кастрюли и свои щиты, звенят колокольчиками. Они не любят однообразия.
Фанаты идут под бразильским флагом, скандируя футбольные слоганы. За ними следует колонна с образами святых и ведущих политиков. От святого Саввы до Вука Драшковича всего несколько шагов. Выступает активист оппозиции, которого вернули к жизни. Он все еще хочет умереть за правое дело. Но уже поздно. Излюбленные куклы на этом карнавальном шествии — красная обезьяна и Милошевич в полосатой робе. Перед кордоном рука об руку танцуют три поколения, все возбуждены, как дебютанты на сцене. Вполне вероятная угроза наказания делает их движения грубоэротичными. Тинэйджеры бацают рок-н-ролл, пенсионеры, нежно обнявшись, вальсируют. Школьницы дразнят ментов: потанцуем? Молодой омоновец: извините, мы не одеты для танцев. Темнеет, действие продолжается при свете зажигалок. Огоньки отражаются в щитках омоновских шлемов. В жилых домах вокруг свет то включается, то гаснет, на здании муниципалитета багрово горит звезда, на Дунае искрятся тонкие полупрозрачные льдины. Белград — город света.

В Боснии у пленных саудовцев нашли пачку фотографий с отрезанными головами. Они коллекционировали только фотки, не головы. Отделенные от туловища, летящие, катящиеся головы, умиротворенные лица, гневные лица. На допросе они сказали, что сохранили негативы только как доказательства, сами они не убийцы. Просто хобби у них такое. Охотники за головами или любители фотографии? Выбрать объект, поймать миг между жизнью и смертью, навести на резкость. Смотри сюда, голова, сейчас птичка вылетит.
Окножираф: «Каучуковое дерево растет в далеких теплых странах. Каучуковый сок собирают, надрезав кору каучукового дерева. На резиновых фабриках каучуковое сырье превращается в автомобильные покрышки, резиновые сапоги, резиновые мячи и ластики».
Резиновые дубинки и резиновые пули для милиции тоже делают из каучука.
Он видит как бы сквозь тусклое пуленепробиваемое стекло. Видит прошлое, ускользающий золотой век, видит спины омоновцев, лицо водителя в зеркале заднего вида. Повторяет про себя номер счета в швейцарском банке. Даже зимой он ходит в солнцезащитных очках. Он контролирует средства массовой информации. Он знает, как победить на выборах.
На заднем сиденье — встроенный телевизор. Он смотрит на себя, его снимают снаружи, сидящим в лимузине и смотрящим телевизор. Он переключает каналы. Всюду — он.
Югославы на голову выше, на майках у них — космические корабли, они носят кроссовки 46-го размера. На баскетбольной площадке в пионерлагере Чиллеберц — длинные тени. Дражен слегка мнет мне ауру. Я не хотел заехать ему под дых, я целился в его горло. В то время как раз ввели «правило трех очков». Это было вскоре после того, как у меня начал ломаться голос. Все произошло так внезапно. Я прошу дать мне время. Под баскетбольным щитом время кажется вечностью. Я еще продолжаю расти, а они мнут мне ауру. В руке у меня рваная югославская майка. По телевизору тогда показывали Олимпийские игры, те самые, которые наша партия и правительство бойкотировали. Румыния уже выиграла свое двадцатое золото. Если б не Трианон, в Лос-Анджелесе венграм не досталось бы ни одной медали. Меня удалили до конца встречи, во мне пылает запоздалое революционное пламя. Охренеть, как я зол. Приговор судьи — персональный фол — словно вердикт о никчемности всего моего существования. В раздевалке я искал смерти, но тщетно — шнурки на кроссовках были слишком короткие. Это — генетика, объяснял мне Дражен после игры, когда я впервые увидел, как пионер в прыжке заложил мяч в корзину. Все югославы — гении, продолжал он, они изобрели все на свете: шариковую ручку, например, и спички, и дирижабль. Он сыплет знакомо звучащими именами, и фактам этим приходится верить, ведь их сообщает мне человек, который способен держать баскетбольный мяч двумя пальцами. Связь между наукой и спортом меня взволновала. И некоторое время я был уверен, что генетику преподают в Институте физкультуры.

Я мечтал о том, как в один прекрасный день я тоже смогу держать мяч двумя пальцами, оттопырив при этом мизинец. Всех членов Золотой команды я знал назубок: Дивац, Паспай, Раджа, Кукоч, Петрович, Вранкович, Данилович, Грошич, Пушкаш, Цибор… Боги, настоящие боги. Команда третьего мира, неприсоединившийся баскетбол: они щипались, кусались, пихались, шипели в ухо противнику матерные слова, без запинки на всех языках, от балтийских до арамейского. Незабываемые подножки, безукоризненные толчки. В их неожиданных рейдах к щиту соперника манифестировалась этика высшего толка, партизанская доблесть, которой не страшны превосходящие силы врага, которая хочет и смеет побеждать, не считаясь с правилами. Югославский баскетбол я боготворил, он помогал мне переживать трудные минуты жизни. Когда, например, под видом медосмотра меня взвешивали и измеряли мой рост. Меня ставили к рейке, непропорционально высокой по сравнению со мной, велели снять ботинки и опускали на голову планку. По всем законам физики она должна была остановиться на моем черепе, но эта школьная гильотина скользила дальше, отрезая сантиметры от моего роста. Чтобы укоротить, меня стригли чуть не под ноль, я тянулся на цыпочках — меня заставляли опуститься на пятки, и когда голова моя была уже где-то между колен, мне шептали на ухо взятую с потолка цифру раза в два меньше моего настоящего роста.

Я знал, что это заговор против времени, и мой долг — предупредить человечество, что здесь проводят генетические эксперименты над пионерами, нарушают Заключительный акт Хельсинкского совещания, готовят из пионеров пигмеев для разминирования. Я нарисовал свастику на школьной стене; выяснить, кто это сделал, поручили мне. Тогда-то я понял, что всю мою жизнь они только и ждали, чтобы я взял себя за ухо и сам поднес им свою голову на серебряном блюде. Система бесчеловечна, и лучшее, что я могу получить в обмен на свою покорность, — стать козлом отпущения за собственные грехи. Сначала я должен предать самого себя, а потом уж стать взрослым. Нет, спасибо, мне нужен весь мир. Но спящего льва будить я не собираюсь, еще чего, чтобы вылететь из гимназии и остаться без высшего образования?! Нет, меня они не надуют. Я знаю, чего хочу. Я стану генетиком и тогда отплачу им по полной программе.
Окножираф: «Петер смело отвечает урок — он держится прямо, говорит громко и ясно».
Я видел, как устанавливали голубую неоновую надпись. Я не понимал, что она значит, но было что-то безусловно положительное в неоновом столетнем юбилее: «Венгерскому Оптическому Предприятию — сто лет», отличная перспектива, хочется жить здесь и умереть. Шли годы, а ВОП так и оставалось столетним, у него не было возраста. Надпись была видна из любой части города, даже ночью: ВОП все еще сто лет! Мы соревновались — кто сумеет прочитать ее с самого дальнего расстояния. Она относилась к вещам неизменным: каменные львы на Цепном мосту, триптих Маркса-Энгельса-Ленина и столетнее Венгерское Оптическое Предприятие. Этим летом я решил, что зрение мне изменяет. Огромная яма, толпа заглядывает за забор: куда подевалось столетнее ВОП? Взорвали его вместе с голубой неоновой надписью, и образовался такой котлован, который из космоса видно, как Китайскую стену. Наш единственный космонавт Берци Фаркаш таращит глаза: сто лет… БУМ! Ничего. Унесло ВОП ветром. А вы что думали, оно будет вечно?

О том, что югославы выиграли чемпионат Европы и напали на Словению, мы узнали одновременно. В финале словенский игрок уже не участвовал, по автостраде Братства и Единства шли танки. Старые раны открылись внезапно, и из-под баскетбольного щита мы беспомощно наблюдали, как югославянский Голем обрушивается на головы малых народов. Мифическое партизанское войско растворилось в тумане, изобретение под названием Югославия лопнуло, и вся дерзость, изобретательность, ложь начали растворяться в общем миропорядке. Я не знал, за кого болеть.

С тех пор я уже повзрослел и знаю, что все венгры — гении. Именно венгры изобрели шариковую ручку, спички и дирижабль. Венгры — всюду. Вот интересный факт об осаде Царьграда. Султан, в соответствии со своими интеграционными устремлениями, использовал при осаде европейских наемников-артиллеристов. А лучшие пушки в то время — не будем скромничать — делал один венгр. (Некий аронгабор, некий яноширини, некий эдетеллер.)[33] Свои услуги он предлагал византийскому императору, но они не сошлись в цене. С гениями всегда трудно. Пушку мастера Орбана тащили шестьдесят волов, и стреляла она каменными ядрами весом по пятьсот сорок четыре килограмма каждое. На один выстрел требовалось два центнера пороха. Взлетел на воздух тысячелетний Царьград. Растаял в воздухе, как Венгерское Оптическое Предприятие. За пятьсот лет до Берлина пала стена между Востоком и Западом. Не могу не подчеркнуть вклад венгров — дюла-хорн, корольиштван, белачетвертый.[34] Царьград разнесли в пух и прах, поперли турецкие гастарбайтеры, появились люля-кебаб, турецкие бани, надгробие Гюль-бабы,[35] кофе, табак, арапник, кайф, кефир, сундук, рахат-лукум. Мастер Орбан помог взломать врата, дух Востока проник в Европу — кёрёшичолш, армин-вамбери, ференцлист.[36]

Остается один вопрос: что было бы, если бы в битве при Марафоне на стороне персов участвовал какой-нибудь скифско-мадьярский умелец? Сколько километров нам бы приходилось теперь бегать?
24 декабря демонстрантам раздают «удостоверения пешеходов», город малость спятил. Любой антидемонстрант (сторонник правительства) ходит совсем по-другому, он закладывает опасные виражи, он идет навстречу тебе с портретом Милошевича, что рискованно и может привести к дорожному происшествию. Он ходит по пешеходным улицам против движения. Шофер выходного дня, короче. Как после войны выдавали талоны на мясо, так теперь, после того как в дело вступила милиция, раздают талоны на страх. Мне досталось четыре талона, и я чуть не наложил в штаны, когда увидел омоновцев в противогазах. Неспешной трусцой они направляются в нашу сторону, и я не знаю, не нарушают ли они правила дорожного движения.
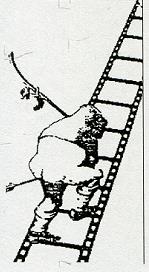
Самое раннее воспоминание, сохранившееся в моей памяти: детский сад, тихий час, опустившись на четвереньки, я ползу под кроватями. Из зашторенных окон на белые одеяла струится лунный свет. Хотя нет, свет не лунный, ведь мы были в садике днем. Я ползу, опасаясь проснуться и разбудить других. Я один — почти что фиктивный ребенок, — балансирую на скрипучем паркете, в колени впиваются крошки, меня не видать. Совсем маленький, я ползу по огромной спальне, ощущение — будто ползу уже не один час, лавируя между простынями, свисающими ручонками, ножками. Ангелочки храпят. Проплывают перед глазами легкие облака, педофильский рай, пухлые пальчики, ямочки на щеках, кудряшки. Ой-ой! Кто-то ползет под кроватью навстречу мне, мы сшибаемся лбами, из-за простыни мне не видно его лица. Этот «кто-то» пыхтит, обжигая мне шею горячим дыханием. В это время появляются воспитательницы: белые полы халатов, белые носки, белые шлепанцы. Мы замираем под кроватью, он берет мою ручку в свою, ладонь его взмокла. Ой-ой-ой!

На демонстрации в Белграде ходят всей семьей. Надо смотреть в оба — иначе сшибешь ребенка. Детей несут на плечах, на руках, их ведут за руку. Мамаши отправляются на демонстрацию с памперсами под мышкой. Младенческие лица омоновцев и студентов. Дети членов партии тоже ходят на демонстрации. По социологическим опросам, три четверти родителей ходили на демонстрации в 68-м. В 68-м белградские студенты ходили на демонстрации с требованиями более жесткого коммунизма и несли портреты Че Гевары. По телевизору говорят, что студентами манипулируют. Новое увлечение — значок с надписью: «Я — студент. Мной манипулируют». В более радикальной версии: «Я — незрелый, фашиствующий студент, мной манипулируют, и это — круто!» Терри Гиллиам, одна шестая часть «Monty Python Flying Circus», написал письмо, подбадривая студентов: держитесь до последнего, на вас смотрит весь мир. Я растроган: ощущения 56-го. Все — с нами, но подмога запаздывает. В 1456 году шестьдесят тысяч немецких и польских крестоносцев прибыли к Нандорфехервару (сиречь Белграду) через несколько недель после битвы.
Окножираф: «Мы, дети, растем постоянно. Каждый день и каждый час мы немножко подрастаем. Мы растем очень медленно, мы едва замечаем, что мы растем, а потом обнаруживаем, что подросли».
Все три века своего пребывания на Балканах турки взимали подать детьми. Каждый шестой ребенок должен был пройти интенсивный курс турецкого языка, религиозную и военную подготовку в Стамбуле. Жизнь янычара — сплошная война. Свободное время он должен был посвящать Аллаху. За это Аллах гарантировал ему неограниченное продвижение по служебной лестнице. Огромное большинство великих визирей вышло из этих сербских, хорватских, боснийских, албанских детишек. Янычары были первой постоянной наемной армией в Европе. Ени черн: Новое воинство.
Граффити на педагогическом факультете: «Дети, мы вас любим. Белградские педофилы».
На уроках труда мы делали деревянные мечи и копья, нас вдохновляла «холодная война». Когда мы попали в засаду индейцев, у меня отвалилась челюсть. Стрела прервала свой полет, вонзившись мне в горло. В тот единственный раз я был янки. В больнице на горе Янош меня уже ждали и даже посетовали, что в последнее время я их забыл. После 56-го игрушечное оружие было запрещено, чтобы мы вошли во вкус. Оружие было самодельным, и им запросто можно было убить. Обычно индейцами были русские, а ковбоями — американцы, но в конце концов все сражались со всеми. У Немеша было пластмассовое мачете, ему отец привез его из Вьетнама. Оно нам вполне годилось во время боевых действий в джунглях, но стрелкового оружия явно не хватало. Я так канючил, что папа в конце концов сдался и привез мне из командировки на Запад игрушечный револьвер. Это был настоящий прорыв. Я не жалуюсь, у нас было все: кварцевые часы, грейпфруты и апельсины, спичечные коробки. Мой отец не сделал карьеры, потому что не вступил в партию, но он нужен был им как специалист, и ему платили большие премиальные. Мои родители не занимались политикой. Они ругали режим, но не боролись с ним. Меня тоже ругали, но и со мной не боролись. Понимали, что дело это безнадежное.
Отец попросил меня приехать, потому что наш дом, в котором я вырос, шел на снос, там будет другой дом, больше и лучше. В поезде я пил за венгерских девушек с тремя мафиозо из Нови-Сада. Жены у нас будут венгерки, говорили они. Вместо Сербских бань оттаивать от белградской зимы я пошел в «Рудаш». Я лежал на спине, свет лился на меня через шестиугольные бойницы потолка. Я ждал, когда меня встряхнут, как в детстве я встряхивал стеклянный шар с глицерином, в котором после этого начинал падать снег. Купол «Рудаша» — экстраполяция черепа путешественника. Здание, в котором дырки возникли согласно проекту, безо всяких штурмов — не это ли идеальный Будапешт? Я витаю под сводом турецких бань, между горячей водой и пылающим солнцем, пар подымается снизу вверх, снегопад, вывернутый наизнанку. Я — венгр, сунувший свою голову в турецкий тюрбан.
«Окножираф»: «Снег — это замерзший пар. Снег выпадает из облаков в виде пушистых белых снежинок. Когда снег тает, он превращается в воду. Снежинки имеют форму звезды».

Наутро я отправляюсь упаковывать свое детство. Дом — маленький. Как макет. И деревья стали вдруг карликовыми. Сад бонсай, по которому я иду на цыпочках. Родительский дом уже пуст, занавесок на окнах нет, зато моя комната набита семидесятыми, точнее сказать, временем с семьдесят пятого по восемьдесят пятый. Книги и камни, фотографии, любовные письма — все это я пакую в несколько коробок из-под виски. Я обхожу вокруг старого дома, много времени на это не требуется, я перерос наш сад. Лестница была под старым орехом, но когда национализировали окрестные участки, ее забросали землей. Фруктовые деревья выкорчевали и на их месте построили аптеку, там, где росли яблони, появилась котельная. Я останавливаюсь возле каменных кубов, на которых проводили лето пальмы в кадушках. Лестница где-то здесь, под землей, на несколько метров ниже. Когда-то я ложился на землю и перекатывался по склону, пока меня не укутывал снег.
Мне приснилось, что мы жарим на костре шкварки, я весь в сале. Я пытаюсь залезть на орех и соскальзываю. Но я лезу и лезу, пока не взбираюсь на каждое дерево нашего сада. Мне снятся деревья и дети, разные по размеру, большие и маленькие, они растут вместе: листья и ветки, ногти и волосы, все дети на свете — это я, я взбираюсь на все деревья нашего сада, меня невозможно согнать; я знаю, что скоро сон кончится, но дети с деревьев слезать не хотят; звонит будильник, звонит школьный звонок, начинается урок, звонит трамвай, гудит пароход, свистит в свой свисток кондуктор, звонят колокола о победе под

Нандорфехерваром (сиречь Белградом), но деревья и дети срослись, они надо мной смеются, я стою на земле, беспомощный, старый, а на верхушке каждого дерева сидит мальчишка и болтает ногами, так и кончается этот ничем не заканчивающийся сон, если можно, конечно, представить, что бывают ничем не заканчивающиеся деревья и дети, не говоря уже о болтании ногами.
«Окножираф»: «Чур не я! В прятках это означает, что, даже если тебя нашли, это не считается, это не ты».
Военные преступники должны отвечать за свои преступления перед Гаагским трибуналом. Военным преступником считается тот, кто получает удовольствие от того, что делает, и в военное время ведет себя нецивилизованно. Стреляет из-за угла, поедает противников, начинает войну без предупреждения и бомбит всех подряд без разбора.
Новости по сербскому телевидению начинаются в половине восьмого. В новостях показывают трех демонстрантов с флагами и пивными бутылками, иногда они — коммунисты, иногда — четники. Я их знаю в лицо. Именно эти трое проводят демонстрации в Белграде последние 40 дней, а хреново CNN устраивает из этого шумиху. Именно эти трое несут ответственность за нарушение общественного порядка, это они сбивают с толку и терроризируют население. Иностранному корреспонденту Милошевич сообщил, что ответственность за происходящее на улицах Белграда несут люди Караджича. Те, кому режим не нравится, в половине восьмого начинают свистеть и колотить чем ни попадя по чему ни попадя. Постепенно узнаешь своих соседей. Мы стоим у окон с деревянными ложками и кастрюлями, я только что сломал четвертую деревянную ложку, для меня белградская революция — это революция сломанных деревянных ложек, а не революция тухлых яиц.
Конец 800-х годов. Берег Балатона. Затишье. Слышно, как плещется рыба в воде. Жирный карп в густых водорослях. И вдруг — пыль и топот копыт. Пыль и топот копыт — это тактическая уловка, временное отступление мадьярского всадника. Его преследуют франки — пыль и топот копыт, пыль и топот копыт. Два франка. Выстрел из лука через плечо. Франк прижимает руку к груди. Не будет он больше жить-поживать, добра наживать.

Стреляя на всем скаку из лука через плечо, наш мадьярский витязь не видел, что у него за спиной в брачном танце порхали две бабочки, и разлучил их своей стрелой. Одна из них полетела к Балатону и сбилась с пути. Случилась беда. Крылышки ее намокли, дыхальца закрылись. Кто видел, как бьется на воде бабочка, тот знает, какое безумное напряжение возникает в эту минуту в атмосфере. Вибрации, вызванные крылышками погибающей бабочки, привели к разрушению целого города в Индии, под развалинами которого погибли тридцать тысяч жителей, по той же причине умер английский король Альфред Великий, индейцы майя покинули свои древние города, нандоры[37] захватили Фехервар, викинги высадились в Нормандии, халиф кордовский Абдурахман устроил разнос своему садовнику за неправильно подрезанный розовый куст, в Китае рухнула империя Тан, а в индейском поселении на Амазонке рабыня по имени Утренняя Заря родила пятерых близнецов, что каннибалы сочли хорошим предзнаменованием.

Лет примерно через 666 возвратная волна от предсмертных конвульсий бабочки привела к появлению на берегах Балатона двух империй, одной — к северу, другой — к югу. В одной империи солнце никогда не заходило, в другой — постоянно всходило. Граница между ними надвое расколола венгров, и венгры стали соседями венгров. Две венгерские колонии, населенные венграми и управляемые венгерской администрацией, платили дань обеим империям, Габсбургской и Османской. Османская простиралась от Адена до Алжира, от Басры до Буды и до берега Балатона. Габсбургская владела территориями от Кашши до Куско, от Теночитлана до Токая, а Балатон служил им границей. Вот так и вышло, что на закате Средневековья и на заре Нового времени венгры одновременно оказались в одной империи с инками и персами. Балатон, по которому сновали пиратские корветы, был частью общих территориальных вод двух империй. Он связывал и разделял два мира, от майя до коптов, от Тихого до Индийского океана. Ураганы еще и сегодня нередко бушуют на Балатоне. И не случайно единственная во всей Венгрии линия тектонического разлома проходит именно здесь. Пожалуй, этого и достаточно, чтобы понять, сколь опрометчивым и безрассудным деянием является стрельба из лука через плечо. Прекрасный урок хороших манер для мадьяр.
М.З., Мехмед Завоеватель,[38] сумел покорить двести городов и двенадцать государств. Завоевав Византийскую империю, он покорил и Балканы, но споткнулся о Нандорфехервар. В соответствии с тогдашними понятиями, осада Нандорфехервара была вписана в одну из страниц светлейшего султанского ума чернилами его царственной мысли. По смыслу этих оттоманских граффити, Нандорфехервар был подобен небесам, а пушек там было столько же, сколько звезд на небе. Штурмовать эту крепость миролюбивого султана вынудили сами мадьяры — этот грязный, безнравственный, обожающий пикники народец. Ради вящей доходчивости на эту тему нарисована была миниатюра. На ней изображен Мехмед, отрезающий голову Яношу Хуняди. Вот такая агитка в жанре средневековой хроники.
В нашем парламенте, в Нандорфехерварском зале, венгерский президент пожимает руку президенту турецкому. Оба ухмыляются, оба лысые. На стенах — битва не на жизнь, а на смерть. Если верить моим турецким друзьям, то оба наши народа в огромном плавильном котле истории стали братьями, мы — немножко турками, турки — немножко венграми. Может, именно поэтому связанные турецкие пленные и монахи-францисканцы на переднем плане — все лысые. И только у Хуняди волосы развеваются на ветру.
Делай как я. Семь пунктов программы Хуняди «Как стать героем»
1. Всякий, кто родился, умрет.
2. Никто не родится героем.
3. Герой рождается, когда погибает.
4. Герой погибает, исполняя свою миссию.
5. Если герой не погибает, это трагическое упущение, оно приводит к ниспровержению героя.
6. Ты — или герой, или не герой.
7. Никто не живет вечно.
Окножираф: «Твои волосы постоянно растут, каждый месяц они вырастают примерно на столько: — (1 сантиметр). А на таком участке головы растет около 200 волос».

Демонстрация в поддержку диктатуры началась с раздачи десяти тысяч постеров с четырьмя фотографиями Слободана Милошевича на каждом. Архивные снимки фиксируют для истории мимические возможности скромного диктатора и — последовательно — этапы его прощания с волосами. Расположенные на постере по четырем сторонам света, эти паспортные фотки, увеличенные в двадцать раз, служат ориентирами для лагеря его сторонников. Север — отечески благожелательный, но отнюдь не заискивающий. Восток — строг, но входит в положение, излишнее самопожертвование ему не нужно. Юг — твердый как сталь, неумолимый, это торжествующий победу полководец во главе своей армии. Запад — мечтательный член с головкой, витающей в облаках, фотограф явно застал его врасплох, губы собраны в трубочку, словно вот-вот он одарит вас поцелуем. Выбегающий вперед островок волос на макушке однозначно напоминает крайнюю плоть. Ушлые креативщики, будто передвижную выставку, таскают в толпе писанные маслом и акварелью портреты — иллюстрации неразрывной связи могущества и волосяного покрова. Верные логике иконографии плешивости, художники создали уникальные произведения, которые несут субъективный месседж, в лирическом свете изображая человека как политическое животное. Портреты находятся в постоянном движении, что является неотъемлемым свойством их пространственно-временного бытия. Для получения от этой экспозиции эстетического наслаждения рецепиенту приходится потрудиться — не то что в традиционном музейном пространстве, где взгляд зрителя, скользнув по картине, находящейся в полной зависимости от собственной статичности, оставляет его на произвол судьбы. Здесь же картины свободны от искажающего влияния жестких музейных объемов и плоскостей и органически вписаны в целостность улицы и демонстрации. Зритель, бегая за картиной, прыгая между постерами и огибая транспаранты, становится участником действия. Круговое движение картин — это авангардный прием и отсылка к раннему кинематографу, знак зрителю, что, взятые по отдельности, картины не могут являться предметом анализа и только при рассмотрении их в единстве возникает композиционное целое. Таким образом, Венера Милосская и кукла Мило находятся в коммуникационных отношениях с гигантским изображением смахивающего на Фантомаса Милошевича, и, взаимодействуя друг с другом, они раскрывают свое содержание во всем обаянии малого реализма, заставляющего нас забыть о прозаических буднях войны.
Нандорфехервар, 1456 год, зной, чума. Корабли Мехмеда потоплены, его пушки обращены против него, войско его перебито. Крестоносцам понадобилось четыре дня на то, чтобы сбросить в Дунай трупы осаждавших Нандорфехервар правоверных. Но как утверждал один дальновидный турецкий источник, в зеркале промедления мелькнул девичий лик победы.[39]
Окножираф: «Будапешт находится к северу от Мохача».
Как утверждают националисты сербы, именно здесь начинаются мировые войны. Две здесь уже начались — трепещите, Штаты! Они потрясают кулаками, они как-то не заметили, что проиграли войну. Белградцы думают, что они живут на авансцене мировой истории, взоры всего мира прикованы к ним, и, значит, они должны победить.
«Нога искала тело, у которого некогда была голова. Голова, у которой некогда было тело, кричала: “Горе мне”, а тот, в чьем теле зачем-то еще теплилась душа, молил милосердного бога о смерти».[40]
Когда погибла средневековая Венгрия, Буда и Багдад, Мертвое море и озеро Балатон оказались в одной стране. На руинах распавшегося королевства открылись головокружительные перспективы новой Европы от Карпат до Калифорнии. Граница обеих империй длиной в 1500 километров, от Адриатики до трансильванского Сатмара, прорезала Венгрию, по крепости через каждые семь километров, средневековый каменный занавес, и по обе его стороны — венгры, которые думали, что они находятся на авансцене мировой истории, где в смертельном поединке сошлись добро и зло. В наступавших турках венгры видели глашатаев Страшного Суда, насланных на них Богом за их прегрешения. Они думали, что наступает конец света, но конец света не наступил, а наступил конец Средневековья. В Средние века венгры думали, что всему наступил конец. Когда я был ребенком, все думали, что конца никогда не будет.

Две домохозяйки переглядываются во время демонстрации. Они видят друг друга впервые. Одеты они одинаково. Одна машет рукой из окна, вторая — идет рядом с мужем. Через пару дней они сталкиваются на улице. У них одинаковые улыбки, одинаковые шляпки, они вместе читают оппозиционные газеты. Они стали подругами.
Окножираф: «После школы я иду домой. Я живу рядом со школой и скоро уже буду дома. Моя мама тоже приходит домой рано.
Венгрия — мой дом. Для советских детей дом — Советский Союз».
В американском фильме «День Независимости» инопланетяне совершают нападение на Землю с явным намерением уничтожить людей, растения и животных. Это совершенно ясно дает понять пленный пришелец, использующий в качестве медиума гортань мертвого землянина. В первой трети фильма инопланетяне, обладающие абсолютным техническим превосходством, разрушают все большие города на Земле. Сцена, когда они превращают в пыль Белый дом, вызывает бурные аплодисменты в белградских кинотеатрах. Один зритель в бейсболке протанцовывает к самому экрану. Он хлопает себя по ляжкам на американский манер: yes, yes, yes.
Окножираф: «“Да” — противоположность “нет”».

На студентов возвели обвинение. По телевизору заявили, что они никакие и не студенты вовсе. На следующий день они вышли на демонстрацию с зачетками в руках. Студенты с красными книжицами в руках наводнили улицы. Пекин 66-го, Париж 68-го, архив дежа-вю в цветном голливудском исполнении. Сумели бы мы почувствовать, чем на самом деле была Бородинская битва, если бы ограничились осмотром Бородинской панорамы? Студенты идут с красными книжицами в руках, на первый взгляд — они маоисты, но когда подойдешь поближе, видишь, что в их окоченевших руках — кресты и иконки. Я замечаю плакат «better dead than red», «лучше быть мертвым, чем красным», и снимаю с головы ушанку. Мы идем в направлении, противоположном правому, кричит кто-то в голове колонны на перекрестке. Поди разбери, куда. Футбольные лозунги гораздо понятней, большинство здесь — болельщики «Красной звезды». Вот такой винегрет, постмодерный протест, я снова надеваю ушанку, холодно, появляются омоновцы, строятся, подбородки вперед.
Снос дома откладывается. У отца, которому сейчас 56, случился инфаркт. Столько же лет было его отцу, когда он родился. В реанимации он поседел, но мы этого даже не заметили. Мы постукивали по аппарату искусственного кровообращения и шутили с медсестрами. Отца подсоединили к телевизору, изображение и звук, три штекера, как в видеоигре. Прямая трансляция из сердца. Больничная палата — как зимний пейзаж со спящими пациентами. Белые стены, белые койки, белые шкафы, белые одеяла. И резким контрастом — черные часы над дверью с секундной стрелкой, имеющей форму сердечка. Педагогический прием или чувство юмора? Когда вошла сестра и оказалось, что ее имя — Ангина, мы решили, что сейчас кто-то умрет от смеха. Меня попросили покинуть палату. Отец — лучшее из всего, что было при старом режиме. Эту книгу я посвящаю ему. Он жил при социализме так, как будто никакого социализма не было. Он воспитывал своих сыновей по законам рыцарства. Они восторгались им, смеялись над ним, но никогда не сомневались в его искренности. Он был изобретателем, но для содержания семьи этого не хватало, и он занялся бизнесом, о котором не имел никакого понятия. Он обожал работать, деловые переговоры он называл беседами. Он приходит с беседы, было очень интересно, говорит он, и рассказывает, что продал какое-то программное обеспечение, которое он знал, как араб своего верблюда. Он был классным спецом. Написал книгу о магнитных носителях. Он так по-детски верил в успех, что рядом с ним я чувствовал себя взрослым. Рядом с отцом я и сейчас чувствую себя взрослым, и нет никого, с кем мне так хорошо плачется. Пульс у отца революционный — 56, давление 100 на 56. Педагогический прием или чувство юмора?

Белградцы говорят, что в период санкций динар по инфляции опередил весь мир. И если по дороге за покупками ты легкомысленно делал крюк, то денег в твоем кармане убывало наполовину. На пешеходной улице перед камерой позируют бомжи, облепив себя купюрами с девятизначными цифрами. Отстаивая венгерский рекорд, я ввязался в жаркую перепалку. Ведь когда-то, в 46-м, наш пенгё на целых десять нулей опережал сегодняшний динар. Эти мне сербы, их хлебом не корми, дай побахвалиться своими рекордами — инфляцией, статистикой самоубийств, потреблением крепких спиртных напитков. Мы — венгры — ну совсем не такие! Обесцененные динары годятся на салфетки, и за белым вином мы шутим на тему сравнительной

номинальной стоимости сербских поэтов-романтиков:
Вук Караджич 10 000
Петар Негош 50 000
Йован Змай 500 000
Джуро Якшич 5 000 000 000.
Настоящее светопреставление: декабрь, снег, температура ниже нуля, в бородах сосульки, но кто-то же должен прогнать холод — дудками, барабанами, трещотками, масленичным трам-тарарамом, — чтобы пришла весна. Мы выходим на демонстрацию со свистками, барабанами, скрипками, ключами, банками из-под колы, мешочками с мелочью, кадилами, канделябрами, свечами, иконами, флагами, карманными фонариками, сиденьями от унитазов, памперсами, вечерними газетами, яйцами, помидорами, кирпичами, дудками, гонгами, литаврами, серебряными подносами, губными гармошками, половниками, камертонами, кастрюлями, деревянными ложками, трещотками, ртами — со всем, из чего извлекается шум.
Ричард Бертон и Элизабет Тейлор играли Тито в фильме «Битва на Сутеске». Лиззи, правда, была за кадром, но во время съемок Тито пригласил супружескую чету в свою летнюю резиденцию. «Битва на Сутеске» — это про пятую наступательную операцию немцев, когда объединенные немецкие, итальянские и хорватские силы вознамерились стереть партизан с лица земли. В решительном сражении было неслыханно много жертв, ни одна из сторон пленных не брала. Шурда тоже снимался в фильме. Он подбивает там из базуки три танка. На привале титовцы поют «Приамурских партизан».

Во время съемок маршал сказал Бертону, что ни разу не подписал приказа о казни. Нет, он вовсе не боялся ответственности. Ведь он был хозяин. Боялся он написанного слова, собственного почерка, боялся, что буквы обратятся против него. Даже свою автобиографию он диктовал, а позже, в семидесятых, дополнял ее в своих телевизионных интервью. Тито — очевидец века: вырос при монархии, участвовал в двух мировых войнах, видел чистки в Москве и был лично знаком с великими диктаторами двадцатого века. Черчилль за свои мемуары получил Нобелевскую премию, Тито потомкам ничего не оставил. Во время пятой наступательной операции с пальцев партизан сваливались обручальные кольца, от голода они ели кору деревьев, но они прорвались и выиграли войну. Что мог он знать про буквы, почему так боялся их?
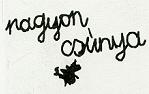
На его могильной плите, как и на могилах других великих людей, высечена его партийная кличка. Имя «Тито» он взял в подполье, позаимствовав его у хорватского писателя восемнадцатого века. Поначалу он хотел быть «Руди», но товарищ Руди уже был в подполье, поэтому пришлось искать другой псевдоним. Как представитель Москвы одно время он звался Вальтером. В конце войны Сталин называл его так, когда хотел подразнить. А дразнить его Сталину нравилось. Иосиф и Иосип, два Джо, две модели. Ходят слухи, что Сталин грабил поезда на той самой железной дороге, которую строил военнопленный Тито. Вполне могло быть.
В программу белградских народных гуляний входили следующие мероприятия: полумиллионная массовая демонстрация экстремистов в главных ролях, конкурс красоты для омоновцев, забрасывание кордона снежками, волейбол с гнилыми фруктами вместо мячей, шахматный и футбольный турниры, прятки, автомобильные демонстрации, ночные шествия, прогон овечьих стад, пробки из якобы сломавшихся автомобилей, разгон толпы с помощью слезоточивого газа и резиновых дубинок, прогулки студентов, переодетых заключенными, летучий университет для милиционеров, театральные действа и костюмированные процессии, воздушные налеты бумажных самолетиков, бомбардировки кордонов презервативами и туалетной бумагой, разгон толпы

водометами, избиение лидеров оппозиции, линчевание. Остальные — многочисленные — мероприятия в программу не входили и были стихийными проявлениями.
Югославская стюардесса Весна Вулович упала с высоты тридцати трех тысяч трехсот тридцати футов исключительно ради аллитерации (см. Книгу рекордов Гиннесса), тем самым побив предыдущий рекорд свободного падения, поставленный русским летчиком И. М. Чисовым, который в 1942 году был сбит «Люфтваффе» на высоте 7200 метров. Весна Вулович пришла в себя после того, как 27 дней пробыла в коме. Лейтенант Чисов сумел доползти до ближайшей деревни и только тогда потерял сознание. Правда, он приземлился задом в сугроб, нависший над склоном оврага.
Окножираф: «Игра — это развлечение. Взрослые тоже играют. Когда я играю, я могу быть кем угодно: водолазом, учительницей и даже космонавтом. Ковер превращается в море, а кресло — в космический корабль. Захочу — напеку куличей из песка. Но мне и в голову не придет есть их!»
О-ой! Бьют оператора. Он закрывает видеокамеру своим телом. Он изумленно кричит, еще больше изумляясь своему голосу. Он кричит в микрофон, он видит себя в мониторе. Это придает ему сил. Он в прямом эфире, он пока не жертва, он еще может стать героем, он может дать сдачи, он сам делает картинку и звук. Ой-о-о-й! Второе ой-о-ой похоже на первое, он боится следующего удара, он знает, что следующий удар будет. Он больше думает не о себе, он думает о дубинке, он учится тому, что такое боль, о-ой, он учится страху, о-ой, он боится.
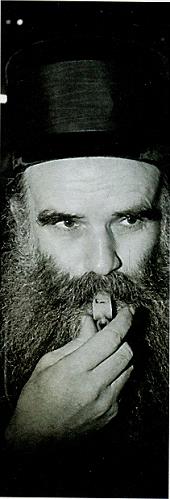
Третье о-ой звучит уже профессионально. Он обретает свой голос, в нем звенит струна страдания, он прекращает борьбу, отворачивает камеру, он начинает умолять. Не бейте меня, о-ой!
Перераспределение национального богатства. Омоновцам платят вчетверо больше, чем университетским профессорам. Милиция обходится Милошевичу в миллион марок ежедневно. Омоновцем может быть не каждый, на всех денег не хватит — национальное богатство надо распределять.

Югославия — это брэнд. А) комплект кухонной мебели из четырех предметов; В) государство в двадцатом веке; С) деревянный конструктор. Ненужное зачеркнуть. Популярное идеологическое течение пятидесятых рассматривало югославский путь как реформирование советской модели, и этот путь, будучи более либеральным, должен был привести к государству всеобщего процветания. После визита к Ким Ир Сену Тито раз и навсегда встал на сторону контрреформации. Его загипнотизировала мысль о вечности.
Иосип Броз родился 7 мая 1892 года в комитате Варашд. Он был седьмым ребенком в семье, и один из всех семерых выжил. С семи лет он работал на отцовом поле, в четырнадцать стал учеником механика, в двадцать один год был призван в австро-венгерскую армию. Если считать и то время, которое он пробыл в плену, то в солдатах он провел семь лет. Столько же лет он провел за решеткой или под арестом. В сорок девять (7x7) он стал партизанским вождем. Еще через семь лет Югославия порвала с Советским Союзом. Когда был зачат автор этих строк, Тито было семьдесят семь.
Окножираф: «Семь — это цифра. Вот как я ее пишу: 7. Семь дней — это одна неделя. 7 равняется 6 плюс 1. У сказочного дракона — семь голов. Если бы мы не знали, что драконы бывают лишь в сказках, мы бы их боялись».
Когда Тито было семь лет, он сказал священнику, что на мессе скучно. Священник его отругал. Ты — плохой мальчик. С тех пор Тито не верил в плохое. Кумровец, родная деревня Тито, расположена на берегу Сутлы, на границе исторической Австро-Венгрии. На первой странице своей автобиографии, он упоминает призрак Барбары Эрдеди, которая заберет его в возвышающуюся над Кумровцем крепость, если он не будет спать как положено. Мать стращала по вечерам призраком графини Эрдеди маленького Тито, который днем, размахивая деревянным мечом у подножья крепости, стращал других. Десять лет спустя в Будапеште он занял второе место на австро-венгерском чемпионате по фехтованию.

Семейство Брозов принадлежало семейству Эрдеди, и Тито воображал, что он вместе с Мате Губецом сражается против Ференца Тахи, принимая участие в крестьянском восстании 1573 года. Тахи был боевым товарищем Зрини и пережил осаду Сигетвара. Шансов выжить у участников крестьянского восстания было куда больше, чем у защитников Сигетвара, но в воображении Тито сотни крепостных висели в окрестностях Кумровца на деревьях, которые он облазил еще ребенком. После войны картина кисти Хегедушича, где изображена решающая битва крестьянской войны, заняла почетное место в кабинете Тито в Белграде как символ борьбы против угнетения. В недавно снятом фильме Тито выходит из своего мавзолея и останавливается перекинуться словечком с белградцами. Они упрекают его за то, что слишком рано умер и не предоставил Милошевичу достаточных полномочий.
Контрдемонстрацию власти назначили на 24 декабря. Санта-Клаус привез демонстрантов из провинции на автобусах, на «тихую рождественскую ночь» прибыло пятьдесят тысяч новых лиц. Ожил дух былых спартакиад, с офигенными транспарантами сторонники Милошевича двинулись к центру. Но заблудились в незнакомом городе и не нашли главной площади. Разбившись на мелкие группы, они с подозрением таращились на снующих по улицам предпраздничных покупателей, ожидая, когда же те превратятся в сборище антиправительственных элементов. По мнению Милошевича, телевидение преувеличило, когда в вечерних новостях назвало манифестацию оппозиции фашистской. Преувеличением было, конечно, и то, когда участник проправительственной манифестации средь бела дня выстрелил в сторонника Драшковича. И уж совсем преувеличением было, когда с помощью милиции один из оппозиционеров был забит до смерти. Предрага Старчевича, единственную жертву демонстраций, по слухам, нарочно возили по городу, пока он не умер от ран. И вот после этого милиция была брошена на защиту сторонников режима. Через головы омоновцев контрдемонстрантов забрасывали яйцами и картофелинами, те в ответ кидали свои транспаранты. Снежками швырялись обе стороны, иногда попадая в омоновцев. Милошевич выступил с речью, осудив бузотеров, которые ведут страну к гибели, и вездесущих западных агитаторов. Толпа, тронутая до слез, требовала ареста Вука, но их вождь притворился глухим. Под конец пятидесятитысячная клака стала скандировать: «Мы любим тебя!» — и растерянный диктатор не смог сдержать ответных чувств. «Я тоже люблю вас», еле слышно прошелестели динамики.

Окножираф: «Когда про человека говорят “лицемер”, это не значит, что он измеряет длину носа или ширину лба. Лицемер примеряет другое лицо, он притворяется не тем, кто он есть на самом деле».
Радован Караджич — поэт, политик, военный преступник, психиатр, психопат.

Знаток тайн души человеческой. По утверждению его критиков, среди психиатров он — самый лучший поэт. Особенно они хвалят «Раздвоенную личность» и стихотворение, которое начинается так: «В город войти, сброд размести». В стихотворении, созданном поэтом пятнадцатью годами раньше, он предсказал разрушение Сараево, которым впоследствии сам и руководил. Правда, пока неясно, следует ли относить это пророческое прозрение разностороннего автора к сфере его литературных или же медицинских достижений, проявился ли в нем дар ясновидца, стремящегося к познанию мира, или же это признание доктора Джекила, пытающегося лечить людей. Во время войны в Боснии кто-то из журналистов поинтересовался у доктора, откуда поступает горючее для его танков, если Югославия не оказывает ему поддержки. В ответ Караджич признался, что его солдаты наткнулись в пещере на немецкие запасы топлива времен Второй мировой войны. Быть может, лет через сто в Скупщине Великой Сербии пораженный зритель остановится перед фреской, на которой по мановению руки поэта из скал Герцеговины начинает бить нефтяной фонтан.
Вокруг девушки обводят меловой контур. Она лежит на земле, раскрасневшись и усмехаясь, как будто она живая. Прекрати ржать, ты же мертвая. Асфальт холодный, мел крошится. Идет реконструкция преступления, но как его воссоздашь, если девушка постоянно ржет. Так щекотно ведь. Эх, жаль, что она не в юбке, вот тогда бы ее пощекотали. Тоже умники, могли бы и подсказать, как одеться. Воссоздается картина преступления. Участники акции разыгрывают, как все было. Кто, кого и как. Тело против тела. Сейчас ее следовало бы достоверно избить ногами, а потом ударить резиновой дубинкой по голове. А ну, Дуня, теряй сознание! И Дуня послушно теряет сознание, картинно приоткрыв рот. Вокруг нее щелкают фотоаппаратами иностранные журналисты, которые могли бы оказаться сейчас в любом другом месте, но случайно не оказались. Хорошо бы явился Кинг-Конг и унес бы Дуню на крышу Эмпайр-Стейт-Билдинг или на башню отеля «Москва», чтобы под ногами у Дуни лежал весь Белград, чтобы все мы смотрели вверх, в небеса, а не на омоновцев, и обвели бы контуром все облака. И перещекотали бы всех на свете женщин.

Окножираф: «Ни облачка на небе нет — и голубой ты видишь цвет».

Министр врезается на автомобиле в толпу и чуть не давит нас, пока мы занимаемся воссозданием картины преступления. Пытается пробиться комиссар по делам беженцев, люди окружают его машину, плюют в нее. Начинают обводить ее мелом. Воссоздание преступления продолжается. Тито рассказывает, как в австро-венгерской армии издевались над новобранцами. Новобранца заставляли поймать лягушку, очертить вокруг нее меловой круг и внушать ей, чтобы она не смела покидать этот круг. Через некоторое время от усердия губы новобранца вытягивались — вот-вот поцелует свою царевну-лягушку.
Омоновский офицер, чуть не плача, просит нас разойтись, говоря одновременно в мегафон и в свой уоки-токи: разойдитесь, пожалуйста, разойдитесь. Сам расходись, говорит пожилая дама, ей за шестьдесят, и на голове у нее свернутая из бумаги шапка с надписью: «Я — тот самый простой обыватель, которого терроризируют демонстранты». Больше нас разойтись не заставят. Нам дует попутный ветер, омоновцам солнце светит прямо в глаза. Погода — с нами. Появляется венгерское телевидение, меня снимают в качестве белградского студента. На тридцатый день демонстраций настроение боевое, сообщает наш корреспондент из многоугольника Дунай-Тиса-Драва-Сава. В Белграде здание суда забрасывают презервативами.

Из этой энциклопедии ты можешь узнать много интересного про Белград. Про джунгли см. также на букву О».
После рождественской речи Милошевича манифестанты стоят против омоновцев с картонными щитами, на которых написано: «Я тоже люблю вас». Омоновцы добродушно беседуют со старыми партизанами, перешучиваются со студентами, показывают девушкам свои противогазы. Через пять минут они разгоняют их всех. Приказ был получен по радио, невидимая рука крутанула резиновую дубинку, прижала мою голову к стене.[42] А потом кордон вдруг куда-то исчез. То ли их перебросили в другое место, то ли кончились деньги. Работают они повременно. Нас останавливает ОМОН, затем пропускает, а через два квартала снова выстраивается в оцепление, но и это длится лишь пару часов, они снова уходят, демонстранты провожают их жестами, выставив средний палец. Ближе к вечеру площадь Теразие блокируют усиленным кордоном. Белград вынужден сбросить скорость, кордон ведет себя подозрительно, мотаясь то взад то вперед в пределах метров двухсот. Многомесячный петтинг с одной-единственной жертвой. В спектакле нет ничего постоянного и непоправимого, меняются декорации, ломается, обновляется реквизит, одно представление никогда не повторяет другое. Здесь каждый — и актер, и зритель в одном лице. Из-за размеров сцены никто не в состоянии охватить все зрелище целиком, только его фрагменты, бесконечная генеральная репетиция, революция, не знающая кульминации, постоянно сдерживаемая эякуляция, город, приблизившийся к оргазму, который никак не случится. Белград — на пределе изнеможения и эйфории. Сердце страны, где сходятся кордоны. Студенты и милиция, Европа и Балканы, улица и театр, Дунай и Сава, эклектика и модерн, монархия и османы, взирающие в упор друг на друга.

Воспользовавшись переулками, кучка студентов обходит кордон и появляется в тылу омоновцев. Ребяческая игра в казаки-разбойники, шалости из мультяшек, а ну, мент-дурак, поди поймай! Появляется подкрепление, студенты играют в салки с ОМОНом, выныривая то в одном, то в другом месте, репортаж о событиях передается по радио. Прикид на стражах порядка — не для погони, громыхают щиты, колотят по ляжкам дубинки. Кучка студентов вдруг растворяется и какое-то время спустя обнаруживается на площади Славия. ОМОН перебрасывают туда, он устраивает засады на соседних с площадью улицах, но студенты как сквозь землю проваливаются. Напряженное ожидание, никаких новостей, омоновцы уже собираются удалиться. Нам кажется, на этом все кончилось, но тут по радио говорят, что участники акции двинулись на железнодорожный вокзал. Старший офицер обращается к нам с любезной просьбой покинуть площадь. Молодой усатый омоновец шепчет девушкам: не вздумайте расходиться! И ненароком пожимает мне руку.

Окножираф: «Если мы чего-то не знаем, но хотим знать, мы задаем вопрос. Задав вопрос, мы получаем ответ».

А кто, по-вашему, должен убирать все это дерьмо, кричит продавщица газет, сметая к мусорным бакам гоголь-моголь из пяти десятков яиц. Студенты хотят разобраться с нею, но на помощь приходит Вук.
Насилие никуда не ведет.

А их разве не насильно куда-то ведут? Вук говорит, что все понимает, он сам когда-то был бунтарем, еще в 68-м. Они с друзьями требовали тогда, чтобы машин было меньше, а больниц — больше. Потом, в 70-х, он был военным корреспондентом ТАНЮГ в Африке, но лишился работы за то, что начал передавать репортажи с войны, которая на самом деле еще и не началась. Ему не терпелось. Вук — это воплощенная икона, он протестует так, словно на все происходящее смотрит уже с той стороны, как будто каждую минуту за ним могут прийти — то ли ангелы, то ли тайная полиция. Но пока что он здесь, призывает нас сохранять спокойствие. Ты маму свою успокаивай, орет на него продавщица газет, валяй, убери все это дерьмо! Улыбка застывает у Вука на лице.

Мы едем в центр города и «ломаемся» на проспекте Революции. Мотор глохнет перед самой Скупщиной. Впереди — многокилометровая вереница автомобилей с поднятыми капотами. Пассажиры и водители расхаживают вокруг, качают головами. Вот проклятье, опять поломка, а все из-за этих санкций, когда запчастей не достать. Мужчина в генеральской форме со стетоскопом ходит между машинами. С видом озабоченности на лице склоняется над моторами, этой тоже конец, качает он головой, не выдержало сердечко. Оставив машину, мы идем вперед. У микробуса сели сразу все четыре колеса, в бензобаке грузовика бензин кончился прямо перед Оперой, у «заставы» отказал руль. Бывают такие дни, когда ломается все подряд. Милиционеры уже орудуют дубинками, вытаскивают с перекрестка инвалидную коляску вместе с яростно жестикулирующим владельцем. Все рушится на глазах, рвутся ремни трансмиссии, барахлят коробки передач, не держатся на проводах «усы» троллейбусов.

В воздухе пахнет линчем. Линчевать будут нас. Свистят дубинки, разрывая густой туман на клочки. Приходит время спросить себя: что я здесь делаю, вместо кого я здесь, вместо кого мне размозжат голову?

Окножираф: «“Сегодня я встал рано”. Это предложение. В конце предложения я ставлю точку. Когда я задаю вопрос, я ставлю в конце предложения вопросительный знак, например: “Который час?” Если я говорю: “Петер, иди сюда!” — в конце предложения я ставлю восклицательный знак».

Меня подслушивают, как в старые добрые времена. На стене я увидел предостережение: «Комната прослушивается!» Сердце так и подпрыгнуло. Их до сих пор волнует, что я против них. Здесь я буду работать. Разыскивать жучки, как разыскиваю эрогенные зоны у своей девушки. Нашептывать глупости на ушко секретным службам, прятать в пустых чемоданах молчание. В университетском пресс-центре прослушивают слушателей, слушатели устраивают оцепление против оцепления. Протестующие похожи друг на друга тем, чем они отличаются, омоновцы отличаются тем, чем они похожи друг на друга.
Народ Белграда собирается под флагами разных наций, мультинациональных корпораций и субкультур: под флагами бразильскими, канадскими, французскими, итальянскими, флагами «Феррари», «Фьорентины», Сенны, Боба Марли и «Кока-колы». Флаг они называют «застава».
Окножираф:
«Реют наши флаги высоко, от имени народа начертано на них: Да здравствует свобода!»

Для девушек кордон, как и ватерклозет, приятнее. Девушки классифицируют омоновцев по усам и по тому, сколько им требуется времени, чтобы покраснеть. Время покраснения обратно пропорционально густоте усов. Но где же омоновки-женщины? Где шустрые кошечки, подмигивающие из-под шлема? Где заботливые матроны-мельтоны, мамашки в фуражках, которые за ухо отведут тебя домой? Где белокурые полицай-фрау, где перетянутые черными ремнями красотки, милицейские телки в высоких ботинках с горячими верткими попками? О, где же вы, где?
Богиня Эрида подбросила на пиршественный стол яблоко с надписью: «Прекраснейшей». Так началась война. Золотое яблоко, символ солнца и бессмертия, царевич Парис отдал богине Афродите в обмен на земное ее воплощение — прекраснейшую из женщин, что следует понимать как метафору, в сердцевине которой — любовь. Есть мнение, что яблоко дала своему возлюбленному напрокат сама Афродита, она ведь и так уж была бессмертна. Золотые яблоки росли в строго охраняемом саду далеко на западе, там, где солнце исчезает в море, вот почему на закате небо напоминает дерево, гнущееся под тяжестью собственных плодов. Этот сад находится на границе жизни и смерти, точнее, на границе смерти и бессмертия. Когда горизонт отрезает от солнца половинку пурпурного яблока, на небо восходит звезда богини.


Это дерево охранял змей, у которого было множество голов и который говорил на множестве языков. Христианство перевернуло все с ног на голову, змей переквалифицировался из толмача в соблазнителя, знание превратилось в грех, а возлюбленные расплатились за яблоко своим бессмертием. Адам и Ева вошли во врата не с той стороны, оказавшись в юдоли страданий и смерти, но в сердцевине разрезанного яблока мы и сегодня видим пятиконечную звезду богини, звезду, которую франкмасоны почитают как символ духа, скрывающегося в материи. В Средние века золотое яблоко стало символом королевской власти. Белоснежку от клинической смерти спасла любовь принца. А королевич Аргелиус с помощью золотого яблока нашел себе среди фей невесту. У турок яблоня также растет на западе — как метафора последнего завоеванного города и мирового господства. В результате демографического взрыва сады стали городами, и османским авторам в качестве яблоневых садов уже видятся Рим, Вена и Кельн. В новой мифологии яблоко вновь появляется как носитель знания. Король Матяш пожаловал самому умному своему пажу герб с золотым яблоком. Теорию всемирного тяготения Ньютон создал благодаря упавшему яблоку.
В старших классах мы ездили на сбор яблок. У озера Балатон я сортировал золотые яблоки («голден»), которые отправляли на Запад. Я так и видел, как там надкусывают сорванное моими руками яблоко. А там — золотой червяк. Нью-Йорк называют Большим Яблоком. Люди Милошевича пытались выгнать из города оппозицию, забрасывая ее яблоками. Раздавать проправительственным демонстрантам яблоки — чем не постмодернистский жест! Как эффектный протест против театральности антикоммунистических митингов, массовая потасовка 24 декабря началась с метания яблок. Но белградцы, вместо того чтобы вкусить от них, принялись отбивать идеологическую атаку, швыряясь яйцами, гнилой картошкой и овощами.

Священным деревом Эриды была осина. Кол, которым нужно пронзить сердце вампира, должен быть вырезан из осины. Вампир ищет прекраснейшую из прекрасных и потому не может умереть.
Хорошие ножки — большая редкость, ноги снашиваются, стаптываются, стираются. Каждый день центральную площадь Белграда заполняют ноги. Под Новый год у Народного театра — миллион ног. Они шагают вместо тебя, синхронно, как в бассейне с искусственными волнами, покачиваются вверх-вниз головы. На моих ногах топчется миллион других ног. Площадь использована до последнего сантиметра, на ней не поместится больше ни одной ноги. Но это на земле. А вообще-то ноги кругом — подо мной, надо мной, я иду сквозь них, как сквозь тесто. Надолго меня не хватает, толпа вдавливает меня в стену, у которой тоже, оказывается, есть лицо. Где-то играет оркестр. Кто-то взбирается мне на плечи, взрослые держат над головой детей. Какая-то женщина теряет сознание, и ее передают на руках в окно первого этажа. Одна рука у меня зажата в кармане, вытащить ее невозможно, и я помогаю передающим женщину головой. Мы вместе шагаем, вместе вопим, вместе поем. В полночь что-то подбрасывает меня над толпой, и я, в состоянии невесомости, с кем-то чокаюсь. Толпа забросила меня на ближайший балкон. Меня обнимают, целуют: с Новым годом! И я лечу дальше, поднимаясь, как пузырек в шампанском. Белград, 1997: ты обязан научиться летать!
Окножираф: «Каждый раз, когда сегодня кончается, начинается завтра».
В 1956 году, в честь 500-летия Нандорфехерварской битвы, Будапешт превращают в руины. Советская Армия, возродив традиции 1944-го, распространила их на некоторые дополнительные объекты. Город весь издырявлен снарядами, дыры зияют в домах и промеж домов, новые дыры не отличить от старых, и становится постоянной темой вопрос, пострадал ли тот или этот дом во время осады или в дни революции, в 56-м или в 44-м, нет, этот в 44-м не мог, он же новый, да какой там конструктивизм, что, не видишь, как выгнута у него терраса! Но вот пошел снег, дыры скрылись, потом выпал новый снег, свежий снег смешался со старым, и никто уж не мог сказать, какой снег — старый? новый? — залепил эти раны; люди ждали тепла, изнуренные бесконечной стужей. Сорок тысяч больших дыр и несколько миллионов маленьких. Будапешт — продырявленный город. В этом дырявом городе я родился, дырки от пуль на стенах больницы, то же самое — на кладбищенских плитах. У меня на глазах в могилу барона Мано Кручины Шванбергского (и супруги его Марианны) прошмыгнул двухметровый уж. Барон умер в 56-м, Марианна — в 44-м. Потом могильный камень исчез, и на месте его осталась дыра. Затем на месте дыры появилась другая могила. Круговорот дыр в природе. Дом, в котором мы жили, был построен на месте дыры, оставшейся от дома моего деда. Мой отец играл в детстве в воронках от бомб, упавших в наш сад. Воронки побольше использовали для застройки, поменьше — под мусор; в конце сада лежали навалом отслужившие свой срок кинескопы и радиодетали; кладбище информационного лома на горе Сабадшаг. Как-то в одной из дыр мы нашли настоящую бомбу с крылышками, она тоже была дырявая: кто-то свинтил взрыватель. Мы любили, забравшись на каменную ограду, совать пальцы в дырочки и, зажмурив глаза, представлять себе пулю. Новейшая история Будапешта писана азбукой Брайля. Будапешт недоступен свободному взору, Будапешт нужно осязать, познавая через наколотые на стенах дырки. Читать между строк, читать его иероглифы во всю стену, лирические и эпические вариации, граффити войны, шероховатые эротические послания, вывороченный наизнанку архив. Жизнь Будапешта продолжается в новых дырах. Их рождают новые нужды города, там и тут ни с того ни с сего возникают проплешины, различимые даже на карте, и так же внезапно исчезают под натиском офисов. Свои дыры, маленькие и большие, неустанно проделывает в городе мафия. Меняется аура дыр. Жизнь дыр девяностых годов эфемерна: не успеет дыра появиться, как ее уже залатали. То ли дело былые дыры: долговечный 9-миллиметровый калибр, внушающий уважение 23-й, оглушительный 38-й и сотрясающий стены 85-й. Дыры старых добрых времен.
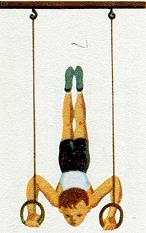
В Эсеке и Вуковаре я напрасно совал палец в дырки. Никакого кайфа. Дома были такие же, как в любом венгерском городке, но дырки были чужими. Казалось, расстреливали именно дома, а не людей, вымещая обиды на стенах, в которых так и остались пули. Здесь не было ни великого дела, ни великих героев. Гипсовые ангелы монархии с простреленными лбами, эстетика тупого умышленного разрушения в духе мачо. Южнее на дорожном знаке — плакат с Караджичем и надписью: «Мужчина, который не предал».


Старинное здание на горе Шаш, где была наша школа, до того как стать цитаделью народного просвещения, принадлежало женскому монастырю. Когда немцы весной 44-го оккупировали Будапешт, в актовом зале разместилась их ставка, здесь же был арестован военный комендант Будапешта. А потом в исторических стенах того же зала мы бегали по кругу на физкультуре. Стоя в позе «свечи», постигали историю родины. Мадьяры, вещал нам моржеусый физрук, явились в Европу в эпоху переселения народов. Это звучало красиво. Наши предки стоят в южнорусской степи, на великом «пути народов», голосуя большим мослом с вырезанным на нем словом «Венгрия», но древние руны, в которых указан пункт назначения, само собой, никто не может прочесть. От Тихого океана до Великой Венгерской низменности, от Амура и до Дуная простирается необъятная степь, говорил нам учитель. Разбег, подскок, прыжок через козла, колесо. На одном конце — венгры, на другом — ГУЛАГ, так что не забывайтесь. И, дабы мы не теряли равновесия, подстраховывал нас оплеухами с обеих рук — у него это называлось правилом золотой середины. Я, понятно, предпочитал лазание по шесту и пробежки по кругу. Хорошо, как-то сказал он мне, я умываю руки, и, навалившись всей тяжестью укоризненной интонации, добавил, что он всего лишь хотел воспитать меня настоящим венгром. Ясно было, что взрослые кое в чем темнят, потому что, с одной стороны, язык был самым большим нашим достоянием, а с другой, мне все время пытались заткнуть фонтан, историю отечества путали с анатомией, патриотизм с грамматикой, солидарность с затрещинами. Словом, венгры пришли сюда тыщу лет назад, и сегодня идут, если еще не померли. Откуда идут и куда — никому не известно. А если кому известно, тот заблуждается. Тот не венгр. Или венгр, но не тот. В смысле — ненастоящий. Что есть венгр — покрыто большим туманом. Ясно только, что венгр ничем особенным не отличается, что выглядит он, как все, везде легко приживается, за исключением Венгрии, где ассимилироваться ему невозможно — мешает общий язык. Венгр — немного сербохорват. Немного бездомный. Он идет великим путем народов, гонит перед собой тучные стада и все время воюет. Налетающие сзади антициклоны подгоняют его гигантскими оплеухами. Ничего не поделаешь. Образ венгра, усвоенный мною в результате изучения Карла Мея и панорамы Фести, изображающей завоевание нашими предками нынешней родины, вобрал в себя прогрессивные традиции Дикого Запада вкупе с Диким Востоком. Жизнь венгров мне представлялась ковбойской, а воевали они, как индейцы. Опережая героев эпохи великих географических открытий, коллекционировали художественные ценности. Писарро и Кортес шли по стопам вождей Лехела и Булчу. Венгерские индейцы, как какую-нибудь почтовую карету на большой дороге, с воплями и плясками атаковали Средневековье, поражая стрелами всех, кто осмеливался высунуть голову. Нападали на викингов и на мавров, разоряли монастыри, напинали Европе по заднице, но гордиться этим не принято. Я, кстати, и не горжусь. А затем, увидав Атлантику, поняли, что пастбища кончились и с гиком обогнуть земной шар не получится. Путь из Европы им преградил океан. Что было делать, пришлось венграм сесть в карету Средневековья (точнее, пристроиться на запятки) и дуть восвояси. Карпатский бассейн когда-то тоже был морем, и прибудь мы сюда своевременно, то стали бы мореплавателями. И было бы у нас свое море — не историческое, не кровью омытое, не арендуемый на уикенд коттедж.

В считанные дни Белград превратился в современный город. Телекамеры снимают демонстрацию со всех вообразимых точек. Где бы ты ни оказался, ты обязательно попадешь в камеру, и каждый знает, что его обязательно покажут по телевизору на каком-нибудь — немецком, итальянском или английском — канале, ораторы, произнося речи, оглядываются в поисках камеры. Все фиксируется. Речь превратилась в поток чернил, лицо — в фотографию, голос — в магнитофонную запись, и был вечер, и было утро, шестидесятый день демонстрации.

На проспекте Сербских князей — импровизированные подмостки. Киношная знаменитость вдохновенно вещает о жертвах прошлого. Антигона, и только. Вокруг люди шепотом вспоминают, какая великолепная грудь была у нее, когда она еще снималась в кино. Мы слушаем в тишине, поеживаясь и вспоминая с печалью в сердце, как вольно и гордо реяли на ветру ее груди в то вечное югославское лето. Лицо партнера размыло время, на его месте мог быть любой из нас, он заключает в объятия ее бедра, на берегу Которской бухты они пьют черногорское пиво, потом едут в Дубровник и на закате любят друг друга.

Я просыпаюсь на рассвете, птицы не поют. Я сажусь в кресло, слушаю, нет, не поют. Старый китайский трюк, из-за шума птицы не смогли сесть на землю. В парке Дружбы я нашел балканскую горлицу, почти замерзшую. Она молча сидела на ветке, тамагочи-самоубийца. На карте Югославия похожа на сидящую птицу. Черногория — ее ноги, Македония — хвост, Сербия — крыло, Хорватия — шея, Босния-Герцеговина — грудь и живот, Словения — голова, Истрия — клюв. Устроившись на насесте Адриатического побережья, она разглядывает сапог.
На демонстрацию ходят с орешками. Стоишь себе и жуешь. Голова, стало быть, чем-то занята. Ты не просто участвуешь в демонстрации — ты грызешь орешки, тем самым как бы отстраняясь от происходящего. Орешки не позволяют тебе скандировать лозунги, хлопать в ладоши, тебе не могут ничего сунуть в руки. Полкило арахиса помогает продержаться на холоде. Подтапливает и смазывает изнутри. Настоящий профи берет с собою арахис, сигары, карманную фляжку и шарф. Набив карманы, он отправляется спозаранку, перебирая орешки, как четки. Идет и лущит их, бормоча арахисовые мантры. Во время митинговых речей, перед кордоном, в транспортных пробках он жует в режиме нон-стоп. Когда ничего интересного нет, он выковыривает орешки из зубов. Арахисовая скорлупа — отход органический, политически нейтральный. Орешки на демонстрации — это мировоззрение. С их помощью можно знакомиться. Не хочешь орешков? И они жуют вместе. Он чистит орешки для девушки и кормит ее с ладони.

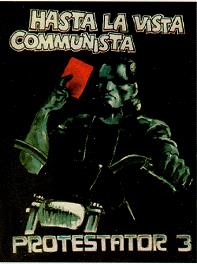
Черногория, страна с завораживающим названием, над которой витает память о кровавых битвах. История — опиум Восточной Европы. От нее подскакивает уровень адреналина. Черногория — это выход к морю, если Сербия его потеряет, то Балканы сомкнутся вокруг нее. Парень из Черногории в студенческом офисе: нет, он не националист, он никого не хочет задеть, но, когда он смотрит на Которский залив, сердце у него замирает. Мы не воевали ни за Трансильванию, ни за польско-венгерскую границу. Не знаю, буду ли я защищать Балатон, если дойдет до этого. Я — венгр, но когда я смотрю на Которский залив, сердце у меня замирает.
Наше дело правое! От студенческих постеров веет Зимним дворцом. Горстка сбитых с толку юнцов вещает по телевизору, какая горстка — вот в чем вопрос, говорит Душан. Он смеется где надо, видно, что не впервой. Анекдоты и хохмы сочиняют в пресс-клубе студентов. За несколько недель они стали настоящими профи. Официальная единица измерения демонстрантов — горстка. 1 горстка = 20 000 студентов. Они проиграют только тогда, когда станут хитрей противника.

Уличный спектакль с участием ОМОНа. Макбет на загаженной голубями мостовой в шортах цвета хаки. Он спятил — на морозе в минус пять кукарекать перед кордоном! Леди Макбет умывается в ночной сорочке. Они катаются по куче мусора, к их телам прилипает жвачка и шелуха от семечек, актеры просто герои, зрители тоже герои, в каждом есть что-то героическое, даже слезы наворачиваются на глаза. Стоящие вокруг ритмично хлопают в ладоши, чтобы согреться, — рефлекторные аплодисменты. Омоновцев все это не колышет, стоят, как деревья в лесу. Лорд и леди М. зря сходят с ума, время еще не настало. Настанет, когда боснийские, хорватские и сербские ведьмочки проварят язык в едином котле. Когда сливовые сады Шумадии двинутся на Белград.

В девятнадцатом веке южнославянские просветители за основу литературного сербохорватского языка взяли диалект Герцеговины. Здесь, средь бесплодных скал, язык сохранил свою первозданность. Тито еще и остыть не успел, когда в горном селении Междугорье явилась Дева Мария и обратилась к верующим по-хорватски. Она представилась покровительницей мира и призвала всех молиться за мир, что верующих весьма удивило, потому что они тогда жили в мире. Массовые захоронения уже поросли быльем. Все забыли уже, как во время войны женщин и детей бросали в окрестные ущелья. В этом библейском краю послание Девы Марии пробудило в сердцах людей надежду, что мир сохранится и дальше.
Как утверждали дети, Мария была женщиной лет двадцати пяти, среднего роста, в голубом платье. По четвергам она посылала короткие, напоминающие гороскоп послания через девочку (тоже Марию). Например: сегодня я вас призываю, чтобы вы не впадали в искушение! Она упрекала верующих, если они собирались в недостаточном числе, предупреждала их о грозящей опасности и просила, чтобы они молились по четкам, что показалось бы извращением даже членам общины Тезэ.[43] Полный круг молитв состоял из трех верую, восемнадцати отченашей и ста шестидесяти богородиц. Единицей измерения служил десяток: один отченаш и десять богородиц, с этим верующие расправлялись за пять минут, а за полтора часа проходили три больших круга по четкам.

По описаниям избранных детей, Дева Мария выглядела совсем как в кино. После премьеры народ наводнил селение, ставшее местом паломничества. Приезжих здесь всегда больше, чем постоянных жителей. Явись Матерь Божия годом раньше, Тито тоже мог бы услышать благую весть, он знал хорватский от отцовской родни, а мать-словенка прочила его в священники. Матери следовало понять, какие ставки стоят на кону, и не вмешиваться. Трудно поверить, что Господь Бог ничего не знал о предпринятой его матерью миротворческой акции. Собственно, он и раньше никогда не скрывал своих симпатий, как в случае с Каином, например. И потому — к великому сожалению сербохорватского языка — вмешался в события.
На судебном процессе Гаврило Принцип назвал себя сербохорватом.
Фра Джованни да Капистрано[44] мечтал о мученической смерти. Примеров для подражания на церковных стенах было достаточно: святые мученики, пронзенные стрелами, подвергнутые колесованию, четвертованию, распятые, удушенные, заживо освежеванные. Он надеялся, что когда-нибудь и его изобразят на церковной стене, но реальность суровее стенных росписей. Что ни день, то очередная неудача, очередная кара, очередной крюк по дороге к раю. Он сражался на передовой, и один его хладнокровный вид обращал в бегство самых фанатичных из янычар. Его отец, наемник короля Лайоша, участвовал в неаполитанской кампании. Джованни заложил основы своей карьеры преследованием евреев. Затем, по совету своих начальников, он обратился против магометан. Турецкая осада Белграда — вот его шанс, если он переживет ее, не попасть ему в святцы. Будучи предводителем крестоносцев, он отличается в решающем сражении, когда, нарушив приказ, атакует позиции османской тяжелой артиллерии. После битвы он разражается рыданиями, чувствуя себя покинутым и несчастным, но Господь слышит его мольбы, его схватывает почечная колика и прорывается геморрой, кровотечение такое сильное, что он не может подняться, чтобы приветствовать короля. Он тихо истекает кровью и умирает, как и мечтал, на соломе, дело его передают в Ватикан, но тут Венгрия раскалывается надвое, и процедуру канонизации перечеркивает география. Лишь через двести пятьдесят лет, когда Белград был освобожден, ему удалось проскочить в игольное ушко.

Я вижу флаг Венгерского демократического форума, потом Лежака,[45] он, как в замедленной съемке, машет собравшимся, словно протирает окно (без CIF’a, который лучше обычных моющих средств). Он явно испытывает ностальгию, ведь сейчас он снова вознесен над толпой. Он стоит на помосте бок о бок с Драшковичем, ветер слегка развевает его волосы и партийный флаг с тюльпаном, которым помахивает один из его людей (то ли телохранитель, то ли член делегации). Лежак застенчиво улыбается, он тоже писатель, только, в отличие от Вука, бояться ему уже нечего. Он медленно машет рукой, протирает стекло, стирая следы проклятого прошлого, и от имени партии и народа приветствует, поддерживает и передает символические дружеские объятия.
По дороге домой меня останавливают, говорят, слышали, как я выступал вместе с Вуком, для них я — венгр, представитель всех венгров, а значит, немного и Лежак тоже. На взгляд из Белграда, мы с Лежаком — на одной стороне, на венгерской. Сербы делают ответный жест, приглашая меня на вечеринку, Милета и Даница ждут в дверях, объясняться нет смысла, они тоже слышали, как я выступал вместе с Вуком.
Окножираф: «Ты и я — это мы».

В начале был хаос, но мы его расшифровывали, мы все понимали, потому что умели читать между строк. Теперь же приходится расшифровывать, что мы понимали под этим «все», которое еще вчера казалось таким однозначным.
В шестидесятые пучина подавленной в 56-м революции вынесла на поверхность Кадара, и в начале семидесятых наши родители стали размножаться с невиданной скоростью. Как я могу объяснить подростку, что светлое будущее, о котором мы пели, уже настало, потому что светлое будущее всегда настает, как я могу объяснить ему, что он не может понять моих объяснений? Мне кажется, будто я вижу своих родителей, которые верили, что все это будет длиться вечно. Дорогие ма и па, это и есть та страна, в которую вы хотели эмигрировать! И языка не надо учить. Как я могу объяснить, что смена строя была для нас выпускными экзаменами, а на банкете старый режим скончался, что наш подростковый бунт смел коммунизм, что старую мягкую диктатуру сменила новая мягкая демократия, что эпоха, которая относилась к нам, как к детям, и не давала нам вырасти, неожиданно сдохла? И я перестал расти. Моему поколению полагалось стать тем, чем оно не стало, мы только делали вид, будто мы собираемся стать такими, какими нас хотели видеть. Консенсус родителей поверх наших голов, немой революционный оргазм. В 1989-м в Венгрии не было 56-го года, потому что он был в 1956-м. Родители предпочитали плодить детей и воспитывать их так, чтобы они могли жить. Что мы и будем делать.

Мальчишка на велосипеде гоняет между двумя рядами оцепления. У омоновцев нет приказа, они стоят, делая вид, будто не видят, как он машет подбадривающей его толпе, оторвав руки от руля. Когда зажигается зеленый, пешеходы выбегают и занимают зебру, когда зажигается красный, милиция загоняет их на тротуары. Арестуй светофор, скандирует толпа. Омоновец случайно наступает мне на ногу, извиняется, не стоит извинений, отвечаю я, вот такая балканская дипломатия, все, что мы делаем, мы делаем вместе с милицией, без нас не было бы и ее, не было бы и Восточной Европы — без нас, Запад без нас не был бы на западе. И даже у кока-колы был бы другой вкус. Мы свободны, лишь воля наша в тюрьме. Мы натыкаемся на очередной кордон, самые красивые девушки становятся впереди — живой щит против омоновцев. Результат, естественно, не заставляет себя ждать. И он весьма впечатляющий: как они выставляют грудь навстречу камерам иностранных корреспондентов! Один из самых волнующих эпизодов белградских событий, милиция развлекается, девушки — тоже, их взгляды встречаются в ослепительным свете вспышек, вокруг красными, желтыми и зелеными огоньками перемигиваются светофоры.

Когда моему дедушке было столько же лет, сколько мне сейчас, Гаврило Принцип выстрелил в престолонаследника. Судьба свела студента-неудачника и будущего императора. Эта встреча принесла обоим бессмертие. И смерть. Они не знали друг друга, может, только взглядом успели обменяться. How do you do? Принцип и принц, принц и нищий, одно точно: оба слышали выстрелы. С тех пор в зеленых аллеях парков памятники Гаврилы Принципа стреляют в памятники Франца-Фердинанда. Позиционная война идет между улицами Гаврилы Принципа и проспектами Франца-Фердинанда, ведут перестрелку мемориальные доски, музеи, памятные медали, кинофильмы. В Сараево памятник престолонаследника сбросили с постамента. Единственным делом жизни для него стала смерть, ставшая причиной миллионов других смертей. Первая мировая началась с кровной мести. Когда моему дедушке было столько же лет, сколько мне, его судьба соприкоснулась с другой судьбой. Они оба пошли добровольцами в Имперско-королевскую армию, обоих отправили на Южный фронт, а когда началось наступление русских — в Галицию. Оба там отличились. Иосип Броз со своим взводом захватил в плен восемьдесят русских солдат, мой дедушка за одну вылазку получил двадцать один осколок и несколько наград. Когда ему собрались ампутировать ногу, он выхватил револьвер и прогнал хирурга из операционной. В один год они оба попали в плен, потеряв сознание в рукопашном бою. Оба очнулись в госпитале, обоих в жару преследовал свой кошмар, дедушке чудилось, что ему собираются ампутировать ногу, а И.Б. подозревал святого, висевшего над его койкой, в том, что он хочет украсть у него одежду. Обоих, после нескольких неудавшихся побегов, революция застает в России. С шестой попытки моему деду удается бежать, он становится командиром баварского штурмового батальона, а затем комендантом одного украинского города. Иосип Броз попадает в руки большевиков, которые зачисляют его в бригаду интернационалистов… Лежа рядом со своей русской женой, он вдруг постигает смысл исторической закономерности. Мне и подумать страшно, что было бы, попади в руки большевиков мой дедушка. В больнице, где оба закончили свою жизнь еще до того, как закончился век, поставивший все с ног на голову, у Тито ампутировали ногу, а у дедушки украли одежду.

Сава Бабич, заведующий венгерской кафедрой, угощает меня кофе и пытается выведать, не родственник ли я Лайошу.[46] Часто ли встречается у нас фамилия Зилахи? Все книги Лайоша переведены на сербский, на Балканах он самый известный венгерский писатель. На серьезных полках — собрание сочинений в кожаном переплете. Но фамилия эта довольно распространенная.

Светислав Басара, которого мне представили как крупнейшего сербского писателя, провел с Лайошем свое детство, ему хотелось попасть в Будапешт межвоенной поры, в ту среду, где происходили события «Смертельной весны», «Двух пленников», «Что-то несет вода».[47] Басара — роялист, бросил пить, когда у него родились близнецы, и выглядит как подросток, строящий планы. В том числе относительно короля.

Из тумана, маршируя по набережной, выплывает отряд ОМОНа, эстетика, быть может, немного прямолинейная, зато достоверная. Кое-кто бросается прочь, но большинство замирает в изумлении, как будто присутствует на съемках костюмного фильма. На съемочной площадке — средневековые воины в доспехах, идущие в боевом порядке, торжественную напряженность придают сцене бряцание щитов и топот ботинок. Это отнюдь не роботы, они шагают свободно, испытывая чувство раскрепощенности после долгого и беспомощного стояния, они горят желанием с кем-нибудь сразиться. Они приближаются шагом не торопливым, не медленным, а каким-то домашним, как человек, который вышел к почтовому ящику проверить, есть ли там что-нибудь, и точно знает, что дымящийся на столе завтрак никуда не денется и дождется его, он же выскочил на минутку и по дороге, заметив что-то в траве, какой-то забытый предмет, мяч или солнечные очки, беззаботно поддает его ногой.

На исходе Средних веков Нандорфехервар был важнейшей крепостью Венгрии. Три султана пытались завоевать ее: в 1440 году, в 1456-м, 1521-м (соответственно в 844-м, 860-м, 925-м). Осаду Нандорфехервара в 1456-м мы называем «победой при Нандорфехерваре». У турок тогда шел 860 год. Венгры впервые пришли в Паннонию около 860 года от Рождества Христова, правда, тогда турками называли их. Нандорфехервар пал 29 августа 1521 года, в этот же день, только пятью годами позже, состоялась битва у Мохача, а еще двадцать лет спустя в этот же день турки заняли Буду. Этот день вполне мог бы стать днем национального траура венгров, венгерским Косово, он даже больше подходит для траура, чем 6 октября.[48]
Окножираф: «“Нет” — противоположность “да”».

Все указывало на приближение конца света, удушающая апокалиптическая жара над Европой, появление кометы Галлея на небе. Его Святейшеству пришла в голову идея. Он повелел, чтобы для укрепления духа крестоносцев во всех церквах каждый день звонили колокола. Но папская булла и подкрепление прибыли в Нандорфехервар слишком поздно, вот почему венгры до сих пор считают, что в полдень церковные колокола звонят по ним.[49] Зато сербы считают, что их цари ели золотыми вилками и ножами, когда при европейских дворах князья еще ходили на четвереньках и хрюкали. Папа Калист считал победу своей заслугой и 6 августа, когда он получил о ней весть, объявил католическим праздником.

И до сего дня каждый полдень «Хуняди» прибывает в Белград.
Бывает, стоишь дождливым февральским днем в толпе. Ты — чужой, и вокруг все чужие. Бродишь полусонный под моросящим дождем. Все кончится так, что никто этого и не заметит. Всем уже будет неинтересно, никто не обратит внимания, что вот он, первый день без демонстраций. Кто-то подкрадывается к тебе и шепчет на ухо: этот день и эта демонстрация будут длиться вечно и будут начинаться сызнова каждый день.
Для нас с Герге, как бы мы ни винились, День защитника родины закончился раньше срока. Дядя Шани везет нас домой на своей машине. Он снял с нас пионерские галстуки. Сомнений нет: мне больше не позволят исполнить свой патриотический долг, никогда не разрешат декламировать «Встань, мадьяр, зовет Отчизна», словом, родину защищать будет некому. А все потому, что я повязал пионерский галстук не туда, куда следует! Дядя Шани — лингвистический гений, он говорит подлежащими, приставки употребляет по закону свободных ассоциаций, у него каждое слово — языковое открытие. Язык для него — что для меня галстук, ну а я, если уж они не хотят, чтобы я был пионером, стану писателем. И об этом напишу тоже. С болью и откровенно. Я буду писать только правду. Бывший пионер и король футбола, финалист всевенгерской олимпиады по русскому языку, многократный призер конкурсов декламации XII района Будапешта, который так вдохновенно читал «Встань, мадьяр», что довел до слез преподавательницу сольфеджио вместе с хором девочек. А что было бы, если бы у меня еще и голос ломался! Лучшие годы своей жизни я отдал пионерской организации, в семь лет не сбежал в Париж, как Жофи Брюннер, и теперь, вместо француженок-гувернанток, вынужден слушать, как спрягает глаголы дядюшка Шани, который опять делает в предложении поворот на 180 градусов, наобум согласовывает сказуемое с подлежащим из фразы, которая прозвучала минут пять назад, подчеркивая головокружительный вираж эмфазой, и тут же, без предупреждения, ставит точку. Он смотрит на нас, смотрит выразительно, со значением, смотрит и ждет, чтобы мы ему поняли. Понятно, что мы понимать. Мы понимать его. Да когда ж это кончится? Сколько еще нам гнить в этой начальной школе? И каждый месяц все уменьшают наш рост хитроумными медицинскими инструментами, заглядывают нам в трусы. Ну и что они там увидят?
Окножираф: «Посмотри статью о слове “язык”. Обрати внимание, что о слове “язык” в книге две статьи».
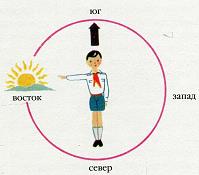
После битвы на Косовом поле сербы бежали на север, и все немного сместилось — и сербы, и поле, и надор, и фехервар. У венгров и у сербов много общих слов, но значения их смещены. Например, калач означает пирожное, лепешка — пирог, сову они называют курицей, а курицу — петухом, и только от точки зрения зависит, считать ли, что сербский петух — это курица, или же что венгерская курица — это петух. Слова «юго» и «угр» восходят к единому истоку, мы родичи, прошлое наше — колодец глубины несказанной, на старых картах южная граница Венгрии проходит на несколько сот километров южнее. Отсюда — один прыжок, и мы можем прижать южных угров к нашей груди. Лишь бы финны не возражали!

Хорошо бы устроить союз, но не от фонаря, как у южных славян, где никто друг другу не нужен, а более осмысленный и глубокий, чтобы перестала наконец проливаться сентрал’юропейская кровь и наши объединенные задницы омывало бы море. Тогда наши футболисты попали бы снова в финал кубка мира, осталось придумать только название, Объединенные Югугры, к примеру. Могли бы взять еще курдов. Они тоже знают, что такое турецкое иго. Да и вьетнамцев, а что? Союз нерушимый…
Сержан хвалится, что он трилингв, а языков никогда не учил. С тех пор как началась война, сербский, хорватский и боснийский стали тремя языками. Сербы, хорваты и боснийцы поделили между собой язык, как Боснию. Все они настаивают на том, что это их родной язык, боснийцы ищут древние корни, хорваты оплачивают переводчиков. Не могут же они общаться на языке, разделенном натрое. В самом деле, как можно представить, чтобы серб разговаривал на хорватском с боснийцем? А на каком языке будет говорить ребенок, родившийся в смешанной семье, где жена, положим, боснийка, а муж хорват?[50]

Выступает какой-то политик. Он говорит, что качество — это вопрос доверия.
Он говорит, что время — это причинно-следственная зависимость, оно производит будущее из настоящего с помощью прошлого. Его ремесло — это будущее, прошлое и настоящее, но в первую очередь все же будущее. В этом деле он дока.
Окножираф: «Если все, что существует, собрать воедино — это и будет весь свет. Каждый, кто родился, появляется на свет».
Я родился через двадцать пять лет после войны. Ленину, если бы он продолжал жить, тогда исполнилось бы сто лет, Святому Иштвану — тысяча. Между ними — персонифицированный ноль, как нулевой километровый столб при въезде в туннель с Цепного моста, Будапешт — мой отправной пункт. Одна тысяча девятьсот семидесятый: введен в эксплуатацию «Боинг-747» (Jumbo Jet), начались советско-американские переговоры по разоружению, открылась первая линия будапештского метро, Бразилия в третий раз выиграла чемпионат мира. Раз в три года любой венгр может съездить на Запад, стоит копить деньги («Молодежный накопительный счет»). Когда с конвейера сошел стотысячный «Икарус», родители записали меня в школу. Универмаг «Шкала Метро» строился параллельно моей учебе — по этажу в год. Когда я дошел до восьмого класса, его достроили. Желание путешествовать носилось в воздухе.

Когда я был зародышем, мама искупала меня в Черном море. Может, с тех пор я и подсел на соль. Я просыпаюсь ночью, мама плывет в темноте по-собачьи. Кто-то кричит с другой стороны: сейчас принесу воды. Дабы утолить мою жажду, родители (они были инженерами) сменили профессию. Мама стала преподавать математику, а отец торговать людьми — он продавал на Запад гениев. Занимался программным обеспечением и объездил весь мир.
Не помню, как мы проехали Австрию, но, подъезжая к Мюнхену, мы едва не наложили в штаны. Под жаркими лучами солнца нас била дрожь. Вот он, Запад, холодный и бездушный, мы с братом стращали друг друга, мы хотели домой и были счастливы, что все это — не наше. Мы действительно очень перепугались. Особенно когда увидели американских морских пехотинцев, накачанных и татуированных, они ревели моторами пятисотых «ямах», но никуда не ехали. Наши красные «Жигули» привели их в такое неописуемое изумление, как будто они увидели чудо-юдо.

Несмотря на наши мольбы, отец не пожелал повернуть назад и не останавливался до самого Кельнского собора. У собора, пообещал он, мы заглянем в «Макдоналдс». Молодежь, евреи и коммунисты — вот кто разрушает мир, орал какой-то небритый тип, смахивающий на бомжа. Он чуть не сбил меня с ног, когда с бутылкой в руке, шатаясь, пересекал площадь. Я впервые увидел бездомного, а также готический собор, перед двумя его башнями я готов был стоять часами, родители никак не могли меня увести, плевать я хотел на «Макдоналдс». Я решил тогда, что объеду весь мир и осмотрю все Кельнские соборы на белом свете.

В апокалиптических пророчествах Лихтенбергера[51] Армагеддон происходит у Кельнского собора. Последняя битва добра и зла, в которой агнец меряется силой со зверем. У кельнской золотой яблони закончится битва христиан и язычников. Гашпар Хелтаи[52] включил пророчество пятнадцатого века в свою хронику, откуда его позаимствовал турок Ибрагим Печеви.[53] Печеви надеялся, что падишах дойдет до Кельна. В Кельне находятся гробницы трех волхвов, которые пришли поклониться Христу, когда он родился. Во время Второй мировой войны Кельн на девяносто процентов стерли с лица земли. Собор уцелел, потому что союзники использовали его как ориентир во время боевых вылетов. Перст Божий.
Белый дворец — исток Белграда, исходная точка системы его координат. Точка, где стоит воображаемый нулевой километровый столб, откуда начинаются проспекты Белграда и нумерация домов. На этом месте изо дня в день начинаются демонстрации, милиция выставляет кордоны здесь же, в нулевой точке столицы, живой ноль из тысяч омоновцев.
Как говорил мне учитель русского языка, для постижения славянской культуры нужно прочесть в оригинале «Войну и мир». Ему это удалось, правда, пришлось ради этого прокатиться туда и обратно по транссибирской магистрали. Лично я предпочел бы «Преступление и наказание» — чтоб ехать не дальше Москвы. Преступление я осилил бы по дороге туда, а обратно летел бы Аэрофлотом. Кстати, тоже красивое слово, что-то вроде одеколона, добытого возгонкой из боевого ОВ. Язык учил нас маскироваться. Мы должны были делать вид, будто знаем русский. «Nu-nu!» В течение сорока пяти минут я по-русски смотрел, по-русски кивал и по-русски вздыхал, водрузив на край парты «Войну и мир».

Мне и в голову не могло прийти, что знание иностранного языка — вещь полезная. Учеба для нас была условием роста, знания нужны были ради знаний, хочешь вырасти — делай уроки.
Вот и русский мы изучали лишь потому, что язык сей велик и могуч (что не значит, будто венгерский — ничтожен и хил). По-русски в то время у нас говорили только преподавательницы русского языка — крашеные блондинки пятидесяти приблизительно лет, воинствующее этническое меньшинство с особыми племенными ритуалами. Идеей фикс у них был доклад дежурного о наличном составе учеников перед марш-броском. Это было условием выживания. Русских солдат я видел только в военных фильмах, да и те говорили в них по-венгерски. С живым русским военным мне довелось повстречаться, когда их уже выводили. «Холодная война» завершилась, мир — тоже, больше не было смысла умирать за него, и русские по дешевке распродавали военное снаряжение. Мой приятель решил купить парашют, я был при нем переводчиком.
«Parashut yes?» — спросил я, желая узнать, есть ли у них парашюты, но тут же расхохотался, сообразив, что проглотил одну букву, бог ты мой, оказывается, русское «быть» и английское «yes» почти одно и то же, нет, не зря я учился. «Yankee go home!» и «Russkie domoj!» — по сути, одно и то же, и оккупация — это всего лишь черта на карте, акцент, грамматическая конструкция. А не танки, не восемь классов, не медвежонок Миша. Это запись в моем ученическом дневнике. «Две водки», — ответил сержант по-венгерски и показал два пальца, давая понять, что их двое. После чего поинтересовался, как идут дела в школе. Обидевшись на чрезмерную фамильярность, я буркнул угрюмо: «Nu-nu!», как некто в кино «Тихий Дон». Тот поведал, что у него есть сын, Сергей, и он знает, что нам тоже нелегко, может, нужен «Калашников»? Или вот пистолет имеется. Вообще-то я не сластена, но почувствовал себя как обжора в кондитерской лавке. Магазин он отдаст в придачу, как сувенир, так что выпьем за старые добрые времена. Пить с противником, говорящим с тобой на родном языке, за старые добрые времена, когда тебя еще не было и ваши отцы с наслаждением истребляли друг друга? «Ege segedre!»,[54] «твою задницу!» — говорит нам сержант, желая сказать «на здоровье». Сергея тоже зовут Сергеем, как и его сынишку, но для нас он — Серега, говорит он, протягивая мне бутылку и довольно сносно цитируя Петефи. «Венгрия — это поэзия», — добавляет Серега. Я рассказываю ему, как группа венгерских ученых нашла в Баргузине останки Петефи, скелет, правда, оказался женским. Ничего удивительного, говорит он, Россия — страна большая. Он ведет себя не навязчиво, а скорей дружелюбно. Домой неохота, привык здесь, венгры ему по душе, а венгерки — особенно, и подмигивает мне, мол, сам понимаешь. Я, как павловская собака, подмигиваю в ответ, ибо знаю: когда говорят о женщинах, надо подмигивать. Мы хотим попрощаться, но он, все еще по-венгерски, просит не уходить. Пожалуй, с ним надо быть начеку! Может, он вовсе не русский? Обь-угорский двойной агент? Махая ему на прощанье, мы пятимся к выходу. Уже в дверях он окликает нас, спрашивая, не хотим ли мы прихватить пару ручных гранат.

Окножираф: «Что произойдет, если каждый будет приходить в школу, когда ему вздумается? Один придет в семь часов утра, другой в девять часов, а третий сядет за парту вечером!» В университете лекции отменены, в аудиториях спят иностранные корреспонденты, по вечерам здесь работают кружки самообразования и показывают кино. Декан предъявляет студентам ультиматум: если они не перестанут бегать по улицам и не сядут на студенческие скамьи, он вышвырнет их всех. На следующий день студенты вынесли скамьи на улицу. Мы учимся ради жизни — не ради школы.

Оливер принес брату шоколадку, Тедди стоит в оцеплении. Он занимался карате и теперь, служа в ОМОНе, получает втрое больше, чем их мать, профессор университета, которая выплакала глаза, потому что все время думает о том, что дело кончится войной между сыновьями, ну и времена настали! Тедди закончил академию и преподает военное дело. Оливер учится в медицинском, он хочет лечить людей и тем спасать мир. У кордона собралась вся семья. Фотографируются. Тедди смеется, отец изо всех сил свистит в свисток, мать плачет, Оливер морщится. Журналисты в восторге. Тедди звонит домой, скоро начнется заваруха. Оливер в шутку спрашивает у него, будет ли Тедди бить его, если им доведется встретиться. А как же, отвечает братец, это моя работа. В день столкновения Оливер забрасывает кордон камнями, он горячо надеется, что и братцу достанется. Оливер учится на нейрохирурга, и сейчас он перед строем омоновцев проводит импровизированный урок анатомии. Демонстрируя им скелет, он объясняет, какой вред здоровью наносит служба в ОМОНе. Перед вами скелет, мы надеваем на него пуленепробиваемый жилет и видим, как смещаются позвонки, как деформируется позвоночник под тяжестью жилета. Он показывает какие-то маленькие косточки, объясняет, зачем они нужны и что происходит, если они ломаются. Говоря о профессиональном риске, он особо подчеркивает опасность, исходящую от падающих из окон цветочных горшков. Он подробнейшим образом описывает череп — под воздействием удара мозг, находящийся внутри черепной коробки, может повредиться, но это не так уж плохо, продолжает он, поскольку омоновец таким образом сможет убедиться, что у него есть мозги. Стражи порядка начинают роптать.

Окножираф: «Камень — твердый, глина — мягкая. Кости — твердые, мясо — мягкое. Яйца всмятку мы едим ложкой, крутые яйца режем ножом».
Оливер также объясняет, что слезоточивый газ плохо сказывается на работе кишечника. Мозги у тебя словно взрываются, глаза вытекают, легкие слипаются, ты понимаешь, что у тебя внутри — яд, ты впадаешь в панику, бросаешься бежать и бежишь до тех пор, пока не увидишь людей, бегущих тебе навстречу. Но уже поздно. Мозги становятся на место, глаза никуда не вытекли, и с легкими все в порядке. Просто ты понимаешь, что обосрался.
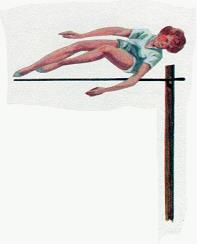
Судья зачитывает перед кордоном Уголовный кодекс, он информирует омоновцев о том, какие им грозят сроки, поскольку то, что они делают, противозаконно. Статья такая-то и статья такая-то Уголовного кодекса гласит… и он читает статьи. Он дает им совет — куда обращаться за помощью, если дело дойдет до суда. Командир омоновцев приказывает своим людям убрать этого провокатора. Они подступают к нему, но судья, совсем как в американском фильме, выхватывает из кармана удостоверение и сует им под нос. Омоновцы замирают, командир орет: да уберите же этого законника!
Они снова подступают, но тут из толпы выскакивают еще семь или восемь судей с раскрытыми удостоверениями и отдают омоновцам совсем другие приказы, в частности требуют арестовать командира. Опешившие омоновцы замирают перед кордоном из удостоверений, не зная, кого им слушаться, и, чертыхаясь, идут к своим.
Хорошо бы у всех было по удостоверению.

Буква «О» представляет собой расположенную посередине венгерского алфавита правильную окружность, каждая точка которой равноудалена от центра. Таким образом, центр буквы «О» может считаться центром венгерского языка.
Австро-венгерская монархия. Хорошо в стране огромной жить! Куда лучше, чем в куче маленьких. Наблюдать из окна вагона меняющиеся пейзажи, говорить на нескольких языках, вступать в смешанные браки, каникулы проводить на море, потрахивать нацменьшинства, угнетать другого в самом себе, сидеть в кабаке, быть относительным, исповедоваться и отпускать грехи, по утрам, просыпаясь, ощущать на губах вкус свободы.[55]
Зденка — синий чулок митинговой эпохи. Завидев иностранца, она сразу воображает себя на Западе и закидывает ногу на ногу. Ее мини-юбка столь минимальна, что в штабе ее не подпускают даже к ксероксу. Она спускается вниз, на улицу, чтобы немножко помитинговать, и возвращается через пять минут с двумя итальянскими журналистами. Ее просят одеваться более скромно, чтобы не отвлекать внимание от демонстрации. Она широко распахивает глаза и спрашивает зачем. Разве не она привела этих итальянцев?

Толпа, с виду напоминающая большой фольклорный ансамбль, как один человек требует, чтобы оппозицию привлекли к ответу. Море разинутых ртов. Невозможно дважды заглянуть в один и тот же рот. Нет нужды объезжать всю страну на велосипеде — вся страна сейчас здесь. Даже из-за границы приехали. Головные уборы четников и овчинные шапки, мужики пьют самогон из карманных фляжек. Здоровый дух протеста шибает им в головы. Автобусы прибывают с раннего утра, за лобовыми стеклами — портреты Милошевича. Сидящие в автобусах по-идиотски машут из окон, думая, будто все только их и ждали, и вот они — прибыли на подмогу. Зомбированные манифестанты чем-то напоминают воскресших из мертвых. Они прославляют Мир и Свободу, Слобо и Миру. Смесь амнистии и амнезии с переменным октановым числом. Им раздают пропагандистские материалы, каждый получает портрет или флаг, а также бумажный пакет с завтраком и яблоком. По улицам проходит минувшее сорокалетие, социалистические лица в соответствующих эпохе костюмах. Золотые и железные зубы в одном и том же рте. Школьная экскурсия в поисках утраченной моды. По пиджакам можно определить, откуда приехали их носители. Так одевались немолодые люди, когда я был маленький. Интересно, а двадцать лет назад они носили наряды сорокалетней давности, подчеркивая свое неприятие современности, или уже тогда на них были те же шмотки, что и сегодня? Сторонники Милошевича одеваются в кожаные пальто, плащи, все — осенних тонов, оппозиция носит пуховики и отдает предпочтение ярким цветам. Хотя бывает и наоборот. Вот они здесь — все, кто попался на удочку югославского братства, кто думал, что Тито вечен, что Милошевич спаситель нации, что наших предков выперли из рая из-за съеденного яблока. Все, кто верил, что октябрьская революция произошла в ноябре, что во всем виноваты американцы, что на улицах Белграда бесчинствует кучка студентов. Все, кто попадался на все удочки подряд, сейчас здесь. Все, кто клюнул, купился, съел, заглотал, влип, попался и отказывается теперь верить, что их надули, что они — пушечное мясо, беглецы из склепа, простофили, югославы.

Киргизская конница смела хорватскую пехоту. На Пасху Иосип Броз, сержант Императорско-королевской армии, был взят в плен у Окна, что в Галиции. Ему в спину вонзилась пика. Окно — не только окно, но и местечко в Галиции. Он пришел в сознание в монастыре, где был развернут полевой госпиталь. Сестра привязала к его койке красную ленточку, это означало, что он не жилец.
Последний школьный урок истории, который я помню, был про Первую мировую войну. Андраш Пороги в красках живописал нам динамично меняющуюся картину политических и военных событий. Сараево, Масарик, маршал Фош, Босния и Бессарабия вместились в один урок. Мы хохмили, представляя распад монархии чисто физиологически. Но Пороги даже не улыбнулся. Вот тогда я и понял кое-что про историю.


Люди перепугались, они высыпали на улицу и встретились с тем, чего они так боялись. Но теперь это уже не страшно. Я иду к центру города по бывшему проспекту Тито, позади меня маршируют омоновцы. Если я остановлюсь, они пойдут дальше, о правилах вслух не говорится, но их знают все, и мы, и они. Сила действия равна силе противодействия. Толпа скапливается перед оцеплением. Как только нас будет больше, чем их, мы повернем обратно.

Окножираф: «Если ты идешь, я тоже иду. Если ты не идешь, я тоже не иду. Если бы человек умел летать, Петер перелетел бы через океан».
Третье протестное полнолуние. Луна взошла рано. В зоопарке у подножия крепости душераздирающе кричит павлин-альбинос. Наверное, его напугал треск льдин на реке. Или павлин-альбинос всегда так кричит? Кошмар. Даже голос у него бесцветный. Курьезы природы всегда украшали дворцы. В Лас-Вегасе два тигра-альбиноса стоят у входа в отель «Caesar’s Palace». Будь у меня выбор, я бы предпочел быть тигром-альбиносом в Вегасе, чем павлином-альбиносом в Белграде. Но выбирать не приходится. Гигантское чертово колесо вращается вхолостую, на нем никого, куда ни переведешь взгляд, повсюду — глубинный смысл, он захватывает и тянет тебя за собой. Под тобой золотые копи. Всего-то и надо — копать, пока не докопаешься до кельтских, римских, готских, греческих, аварских, болгарских, венгерских, сербских, хорватских, турецких, немецких, австрийских, русских костей, до костей всех европейских и азиатских народов, наемников и союзников, шведских, татарских, французских, швейцарских, мамелюкских, сирийских и персидских воинов, которые похоронены у подножия этой стратегически важной высоты. В ясный день отсюда можно и Византию увидеть. Кричит павлин-альбинос, он меряет меня своими безжизненными глазами. Потерянная душа.

Во сне два каких-то типа так меня отдубасили, что на следующий день я не мог встать с постели. Пришлось остаться под одеялом и продолжать смотреть сон. Они появлялись каждую ночь и угрожающим тоном спрашивали, как здоровье. Они еще спрашивают! Иногда они что-то черкали в моей истории болезней, но прочесть я не мог, потому что не мог встать с постели. Они оставили номер телефона, по которому я могу позвонить им во сне. Потом надолго пропали. Целыми неделями ничего не происходило. Я не выдержал, позвонил им, это я, сказал я, что вам надо? А, это вы, сказал один из них, опять вы, что значит опять, я звоню первый раз, конечно, конечно, все так говорят, кончится тем, что вы будете отрицать, что это ваш сон. Они попытались отделаться от меня и пожелали приятных сновидений, но я закатил им истерику, потребовал объяснений. Что здесь происходит? Тот, кто повыше, наклонился ко мне и прошептал, а вы правда хотите знать, и посмотрел мне в глаза своими мутным взглядом, тут я спохватился, бог мой, да ведь я с ними разговариваю по телефону, какие глаза, какой взгляд, но они быстро положили трубку. С тех пор этот номер все время занят. А может, я вовсе и не звонил им.

В семидесятых у группы «Камень на камне» был хит про Тито. «Если вечность существует, если имя есть у нее, то имя это — Тито».
Окножираф: «В дальних странах, где не бывает зимы, растут тропические леса. В тропических лесах гулять опасно». Тропические леса иначе называются джунглями. О джунглях см. также на буквы G и К.

В два часа ночи толпа начинает обратный отсчет, каждый час — Новый год, когда мы доходим до ноля, на шею мне вешается девушка, то ли блондинка, то ли рыжая, в оранжевом свете уличных фонарей не разберешь, но это не имеет значения, она уже повисла на шее у кого-то другого. Студенты читают скучающей милиции учебник по электротехнике, а также «Критику чистого разума». Когда заступает новая смена, оркестр играет пришествие святых, уходящий отряд публика провожает аплодисментами. Омоновцы стараются не попадать в ритм хлопков, но все-таки в результате возникает некая гармония, марш-марш, ребята в униформе садо-мазо, вооруженные до зубов. Новые парни идут в полусне, машинально, вихляют бедрами. Со строевой подготовкой у них неважно. В сторону оцепления отправляются заводные игрушечные солдатики, один упирается в омоновский ботинок и марширует на месте, другой проходит под щитами и под сдавленные вопли восторга движется по оцепленной территории, пересекая площадь. Офицер ОМОНа не замечает его, они вместе с игрушечным солдатиком маршируют бок о бок, маленькая заводная игрушка рядом с большой заводной игрушкой, два зайца на батарейках, которые работают, и работают, и работают.

«Окножираф»: «Мы, люди, не всегда были такими, какие мы сейчас. Сто тысяч лет назад человек был пещерным человеком». Пещерный человек не всегда был таким, какие мы сейчас. Ни один пещерный человек не был похож на другого пещерного человека, за исключением однояйцовых близнецов. Но даже и в этом случае мы ничего не можем знать наверняка.
Окножираф: «Это красный цвет. Для красного у нас есть два слова — красный и алый. Красный — цвет крови.

Гвоздики тоже бывают красными, как спелая черешня. В календаре праздники отмечены красным. См. также алый под буквой «V».
Хоронят «Политику». Тысячи людей стоят в скорбном молчании, скончалась бедняжка. «Политика» умерла, а в газетах — ни слова. В ее память горят свечи, перед входом в редакцию бросают цветы. «Политика» была Газетой. Даже Тито ничего не мог с ней поделать. Но это было давно. Несколько тысяч читателей идет за гробом неприсоединившегося мира. Зимний вечер, трепещет пламя свечей, люди скорбят по «Политике».
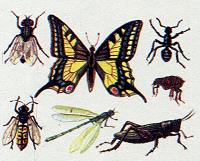
На середине дистанции у меня свело ноги. Я помахал спасателям в лодке, чтобы они плыли дальше, и в этот момент на руку мне села бабочка. В то время я был под влиянием своего двоюродного брата из Ниредьхазы, который зачитывался Тандори. Я ловил мух в нашей квартире и выпускал в окно — на волю. И делал это не по одному разу за день. Мы оба были усталыми и растерянными, бабочка села мне на лоб, мы оба понимали, что ни я не могу утянуть ее с собой вниз, ни она не может поднять меня. Так мы и болтались между северным и южным берегом. Эта бабочка с ласточкиным хвостом и загибающимися усиками для насекомого выглядела весьма разумно. Она не могла улететь, потому что крылышки ее намокли. Когда я присмотрелся к ней, то понял, что это дух, гений бабочки. У нее был такой понятливый взгляд. Ее беззащитность придала мне сил, ровными движениями я начал грести туда, откуда приплыл, как будто мне было все равно, плыть к южному берегу или северному, в Акапулько или в Аден, как будто мне было все равно, вперед плыть или назад. Я думал обо всех бабочках, которых замучил когда-то, которых разрывал на части, прокалывал булавками, оставлял в банке на солнце, давил ногами, сбивал теннисной ракеткой, поливал инсектицидами, препарировал бритвой. Но бросить бабочку на произвол судьбы среди Балатона — это как-то бесчеловечно. Я плыву, работая только руками, лицо мое обгорает на солнце, задница мерзнет, я ненавижу себя. И ненавижу высокие слова. Хотя они-то и держат меня на плаву. Тренер говорит, что я одаренный, но под водой ведь не поговоришь. Под водой, еще чего не хватало! Я боюсь, что она улетит, снова упадет в воду, и тогда все будет напрасно; я надеюсь, что она улетит и избавит меня от поисков объяснений. Я плыву на спине, держа голову над водой, бабочка своими усиками щекочет мне нос, ощупывая волоски в ноздрях. На середине марафонского заплыва через Балатон у меня свело ноги. Я лег на воду и постарался расслабиться. Надо мной в небе плывет жираф в виде облака. Он тянет свою длинную шею к листьям, тоже из облаков, но ветер уносит их прочь. Жирафья шея превращается в петлю, он просовывает в нее голову и исчезает с неба. У жирафа длинная шея, чтобы он мог доставать листву на высоких деревьях, или деревья стали высокими, спасая листву от жирафов? Или и то и другое одновременно, в результате чего родился компромисс?


Облако — это сам компромисс, застывшее озеро в небе. Проследить за облаком с начала и до конца, проследить, как оно упадет в Балатон.[56]

Мне позвонил Г. Сегодня десятитысячный день моей жизни. Он сосчитал. Я мог бы написать дневник, сказал он, одного дня. Десять тысяч дней, семь високосных лет. Как он мог так точно все сосчитать. Я сосчитал сам. Десятитысячный был вчера. Опять я отстал от жизни. Свой десятитысячный день я посвятил букве «Р».
Три тысячи омоновцев перед Белым дворцом, напротив вывески «Югословенска книга». Какого-то парня швыряют в витрину. Стекло разбивается, и он запутывается в рекламной ленте «Филипс»: «Изменим жизнь к лучшему».
Во второй половине дня предпринимается скоординированная воздушная атака на Верховный суд. Белградцы забрасывают государственные учреждения бумажными самолетиками. Бомбежка как катарсис городской психе, каждый может порассказать кое-что о бомбежках. Бессмертная душа Белграда возрождается в бомбовых воронках, этими воронками ее неустанно оплодотворяют похотливые враги. Белград без бомб — все равно что Париж без Эйфелевой башни, Нью-Йорк без Статуи Свободы, Будапешт без мостов. Это и терапия, и перформанс. Если помощь не придет извне, белградцы сами будут бомбить Белград. Размахивая руками, как крыльями, человек бежит к стене, готовый в любой момент взлететь.

Милорад Павич развлекает массы литературными фокусами: роман про таро, пьеса в жанре ресторанного меню, хазарский словарь. В руке — трубка, седые усы, снисходительная улыбка. Сербский Шерлок Холмс. Полгода назад он поддерживал войну и Милошевича, вчера вечером он выступал на студенческом митинге. Он надписывает мне книгу. Текст понятен, но почерк такой, что ни одной буквы не узнаю. Что вы думаете по этому поводу, дорогой Ватсон?
В Белграде меня пригласили на конференцию по сербскому национализму. Во время перерыва я слышу, что в Косово милиция расстреливает людей с вертолетов. Выступающие соглашаются в том, что сербский национализм хуже венгерского. Сербам еще не врезали по заднице. Во сне мне являются мать Тереза, албанка по происхождению, и Сильвестр Сталлоне. Сильвестр нежно поддерживает этого хрупкого ангела, мать Терезу. Она говорит со мной по-албански, и я ее понимаю. Она просит меня не делать поспешных выводов, если я найду правильный тон, меня поймут. Сильвестр кивнул и добавил, что лучшие поэты — бенгальцы. Он поднял указательный палец к лицу, загримированному под камуфляж, ангел его уснул, и, унося ее, он на цыпочках удаляется из моего сна. Эта картина, «Пьета» наоборот, долго еще не дает мне покоя. Почему бы им на пару не поработать на CNN? Неплохая бы получилась программа.
Из бурной истории ацтеков. На окраинах Габсбургской империи некогда прозвучало пророчество о том, что изгнанный бог вернется. У него будет светлая кожа, борода, и даже год был предсказан правильно. Кортес появился в назначенное время, в год Венеры. Его приняли за крылатого змея, он отнял у них золото, опустошил их столицу, убил их царя Монтесуму. Пока испанцы занимались завоеванием Теночитлана, турки захватили Нандорфехервар и взорвали тот бастион, с которого Дугович прыгнул навстречу смерти. Венгерское королевство распалось на части, венгерская корона в конце концов оказалась в Вене, как и головной убор Монтесумы из перьев. Впоследствии венграм их корону вернули, но ацтеки до сих пор митингуют перед венским Музеем этнографии, они утверждают, что это — не произведение искусства, а реликвия. А музейщики им отвечают, что ацтеки сами, мол, сперли эти перья у порабощенных ими народов. Крылатый змей — вот еще чудо в перьях! Кетцакоатль — позарез он нужен этим грязным индейцам. Они, небось, про него в каком-нибудь летнем университете слыхали.


Q — двадцать девятая буква венгерского алфавита. Нет ни одного венгерского слова, которое начинается на букву «Q›. Улица Гаврилы Принципа — это улица проституток. Возможно, Гаврило тоже сюда наведывался, пока не бросил учебу и не отправился в Сараево. Мелкие знаки симпатии, вроде интерактивного голосования по ТВ, памятники обделаны голубями неодинаково. Наверное, герои борьбы за независимость чем-то привлекают девиц. Несбывшиеся мечты. Пожалуй, стоит провести урбанистический анализ постмонархической ситуации для выяснения взаимосвязи проституции с антигабсбургскими настроениями. Ведь не каждому так везет, как Ференцу Ракоци с его площадью.[57]

Бешник Рештелица, один из шестидесяти шести албанцев, арестованных в конце января, умер в камере в возрасте тридцати лет. По официальным сообщениям, Б. Р. связал две футболки и удавился на нарах. Косовская освободительная армия призвала албанцев к вооруженному восстанию против сербских оккупантов.
Я еду в поезде с венгерской девушкой из Нови-Сада. Хороша невозможно. Ощущение — будто в грязных ботинках ввалился в чистую горницу. Поезд останавливается, но я остаюсь. Развалины над Дунаем. Стены того и гляди обрушатся с береговой кручи. Руины спроектированы так, что вот-вот упадут, но они не падают. В отличие от домов, построенных, чтобы стоять, но это лишь видимость, даже если они стоят годами. Пустынный вокзал. Промежуточность, перевалочный пункт бытия, для восточноевропейца — жизнь, для буддиста — смерть. Но тот, кто выходит здесь, должен чувствовать, что он прибыл на место. Поэтому вокзальные строения выглядят так надежно. Поезд останавливается, и в любую минуту ты можешь оказаться в городе, в котором когда-то жил. Девушка машет рукой. На моем лице — беззаботность курортной открытки. Исторический опыт: жизнь — вечное состояние переходности, переступая порог, вытирайте, пожалуйста, ноги. Так что давай, маши мне, ты видишь, я тоже тебе машу. Если бы не монархия, все было бы по-иному. Я здесь не был бы гостем, а ты — колониальным товаром.

На площади Конституции группа проправительственных демонстрантов, заблудившись, по ошибке примыкает к антиправительственной демонстрации. Оратор с жаром говорит о Сербии, какой бы она могла быть красивой и свободной, свободной и красивой. Старики согласно кивают: хорошо говорит. Кивая, они оглядываются по сторонам — кругом молодежь, замечательно, молодцы. Но один из них замечает, что в руках у соседа — портрет Вука Драшковича, и шарахается, будто ступил в дерьмо. Что такое, вопит он, измена! Толпа оборачивается и видит Милошевича в тридцати экземплярах. Потрясенная тишина. Косовары озираются по сторонам, там и тут — портреты Милошевича, что-то будет? Старики извиняются, не туда попали, и хотят незаметно покинуть площадь, но раздраженная толпа уже взяла их в кольцо. У них отнимают Милошевича, сбивают с них шапки и напихивают в них гнилые овощи. Старики, наложив в штаны, бегут по незнакомому городу, уворачиваясь от тумаков и струй кипятка, которым их поливают из окон. В Белграде разворачиваются уличные сражения, плачущие старики забиваются в припаркованные напротив французского посольства междугородные автобусы, вокруг которых скачут студенты с палками от транспарантов. Новый герб Белграда: молодой оппозиционер кидает яйцо в пожилого крестьянина, обороняющегося из окна автобуса яблоками. В центре города на защиту проправительственных демонстрантов встает милиция. Через головы омоновцев толпа швыряет яйца, картошку и гнилые фрукты в своих противников, которые отвечают ей транспарантами. Местные получают дополнительные боеприпасы в виде нескольких мешков картошки. Волейбол с милицейским кордоном в качестве сетки. Один из контрдемонстрантов блокирует капустный вилок портретом Милошевича, и он возвращается на половину противника. Мяч попадает в сетку, томатные струи стекают по шлему омоновца. Яблоки на исходе, старики швыряются тем, что летит в их сторону. Цены на яйца и помидоры — оружие однократного применения — штурмуют небо. Нелепо топчутся, озираясь по сторонам, защитники государства, насекомые в пуленепробиваемых жилетах и защитных шлемах.

Окножираф: «Плакать — плохо, смеяться — хорошо. Бояться — плохо, радоваться — хорошо. “Плохо” — это противоположность “хорошо”».[58]
Пластик стукается о пластик, омоновцы ухмыляются, они забыли, что в шлемах их головы больше. Один из них поднимает щиток шлема, мы оба по-дружески закуриваем «Житан». Он просит, чтобы я не снимал его с оппозиционной газетой в руках, и засовывает «Демократию» за бронежилет. Он обращает мое внимание на коротышку, постукивающего по ладони дубинкой, — с этим лучше не связываться. О том, что в городе небезопасно, что всюду полно милиции, меня предупредили в первый же день. Для омоновцев построили специальные казармы. Те белградцы, которых мучает бессонница, вместо белых баранов считают омоновцев.
Демонстрация моды на подиуме Белграда. Триада «щит, резиновая дубинка, револьвер» — неизменная принадлежность любой униформы, но такие аксессуары, как бронежилет и дополняющий его противогаз, придают подразделению имидж элитности. Вроде бы незначительные, но на самом деле весьма существенные детали: разная длина резиновых дубинок, наличие или отсутствие пластиковых щитков на шлемах, сдвинутых на затылок, надвинутых на глаза или игриво скошенных набекрень. Предпочтительно иметь сексуальный подбородок, потому что в полной экипировке это единственная открытая часть лица. В набор аксессуаров могут входить также автомат, гранатомет — очень круто и по-мужски, и все более входящие в моду уоки-токи. Новая — удлиненная — модель бронежилета напоминает домашний халат цвета хаки. Если поднять защищающий муди передник, то можно засунуть в него кучу всяких необходимых омоновцу мелочей, что создает впечатление элегантной раскрепощенности. Туда же, как в муфту, можно засунуть озябшие руки. Освободившись от резиновой дубинки и уоки-токи, можно сунуть большие пальцы за проймы жилета, как за подтяжки. Эта поза, невозмутимая и исполненная сознания человеческого достоинства, свидетельствует о том, что экономически возвышающееся омоновское сословие вливается в ряды буржуа. Манекен, диктующий современную моду, — уже не презренный сапог, а часть прогрессивного класса. Он уже не суровый вохровец. Даже стоя на месте, омоновец производит впечатление спокойно прогуливающегося человека.

По-сербски «реч» значит «слово». По-венгерски «реч» — треск. Радиотрескотня. Жену Милошевича зовут Мирьяна Маркович.[59] У них есть дочь Мария. У Марии есть радиостанция. Они контролируют СМИ. Производят слова. Реч, реч, реч.

Запретили радиостанцию В-92. Там как раз сравнивали Гитлера с Милошевичем, их восхождение к власти, когда передатчик был отключен. Сверхчувствительность или случайное совпадение? Запад этого так не оставит, говорят на улице, и действительно, западные радиостанции — «Голос Америки», «Свободная Европа», «Немецкая волна» — предоставляют В-92 свою частоту. Независимые газеты проводят параллели со Второй мировой войной, когда люди слушали Лондон, с оккупацией и, опять же, с Гитлером. Без аналогий никак нельзя. Хотя для примера можно найти и войну поближе. На следующий день демонстранты останавливаются перед зданием радио и приветствуют свободную прессу. Окно открывается, из него высовывается ди-джей с микрофоном в руке и передает новости вживую. Нет, он не говорит: последние новости — это вы, вот микрофон, кто хочет сказать, валяйте. Он разыгрывает из себя профи, который не скажет: делайте все, что вам вздумается, это и будут новости.


Девчонка с истфака вертит задницей перед костром, поворачивается спиной к кордону и все повторяет снова. Я жую яблоко, которое кто-то сунул мне в руку. История учит, что пастушьи костры не горят бесконечно, что песни теряют свой смысл. И даже девчонки в джинсах когда-то состарятся. Мы стоим с идиотским видом, не зная, зачем их преследуем. Они тоже забыли, куда и зачем нас зовут. Только огонь остается таким же, как прежде. Говорят, наши предки преследовали оленя, но повстречали женщину и в тех местах поселились. Где бы они оказались, если бы не прекратили преследование? Корреспондентам в Белграде все обрыдло до смерти, Боже мой, говорит журналист из «Шпигеля» в кофейне отеля «Москва», еще один день демонстраций. Никаких событий, никто не расстреливает сотнями мирных жителей, партийные секретари не выбрасываются из окон. Искры костра и блеяние овец, сгрудившихся вокруг, долетают до десятого этажа. Пастушеская буколика отражается в окнах города. На пешеходной улице — символическое стадо овец, манипулируемые оппозиционные агнцы, коалиционные овны, которых можно подбить на все что угодно. Они здесь, потому что устали от Балкан, больше так продолжаться не может. Отара из Златибора требует демократии, свободных выборов, законности, независимости печати. Сколько можно! До каждой давалки дошло — что было, то давно прошло, гласит граффити на белградской улице. Овцы много не говорят, но бойцы они несгибаемые. Глаза у них не спереди, а по бокам, у них нет подбородка, если глядеть им анфас, то кажется, что они постоянно ухмыляются. Овечка останавливается перед кордоном и, блестя глазами, разглядывает омоновца в противогазе.
Опять снегопад. Весна запаздывает. Декан уехал кататься на лыжах. Тридцать тысяч демонстрантов ежедневно выходят требовать его отставки. Он начинает спуск, и тридцать тысяч молятся, чтобы он пропустил поворот. Кататься на лыжах всю жизнь, огибая протестующих демонстрантов, пить глинтвейн, стрелой нестись к дому между двумя омоновскими шеренгами. Мне хочется жить в стране, где лыжные инструктора тоже ходят на демонстрации.

Барабанные перепонки лопаются. Поначалу свист вызывает боль, потом развлекает, выводит тебя из пассивной созерцательности. Если не хочешь оглохнуть, надо свистеть громче, чем остальные. Злость, если ее верно направить, становится источником наслаждения. А если и это не помогает, можно купить беруши. Надо выработать собственный ритм. Пустив в дело голосовые связки, можно даже подражать животным. Свист заполняет пространство между демонстрантами, не оставляя места сомнениям; кроме того, свисток — инструмент самовыражения, каждый свистит, как ему заблагорассудится. Учитывая экономический кризис и остановку заводов, нельзя не отметить рост свистковой промышленности. Демонстрантам предоставляется широкий выбор — от пластмассовых свистков массового производства до чудес кустарного изготовления. Помимо свистка, стоит приобрести воздушный шарик для вашего ребенка. Как буек на воде, он покажет местонахождение ребенка в толпе. Привязав шарик к вашему ребенку, вы всегда будете знать, идет ли он сам, или вы тащите его за собой по земле, — ведь крики о помощи в таком шуме вы все равно не услышите.
Не надо разговаривать, надо свистеть, говорит мне приятель, пока мы свистим, никто не поймет, что каждый из нас думает немножко по-своему.
Появляется Вук, его рассказ берет за душу, по дороге сюда, говорит Вук, он встретил старушку, старушка плакала. Он поинтересовался, почему она плачет. Почему вы плачете, бабуля, спросил Вук Драшкович у старушки. И старушка ответила, что она плачет, потому что ей приснилась свобода. Во сне, сказала она, не было никаких кордонов и можно было ходить куда хочешь. Вот что сказала бабуля Вуку, заливаясь слезами, и Вук делится этой историей с нами, он подымает невидимую старушку на руки и размахивает ею над головами толпы.

Вчера ночью мне приснилось, что я супермен и нахожусь в югославском мегаполисе.
У меня особые, двойные, очки, в них я вижу сквозь все кордоны и вижу насквозь политиков-двурушников. Я один, как это принято у суперменов, я иду домой повесив нос, и тут ко мне подходит Вук Драшкович и спрашивает, почему я плачу. Скажи мне, Вук, почему я плачу?
Парочка целуется на демонстрации, толпа распаляет их страсть, они целуются с закрытыми глазами, плывя по течению в людском море.


Девушка приоткрывает один глаз: проверяет, на месте ли город. Их несет в мою сторону, во рту у меня свисток, в ладони — орешки, я уже не успею от них увернуться, но в последний момент они натыкаются на фонарный столб. Парочки придают толпе новую энергию, обнимающихся обнимают, make love, not war in Serbia! Ходить на демонстрации с напомаженными поцелуеустойчивой помадой губами, встретить в толпе свою единственную любовь, восточноевропейская история по голливудскому сценарию.[60] Пока выступал Драшкович, я взял ее за руку, пока выступал Джинджич, обнял за плечи, пока выступал Весна Пешич,[61] я нежно привлек ее к себе. Заедно!
Днем рождения Тито было избрано 25 мая. Что-то нужно было вписать в биографию. Тито знал только месяц своего рождения, крестьянскому мальчишке из Загорье не справляли день рождения. Потом выяснилось, что на самом деле он родился 7 мая, но к тому времени 25-е стало Днем молодежи, в связи с чем проводилась всеюгославская эстафета, и переигрывать было уже поздно. Народ восхищался юношеской энергией Тито, говорили, что у него и после семидесяти были любовницы. Он возродил обычай габсбургских времен и готов был считаться крестным отцом девятого ребенка во всех многодетных семьях. День молодежи транслировали по ТВ на всю Югославию, эстафетную палочку передавали из рук в руки, как Олимпийский огонь. Молодежь каждого города должна была бежать со своей, изготовленной местными мастерами эстафетной палочкой. Я как-то видел финиш такой эстафеты в кино. Девушка вбегает на заполненный зрителями стадион, бежит по красной ковровой дорожке и, подбежав к почетной трибуне, целует мафусаила. В семидесятые это мероприятие довели до анекдотичности. Начали проводить конкурс на самую красивую эстафетную палочку, за эстафету по очереди отвечала каждая из республик. Эти соревнования проводились даже после смерти Тито. Последнюю эстафетную палочку изготовили словенцы, она весила тридцать килограммов и была высечена из мрамора. Словенцы же изготовили постер, образцом для которого послужил плакат гитлерюгенда. Скандал положил конец ежегодной эстафете.

Тщательные приготовления перед демонстрацией, стражи порядка слушают политинформацию дотошного продавца газет. Один из омоновцев, страдающий манией чистоплотности, старательно протирает щиток своего шлема. Постоянная тема: как соблазнить омоновца. Пригласить домой и представить родителям. У парней особого энтузиазма это не вызывает. Они забрасывают кордон презервативами и при этом орут: гондоны для гондонов! Ну что ж, можно считать, что резиной милиция обеспечена.
Неистовое разнообразие одежды в ответ на единообразие милицейского стиля кульминирует в головных уборах. Клоунские колпаки, ночные чепцы, шапки четников и шахтеров, епископские митры, охотничьи шляпы, адмиральские фуражки, пастушьи шапки, цилиндры, лыжные шапочки, овчинные шапки, меховые шапки, жокейские шапочки, картузы, кепки, бейсболки, бескозырки, титовки, моя московская ушанка, шляпы из яичной скорлупы, изготовленные студентами Академии художеств, головные уборы инквизиторов, генеральские фуражки. А напротив — три или четыре тысячи синих милицейских касок.
Ольга, восьмидесятишестилетняя переводчица с английского, которая многие годы выигрывала конкурс на самый красивый балкон, стала символом революции. Толпа останавливается перед ее домом и кричит: супербабуля! супербабуля! Ольга машет рукой, машет флагом, посылает воздушные поцелуи; когда мы проходим под ее балконом, она плачет, ее слезы капают на нас, она вытирает глаза триколором и бросает нам на головы цветы. Ольга — самый красивый балкон в Белграде.
Сербский анекдот: кто самый великий серб? Ответ: Мехмед-паша Соколович, победитель при Сигетваре и Триполи. История успеха по-сербски. Он родился в боснийском городе Сокол, когда ему было восемнадцать, Соколовича забрали турки в счет дани. Он выучил турецкий, обратился в истинную веру, и его редкие организаторские способности вскоре были замечены. Устроившись как следует, он выписал к себе семью. В 1546 году он командует средиземно-морским флотом и берет Триполи. В последующие годы он появляется в разных концах империи, в битве у Лепанто, на Дону, под Эгером, в Йемене. Это он построил мост через Дрину. Будучи султанским наместником на Балканах, он присутствовал при резне защитников Темешвара. Уже в качестве великого визиря одержал победу при Сигетваре, для чего ему пришлось утаить весть о смерти султана. Это при нем был разрублен на куски Зрини, когда тот, невзирая на превосходящие силы противника, предпринял вылазку из крепости. Несколько раз прибывали к нему посольства с просьбой выдать останки Зрини, и в конце концов, пусть неохотно и только отчасти, он все же удовлетворил пожелание венгров.

В первом классе нас научили писать, составляя слова из букв. Слова, как решения, были в особой книге, их нужно было только читать. В словаре были все слова, какие только можно произнести. Словарь принадлежал миру взрослых, но я чувствовал, что он существует отдельно от них, что словарь обладает какой-то магической силой. Если слово, которое ты произнес, отсутствовало в словаре, оно не имело смысла. Смысл имело лишь то, что написано.
В словаре рядом стоят такие слова, которые в реальной жизни никогда не встречаются вместе. Словарь — место встречи, случайность становится в нем закономерностью, точно так же как в классном журнале. Журнал — тоже словарь, в котором зарегистрированы мои данные: фамилия, дата рождения, имя и род занятий отца. Из журнала можно узнать, что мои родители — инженеры-электротехники, я сын инженеров-электротехников, это подразумевает, будто я должен что-то знать про электричество и технику. Будь у нас в классе хоть один сын писателя, можно было бы устроить отличный тест. Алфавит казался таким же неизменным, как место в шеренге на физкультуре. Он находился вне времени, во всяком случае, так нам казалось. Кого вызовут к доске? Не успел я родиться, как превратился в слово.
Все слова в словаре важны, по отдельности они бесполезны, но все вместе приобретают смысл как классный журнал. Солидарность слов создает язык, так же как солидарность в классе (отвечать могут вызвать любого) создается перекличкой. Наши имена называют вслух, проверяя по порядку, от А до Z, от Алмаши до Зуппана, все ли на месте.

Свобода — наше общее дело. Свобода — не пустое слово. Свободно приходить и уходить, он свободен как птица, воздух свободы кружит голову. Свобода — состояние души. Свобода — это ощущение, гора Свободы, «Свобода» — это газета. Свобода — это свобода мысли, свобода печати. Свобода — это автомобиль. Пардон, не «свобода», а «Победа». Свобода — это радиостанция, свобода — это выходные, что ты делаешь в субботу? Свобода — это отпуск, каникулы и отгулы, пусть побегает на свободе, отдайся свободному полету мысли! Свобода ассоциаций, поэтическая свобода, жить свободно, свободно перемещаться. Свобода по-русски, свобода на языке глухонемых, телесная свобода, свободный вход, свободный стих, свободный бросок, свободный удар, свободная речь. Свобода — это свобода рук, свобода действий, свободное владение языком, свободный доступ. Свобода — это свободное пространство, свободное падение, свободный полет. Провозвестник свободы, вкус свободы, это сладкое слово «свобода». Она умеет пользоваться свободой, его свобода ограничена, пределы свободы, у него нет свободной минутки. Здесь свободно? На свободу! Это уже площадь Свободы? Глоток свободы, она не знает, что делать со своей свободой, мне не удалось использовать свое свободное время, ему бы освободиться от всего этого, теперь она свободная женщина, ему нужна свобода, свободный художник, свою свободу он продал, передал, предал, востребовал, его свобода ущемлена, урезана, ограничена, попрана, свобода — это осознанная необходимость. Свободу нельзя приватизировать, свобода принадлежит всем, одна свобода, две свободы, свободы народа, народно-освободительные движения, встретимся на площади Свободы. Свободная торговля, свободное предпринимательство, чувствуй себя свободно, свобода спать под мостом. Свободная экономическая зона, свободу рабам, свобода или смерть, труд делает свободным. Свобода! можно ли ее потрогать, посидеть на ней, побить ее, съесть ее, выпить ее? Освободи свое сознание! Свобода — это увольнительная, свобода — это заграничный паспорт. Освободи свое тело от одежды, освободи душу свою от эмоций, пусть все станут свободны, освободи душу мою из застенков, приди, свобода, наведи порядок! Свобода — это свободные каменщики, свободные профсоюзы, свободные профессии. Свобода — это комфорт и сухость, весь день я чувствую себя свободной! Свободно висеть, свободно расти, свободный выбор, свобода действий, свобода рук. Что такое свобода? Свободная любовь, свобода секса, навязывать кому-то свободу, отнимать у кого-то свободу, высвободиться из чьих-то объятий, она освободилась от своего сладкого бремени, он свободно принял решение. Личная свобода, свобода воли. Свобода экспроприации, борьба за свободу, свободен лишь тот, свободны ли вы? потанцуем, проведем вечерок, ночь? Он свободен, он несдержан на язык, он свободен в своих перемещениях, он теряет свободу, возвращает себе свободу, и нет этому конца, дай же мне свободу, дай мне ее, Слободан!
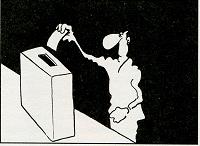
Назвать своего ребенка Свободой. Малыш, которого так назвали, был внебрачным ребенком. Вот он, Слобо, с пухлыми пальчиками и беззубым ртом, смеется на фотографии. Детство Свободы.

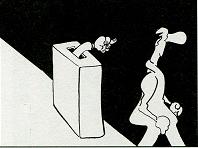
Слобо, поди сюда! Большие мальчишки хватают его и отнимают мороженое. Говорят, Милошевич суицидальный тип, если он проиграет, то потянет за собой массу людей. Свобода или Слободан? Магия слов? Ирония?
Граффити[62] на стене университета после речи Милошевича: «Зачем ты говоришь, что любишь, если просто хочешь трахнуть меня?»
Окножираф: «Тысяча один больше, чем тысяча. 1001 больше, чем 1000».
Ночью у кордона проводится конкурс красоты. Стоящие в оцеплении автоматически становятся номинантами. Решением женского жюри звание «Мг. Police» присуждается усатому омоновцу. «Miss Student Protest» становится маленькая блондинка. Попытки заставить призеров сойтись поближе заканчиваются провалом.

Согласно местному календарю, идет семьдесят шестой день демонстраций.
Цифры меняются на табло. Белграду пошел третий месяц. Каждый считает себя папашей и мечтает усыновить младенца, несмотря на все привходящие обстоятельства. У ребенка отекли ножки, его тошнит, но по утрам, когда он просыпается, он прекрасен.
В начале был советский авангард. Надеялись продолжить игру в революцию, ставя уличные спектакли. Если искусство и жизнь — это одно, то революция — величайший театр жизни. Ты вовлекаешь публику в действо, убеждаешь ее в том, что ее судьба — в ее руках. Им хотелось создать театр, в котором человек улицы поверил бы, будто он и делает историю. С участием тридцати тысяч статистов они поставили штурм Зимнего. Рисовать декорации помогали Малевич и Шагал. Они устраивали открытые шахматные турниры с настоящими конями и всадниками, настоящими ладьями и настоящими пушками. У зевак тоже было настоящее оружие, шла гражданская война, белые были на подходе. Маяковский обратился к поэтам с призывом выйти на улицу. Только тот коммунистистый, кто мосты к отступлению сжег, сказал Маяковский в стихотворении, озаглавленном «Приказ по армии искусства».

На день святого Саввы огромная процессия направляется к недостроенному кафедральному собору. Когда его завершат, это будет самый большой православный храм в мире. Студенты идут с золоченой Богоматерью Троеручицей, копией с копии старинной сербской иконы, присланной сюда монахами Хиландара. Святой Савва — покровитель студентов, Господь с нами, кричит Чеда. Студенты молятся, чтобы кончилась зима, а когда она кончится, пусть явится Весна Новой Сербии. Патриарх благословляет молодых демонстрантов. Православные священники идут плечо к плечу, черные рясы, пышные бороды, тяжелые кресты. Когда они проходят в рядах демонстрации, из динамиков несется хит AC/DC «Highway to Hell». Наверное, кто-то решит, будто я это сам придумал, или слышал от кого-то, или прочитал в книжке.

Радио просит слушателей по имени Слободан Милошевич и Мира Маркович подойти к кордону. В телефонной книге несколько страниц Милошевичей, у каждого есть по меньшей мере один знакомый, которого зовут Слободан Милошевич, только вот телефонных книг ни у кого нет, чтобы раздобыть экземпляр, мне понадобилось несколько месяцев. Слободан означает свободный, то есть освобожденный от турецкого ига, это «говорящее» имя возникло в XIX веке. «Слободан — это значит свобода, / Ты, Слобо, надежда народа», поют косовары, эту частушку можно приобрести на кассете. Вскоре начинают собираться тезки, разбившись на пары, они подходят к омоновцам и говорят им, что, мол, все в порядке, можно идти по домам. По радио В-92 сообщают, что на Марсе строится база, первыми — на разведку — туда будут посылать коммунистов. База экспериментальная, поэтому кадры нужны проверенные.

По старинной традиции в ходе масленичного карнавала разыгрывается борьба весны с зимой. Историческая постановка под названием «Осада Белграда» — квинтэссенция всех предыдущих осад Белграда. Театральной площадкой является весь Белград. Все участники карнавальных игр разделились на две команды. Задача команды зимы — охранять исконные ценности, защищать господина и повелителя крепости, цель команды весны — воспользовавшись всеобщей неразберихой, попытаться установить новые правила и посадить в крепости своих людей. Зимние одеты в грязно-серую, безрадостную униформу, это — аллегория смерти. У зимних в команде нет женщин. Нападающие одеты пестро, кто во что горазд, они — олицетворение весны, воплощение перемен. Хореография построена на прямых столкновениях, больших сольных номерах и перемещениях тысяч участников. Смерть в ожидании своем статична, ровные шеренги черепов в касках. Солдаты зимы закованы в броню, как черепахи и крокодилы, это — архетипические образы. Князя зимы обороняют допотопные животные. Кордебалет демонстрантов с намазанными гримом ухмылками дразнят вооруженных стражей порядка. На время карнавала в турнир масок и шлемов вовлекаются зеваки и иностранцы, поскольку движение транспорта парализовано. Выбрать команду можно по собственному желанию, нельзя лишь оставаться в стороне. Движения зимних неуклюжи, регламентированы, их медлительность, а также четкость хореографического замысла таят в себе угрозу. Движения армии весны непредсказуемы, это каскад легких и свободных па. И, как следствие, ее невозможно пересчитать. А значит, по законам динамики нападающие получают преимущество, именно они требуют перемен, они стремятся снести старые преграды, они производят чудовищный шум, они свистят в свистки, бьют в барабаны, дудят в дудки, они вопят, орут, ревут, они используют все, чтобы запугать обороняющихся, которые не имеют возможности ничем ответить из-за статичности своего положения.
Окножираф: «Каждое живое существо растет. Сначала оно совсем маленькое, потом становится больше. Когда младенец рождается, его длина около 50 сантиметров, а взрослые бывают даже выше ста семидесяти сантиметров».
Жизнь в Белграде не замирает, по ходу демонстрации люди занимаются делами. Кто-то участвует в демонстрациях перманентно, другие могут поторчать тут часок по дороге на работу или просто выгуливая собаку, третьи, пока ораторы произносят речи, прочитывают газеты или просто выходят на улицу, чтобы пропустить стаканчик с друзьями. Демонстрации стали частью белградской жизни.


На уроках физкультуры мы маршируем на месте, подражая самим себе — тем, кем мы будем, когда дело дойдет до того, чтобы маршировать всерьез, а не стоя на месте. Пока же мы только октябрята, маленькие барабанщики, мы едем, едем, едем в далекие края, добро присутствует в нас, как в прыщике протеин. Противные маленькие людоеды, протопионеры. На уроках физкультуры мы делаем что нам велят. Мы постоянно растем, состязаясь друг с другом, нас строят по росту, я — в самом конце. В детском саду я был первый по росту, но расту я неравномерно, как учителя говорят, недисциплинированно. Есть во мне и невозмутимость большого детсадовца, и агрессивность недомерка-первоклашки. Мой дневник испещрен черной оспой замечаний. Красные пятна похвал достаются послушным альбиносам. Мой октябрятский галстук, как и мои глаза, голубого цвета. Внутри у меня — ростки добра, я маленький барабанщик без барабана. Мой сосед по парте был ниже меня, а потом вдруг стал первым в шеренге. Когда мы сидим, ничего не заметно, но стоит нам встать, и хочется провалиться под землю. Я становлюсь на скамью парты коленями или наклоняюсь, чтобы завязать шнурки, я притворяюсь, будто что-то делаю. Я готовлюсь заняться делом.

Жираф — самое высокое животное на свете. Если он высунет язык, то дотянется им до высоты в шесть метров. Жирафы спят стоя, рожают стоя, родятся стоя. Латинское название жирафа cameleopardalis, верблюдолеопард. Помесь большой пятнистой кошки и корабля пустыни. Этот дикий побег европейского рационализма — верблюдо-леопард — сравним с овцебыком или жуком-оленем. Когда жираф в хорошей форме, он запросто расправляется со своими врагами, например может так лягнуть льва, что тот полетит вверх тормашками. Завоевывая самок, самцы, словно булавой, колошматят своих соперников головами.
Они, хотя это и неприлично, высовывают свой сорокасантиметровый язык и, пользуясь им как лассо, обрывают листья с высоких деревьев.
Жирафы — миролюбивые вегетарианцы.
В неволе жирафы доживают до возраста Христа. Поскольку верблюду он дальний родственник, когда дело доходит до игольного ушка, ему, наверное, приходится легче, чем богатому человеку.
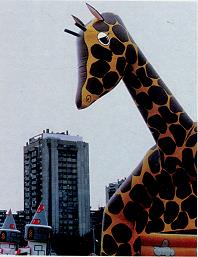
Лозунг на транспаранте, под которым я проходил каждое утро, а потом видел на значках, представляет собой фрагменты фрагментов Талмуда: «Если не ты, то кто же? Если не сейчас, то когда?» А начинается фрагмент так: «Каждый из нас хоть раз в жизни найдет того, кто в нас нуждается».
Накануне Балканской войны корреспондент «Киевской мысли» едет на поезде из Будапешта в Белград. Поскольку в Сербии уже объявлена мобилизация, на венгерском берегу Дуная ему приходится сойти с поезда и переправляться через реку на пароходе. Приближаясь к сербскому берегу, он пугается при виде караулов из ополченцев — пожилых мужиков в национальных костюмах, с ружьями за плечами, и вспоминает венгерского полковника, который в поезде в течение двух часов полировал свои ногти, вспоминает шоколадки «Милка» на белоснежной скатерти и зубочистки, упакованные в папиросную бумагу. На следующий день, сидя в кафе отеля «Москва», он растроганно смотрит на уходящих на фронт крестьян, на их опанки, на барашковые шапки с зелеными веточками. Похоже, конец неизбежен, писал тогда Троцкий.

Белградцы весело расстаются со своим прошлым, вот почему я здесь. Это не значит, что прошлое хочет проститься с ними. Но я настроен оптимистически, пусть будущей весной повторится то же самое, неважно, ведь на этом празднике прощаются не с одной зимой, а со многими-многими зимами, такой зимы, как нынешняя, больше не будет, да и весны такой тоже. Возможно, и я никогда не буду таким оптимистом, как в данный момент.
Мне снится, что я югослав, снег скрипит у меня под ботинками. Конная статуя мокнет на площади, бородатый мужчина толкает речь на одном из сербохорватских языков. Югославы по своему обыкновению митингуют, вставляют цветы в петлицы милиционеров. Девушка в шутовском колпаке подходит ко мне с дымящимся чаем.
Стой, стрелять буду, шучу я, поднимая указательный палец в перчатке. Девушка останавливается, чуть не падая на меня. От неожиданности она выплескивает на себя кипяток. Мы с парнями смеемся. Я смотрю, как она закусывает губу, старательно оттирая жилетку, которую запятнал я. У меня свербит в виске, как будто его почесывают изнутри. Я поднимаю щиток — и все понимаю.
Я — омоновец. У меня приказ. Стоять на пешеходной улице и не пропускать зачинщиков беспорядков. Насилие — не мой хлеб, но если в меня бросят камнем, мне в голову ударяет моча. Мы шагаем в ногу, со строевой у нас все в порядке, омоновский кордебалет, натренированные ляжки. Толпа рассеивается как положено, невзирая на пол и возраст. Я не садист. Мне тоже не нравится, когда бьют женщину. Я бью ее не из любви, но исключения делать нельзя. Я просто звено в цепи. Один омоновец — не омоновец. Я смотрю, как на пластиковом щитке расплющиваются лица, словно насекомые на ветровом стекле.
Когда я орудую дубинкой, меня мучает ощущение, что она у меня короче, чем у других. Я сравниваю ее с другими дубинками, да, короче, и съежилась. Я засовываю ее за бронежилет, только не надо паники.
По радио передают приказ о готовности, мы выстраиваемся. У меня самая короткая резиновая дубинка, я таких никогда не видал. Во сне я — омоновец, и дубинка моя скукожилась. Я наношу удар, но в моей руке ничего нет, демонстранты смеются. Подходит какой-то хмырь в ушанке и ухмыляется. Я понимаю, что он иностранец: белградцы ушанок не носят. Я сбиваю ушанку с его головы, вот козел, он еще ухмыляется, когда у людей на глазах съеживаются дубинки.

Во сне кто-то сунул мне сигарету. Я поднимаю щиток и все понимаю. Ухмыляющийся хмырь в ушанке — это же я. Дубинка во мне замирает. Как раз в тот момент, когда нужно продемонстрировать. Я ору на себя, какого хера ты делаешь среди демонстрантов, когда вот-вот отдадут приказ атаковать их и эти скоты размозжат мою черепушку. Если мне хочется, чтобы меня избили, я могу отправляться в другое место. Моча уже заполняет всю голову. Дай затянуться, но поздно, по радио отдают приказ, я вижу, как я дую в свисток, и мы начинаем двигаться. Я гонюсь за собой и убегаю от себя самого, толпа все ближе и ближе, мне страшно, я наношу удар, насекомое, перевернутое на спину, я сучу ногами, я никогда не бью первым, я оставляю это другим, а потом уже все равно, ведь они меня ненавидят, так что нечего играть в прятки, да, я служу в ОМОНе за хорошие бабки, а как по-твоему, чего ради мне натягивать на себя противогаз, я думаю о страхе и не смею не бить, сволочь, мать твою, морда цыганская! Корчащееся от боли сторукое и стоногое существо. Мне не нравится кровь. Зачем кровь? Зачем бить по голове, когда он и так упадет? Я не вижу ушанки. Надеюсь, я не ушибся. Любой может заиметь оружие, чего они прыгают и вопят, уж лучше бы выстрелили, чтобы зря не таскать на себе тяжеленный бронежилет.
Во сне я сталкиваюсь с самим собой, рука уже поднята для удара, остановить ее невозможно. Но в тот миг, когда я наношу удар, дубинка куда-то девается. Я просыпаюсь. Я — это я, но я все еще вижу, как я убегаю в своей ушанке, преследуемый двоими в штатском. Я несусь вдоль бульвара Тито, по проспекту Партизанских отрядов. Демонстранты движутся мне навстречу. Я бегу в обратном направлении по маршруту, который проделывал каждый день. Я пытаюсь оторваться от своих преследователей в переулках за площадью Теразие, но кириллица пропадает, это уже больше не Белград. Повернув за угол, я оказываюсь в Праге, на площади Венцела. В мигающем свете зажигалок сто тысяч человек отплясывают рок. Я присоединяюсь к ним. У меня кончились спички, я прошу у соседа по демонстрации прикурить. И когда огонь зажигается, меня засекают агенты. Они гонятся за мной через Старо Място и дальше, по Граджину. Рука об руку стоят тысячи студентов, толпа извивается, как змея, я пробираюсь между ботинок, но агенты у меня на хвосте. Нырнув в пивную, я попадаю в Берлин. У Бранденбургских ворот я проскакиваю в только что сделанный пролом, но оторваться от агентов не удается, они преследуют меня и за стеной. Приклеив себе бороду, я стараюсь смешаться с танцующей толпой, но во сне спрятаться невозможно. Они догоняют меня на Александер-плац и пытаются загнать в угол. Я ускользаю в переулок и выныриваю в Будапеште, возле вечного огня в честь Баттяни.[63]

Пятнадцатое марта, свистят дубинки. Я пытаюсь добраться до площади Бема по Цепному мосту, но полицейские на мотоциклах перегораживают мне дорогу. Последнее, что я вижу: трое мужчин бьют женщину, одной рукой она придерживает шляпку на голове. Я хочу ей помочь, но агенты хватают меня за руки с обеих сторон. Я влетаю в квартиру на первом этаже на площади Адама Кларка. Из перины ливнем хлещут окровавленные гусиные перья. Я в Темешваре. Секуритате окружила приход. Верующие живым щитом окружают священника. Я переодеваюсь попом, но агенты в штатском меня вычисляют. В угнанном «трабанте» я бегу в Австрию, потом, прячась в греческой фуре, появляюсь в Тиране, но они меня вычисляют и к моему приезду устраивают в городе беспорядки. Каждая улица ведет в другой город, навстречу мне — демонстрации. София, Варшава, Лейпциг, Бухарест, Вильнюс, Братислава, Таллинн. В Гданьске, видя, как мы бежим в направлении, противоположном манифестации, докеры грозят нам кулаками. Мой сон становится черно-белым, Прага в сумерках, идут танки, наши танки. Не стреляйте, я венгр! Люди в штатском хватают меня, впихивают в подворотню и начинают методично отбивать мне почки. Во сне сил у меня прибавляется, я вырываюсь из окружения шпиков и направляюсь домой. Граница открыта. Навстречу мне движется венский гуманитарный конвой. Переодевшись сотрудником Красного Креста, я огибаю противотанковые заграждения на площади Сена.[64] В вышибленном взрывом окне я снова вижу своих преследователей — те же плащи, те же равнодушные улыбки. Нет, я не сдамся. По улице Фень я выхожу на площадь Москвы. Теперь путь один — назад, и я бесконечным подземным галопом скачу в Москву. Будапешт взят в кольцо, передвигаясь от дома к дому, я подавляю огневые точки повстанцев. Передо мною обрушивается стена, откапывают меня в Сталинграде. Русские возводят баррикады из замороженных трупов, наши войска ведут бои, правительство остается на своем посту. Пробираясь среди руин, я попадаю на разбитую снарядами площадь, застыв в позе восточного мудреца, памятник Ильичу медитирует о великой, октябрьской, социалистической. Он замечает меня, руки его начинают двигаться в молниеносном темпе, Шива сторукий, и в каждой руке — по кепке. Ленин, вихрь в урагане истории, вспыхивает разноцветными огнями над развалинами, как стробоскоп на дискотеке. Дорога идет через концлагеря, камеры пыток, через горы трупов. Агенты дышат мне в затылок. Навстречу мне попадаются Сакко и Ванцетти. Щелкает рубильник. Мне заламывают руку за спину. В воздухе сладковатый запах, как на конкурсе кондитеров во время присуждения призов. Меня окружают торжествующие лица, на шеф-поваре — военная фуражка.
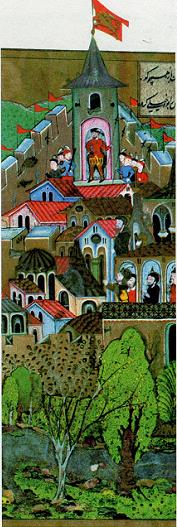
Остановить меня не так просто. Кувырок через голову, и я на проспекте Андрашши в Будапеште. 1919-й, адмирал Хорти въезжает в город на белом коне в компании с князем Арпадом, Белоснежкой и Великолепной семеркой, они галопом несутся по городу, выметая из него красную заразу. Интернационал отыгрывают назад: Миортсоп рим йывон ым, шан ым! Призрак бродит по Европе. Он увязывается за мной, но я ускользаю. Еду на ипподром и наслаждаюсь белым террором. Я отплясываю с нехорошими девочками. Я сижу в пештском кафе «Нью-Йорк», пью капучино. Двое напротив, прикрываясь газетами, следят за мной. Это они. Сделав вид, будто не заметил их, я выскальзываю в туалет и ныряю в окошко, но они уже поджидают меня на улице. В перестрелке я теряю шляпу, унаследованную от отца. Мой отец еще не родился, а я уже промотал наследство. Бросок в прошлое. Широкий проспект, вывески на кириллице, восточная роскошь, снег скрипит под ногами. С балкона на голову мне сваливается агент. Для меня это не сюрприз, я этого ждал. Мне нужна была эта уверенность, что недаром я убегаю. Мой путь не бесцелен. Гончие взяли мой след. Из последних сил я выигрываю у них две недели, возвращая их от грегорианского к юлианскому календарю. Под ногами скользит брусчатка, я теряю равновесие и, скользя на четвереньках, вылетаю на заснеженную площадь. Стараюсь прикрыть голову, но меня не бьют. Мои преследователи отступают, скуля, словно их отозвали хозяева. Озадаченно топчутся на углу Невского. Я стою перед Зимним, ночь, площадь залита светом фонарей. Окна закрыты решетками, но ворота открыты. Все не так, как я себе представлял, хотя я ведь бывал здесь. Я шагаю по длинным коридорам, Зимний дворец — огромный госпиталь без больных, залы побелены, будто в самом дворце метут бесконечные белоснежные русские метели. Непобедимое поражение. Я слышу шепот за дверью, но когда я ее распахиваю, там уже никого. Я бывал в Эрмитаже, но без указателей сориентироваться невозможно. На окне — белые жалюзи. А куда же девались люстры? Еще с Белграда мне хочется писать — обычная для демонстранта проблема. Я возвращаюсь ко входу и облегчаюсь под аркой. Мне кажется, будто я на минутку сбежал с демонстрации, чтобы погреться. Стоя лицом к стене с закрытыми глазами и широко разинутым ртом, я поднимаю голову к небу. Момент истины. Я застываю. Ну, еще чуть-чуть. Я открываю глаза и вижу, что нет никакой стены, никакой помойки, — моя дымящаяся струя обтекает с обеих сторон форменный ботинок огромного омоновца.

Передо мной был привратник. Я узнал его тяжелую шубу, острый горбатый нос, длинную жидкую черную монгольскую бороду. Он был огромен, он наклонился ко мне и спросил, не желаю ли я войти. И указал на врата. Я упал на колени и стал молиться, чтобы страх мой оказался сильнее любопытства.
Мне снится, что я в Белграде, стою в подворотне посреди лужи неправильной формы. На улице — волнующаяся толпа. Застегивая ширинку, я замечаю в воротах тех самых двоих. Хватит бегать, думаю я, все мои стежки-дорожки все равно ведут к ним, а проснуться сейчас было бы таким же обманом, как не родиться вовсе. Я есмь начало и конец, демонстрант и омоновец, революция и история, приемник и передатчик, Мастер и Маргарита, величайшая ошибка своих родителей и единственный, кто может эту ошибку исправить, я, нежеланный плод их любви.
Я возвращаюсь на площадь. Светает. Над брусчаткой, словно в немом фильме, нависает зловещая тишина. Раздается глухой залп «Авроры».

Когда омоновцы третий раз сбивают меня с ног, я начинаю говорить во множественном числе. Мы говорим о себе во множественном числе, как говорили в семидесятые, но теперь мы по-настоящему вместе. Мы вместе танцуем, мы вместе бежим, нас вместе сбивают с ног, мы бы могли даже стать товарищами.
Окножираф: «Вместо “возможно” мы можем сказать “вероятно”».

Как выяснилось в средней школе, историю пишут post factum, и от этого нам стало не по себе. Мы почувствовали себя неуверенно — в любой момент с прошлым может случиться все что угодно, и мы ничего не сможем поделать. Мир безумно вращается вместе с нами. Связь времен — как бы нас ни утешали — распалась. Историю нужно писать, а это требует времени. Прошлое вступило в полосу перемен, и история с каждым днем делается все лучше, нужно только подождать, Рим не сразу строился! Меня это не убеждало. В десятом классе прошлое менялось уже так быстро, что учебники приходилось выбрасывать и типографии не поспевали печатать новые. Единственное, что мы знали про историю, что все в ней было не так и что она работает на нас. Когда она нас нагонит, нам будет что рассказать. Правда, нам не сказали, как мы об этом узнаем. Как мы поймем, что эта вот — наконец настоящая? Постучит однажды в окошко? А, это вы! Заходите! Как дела, дорогая история, рассказывайте… Если вообще история существует. Или мы должны ее выдумать? Сколько людей нужно для истории? То, что происходит со многими, это — история, а то, что происходит с одним человеком, — нет? Имре Надь, например, был повешен — это история или частное дело? А если повешение Имре Надя произошло со всеми нами, то, возможно, мой Имре Надь и твой Имре Надь никогда бы не сели за один стол? Две разные личности или, может быть, ни одной? А если так, то это мое частное дело или твое общее? История — это когда что-то происходит, или история — это все, что я помню? И все, что случилось со мной, случилось со всеми? А если что-то случилось с другими, почему этого не случилось со мной? Общее ли у нас прошлое, существуют ли вообще венгры, существовали ли они в прошлом, или только в прошлом они и существовали? И если венгры осели в Карпатском бассейне тысячу лет назад, то кто такие мы? И кем будет венгр через тысячу лет? Будут ли у нас луки и стрелы, седла и кони? Возьмет ли он за себя жену своего брата, когда она овдовеет? Будет ли бросать бутылки с «коктейлем Молотова» в русские танки? Или спрячется в подвале? Будет носить фашистскую свастику? Будут ли у нас шатры, свирели и холодильники? Сколько жен, мужей, детей будет у него, у нее, у них? Будет ли у них оргазм и критические дни? Будут ли вообще женщины? Или только женщины и будут? Какого цвета будут у них глаза, волосы, кожа? Каков будет размер бюста? На каком языке, в конце концов, будут они говорить? Когда-то, давным-давно, еще при царе Горохе, была великая степь, и были в степи той венгры, которые в один прекрасный день вдруг собрались, повытаскивали из задниц стрелы, сели на лошадей и помчались на запад. С тех пор о них ни слуху ни духу.
Белградские события революционизировали представления о пространстве. С помощью кордонов можно со вкусом формировать закрытые и открытые пространства. Милицейский кордон придает улицам особый уют, а в сочетании с водометами образует самоочищающуюся, благоприятную экологическую систему.
В течение трех месяцев CNN показывает демонстрации в Белграде. Никогда еще мыльная опера не обходилась так дешево: предательство, насилие, любовь, национальные чаяния — сквозь призму белградских будней. Хихикающие Девчонки, массовые сцены с тысячами любителей в эпизодах. Милошевич и его присные сильно просчитались, когда прекратили показ этой мыльной оперы. Многие повалили на улицы из любопытства. Новые граффити: «Я мыслю, следовательно, выключаю телек». В Белграде у всех равные шансы попасть на телеэкран. Новости идут живьем, каждый выступает на собственном канале. В заключительный день демонстраций студенты Академии художеств спустили с крыши перед окнами деканата двадцатиметровое полотнище, на котором черными буквами было написано: to be continued. Продолжение следует.

В своем дневнике Мирьяна Маркович, супруга и правая рука диктатора, пишет, что по вечерам она любит почитать романы Шекспира и Чехова. Эту женщину ничем не возьмешь, у нее нет слабостей, заметил один из ее врагов.
Окножираф: «Телка — ребенок коровы. Корова — домашнее животное. Курица — домашняя птица. Она плохо летает, она несет яйца». Куриные яйца — символ революции.
Во время Второй мировой войны немцы и англичане по очереди устраивали ковровые бомбардировки Белграда. Югославия была тем местом, где вспыхнул огонь «холодной войны». В 1953 году танки Тито еще держали под прицелом Триест. Когда югославские ВВС сбили на австрийской границе два американских самолета, нью-йоркские газеты призывали к ядерному удару по Белграду. По пятьдесят раз на дню я слышу хит из «Подполья» Кустурицы.

Там говорится, что всюду темно, что война заслоняет собою все, не светит ни солнце, ни луна, говорится там, нет ни меня и ни тебя, потом внезапная вспышка, свет в небе, и никто не знает, что это за свет.

Плакат в подъезде панельного дома предостерегает об опасности: пожар, смог, землетрясение, бомбардировки. Короткие рекомендации, что делать в том или ином случае. Сигнал, предупреждающий о ядерном ударе, — три двадцатисекундные сирены с интервалами в пятнадцать секунд. «В случае внезапного ядерного удара, если в момент взрыва вы находитесь на открытом пространстве, немедленно повернитесь спиной к месту взрыва и, воспользовавшись любым естественным укрытием, примите защитную позу: повернитесь лицом к земле, укройте свободные части тела одеждой и зажмурьте глаза. Через две минуты наденьте защитный костюм и маску. Если вы находитесь в помещении, отойдите как можно дальше от окон и дверей, прижмитесь к стене, заберитесь под стол или другую мебель и примите защитную позу».
Если выживете, то очередь будет за вами, и вы сможете еще раз бросить кости. Если Соединенные Штаты — это плавильный тигель народов, то Восточная Европа — свалка народов. Там — всего понемножку, здесь — ничего в достатке. Я выпиваю с одним хорватом и одним боснийцем — двумя моими приятелями-сербами. Говорим по-английски, ругаемся каждый на своем языке. Ностальгируем по ушедшей стране, в которой звезды были красными, девушки розовощекими, парни горячими, а пастухи в горных селениях бегали быстрее горных коз. Сегодня вечером здесь, в столице Разъединенных Штатов, пересеклись параллели кордонов. Мы, хорошо поддавшие парни из двух самых веселых бараков соцлагеря, бредем домой среди черных сугробов. Цепной пес лает в темном дворе. Все неправда, ни слова правды, кричит Марко, стоя на четвереньках в снегу.
Окножираф: «“Сегодня” значит “в этот день”».

Я встречаю своего друга писателя Лаци Мартона, который предусмотрительно запасается двумя «мерзавчиками». Мы вливаемся в толпу и, расстегнув куртки, пляшем коло вокруг динамиков. Девушка с плакатиком: «Возьми меня замуж». Боснийско-цыганская румба из «Подполья» — марш нынешний революции. Милета говорит, что именно в этот момент все обретает свой смысл. И окна прорублены в стенах, чтобы люди могли приветствовать демонстрантов, и улицы построены для того, чтобы было где проводить демонстрации. А если так, то какой-то смысл был и у Трианонского договора. И у спускового крючка, который нажал Гаврило Принцип, и у резни, устроенной венграми в 1942 году в Нови-Саде, и у партизан, и у Тито — у всего был свой смысл. У 1956 года, у Восточного блока, у детской энциклопедии, у издательства «Мора Ференц». Еще не утратил смысл последний окножираф, по которому можно сложить страну из слов и город — из лиц, а значит, стоит противостоять водометам, подвергаться избиениям, разбрасывать по ветру листовки, уходить в подполье, протестовать, проигрывать и добиваться свободы. Все, что произошло, должно было произойти, и сараевский выстрел, и охота за скальпами в Боснии, и концлагеря, и массовые захоронения, и Дейтон, и Милошевич, и даже Мира Маркович имеет в этот момент какой-то смысл. Ради этого мы и страдали.
А сейчас, дорогие мальчики и девочки, возьмемся за руки и посмотрим друг другу в глаза. Или все, или ни один — только вместе мы можем пробиться через пуленепробиваемое стекло.
Как «гавана», которую я раскуривал, поджидая у дискотеки пионерлагеря подружек из Югославии, так сквозь толщу времен вспыхивает эпоха, когда мы, слепые и мало что понимающие, прокладывали под знаком интернационализма путь к светлому будущему. Подружки с удовольствием танцевали с нами под медленную музыку, незнакомая обстановка делала их общительными, я помню, как ночью мы забрались в открытое окно их 8-го барака и как удирали — через закрытое, когда Иван испугался, что нас накрыли. Потом каникулы кончились, и мы переписывались с заграницей, надеясь, что нас пригласит отряд-побратим, и мы увидим, как подросли подружки, и снова будут звучать «АВВА» и «Воnеу М». В ту пору путешественника не ожидали особенные сюрпризы, лагерь мира на розовой половине карты еще был един, все вступали в одну и ту же партию, жили в одних и тех же домах, не боялись одного и того же волка, обслуживание в магазинах находилось на одном уровне, и даже суп, тоже одинаковый, разливали одними и теми же алюминиевыми половниками. Нечто общее было даже в вещах специфических, непохожих — как югославские гамбургеры, непроизносимая змрзлна,[65] натуральные сосиски на Александер-плац, румынское виски или албанские консервированные моллюски. Во всем было что-то такое неуловимое, не относящееся к самому предмету, и что бы ты ни жевал, во рту оставался неистребимый привкус второго мира.

Окножираф:
«Клари: Дай мне это!
Янош: Что тебе дать?

Клари: Вот эту фиговину… (Слово “фиговина” просторечное, и употреблять его не рекомендуется.)»
Пионер — это я! Смелый и отважный. А чего мне бояться? Все мои двадцать пять килограммов — это материализованная утопия. Я без устали расширяю свой кругозор, добровольно и весело, а также способствую укреплению дружбы народов. Пионер — это я. Всем, кому нужна помощь, я помогаю. Тебе, тебе и тебе! Чтобы знал, что попал в беду не напрасно. Я стоек, как вера в моей — и в твоей — груди. И вся мировая реакция накладывает в штаны, стоит мне передернуть свой пионерский галстук.
Пионерское движение было популярно и в Югославии. Но были там и некоторые отличия, например у них были юные космонавты, отряды, которые изучали космос, космические корабли и летающих в космос собачек. Между «лунатиками» — так их называли — каждый год устраивали соревнования. Однажды школа из горного селения в Черногории выиграла в качестве приза «сесну» в довольно приличном состоянии. Поскольку аэропорта у них в селе не было, они доставили ее на себе, целый отряд десятилетних пионеров, маленьких сизифов, катил в гору «сесну». С тех пор самолет там и стоит, его регулярно смазывают, дети стали уж взрослыми, но «сесна» так ни разу и не взлетела. Дареному коню в зубы не смотрят.
Двенадцать пунктов устава пионеров, не в пример нормативности десяти заповедей, отличал дескриптивный подход. Они воплощали будущее. Пионер есть законченное совершенство, существо, которое поступает так-то и так-то, например всегда говорит правду (пункт 6-й). По мне, так уж лучше новозаветные идеалы. Брось хлебом в того, кто в тебя бросит камень, это не слабо, кидаться жратвой — прием, который всегда выручает, когда у творца иссякает творческая фантазия. И тогда возникает бурлеск. А что, если кто-то из пионеров объявит, что все пионеры врут? Вот Шохар, да будет известно об этом всему человечеству, врет как сивый мерин, хотя у него и галстук имеется, и даже свисток. Отличный, кстати, свисток, Шохар такого и не заслуживает. Так что хочешь не хочешь, а надо признать, что пионер — тоже человек. Это мог бы быть тринадцатый пункт. Хотя это столь очевидно, что особого пункта не требуется.

Тринадцатый пункт — пункт неписаный, подразумевающий, что у каждого свои слабости. Взять хотя бы меня: как-то раз я стащил в школе головоломку, заныкав ее в носок, правда, я был еще октябренком, и родители велели отнести игрушку назад, хотя по их лицам заметно было, как гордятся они своим отпрыском, усмотрев в блестящих цветных кружочках и треугольничках символ неодолимой тяги к познаниям, — ну да насчет воровства никаких пунктов не было, оно было частью системы.
Как-то раз, в семидесятых, родители взяли меня с собой в отпуск. Дом отдыха находился на острове Луппа, из окон нашего номера был виден Дунай — но только не мне, я не доставал до подоконника, и не моим родителям — они дулись в карты. В заводском доме отдыха были мангалы для шашлыка и стол для настольного тенниса. Мы поехали туда отдыхать, потому что нам дали туда путевку, которую мы заслужили. Не знаю уж, от чего мне следовало отдыхать, но путевка есть путевка, и вообще мне лучше бы не ковырять в носу, а то будет как у слона. К тому же это был конец сезона. Хорошо еще, что Дунай не замерз. Я пытался проводить время достойным человека образом: смотрел по телевизору «Дети капитана Гранта» и русский мультик «Ну, погоди!». Заяц годить не хотел. Я болел за волка, но он все время ломал себе что-нибудь. В этом деле я тоже был не новичок. В больнице Яноша хирурги приветствовали меня как родного, а родители мои тянули на спичках, кто из них повезет меня в следующий раз. Волк курил папиросы. А мне приходилось есть морковку — мне говорили, что без морковки я не вырасту большой. Но я тогда так и не вырос, а волк так и не поймал зайца. Я понимал, что это как-то связано. Потом по ТВ стали показывать «Маленькие фильмы большого мира». Это как раз для меня. Я размахиваю пятисоткилограммовой кувалдой, взмах на восток, взмах на запад, и произношу волшебные слова: Хочу все знать! — я расколю орех познания! Что произойдет с лягушкой, если сунуть ее в серную кислоту при температуре минус двести градусов? Что сталось с космической собакой Лайкой? Сколько мгновений насчитывает весна? За кого я должен болеть, если американцы долбятся с советскими хоккеистами? Насколько страшен Гос-страх? Что делают папа с мамой, когда они ничего не делают?

По телевидению передавали в записи утреннюю гимнастику. «Могут включиться и пожилые». Мои родители никогда не включались, мне же делать гимнастику приходилось, иначе, опять же, я никогда не вырасту. Еще одна морковка. В гостиной перед телевизором сидела сама ведущая этой передачи, Кати Макраи, со своими дочками — они смотрели себя по телеку. Когда дело дошло до вращения бедрами, они не выдержали, встали и присоединились к самим себе. Они в телевизоре объясняли, как и что делать, и сами же выполняли свои указания. Видно было, что делают они это не впервые. В гостиную стали подтягиваться взрослые с бутылками пива в руках, синхронность реальности и кино приводила их в изумление. Для меня-то все это было само собой разумеющимся, как телемедвежонок на заставке вечерней сказки, который старательно чистит зубы и полощет горло: «гыр-гыр-гыр». Чего тут такого: гимнастки делают гимнастику. В дверях образовалась соцреалистическая идиллия: рабочий-крестьянин-интеллигент с отвалившейся челюстью смотрит первый живой эфир венгерского телевидения. Йоцо с компанией растрескавшимися губами жадно тянули пиво, обсуждая прелести эволюции от ребенка до женщины, которую демонстрировали бегущие на месте Кати Макраи и три ее дочки. Когда они от души набегались, начались мои любимые упражнения — дыхательные. Делаем глубокий вдох, раз, два, и медленно-медленно выдыхаем, три, четыре.

В тот же день я упал в разлившийся Дунай. Мои родители с криками бежали по берегу. Свитера на мне, надетые как капуста, быстро впитывали в себя воду.

Я тону, гыр-гыр-гыр, делаю глубокий вдох, я принадлежу миру, а мир принадлежит мне. Меня несет вода, на голове у меня вязаная шапочка, на шапочке — помпон. Нет, не может со мной ничего случиться. Перед тем как уйти под воду, я чувствую сладкий прилив тепла в паху. Меня вытаскивают, обнимают, суют в горячую ванну, вытаскивают из нее. Растирают с головы до ног, снова целуют, снова обнимают. Обещают подарок. Я могу получить что хочу.
Окножираф: «“Я принес тебе кое-что, Петер”, - сказал Петеру отец. Петер еще не знает, что принес ему отец. Это может быть пакетик леденцов, или живой кролик, или карандаш».

Борка устраивает дискуссию, имеют ли театры право бастовать. Любиша Ристич, легендарный режиссер-авангардист, ставший недавно членом ЦК, появляется с опозданием. Он оскорбляет вдову Данило Киша, потом оборачивается к Филипу. Я люблю тебя, говорит ему Филип, но ты ничего не понимаешь, ты не видишь, что происходит. Какая-то политически скомпрометированная актриса устраивает сцену: театр — это воздух, которым она дышит, так что же, ее хотят лишить воздуха?! Отчет о дискуссии публикуют газеты. В моем выступлении перепутали пару иностранных слов, тем самым элегантно сделали из меня идиота. Правительственная пресса называет меня наивным и сентиментальным. Зато оппозиционная — самая крупная — меня хвалит. На пресс-конференции кто-то из журналистов спрашивает меня, не допущена ли ошибка в моем имени. Зилахи — это прекрасно, но почему не Лайош?

Я вышел за сигаретами, но пешеходную улицу перекрыли. Две цепочки омоновцев, стоящих спиной друг к другу, между ними — несколько метров ничейной земли. А на ничейной земле — табачный ларек, абсолютно недосягаемый, я разглядываю его через прозрачный щит, как через увеличительное стекло. Несколько вещей происходят одновременно: меня мучит никотиновый голод и вожделение к киоскерше, оказавшейся в вакууме. Мне видны только ее голова и грудь, как на журнальной обложке, она не шевелится, словно вмерзла в полосу отчуждения. На наших глазах белградский ОМОН производит на свет самую классную инсталляцию. Они произвольно вырезали кусок города, нужный им лишь для того, чтобы предъявить его зрителям: очищенный от демонстрантов клочок территории становится выставочным экспонатом. Пустая пешеходная улица как объект, служащий контрапунктом топчущейся на месте демонстрации. Омоновцы являются не частью, а только границей этого виртуального мира, очерчивающей идеальное пространство, у нас на глазах лишенное статуса пространства общественного; молекулы его вибрируют совсем иначе. В центре этого кордон-арта находится недосягаемый объект с киоскершей внутри, витающей в вакууме и не имеющей возможности продать хоть коробку спичек. И в эту пустоту, жаждущую быть заполненной, всеми силами души устремлен демонстрант. С томлением взирает он на маленький руссоистский садик средь городских миазмов, туда, где есть все — сигареты, сигары, цветная пленка, сливовица, глянцевые журналы, шоколад, жвачка, конфеты и прочее. По мере того как в толпе демонстрантов растут потребительские желания, символическое пространство, находящееся под охраной ОМОНа, все отчетливее трансформируется в место действия антикапиталистического перформанса. Одинокий табачный киоск кружится в пустоте. Откуда-то выплывает воздушный шарик и приземляется в вакууме по ту сторону кордона. Шарик придает новое измерение пустоте пустого пространства и по-новому освещает вопрос о возможности или невозможности это пространство закрыть. Пустота заполняется пустотой, в шарике ничего нет, и в то же время он полон. Шарик несет на себе также и информацию, на нем черной тушью написано: «Да здравствуют павшие герои! Закройте аэропорт! Друзья, продержитесь еще немного, я уже почти нашел себе девушку!»
Окножираф: «Это — алый цвет. Для обозначения красного в языке есть два слова — красный и алый. Алый светлее, чем красный. Алая кровь. Алеет восток. Красное знамя и красная звезда — символы революции».

Когда мы дошли до турецких войн, я обратил внимание, что крепости в истории упоминаются, только когда их уже разрушили. Защитников крепости, как правило, вырезают. Крепость и ее защитник появляются в минуту собственного исчезновения. Защитник крепости живет ожиданием смерти. Крепость — это архитектура разрушения, ее строят ДЛЯ ТОГО, чтобы она была уничтожена. В наиболее чистом виде этот феномен можно наблюдать на пляже. Крепости из песка, воздушные замки, карточные домики. Крепость Нандорфехервар была построена на вершине горы у слияния двух рек. В крепости находится музей бронетехники. В начале девяностых бронетехнику можно было видеть и на улицах Белграда. Тогда же впервые были опробованы водяные пушки, сиречь водометы. Ближайший от Будапешта действующий водомет можно увидеть в Белграде. При температуре ниже нуля по Цельсию вода замерзает и кристаллизуется, что хорошо заметно на многочисленных бородах.

Таксист не курит, это вредно для здоровья, но все же берет у меня пачку сигарет — посмотреть, чем я хотел его угостить. Я уже начинаю нервничать, когда он кивает: о’кей. Значит, я тоже о’кей. Не туфта. Все нужно проверять, настоящее это или подделка, говорит таксист. С тех пор как ввели санкции, он испытывает дефицит реальности. Деньги ничего не стоят, только кровь еще что-то значит, еще в цене. Кровь проливается настоящая.

В семь тридцать начинаются новости. Вооружившись свистками, кастрюлями, деревянными ложками, мы выходим на балкон Филипа. Бильбо — официально признанный участник демонстраций, о чем даже документ имеется. Мы стучим по кастрюлькам, Бильбо стоит на задних лапах и лает, мы исполняем дикий ритуал вуду, изгоняем бесов. В доме напротив открывается дверь на террасу, на нее выходит человек с деревянной ложкой и кастрюлей, это сын Джиласа, говорит Филип. ВУУДУУ! Мы исполняем ритуал ради свободы печати, мы изгоняем зло с телевидения, дьявола из преисподней, яд из цианистого калия, звонок из трамвая, коровий рев из говядины, дождь из облаков, молоко из материнских грудей, смерть из морской пучины. Школьника Деяна Булатовича в милиции избивали во время допроса, потому что на демонстрации он носил куклу Милошевича, одетую в тюремную робу. Злодеи, пытавшие Д.Б., заявили, что делали с ним только то, что он сам делал с куклой.
Поначалу предполагалось, что памятник Победы в Белграде установят в центре, на площади Теразие, но соперничавшие партии не могли договориться, на чью штаб-квартиру он должен смотреть. Один поэт даже предложил поставить памятник на вращающийся пьедестал. А кроме того, скульптор сделал победителю гениталии таких размеров, что, опять же, возникла проблема. В конце концов статую водрузили на вершине высокой колонны в крепости над слиянием Дуная и Савы.

Там теперь победитель и стоит, крепко сжимая эфес своего меча.
В прежние времена географическое положение Белграда оценивалось весьма высоко.
Турки, к примеру, говорили, что, когда человек смотрит с этой горы, голова его наполняется мыслями. Здесь султаны строили планы завоевания Европы. Здесь Хуняди обмозговывал возможности отвоевания Балкан, здесь же по утрам на крепостной стене сидит студенческий вожак Чедомир Йованович, здесь, над слиянием двух рек, у подножия большемудого Победителя, сижу, болтая ногами, и я — обдумываю, что бы такое сделать с 44 буквами алфавита в городе Белграде.

Любовная история Милошевича и Маркович очень романтична. Эти коммунистические Бонни и Клайд[66] встретились на занятиях в партийной школе. Его звали Свобода, ее — Мир. Они вместе смотрели в будущее. Провожая Миру домой, Слобо поклялся, что не оставит ее никогда, даже если она вступит в другую партию, а Мира поклялась оставаться с ним, пока на небе есть звезды. Отец Миры был партизаном, он сражался вместе с Тито, ее мать убили немцы. Она работала на них, но, когда выдала всех своих знакомых, в ней перестали нуждаться. Мира заявила, что власть, завоеванную кровью, можно отнять только кровью. В ответ студенты организовали добровольную сдачу крови — чтобы помочь ей принять решение. Было собрано около ста литров крови, но партию такое кровопролитие не устроило. Студенты готовы отдать свою кровь стоящим у власти. Но чего же они хотят взамен?

С помощью чеснока и святой воды они пытаются изгнать из университета ректора. Жгут свечи, крестятся. Святая вода — прямо от Святого Марка. Единственное всемирно известное сербское слово — это вампир. Вампиры бессмертны, или, точнее, они умирают, только если их убьют, что весьма осложняет задачу, поскольку вампиры — мертвецы изначально. Чтобы отделаться от вампира, надо пронзить его сердце осиновым колом. Вампир — не дикое животное, потребность в питании связывает его с человеком. Он живет и умирает возле человеческого жилья, он пьет кровь и спит в могиле. Вампиры — не дураки поспать. Общая история человека и вампира восходит к началу времен. Уже невозможно определить, кто кого одомашнил. Вампир вызывает страх и тем укрепляет связи внутри человеческих обществ. Вампир, стало быть, цивилизационный фактор, восточноевропейское чудовище, ставшее популярным героем на Западе. Во время парламентской предвыборной кампании сторонники Шешеля[67] устроили марш к могиле Тито с двухметровым осиновым колом, они собирались выкопать вампира бывшей Югославии, пронзить его сердце этим колом, отрубить ему голову, сжечь его тело, и все это для того, чтобы мы могли спать спокойно. В спектакле использовались также свастика, серп и молот, папская тиара, череп с костями. По преданьям старины далекой, сначала белая лошадь превратилась в черную бабочку, а вампиры — как то известно любому ребенку — появляются из черных бабочек. Вероятно, что эти слухи распространяли сторонники Святоплука в отместку за сомнительную сделку с землей.[68] Легенда не дает точных предписаний, как поступать, если вдруг увидишь, как окукливается белая кобылица.

Эта книга — о выборе. Ты всегда должен делать выбор, даже если выбирать не из чего. Шлягер белградских демонстрантов, основанный на игре слов: «Я не могу петь — у меня украли мой голос». На MTV сделали из него клип.
Мы, венгры, свои голоса бросаем в урны.
Где-то люди протестуют, кого-то избивают, бубнит телевизор во время ужина.
Плачет младенец, и толком не расслышишь, где, кого, почему. Любительская съемка, человека бьют ногами по голове. Бирма? Биафра? Белград? Возбужденная толпа бросается на щиты полицейских. Гладко выбритый диктор переходит к следующим новостям, в Калифорнии выбросился на берег дельфин, друзья природы с воодушевлением тащат его обратно в море. На втором канале — документальный фильм, каждую секунду в мире убивают одного человека. Или это художественный?
Победа — в самом его имени. Уинстон, Win-ston, поднимает два толстых расставленных пальца, во второй «V» — дымящаяся сигара. Он так и родился с этим дубль-ве, мы же, проигравшие, и проигравшие вдвойне, в стране, расколовшейся в этот раз только на одну часть, наблюдали с опаской: что будет? Пятьдесят лет назад Уинстон (вкус свободы) сказал, что над Европой, от Щецина до Триеста, опустится железный занавес. Во время войны в бункере Уинстона Черчилля был ватерклозет. В маленьком помещении, о котором мало кто знал, была прямая линия, связывавшая его с Рузвельтом, и он вслушивался в шуршание голоса, который доносился с другого берега океана.


Уинстон на фоне Золотых Ворот. Вокруг десять тысяч шлемов. В тебя швыряют со злостью резиновую дубинку, потом просят вернуть ее. Вот он бежит за тобой, хватает за волосы и лупцует, лупцует тебя до тех пор, пока не взмолишься о пощаде. Уинстон — это вкус свободы. А что же мы курили до этого? Мы не ощущали его, чистили зубы, подтирали задницу, прикуривали, затягивались. Всегда одним и тем же движением. На этом месте могла бы быть ваша реклама. В стотысячный раз я вижу этот плакат и только сейчас замечаю в самом низу: КУРЕНИЕ ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ.
Когда в Венгрии на демонстрации ожидается более ста участников, организаторы обязаны позаботиться о туалете, дабы не загадили город инакомыслящие. Белградская оппозиция кабинок не устанавливает, полагаясь на понимание общепита, симпатизирующего демонстрантам. Деревянные будки омоновцев стоят у президентского дворца, передвижные, окрашенные в синий цвет сооружения на случай ЧП. На покрытых снегом полянах Парка пионеров проклевываются первые собачьи какашки и тянутся, червяком извиваясь, к солнцу, своим дыханием оттаивая вокруг себя зеленые пятачки. Весеннее дежа-вю, кусочек Будапешта после таяния снега.

Жарким летом 89-го югославский общественный транспорт одержал одну из самых блестящих своих побед над застывшим вроде бы временем. На Косовом поле в честь 600-летия крушения Сербии гремит из динамиков хит «Slobodan, they call you freedom». Милошевич прилетает на вертолете, вытирает со лба испарину и после короткого выступления улетает. Народу побольше, чем в Вудстоке. Участникам раздают пакеты с едой, жарятся на вертелах волы, горят костры, выступают самодеятельные ансамбли и профессиональные музыканты, чего только нет. По словам Милошевича, проблемы вовсе не так сложны, как кажется. И если мы захотим, мы решим их, но без жертв ничего не получится. Сегодня, как и 600 лет назад, мы должны на это пойти, перед нами — новые вызовы и новые битвы. Больше никто не будет вас избивать, обещает Милошевич, будущее прекрасно, и оно уже близко. Make war, not love. Сербский Вудсток, 28 июня 1989 года. За время мероприятия не родилось ни одного ребенка.

Бутылка виски ходит по кругу. На демонстрацию заглянул какой-то браток с толстой золотой цепью и тяжелым крестом на шее. Он угощает меня сигарой и спрашивает, как я, иностранец, отношусь к сербским женщинам. Он спрашивает об этом у всех иностранных журналистов, это его слабость. Белградская женщина. За спиной у нас прыскают смехом девчонки, мы прикладываемся к виски и пускаем через кордон кольца сигарного дыма.
Неизвестно каким по счету выступает именитый писатель, когда-то сторонник Милошевича, потом — Шешеля, а теперь — Драшковича. Призывает нас к бдительности. По слухам, он очень скор на расправу и беспощаден к своим врагам. Может быть, он и скор, но быстрее ли он Сократа?
У древних индейцев приспособление для игры в мяч — подковообразная бита, которая крепилась к бедру, — называлось юго. Этой битой нужно было послать мяч в отверстие. Мяч символизировал Солнце, поэтому его нельзя было ронять на землю. Капитана проигравшей команды казнили. По другим сведениям, в жертву приносили капитана победителей. Но что же было наградой проигравших?
Радио глушат, сквозь шум и треск я слышу: белградские студенты ищут декана в зоопарке. Мы стоим над Дунаем, идет ледоход. У берега — вмерзшая лодка. Мы стоим на другой стороне, на белградской. Напротив — последний оплот монархии, крепость Зимони. В воздухе носится напряжение, крики диких животных и скрежет ломающихся льдин.
Короткая информация хорватского телевещания. Президент Туджман, выступая на сербохорватском языке по сербскому телевидению, заявил, что за белградскими демонстрациями стоят иностранные заговорщики и Фонд Сороса.
PS. Пройдет много лет, и полковник Аурелиано Буэндиа, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит тот далекий вечер, когда отец взял его с собой посмотреть на лед.
С любовью,
твой друг Петер

1
Первая буква хорватского алфавита — A. Первая буква сербского алфавита — A. Первая буква боснийского алфавита — A. А не равно A. (Знаком * отмечены комментарии автора, арабскими цифрами — примечания переводчика).
2
Окно-Жираф. — иллюстрированная энциклопедия для детей (Будапешт: Мора, 1971. Авторы-составители Ференц Мереи и Агнеш В. Бинет. В дальнейшем в ссылках — Окножираф).
3
"Золото — желтый металл, добываемый в недрах гор. Золотая рыбка сделана не из золота." (Окножираф, 7).
4
Окножираф, 5.
5
Окно…жираф (венг.).
6
Окножираф, 5.
7
Слободан Милошевич (р. 1941, ласкательное имя Слобо) — сербский политик, бог Малой Югославии, в настоящее время подсудимый Гаагского трибунала.
8
В 1456 году венгерскому полководцу Яношу Хуняди в битве у Белграда удалось отразить десятикратно превосходящие силы султана Мехмеда II и предотвратить взятие крепости. Но борьба с Портой подорвала силы Венгерского королевства, в 1521 году Белград пал, а в 1526 году в битве у села Мохач венгерское войско потерпело сокрушительное поражение от турецкой армии; в результате значительная часть страны более чем на 160 лет попала под власть Османской империи.
9
Брэм Стокер (1847–1912) — английский писатель, автор романа "Дракула" (1897), принесшего ему мировую известность; Лев Троцкий во время 1-ой Балканской войны 1912–1913 был военным корреспондентом "Киевской мысли" и нескольких других русских газет на Балканах.
10
Беч — венгерской название Вены.
11
Бетлехем, Бабилон — венгерское название Вифлеема и Вавилона.
12
Взгляни на карту (с. 130). В северо-западном направлении линия разлома может быть продлена до Бирмингема и Белфаста, на юге мы видим Бахрейн, а у Билад-Бани-бу-Хассана она достигает берега океана.
13
Аркан — прозвище Желько Ражнатовича, известного сербского криминального лидера, бизнесмена и руководителя полувоенных формирований, ответственных, в частности, за этнические чистки в Боснии во время войны 1992–1995 годов; 15 января 2000 был застрелен в фешенебельном белградском отеле "Intercontinental"..
14
Филип Давид — писатель, деятель оппозиции, в настоящее время председатель Независисимого союза сербских писателей.
15
Арпад Гёнц — писатель и переводчик, в 1990–2001 годах президент Венгрии; находясь в тюрьме за участие в революции 1956 года, перевед "Хоббита" Толкиена.
16
Радован Караджич — сербский поэт и военный преступник.
17
По Трианонскому мирному договору (1920) более половины населения (в том числе около 3 миллионов венгров) и примерно 2/3 территории исторической Венгрии были переданы Румынии, Чехословакии и Югославии.
В Дейтоне 21 ноября 1995 года было подписано соглашение об урегулировании конфликта в Боснии и Герцеговине, куда для контроля над конфликтующими сторонами был введен 60-ты-сячный натовский контингент.
18
Милета Проданович — сербский художник, писатель.
19
Чедомир Йованович — харизматический лидер студенческих демонстраций в Белграде.
20
Титус Дугович — защитник белградской крепости во время осады ее османским войском в 1456 году, своей самоотверженностью обессмертивший себя в венгерской истории. Когда один из турецких воинов в знак победы чуть было не водрузил на крепостную стену знамя, Дугович в смертельном броске увлек недруга вниз.
21
Милован Джилас (1911–1995) — сербский (югославский) политики (черногорский) писатель, которого в пятидесятые годы Тито вывел из руководства и исключил из партии.
22
Зоран Джинджич (1952–2003) — председатель Сербской демократической партии, один из лидеров оппозиционного объединения «Заедно», с января 2001 года премьер-министр Сербии. 12 марта 2003 года стал жертвой политического убийства.
23
Бук Драшкович (р. 1946) — писатель, политик, лидер партии «Сербское движения обновления», один из руководителей оппозиционного объединения «Заедно».
24
Поэт-коммунист и герой-партизан.
25
Католический епископ либеральных воззрений, который выступал против папской власти в защиту православной церкви.
26
Петрович — настоящая фамилия Шандора Петефи, среди предков которого были сербы.
27
«Заедно» («Вместе») — объединение трех оппозиционных партий в 1996–1997 годах.
28
«Посмотри в календаре, на какой день недели приходится в этом году твой день рождения и праздник Первомая!» (Окножираф, 104).
29
Андреас Баадер и Ульрика Майнхоф — лидеры левацкой террористической организации «Фракция Красной Армии», во второй половине 70-х годов наводившей ужас на всю Европу.
30
Айртон Сенна — признанный лучшим гонщиком всех времен великий бразильский спортсмен; погиб во время Гран-при Сан-Марино в 1994 году.
31
Знаменитый спортивный комментатор, «венгерский Озеров».
32
Нандорфехервар — средневековое венгерское название Белграда.
33
Арон Габор — знаменитый венгерский пушечных дел мастер; Янош Ирини — изобретатель спичек; Эде Теллер — отец водородной бомбы.
34
Дюла Хорн — венгерский министр иностранных дел, который в 1989 году разрешил немцам из ГДР выезжать через Венгрию в Западную Германию и тем внес свой вклад в падение Берлинской стены. Король Иштван — первый король Венгрии, основатель венгерского христианского государства. Бела Четвертый — король Венгрии во времена татаро-монгольского нашествия, которого иногда называют вторым основателем венгерского государства.
35
Усыпальница турецкого дервиша, почитаемого в Турции святым; построена в Буде в 1543–1548 годах, во времена османского господства.
36
Шандор Кёрёши-Чома — венгр из Трансильвании, который отправился в Тибет искать истоки венгерской нации и создал первый англо-тибетский словарь и грамматику; Армин Вамбери — известный венгерский ориенталист. Ференц Лист — знаменитый венгерский композитор.
37
Нандоры — средневековое венгерское название придунайских болгар; Нандорфехервар буквально означает «Белая крепость болгар».
38
Мехмед И (1451–1481) — турецкий султан (любил розы).
39
Белград был взят турками через 65 лет после этих событий, в 1521 году, при султане Сулеймане I.
40
Батальная сцена. Турецкая миниатюра. Музей Топкапи Серай, 1517 год.
41
Из стихотворения Шандора Петефи «Неудавшийся замысел» (1844).
42
«Если что-нибудь прижать к чему-нибудь, останется след» (Окножираф, 108).
43
Известная община католиков и протестантов в бургундской деревне Тезэ, где ежегодно проводятся международные экуменические встречи.
44
Св. Иоанн Капистран (1386–1456) — францисканский аббат, один из организаторов победы над турками под Белградом в 1456 году.
45
Шандор Лежак — поэт, бывший деятель оппозиции, один из лидеров Венгерского демократического форума (в 1990–1994 годах — основной партии национально-патриотической правящей коалиции).
46
Имеется в виду Лайош Зилахи (1891–1974), известный венгерский романист, особенно популярный в межвоенный период; в 1948 году эмигрировал в США, с конца 50-х годов жил в основном в югославском городе Нови-Саде.
47
Романы Лайоша Зилахи.
48
6 октября 1849 года в Араде были казнены 13 генералов — руководителей венгерской революции и национально-освободительной борьбы.
49
В соответствии с указанием папы, церковные колокола должны были звонить в час пополудни.
50
«Языком я ощущаю вкус пищи. Я знаю, какая она, соленая, сладкая, горькая или кислая. Когда я говорю, то шевелю языком» (Окножираф, 108).
51
Иоганн Лихтенбергер (1445–1503) — немецкий астролог и мистик, автор популярнейшей книги предсказаний.
52
Гашпар Хелтаи (1490?—1574?) — венгерский протестантский проповедник, писатель и книгопечатник, автор хроники «Деяния венгров».
53
Ибрагим Печеви (1574 — ок. 1659) — турецкий историк.
54
Egeszsegedre! — На здоровье! (вемг.)
55
«Все страны, кроме нашей родины, называются заграницей» (Окножираф, 87).
56
Об облаках см. также на букву «К».
57
Ференц Ракоци — трансильванский князь, возглавлявший в начале XVIII века освободительную войну венгров против габсбургского владычества. Площадь его имени в Будапеште служит местом сбора проституток.
58
О том, что такое «хорошо», ты можешь прочесть на стр. 77.
59
Мирьяна Маркович (ласкательное имя — Мира) — жена Слободана Милошевича, председатель партии «Югославские левые» (писательница, сербские Пушкин и Татьяна в одном лице).
60
«Если ты пойдешь на восток, запад будет у тебя сзади» (Окножираф, 109).
61
Весна Пешич — сербский оппозиционный политик, один из лидеров оппозиционного объединения «Заедно».
62
«Знак всегда что-то заменяет, например предложение, слово, звук. Так, буква заменяет звук» (Окножираф, 74).
63
Иштван Баттяни — премьер-министр венгерского революционного правительства 1848 года, казненный австрийцами. 15 марта, в день начала революции, у вечного огня Баттяни в 1970— 1980-е годы собирались стихийные митинги молодежи, разгонявшиеся полицией.
64
Площадь Сена, как и площадь Москвы, — мощные узлы сопротивления повстанцев в Буде в 1956 году.
65
Мороженое (чешск.).
66
Персонажи одноименного американского фильма (1967), сюжет которого основан на реальной истории парня и девушки, в начале 30-х годов на протяжении четырех лет грабивших банки в Техасе, отчасти играя роль «благородных» разбойников и защитников бедняков. Романтическая история их любви, приключений и гибели от пуль полиции сделала из них популярных киногероев.
67
Воислав Шешель — сербский политик, председатель Радикальной партии.
68
По преданию, в конце IX века венгры получили территорию, которая впоследствии стала их родиной, от моравского князя Святоплука в обмен на белую кобылицу.