Книга: Разгадай мою смерть
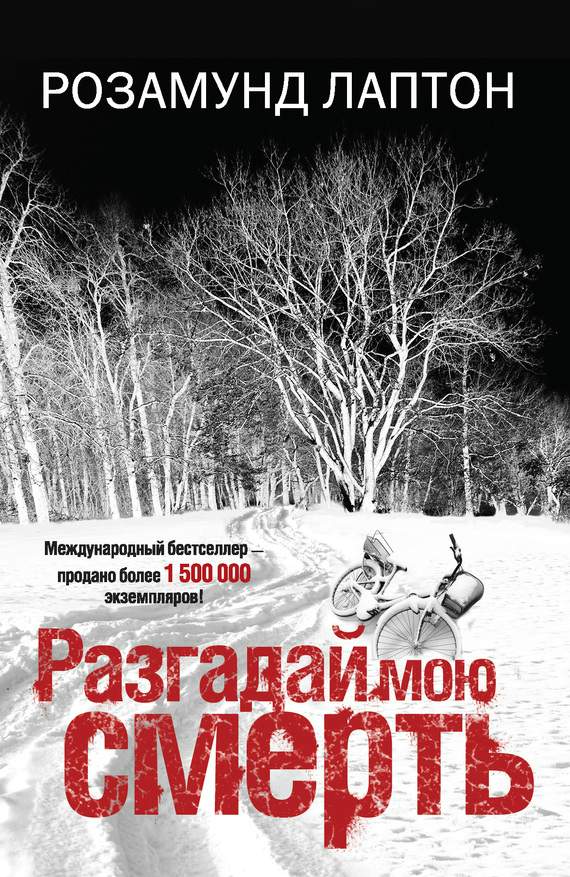
Разгадай мою смерть
Посвящается моим родителям,
Киту и Джейн Орд-Полетт,
за их неизменный дар вдохновлять
А также моему мужу Мартину, с любовью
Где еще видели вы такую преданную дочь, нежную сестру, такого верного друга?[1]
Воскресенье, вечер
Милая моя Тесс!
Я отдала бы все на свете, лишь бы оказаться рядом с тобой прямо сейчас, в эту минуту, лишь бы держать тебя за руку, смотреть в глаза, слышать твой голос. Разве можно сравнивать чувственные ощущения — работу зрительных нервов и осязательных рецепторов, вибрацию звуковых волн в ухе — с перепиской? Но мы привыкли общаться на бумаге, верно? Еще с того времени, когда меня отправили в частную школу и нам пришлось заменить игры, смех и доверительный шепот письмами друг к другу. Не помню, о чем писала тебе в первом письме; помню только, что сделала из него пазл, дабы оно не попалось на глаза старшей воспитательнице. (Кстати, я угадала правильно: детская любовь к складыванию картинок давно умерла в ее сердце.) Зато я слово в слово помню ответ семилетней сестренки на мою тоску, разрезанную зигзагами. Невидимые чернила из лимонного сока, которыми ты воспользовалась, проступили на бумаге только при свете фонарика. С тех пор доброта навсегда связана для меня с запахом лимона.
Журналистам понравилась бы эта история. Нас изобразили бы маленькими заговорщицами, подчеркнув, как близки мы были с самого детства. Сейчас они стоят перед твоим домом — съемочные группы с камерами, звукооператоры, осветители. Потные лица, испачканные куртки, черные змейки проводов струятся по лестнице и путаются в ограде. Понимаю, все это пустяки, но можно ли иначе описать происходящее? Не знаю точно, как ты отнесешься к тому, что в некотором роде стала знаменитостью, — пожалуй, найдешь этот факт забавным. Забавным и нелепым. Лично я оцениваю его исключительно как нелепый, но ведь мое чувство юмора всегда отличалось от твоего, правда?
— Тебя выгнали с урока, это не шутки! — негодую я. — В следующий раз вообще исключат из школы, а маме и без того хватает забот!
Учительница застукала тебя, когда ты тайком пронесла в школу любимого кролика. Я играю роль образцовой старшей сестры.
— Пчелка Би, ну разве это не забавно? — отвечаешь ты, кусая губы, чтобы не рассмеяться. Ты словно бутылка газировки, из которой на поверхность рвутся пузырьки искристых смешинок.
Воспоминание о твоем смехе придает мне мужества, и я подхожу к окну. Узнаю журналиста одного из спутниковых новостных каналов. Я привыкла видеть его лицо в плоском изображении на экране плазменного телевизора у себя дома в Нью-Йорке, а сейчас он стоит живьем, в трехмерном объеме, на Чепстоу-роуд и глядит прямо на меня через окно первого этажа. Я испытываю непроизвольное желание выключить телевизор; вместо этого задергиваю шторы.
Однако теперь, когда репортеров не видно, мне только хуже. Их осветительные лампы прожигают ткань штор, голоса и шум назойливо ломятся в окна и стены. Чужое присутствие давит тяжестью, бульдозером пробивает дорогу в твою гостиную. Неудивительно, что прессу так называют: если ситуация затянется, я просто задохнусь под этим прессом. Ладно, согласна: я чересчур драматизирую. Вот ты наверняка вышла бы на улицу и предложила им кофе. А я — сама знаешь — легко раздражаюсь и болезненно чувствительна в отношении личного пространства. Пойду-ка лучше на кухню и постараюсь взять себя в руки.
Здесь как-то спокойнее, тишина дает возможность подумать. Странно, что теперь я нахожу удивительными самые пустячные мелочи. К примеру, во вчерашней газете напечатали статью о наших с тобой тесных сестринских узах, но при этом даже не упомянули о разнице в возрасте. Может быть, раз мы уже взрослые, она не имеет значения, хотя в детстве казалась просто огромной. «Пять лет — это много?..» — с легким вопросительным оттенком говорили те, кто нас не знал. А мы обе сразу вспоминали Лео и брешь, которая осталась после его смерти. Наверное, точнее было бы назвать нашу боль чувством утраты, только мы никогда не произносили этого вслух, да?
Снаружи, за задней дверью, журналистка разговаривает по мобильному телефону. Скорее всего диктует репортаж. Внезапно я слышу собственное имя: Арабелла Беатрис Хемминг. Мама как-то сказала, что меня сроду не называли Арабеллой. Получается, уже с младенчества было ясно, что я не имею ничего общего с этим именем. Безупречно выписанное черной тушью, украшенное вензелями, оно предназначено для милой девчушки, которую ласково зовут Беллой, Беллз или Белль — да мало ли красивых вариаций. Я же с первых дней была только Беатрис, простой и строгой, в формате стандартного шрифта «Таймс нью роман», без всяких там украшений и спрятанных внутри прелестных образов. Отец выбрал имя Арабелла еще до моего рождения. Должно быть, реальность его разочаровала.
Я снова слышу голос журналистки. Кажется, она опять звонит кому-то, оправдывается, что задержалась на работе допоздна. Через несколько секунд до меня доходит: это из-за меня, Арабеллы Беатрис Хемминг. Мой порыв — выйти и извиниться. Да, я такая: всегда первая спешила на кухню, едва мама начинала сердито греметь кастрюлями. Журналистка немного удаляется от двери. Слов не разобрать, слышны только интонации — успокаивающие, чуть виноватые; деликатные, но твердые. Внезапно голос меняется: видимо, она разговаривает со своим ребенком. Ее теплый тон проникает сквозь дверь и окна, согревая твою квартиру.
Возможно, мне следует проявить заботу и посоветовать ей отправляться домой. Твое дело еще находится в производстве, я не имею права давать комментарии до суда. Однако женщина за дверью, как и все прочие, хорошо об этом осведомлена. Репортеры пытаются выудить из меня не факты, а эмоции. Они хотят увидеть мои стиснутые кулаки и дать крупный план побелевших костяшек, хотят заснять слезы, ползущие по моим щекам, словно улитки, за которыми тянутся черные следы потекшей туши. Поэтому я не выхожу.
Телевизионщики со своей технической свитой наконец убрались, оставив за собой заметную «полосу прилива» — кучки сигаретного пепла на ступеньках, окурки в твоих горшках с нарциссами. Завтра вычищу пепельницы. По правде сказать, я напрасно плохо подумала обо всех сразу. Трое извинились за причиненные неудобства, а оператор даже принес мне из лавки на углу букет хризантем. Знаю, ты никогда не любила хризантемы.
— Они даже весной ужасного цвета — темно-синие, как школьная форма, или бордовые, как осенние листья, — с улыбкой говоришь ты, поддразнивая меня за любовь к этому аккуратному, долго не вянущему цветку.
— Они бывают самых разных оттенков, и очень даже ярких, — серьезно отвечаю я.
— Кричащая безвкусица. Как раз для серых бетонных площадок перед гаражами.
Однако эти чахлые экземпляры — проростки нечаянной заботливости, букетик сочувствия, неожиданного, как коровьи лепешки на обочине скоростного шоссе.
Оператор, преподнесший мне хризантемы, сказал, что сегодня в вечернем выпуске новостей будет специальный репортаж о тебе. Я сразу набрала маму, сообщила ей. Думаю, по-своему, по-матерински, она гордится тем, сколько внимания ты получаешь. А его будет еще больше. Если верить звукооператору, завтра сюда нагрянут иностранные репортеры. Забавно — нет, скорее странно, — что всего несколько месяцев назад, когда я пыталась достучаться до людей, меня совсем не хотели слушать.
Понедельник, после полудня
Сейчас они все — пресса, полиция, юристы — жадно слушают: головы склонены, ручки усердно царапают в блокнотах, слышится жужжание диктофонов. Сегодня я даю свидетельские показания в уголовном суде. Это подготовка к судебным слушаниям, которые состоятся через четыре месяца. Мне сказали, что мои показания «жизненно важны» для стороны обвинения, так как я — единственная, кому «известно все, от и до».
Мистер Райт, представитель стороны обвинения, который берет показания, сидит напротив. Полагаю, ему где-то к сорока, хотя, вероятно, он младше и просто по долгу службы выслушал немало историй вроде моей. Мистер Райт весь внимание — он сидит, слегка подавшись вперед, располагая меня к откровенности. Хороший слушатель, но… что за человек?
— Если вы не против, — говорит он, — расскажите все с самого начала, а я потом сам отделю важное от второстепенного.
Я киваю.
— Дело в том… я не совсем уверена, что именно считать началом.
— Скажем, тот момент, когда вам впервые показалось, что что-то не так.
На мистере Райте отличная итальянская рубашка из натурального льна и синтетический галстук с дурацким рисунком — вряд ли обе вещи выбраны одним и тем же человеком. Или то, или другое получено в качестве подарка. Если подарен галстук, то мистер Райт проявляет недюжинную любезность, надевая его. Забыла, говорила тебе или нет, но у меня появилась новая привычка размышлять на посторонние темы, когда мозг отказывается анализировать насущный вопрос. Я поднимаю глаза на мистера Райта.
— Тогда выходит, это был телефонный звонок. Мама сообщила, что Тесс пропала без вести.
Когда позвонила мама, мы принимали гостей. Закуски для воскресного ленча, купленные в магазине по соседству, полностью соответствовали духу Нью-Йорка: модные и стандартные. То же самое относилось к нашей мебели, квартире и взаимоотношениям — ничего домашнего. «Большое яблоко» без сердцевины. Понимаю, отступление от темы довольно резкое; впрочем, разговор о моей жизни в Нью-Йорке подождет.
Тем утром мы вернулись из заснеженного Мэна, где провели романтические каникулы в честь моего повышения — меня назначили директором по работе с клиентами. Тодд получал явное удовольствие, расписывая гостям наше опрометчивое решение отметить праздник в уединенной избушке:
— Конечно, на джакузи мы не рассчитывали, но горячая вода в душе пришлась бы кстати, да и стационарный телефон не помешал бы. Мы даже мобильниками не могли воспользоваться, у нашего оператора там нет мачт.
— Вы что же, вот так взяли и сорвались в эту поездку? — недоверчиво спросила Сара.
Как тебе известно, мы с Тоддом никогда не отличались любовью к экспромтам. Марк, муж Сары, едва не испепелил ее глазами:
— Дорогая!
Сара выдержала его взгляд.
— Терпеть не могу это твое «дорогая». Кодовое слово, означающее «заткнись», не так ли?
Ты поладила бы с Сарой. Она всегда чем-то напоминала тебя — может, поэтому мы с ней и подружились. Сара посмотрела на Тодда.
— Когда вы с Беатрис в последний раз ссорились? — поинтересовалась она.
— Мы не слишком любим устраивать спектакли, — ответил Тодд, лицемерно пытаясь поставить Сару на место.
Однако та не собиралась сдаваться:
— Значит, тебе тоже слова поперек не скажи.
Последовало неловкое молчание. Из вежливости мне пришлось прервать его:
— Кто-нибудь желает кофе или травяного чая?
Я засыпала в кофемолку кофейные зерна — только к этому «блюду» я в тот день и приложила руку. В кухню вошла расстроенная Сара.
— Беатрис, извини, что так вышло.
— Ничего страшного. — Я играла роль безупречной хозяйки, улыбчивой, все понимающей, занятой приготовлением кофе. — Марк предпочитает с молоком или без?
— С молоком. Мы уже забыли, когда в последний раз смеялись вместе, — вздохнула Сара, усевшись на кухонный стол и болтая ногами. — А что до секса…
Я включила кофемолку, надеясь, что жужжание заглушит слова подруги. Перекрикивая шум, она спросила:
— А вы с Тоддом?
Я переложила смолотый кофе в нашу семисотдолларовую кофеварку-эспрессо.
— Спасибо, у нас все в порядке.
— По-прежнему обмениваетесь шутками и кувыркаетесь в постели?
Я открыла шкатулку с кофейными ложечками тридцатых годов, отделанными цветной эмалью. Цвет эмали у каждой ложечки был свой и напоминал расплавленные леденцы.
— Мы купили их на ярмарке антиквариата в прошлое воскресенье, с утра.
— Беатрис, ты уходишь от темы!
Тебе-то не надо объяснять, что я вовсе не уходила от темы: воскресным утром, когда другие парочки не спешат покинуть кровать и занимаются любовью, мы с Тоддом бродили по распродаже. Мы всегда лучше понимали друг друга перед витриной магазина, чем в постели. Я считала, что, обставляя квартиру вещами, выбранными и купленными вместе, мы создаем общее будущее. Ты, конечно, поддразнила бы меня: хороший секс не заменишь чайником, пусть даже от Клэрис Клифф, — но лично мне это казалось более надежным залогом постоянства.
Раздался телефонный звонок. Не обращая внимания, Сара продолжила:
— Секс и смех — вот сердце и душа взаимоотношений между мужчиной и женщиной.
— Пойду сниму трубку.
— Когда, по-твоему, наступает момент отключить аппарат жизнеобеспечения?
— Извини, нужно подойти к телефону.
— Когда пора разделить банковский счет, ипотечный кредит и общих друзей?
Я схватила трубку, радуясь возможности оборвать разговор.
— Алло?
— Беатрис, это я, мама.
От тебя не было вестей уже четверо суток.
Не помню, как собиралась, но Тодд вошел именно в ту секунду, когда я защелкнула замки на чемодане. Я обернулась:
— Какой рейс?
— На сегодня билетов нет.
— Я все равно должна лететь.
Ты не появлялась на работе уже неделю. Хозяйка кафе звонила на твой домашний телефон, но всякий раз срабатывал автоответчик. Она приезжала к тебе на квартиру, однако не нашла тебя и там. Никто не знал, где ты. Теперь за поиски взялась полиция.
— Отвезешь меня в аэропорт? Я полечу любым рейсом.
— Лучше вызову такси, — отозвался Тодд. Ах да, он пропустил пару бокалов вина. Я всегда ценила его благоразумие.
Разумеется, ничего этого мистеру Райту я не рассказываю. Просто сообщаю, что мама позвонила мне днем 26 января, в половине четвертого по нью-йоркскому времени, и сказала, что ты пропала без вести. Как и тебя, мистера Райта интересует картина в целом, а не отдельные детали. Еще в детстве ты рисовала большие, размашистые рисунки, которые не умещались на странице, в то время как я при помощи карандаша, линейки и ластика строила аккуратные чертежи. Позже ты начала писать абстрактные полотна, отображая действительность крупными мазками и яркими красками, а мне идеально подошла работа дизайнера, позволяющая сверять любой оттенок с патентованной цветовой моделью. Поскольку у меня нет твоей размашистой смелости, я изложу тебе эту историю в пуантилистской манере, где каждая точка будет соответствовать той или иной подробности. Надеюсь, в итоге из точек сложится картина, и мы сумеем понять, что и как произошло.
— То есть до звонка матери у вас не было дурных предчувствий? — задает вопрос мистер Райт.
Я испытываю знакомую тошнотворную волну: меня захлестывает чувство вины.
— Н-нет, ничего такого.
Я взяла билет первого класса — других не оказалось. Пока мы летели сквозь зыбкую страну облаков, я представляла, как выскажу тебе все, что думаю о твоем легкомыслии, и возьму с тебя обещание впредь не выкидывать подобных фокусов. Совсем скоро ты станешь матерью, так что, будь добра, веди уже себя по-взрослому.
«“Старшая сестра” — это не должность, пчелка Би».
За что я бранила тебя в тот раз? Поводов было множество, ведь я на самом деле считала, что быть старшей сестрой — это работа, для которой я гожусь как нельзя лучше. И теперь, когда я летела на поиски и знала, что найду тебя (присмотр за тобой — важная часть моих служебных обязанностей), меня успокаивала привычная роль степенной, разумной старшей сестры, отчитывающей ветреную, безответственную девчонку, которой давно пора взяться за ум.
Показались огни аэропорта Хитроу, самолет начал снижаться. Под нами распростерлась западная часть Лондона, слегка присыпанная снегом. На табло загорелась команда пристегнуть ремни, и я заключила уговор с Богом: если найду тебя живой и здоровой, сделаю что угодно. Я продала бы душу самому дьяволу, предложи он мне сделку.
Когда самолет неуклюже приземлился на бетонную посадочную полосу, мою воображаемую досаду сменила мучительная тревога. Бог стал героем детской сказки. Все могущество старшей сестры улетучилось. Я с ужасающей ясностью вспомнила смерть Лео, и от этого воспоминания меня затошнило, будто от куска тухлятины. Я поняла, что не переживу, если потеряю еще и тебя.
Для офисного помещения окно кажется просто огромным. Через него в комнату потоком льется яркий свет весеннего солнца.
— Вы провели некую связь между исчезновением Тесс и смертью Лео? — спрашивает мистер Райт.
— Нет.
— Вы сказали, что подумали про Лео.
— Я постоянно думаю о нем, Лео — мой брат. — Как же мне тяжело говорить об этом. — Лео умер от муковисцидоза, когда ему было восемь. Нас с сестрой болезнь не коснулась, мы родились совершенно здоровыми.
Мистер Райт хочет погасить слепящий свет люминес-центных ламп, но выключатель почему-то не работает. Мистер Райт виновато пожимает плечами и опять садится за стол.
— Что произошло дальше?
— Мама встретила меня в аэропорту, и мы поехали в полицию.
— Пожалуйста, расскажите поподробней.
Мама, одетая в пальто из верблюжьей шерсти «Джегер», ждала меня в зале прилета. Подойдя ближе, я заметила, что она не причесана, а макияж наложен кое-как. Ты права, я не видела ее такой со дня похорон Лео.
— Я гнала такси от самого Литтл-Хадстона. Твой рейс задержался!
— Всего на десять минут, мамочка.
Вокруг бурно обнимались родные, близкие и друзья, воссоединившиеся после разлуки, а мы с мамой не ощущали ничего, кроме почти физического дискомфорта. По-моему, мы даже не поцеловались.
— А что, если Тесс звонила в мое отсутствие? — беспокойно произнесла она.
— Значит, позвонит еще, — отозвалась я.
После посадки, однако, я уже тысячу раз успела проверить мобильник.
— Сама не понимаю, — продолжала мама, — с какой стати я жду от нее звонка. Она вообще перестала мне звонить. По всей видимости, для нее это слишком большой труд. — В голосе задребезжали нотки обиды. — Я уж молчу про то, когда она в последний раз ко мне приезжала!
Вероятно, до сделок с Богом мама еще не дошла.
Я взяла напрокат машину. Несмотря на ранний час — шесть утра, — трасса М4, ведущая в Лондон, была загружена. «Час пик» — дурацкое название для скопища автомобилей, в которых сидят агрессивные, излучающие бессильную злость люди. Из-за выпавшего снега бесконечная цепочка авто тянулась еще медленнее. Мы ехали в полицейский участок. Печка в салоне никак не включалась, и слова вылетали из наших уст облачками ледяного пара.
— Ты уже разговаривала со следователем? — спросила я.
Мамино раздражение ощутимо повисло в воздухе.
— Разговаривала, да что толку? Что я вообще знаю о жизни собственной дочери?
— Кто сообщил в полицию о том, что Тесс пропала?
— Домовладелец. Эмиас… забыла фамилию, — недовольно ответила мама.
Я тоже не помнила фамилию этого человека. Меня вдруг поразило, что именно он, пожилой хозяин квартиры, которую ты снимала, позвонил в полицию.
— Он еще сказал полицейским, что ее донимали телефонные хулиганы, — прибавила мама.
Несмотря на холод в салоне, я покрылась липким потом.
— Что за телефонные хулиганы?
— Мне не объяснили.
Я посмотрела на маму. Из-под маски тонального крема и пудры резко выступало бледное, встревоженное лицо. Немолодая гейша, матово заштукатуренная косметикой «Клиник».
В половине восьмого, когда мы подъехали к полицейскому участку Ноттинг-Хилл, было еще по-зимнему темно. Дороги были запружены, а свежевычищенные тротуары почти пусты.
В полицейском участке мне довелось побывать лишь однажды, когда я подавала заявление об утере мобильного телефона — просто об утере, а не краже. Дальше вестибюля я не заходила. На этот раз меня проводили в недобрый мир допросных и тюремных камер, где полицейские носили ремни с пристегнутыми к ним дубинками и наручниками. Этот мир не имел ничего общего с тобой.
— Вас принял детектив Финборо, сержант уголовной полиции? — уточняет мистер Райт.
— Да.
— Каким он вам показался?
Я тщательно подбираю слова:
— Вдумчивым. Проницательным. Порядочным.
Брови мистера Райта ползут вверх, но он быстро прячет удивление.
— Можете припомнить вашу первую беседу?
— Да.
Поначалу твое исчезновение ошеломило меня, однако затем восприятие странно обострилось. Вокруг стало чересчур много мелких деталей, чересчур много цветов, как будто мир превратился в пиксаровский мультик. Другие органы чувств тоже пришли в боевую готовность: я слышала тиканье стрелки в часах, скрип ножки стула по линолеуму; улавливала запах табака от куртки, висевшей на крючке. Это был «белый шум», включенный на полную катушку, словно мой разум не мог отличить важное от неважного и фиксировал все подряд.
Женщина-полицейский предложила маме чай и увела ее. Я осталась наедине с сержантом Финборо. Он держался вежливо, даже чуть-чуть старомодно и походил скорее на университетского преподавателя, чем на детектива. За окном валил мокрый снег.
— Как вы думаете, с чем может быть связано исчезновение вашей сестры? У вас есть предположения? — спросил сержант Финборо.
— Абсолютно никаких.
— Она поделилась бы с вами своими проблемами?
— Безусловно.
— Вы живете в Америке?
— Мы постоянно перезваниваемся и держим связь по электронной почте.
— Значит, вы с сестрой близки?
— Да.
Конечно, близки. Мы с тобой разные люди, но очень близкие. Разница в возрасте никогда не играла для нас роли.
— Когда вы в последний раз общались с сестрой?
— Если не ошибаюсь, в прошлый понедельник. В среду мы с другом уехали в горы, всего на несколько дней. Я звонила Тесс из ресторана, но ее домашний телефон все время был занят — она может болтать с друзьями часы напролет.
Я постаралась разозлиться — в конце концов, кто, как не я, оплачивает твои телефонные счета? Попыталась разбудить в душе досаду — старое, знакомое чувство.
— А на мобильный не звонили?
— У нее нет мобильника. Украли месяца два назад, или сама потеряла. Тесс — довольно безалаберная девушка. — Еще одна попытка рассердиться на тебя.
Сержант Финборо на несколько секунд умолк — видимо, подбирал фразы, — затем осторожно произнес:
— То есть вы думаете, что ваша сестра исчезла не по своей воле?
«Не по своей воле». Деликатное выражение, обозначающее что-то очень-очень плохое. В том первом разговоре ни я, ни детектив не произнесли слова «похищение» или «убийство». Между нами как будто установилось молчаливое соглашение. Я оценила тактичность этого человека: слишком рано предполагать худшее. Я заставила себя задать вопрос:
— Мама сказала, что в последнее время Тесс донимали телефонные хулиганы. Это правда?
— Так утверждает домовладелец. К сожалению, подробности ему не известны. А вам сестра что-нибудь говорила?
— Нет.
— Может быть, упоминала о каких-то угрозах?
— Нет, ничего такого. Тесс вела себя совершенно нормально, была счастлива.
У меня возник новый вопрос.
— Вы обзвонили все больницы? — Мои слова прозвучали грубо; в них слышалась скрытая критика. — Я просто имею в виду, что роды у Тесс могли начаться раньше времени.
Сержант Финборо резко опустил стаканчик с кофе на стол, и от этого звука я едва не подскочила на месте.
— Мы не знали, что она беременна.
Передо мной вдруг вспыхнул спасительный маяк.
— Если схватки начались преждевременно, она может быть в больнице. Вы же не проверяли родильные отделения?
— Больницы дают нам сведения обо всех поступивших пациентах, включая рожениц.
Маяк погас.
— Когда должен родиться ребенок? — спросил детектив.
— Примерно через три недели.
— Вам известно, кто отец?
— Эмилио Коди, преподаватель колледжа искусств, где учится Тесс, — ни секунды не раздумывая, ответила я. Время замалчивать правду прошло.
Сержант Финборо ничем не выказал своего удивления — вероятно, за счет профессиональной подготовки.
— Я был в колледже… — начал он, но я не дала ему договорить. Запах кофе в пенопластовом стаканчике вдруг стал тошнотворно-сильным.
— Вас так серьезно обеспокоило исчезновение моей сестры?
— Я всегда стараюсь добираться до сути вещей.
— Да, разумеется.
Мне хотелось произвести на детектива впечатление умной и здравомыслящей женщины. Помню, тогда я еще себя одернула: не все ли равно, что подумает обо мне сержант Финборо? Как выяснилось позднее — зря. Это имело немаловажное значение.
— Я беседовал с мистером Коди, — произнес детектив. — Он говорил о Тесс исключительно как о своей бывшей студентке.
Прости. Эмилио не хотел признавать тебя, даже когда ты пропала без вести. Впрочем, он всегда проявлял подобное «благоразумие», всегда открещивался от тебя, если не сказать хуже.
— Вы знаете, почему мистер Коди не хотел, чтобы полиции стало известно о его связи с вашей сестрой?
Еще бы мне не знать!
— По правилам колледжа преподавателям запрещено вступать в интимные отношения со студентами. Кроме того, он женат. Заставил Тесс взять академический отпуск, когда ее живот стал заметен.
Сержант Финборо встал из-за стола. В его манере появилось что-то иное; он уже не напоминал университетского профессора.
— Иногда для помощи в розыске пропавших людей мы используем новостную передачу на одном из местных каналов. Я хотел бы восстановить последние факты, известные о вашей сестре, и сделать по ним сюжет.
Из-за окна, забранного металлической решеткой, донеслась птичья трель. Внезапно у меня в голове зазвучал твой голос — так отчетливо, как если бы ты находилась в комнате рядом со мной…
— В отдельных крупных городах птицы уже не слышат друг друга из-за шума и постепенно забывают сложность и красоту своих песен.
— Ну и при чем здесь мы с Тоддом?
— Некоторые птицы вообще перестали петь. Вместо этого они в точности имитируют автомобильную сигнализацию.
— Тесс! — досадливо поморщилась я.
— Тодд слышит твою песню?
Тогда я восприняла глубину твоих юношеских эмоций как нечто несерьезное, пройденное много лет назад, однако теперь, сидя в полицейском участке, вдруг вспомнила наш разговор, потому что мысли о птицах, их песнях, о Тодде и обо всем прочем позволяли отвлечься от догадок, терзавших меня в настоящий момент. Сержант Финборо почувствовал мое состояние.
— Думаю, лучше перестраховаться и еще раз проверить больницы. Тем более раз нам стало известно, что ваша сестра находится на позднем сроке беременности.
Детектив отдал указания подчиненным, распорядился насчет съемочной группы. Возник вопрос, кому играть тебя. Мне не хотелось, чтобы твою роль исполняла чужая женщина, поэтому в качестве актрисы я предложила себя. Выходя из кабинета, сержант Финборо обернулся ко мне:
— Мистер Коди намного старше Тесс, верно?
Между вами разница в целых пятнадцать лет, к тому же Эмилио — еще и твой преподаватель. Ему бы воплощать образ отца, а не любовника. Да-да, я постоянно говорила тебе об этом, пока ты наконец весьма красноречиво не попросила меня «отвалить». Правда, ты использовала английский эквивалент этого выражения и сказала, чтобы я не вмешивалась не в свое дело. Сержант Финборо терпеливо дожидался ответа.
— Вы, кажется, спрашивали о том, близки ли мы с сестрой, а не о том, понимаю ли я ее.
Теперь-то понимаю, но тогда — вряд ли…
Сержант Финборо рассказал о предстоящей «реконструкции» подробнее:
— Сотрудница почтового отделения на Экзибишн-роуд припомнила, что около двух часов дня Тесс покупала у нее открытку и марки. Она не упомянула о том, что Тесс беременна, — наверное, просто не заметила, так как их разделял высокий прилавок.
Навстречу по коридору шла мама. Детектив продолжал:
— Приблизительно в два пятнадцать ваша сестра отправила открытку в этом же отделении.
…Голос мамы звенит от раздражения:
— Открытка была адресована мне! Тесс, видите ли, поздравляла меня с днем рождения. Не бывает у матери месяцами, почти не звонит, но зато шлет открытки, как будто этим можно все исправить!
Пару недель назад я черкнула тебе, что у мамы скоро день рождения, помнишь?
Рассказывая эту историю, я хочу быть до конца честной и откровенной, и поэтому, прежде чем продолжить, признаюсь: ты оказалась права насчет Тодда. Он не слышал моей песни, потому что я никогда не пела для него. И вообще для кого бы то ни было. Может быть, я одна из тех птиц, что способны воспроизводить лишь звуки автомобильной сигнализации.
Мистер Райт опускает жалюзи, защищаясь от яркого весеннего солнца.
— И в тот же день вы участвовали в съемках реконструктивного сюжета? — спрашивает он.
— Да.
У мистера Райта есть запись этой съемки, так что ему не нужен пересказ моей необычной игры с переодеванием, но тебе, я знаю, будет любопытно. Тебе ведь интересно, какая Тесс из меня получилась. Можешь поверить, вышло неплохо. Сейчас ты узнаешь, как все было, без кинематографичной гладкости, обычно присущей описаниям.
Женщина-полицейский средних лет, констебль Вернон, привела меня в комнату, где мне следовало переодеться. Румяная, пышущая здоровьем, она как будто явилась с молочной фермы, а не с дежурства на лондонских улицах. Мое лицо, напротив, было жутко бледным — сказывался ночной перелет.
— Думаете, это что-нибудь даст? — спросила я.
Констебль Вернон улыбнулась и порывисто обняла меня. Я слегка смутилась — жест был неожиданный, но приятный.
— И не сомневайтесь! С этими реконструкциями масса хлопот; вряд ли мы стали бы возиться, если бы в результате не удавалось хорошенько встряхнуть чью-то память. Теперь, когда известно о беременности Тесс, у нас есть все шансы на то, что кто-нибудь мог ее заметить. Ну что, давайте разберемся с одеждой?
Позже я узнала, что, несмотря на свои сорок лет, констебль Вернон пришла на службу в полицию всего пару месяцев назад. Манера общения выдавала в ней опытную, любящую мать.
— Мы забрали кое-какие вещи из квартиры вашей сестры, — продолжала она. — Не скажете, что на ней могло быть надето?
— Платье. Из-за живота все остальное уже не налезало, а специальная одежда для беременных Тесс не по карману. К счастью, почти все ее наряды мешковатые и бесформенные.
«Удобные, Би, у-доб-ны-е».
Констебль Вернон открыла небольшой чемодан; каждая вещь, невзрачная и поношенная, была аккуратно сложена ее руками и завернута в папиросную бумагу. Меня тогда очень тронуло это проявление заботы. До сих пор трогает.
Я выбрала самое приличное из твоих обтрепанных одеяний, широкое лиловое платье «Уистлз» с вышивкой по подолу.
— Тесс купила его на распродаже пять лет назад, — сказала я.
— Хорошая покупка служит долго, верно?
Мы словно бы находились в примерочной универмага «Селфриджес».
— Да, верно.
Я почувствовала искреннюю благодарность к констеблю Вернон за ее умение поддержать разговор о пустяках — перекинуть вербальный мостик между двумя людьми — в самых, казалось бы, не подходящих для этого обстоятельствах.
— Хорошо, остановимся на этом, — сказала констебль Вернон и тактично отвернулась, ожидая, пока я сниму строгий дизайнерский костюм. — Вы с сестрой похожи? — поинтересовалась она.
— Уже нет.
— А-а, значит, были похожи раньше?
Мне вновь пришлось по душе умение констебля Вернон поддерживать разговор, однако я начала подозревать, что двумя-тремя фразами он не ограничится.
— Если сходство и было, то искусственное.
— Как это?
— Мама всегда старалась одевать нас одинаково.
Она не обращала внимания на нашу разницу в возрасте. В зависимости от времени года неизменно наряжала нас либо в клетчатые шерстяные юбки и шотландские свитеры, либо в полосатые платья из хлопка. Никаких рюшечек и оборочек, никакого нейлона, помнишь?
— Прически у нас тоже были одинаковые.
«Приведите их в приличный вид», — командовала мама в парикмахерской, и наши кудри летели на пол.
— Люди говорили, что Тесс будет сильнее походить на меня, когда подрастет, — правда, делали это только из вежливости.
Я поразилась тому, что неожиданно высказала свои мысли вслух. До сих пор я никого не водила этой тропой, хотя сама исходила ее вдоль и поперек. Я всегда знала, что ты вырастешь настоящей красавицей и мне с тобой не сравниться, хотя не обсуждала этого с другими.
— Должно быть, несладко ей пришлось, — заметила констебль Вернон. Я уже хотела указать ей на оговорку, но она продолжила: — У вас с сестрой одинаковый цвет волос?
— Нет.
— Везет же вам, — вздохнула констебль Вернон, — натуральная блондинка.
— Если честно, я осветлялась.
— Надо же, а так и не скажешь.
Следующая фраза в нашей непринужденной беседе тревожно меня кольнула.
— Тогда, пожалуй, вам лучше надеть парик.
Я вздрогнула, но попыталась скрыть эмоции.
— Да, разумеется.
Пока констебль Вернон доставала коробку с париками, я надела твое платье. Застиранная хлопковая ткань мягко скользнула по телу. Внезапно я очутилась в твоих объятиях. Мгновением позже поняла, что это всего лишь запах, которого я прежде не замечала, — смесь твоего шампуня, мыла и чего-то еще, чему нет названия. Наверное, раньше я воспринимала этот аромат, только когда мы обнимали друг друга. Голова у меня закружилась, я судорожно вздохнула: ты как бы здесь, и тебя нет. К этому противоречию я не была готова.
— С вами все в порядке?
— Платье сохранило ее запах.
На добром, материнском лице констебля Вернон отразилось искренне сочувствие.
— Запах — очень сильная штука. Одно из средств, которые применяют доктора для вывода пациентов из комы. Самым «пробуждающим» считается запах свежескошенной травы.
Она хотела успокоить меня, давала понять, что моя реакция естественна. Констебль Вернон оказалась проницательной женщиной, полной сочувствия, и я была рада ее поддержке.
В коробке нашлись самые разные парики. Видимо, их использовали в реконструкциях, связанных не только с пропавшими без вести, но и с жертвами насильственных преступлений. Парики почему-то напомнили мне коллекцию черепов, и, роясь в них, я испытывала тошноту. Констебль Вернон заметила это.
— Давайте-ка лучше я. Какие у Тесс волосы?
— Длинные — она их почти никогда не стрижет, поэтому концы немного посеклись — и сияющие.
— А цвет?
Номер 167 по системе подбора цвета, мгновенно подумала я, но тут же спохватилась: мало кто из людей знает все существующие оттенки по системным номерам.
— Цвета жженого сахара, — сказала я.
На самом деле, глядя на твои волосы, я всегда представляла карамель. Точнее, начинку из конфет «Роло», жидкую и блестящую.
Констебль Вернон нашла более-менее похожий парик, отливавший синтетическим блеском. Непослушными пальцами я кое-как натянула его на голову поверх аккуратно зачесанных волос. Я думала, на этом подготовка закончена, но констебль Вернон была перфекционисткой.
— Ваша сестра пользуется косметикой? — спросила она.
— Нет.
— Не возражаете, если я попрошу вас снять макияж?
Ты спросишь: колебалась ли я?
— Нет-нет, что вы, — ответила я, хотя мне стало очень не по себе.
В тот день я даже проснулась с макияжем — румяна и помада на губах остались еще с вечера. Я как могла смыла косметику под краном маленькой конторской раковины, на бортике которой громоздились грязные стаканчики из-под кофе. Повернувшись к двери, уголком глаза я вдруг заметила тебя, и меня пронзило острое чувство любви. Через пару секунд я сообразила, что это лишь мое отражение в большом настенном зеркале. Я подошла ближе и увидела себя, изможденную и неухоженную. Я срочно нуждалась в приличной одежде по фигуре, услугах парикмахера и стилиста. А тебе, чтобы выглядеть красавицей, ничего этого не требуется…
— Боюсь, вам придется подложить это, чтобы сымитировать животик, — сказала констебль Вернон и вручила мне небольшую подушку.
Я решилась озвучить вопрос, который не давал мне покоя с самого начала:
— Как думаете, почему хозяин квартиры, заявивший о пропаже Тесс, ничего не сказал о ее беременности?
— Не знаю. Спросите лучше сержанта Финборо.
Я засунула под платье сперва одну подушку, затем вторую и попыталась сбить их в некое подобие живота. В какой-то момент вся процедура показалась мне клоунским фарсом, и я засмеялась. Констебль Вернон вдруг рассмеялась вслед за мной, и я увидела, что она улыбчива от природы. Должно быть, ей приходилось много хмуриться, поскольку большую часть времени она выглядела серьезной.
В кабинет вошла мама.
— Принесла тебе поесть, — сообщила она. — Ты должна питаться как следует.
Я обернулась. В руках она держала большой пакет, набитый снедью, и ее забота искренне меня тронула. Однако, посмотрев мне в лицо, мама словно окаменела. Бедняжка. Фарс, в котором я углядела черный юмор, превратился в жестокость.
— Ты обязана все ей рассказать. Чем дольше затягиваешь с правдой, тем хуже последствия.
— На днях как раз видела чайное полотенце с такой надписью. А на обратной стороне было написано: «Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня».
— Тесс!..
(Или вместо восклицания я просто испустила красноречивый вздох многомудрой старшей сестрицы?)
Ты звонко расхохоталась, невинно поддразнивая меня:
— У тебя еще остались трусики с вышитыми на них днями недели?
— Не увиливай от ответа! Между прочим, трусики-недельки я получила в подарок в девятилетнем возрасте.
— И что, надевала их в правильном порядке?
— Она будет очень обижена, если ты ей не расскажешь.
Я смотрела на маму, безмолвно отвечая на ее безмолвные вопросы. Да, ты была беременна; да, не сказала ей, и да, теперь люди на всем белом свете — как минимум те, кто смотрит телевизор, — узнают об этом.
— Кто отец ребенка?
Я ничего не ответила. На сегодня хватит ударов.
— Так вот почему она не появлялась у меня несколько месяцев! Стыдно ей, значит, было, да?
Это прозвучало не как вопрос, а, скорее, как утверждение. Я попыталась успокоить маму, однако она раздраженным жестом отмахнулась от моих слов, хотя жестикулировала крайне редко.
— По крайней мере этот тип намерен жениться, и то ладно.
Мать смотрела на помолвочное кольцо, которое случайно осталось у меня на руке.
— Нет, мам, это мое.
Меня странно покоробило то, что она не заметила его раньше. Я сняла кольцо с крупным солитером с пальца и отдала маме. Она не глядя сунула его в сумочку.
— Беатрис, скажи, этот человек собирается жениться на Тесс?
Может быть, мне следовало проявить милосердие и сказать, что Эмилио Коди уже женат. Эта новость привела бы маму в ярость и задержала бы приход леденящего душу страха.
— Мамочка, давай сперва найдем Тесс, прежде чем переживать за ее будущее.
Специальная съемочная группа расположилась рядом со станцией метро «Южный Кенсингтон». Я — звезда этого маленького фильма — выслушала распоряжения молодого полицейского, у которого на голове вместо шлема была фуражка. Щеголеватый режиссер, тоже полицейский, сказал: «Начали!» Я пошла прочь от почтового отделения вдоль по Экзибишн-роуд.
Ты никогда не нуждалась в дополнительной уверенности, которую придают высокие каблуки, поэтому я неохотно сменила свои лодочки на твои разношенные балетки. Они были мне велики, так что пришлось набить мыски ватой. Помнишь, мы проделывали то же самое с мамиными туфлями? Как волшебно стучали ее каблучки, как нравился нам этот звук, олицетворяющий взросление… Плоские балетки ступали аккуратно, бесшумно, их мягкая домашняя кожа погружалась в лужицы, покрытые растрескавшимся льдом, и впитывали обжигающе-холодную воду. Перед Музеем естествознания тянулась длинная нервная очередь из нетерпеливых детей и задерганных родителей. Первые глазели на полицейских и съемочную группу, вторые провожали взглядами меня. Пока они не могли попасть внутрь и посмотреть на аниматронного тираннозавра и гигантскую белуху, я служила для них бесплатным развлечением. Меня это ничуть не волновало. Я лишь надеялась, что кто-то из них был здесь в прошлый четверг и видел, как ты выходила с почты. А что потом? Что еще они заметили? Разве могло произойти что-то по-настоящему страшное при таком количестве свидетелей?
Вновь посыпала ледяная морось, колючие крупинки забарабанили по тротуару. Полицейский велел мне идти дальше. В тот день, когда ты исчезла, шел снег, но и сегодняшняя погода более-менее подходила по сюжету. Я бросила взгляд на толпу перед музеем. Детские коляски обросли прозрачными пластиковыми чехлами. Родители накинули капюшоны и раскрыли зонтики. Снежная крупа сделала людей близорукими, в мою сторону никто больше не смотрел. Никто не смотрел на тебя. Никто ничего бы не заметил.
Длинные пряди парика промокли насквозь, за шиворот стекали холодные ручейки. Твое тоненькое платье, отяжелевшее от воды под расстегнутой курткой, липло к телу, обрисовывая каждый изгиб. Тебя позабавило бы превращение полицейской реконструкции в легкую эротику. Проезжавший мимо автомобиль сбавил ход. Водитель, мужчина средних лет, сидевший в теплом и сухом салоне, оглядел меня через ветровое стекло. Может быть, кто-то предложил тебя подвезти и ты села в машину? Может, так все и было? Я запретила себе представлять, что случилось в действительности. Воображение завело бы меня в лабиринт кошмарных сценариев и лишило бы разума, а я должна была сохранять ясный рассудок, чтобы помочь тебе.
Когда мы вернулись в участок, мама встретила меня в каморке, предназначенной для переодевания. Я промокла до костей, от холода не попадал зуб на зуб. Уже больше суток я не спала.
— А тебе известно, что запах состоит из мельчайших частиц, которые отделились от объекта? — спросила я маму, стаскивая твое платье. — Мы когда-то в школе проходили.
Мама безразлично покачала головой. Знаешь, посреди мокрой улицы я вдруг вспомнила этот факт и мне в голову пришло, что платье сохранило твой запах именно потому, что крохотные частички тебя застряли между тонкими волокнами ткани. Выходит, думать, что ты рядом, вовсе не было нелепостью. В некоем жутком смысле ты все-таки находилась со мной.
— Разве непременно нужно было изображать ее обтрепой? — укорила меня мама.
— Мамочка, Тесс выглядит так на самом деле. Что толку устраивать маскарад, если ее никто не узнает?
Мама прихорашивала нас перед каждой фотосъемкой. Даже когда мы приходили на дни рождения к другим детям, едва завидев объектив фотоаппарата, она успевала быстро вытереть наши перемазанные шоколадом рты и больно провести карманной расческой по волосам. Уже тогда она постоянно говорила тебе, насколько лучше ты станешь выглядеть, если будешь «стараться, как Беатрис». А я испытывала от этих слов гадкое удовольствие, ведь если бы ты действительно постаралась, твоя красота на моем невзрачном фоне бросилась бы всем в глаза. Вдобавок мамины упреки в твою сторону служили своеобразным комплиментом мне, а комплиментами она меня не баловала.
Мама отдала мне кольцо, я надела его на палец и почувствовала приятную тяжесть золотого ободка, как будто Тодд взял меня за руку.
В раздевалку вошла констебль Вернон; ее лицо блестело от мокрого снега, а румяные щеки еще больше раскраснелись.
— Спасибо, Беатрис, — поблагодарила она. — Вы справились замечательно.
Я почувствовала себя странно польщенной.
— Сюжет выйдет в эфир сегодня вечером по каналу местных новостей, — продолжила констебль Вернон. — Если кто-то откликнется, сержант Финборо сразу же вам сообщит.
Я заволновалась — а вдруг кто-то из друзей отца увидит реконструкцию и позвонит ему? Констебль Вернон, чуткая душой, предложила выход из положения: если мы не хотим звонить отцу, о твоем исчезновении его известит сотрудник французской полиции. Я согласилась.
Мистер Райт ослабляет узел полиэстрового галстука; для батарей центрального отопления жаркое весеннее солнце явилось полной неожиданностью. В отличие от него в тепле я чувствую себя лучше.
— Вы больше не разговаривали с детективом Финборо в тот день? — спрашивает мистер Райт.
— Только сообщила ему мой контактный номер.
— В какое время вы покинули участок?
— В половине седьмого. Мама уехала часом раньше.
В полицейском участке даже не подозревали, что мама не умеет водить и у нее нет машины. Констебль Вернон извинилась передо мной и сказала, что сама отвезла бы миссис Хемминг домой, если бы знала. Вспоминая об этом теперь, я понимаю, что ей хватило добросердечия разглядеть в нашей матери хрупкую женщину, спрятавшуюся под панцирем темно-синего костюма и бурного недовольства — характерного признака среднего класса.
Дверь участка захлопнулась за моей спиной, в лицо ударил шершавый ночной воздух. Свет автомобильных фар и уличных фонарей сбивал с толку, людской поток внушал робость. На короткий миг мне померещилось, что среди чужаков промелькнула ты. Позже я узнала, что для тех, кто разлучен с родными и близкими, видеть их в толпе — совсем не редкость. Это как-то связано с участками мозга, отвечающими за узнавание, — в периоды разлуки эти участки перевозбуждены и часто дают ложное срабатывание. Злая шутка разума длилась всего пару мгновений, но и за это время я физически ощутила, как сильно мне тебя недостает.
* * *
Я припарковала машину у парадного входа. Рядом с чистенькими зданиями по соседству твой дом смотрелся бедным родственником, который уже долгие годы не может найти денег на хорошую побелку. Волоча в руке чемодан с твоей одеждой, я спустилась по крутым обледенелым ступенькам в цокольный этаж. Желтый уличный фонарь почти не давал света. Как тебе удалось за последние три года не сломать ногу в такой темноте?
Онемевшими от холода пальцами я нажала кнопку звонка. А вдруг откроешь? Увы. Затем я принялась шарить под цветочными горшками, где ты обычно прячешь ключ. Ты даже говорила мне, под каким именно растением, только я забыла название. Это ведь вы с мамой всегда обожали цветоводство. Кроме того, гораздо больше меня волновало твое легкомысленное отношение к безопасности, о чем я постоянно тебе твердила. Как можно оставлять ключ от квартиры под цветочным горшком рядом с дверью? Да еще в Лондоне. Вопиющая безответственность! Заходите, пожалуйста, господа грабители.
— Что это вы тут делаете? — послышалось у меня над головой.
Я подняла глаза и увидела твоего домовладельца. С нашей последней встречи он запомнился мне образом классического книжного дедушки: наклеить ему белую бороду, и получится вылитый Санта-Клаус. Сейчас, однако, он грозно хмурился, а глаза на небритом лице сверкали гневом совсем как у молодого.
— Меня зовут Беатрис Хемминг, я — сестра Тесс, — поспешно сказала я. — Мы с вами как-то встречались.
Его выражение смягчилось, глаза сразу постарели.
— Эмиас Торнтон. Простите, память уже не та.
Он осторожно спустился по скользким ступеням.
— Тесс перестала прятать ключ под розовым цикламеном. Отдала его мне.
Старик достал бумажник, открыл отделение для монет и вытащил ключ. Раньше ты полностью игнорировала все мои увещевания, что же теперь побудило тебя проявить осторожность?
— Два дня назад я открывал квартиру для полиции, — продолжил Эмиас. — Надеялся, они отыщут какие-нибудь зацепки. Новости есть?
В его глазах заблестели слезы.
— Боюсь, пока нет.
У меня зазвонил мобильник. Мы оба — я и Эмиас — вздрогнули, я поспешно поднесла телефон к уху. Он посмотрел на меня с новой надеждой.
— Алло?
— Здравствуй, дорогая, — раздался голос Тодда.
Я взглянула на Эмиаса и отрицательно качнула головой.
— Тесс никто не видел, но выяснилось, что ее донимал звонками телефонный хулиган. — Мой голос почему-то сильно дрожал. — Полиция сделала реконструкцию событий — сняла сюжет, в котором восстановлены последние действия Тесс. Сегодня вечером его покажут по телевизору. Роль Тесс пришлось играть мне.
— Как так? Ты совсем на нее не похожа, — удивился Тодд.
Его практичный подход несколько успокоил меня. Тодда больше интересовали режиссерские ходы, нежели сам фильм. Наверное, он счел, что я на фоне стресса несу всякую нелепицу.
— Ну, мне придали сходство с Тесс. Некоторое.
Эмиас осторожно поднимался вверх по ступенькам к своей парадной двери.
— А письма от нее, случайно, не приходило? — спросила я. — В полиции говорят, незадолго до исчезновения Тесс купила почтовые марки.
— Нет, в ящике пусто.
С другой стороны, письмо могло попросту еще не дойти до Нью-Йорка.
— Я перезвоню тебе позже, ладно? Хочу, чтобы этот номер оставался свободным, на случай если Тесс позвонит.
— Как скажешь, — обиженно произнес Тодд, и меня порадовало, что он на тебя злится. Он был уверен, что ты вернешься домой, живая и здоровая, и тогда он первым как следует тебя отчитает.
Я отперла замок и вошла в твою квартиру. Прежде я бывала здесь раза два-три, не больше, и никогда не задерживалась на ночь. Полагаю, мы все испытывали облегчение от того, что квартирка тесная и нам с Тоддом волей-неволей приходится останавливаться в отеле.
Только сейчас я заметила, как отвратительно заделаны окна. Порывы ледяного ветра задували через огромные щели. Пропитанные влагой стены были холодными и мокрыми. Твои энергосберегающие лампочки разгорались невыносимо долго. Я включила отопление на полную мощность, но батареи прогрелись лишь в самой верхней части, сантиметров на пять. Интересно, у тебя более стойкий характер или ты попросту не замечаешь подобных «мелочей»?
Оказалось, что телефон выключен из розетки. И поэтому в последние несколько дней, когда я звонила тебе, на линии постоянно слышались короткие гудки, да? Хотя… нет, ты не оставила бы аппарат выключенным на все это время. Я попыталась унять грызущую тревогу — ты часто отключаешь телефон, когда пишешь картины или слушаешь музыку, пресекая нахальные попытки завладеть твоим драгоценным вниманием. Вероятнее всего, в прошлый раз ты просто забыла подключить его обратно.
Я принялась укладывать твою одежду в шкаф, радуясь охватившему меня привычному негодованию.
— Ради всего святого, объясни, почему ты не поставишь платяной шкаф в спальню, где ему положено быть? Здесь он смотрится нелепо!
Я впервые пришла к тебе в гости. У меня не укладывалось в голове, почему почти все пространство тесной гостиной занято огромным шкафом.
— Там у меня студия, — объяснила ты и расхохоталась. Студией громко именовалась малюсенькая спальня в полуподвальной квартирке.
У тебя много достоинств, и одно из них заключается в том, что ты быстрее других замечаешь сказанную или сделанную тобой глупость и первой успеваешь посмеяться над собой. Из всех моих знакомых только ты способна находить собственную нелепость по-настоящему забавной. К сожалению, эта черта у нас отнюдь не семейная.
Развешивая одежду, я заметила в глубине шкафа коробку. В ней оказались вещи для младенца. Новенькие, с иголочки, и явно дорогие, тогда как все остальное у тебя дома выглядело облезлым и убогим: поношенная одежда из комиссионных магазинов, мебель с помойки… Я достала из коробки бледно-голубое кашемировое одеяльце и крохотный чепчик — такие мягкие, что кожа моих рук в сравнении была грубой, как наждак. Они были прелестны. Я изумилась, как если бы нашла на автобусной остановке эймсовский стул. Ты никак не могла позволить себе эту роскошь, но тогда кто дал тебе деньги? Если не ошибаюсь, Эмилио Коди настаивал, чтобы ты сделала аборт. В чем же дело, Тесс?
В дверь позвонили, я побежала открывать. С губ уже почти сорвалось «Тесс!», но на пороге… стояла девушка, и я проглотила невысказанное имя. У некоторых слов есть свой особый вкус. Из-за всплеска адреналина меня начала бить дрожь.
Я определила, что молодая женщина примерно на седьмом месяце беременности. Несмотря на холодную погоду, она была одета в коротенькую маечку, оставлявшую открытым большой круглый живот с проколотым пупком. Ее беременность, выставленная напоказ, показалась мне столь же дешевым китчем, как грязно-желтые волосы.
— Тесс дома? — спросила она.
— Вы кто?
— Подруга. Кася.
Ты действительно рассказывала мне о подруге-польке, но твое описание никак не подходило девице в дверях. Ты до невозможности ей польстила, придав лоск, которого она была напрочь лишена. Передо мной стояло нечто в несуразной мини-юбке, с посиневшими от холода ногами, покрытыми сеткой вен, — образ, весьма далекий от наброска Донателло.
— Я и Тесс познакомиться в клинике. Тоже нет парень.
Мое внимание больше привлек ломаный английский Каси, чем смысл слов. Бросив взгляд на «форд-эскорт», припаркованный у крыльца, она прибавила:
— Он вернуться. Три недели.
Я состроила мину, красноречиво свидетельствующую о полном отсутствии интереса к личной жизни моей визави.
— Когда Тесс приходить домой?
— Не знаю. Никто не знает, где она. — Мой голос вновь предательски задрожал, но я решила, что скорее откушу себе язык, чем выкажу эмоции перед Касей. Снобизм, присущий нашей матери, благополучно передался мне. Я сухо продолжила: — Тесс не появлялась здесь с прошлого четверга. Не знаешь, куда она могла отправиться?
Кася покачала головой.
— Мы быть на отдых. Мальорка. Мириться.
Парень в «форде» протяжно посигналил. Кася махнула ему рукой. Она заметно нервничала. На корявом английском она попросила передать тебе, что заходила в гости, и поспешила вверх по ступенькам.
Да, мисс Фрейд, я разозлилась, что она — не ты. Ее вины в том не было.
* * *
Я поднялась на крыльцо и позвонила в дверь Эмиаса. Накинув цепочку, тот открыл.
— Вы, случайно, не знаете, откуда у Тесс дорогая одежда для малыша? — спросила я.
— Она устроила поход по всем магазинам на Бромптон-роуд. Радовалась, как…
Я нетерпеливо оборвала старика:
— Меня интересует, на какие деньги она их купила?
— Я не задаю девушкам подобных вопросов.
Это прозвучало укором; Эмиас был воспитан, а я — нет.
— Что заставило вас сообщить в полицию об исчезновении Тесс?
— Она не пришла поужинать со мной, хотя обещала. Тесс никогда не нарушает своих обещаний, даже перед стариком вроде меня.
Эмиас снял с двери цепочку. Несмотря на годы, он все еще был осанист и высок, на добрых десять сантиметров выше меня.
— Выбросьте вы эти детские одежки, — сказал он.
Я отшатнулась, вне себя от негодования:
— Не рано ли вы попрощались с моей сестрой?
Я развернулась и торопливо сбежала вниз. Пожилой домовладелец что-то проговорил мне вслед, но я не стала прислушиваться и заперлась в твоей квартире.
— Еще десять минут, и на сегодня достаточно, — говорит мистер Райт.
Слава Богу. Я и не предполагала, каким утомительным окажется процесс записи.
— Вы заглянули в ванную комнату? — задает очередной вопрос мистер Райт.
— Да.
— Проверили стенной шкафчик?
— Нет.
— То есть не заметили ничего странного, неожиданного?
— Заметила.
Я очень устала и промерзла до костей. Страшно хотелось принять душ. Горячий. До показа реконструкции оставалось еще два часа, но я боялась пропустить твой звонок, и именно поэтому решила последовать той логике, согласно которой любовь всей жизни является на порог ровно в ту минуту, когда ты, одевшись в самую безобразную пижаму, намазываешь на лицо зеленую питательную маску. Согласна, логикой это назвать трудно, и все же я понадеялась, что стоит мне встать под душ, и ты сразу позвонишь. Вдобавок я знала, что мой телефон принимает эсэмэски.
Конечно, у тебя не было никакого душа, только ванна с облупившейся эмалью и плесенью вокруг кранов. Это убожество разительно контрастировало с ванной комнатой в моей нью-йоркской квартире: мрамор, блеск хромированного металла — образец модернистского шика. Можно ли вообще чувствовать себя освеженной и чистой, помывшись здесь? Где-то в глубине промелькнуло знакомое ощущение превосходства, а потом я увидела полку с твоими гигиеническими принадлежностями: зубная паста, щетка, раствор для хранения контактных линз и расческа с застрявшими в зубьях длинными волосами.
До сих пор я лелеяла мысль, что ты могла выкинуть какую-нибудь глупость — скажем, удрать на рок-фестиваль или принять участие в акции протеста, что ты — все та же легкомысленная девчонка, запросто ночующая в палатке на мерзлой земле, не обращая внимания на то, что до родов осталось меньше месяца. До сего момента я много раз представляла, как отругаю тебя за полнейшее безрассудство, но зубная щетка и прочие принадлежности напрочь развеяли мои фантазии. Все надежды рухнули. Где бы ты сейчас ни была, ты туда не собиралась.
* * *
Мистер Райт выключает диктофон.
— На сегодня достаточно.
Я киваю, стараясь отогнать воспоминание о твоих волосах, застрявших в расческе. В кабинет входит степенная секретарша. Она сообщает, что число репортеров, съехавшихся к твоему дому, пугающе растет. Мистер Райт проявляет участие: не желаю ли я, чтобы он подыскал мне гостиницу на эту ночь?
— Нет, спасибо. Я буду ночевать дома.
Я называю твою квартиру домом — ты ведь не возражаешь? Я живу у тебя уже два месяца, и теперь это действительно почти что мой дом.
— Вас подвезти? — спрашивает мистер Райт и, заметив мое удивление, улыбается: — Не волнуйтесь, мне не трудно. У вас сегодня выдался тяжелый день.
Значит, подарком был галстук. Мистер Райт — хороший человек.
Я вежливо отказываюсь. Он провожает меня к лифту.
— Нам потребуется несколько дней, чтобы зафиксировать ваши показания. Вы не против?
— Нет, ничуть.
— Это связано с тем, что вы исполняли роль главного дознавателя и одновременно проходите как главный свидетель.
Учитывая мои действия, термин «дознаватель» звучит слишком профессионально. Подъезжает лифт. Мистер Райт заботливо придерживает дверь, пока я захожу в кабину, набитую людьми.
— С помощью ваших свидетельских показаний мы запечатаем это дело, — на прощание говорит он, и я представляю свои слова в виде густой черной смолы, которой обмазывают корпус корабля под названием «Приговор», чтобы обеспечить водонепроницаемость.
Весеннее солнышко прогрело вечерний воздух, и над темной твердью мостовых раскрылись белые зонтики уличных кофеен. Офисы уголовного суда расположены всего в нескольких кварталах от парка Сент-Джеймс, и я решаю пройти часть пути пешком.
Я пытаюсь срезать дорогу к парку, но упираюсь в тупик — проход закрыт. Поворачиваю назад и слышу за спиной шаги — не безопасный стук женских каблучков, а тихую, недобрую поступь преследователя-мужчины. Мной овладевает страх, но я убеждаю себя, что это всего лишь избитый киношный штамп — «маньяк крадется за женщиной», — и гоню прочь гнетущие мысли. Однако тяжелые шаги приближаются, их звук становится громче. Сейчас человек, идущий по другой стороне улицы, обгонит меня, и станет ясно, что у него нет дурных намерений. Шаги все ближе и ближе. Я уже чувствую затылком ледяное дыхание чужака и пускаюсь бежать без оглядки. Добегаю до выхода из тупикового переулка и вижу людей, много людей. Присоединившись к толпе, я спешу к метро.
Я повторяю себе, что этого не может быть. Преступник сидит в камере предварительного заключения, так как в освобождении под залог ему отказано. После суда его ждет пожизненная тюрьма. Должно быть, мне просто померещилось.
Я окидываю вагон метро настороженным взглядом, и на глаза тут же попадается твое фото, напечатанное на первой полосе «Ивнинг стандард». Я сфотографировала тебя два года назад, летом, когда ты приезжала в Вермонт. На лице сверкает улыбка, волосы развеваются на ветру блестящим парусом — от твоей красоты захватывает дух. Неудивительно, что этот снимок выбрали для первой страницы. На внутренней полосе — еще одна фотография, тоже сделанная мной: тебе шесть, и ты обнимаешь Лео. Я-то знаю, что у тебя только-только высохли слезы, но на снимке этого не видно. Едва ты улыбнулась, твое личико сразу обрело привычное веселое выражение. На соседнем фото — я. Репортеры подловили меня вчера. Моему лицу нормальное выражение так легко не вернуть. К счастью, я уже давно не переживаю по поводу того, как получаюсь на фотографиях.
Я выхожу на станции «Лэдброк-гроув» и замечаю, насколько проворно двигаются лондонцы — вверх по ступенькам, через турникеты, — умудряясь не задевать друг друга. У выхода я опять чувствую за спиной присутствие чужака, холод его дыхания, легкое покалывание в затылке, предупреждающее об угрозе. Я торопливо пробираюсь вперед, расталкивая всех подряд и уговаривая себя, что ледяное дуновение — лишь сквозняк от проносящихся внизу поездов.
Может быть, ужас и омерзение, пережитые однажды, остаются впечатанными в подсознание даже тогда, когда причины уже не существует и на их место приходит дремлющий страх, который пробуждается от малейшего пустяка.
На Чепстоу-роуд я столбенею от изумления при виде скопившихся у твоего дома людей и машин. Я вижу съемочные группы всех британских новостных каналов и, если не ошибаюсь, большинства зарубежных. Вчерашнее сборище репортеров кажется мне скромной деревенской ярмаркой, за ночь превратившейся в безумный парк аттракционов.
За десять дверей от твоей квартиры меня замечает оператор — тот самый, что подарил хризантемы. Я внутренне напрягаюсь, однако он отводит взгляд, и я снова потрясена неожиданной добротой. Еще через две двери я попадаю в поле зрения первого репортера. Он приближается ко мне, за ним и остальные. Я сбегаю вниз по лестнице и захлопываю за собой дверь.
Снаружи микрофонные штативы заполняют пространство, словно триффиды; в окна лезут непомерно длинные объективы. Я задергиваю шторы, но слепящие лучи прожекторов все равно проникают сквозь тонкую материю. Так же, как вчера, я укрываюсь на кухне, но и здесь нет спасения. Кто-то барабанит кулаком в заднюю дверь, а в прихожей трезвонит звонок. Телефон замолкает на секунду, прежде чем опять залиться трелью. Какофонию дополняет мой мобильник. Откуда им известен этот номер? Бесцеремонные, громкие звуки настойчиво требуют ответа. Я вспоминаю первую ночь, проведенную в твоей квартире. Тогда мне казалось, будто нет ничего более тоскливого, чем молчащий телефон.
Двадцать минут одиннадцатого: я устроилась на диване и включила телевизор. В тщетном усилии сохранить остатки тепла, завернулась в твою индийскую шаль. Издалека, с экрана, я вполне сносно могла сойти за тебя. В конце сюжета появилась надпись с просьбой сообщить имеющуюся информацию, а также номер телефона.
Половина двенадцатого: я сняла трубку телефона — проверила, работает ли. Потом испугалась: а вдруг в эту самую минуту мне звонят — ты или полиция с новостью о том, что ты нашлась.
Половина первого: ничего.
Час ночи: возникло ощущение, что окружающая тишина меня душит.
Половина второго: услышала собственный голос, зовущий тебя по имени. Или, наоборот, твое имя утонуло в молчании?
Два часа ночи: из-за двери донесся шорох. Я поспешно открыла, однако выяснилось, что это всего-навсего кошка, обитательница помойки, которую ты подобрала несколько месяцев назад. Молоко в холодильнике давно скисло, покормить обиженно мяукающего зверька было нечем.
* * *
Половина пятого утра: я вошла в твою спальню, протиснувшись между мольбертом и грудами холстов. Порезала палец на ноге. Наклонилась, разглядела на полу осколки стекла. Отдернула шторы и обнаружила, что окно выбито, а рама затянута полиэтиленом. Стало понятно, почему квартира не прогревается.
Я легла в твою постель. Полиэтилен хлопал на ледяном ветру, и эти прерывистые, неживые звуки вкупе с холодом доставляли мучительное неудобство. Под подушкой лежала твоя пижама, пахнущая точно так же, как платье. Я прижала ее к груди. Перевозбужденная и промерзшая, я никак не могла заснуть, однако в конце концов провалилась в забытье.
Мне снился красный цвет, оттенки с 1788-го по 1807-й. Цвет кардиналов и шлюх, страсти и пышных процессий; кошениль, кармазин, пурпур; цвет жизни, цвет крови.
Разбудил меня звонок в дверь.
Вторник
В коридорах и офисах уголовного суда уже вовсю чувствуется весна. Каждый оборот вращающейся двери приносит из парка слабый запах подстриженных газонов. Девушки за стойкой в холле одеты в легкие платья, их кожа золотится загаром, с вечера нанесенным из баллончиков. Несмотря на теплую погоду, на мне пальто и толстый свитер; я — бледный, закутанный пережиток зимы.
Открывая дверь в кабинет мистера Райта, я собираюсь рассказать ему о моем вчерашнем воображаемом преследователе. Мне нужно еще раз услышать, что этот человек находится за решеткой и после суда уже никогда не выйдет из тюрьмы. Однако стоит мне зайти, как я вижу весеннее солнце, бьющее в окно, и яркие люминесцентные лампы. При этом свете призрак моего страха бесследно рассеивается.
Мистер Райт включает диктофон. Мы приступаем.
— Прежде всего я хотел бы, чтобы вы рассказали о беременности Тесс, — говорит мистер Райт, и в его просьбе мне слышится легкий укор.
Вчера он просил изложить события с того момента, когда я «заподозрила неладное», и я начала с описания маминого звонка во время воскресного ленча. Теперь я знаю, что все началось совсем не тогда. Если бы я чаще находила для тебя время, внимательнее слушала и меньше заботилась о себе, то гораздо раньше сумела бы понять, что с тобой творится что-то скверное.
— Тесс забеременела через полтора месяца после того, как стала встречаться с Эмилио Коди, — сообщаю я, убрав из голоса все эмоции.
— Как она отнеслась к факту своей беременности?
— Поделилась открытием о том, что ее тело — чудесный сосуд.
На память приходит наш с тобой телефонный разговор.
— Представляешь, Би, по свету ходит почти семь миллиардов чудес, а мы даже не верим в них!
— Тесс поставила в известность Эмилио? — спрашивает мистер Райт.
— Да.
— И как он отреагировал?
— Сказал, что беременность необходимо прервать. Тесс ответила ему, что прервать можно знакомство или отдых, но не жизнь ребенка.
Мистер Райт прячет улыбку, но я рада, что твои слова заставили его улыбнуться.
— Когда Тесс отказалась сделать аборт, Эмилио настоял, чтобы она ушла из колледжа до того, как станет заметен живот.
— Она так и поступила?
— Да. В деканате Эмилио сказал, что Тесс предложили куда-то перевестись для творческой стажировки. По-моему, он даже называл реально существующий колледж.
— Кто знал об истинной причине ухода вашей сестры?
— Близкие друзья, в том числе с факультета. Но Тесс попросила их молчать.
Я не могла взять в толк, почему ты защищаешь Эмилио. Он этого не стоил. Пальцем не пошевелил, чтобы заслужить такое доброе отношение с твоей стороны.
— Он предлагал помощь?
— Нет. Эмилио обвинил Тесс в том, что она якобы забеременела нарочно, и твердо заявил, что ни она, ни ребенок помощи от него не дождутся.
— Тесс действительно забеременела нарочно?
Дотошность мистера Райта меня слегка удивляет, но, с другой стороны, мы ведь договаривались, что я расскажу ему все подробно, а он потом сам выделит главное.
— Нет. Это вышло случайно.
Я опять вспоминаю тот наш разговор по телефону. Я сидела у себя в офисе, как обычно, работая в многозадачном режиме: анализировала новую имиджевую концепцию для сети ресторанов и одновременно исполняла роль старшей сестры.
— Тесс, объясни мне, пожалуйста, что значит «случайность».
Дизайнеры остановились на уплотненном типографском шрифте, который смотрелся совсем допотопно, тогда как я давала указание придать тексту легкий шарм ретроэпохи.
— Случайность звучит как-то нехорошо, Би; давай лучше назовем это сюрпризом.
— Ладно, скажи, как можно устроить себе подобный «сюрприз», если презервативы продаются на каждом углу?
Ты звонко рассмеялась, ласково поддразнивая меня за мою серьезность.
— Видишь ли, некоторые люди в такие минуты полностью отдаются страсти.
Да, я уловила твой скрытый намек.
— И что ты теперь намерена делать?
— Толстеть, толстеть, а потом родить малыша.
Ты рассуждала как ребенок, ты вела себя как ребенок, куда тебе было становиться матерью?
— Би, не злись, это же радостная новость.
— Ваша сестра задумывалась об аборте? — продолжает задавать вопросы мистер Райт.
— Нет.
— Вас воспитывали в католической вере?
— Да, но она не хотела делать аборт вовсе не из-за этого. Единственный католический догмат, который принимала Тесс, — это принцип сегодняшнего дня.
— Простите, я не знаком с основами католицизма.
Конечно, для суда это не имеет значения, и все-таки я хочу, чтобы мистер Райт знал о тебе не только сухие факты, собранные в толстые скоросшиватели.
— Это означает, что жить нужно здесь и сейчас, — поясняю я. — В настоящем. Не задумываясь о будущем и не цепляясь за прошлое.
Я никогда не покупалась на данное утверждение, находя его чересчур легкомысленным и гедонистическим. Полагаю, этот постулат навязан греками. Видимо, Дионис очень пекся о том, чтобы католики не лишились удовольствий, и по-свойски внес свою лепту в религиозные принципы.
Мне хочется, чтобы мистер Райт имел в виду кое-что еще.
— С самых первых дней, когда ребенок представлял собой не более чем набор клеток, Тесс уже любила его. Вот почему она считала свое тело чудесным сосудом и даже мысли не допускала об аборте.
Мистер Райт кивает. Уважая твои чувства, он делает почтительную паузу.
— На каком сроке у ребенка диагностировали муковисцидоз? — осведомляется он.
Мне приятно, что он сказал «у ребенка», а не «у плода». Ты и твой малыш для него уже не безликие создания.
— В двенадцать недель, — отвечаю я. — Поскольку у нас в семье эта болезнь наследственная, Тесс прошла генетическое обследование.
— Это я.
На другом конце трубки ты едва сдерживала слезы.
— Будет мальчик.
Я уже догадывалась, что ты скажешь дальше.
— У него обнаружили муковисцидоз.
Ты произнесла это по-детски беспомощно. Я не знала, что ответить. Мы обе слишком много знали о муковисцидозе, банальные утешения были ни к чему.
— Ему придется пройти через те же муки, что испытал Лео…
— Это было в августе? — осведомляется мистер Райт.
— Да, десятого числа. Через четыре недели Тесс позвонила мне и сказала, что ей предлагают экспериментальную генетическую процедуру для лечения малыша.
— Что конкретно ваша сестра знала об этой процедуре?
— Как объяснила Тесс, ребенку вводят здоровый ген, который замещает ген муковисцидоза, причем это осуществляется внутриутробно. По мере развития плода здоровый ген полностью вытесняет собой дефектный.
— Как вы восприняли известие?
— Испугалась возможных рисков. Сначала тех, что связаны с вектором, затем…
— С вектором? — перебивает меня мистер Райт. — Извините, я не…
— Вектор — это средство доставки нового гена в организм; такси, если хотите. Роль переносчиков часто исполняют вирусы, так как они обладают высокой способностью инфицировать клетки и параллельно доставляют в них новый ген.
— Вы — настоящий эксперт в этом вопросе.
— В нашей семье мы все эксперты-самоучки. Из-за Лео.
— Всем известно, что во время генетических испытаний люди часто умирают из-за отказа жизненно важных органов…
— Пожалуйста, хотя бы дослушай! В качестве переносчика выступает не вирус. Разработчикам удалось создать искусственную хромосому, которая доставит ген к клеткам малыша. Никакого риска для ребенка! Фантастика, правда?
Звучало действительно фантастически, однако меня совсем не успокаивало. Я «включила» старшую сестру на полную катушку:
— Допустим, проблем с вектором не будет, а как насчет модифицированного гена? Что, если он не только лечит муковисцидоз, но еще и оказывает иное, неизвестное действие?
— Пожалуйста, не причитай.
— А вдруг проявится какой-нибудь жуткий побочный эффект? Вдруг ген вызовет нарушения, которые заранее нельзя даже предсказать?
— Би!
— Хорошо, если ты считаешь это «небольшим риском»…
Ты оборвала мою жаркую речь:
— Мой ребенок болен муковисцидозом, стопроцентно болен — большая, жирная цифра сто. И если лечение дает ему все шансы выздороветь, я обязана рискнуть.
— Ты сказала, что хромосому вводят в живот?
— Ну да, а как еще передать ее ребеночку? — По голосу я поняла, что ты улыбаешься.
— То есть генная терапия окажет воздействие и на тебя.
Ты вздохнула. Издала усталый вздох младшей сестры, которой надоели нотации старшей.
— Тесс, я твоя сестра. У меня есть право волноваться за тебя.
— А я — мать своего ребенка.
Такого ответа я от тебя не ожидала.
— Я напишу тебе, Би.
Ты положила трубку.
— Она часто писала вам? — спрашивает мистер Райт.
Ему вправду интересно, или это имеет существенное отношение к делу?
— Да. Как правило, в тех случаях, когда предполагала мою негативную реакцию. Либо когда просто хотела разобраться в себе, привести в порядок мысли и ей был нужен молчаливый слушатель.
Не знаю, догадываешься ты или нет, но мне всегда нравились твои монологи. Правда, они частенько выводят меня из себя, зато какое облегчение — хоть на время освободиться от роли критика.
— Полиция предоставила копии писем Тесс, — кивает мистер Райт.
Прости, мне пришлось отдать им все письма.
Мистер Райт улыбается.
— Особенно запомнились «земные ангелы».
Приятно, что он обратил внимание на вещи, важные лично для тебя, а не просто для следствия.
«Все эти люди, которых я совершенно не знаю, день за днем, месяц за месяцем, год за годом трудились, чтобы найти лекарство. Во-первых, исследования проводятся на деньги некоммерческих фондов. Представляешь, рядом с нами есть ангелы! Ангелы в белых халатах или твидовых юбках — те, кто устраивает благотворительные пробеги, организует сладкие ярмарки, прилагает массу усилий ради того, чтобы в один прекрасный день чужой ребенок излечился от страшной болезни».
— Ваши опасения утихли благодаря этим строчкам? — спрашивает мистер Райт.
— Нет. За день до того, как я получила письмо, пресса запестрела сведениями об экспериментальной терапии. Сенсационную новость о генном способе лечения муковисцидоза напечатали все американские газеты, по телеканалам сплошными блоками шли сюжеты, посвященные этой теме. Правда, по телевизору почти ничего не объясняли, только без конца показывали фотографии выздоровевших детишек. На первых полосах гораздо чаще встречалась фраза «чудо-детки», нежели «генный метод лечения».
— Здесь творилось то же самое, — подтверждает мистер Райт.
— Много информации нашлось и в Интернете, так что мне удалось подробно изучить вопрос. Выяснилось, что испытания полностью соответствуют регламенту, у компании «Хром-Мед» есть все необходимые разрешения. В Британии уже родились двадцать совершенно здоровых младенцев, которым на раннем этапе внутриутробного развития диагностировался муковисцидоз. У матерей не выявлено никаких побочных эффектов. Женщины в Штатах, беременные детьми с муковисцидозом, умоляли включить их в программу эксперимента. Я поняла, что Тесс очень повезло.
— Что вам было известно о компании «Хром-Мед»?
— Что она занимается исследованиями в области генетики уже не первый год. «Хром-Мед» заплатил профессору Розену за разработку искусственной хромосомы и нанял его для продолжения научной работы.
Чтобы твоим ангелам в твидовых юбках не приходилось собирать деньги.
— Кроме того, я видела несколько телевизионных интервью с профессором Розеном, изобретателем чудесного лекарства.
Понимаю, это совсем не важно, однако мое мнение по поводу экспериментального лечения изменилось именно благодаря профессору Розену. По крайней мере он заставил меня взглянуть на этот метод с надеждой. Помню, как впервые увидела его по телевизору.
Ведущая утренней новостной программы томно промурлыкала свой вопрос:
— Итак, профессор, расскажите нам, каково это — ощущать себя человеком, сотворившим чудо, как вас теперь называют?
Профессор Розен, сидевший напротив ведущей, выглядел типичным «ботаником»: очки в проволочной оправе, узкие плечи, нахмуренные брови; где-нибудь за камерой непременно висел белый халат.
— Едва ли можно вести речь о чуде. На работу ушли десятки лет и…
— Как интересно, — заметила ведущая.
Она поставила в предложении профессора точку, но тот ошибочно воспринял ее возглас за стимул к дальнейшим пояснениям:
— Причиной заболевания является мутация в гене трансмембранного регулятора проводимости, часть которого образует хлоридный канал. Ген муковисцидоза локализован в седьмой хромосоме. Он вырабатывает белок, именуемый кистофиброзным трансмембранным регулятором, сокращенно КФТР.
Ведущая провела рукой по стройному бедру, разглаживая узкую юбку-карандаш, и очаровательно улыбнулась.
— То есть, говоря простым языком…
— Я и говорю простым языком. Искусственная микрохромосома, которую я изобрел…
— Боюсь, сложная терминология не слишком понятна нашим зрителям, — проворковала ведущая, беспомощно всплеснув руками. Эта кукла жутко меня раздражала — кстати, профессора тоже.
— Ваши зрители не обижены умом, так ведь? Моя искусственная хромосома способна перенести здоровый ген в клетки без какого-либо риска.
Наверное, профессору Розену следовало предварительно потренироваться в изложении своей науки примитивным слогом. Со стороны казалось, будто он и сам уже по горло сыт этим дурацким представлением.
— Искусственная хромосома обладает способностью не только внедрять, но и стабильно удерживать оздоровляющий ген. Искусственные центромеры…
Ведущая поспешила прервать очередную порцию тезисов:
— К сожалению, на этом придется закончить вашу лекцию, профессор, так как сейчас мы увидим кое-кого, кто хотел бы выразить вам особую благодарность. У нас прямое включение.
Ведущая обернулась к большому телеэкрану. В кадре появилась больничная палата, молодая мать, вся в слезах от счастья, и гордый отец с новорожденным младенцем на руках. Родители горячо поблагодарили профессора Розена за то, что он вылечил их мальчика и прелестный малыш родился совершенно здоровым. Профессора, однако, происходящее не привело в восторг, он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Он отнюдь не упивался славой, и этим вызвал у меня симпатию.
— Значит, вы поверили профессору Розену? — спрашивает мистер Райт.
Своими впечатлениями он не делится, хотя, безусловно, тоже видел профессора во время массированной информационной кампании.
— Да. Во всех телеинтервью профессор Розен выглядел преданным служителем науки, полностью лишенным тщеславия. Он держался очень скованно; дифирамбы, льющиеся со всех сторон, вызывали у него лишь смущение и досаду.
Мистеру Райту я этого не говорю, но профессор чем-то напомнил мне мистера Норманса (он ведь и у тебя вел математику?). Учитель был человеком добросердечным, но глупость учениц неизменно повергала его в замешательство, и он сыпал уравнениями, как автоматными очередями.
По логике, неумение профессора Розена работать на публику, очки в проволочной оправе и сходство с пожилым учителем вряд ли можно назвать убедительными аргументами в пользу безопасности экспериментального лечения. Скорее, они послужили тем внутренним толчком, который требовался мне, чтобы преодолеть страхи.
— Тесс рассказывала вам, в чем заключалась процедура и что происходило потом?
— Нет, просто сказала, что ей сделали укол и теперь нужно только ждать.
Ты позвонила мне глубокой ночью — то ли забыла о разнице во времени, то ли сочла ее несущественной. На звонок ответил Тодд. Он передал трубку мне, недовольно бурча: «Боже милостивый, половина пятого утра!»
— Сработало, Би. Он здоров.
Я расплакалась. Плакала не стесняясь — всхлипывала, размазывала по лицу слезы радости. Я страшно переживала — нет, не за ребенка, а за тебя, за то, как ты будешь любить и растить малыша, больного муковисцидозом. Тодд испуганно посмотрел на меня.
— Черт побери, это же прекрасно!
Не знаю, что удивило его больше — мои слезы или ругательство.
— Я мечтаю назвать сына Ксавье. Если, конечно, мама не будет против.
Помню, Лео очень гордился своим вторым именем и всегда хотел, чтобы его называли Ксавье.
— Лео сказал бы, что это круто, — грустно улыбнулась я. Как печальна смерть в том возрасте, когда среди сверстников принято говорить «это круто».
— Да, он бы так и сказал…
Секретарь мистера Райта, крупная женщина средних лет, приносит минеральную воду, и я вдруг ощущаю сильную жажду. До капли осушив содержимое хлипкого бумажного стаканчика, ловлю на себе неодобрительный взгляд секретарши. Когда она забирает у меня пустой стаканчик, я замечаю на внутренней стороне ее ладони рыжие пятна. Должно быть, вчера она пользовалась автозагаром. Трогательно, что эта грузная дама сделала попытку прихорошиться к весне. Я улыбаюсь ей, однако она не смотрит в мою сторону. Ее взор устремлен на мистера Райта, и в этом взоре я читаю любовь. Ради него она покрывала искусственным загаром руки и лицо, о нем думала, когда покупала платье.
Мистер Райт прерывает мое мысленное сплетничанье:
— Таким образом, вы полагали, что беременность протекает нормально и с ребенком все в порядке?
— Да, я думала, что все хорошо. Меня волновало только то, как Тесс справится с ролью матери-одиночки. Тогда я серьезно переживала по этому поводу.
Мисс Пылкая Любовь удаляется, так и не удостоившись внимания босса. Мистер Райт смотрит на меня. Представив себя на месте секретарши, я украдкой бросаю взгляд на его пальцы: обручального кольца нет. Да, я опять отвлекаюсь; мой разум не хочет продолжения. Ты знаешь, что произойдет дальше. Прости.
Долю секунды дверной звонок был частью моего ярко-красного сна. Потом я побежала открывать, уверенная, что за дверью стоишь ты. Сержант Финборо мгновенно понял, что я ждала совсем не его. На лице детектива отразилось одновременно смущение и жалость. Догадавшись, о чем я подумаю в следующее мгновение, он поспешил успокоить:
— Нет-нет, Беатрис, ее пока не нашли.
Он вошел в гостиную. Из-за его спины показалась констебль Вернон.
— Эмилио Коди посмотрел вчерашнюю реконструкцию, — сообщил сержант Финборо, усевшись на твой диван. — Тесс уже родила.
Как так? Ты обязательно сообщила бы мне эту новость!
— Наверное, это какая-то ошибка…
— В больнице Святой Анны подтвердили, что в прошлый четверг приняли у Тесс роды. В тот же день она выписалась. — Детектив сделал паузу, а затем с должной скорбью в голосе швырнул следующую гранату: — Ребенок родился мертвым.
Мертворожденный. Умерший еще до появления на свет. Покойный. Мне всегда казалось, что это слово звучит умиротворяюще. Покойный — не нарушающий покоя, тихий, кроткий. Покойные воды. Покойно будь, о сердце ретивое. Покойной ночи… Теперь я понимаю, что этому слову отчаянно не хватает жизни. Жестокий эвфемизм, безжалостно обнажающий тот самый факт, который призван завуалировать. А ведь тогда я даже не думала о твоем малыше. Прокручивала в голове одну-единственную мысль: это случилось неделю назад, а ты не подала никакой весточки.
— Мы опросили сотрудников психиатрического отделения больницы Святой Анны, — продолжил сержант Финборо. — Тесс автоматически перевели в психиатрию в связи со смертью ребенка. Лечащего врача зовут доктор Николс. Я дозвонился ему домой, и он сказал, что у Тесс послеродовая депрессия.
Новости ударной шрапнелью разрывали наши с тобой отношения. Ты не сообщила о смерти ребенка. Страдая от депрессии, не обратилась ко мне за помощью. Я знала всех твоих друзей, знала, над каким полотном ты работаешь, какую книгу читаешь, знала даже кличку твоей кошки (на следующий день я вспомнила — Запеканка). Твоя жизнь всегда была известна мне до мельчайших подробностей, но я не знала главных вещей. Я не знала тебя.
Выходит, дьявол все-таки предложил мне сделку. Я должна смириться с тем, что мы с тобой — почти чужие люди, а взамен полиция выяснит, что тебя никто не похищал. Ты не убита. Ты жива. Я не раздумывая приняла условия сделки.
— Опасения по поводу здоровья вашей сестры остаются, — произнес сержант Финборо, — однако у нас нет оснований считать, что к делу причастны третьи лица.
Я сделала короткую паузу — ради соблюдения формальностей, дабы разобрать мелкий шрифт договора.
— А как же тот человек, что донимал Тесс по телефону?
— Доктор Николс считает эти звонки плодом воображения Тесс, следствием нестабильного психического состояния.
— А разбитое окно? Пол в спальне был усеян осколками.
— Мы изучили это обстоятельство, когда домовладелец заявил о пропаже вашей сестры. В ночь на вторник хулиганы разбили стекла в пяти машинах, припаркованных на улице. Должно быть, кирпич влетел и в окно Тесс.
Волна облегчения расслабила мои натянутые нервы. Страх ушел, а вместо него навалилась чудовищная усталость.
Проводив полицейских, я пошла к Эмиасу.
— Вы знали, что ее ребенок умер? — напрямую спросила я. — Потому и посоветовали мне выбросить одежки?
Старик печально посмотрел на меня:
— Мне очень жаль. Я думал, вы тоже знаете.
Я не хотела продолжать эту тему. Не теперь.
— Почему вы не сказали полиции о ребенке?
— Тесс не замужем. — Увидев мое озадаченное выражение, Эмиас добавил: — Я не хотел, чтобы ее посчитали распущенной. Боялся, что не станут искать.
Пожалуй, он был прав, хотя несколько в ином смысле. Как только полиции стало известно, что у тебя послеродовая депрессия, розыски утратили срочность. В тот момент, однако, меня волновало другое.
— От чего умер ребенок? Тесс ведь говорила, что его вылечили!
— От муковисцидоза вылечили. Но ребеночек болел еще чем-то, а они не знали. Кажется, что-то с почками.
Я поехала к маме, чтобы сообщить ей хорошие известия. Да, хорошие, выяснилось, что ты жива. Прости, тогда я не думала о ребенке. Сделка с дьяволом… К тому же оказавшаяся подставной.
По дороге к маме я вдруг поняла собственную ошибку. Как же я глупа! Послушно поверила в предложенную версию, идиотка. Так хотела заключить эту сделку, что позволила себя обмануть! Я знала тебя с самого рождения. Я была рядом с тобой, когда отец ушел из семьи, когда умер Лео. Я знала главное. Ты обязательно сказала бы мне о смерти ребенка. И о том, что собираешься уехать. Значит, что-то тебе помешало. Или кто-то помешал.
Мама испытала то же облегчение, что немногим раньше и я. Не позволив ее радости продлиться, я поступила жестоко.
— Думаю, они ошибаются, мам. Тесс не сорвалась бы куда-то просто так, она обязательно сказала бы мне.
В отличие от меня мама крепко ухватилась за надежду и не собиралась расставаться с ней так легко.
— Солнышко, просто у тебя нет своих детей. Ты даже представить себе не можешь, что сейчас переживает Тесс. Беби-блюз — сама по себе штука неприятная, а тут еще все остальное… — Мама всегда умела находить замену неприятным словам. — Нельзя сказать, что я обрадована смертью младенца, — продолжала она, — но теперь по крайней мере у Тесс есть второй шанс. Мало кто из мужчин готов принять чужое дитя.
Очень по-матерински — увидеть в случившемся перспективы светлого будущего.
— Я убеждена, что Тесс исчезла не по своей воле.
Мать не желала меня слушать и продолжала рисовать для тебя спокойную, надежную жизнь:
— Надеюсь, второго ребенка она родит в более благоприятных обстоятельствах… — Голос ее все-таки дрогнул.
— Послушай, мам…
— Ты знала, что Тесс беременна, да? — перебила она.
Из будущего мама перепрыгнула в прошлое. Предпочитала находиться в любом временно́м измерении, только не в настоящем, где с тобой что-то происходило.
— Выходит, тебя не смущало, что младшая сестра станет матерью-одиночкой?
— Ты же справилась. Доказала нам, что можно вырастить детей и без мужа.
Я хотела, чтобы мои слова прозвучали по-доброму, но лишь сильнее разозлила маму.
— Нечего сравнивать меня и Тесс! Я забеременела, будучи в законном браке. Да, мой муж бросил меня, но он сам так решил.
До сего дня мама ни разу не называла его «мой муж», всегда только «ваш отец».
— Кроме того, у меня есть понятие о приличиях и стыде, и Тесс тоже не мешало бы кое-что об этом знать!
Как я и говорила, гнев способен ослабить страх, хотя бы на некоторое время.
На обратном пути из Литтл-Хадстона в Лондон началась метель, превратившая шоссе М11 в один безумный снежный вихрь. Белые хлопья сплошной стеной валили с неба, липли на лобовое стекло. Их было так много, что стеклоочистители уже не справлялись. По обеим сторонам дороги в свете фар вспыхивали знаки, предупреждающие о сложных погодных условиях и призывающие водителей снизить скорость в целях безопасности. Ревя сиреной, мимо промчалась карета «скорой помощи».
— Это не гудеж, Би.
— Ладно, тогда просто адский шум.
— Сирена — это голос кавалерии двадцать первого века.
Ты только что поступила в художественный колледж, и твою головку переполняли мысли, до-которых-никто-прежде-не-додумался. В придачу у тебя появилась еще одна неприятная черта, типичная для студентов: уверенность в том, что все прочие люди не способны понять простейших вещей.
— Под кавалерией я подразумевала карету «скорой помощи», полицейскую или пожарную машину, спешащую на помощь людям.
— Спасибо, Тесс, я догадалась.
— И сочла мое высказывание глупым?
— Угу.
Ты коротко хихикнула.
— Нет, если серьезно, то для меня сирена — это сигнал того, что общество заботится о гражданах.
«Скорая помощь» исчезла из виду, вой сирены растворился в воздухе. Спешит ли кавалерия на помощь к тебе? Я заставила себя прогнать эти мысли. Понимала, что нельзя думать о худшем. Но все равно мне было холодно, страшно и одиноко.
Скользкие дороги в твоем квартале, не посыпанные песком, оказались весьма коварными. Уже у самого дома мою машину занесло, и я чуть не сбила припаркованный тут же мопед. На ступеньках сидел парень лет двадцати с небольшим. В руках он держал несуразно большой букет. Снежные хлопья, падавшие на целлофановую обертку, таяли и превращались в прозрачные капли. Я узнала его по твоим описаниям: Саймон, сын министра. Кстати, ты права: проколотая нижняя губа действительно придавала его юному лицу мученическое выражение. Байкерский костюм Саймона промок, озябшие пальцы побелели. Несмотря на холодный воздух, я уловила запах лосьона после бритья. Помню, ты рассказывала о неловких попытках ухаживания со стороны Саймона. Пожалуй, ты одна из немногих людей, которые честно дарят несостоявшемуся партнеру обещанный утешительный приз в виде дружбы.
Я сообщила ему, что ты пропала без вести. Он с силой прижал букет к груди, ломая хрупкие стебли.
— Давно? — Голос с характерным итонским акцентом звучал тихо.
— В прошлый четверг.
Мне показалось, Саймон побледнел.
— Я встречался с ней в четверг.
— Где?
— В Гайд-парке. Мы были вместе примерно до четырех часов.
Это на два часа позже того времени, когда ты заходила на почту. Судя по всему, Саймон — последний, кто тебя видел.
— Тесс позвонила мне утром, попросила прийти в Кенсингтонские сады, к галерее «Серпентайн». Мы посидели, выпили кофе, поболтали о том о сем…
Итонский акцент сменился капризным северолондонским. Какой из них настоящий?
— Я предложил проводить ее домой, но она отказалась. — Судя по голосу, Саймон терзался жалостью к самому себе. — С тех пор я ей не звонил, и больше мы не виделись. И да, наверное, с моей стороны это не очень красиво, но я хотел, чтобы она прочувствовала, что такое холод равнодушия.
До какой же степени было раздуто самомнение этого парня, если он считал, что его оскорбленные чувства сколь-нибудь важны для тебя после смерти ребенка или для меня — теперь, когда ты пропала.
— Где ты ее оставил? — спросила я.
— Это она меня оставила, ясно? Мы прогулялись по Гайд-парку, потом она ушла. Я ее не бросал.
Саймон лгал. Фальшивым был северолондонский акцент.
— Где вы расстались?
Он молчал.
— Где?! — рявкнула я.
— На пляже у озера.
До этой минуты я никогда ни на кого не орала.
Я позвонила детективу Финборо и оставила для него срочное сообщение. Саймон грел замерзшие руки под горячей водой у тебя в ванной. Позже, когда он ушел, меня разозлило то, что запах его дурацкого лосьона перебил аромат твоего мыла и шампуня.
— Что сказали в полиции? — поинтересовался он, входя в гостиную.
— Сказали, что проверят информацию.
— Очень по-американски.
Только у тебя есть право поддразнивать меня таким образом. На самом деле полицейский сказал: «Мы сейчас же займемся этим вопросом».
— Они прочешут весь Гайд-парк? — спросил Саймон.
По правде говоря, я старалась не думать о том, что подразумевал полицейский под словом «займемся». Я заменила английское выражение американским, обернув колючую реальность в мягкую пузырчатую пленку.
— Нам позвонят? — задал вопрос Саймон.
Я — твоя сестра. Сержант Финборо будет общаться только со мной.
— Да, детектив сообщит мне, если будут новости.
Саймон растянулся на диване, задев мокрыми от снега ботинками твою индийскую шаль. Я собиралась кое-что у него выяснить и потому сдержала вспыхнувшее раздражение.
— В полиции говорят, что Тесс пребывала в послеродовой депрессии. Как она показалась тебе?
Некоторое время Саймон не отвечал — рылся в памяти или сочинял новую ложь?
— Она была очень подавлена, — наконец произнес он. — Ей приходилось пить специальные таблетки, чтобы перестало приходить молоко. Тесс сильно переживала, говорила, что это ужасно — производить пищу для ребенка, которого уже нельзя накормить.
Я понемногу начала понимать твое горе. Прости, что мне потребовалось для этого так много времени. В оправдание могу лишь сказать, что в моих тревогах за тебя ребенку просто не находилось места.
В словах Саймона я уловила что-то не то. Да, вот.
— Ты сказал «была»?
Он недоуменно воззрился на меня.
— Ты сказал: «Она была подавлена», так?
На миг я подумала, будто прижала Саймона к стене, но он быстро овладел собой. В голосе опять послышался фальшивый северолондонский акцент.
— Я имел в виду, что она была подавлена в тот день, когда мы встречались, в четверг. Откуда мне знать, какое у нее настроение сегодня?
Его лицо уже не казалось мне детским; теперь в нем проглядывала жестокость. Проколотая губа символизировала отнюдь не юношеское бунтарство, но сознательный мазохизм. Я приготовила еще один вопрос.
— Тесс говорила тебе, что малыша вылечили?
— Да, он умер от какой-то другой болезни, не от муковисцидоза.
— Из-за того, что родился на три недели раньше срока?
— Нет. Тесс сказала, что эта болезнь убила бы ребенка, даже если бы он появился на свет в положенное время. У него было что-то с почками.
Я собралась с духом:
— Тебе известно, почему она не сообщила мне о смерти ребенка?
— Я думал, ты в курсе. — Во взгляде Саймона промелькнуло торжество. — А ты знала, что Тесс попросила меня быть крестным отцом?
Он упорно не понимал моих вежливых намеков и неохотно убрался только после того, как я открыто указала ему на дверь. Обычно я так себя не веду.
Тщетно прождав два с половиной часа, я сама позвонила в полицию. На другом конце провода мне сказали, что сержанта Финборо нет на месте. Я решила отправиться в Гайд-парк в надежде, что не встречу там детектива, что он занят расследованием более важного дела, а тебя причислил к «потеряшкам», которые возвращаются домой сами. Я надеялась, что он прав, а я ошибаюсь и ты просто уехала куда-нибудь, чтобы справиться с горем. Я заперла дверь и спрятала ключ под горшком с розовым цикламеном — на случай если ты вернешься в мое отсутствие.
На подъезде к Гайд-парку меня обогнала полицейская машина с включенной сиреной. Похолодев от ужаса, я прибавила газу. У Ланкастерских ворот я увидела, что опередивший меня автомобиль присоединился к другим. На их крышах сверкали красно-синие огни, со всех сторон слышался металлический вой сирен.
Я вышла из машины и побрела в парк. С неба неслышно падал снег. Мне хотелось оттянуть эту минуту, позволить надежде продлиться хотя бы еще немного. Многие сочли бы меня эгоисткой, но ты поймешь мои чувства, ведь ты жила с бедой в душе, точнее, часть твоей души умерла вместе с ней. Впереди я увидела полицейских, человек десять — пятнадцать. Туда же, прямо в парк, съезжались полицейские авто. Вокруг начали собираться зеваки — реалити-шоу в прямом эфире…
На свежевыпавшем снегу виднелись следы ног и отпечатки автомобильных шин. Много следов.
Я медленно двинулась вперед. Мной овладело странное спокойствие; я смотрела на себя словно со стороны: ощущала неровное биение собственного сердца, нехватку воздуха, сильный озноб. Мой разум как будто пребывал на расстоянии от тела, наблюдая за его реакцией.
Я прошла мимо смотрителя парка, одетого в коричневую униформу. Он разговаривал с мужчиной, который держал на поводке лабрадора.
— Нас спрашивали насчет пляжа и озера, и я решил, что они хотят обследовать дно, но их начальник приказал сперва осмотреть пустующие сооружения, — рассказывал смотритель. — После того как урезали бюджет, у нас таких много. — Привлеченные разговором, к хозяину лабрадора присоединились новые слушатели — собачники и бегуны трусцой. — Вон в том здании раньше был мужской туалет. Потом уж не стали его ремонтировать, просто выстроили новый — так дешевле.
Я миновала эту небольшую толпу и направилась к полицейским, которые выставляли оцепление вокруг ветхой постройки викторианских времен, наполовину скрытой в кустах.
Немного поодаль стояла констебль Вернон. Она вся тряслась; обычно румяные щеки были бледны, глаза опухли от слез. Один из коллег поддерживал ее за плечи. Меня они не замечали.
— Да, видела, но только в больнице, — всхлипывала констебль Вернон. — А эта ну совсем молоденькая, и одна-одинешенька, бедняжка…
Позднее я ощутила горячую признательность к этой добросердечной женщине за искреннее сопереживание, но в ту минуту ее слова обожгли мой рассудок, заставили осознать происходящее.
Я приблизилась к месту оцепления. Сержант Финборо увидел меня и на несколько секунд замер, недоумевая, что я здесь делаю. Затем, однако, на его лице появилось сочувственное выражение. Детектив подошел ко мне.
— Беатрис, я искренне сожалею…
Я не дала ему договорить. Пока слова не произнесены вслух, можно считать, что ничего не случилось.
— Это ошибка!
Я почувствовала непреодолимое желание убежать. Он осторожно сжал мою руку. Тогда мне показалось, что сержант Финборо хочет удержать меня от резких действий; теперь я понимаю — это был просто жест доброты.
— Мы нашли Тесс.
Я попыталась выдернуть руку.
— Вы не можете утверждать наверняка.
Сержант посмотрел мне в глаза — даже в то мгновение до меня дошло, что это потребовало от него определенного мужества.
— Мы обнаружили при ней студенческий билет. Боюсь, ошибки нет. Мне очень жаль, Беатрис. Ваша сестра мертва.
Он отпустил мою руку. Я побрела прочь.
— Беатрис!.. — окликнула меня констебль Вернон.
За спиной послышался голос сержанта Финборо:
— Оставьте ее. Ей нужно побыть одной.
Спасибо, детектив.
Я опустилась на скамейку под черными деревьями, голыми и безжизненными, укрытыми заглушающим все и вся снегом.
В какой момент я осознала, что ты умерла? Тогда, когда мне сказал об этом сержант Финборо? Когда я увидела бледное, заплаканное лицо констебля Вернон? Или твою зубную щетку в ванной? После маминого звонка в воскресенье? Когда?
Полицейские вынесли из туалета носилки, на которых лежал черный пластиковый мешок. Я подошла ближе. В застежке-молнии застряла прядь твоих волос.
И тогда я поняла.
Зачем я тебе пишу? В прошлый раз я уклонилась от этого вопроса, начала объяснять про необходимость во всем разобраться, про пуантилизм и желание создать полную картину… Я ушла от главного: почему я пишу тебе? Детская выдумка, игра полубезумной старшей сестры? Из простыней и одеял получается отличная палатка, пиратский корабль или целый замок. Ты — бесстрашный рыцарь, Лео — щеголеватый принц, а я — принцесса и рассказчица, выстраивающая сюжет. Я всегда рассказывала сказки, помнишь?
Верю ли я, что ты меня слышишь? Совершенно точно/Исключено. Выбирай сама. Лично я меняюсь во мнении ежеминутно.
Выражаясь проще, мне нужно с тобой поговорить. Мама рассказывала, что до твоего рождения я не отличалась разговорчивостью, зато потом, когда появилась сестренка, меня уже было не остановить. Я не хочу останавливаться и сейчас. Умолкнув, я потеряю частицу души. Частицу себя. Конечно, ты не можешь поспорить со мной или выразить свою точку зрения, но ведь я примерно знаю, что ты сказала бы по тому или иному поводу, так же как ты знала, какой реакции от меня ждать. И пускай это будет монологом, разговором в одну сторону, но вести его я могу только с тобой.
Из него ты узнаешь, почему тебя убили. Я могла бы начать с конца, с последней страницы, и сразу дать тебе ответ, но ты обязательно спросишь о чем-то, что заставит меня вернуться на несколько страниц назад, а потом еще и еще, и в итоге мы все равно окажемся в начале. Лучше я буду излагать все в том порядке, в котором сама все узнавала.
— Полицейский, которого я прежде не видела, попросил меня опознать ее.
Я рассказываю мистеру Райту все, что рассказала тебе, за исключением сделки с дьяволом и прочих отступлений, несущественных для дела.
— В какое время это было? — мягко спрашивает мистер Райт. В его голосе, как всегда, сквозит доброта, но я не могу ответить. В день, когда тебя нашли, время словно сошло с ума. Минута длилась целую вечность, час пролетал за считанные мгновения. Словно в детской книжке, я проносилась сквозь недели и года, держа курс на вторую звезду справа и вперед до самого утра, которое никогда не наступит. Я была частью картины Дали — той, на которой он изобразил стекающие часы; гостьей на безумном чаепитии со Шляпником. Неудивительно, что Оден сказал: «Часы останови, забудь про телефон…»[3] Я понимаю эту просьбу, этот отчаянный рывок из тьмы к здравости рассудка.
— Не знаю, — отвечаю я, рискнув выдать частичку правды. — Время перестало иметь для меня значение. Обычно оно влияет на ход вещей, но когда умирает близкий человек, никакое время не способно это изменить и просто больше ничего не значит.
Увидев прядь твоих волос, я поняла, что горе — это любовь, превратившаяся в неизбывную тоску. Согласна, немного чересчур для мистера Райта, но я хочу, чтобы он лучше понял, как я воспринимала твою смерть. Реальность смерти нельзя вместить в минуты, часы или дни. Помнишь антикварные кофейные ложечки, отделанные эмалью, похожей на разноцветную карамель? Именно так я отмеряла свою жизнь — маленькими, строго определенными порциями. А твоя смерть была бескрайним океаном, в котором я безнадежно тонула. Известно ли тебе, что глубина океана достигает одиннадцати километров? Туда не способен проникнуть ни один луч солнца. В этом непроглядном мраке выживают лишь бесформенные, безымянные мутанты — кошмарные эмоции, о существовании которых я не подозревала до тех пор, пока ты не умерла.
— Поставим точку на сегодня? — предлагает мистер Райт. Похоже, он озвучил мои собственные мысли и сомневается, все ли у меня нормально с психикой. Нет, не может быть. Я уверена, что ничем не выдала своих дум, а мистер Райт, как обычно, предупредителен. Однако я больше не хочу возвращаться в тот день.
— Если позволите, я договорю.
Мистер Райт едва заметно напрягается — видимо, делает над собой усилие. Я не думала, что ему тоже придется трудно. Мы чем-то похожи на героев поэмы Кольриджа — Старый Мореход, рассказывающий свою печальную историю, и Свадебный Гость, которому тяжко ее слушать. Мистер Райт кивает, и я продолжаю:
— Полицейские привезли маму в Лондон, но она отказалась участвовать в опознании, поэтому я поехала в морг без нее, в сопровождении пожилого сержанта. Забыла, как его звали. Он был очень добр ко мне.
В морге сержант взял меня за руку и не отпускал ее. Мы миновали бокс, где производят вскрытие. Сияющие металлические столы, белая плитка, яркий свет — жуткое воплощение дизайнерской кухни в стиле хай-тек. Сержант привел меня туда, где была ты. Сильно пахло антисептиком. Полицейский спросил, готова ли я. «Нет, — хотелось ответить мне, — нет, и никогда не буду». Я кивнула. Он откинул простыню.
На тебе было теплое зимнее пальто, мой подарок к Рождеству. Я позаботилась о том, чтобы ты не мерзла. Увидев тебя в этом пальто, я почему-то обрадовалась. Цвет смерти нельзя описать, у него нет соответствия в патентованной системе. Цвет смерти — противоположность понятию цвета. Противоположность жизни. Я коснулась твоих волос, по-прежнему гладких, как шелк.
— Она была красавицей…
Сержант крепче стиснул мою руку.
— Да, она очень красива.
Немолодой полицейский употребил настоящее время, и я решила, что он плохо меня расслышал. Теперь мне кажется, что он просто хотел как лучше, ведь смерть пока не лишила тебя всех достоинств. Сержант оказался прав: ты была красива той особенной красотой, что отличала трагических героинь Шекспира. Ты стала Офелией, Дездемоной, Корделией — бледной и недвижной; поруганной девой, пассивной жертвой. Но при жизни ты никогда не была трагичной или пассивной и уж тем более жертвой. Ты искрилась весельем, олицетворяла собой энергичность и независимость.
Плотные рукава пальто насквозь пропитались кровью. Когда она высохла, шерстяная материя задеревенела. Я увидела порезы на твоих запястьях — там, откуда из тебя вытекла жизнь.
Не помню, о чем спрашивал сержант, что отвечала я и отвечала ли вообще. Помню только, как он держал меня за руку.
Когда мы покинули морг, сержант спросил, желаю ли я, чтобы французская полиция известила нашего отца о случившемся. Я поблагодарила его за заботу.
Мама ждала меня у выхода.
— Прости, я бы просто не вынесла, увидев ее такой.
Она считала, что я способна это вынести?
— Разве обязательно проходить через эту процедуру? — продолжала мама. — Неужели нельзя использовать анализ ДНК или что-то подобное? Что за дикость!
Я полагала иначе. Чтобы поверить в твою смерть, мне было необходимо соприкоснуться с жестокой и тягостной реальностью. Я должна была увидеть твое лицо и этот цвет, не имеющий названия.
— Ты ходила совсем одна? — спросила мама.
— Нет, меня сопровождал полицейский. Очень добрый и внимательный.
— Они весьма любезны. — Ей нужно было отметить хоть что-нибудь позитивное. — Журналисты несправедливо нападают на полицию, правда? Нет, в самом деле, с нами тут обходятся очень вежливо и… — Мама умолкла, осознав тщетность своей попытки. — У Тесс на лице… Ну то есть…
— Нет. Никаких следов. Лицо безупречно.
— Оно такое красивое…
— Да.
— У нее всегда было прелестное личико. Если бы еще волосы его не закрывали! Я миллион раз просила Тесс убирать их наверх или подстричься по-человечески. Разумеется, не потому, что мне не нравились ее волосы, а наоборот, чтобы люди видели, какая она у нас хорошенькая…
Мама разрыдалась. Я обняла ее, и только сейчас мы ощутили физическую близость, в которой так нуждались с момента встречи. Мои глаза оставались сухими; я чуть-чуть позавидовала маме, ведь у нее получалось исторгнуть из себя со слезами хоть какую-то часть этой мучительной боли.
Я отвезла ее домой, уложила в постель и сидела рядом, пока она не заснула.
Ночью я поехала обратно в Лондон. На шоссе М11 опустила стекла и начала кричать, перекрывая рокот мотора, шорох асфальтового покрытия. Я орала до хрипоты, пока не заболело горло. Лондонские дороги встретили меня тишиной. Спящие улицы, безлюдные тротуары. Совсем не верилось, что утром в темном, опустевшем городе вновь вспыхнут огни, оживет людской муравейник. Я не раздумывала о том, кто оборвал твою жизнь; твоя смерть разрушила способность мыслить. Я всего лишь хотела вернуться в твою квартиру, просто быть ближе к тебе.
Когда я приехала, часы в машине показывали три сорок утра. Я запомнила цифры, потому что день, когда тебя нашли, закончился и наступил следующий — «после того как». Ты постепенно уходила в прошлое. Люди отчего-то убеждены, что фраза «жизнь продолжается» прибавляет оптимизма. Тот факт, что твоя жизнь продолжается, а жизнь любимого человека уже нет, вызывает самые острые приступы тоски, неужели это не понятно? На смену одному дню придет другой, за ним третий, пятый и так далее, но все они будут не тем днем, «когда нашли тебя», когда наступил конец надеждам и моей прежней жизни вместе с тобой.
В темноте я поскользнулась на ступеньке и схватилась за ледяные перила. Обжигающий холод и выброс адреналина еще сильнее заставили осознать: ты действительно умерла. Я приподняла горшок с розовым цикламеном, пошарила в поисках ключа, оцарапав костяшки пальцев о мерзлый бетон. Ключ исчез. Твоя парадная дверь была приоткрыта. Я шагнула на порог.
В квартире кто-то находился. Скорбь заглушила все прочие эмоции; входя, я не испытывала страха. Какой-то мужчина рылся в твоих вещах. Гнев прорвал завесу горя.
— Какого хрена?!
Погрузившись в глубокий мысленный океан траура, я не узнавала даже собственных слов. Мужчина обернулся.
— На сегодня все? — спрашивает мистер Райт.
Я бросаю взгляд на часы: почти семь. Хорошо, что он позволил закончить с днем, когда тебя нашли.
— Простите, я не знала, что уже поздно.
— Как вы сами сказали, со смертью близкого человека время перестает иметь значение.
Я ожидаю продолжения и понимаю, насколько разные у нас с ним ситуации. За последние пять часов я полностью обнажила душу перед мистером Райтом. В кабинете повисает неловкая тишина. У меня мелькает мысль: не попросить ли его об ответной откровенности?
— Моя жена погибла в автокатастрофе два года назад.
Наши глаза встречаются, между нами возникает что-то вроде товарищества; мы — два ветерана одной войны, уставшие в боях, эмоционально израненные в кровь. Дилан Томас ошибался: всевластью смерти не придет конец. Смерть — победительница в этой войне, а наша скорбь — сопутствующий ущерб. Изучая английскую литературу в университете, я даже не предполагала, что стану опровергать высказывания поэтов, вместо того чтобы запоминать их строчки.
Мистер Райт провожает меня к лифту. Уборщица пылесосит коридор, офисы погружены в темноту. Нажав кнопку вызова, мистер Райт дожидается, пока откроются двери лифта. Я вхожу в пустую кабину.
Лифт едет вниз, я ощущаю во рту вкус желчи. Тело, как и разум, наделено памятью, и я вновь чувствую подступающую дурноту, как будто организм пытается физически извергнуть страшное знание. Опять бешено колотится сердце, опять не хватает воздуха. Я выхожу из лифта, и в голове снова пульсирует дикая боль, как и тогда. В день, когда тебя нашли, осознание твоей смерти сотрясало мой мозг нескончаемой серией взрывов. Пересказывая события мистеру Райту, я словно стою посреди минного поля с плотной повязкой на глазах. Твоя смерть никогда не станет обезвреженной территорией, но однажды — потом, в лучшие времена — я научусь обходить мины. Однажды — это не скоро, не сегодня.
Я выхожу на улицу. Вечерний воздух хорошо прогрет, и все же меня бьет озноб, кожа вся в мурашках — пытается сохранить тепло. Не знаю, отчего в тот день меня сотрясала дрожь — от холода или шока.
Сегодня я не чувствую за спиной зловещего дыхания чужака. Возможно, потому, что, воскресив события того страшного дня, я истратила всю душевную энергию и на страх уже нет сил. Я решаю не ехать на метро, пройтись пешком. Тело нуждается в сигналах реального окружающего мира, а не атмосферы, царящей в памяти. Моя смена в «Койоте» начнется только через час с небольшим, я как раз успею дойти.
Да, ты изумлена, и да, можешь обозвать меня лицемеркой и притворщицей. Как сейчас помню свой надменный тон:
— Официантка в баре? Неужели ты не могла найти что-нибудь более…
Ты прекрасно поняла, что я хотела сказать: более интеллектуальное, более достойное тебя, не столь «тупиковое».
— Речь не о карьере, а лишь о способе оплачивать счета.
— Но почему не подыскать работу, на которой можно чего-то добиться?
— Это не работа, а подработка.
За твоим юмором я разглядела легкую обиду. Ты уловила в моих словах скрытую колкость — неверие в твое будущее как художника.
Для меня это больше чем подработка. Это вообще единственная работа, которая у меня есть. Босс любезно предоставил мне отпуск, но через три недели его великодушие иссякло. «Делайте ваш выбор, Беатрис». Оставшись в Лондоне, я его сделала, то есть потеряла место. Звучит так, будто я беззаботная особа, легко приспосабливающаяся к ситуации, готовая не моргнув глазом променять должность топ-менеджера крупной дизайнерской фирмы на подработку официанткой по вечерам. Что ж, ты знаешь — я совсем не такая. Работа в Нью-Йорке — пятидневка, солидный ежемесячный оклад, пенсионные отчисления, пакет бонусов — была для меня последней точкой опоры, последним надежным оплотом в жизни. Как ни странно, в «Койоте» мне нравится.
Прогулка помогает успокоиться: через сорок минут дыхание становится более размеренным, пульс выравнивается. Я решаю внять твоим словам — в самом деле, надо хотя бы позвонить отцу. С другой стороны, новая жена утешит его гораздо лучше, чем я. Да, они женаты уже восемь лет, но для меня эта женщина до сих пор «невеста» — в белом платье и диадеме из фальшивых бриллиантов, юная, свежая, с нежным личиком, не омраченным тенью утрат. Неудивительно, что отец предпочел ее нам.
Я вхожу в «Койот». Беттина уже раскатала темно-зеленый навес и накрывает старые деревянные столы на террасе. Завидев меня, она широко распростирает руки — мне остается только шагнуть в ее объятия. Еще несколько месяцев назад подобная демонстрация чувств вызвала бы у меня острую неприязнь. К счастью, я стала немного проще. Мы крепко обнимаемся, я благодарна Беттине за это физическое проявление дружбы. Дрожь наконец унимается.
Она с беспокойством смотрит на меня:
— Выдержишь смену?
— Да, все в порядке.
— Мы видели тебя в новостях. Суд назначили на лето?
— Да.
— Как ты думаешь, когда мне вернут комп? — улыбается Беттина. — У меня ужасно корявый почерк, никто не может разобрать, что написано в меню.
Полицейские забрали ее компьютер.
Узнав, что ты часто пользовалась компьютером хозяйки кафе, полиция на время конфисковала его, чтобы поискать зацепки. У Беттины действительно прелестная улыбка, я неизменно попадаю под ее очарование. Беттина обнимает меня за плечи и провожает в бар, а я только сейчас догадываюсь, что она специально ждала моего прихода.
По-прежнему болит голова и подташнивает, но я старательно выполняю свои обязанности. Если окружающие и заметили, что я веду себя тише обычного, то ничем этого не показали. Я всегда быстро считала в уме, так что эта часть работы дается мне легко, а вот шутки-прибаутки в общении с клиентурой — мое слабое место. По счастью, Беттина может щебетать за двоих, поэтому сегодня вечером я полагаюсь на нее, как часто полагалась на тебя. Все посетители — постоянные клиенты и относятся ко мне с той же деликатностью, что и персонал бара — не задают вопросов, не высказывают своих мнений. Тактичность — вещь заразительная.
Домой я возвращаюсь поздно, выжатая как лимон, и хочу только одного — спать. К моей радости, перед домом остались всего трое самых стойких репортеров. Наверное, фрилансеры, желающие подзаработать. Теперь они одиночки, а не члены большой стаи и потому уже не выкрикивают вопросы мне в лицо, не тычут объективами. Их манера скорее напоминает сценарий коктейль-приема — то есть эти люди по меньшей мере осознают, что я вполне могу не захотеть с ними общаться.
— Мисс Хемминг?
Вчера меня с отвратительной фамильярностью окликали по имени: «Беатрис!» (Я даже слышала «Арабелла!» — от тех халтурщиков, что поленились подготовиться к репортажу.) Держась на почтительном расстоянии, журналистка настойчиво добивается моего внимания:
— Вы позволите задать вам несколько вопросов?
Это та самая женщина, чей разговор по мобильному я слышала из-за кухонной двери в воскресенье.
— Разве вам не пора читать ребенку вечернюю сказку?
Она явно обескуражена.
— Я подслушивала.
— Сегодня я оставила сына с тетей. Кроме того, за чтение сказок мне, увы, не платят. Что вы хотели бы рассказать о вашей сестре?
— Она купила пальчиковые краски для своего малыша.
Не знаю, почему у меня это вырвалось. Возможно, меня впечатлило то, что ты впервые не просто жила настоящим, но строила планы на будущее. Журналистка, разумеется, ждет продолжения. Ей нужно больше фактов.
Я пытаюсь вместить тебя в одно предложение. Вспоминаю черты твоего характера, но в голове сами собой складываются строчки объявления из раздела знакомств: «Привлекательная, талантливая, общительная и веселая девушка двадцати одного года ищет…» Я слышу твой смех. Да, забыла упомянуть твое отличное чувство юмора, но в остальном ничуть не приврала. За что люди любят тебя? Мысленно перечисляя твои достоинства, я невольно приближаюсь к стилю некролога, а для этого ты еще слишком молода. В мои размышления бесцеремонно вторгается другой репортер, мужчина постарше, который прежде молчал:
— Это правда, что вашу сестру исключили из школы?
— Да. Она ненавидела правила, особенно дурацкие.
Репортер царапает в блокноте, а я возвращаюсь к попытке охарактеризовать тебя одной фразой. Сколько придаточных предложений может цепляться за главное?
— Мисс Хемминг?
Я поднимаю глаза на журналистку:
— Она должна была жить.
Мое резюме о тебе из четырех слов.
Я вхожу в квартиру, запираю дверь и слышу тебя; ты говоришь, что я была чересчур сурова к отцу. Ты права, но тогда я еще слишком на него злилась. Тебе, маленькой девочке, было не понять, каким ударом для мамы и Лео оказался его уход всего за три месяца до смерти нашего брата. Разум убеждает меня, что всему виной муковисцидоз. Болезнь заставила папу бросить семью, сделала из Лео инвалида, на которого не мог смотреть родной отец. Это муковисцидоз превратил мамино сердце в туго сжатый комок, с трудом поддерживавший ее собственную жизнь, не говоря уже о том, чтобы биться ради других. По логике, отец имел основания поступить так, как он поступил, но у него были дети, а это обстоятельство исключает право на уход. Да, я сказала, что дети «были», потому что двое из них уже мертвы, а третий давно вырос.
Ты поверила, когда он пообещал вернуться. Я, хоть и старше тебя на пять лет, совершила ту же ошибку и долгие годы верила в сказку со счастливым концом. Эта вера иссякла в первую же ночь, проведенную мной в университетском общежитии, когда я поняла бессмысленность своих надежд. Я нуждалась не в счастливом конце отношений с отцом, а в счастливом начале. Хотела, чтобы он заботился обо мне, когда я была маленькой, и не хотела искать для него оправданий, будучи взрослой. Правда, теперь я уже не столь в этом уверена.
Я смотрю в окно: репортеры наконец убрались. Запеканка, урча, трется пушистым тельцем о мои ноги, выпрашивает чего-нибудь вкусненького. Покормив кошку, я беру лейку и выхожу на задний дворик.
— Это называется задним двором? — ошеломленно спросила я в свой первый визит к тебе. Меня поразило, что под этими словами ты подразумевала не американское понятие садика, а в буквальном смысле двор — маленькую площадку, засыпанную щебнем, и пару мусорных контейнеров.
— Вот увидишь, Би, скоро здесь все преобразится, — улыбнулась ты.
Должно быть, ты трудилась не покладая рук. Щебенки нет и в помине, все тщательно вскопано, посажены цветы. Ты всегда любила возиться с землей. Помню, когда мама работала в саду, ты по пятам ходила за ней в ярком фартучке и с детской лопаткой в руке. А я совершенно равнодушна к огородничеству. И дело даже не в долгом промежутке времени между тем, как семечко упадет в землю, и тем, когда оно прорастет (ты сгорала от нетерпения, ожидая этого дня). Более всего меня огорчает краткость цветения. Растения слишком эфемерны и недолговечны. Я всегда предпочитала коллекционировать фарфоровые статуэтки — надежные и прочные предметы, лишенные души и потому неизменные.
И все же, поселившись у тебя, я честно старалась приглядывать за маленьким клочком земли на заднем дворике. (К счастью, за твоими «вавилонскими садами» на ступеньках у парадного входа ухаживает Эмиас.) Я регулярно поливала растения, даже вносила удобрения. Почему я заботилась о твоих цветах? Может быть, считала это важным для тебя. Или потому, что в свое время не сумела позаботиться о тебе? Как бы то ни было, мои старания пошли прахом — все растения погибли. Стебельки почернели, листья ссохлись и облетели. Осталась только голая земля. Я выливаю воду из лейки до последней капли. Зачем я трачу время на бесполезное занятие?
«Вот увидишь, Би, скоро здесь все преобразится».
Я заново наполню лейку и подожду еще немного.
Среда
Я приезжаю в уголовный суд, подхожу к офису мистера Райта и ловлю на себе взгляд мисс Влюбленной Секретарши. Точнее сказать, она пристально рассматривает меня. Видимо, оценивает соперницу. По коридору торопливо шагает мистер Райт; в одной руке у него портфель, в другой — газета. Он широко улыбается мне, пока не переключив внутренний тумблер с домашнего режима на рабочий. Теперь я уверена, что мисс Влюбленная Секретарша видит во мне конкурентку: после того как босс улыбнулся мне, ее лицо приобрело откровенно враждебное выражение. Мистер Райт ничего не замечает.
— Простите, что заставил вас ждать. Проходите, присаживайтесь. — Мысленно он еще завязывает галстук.
Я вхожу в кабинет вслед за мистером Райтом. Он закрывает дверь, но я спиной чувствую, что секретарша все еще смотрит ему вслед.
— Как вы себя чувствуете? Как спали? — интересуется мистер Райт. — Понимаю, вам сейчас мучительно больно.
До того как ты умерла, моя жизнь характеризовалась прилагательными средней эмоциональной насыщенности: «напряженный», «утомительный», «трудный». Теперь в моем описательном словаре сплошь тяжелые снаряды: «мучительный», «кошмарный», «тягостный».
— Мы остановились на том, что вы обнаружили в спальне Тесс постороннего человека.
— Да.
Воображаемый галстук мистера Райта завязан, мы возвращаемся к работе. Он цитирует мои последние слова:
— «Какого хрена?!»
Мужчина обернулся. Несмотря на холод в квартире, его лоб блестел от пота. Овладев собой, он заговорил. Итальянский акцент — намеренно или нет — звучал игриво.
— Меня зовут Эмилио Коди. Извините, если напугал.
Я сразу догадалась, кто он, и почувствовала исходившую от него угрозу, то ли потому, что подозревала этого человека в убийстве, то ли просто так. Видишь ли, в отличие от тебя я нахожу южноевропейскую сексуальность — смуглую кожу итальянцев и четко очерченную, мужественную линию подбородка — скорее недоброй, нежели привлекательной.
— Вам известно, что Тесс мертва? — спросила я и сама поняла нелепость своего вопроса. Пошлая фраза из театрального диалога, которую я к тому же не сумела произнести. Но потом я вспомнила цвет твоего лица — цвет смерти.
— Да, я видел сюжет в новостях. Ужасная, ужасная трагедия.
Присущая голосу Эмилио мелодичность пленяла, хоть и противоречила смыслу его слов, а я вдруг подумала, что пленять — значит не только очаровывать, но и обманывать, завлекать в сети.
— Я пришел за своими вещами. Вам может показаться, что я слишком тороплюсь, что это неприлично…
Я перебила его:
— Вы знаете, кто я?
— Наверное, подруга?
— Сестра.
Эмилио бросило в жар. Он попытался скрыть свою нервозность, но его выдал голос.
— Прошу извинить за вторжение.
Он шагнул к двери, однако я преградила ему путь:
— Это вы ее убили?
Глупо, конечно, только ведь и я не героиня безупречно выстроенного детективного романа.
— Понимаю, у вас большое несчастье… — забормотал Эмилио.
— Вы настаивали, чтобы моя сестра сделала аборт! — опять перебила я. — А потом решили избавиться и от нее тоже?
Эмилио опустил на пол то, что держал под мышкой, — это оказались твои холсты.
— Вы сейчас сильно расстроены, и это вполне объяснимо…
— Убирайтесь! Проваливайте к черту!
Я орала, изливая на него свое безобразное горе, визжала и рычала даже после того, как Эмилио ушел. Через распахнутую парадную дверь в квартиру ввалился заспанный Эмиас.
— Я услышал крики…
Я молчала. Он посмотрел на меня и все понял без слов. Плечи Эмиаса поникли, старик отвернулся, не желая, чтобы я видела его скорбь.
Зазвонил телефон. Я дождалась, пока сработает автоответчик. «Привет, это Тесс».
На мгновение законы реальности пошатнулись, и ты ожила. Я рванулась к трубке.
— Дорогая? Ты меня слышишь? — встревоженно произнес Тодд.
Твой голос оказался всего лишь приветствием, записанным на пленку автоответчика.
— Беатрис?
— Ее нашли в общественном туалете. Она пролежала там пять дней. Одна.
В трубке повисла тишина: в сценарий Тодда новость не вписывалась.
— Я прилечу, как только смогу.
Тодд был моим спасательным кругом. За это я его и выбрала. Что бы ни случилось, я могла на него рассчитывать.
Я взглянула на полотна, забытые Эмилио. На всех без исключения была твоя обнаженная фигура. В этом плане ты не страдала застенчивостью, не то что я. По всей вероятности, картины писал Эмилио. И на каждой твое лицо было отвернуто в сторону.
— Наутро вы пошли со своими подозрениями к детективу Финборо? — спрашивает мистер Райт.
— Да. Он сказал, что Эмилио поступил крайне бестактно, но не более того. А еще добавил, что коронер запросил протокол вскрытия и что следует дождаться результатов, прежде чем делать поспешные выводы или предъявлять обвинения.
Спокойная, размеренная речь детектива привела меня в бешенство. Возможно, в своем неустойчивом психическом состоянии я просто завидовала его уравновешенности.
— Я надеялась, что сержант Финборо хотя бы задаст Эмилио Коди вопрос, где тот находился в день убийства. Детектив же сказал, что дата смерти Тесс будет установлена только в ходе вскрытия.
Мисс Влюбленная Секретарша приносит минеральную воду, и я рада нечаянному перерыву. Почему-то очень хочется пить. Я жадно глотаю воду, попутно замечая сперва перламутрово-розовый лак, которым покрыты ногти секретарши, потом — обручальное кольцо на безымянном пальце. И почему я вчера обратила внимание только на левую руку мистера Райта? Мне становится жаль супруга Влюбленной Секретарши: не изменяя мужу на самом деле, жена мысленно наставляет ему рога с девяти до половины шестого каждый будний день.
— Спасибо, Стефани, — с улыбкой благодарит мистер Райт.
Его улыбка лишена какого-либо подтекста, но подкупает своей искренностью и именно из-за этого может быть истолкована неправильно. Дождавшись, пока Стефани удалится, я продолжаю:
— И я решила сама поехать к Эмилио.
Я снова возвращаюсь в то рваное прошлое. Перламутровый лак и обручальное кольцо немного прибавляют мне уверенности.
Я вышла из участка. В душе, прорывая пелену усталости, кипел гнев. Сержант Финборо сказал, что точная дата твоей смерти пока неизвестна, а я уже знала, что тебя убили в четверг. Ты рассталась с Саймоном у озера в Гайд-парке, как он и говорил, но из парка ты не вышла. Все остальное не имело значения.
Я позвонила в твой колледж. Секретарша с немецким акцентом сухо информировала меня, что Эмилио работает на дому, проверяет курсовые. Услышав, что я — твоя сестра, она смягчилась и дала мне его адрес.
По дороге я вспоминала наш с тобой разговор о том, где живет твой любовник.
— Понятия не имею. Мы встречаемся либо в колледже, либо у меня.
— Что же он в таком случае скрывает?
— Да ничего, мы просто не обсуждали эту тему.
— Думаю, он живет где-нибудь в Хокстоне. Модное местечко, как раз для среднего класса, плюс соседство с бедными кварталами, которое придает ему дополнительный шик.
— Ты терпеть не можешь Эмилио, верно?
— А стены, как положено, расписаны граффити, для поддержания образа городских джунглей. Скорее всего по ночам твой приятель выходит на улицы с баллончиком краски, чтобы район сохранил «самобытность» и не превратился в обыкновенное место обитания молодых мамаш и клерков со средним доходом. Соседи наверняка ему благодарны.
— Чем он перед тобой провинился?
— Даже не знаю. Может, просто затащил в постель мою младшую сестру, сделал ей ребенка и отказался от всякой ответственности.
— Тебя послушать, так я полная дурочка и мной можно вертеть как угодно.
Я промолчала; твои слова повисли в пространстве между двумя телефонами.
— Ты еще забыла упомянуть, что Эмилио — мой препод и что он злоупотребил служебным положением, — хихикнула ты.
Ты никогда не воспринимала мою серьезность всерьез.
Что ж, я выяснила, где он живет. Это не Хокстон и не Брикстон и не один из тех кварталов, куда толпой валит средний класс, едва там откроется кафе, где подают латте с обезжиренным молоком. Это Ричмонд, восхитительный, уютный Ричмонд. И дом у Эмилио не какой-нибудь образец хай-тека, а настоящая жемчужина эпохи королевы Анны. Чего стоит один сад перед домом — по размерам он не уступит целой улице в Пекхэме, а то и двум. Я пересекла этот внушительный сад и постучала старинным дверным молотком.
Тебе не верится, что я через все это прошла? Возможно, в моих действиях ты видишь перебор, но рвущая душу боль заставляет забыть о рамках. Эмилио открыл дверь, и мне на ум сразу пришли шаблонные эпитеты из любовных романов: «дьявольски красив», «животный магнетизм» — определения, несущие в себе угрозу.
— Это вы убили мою сестру? — в лоб спросила я. — В прошлый раз вы не ответили.
Он попытался закрыть дверь, я ее удержала. Я еще никогда не применяла физическую силу против мужчины и, к собственному удивлению, оказалась довольно сильна. Занятия с личным тренером, которые я аккуратно посещала, все-таки не прошли даром.
— Тесс говорила домовладельцу, что кто-то изводит ее телефонными звонками. Вы?
Из глубины коридора послышался женский голос:
— Эмилио?
На порог вышла его жена. У меня сохранилась наша с тобой переписка.
Кому: Беатрис Хемминг, на Айфон
Привет, Би!
Я спрашивала Э. насчет нее еще до того, как у нас все началось. Он сказал, что они поженились в спешке, что общаются по минимуму, но не считают свой брак ужасной ошибкой. Им легко друг с другом, хотя сексуальные отношения прекратились несколько лет назад. Ни Э., ни жена не ревнуют друг друга. Ты довольна?
Целую,
Т.
От: Беатрис Хемминг, с Айфона
Кому: [email protected]
Дорогая Тесс!
Как удобно для Э. Полагаю, она тоже не первой молодости, и, поскольку природа гораздо суровей обходится с женщинами, нежели с мужчинами, разве у миссис К. есть выбор? Нет, я не довольна.
L.O.L.,
Би.
P.S. Почему ты выбрала для писем шрифт «Coreyshand»? Читается с трудом.
Кому: Беатрис Хемминг, на Айфон
Дорогая Би!
Ты не колеблясь идешь по натянутому канату, именуемому тропой морали, тогда как я срываюсь вниз от малейшего дуновения ветерка. И все-таки я верю Э. Никто же не страдает, правда?
Целую,
Т.
P.S. Мне казалось, это вполне подходящий шрифт.
P.P.S. Ты знаешь, что L.O.L. означает «умираю со смеху»?
От: Беатрис Хемминг, с Айфона
Кому: [email protected]
Дорогая Тесс!
Послушай, ты ведь не настолько наивна? Не глупи.
L.O.L.,
Би.
(Для меня L.O.L. значит «с любовью»[4].)
Кому: Беатрис Хемминг, на Айфон
«Не глупи»? А дальше ты скажешь, что я должна расстаться с Э.? Бросай ты эти Штаты и возвращайся домой. Хорошего дня, сестренка.
Целую,
Т.
* * *
Я представляла себе женщину сорока с небольшим лет, чья красота несправедливо поблекла, тогда как муж сохранил привлекательность. Рассчитывала увидеть супругов, которые выглядели ровесниками в двадцать пять, но не в сорок пять. Однако женщине в дверях явно не исполнилось и тридцати, и у нее были удивительные светло-голубые глаза.
— Эмилио, что здесь происходит?
Интонации хрустально-чистого голоса выдавали в ней аристократку; дом, очевидно, принадлежал ей. Не взглянув на нее, я адресовала вопрос Эмилио:
— Где вы были в прошлый четверг, двадцать третьего января, — в день, когда убили мою сестру?
Эмилио обернулся к жене:
— Речь об одной из моих студенток, Тесс Хемминг. Про нее еще говорили вчера в новостях, помнишь?
Почему я не видела этого выпуска новостей? Где находилась? В морге, рядом с тобой? Или у мамы? Эмилио обнял жену за плечи и сдержанно проговорил:
— Это старшая сестра Тесс. Она сейчас переживает очень тяжелый период и… кидается на всех.
Этот человек хотел отделаться от меня. Отделаться от тебя.
— Ради Бога, не лгите! Тесс была вашей любовницей. А со мной вы знакомы только потому, что вчера вломились к ней в квартиру и пытались вынести картины.
Жена устремила на него взгляд светло-голубых глаз. Выражение ее лица вдруг показалось мне беспомощным. Эмилио стиснул плечо супруги.
— Тесс влюбилась в меня и совершенно потеряла голову, только и всего. Напридумывала себе бог знает чего. Затем фантазия вышла из-под контроля. Я хотел убедиться, что у нее дома не осталось ничего компрометирующего.
Да, я произнесла именно те слова, которых ты от меня ждала:
— Ребенок — тоже фантазия?
Эмилио все так же прижимал жену к себе. Та стояла молча.
— Никакого ребенка нет!
Прости, родная. И за следующую сцену тоже.
— Мамочка!
На порог выбежала маленькая девчушка. Жена Эмилио взяла девочку за руку.
— Тебе пора в кроватку, солнышко.
Я как-то спросила, есть ли у него дети. Тебя возмутил сам вопрос. «Разумеется, нет, Би! — ответила ты. — Разумеется, нет! Будь у него дети, разве стала бы я с ним спать? За кого ты меня принимаешь?» Твои моральные границы гораздо шире моих, однако же они существуют и ты не позволила бы себе переступить черту. Ни за что не позволила бы, пережив уход отца. Вот почему твой любовник скрывал, где живет.
Эмилио с силой захлопнул дверь перед моим носом, на этот раз я бы ее не удержала. Лязгнула металлическая цепочка.
— Оставьте нас в покое!
Каким-то образом я превратилась в безумицу, осаждающую чужое жилище, тогда как Эмилио являл собой главу небольшой семьи, укрывающейся от преследований за стенами своего прекрасного старинного дома. Знаю, вчера я действовала по сценарию полицейской телепередачи, сегодня — голливудского фильма, но в реальной жизни — по крайней мере в моей — не было сценария для происходящего.
Я осталась в саду перед домом. Опустились сумерки, сильно похолодало. В этом чужом заснеженном месте у меня в голове почему-то играли рождественские гимны. Тебе всегда нравились веселые: «Колокольчики, звените», «Мы, волхвы с Востока», «Храни вас, джентльмены, Бог» — те, в которых поется о радости, подарках и веселье. А мне больше по душе спокойные и мелодичные: «Тихая ночь, святая ночь», «И в полночь ангел вострубил». Сейчас в голове крутились строчки: «Среди зимы суровой / Тоскливо ветер выл. / Мороз сковал и землю / И реки льдом покрыл»[5]. Раньше я не знала, что это скорбная песнь тех, кто понес тяжкую утрату.
Мое безмолвное пение прервала жена Эмилио. Она приблизилась ко мне в свете сенсорного фонаря, вспыхнувшего на крыльце. Наверное, решила успокоить сумасшедшую, пока та — то есть я — не натворила беды.
— Нас не представили друг другу. Меня зовут Синтия.
Видимо, самообладание у аристократов в крови. Я невольно откликнулась на это формальное проявление вежливости и протянула руку:
— Беатрис Хемминг.
Она скорее стиснула, чем пожала, мою ладонь и произнесла чуть теплее:
— Примите мои соболезнования. У меня тоже есть младшая сестра. — Голос Синтии звучал искренне. — Вчера вечером, сразу после выпуска новостей, он сказал, что забыл в колледже ноутбук. Муж хорошо умеет лгать — вещь дорогостоящая и на самом деле нужная для работы. Но перед ужином я видела ноутбук в кабинете и подумала, что Эмилио опять ходит «налево». — Синтия говорила торопливо, как будто хотела побыстрее развязаться с неприятным вопросом. — Я знала о его интрижке, просто не хотела скандала. А в последние несколько месяцев была уверена, что с этим покончено… Я получила по заслугам. Да, так мне и надо. Я ведь увела его у первой жены. Только сейчас понимаю, через что ей пришлось пройти.
Я промолчала, но в этой неожиданной ситуации почему-то ощутила симпатию к совершенно чужой мне женщине. Сенсорный фонарь на крыльце мигнул и погас, мы очутились в полумраке. Темнота странно сближала.
— Что случилось с их ребенком? — спросила Синтия.
Для меня этот малыш всегда был только твоим.
— Умер.
В полумраке я разглядела, что в глазах Синтии заблестели слезы. Что она оплакивала — твоего ребенка или свой неудачный брак?
— Сколько ему было?
— Мальчик родился мертвым, так что, наверное, нисколько.
Сразу после появления на свет его ждал покой. Покойный малыш. Синтия непроизвольно коснулась рукой живота. Только теперь я заметила, что она беременна. Срок не очень большой, месяцев пять. Резким движением она вытерла слезы.
— Может быть, вам не понравится то, что я скажу, но в прошлый четверг Эмилио работал дома, раз в неделю у него есть такая возможность. Я была с ним весь день, а потом мы вместе отправились на вечеринку. Мой муж — слабохарактерный человек, что называется, морально неустойчивый, однако он не способен причинить кому-либо вред. По крайней мере физически.
Синтия отвернулась и пошла к дому, но у меня в запасе оставалась бомба.
— У ребенка Тесс диагностировали муковисцидоз. Это означает, что Эмилио — носитель заболевания.
Бомба сработала. Синтия задохнулась, словно от сильного толчка.
— Но ведь… наша дочь, с ней все в порядке!
Как другие дети знают все о любимой футбольной команде отца, мы с тобой знали все о генетике. Несмотря на неудачно выбранное время, я все-таки попыталась провести экспресс-курс обучения:
— Ген муковисцидоза — рецессивный. Следовательно, даже если и вы, и Эмилио являетесь его носителями, у вас обоих также присутствует здоровый доминантный ген. Шансы вашего ребенка заболеть муковисцидозом оцениваются в двадцать пять процентов.
— А если у меня нет дефектного гена?
— Значит, эта болезнь ребенку не грозит. Носителями должны быть оба — и мать, и отец.
Синтия кивнула, все еще не оправившись от потрясения.
— Пожалуй, мне стоит провериться.
— Да, так будет лучше. Даже в самом худшем случае не нужно отчаиваться. — Я попыталась смягчить удар. — Недавно появился новый метод лечения.
— Спасибо, вы очень добры. — От этих слов в заснеженном саду повеяло теплом.
Эмилио вышел на порог и окликнул жену. Синтия никак не отреагировала. Глядя мне в глаза, она твердо произнесла:
— Надеюсь, полиция найдет убийцу вашей сестры.
Синтия развернулась и медленно пошла к дому. Сенсорный фонарь залил дорожку ярким светом. Эмилио попытался обнять жену, но та дернула плечом и крепко обхватила себя руками. Увидев, что я наблюдаю за ними, Эмилио отвернулся.
Я стояла во мгле зимнего вечера, пока все огни в доме не погасли.
На обратном пути, когда я вела машину по предательски скользкому шоссе, позвонил Тодд. Он сказал, что прилетает в Хитроу завтра утром, и мысли о нем сделали дорогу чуть более надежной.
Утром, стоя в зале прилета, я не узнала его среди пассажиров и продолжала искать глазами в толпе — кого? Другого, идеального Тодда? Или тебя? Когда я все-таки его разглядела, он показался мне худощавее и меньше ростом, нежели я помнила. Первое, о чем я спросила, — не приходило ли письмо от тебя. Нет, не приходило.
Он привез целый чемодан одежды — все, что, по его мнению, могло мне понадобиться, включая приличный костюм для похорон и снотворные таблетки, прописанные моим лечащим врачом в Штатах. С самого приезда Тодд начал следить за тем, чтобы я питалась как следует. Знаю, мое описание несколько обрывочно и бессвязно, но так я чувствовала.
Тодд был моим страховочным тросом, однако даже он не мог удержать меня от падения.
Я не стала рассказывать мистеру Райту о Тодде, оставив для записи только стычку с Эмилио на пороге его дома и разговор с Синтией в саду.
— Еще до встречи с Эмилио я знала, что у него есть мотивы для убийства: он боялся лишиться работы и разрушить свой брак. Теперь же я убедилась, что этот человек способен лгать и извращать правду нужным ему образом. Даже глядя в глаза мне, сестре убитой, он утверждал, что Ксавье — не более чем выдумка чокнутой студентки.
— А что вы скажете насчет миссис Коди? Вы поверили в алиби, которое она обеспечила мужу?
— Поначалу да. Жена Эмилио мне понравилась. Однако позже мне пришло в голову, что она также могла сказать неправду, чтобы защитить дочку и будущего ребенка. Я подумала, что дети для нее на первом месте, и ради них она готова спасти мужа от тюрьмы. Наверняка именно из-за дочки Синтия не ушла от Эмилио, узнав о его изменах.
Мистер Райт пробегает глазами какую-то распечатку, лежащую перед ним на столе.
— В полиции вы умолчали об этой встрече, верно?
Должно быть, он просматривает детализацию моих телефонных звонков, сделанную по запросу полиции.
— Верно. Два дня спустя детектив Финборо сказал мне, что Эмилио подал на меня жалобу начальнику отдела, инспектору Хейнзу.
— Вы догадывались о причинах?
— Нет, не догадывалась и вообще в тот момент не думала об Эмилио. В этом же звонке сержант Финборо сообщил, что готовы результаты вскрытия. Я удивилась быстроте, но он сказал, что эксперты, как правило, стараются не затягивать процедуру, чтобы поскорее отдать тело родственникам для похорон.
Прости, что тебя пришлось снова резать. Коронер потребовал произвести вскрытие, мы тут ничего не решали. Хотя, думаю, ты не против. Ты была прагматиком и никогда не испытывала сантиментов по поводу бренного тела. Когда умер Лео, мы с мамой прижимали его к груди, теша себя иллюзией, что обнимаем нашего родного мальчика, а не пустую оболочку. Ты же, хоть и всего шести лет от роду, мудро вышла из комнаты. Твое мужество вызывало у меня жалость.
А я, напротив, всегда относилась к мертвой плоти с благоговением. Обнаружив в клетке трупик Дюймовочки, ты принялась с любопытством тыкать в нее тонкими пальчиками, на ощупь изучая смерть, тогда как я завернула бедную крольчиху в шелковый шарф, убежденная, что мертвое тело священно. Мне было десять, тебе — пять. Ты смеешься? Я до сих пор верю в то, что тело — нечто большее, чем просто сосуд для души.
Однако ночью того дня, когда тебя нашли, у меня возникло стойкое ощущение, что твоя душа покидает тело и этот вихрь засасывает в себя все, связанное с тобой в жизни. Ты словно бы закручивала райские облака в противоположную сторону. Не знаю, откуда возник этот образ — может, его навеяла репродукция Шагала у тебя на кухне — легкие, воздушные люди, парящие в вышине. Как бы то ни было, я четко поняла: в твоем теле не осталось ни одной частички души.
Мистер Райт внимательно смотрит на меня. Сколько же я просидела молча?
— Как вы отнеслись к необходимости вскрытия? — спрашивает он.
— Меня почему-то не волновало, что сделают с телом, — отвечаю я, благоразумно решив оставить Шагала и райские облака при себе. И все-таки чуть-чуть раскрываюсь: — Когда умирает ребенок, детское тельце сохраняет в себе его личность — наверное, потому, что малыша можно взять на руки, обнять целиком, понимаете? А когда мы вырастаем и не помещаемся на руках, тело перестает воплощать нашу индивидуальность.
— Говоря о вскрытии, я имел в виду, насколько достоверными вы сочли результаты.
Я вспыхиваю от смущения. Слава Богу, хоть про небесных людей умолчала.
— Ничего страшного, — мягко произносит мистер Райт. — Я рад, что дал вам возможность высказаться.
Мне жутко неловко, и все же я улыбаюсь — делаю первую робкую попытку посмеяться над собой. Если честно, в глубине души я знала, что мистера Райта интересуют результаты вскрытия, но, как и в случае с детективом, просто оттягивала момент, когда об этом нужно будет заговорить вслух. Никуда не денешься, пора.
— В тот же день сержант Финборо принес протокол с результатами мне домой.
Он сказал, что зайдет сам, и я оценила его доброту.
Из окна твоей гостиной я видела, как сержант Финборо спускается по ступенькам. Шел он медленно — может быть, опасался поскользнуться, а может, чувствовал тяжесть предстоящего разговора. За ним следовала констебль Вернон в ботинках на крепкой подошве и предусмотрительно надетых перчатках — практичная, здравомыслящая женщина, которую дома ждут дети.
Детектив вошел, но не присел и не снял пальто. Я подключила отопление на полную мощность, однако в квартире все равно было холодно и неуютно.
— Уверен, вас порадует известие, что на теле вашей сестры не обнаружено признаков сексуального насилия.
Действительно, страх, что тебя изнасиловали, безобразной тенью таился в глубине моего сознания. Я облегченно выдохнула.
Сержант Финборо продолжил:
— Точно установлено, что Тесс погибла в четверг, двадцать третьего января.
Он лишь подтвердил то, что я знала раньше, — ты так и не вышла из парка после встречи с Саймоном.
— Вскрытие показало, что причиной смерти стала кровопотеря, вызванная многочисленными порезами на запястьях. Следы борьбы отсутствуют. Оснований предполагать убийство нет, — подытожил детектив.
Мне потребовалось время, чтобы понять смысл его слов, как если бы он говорил на другом языке.
— Коронер повторно подписал заключение о том, что это самоубийство.
— Нет. Тесс не стала бы сводить счеты с жизнью.
На лице сержанта Финборо отразилось сочувствие.
— В нормальных обстоятельствах, разумеется, не стала бы, и тут я с вами согласен, однако в сложившейся ситуации… Ваша сестра страдала не только от горя, но также от послеродовой…
Я гневно перебила детектива. Как он смеет делать выводы, совершенно тебя не зная?
— Вы когда-нибудь видели, как умирают от муковисцидоза?
Сержант Финборо отрицательно покачал головой и хотел что-то добавить, но я его опередила:
— Наш брат задыхался, а мы смотрели и ничем не могли ему помочь. Он отчаянно хотел жить, но умер, захлебнувшись собственной мокротой. Мы были бессильны. Когда на ваших глазах любимый, близкий человек изо всех сил борется со смертью, вы начинаете по-настоящему ценить жизнь и уже никогда не позволите себе ею разбрасываться.
— Как я уже говорил, в нормальных обстоятельствах…
— В любых обстоятельствах.
Мой эмоциональный всплеск не поколебал уверенности детектива. Его можно было убедить только посредством логики, при помощи крепких мужских аргументов.
— По всей вероятности, смерть Тесс связана с телефонными звонками, которыми ее изводил неизвестный?
— Психиатр утверждает, что эти звонки скорее всего существовали только в воображении вашей сестры.
— Что?! — изумилась я.
— Врач из психиатрического отделения поставил ей диагноз «послеродовой психоз».
— То есть теперь получается, что телефонные звонки — это галлюцинации, а моя сестра — сумасшедшая, так, по-вашему?
— Послушайте, Беатрис…
— До этого речь шла только о послеродовой депрессии. Откуда вдруг взялся психоз?
В противовес моей ярости сержант Финборо сохранял спокойствие.
— Вывод сделан на основе доказательств, которые в настоящее время представляются достаточно убедительными.
— А как же показания Эмиаса? Он тоже упомянул эти звонки, когда заявил об исчезновении Тесс!
— Тем не менее он ни разу не был свидетелем подобных звонков.
Я хотела рассказать детективу о том, что твой телефон вообще был выключен из розетки, но промолчала. Это все равно ничего не доказывало.
— Как объяснил лечащий психиатр Тесс, симптомы послеродового психоза включают галлюцинации и паранойю, — продолжал детектив. — У многих женщин, страдающих этим заболеванием, отмечены суицидальные наклонности, и некоторым, к сожалению, удается совершить задуманное.
— Только не Тесс.
— Рядом с телом нашли нож.
— Теперь вы скажете, что она разгуливала с ножом?
— Это был кухонный нож, Беатрис. На нем обнаружены отпечатки пальцев.
— Какой именно?
Не знаю, зачем я задала вопрос, — возможно, смутно вспомнила семинар по психологии, где говорилось о перехвате инициативы в диалоге. Поколебавшись, детектив ответил:
— Тринадцатисантиметровый разделочный нож «Сабатье».
Я уловила лишь слово «Сабатье» — видимо, потому, что оно отвлекло меня от уродливой реальности остального описания. А может, резануло слух, потому что нож элитной фирмы у тебя на кухне — полная нелепость.
— Тесс не могла позволить себе покупку такого дорогого ножа.
Наш разговор превращался в… фарс? Театр абсурда?
— Она могла взять его у знакомых, — предположил сержант Финборо. — Или получить в подарок.
— Я бы знала!
Сочувствие смягчило резкость его скептического выражения. Я хотела, чтобы сержант понял — мы знали жизнь друг друга в мельчайших подробностях, так как эти ниточки накрепко связывали нас с тобой. Ты непременно рассказала бы мне про нож «Сабатье», ведь особая ценность этого предмета заключалась бы в том, что он находился в сфере наших общих интересов — мы обе любили качественную кухонную утварь.
— Мы с сестрой делились всеми новостями, даже самыми пустяковыми, это очень нас сближало. Тесс обязательно похвасталась бы таким приобретением.
Увы, прозвучало неубедительно.
Голос сержанта Финборо был доброжелателен, но тверд. В голове у меня промелькнуло, что полиция чем-то схожа с родителями, которые позволяют детям шалить в строго отведенных рамках.
— Понимаю, вам тяжело смириться с действительностью. Также вполне понятно, почему вам хотелось бы найти виновного в смерти сестры, но…
Я решительно оборвала детектива:
— Я знаю ее с самого первого дня. Знаю лучше, чем кто-либо другой, и уверена: она не могла совершить самоубийства!
Сержант Финборо посмотрел на меня с жалостью.
— Вы же не знали о смерти ее малыша. — Он этого совсем не хотел.
Я не смогла ответить. Удар пришелся на самое слабое место, по которому уже били. Детектив и раньше вскользь намекал, что мы отнюдь не так близки, как я воображаю, но тогда вознаграждением за горькую пилюлю служила версия о твоем побеге. Отсутствие доверия ко мне означало, что ты жива. На сей раз никакой компенсации быть не могло.
— Незадолго до смерти Тесс покупала марки для отправки письма авиапочтой в отделении на Экзибишн-роуд. Наверняка письмо было адресовано мне.
— Вы получили его?
Я попросила соседку проверять мой почтовый ящик, а еще звонила на нью-йоркский почтамт и пыталась искать письмо там, но безуспешно. Если бы ты адресовала его мне, оно, конечно, уже давно дошло бы.
— Что, если она собиралась написать мне, но ей помешали?
Я сама не верила в то, что говорила. Сержант Финборо вновь устремил на меня сочувственный взгляд.
— Думаю, после смерти ребенка Тесс испытывала адские муки, — негромко промолвил он. — Такое не разделишь ни с кем. Даже с сестрой. С вами.
Я вышла в кухню, «ощетинившись», как сказала бы мама, однако не испытывала злости. Скорее, это можно было назвать полным, острым неприятием слов детектива. Несколько минут спустя хлопнула входная дверь. Они не знали, что через щели в твоих окнах можно разобрать все, что говорят снаружи.
Констебль Вернон глухо произнесла:
— Не слишком ли вы… — Она умолкла, не закончив фразу. Или я просто не расслышала.
Голос сержанта Финборо показался мне печальным.
— Чем скорее она смирится с правдой, тем скорее поймет, что ей не в чем себя винить.
Но я знала правду — и тогда, и сейчас. Мы с тобой любим друг друга, доверяем друг другу, и ты не могла совершить самоубийство.
Вскоре констебль Вернон спустилась обратно в квартиру.
— Мне очень жаль, Беатрис. Я собиралась отдать вам это. — Она протянула мне твой рюкзак.
Я открыла его и не обнаружила внутри ничего, кроме кошелька и документов. Проездной, студенческий билет, читательский билет — знаки принадлежности к обществу, в котором есть библиотеки, городской транспорт, колледж искусств, а не к тому страшному миру, где окровавленный труп молоденькой девушки может пролежать в полуразрушенном общественном туалете пять дней, после чего ее запишут в самоубийцы.
Я разорвала подкладку, но твоего письма не нашла.
Констебль Вернон присела на диван рядом со мной.
— И еще вот это. — Она вытащила из плотного конверта фотографию, заложенную между двумя картонками.
Меня тронула ее забота, так же как раньше тронула аккуратность, с которой она упаковала твою одежду для реконструкции.
— Это фото малыша. Мы нашли карточку в кармане ее пальто.
— Но ведь мальчик умер, — недоуменно сказала я, беря в руки снимок, сделанный «Полароидом».
Констебль Вернон кивнула — как мать она понимала больше.
— Тем дороже была для Тесс эта фотография.
Первое, что бросилось мне в глаза, — твои руки, держащие младенца. Руки, не изрезанные ножом. Твоего лица на фото не было, и я не нашла в себе мужества его представить. До сих пор не нахожу.
Затем я увидела малыша. Он лежал с закрытыми глазками, как будто спал. Пух бровей — тоненьких, не толще карандашной линии — поражал совершенством. Жестокость и уродливость мира ни разу не омрачали его невинное личико. Тесс, твой сын был прекрасен. Идеален.
Фото сейчас при мне. Я всегда ношу его с собой.
* * *
Констебль Вернон вытерла слезы, грозившие капнуть на фотографию. Ее сострадание не знало границ. И как такой мягкий, добросердечный человек мог служить в уголовной полиции? Я старалась думать о чем угодно, только не о твоем мальчике, только не о том, как ты держала его на руках.
Рассказав мистеру Райту про фотографию, я резко встаю из-за стола и говорю, что мне нужно выйти. Добегаю до туалета. Слезы, которых я больше не могу сдержать, катятся по щекам. Какая-то женщина, наверное, секретарь или юрист, моет руки под краном. Ей хватает такта не комментировать мое состояние, но перед выходом она оборачивается и дарит мне ободряющую улыбку, проявление некой солидарности. Мне еще многое нужно рассказать тебе, только тебе, а не мистеру Райту, так что, пока я оплакиваю Ксавье, ты узнаешь, что произошло дальше.
Примерно через час после ухода констебля Вернон Тодд привез маму. Как я и ожидала, он проявил себя великодушным зятем, проделав весь путь до Литтл-Хадстона и обратно. Я сообщила новости, которые принес сержант Финборо. На мамином лице уже почти проступило облегчение, но я сказала:
— Полиция ошибается. — Несмотря на ее явное нежелание слушать меня, я продолжила: — Я не верю, что Тесс свела счеты с жизнью.
Мама поплотнее запахнула пальто.
— По-твоему, убийство лучше?
— Нужно узнать, что случилось на самом деле. Разве ты не…
— Мы все знаем, что случилось, — перебила мама. — Инспектор сказал, что Тесс была не в себе. — Чтобы придать вес доводу, она повысила детектива Финборо в должности. В ее голосе появились нотки отчаяния. — Бедняжка, наверное, сама не понимала, что творила.
— Дорогая, миссис Хемминг права, — поддержал ее Тодд. — Полиция разбирается в таких вещах.
Он сел на диван рядом с мамой, приняв типично мужскую позу: широко расставил ноги, занимая, таким образом, места вдвое больше обычного и демонстрируя принадлежность к сильному полу. Тодд переводил глаза с моего хмурого лица на лицо мамы, которая никак не могла определиться с выражением.
— Слава Богу, что формальности со вскрытием улажены и можно наконец организовать похороны. — Это прозвучало почти ободряюще.
Мама кивнула и благодарно посмотрела на Тодда, точно маленькая девочка. Она определенно купилась на его трюк с демонстрацией мужественности.
— Где вы хотели бы ее положить? — спросил Тодд.
«Положить» — как будто тебя положат в постельку и утром тебе станет лучше. Бедный Тодд, он ведь не виноват, что его словечки приводят меня в бешенство. Маму этот речевой оборот никак не зацепил.
— Я бы хотела похоронить ее на церковном кладбище, рядом с Лео.
На всякий случай ставлю тебя в известность: твое тело лежит там. В минуты, когда меня переполняют чувства, я воображаю, что вы с Лео сейчас вместе. Где-то далеко — не важно, где именно, и мысль о том, что вы есть друг у друга, чуть-чуть согревает меня. Конечно же, если это «где-то» существует, с вами рядом находится и третий человечек.
Приготовься, дальше тебе будет тяжело слушать. Я вытащила из картонного конверта фотографию и протянула ее маме.
— Это фотография ребенка Тесс.
Мать не захотела взять карточку, даже не взглянула на нее.
— Он же родился мертвым!
Прости.
— Это был мальчик.
— Зачем было фотографировать? Жуть какая.
Тодд поспешил ей на помощь:
— Если родителям теперь разрешают делать снимки умерших младенцев, это, наверное, считается частью траурной церемонии.
Мама бросила на Тодда взгляд, который обычно приберегала только для членов семьи. Он пожал плечами, показывая, что лично ему претит подобная нелепость.
Оставшись без поддержки, я тем не менее продолжила:
— Тесс хотела бы, чтобы малыша похоронили вместе с ней.
— Нет, — неожиданно громко и резко ответила мама. — Я этого не позволю.
— Таково было бы желание Тесс.
— Она хотела бы, чтобы все узнали про ее внебрачного ребенка? Ее желание — выставить себя на публичный позор?
— Она никогда не считала своего ребенка позором.
— А следовало бы!
У мамы внутри включился «автомат» — сказались сорок лет жизни, пропитанной ханжескими предрассудками центральной Англии.
— Может, еще нарисуешь на крышке гроба алую букву «А»? — не выдержала я.
— Дорогая, это чересчур, — вмешался Тодд.
— Пойду прогуляюсь, — заявила я и двинулась к двери.
— В такую метель?
В этих словах слышалось скорее осуждение, нежели забота. Произнес их Тодд, хотя с таким же успехом они могли принадлежать маме. Прежде мне не доводилось находиться вместе с обоими, и я только сейчас поняла, насколько эти двое похожи. Не потому ли я собиралась замуж за Тодда? Может быть, привычка, пусть даже к чему-то плохому, порождает чувство безопасности, а не отвращения? Я бросила взгляд на Тодда: идет ли он со мной?
— Ладно, я пока посижу с твоей мамой.
Я всегда считала, что, какие бы напасти ни подстерегали меня в жизни, у меня есть надежная опора — Тодд. Теперь до меня внезапно дошло, почему никто не сумел бы стать моим страховочным тросом. С того дня, как тебя нашли, я камнем летела вниз — слишком быстро и резко, чтобы это падение можно было предотвратить. Я нуждалась в человеке, который отважился бы вместе со мной устремиться в темную пропасть глубиной одиннадцать километров.
Должно быть, мистер Райт замечает мои припухшие веки.
— Как вы себя чувствуете? Можем продолжать?
— Да, я в полном порядке.
Мой голос звучит бодро, мистер Райт принимает мою манеру и задает следующий вопрос:
— Вы попросили у сержанта Финборо копию протокола вскрытия?
— В тот раз нет. Детектив сказал, что при вскрытии не зафиксировано ничего, кроме резаных ран на запястьях, и я поверила ему на слово.
— А затем отправились в парк?
— Да. Одна.
Не знаю, зачем я это прибавила. Видимо, ощущение, что Тодд предал меня, живо до сих пор, хотя уже совсем не имеет значения…
Я смотрю на часы: тринадцать ноль-ноль.
— Не возражаете, если мы сделаем небольшой перерыв на ленч? — спрашиваю я. — В десять минут второго мы с мамой должны встретиться в ресторане за углом.
— Разумеется.
* * *
Я обещала рассказывать все по порядку, не забегая вперед, но с моей стороны было бы нечестно по отношению к тебе и маме скрывать ее нынешние чувства. И уж поскольку правила устанавливаю я сама, мне позволено иногда от них отступать.
Я подхожу к ресторану чуть раньше назначенного времени и через окно вижу маму, уже сидящую за столиком. Она перестала делать завивку, и в отсутствие внушительного объема, который дает перманент, волосы висят прямыми безжизненными прядями.
Мама замечает меня, и ее напряженное лицо немного расслабляется. Она вскакивает из-за столика и обнимает меня прямо посреди зала, не обращая внимания на то, что загородила дорогу официанту, спешащему на кухню. Она убирает с моего лба отросшую челку. Знаю, на нашу маму это совсем не похоже. Горе выжало из нее все, что мы считали материнским, оставив лишь хорошо знакомые черты, шорох пеньюара в темноте и тепло рук, успокаивающих прикосновением.
Я заказываю полбутылки испанского вина. Мама с беспокойством смотрит на меня:
— Не лучше ли тебе обойтись без спиртного?
— Всего половина бутылки, мам, к тому же на двоих.
— Даже небольшое количество алкоголя может вызвать депрессию, я где-то читала.
Повисает пауза, а потом мы обе прыскаем от смеха, почти настоящего, ведь в сравнении с болью утраты депрессия кажется нам едва ли не желанной.
— Тебе, наверное, трудно проходить через все это еще раз, пусть и в воспоминаниях, — вздыхает мама.
— Да нет, терпимо. Мистер Райт, юрист из прокуратуры, очень любезен.
— На чем вы остановились?
— На том, как я отправилась в парк, узнав результаты вскрытия.
Мама накрывает ладонью мою ладонь, мы сидим, как влюбленные, — рука в руке.
— Зря я тебя не отговорила. Погода стояла отвратительная.
Я чувствую тепло маминых пальцев, и к глазам подступают слезы. К счастью, мы с мамой теперь носим в сумочках как минимум по две пачки бумажных платочков и пакетик для промокших салфеток. В мой запас также входит вазелин, гигиеническая помада и пузырек якобы спасительной, но совершенно бесполезной настойки «Рескью ремеди», на случай если я вдруг расплачусь, например, за рулем или в супермаркете. Целый набор средств, сопутствующих горю…
— Тодду следовало пойти с тобой, — добавляет мама, и этот упрек в его адрес подтверждает мою правоту.
Я вытираю нос платком, который она дала мне на прошлой неделе, — детским хлопчатобумажным платком с вышитыми цветочками. Мама говорит, что хлопок не такой жесткий, как бумажные салфетки; к тому же это более экологичный материал. Знаю, тебе он понравился бы.
Мама сжимает мою ладонь крепче.
— Ты заслуживаешь, чтобы тебя любили. Как следует любили.
В устах любого другого человека эта фраза прозвучала бы банально, однако мама прежде не говорила о подобных вещах, поэтому я воспринимаю ее слова как нечто новое и неизбитое.
— Ты тоже.
— Сомневаюсь.
Наш разговор удивил бы тебя своей прямотой. Я уже привыкла к этому, а ты, знаю, нет. Во время сборов за праздничным столом в нашей семье всегда существовали запретные темы, которые никто не осмеливался обсуждать, и мы все старательно топтались вокруг да около, неизменно оказываясь в тупике молчания. Теперь же мы с мамой не боимся разоблачить непрошеных гостей. Их зовут Измена, Одиночество, Утрата, Гнев. Мы открыто говорим о них, так что они растворяются в пустоте и уже не сидят за нашим столом.
Меня давно мучает один вопрос, которого я не задавала маме — отчасти потому, что сама знаю ответ, а еще потому, что мы — скорее всего умышленно — никогда не создавали подходящей ситуации.
— Почему вы называли меня вторым именем, а не первым? — спрашиваю я.
Вероятно, мать и отец, особенно отец, с самого начала считали, что прекрасное романтическое имя Арабелла для меня не годится, и заменили его чопорным Беатрис. Тем не менее мне хотелось бы услышать подробности.
— За несколько недель до твоего рождения мы с отцом смотрели в Национальном театре шекспировскую постановку «Много шума из ничего». — Заметив мое удивление, мама поясняет: — Пока не появились дети, мы частенько проводили вечера в Лондоне и возвращались домой последним поездом. Так вот, одну из героинь пьесы зовут Беатриче. Она очень решительная, независимая и энергичная. С самого детства имя Беатрис подходило тебе как нельзя лучше. Отец говорил, что «Арабелла» для тебя звучит слишком бледно и невыразительно.
Мамин ответ настолько неожидан, что я теряю дар речи. Если бы я знала причину раньше, то, возможно, приложила бы усилия, чтобы соответствовать своему имени, и вместо неудачной Арабеллы из меня получилась бы та самая решительная и независимая Беатриче. И все же сейчас не время об этом размышлять. Я задала свой вопрос лишь в преддверии к главному.
Ты огорчена: как могла мама поверить в твое самоубийство — после смерти Лео! — тем более что ты понимала, какие страдания это ей причинит? Думаю, таким образом она хваталась за спасительную соломинку, и ее реакция — своего рода защитный рефлекс, однако лучше послушай ее саму.
— Мам, почему ты уверена, что Тесс покончила жизнь самоубийством?
Если она и удивлена вопросом, то не показывает этого и отвечает без колебаний:
— Пусть лучше я до конца жизни буду чувствовать свою вину перед ней, нежели знать, что она испытала хотя бы секундный ужас.
Слезы капают на белую полотняную скатерть, но маме уже нет дела до официанта у соседнего столика, условностей и приличного поведения в обществе. Я вижу, как мама в шуршащем пеньюаре сидит возле наших кроваток, и в темноте ощущаю запах ее крема для лица. Картина, промелькнувшая перед моим мысленным взором в тот миг, когда она в первый раз за долгое время повела себя по-матерински, теперь обрела яркость.
Я даже не догадывалась, сколько любви может вмещать сердце, пока не увидела, как мама тоскует по тебе. Когда умер Лео, я все время находилась в школе, вдали от ее переживаний. Теперь мамина скорбь поражает меня глубиной и одновременно кажется прекрасной. Глядя на нее, я боюсь быть матерью, боюсь столкнуться с тем, что сейчас чувствует она и что чувствовала ты, держа на руках Ксавье.
На короткое время воцаряется тишина — тень прошлых молчаний, но мама быстро нарушает ее:
— Знаешь, я не против, если судебный процесс будет открытым. Совсем не против, если честно.
Мама смотрит на меня, ожидая моей реакции. Я молчу. Она уже произносила эти слова с тысячью разных оттенков. Для нее не важны справедливость или отмщение, важна только ты.
— Про нашу Тесс писали во всех газетах, — с гордостью отмечает мама. Если не ошибаюсь, я уже говорила тебе, что ее радует любое внимание СМИ. Она считает, ты по праву заслуживаешь места на первых страницах изданий и в списке главных новостей, и не из-за твоей истории, а только потому, что все должны узнать про тебя. Людям необходимо знать, какая ты добрая, отзывчивая, красивая и талантливая. Мама не призывает «остановить все часы», ее девиз — «Откройте газету, включите телевизор, полюбуйтесь моей замечательной дочерью!».
— Беатрис, детка!
Перед глазами у меня все плывет, слова доносятся словно бы издалека.
— Солнышко, что с тобой?
Тревога в мамином голосе мгновенно возвращает меня к действительности. На ее лице написан испуг, и мне ужасно стыдно. Впрочем, судя по тому, что официант все еще убирает посуду с соседнего столика, я отключилась всего на несколько секунд.
— Все нормально, мам, просто от вина потянуло в сон.
Мы выходим из ресторана. Я обещаю маме, что заеду к ней на выходных, а сегодня вечером, как обычно, позвоню. Под лучами яркого весеннего солнца мы обнимаем друг друга, и я провожаю ее взглядом. Мимо деловито снуют хорошо одетые, тщательно причесанные работники офисов, возвращающиеся с обеденного перерыва, и на их фоне мамины седые волосы выглядят тусклыми, походка — неуверенной. Создается впечатление, что она раздавлена горем, что у нее не хватает сил расправить плечи под его тяжестью. В толпе она напоминает мне крохотную лодочку, которая чудом держится на плаву посреди бурного моря.
Я не могу задать маме все вопросы с одной попытки, но тебе ведь хочется знать, где похоронен Ксавье. Конечно, он с тобой, сестренка. Конечно, покоится у тебя на руках.
Я возвращаюсь в кабинет мистера Райта с небольшим опозданием. В голове у меня до сих пор шумит, соображаю я не очень хорошо. Прошу миссис Влюбленную Секретаршу приготовить мне крепкий кофе. Рассказывая твою историю, я должна быть в трезвом уме и ясной памяти. Мне хочется поскорее изложить очередную порцию событий, а затем отправиться домой и позвонить маме, убедиться, что с ней все в порядке. Мистер Райт напоминает, на чем мы закончили:
— Вы пошли в Гайд-парк, верно?
Мама и Тодд остались дома, а я поспешно взбежала по обледенелым ступенькам, на ходу натягивая пальто. Я думала, что перчатки при мне, однако, сунув руки в карманы, обнаружила только одну. В этот дневной час улицы были почти пустынны; в такую погоду люди стараются не вылезать из тепла без особой надобности. Я торопливо двинулась в сторону Гайд-парка, как будто боялась опоздать к назначенному времени. У Ланкастерских ворот я вдруг остановилась. Зачем я сюда пришла? Может быть, искала выход своему дурному настроению? «И вовсе я не злюсь! Просто хочу найти мой чайный сервиз!» — я вспомнила, как шестилеткой сердито топала вверх по лестнице, негодуя на весь мир. На этот раз передо мной стояла реальная цель, пусть и продиктованная желанием уйти от мамы и Тодда. Я должна была своими глазами увидеть то место, где оборвалась твоя жизнь.
Я миновала кованые ворота. Холодная погода с мокрым снегом невольно возвращала меня на шесть суток назад, в день, когда тебя нашли. Засунув руку без перчатки поглубже в карман, я направилась к полуразрушенному туалету. Мое внимание привлекли двое детишек, увлеченно лепивших снеговика. Мать, которая стояла неподалеку и притопывала ногами, велела им заканчивать. Единственным отличием этого дня от того были как раз дети и снеговик — наверное, потому мне и хотелось смотреть на них безотрывно. А может быть, мой взгляд задержало то, что эти невинные души не подозревали о случившейся здесь трагедии.
Я пошла дальше, туда, где обнаружили твое тело. Рука без перчатки совсем замерзла, плотный снежный покров холодил ноги сквозь тонкие подошвы туфель, предназначенных совсем не для зимнего парка, а для воскресного ленча в Нью-Йорке. В другой жизни.
Приблизившись к туалету, я остолбенела от изумления. Сколько букетов! Разумеется, количество не шло в сравнение с морем цветочной скорби у ворот Кенсингтонского дворца после гибели принцессы Дианы, и все же их было много, очень много. Некоторые уже почти утонули в снегу — видимо, их принесли несколько дней назад; другие, более свежие, блестели нетронутой целлофановой оберткой. Многочисленные плюшевые мишки поначалу привели меня в недоумение, потом я догадалась, что они предназначены Ксавье. Черно-желтая пластиковая лента, натянутая вокруг полуразваленной постройки, превращала место твоей смерти в аккуратный прямоугольник. Странно, что полиция обозначала свою работу много позже того, как тебе требовалась помощь. Лента и цветы — вот и все яркие пятна на белом фоне парка.
Убедившись, что вокруг никого нет, я перелезла через черно-желтую ленту. Отсутствие полицейского меня почему-то не удивило. Констебль Вернон уже потом сказала мне, что на месте преступления обязательно должен дежурить полицейский. Неотлучно, в любую погоду. Констебль Вернон призналась, что на таких дежурствах ей страшно хочется в туалет, и если она когда-нибудь и уйдет из полиции, то именно из-за этого, а вовсе не из-за своей мягкосердечности. Ты права, я увиливаю от продолжения.
Я вошла внутрь. Описывать мои впечатления нет нужды. Уверена, ты все подробно разглядела, в каком бы состоянии ни находилась, ведь у тебя взгляд художника. К сожалению, последним, что запечатлел твой взгляд, оказался отвратительный грязный туалет. Зайдя в кабинку, я увидела кровь: пятна на бетонном полу, брызги на облезлых стенах. Меня стошнило в раковину, а потом я заметила, что под ней нет сливной трубы. Никто и никогда не пришел бы сюда по своей воле, не выбрал бы это место для того, чтобы расстаться с жизнью.
Я старалась не думать о том, что ты пролежала здесь пять суток в полном одиночестве. Силилась представить, как твоя душа взмывает под облака, словно на картине Шагала. И все же я не знала, как все было на самом деле. Рассталась ли она с бренной плотью в тот самый миг, когда ты умерла? О, я горячо на это надеялась. Или дух покинул тело позже, когда тебя обнаружили и убийца перестал быть последним, кто на него смотрел? А может быть, ты освободилась от страданий только в морге, когда сержант полиции откинул простыню и я тебя опознала?
Я вышла из вонючих, загаженных развалин и сделала глубокий вдох. Я с облегчением вдыхала белый вымороженный воздух, пока холод не начал жечь легкие. Теперь я поняла, зачем здесь букеты: нормальные, порядочные люди пытались противостоять злу при помощи цветов. Праведная борьба под знаменем красоты. Я вспомнила дорогу на Данблейн, выложенную мягкими игрушками, — дань памяти шестнадцати погибшим детям. Раньше я не понимала, с чего кому-то может прийти в голову, будто семье, в которой расстреляли ребенка, нужен плюшевый мишка. Теперь понимаю. Сотни, тысячи мягких плюшевых медведей способны чуть-чуть приглушить страшное вибрирующее эхо выстрела. «Не все люди плохие, — говорят эти игрушки. — Мы не такие, мир состоит не из одних мерзавцев».
Я принялась читать открытки. Некоторые промокли от снега, чернила поплыли, и строчки стали неразборчивыми. На глаза мне попалась подпись «Кася». Она оставила плюшевого медвежонка и крупным детским почерком вывела на открытке «Ксавье», подрисовав внизу сердечко, крестики и скобки, обозначающие поцелуи и дружеские объятия. Поначалу меня передернуло от такого проявления дурного вкуса, но затем я устыдилась собственного снобизма и почувствовала, что тронута вниманием твоей подруги. Я решила, что дома непременно найду номер ее телефона и позвоню, чтобы сказать спасибо.
Те открытки, что еще не размокли, я забрала с собой — все равно, кроме меня и мамы, читать их некому. Выпрямившись, я заметила неподалеку мужчину средних лет с лабрадором на поводке. В руке он держал букет хризантем. Я вспомнила: в день, когда тебя нашли, он тоже был в парке и наблюдал за действиями полицейских; пес точно так же рвался с поводка. Мужчина нерешительно топтался — наверное, хотел положить цветы после того, как я уйду. Я приблизилась к нему. В кепке из твида и дорогой непромокаемой куртке, он походил на классического сквайра, которому полагалось бы находиться в своем загородном имении, а не в лондонском парке.
— Вы были другом Тесс? — спросила я.
— Нет. Даже не знал, как ее зовут, пока не услышал по телевизору, — ответил он. — Мы просто кивали друг другу. Когда часто видишь кого-то, возникает нечто вроде знакомства. Разумеется, в образном смысле. Вроде как узнаешь этого человека. — Мужчина высморкался в платок. — По большому счету я не должен расстраиваться. А вы? Вы ее знали?
— Да.
Что бы там ни говорил детектив Финборо, я тебя знала. Сквайр замялся, не зная, как правильно поддерживать беседу, стоя у холма из цветов и мягких игрушек.
— Стало быть, полицейский ушел? Он говорил, оградительную ленту скоро снимут, поскольку эта территория уже не считается местом преступления.
Конечно, не считается, раз полиция пришла к выводу, что ты покончила жизнь самоубийством. Сквайр, видимо, ожидавший моей реакции, робко продолжил:
— Ну, если вы ее знали, значит, лучше меня осведомлены, как обстоит дело.
Думаю, ему нравилось говорить о тебе. Ощущение слез, подступающих к глазам, не лишено приятности. Чужой страх и страдания щекочут нервы, даже возбуждают — всегда интересно чуть-чуть прикоснуться к несчастью, не связанному с тобой. Уверена, что этот человек мог похвастаться — и, несомненно, хвастался — некой причастностью к твоей истории, считая себя участником пьесы.
— Я — ее сестра.
Именно так, в настоящем времени. От того, что ты умерла, я не перестала быть твоей сестрой, наша родственная связь не прервалась, не канула в прошлое, иначе я бы не горевала сейчас, в настоящем. Сквайра мои слова потрясли. Подозреваю, внутренне он порадовался, что я тоже нахожусь на безопасном для него эмоциональном расстоянии.
Я побрела прочь.
Снег, прежде падавший редкими пушистыми хлопьями, стал плотнее и злее. Снеговик, вылепленный детьми, уже почти потерял форму под новой белой шубой. Я решила выйти с другой стороны, не возвращаясь к Ланкастерским воротам, — слишком свежим и горьким было воспоминание о том, как я покидала парк в прошлый раз.
Когда я подошла к галерее «Серпентайн», снег повалил сплошной стеной, плотно укутывая деревья и траву. Совсем скоро твои цветы и плюшевые мишки Ксавье утонут в этой белизне, станут невидимыми. Ноги у меня совсем замерзли, рука без перчатки онемела от холода, во рту оставался кислый вкус рвоты. Я подумала, что в галерее есть кафе, где можно попросить стакан воды, однако, подойдя ближе, увидела, что в окнах нет света, а двери заперты. Объявление гласило, что галерея откроется только в апреле.
Саймон не мог встречаться с тобой здесь. Он — последний, кто видел тебя живой, и он солгал. Его ложь звенела у меня в голове. Этот настойчивый звук, единственный из всех, прорывался сквозь глухую пелену снега.
Я шла назад по Чепстоу-роуд к тебе на квартиру. Карманы были набиты карточками от букетов и плюшевых медвежат, рука сжимала мобильный телефон, по которому я пыталась позвонить сержанту Финборо. Еще издалека я заметила Тодда, беспокойно мерившего шагами пятачок перед домом. Мама уже уехала домой на электричке. Тодд вслед за мной вошел в квартиру; облегчение превратило его беспокойство в досаду.
— До тебя не дозвониться!
— Саймон солгал о том, что встречался с Тесс в галерее «Серпентайн». Я должна позвонить сержанту Финборо.
Реакция Тодда, вернее, ее отсутствие, должна была подготовить меня к разговору с детективом, но я не успела об этом подумать, так как сержант взял трубку. Я рассказала ему про Саймона.
Голос детектива звучал спокойно, даже мягко.
— Возможно, Саймон просто хотел сохранить лицо.
— И поэтому соврал?
— И поэтому сказал, что они встречались в галерее.
Мне с трудом верилось, что сержант Финборо выгораживает Саймона.
— Узнав, что Саймон виделся с вашей сестрой в день ее гибели, мы допросили его. У нас нет причин полагать, что он имеет отношение к смерти Тесс.
— Но ведь он солгал насчет встречи!
— Беатрис, вы должны попытаться…
Перед моим мысленным взором промелькнули все клише, которые собирался озвучить детектив: «двигаться вперед», «не цепляться за прошлое» и даже — в более цветистом варианте — «принять реальность и найти в себе силы жить дальше». Я не дала сержанту Финборо произнести эти избитые фразы:
— Вы видели место, где она умерла?
— Да, конечно.
— Думаете, кто-нибудь мог выбрать этот грязный угол для того, чтобы расстаться с жизнью?
— Вряд ли это был вопрос выбора.
На секунду я решила, что сержант начал мне верить, однако затем догадалась — он считает, ты убила себя на почве психического расстройства. Подобно тому как больной неврозом навязчивости не имеет иного выбора и вынужден бесконечно повторять одно и то же действие, женщина с послеродовым психозом в порыве безумия обречена причинить себе вред. Смерть молоденькой девушки — красивой, общительной и талантливой — безусловно, вызывает подозрения. Даже если у нее умер ребенок, сомнения в причинах ее гибели остаются. Однако стоит добавить к жизнеутверждающему описанию жертвы психоз, и вопрос тут же снят. Убийца получает моральное алиби, а девушку объявляют самоубийцей.
— Кто-то силой привел ее в этот ужасный туалет и там убил.
Детектив Финборо по-прежнему сохранял спокойствие.
— А мотивы? Ни у кого не было мотива для убийства. Слава Богу, это не изнасилование и не грабеж, так как ничего не пропало. Расследуя исчезновение Тесс, мы не выявили ее врагов; наоборот, вашу сестру все просто обожали.
— Вы хотя бы допросите Саймона еще раз?
— Вряд ли повторный допрос нам что-то даст.
— Все потому, что Саймон — сын министра?
Я бросила этот упрек в надежде, что сержант Финборо смутится и передумает.
— Мое решение не вызывать Саймона Гринли продиктовано исключительно тем фактом, что я считаю беседу с ним нецелесообразной.
Я уже хорошо знаю детектива, и для меня не секрет, что он прибегает к сухому официальному стилю в тех случаях, когда на него пытаются надавить.
— Тем не менее вы осведомлены, что отец Саймона, Ричард Гринли, — член парламента и кабинета министров?
— Боюсь, наш разговор зашел в тупик. Возможно…
— То есть моя сестра не заслуживает лишних усилий, так?
Мистер Райт подает мне стакан воды. Описание туалета опять вызвало у меня тошноту. Я рассказала ему об обмане Саймона и о своем звонке детективу, но опустила другое: пока я разговаривала с сержантом Финборо, Тодд повесил на вешалку мое пальто, вытащил из кармана все карточки и аккуратно разложил их для просушки, но вместо того чтобы чувствовать заботу, в каждом движении Тодда я ощущала укор, видела, что он полностью поддерживает детектива, хоть и слышит только мои реплики.
— После того как сержант Финборо отказался допрашивать Саймона Гринли, вы решили действовать самостоятельно? — В голосе мистера Райта слышится легкий намек на улыбку.
Я почти не удивлена.
— Ну да, у меня это уже практически вошло в привычку.
Всего восемь дней назад, до прилета в Лондон, я была человеком, всячески избегавшим какой-либо конфронтации. Однако в сравнении с чудовищной жестокостью твоей смерти противостояние слов кажется вполне безобидным и мелким. Почему же раньше любой словесный конфликт повергал меня в растерянность, даже в испуг? Сейчас собственное поведение кажется мне таким малодушным, таким нелепым…
Тодд собрался в магазин за тостером («Поверить не могу, что твоя сестра жарила тосты на плите!»). Тостер в нашей нью-йоркской квартире имел функцию разморозки и полезный режим подогрева круассанов, которым мы регулярно пользовались.
Взявшись за дверную ручку, он обернулся:
— У тебя усталый вид.
Забота или упрек?
— Я же говорил вчера, что тебе надо принимать снотворные таблетки, которые я привез из Нью-Йорка.
Упрек.
Тодд ушел за тостером. Я не объяснила ему, почему не стала принимать снотворное. Не сказала, что вычеркивать тебя из сознания даже на несколько часов — это трусость. И о том, что собираюсь пойти к Саймону, тоже умолчала, ведь Тодд счел бы своим долгом удержать меня, отговорить от «поспешных и необдуманных шагов».
Я приехала в Кенсингтон по адресу, который был нацарапан на бумажке, вложенной в твой блокнот, и припарковалась перед трехэтажным особняком. Саймон впустил меня, нажав на кнопку домофона, и я поднялась на верхний этаж. Когда он открыл дверь, я изумилась. Детское личико Саймона посерело от усталости, модная небритость превратилась в неряшливую бороду.
— Я хотела бы поговорить про Тесс.
— С чего бы? Я думал, ты знала ее лучше всех.
В его голосе сквозила ревность.
— Ты ведь тоже был ее близким другом, правда?
— Угу.
— Можно войти?
Он оставил дверь нараспашку, и я вслед за ним прошла в большую, богато обставленную гостиную. Судя по всему, в этой квартире останавливался отец Саймона во время приездов в Лондон. Одну из длинных стен целиком занимало изображение тюрьмы. Приглядевшись повнимательнее, я увидела, что это коллаж: тюрьма, выложенная из нескольких тысяч фотографий детских лиц. Зрелище одновременно впечатляло и отталкивало.
— Галерея «Серпентайн» закрыта до апреля. Ты не мог встречаться там с Тесс.
Саймон равнодушно пожал плечами и ничего не ответил.
— Зачем ты солгал? — спросила я.
— Понравилась идея, только и всего, — ответил он. — Романтичное место, подходит для свиданий. Если бы у нас было свидание, Тесс обязательно выбрала бы галерею «Серпентайн».
— И все-таки ваша встреча не была свиданием?
— Какая разница, если я чуть-чуть изменю историю, перепишу ее под себя? Подумаешь, немного пофантазировал. Кому от этого хуже?
Я испытывала жгучее желание наорать на избалованного мальчишку, однако это не принесло бы никакой пользы, кроме короткого облегчения от выплеска гнева.
— Почему вы встречались в парке в такой холод?
— Тесс сама попросила. Дескать, ей надо находиться на открытом месте, а в четырех стенах она чокнется.
— «Чокнется»? Так и сказала?
При мне ты ни разу не произносила этого слова. Ты всегда тщательно подбираешь выражения, хоть и болтаешь без умолку, и вдобавок очень ревностно относишься к чистоте английского языка, постоянно ругая меня за американизмы.
Саймон открыл шкаф с зеркальными дверцами и достал оттуда мешочек из бархатной ткани.
— Ну, может, она сказала, что у нее клаустрофобия или что-то в этом роде. Не помню.
Это уже больше походило на правду.
— Она сказала, зачем хотела встретиться?
Саймон молча возился с сигаретной бумагой.
— Отвечай!
— Господи, да просто хотела побыть со мной! Неужели трудно понять?
— Откуда ты узнал о смерти Тесс? — продолжала давить я. — От знакомых? А тебе говорили про то, что у нее были вскрыты вены на запястьях?
Я хотела довести Саймона до слез, потому что соленая влага слез растворяет защитные барьеры, возведенные вокруг тайников нашей души.
— Тебе говорили, что она пять суток пролежала в грязном, вонючем туалете?
В глазах Саймона действительно заблестели слезы.
— В тот день, когда ты встретила меня перед домом Тесс, я прятался за углом, пока ты не ушла, а потом поехал за тобой на мопеде, — тихо произнес Саймон.
Я смутно припомнила, что по пути в Гайд-парк слышала жужжание мотора, но не придала этому значения.
— Несколько часов я прождал за воротами. Шел сильный снег, помнишь? А я промерз еще раньше, когда сидел на ступеньках, — продолжал Саймон. — Потом ты вышла вместе с теткой из полиции. Приехал фургончик с тонированными стеклами. Мне ничего не сказали, я ведь не родственник.
Слезы катились по щекам Саймона, он их не утирал. Этот самовлюбленный эгоист вызывал у меня отвращение, как и его «творчество».
— Вечером я увидел сюжет в новостях. Короткий, не больше двух минут, о молодой женщине, чей труп обнаружили в туалете Гайд-парка. Показали фото со студенческого билета. Так я узнал, что Тесс мертва.
Когда Саймон принялся сморкаться и вытирать слезы, я решила, что нужный момент настал.
— Так все-таки почему она просила тебя о встрече?
— Тесс сказала, что боится и что ей нужна моя помощь.
Как я и предполагала, способ со слезами оказался действенным. Я знала о нем еще с тех пор, когда в первую ночь в школьном дортуаре разрыдалась перед воспитательницей и призналась, что скучаю вовсе не по дому и маме, а по отцу.
— Она говорила, чего боится? — спросила я.
Саймон покачал головой, а я вдруг опять усомнилась в его искренности. Были его слезы настоящими или теми самыми крокодиловыми, слезами коварства и лицемерия?
— Почему из всех друзей Тесс выбрала именно тебя, Саймон, а не кого-то другого?
Слезы высохли, момент откровенности закончился.
— Мы были очень близки.
Наверное, Саймон заметил мое скептическое выражение, потому что в его голосе зазвенела обида.
— Тебе хорошо, ты — сестра и имеешь полное право скорбеть. Всем понятно, что твое сердце разрывается от горя. А мне нельзя даже назвать Тесс своей девушкой!
— Она не звонила тебе, так? — спросила я.
Саймон молчал.
— Тесс никогда бы не стала играть твоими чувствами.
Саймон хотел прикурить самокрутку, но руки у него дрожали, и зажигалка не срабатывала.
— Как все произошло на самом деле?
— Я звонил ей миллион раз. Либо нарывался на автоответчик, либо телефон был занят. Но в тот раз она сняла трубку. Сказала, что ей нужно уйти из дома. Я предложил встретиться в парке, она согласилась. Я вправду хотел повести Тесс в галерею, не знал, что она закрыта. Когда мы встретились, Тесс спросила, нельзя ли ей пожить у меня. Хотела, чтобы кто-то был с ней рядом все двадцать четыре часа, семь дней в неделю. — Он сердито умолк. — Мол, я — единственный студент в колледже, который не подрабатывает по вечерам.
— Двадцать четыре часа, семь дней в неделю?
— Ну, круглосуточно. Не помню, как она выразилась. Черт, разве это важно?
Да, важно, потому что твоя фраза подтверждала подлинность слов Саймона.
— Тесс чего-то боялась и обратилась ко мне за помощью, потому что я был ей удобен.
— Так почему же ты бросил ее?
Саймон вздрогнул:
— Что?
— Если Тесс хотела пожить у тебя, почему ты ей не позволил?
Зажигалка наконец вспыхнула; Саймон сделал глубокую затяжку.
— В общем, я признался Тесс в любви. Сказал, что не могу жить без нее, и все такое.
— Ты приставал к ней?
— Все было не так.
— А она тебе отказала?
— Наотрез. И окончательно добила, заявив, что на этот раз вряд ли сможет с чистым сердцем предложить мне остаться друзьями.
Непомерно раздутое «я» этого паршивца, словно огромная воронка, поглотило все остальные чувства — доброту, сопереживание тебе, твоей беде, — превратив в несчастную жертву его самого, однако мой гнев оказался больше, чем эго Саймона.
— Тесс обратилась к тебе в трудную минуту, а ты хотел воспользоваться ситуацией!
— Наоборот, это она хотела воспользоваться мной.
— Она все равно собиралась остаться у тебя?
Саймон не ответил, но я предугадала его ответ.
— Только безо всяких условий?
Он по-прежнему молчал.
— И ты не разрешил.
— А что, надо было позволить ей унизить меня как мужчину?
Я онемела, пораженная степенью его эгоизма. Саймон решил, будто я чего-то недопоняла.
— Она хотела быть со мной только потому, что тряслась от страха точно безумная, — объяснил он. — Думаешь, приятно, когда с тобой так обходятся?
— Тряслась от страха?
— Ладно, скажем, просто боялась.
— Сперва ты говорил, что Тесс была напугана, теперь оказывается, она «тряслась от страха точно безумная».
— Короче, ей мерещилось, что какой-то человек преследует ее и пришел за ней в парк.
Я заставила себя произнести ровным тоном:
— Тесс сказала, что это за человек?
— Нет. Я обошел все вокруг, даже поискал в кустах — только зря влез в сугроб и наткнулся на мерзлые собачьи какашки. Никого.
— Ты должен пойти в полицию и поговорить с детективом, сержантом Финборо. Участок находится в Ноттинг-Хилле, я дам тебе номер телефона.
— Какой смысл? Тесс покончила жизнь самоубийством, так даже по телевизору сказали.
— Но ты же был там, тебе известно больше, чем телевизионщикам! — Я уговаривала Саймона, точно ребенка, пытаясь скрыть свое отчаяние. — Она говорила тебе о преследователе. Ты знаешь, что Тесс действительно боялась.
— Скорее всего это был параноидный бред. Я слышал, на почве послеродового психоза женщины полностью съезжают с катушек.
— Где ты это слышал?
— Кажется, по телику.
Саймон понял, что его ложь опять прозвучала неубедительно. Он покосился на меня с деланным безразличием.
— Ладно… Я попросил отца разузнать, что и как. Я редко обращаюсь к нему с просьбами, так что…
Саймон не договорил, как будто поленился закончить предложение. Он подошел чуть ближе, и я уловила запах лосьона после бритья, слишком резкий в жарко натопленной гостиной. Этот запах пробудил в памяти яркую картину моей первой встречи с Саймоном: вот он сидит на ступеньках перед твоей дверью с букетом в руках и, несмотря на холод, благоухает тем же лосьоном. Тогда я была озадачена — зачем цветы и прочие приготовления, если ты не предлагала ему ничего, кроме утешительного приза в виде дружбы? А сейчас выясняется, что ты решила вообще порвать с ним, и…
— Ты дожидался Тесс возле дома с цветами, и от тебя пахло лосьоном.
— И что с того?
— Ты решил сделать второй заход, верно? Надеялся, что отчаяние заставит Тесс согласиться на твои условия?
Саймон пожал плечами, не чувствуя за собой никакой вины. Избалованный с самого детства, он стал тем, кем стал, растеряв все хорошие задатки.
Я повернулась к Саймону спиной и вновь уперлась взглядом в изображение тюрьмы, составленное из детских лиц. Меня передернуло. У двери я вдруг почувствовала на лице обжигающие слезы и только тогда поняла, что плачу.
— Как ты мог оставить ее в парке?
— Я не виноват, что она себя убила.
— Ты хоть в чем-нибудь вообще виноват?
Я снова сижу перед мистером Райтом. Мысленно я все еще чувствую острый запах Саймона и его квартиры. Хорошо, что открыто окно и оттуда слабо веет свежей травой, которую подстригают в парке.
— Вы рассказали в полиции о том, что узнали от Саймона? — спрашивает мистер Райт.
— Да, я говорила с подчиненным детектива Финборо. Он отвечал очень любезно, но я понимала, что все без толку. Преследователь Тесс мог оказаться как убийцей, так и плодом ее предположительно больного воображения. Факты, которые указывали на убийцу, также подходили под симптомы психоза.
Мистер Райт смотрит на часы: четверть шестого.
— Закончим на сегодня?
Я киваю. Где-то в горле и носу еще царапаются молекулы лосьона и сладковатого дыма марихуаны, и я рада, что могу наконец выйти и глотнуть свежего воздуха.
Миновав парк Сент-Джеймс, я сажусь в автобус и еду в «Койот». Тебе, разумеется, интересно, как я туда устроилась. Сначала я пришла в бар, чтобы расспросить твоих коллег, в надежде на какую-нибудь зацепку. Увы, в последний раз они видели тебя в воскресенье, за неделю до рождения Ксавье, и мало что знали о твоей жизни вне стен «Койота». Тем временем мой босс в Штатах согласился дать мне расчет («С огромным сожалением, Беатрис»), и я просто не представляла, где найти другую работу. Я знала, что необходимость выплачивать кредит за нью-йоркскую квартиру скоро съест все мои сбережения. В общем, надо было на что-то жить, и я пошла обратно к Беттине.
Я надела единственное, что осталось у меня из чистого, — брючный костюм от «Макс Мара», и Беттина сперва решила, будто я шучу насчет работы, но затем поняла, что мне не до шуток.
— Хорошо. Лишняя пара рук мне пригодится. Две смены по выходным и три — в будние дни. Можешь начинать уже сегодня. Шесть фунтов в час плюс бесплатный ужин, если смена длится больше трех часов.
Наверное, вид у меня был слегка озадаченный: я не ожидала вот так сразу получить место.
— Дело, признаться, в том, — сказала Беттина, — что ты мне страшно нравишься. — Увидев мое испуганное лицо, она хихикнула. — Извини, не могла удержаться.
Добродушное подтрунивание Беттины напомнило о тебе — ее смех, как и твой, тоже был искренним и беззлобным.
Приступив к своим обязанностям в тот первый вечер, я подумала, что в связи с твоей смертью заведению действительно требуется официантка. А недавно узнала, что вакансию заняли еще до моего прихода. Получается, Беттина взяла меня только из личной благосклонности и уважения к тебе.
Домой я прихожу почти в полночь и не рассчитываю на встречу с журналистами. Во-первых, поздно, а во-вторых, лихорадка последних дней закончилась — наверняка они уже отщелкали все пленки и набрали нужные метры материала. Однако я ошибаюсь: на подходе к дому собралась целая толпа репортеров. Прожекторы бьют светом: в центре внимания — Кася. Ей пришлось провести два дня у подруги, пока я не решила, что пресса утихомирилась и Касе можно возвращаться. Сейчас она живет со мной. Думаю, тебе приятно об этом знать, хотя и любопытно, как мы помещаемся в маленькой квартирке. Кася спит на твоей кровати, а у меня есть матрас; каждый вечер я расстилаю его в гостиной, и как-то так мы устраиваемся.
Видно, что Кася сильно утомлена и под прицелом камер чувствует себя не в своей тарелке. Меня охватывает яростное желание взять ее под защиту, я отгоняю репортеров с дороги.
— Долго ждешь?
— Много час.
У Каси это может означать десять минут.
— А где твой ключ?
Кася смущенно пожимает плечами:
— Извини.
Она постоянно теряет то одно, то другое и в этом похожа на тебя. Порой ее ветреность кажется мне трогательной, но сегодня вызывает легкую досаду (по старой привычке; к тому же я жутко устала: сперва долгая беседа с мистером Райтом, затем смена в баре, а теперь еще мне в лицо тычут объективами в надежде на пикантные снимки).
— Идем, тебе нужно поесть.
До родов всего неделя, Касе нельзя делать большие перерывы между приемами пищи. У нее случаются обмороки, и, конечно, ребеночку не на пользу.
Обняв Касю, я пропускаю ее вперед, в квартиру. Фотокамеры одновременно щелкают вспышками. Завтра под снимками, на которых я заботливо обнимаю Касю, опять появятся статьи, подобные сегодняшним, о том, как я ее «спасла». Журналисты не стесняются слов вроде «избавительница», «обязана жизнью» и так далее; слов из комиксов, грозящих превратить меня в ненормальную, которая носит трусы поверх колготок, меняет парики и костюмы в телефонной будке и вообще смахивает на ведьму. Репортеры напишут, что я не успела спасти тебя (слишком долго переодевалась в телефонной будке), но зато благодаря мне Кася и ее ребенок «обретут вторую жизнь».
Как и все люди, читатели хотят, чтобы у истории был счастливый конец, просто это не моя история. Моя закончилась в тот момент, когда я увидела прядь волос, застрявших в застежке-молнии.
Четверг
Я иду через парк Сент-Джеймс в уголовный суд. Небо сегодня опять радует синевой, в цветовой модели это оттенок № 635 — цвет надежды. Я должна изложить мистеру Райту следующую порцию событий, а именно рассказать о встрече с твоим психиатром. Правда, моему полусонному сознанию пока не хватает четкости, поэтому я попробую провести мысленную репетицию и для начала расскажу обо всем тебе.
График бесплатного приема доктора Николса был расписан на четыре месяца, поэтому, чтобы не ждать, я записалась на платную консультацию. Кабинет, где он принимал пациентов с частной страховкой, даже отдаленно не походил на медицинский, гораздо больше напоминая престижный парикмахерский салон: лилии в вазах, автомат с минеральной водой, глянцевые журналы. Молоденькая ассистентка с положенным по статусу надменным выражением лица отправляла свои полномочия «стража ворот». Сидя в очереди, я листала журнал (унаследовала от мамы панический страх показаться бездельницей). На обложке значился следующий месяц, и я вспомнила, как ты смеялась над модными изданиями, путешествующими во времени. Ты говорила, что дата на обложке журнала должна сигналить читателям о нелепости его содержимого. Моя нервная внутренняя болтовня объяснялась тем, что от предстоящей встречи зависело очень много. Это ведь доктор Николс выдал заключение о послеродовом психозе, из-за него полиция поверила в твое самоубийство. Это из-за доктора Николса никто не собирался искать твоего убийцу.
Ассистентка подняла глаза:
— На какое время вам назначено?
— На два тридцать.
— Вам очень повезло, что доктор Николс нашел возможность встретиться с вами.
— Уверена, стоимость услуг доктора соответствует степени его любезности.
Я словно бы разминалась перед разговором с доктором, готовясь к противостоянию.
— Вы заполнили бланк? — недовольно осведомилась ассистентка.
Я отдала ей лист бумаги, где была заполнена только одна графа — номер моей кредитной карты. Презрительно глядя на меня, ассистентка взяла бланк и едко произнесла:
— Вы забыли указать историю болезни.
Я подумала о людях, которые приходили сюда, — страдающих депрессией, различными страхами или совсем утративших связь с реальностью и погрузившихся в пучину безумия. Неужели эти хрупкие, уязвимые люди не заслужили вежливого отношения со стороны той, кто первой встречает их в этих стенах?
— Я не нуждаюсь в медицинской консультации.
Ассистентка не хотела показывать своего любопытства, а может, приняла меня за очередную спятившую, ради которой не стоит напрягаться.
— Я пришла сюда в связи с убийством моей сестры. Перед смертью она наблюдалась у доктора Николса.
На короткий миг я завладела вниманием ассистентки. Она окинула взглядом мои грязные волосы (мытье головы — первое, о чем забываешь в горе), отсутствие макияжа и мешки под глазами. Она увидела маркеры беды, но приняла их за признаки умопомешательства. Не это ли произошло и с тобой? Может быть, проявления твоего страха тоже спутали с душевным расстройством?
Не говоря ни слова, ассистентка забрала у меня бланк.
Ожидая своей очереди, я вспоминала, как однажды написала тебе, что хотела бы попасть на прием к психотерапевту.
Кому: Беатрис Хемминг, на Айфон
Мозгоправ? Ради всего святого, Би, зачем? Если тебе нужно поговорить, почему не обратиться ко мне или кому-то из друзей?
Т.
От: Беатрис Хемминг, с Айфона
Кому: [email protected]
Просто подумала, что было бы неплохо и даже полезно пообщаться со специалистом. Это совсем не то, что разговаривать с другом.
Би.
P.S. Их уже не называют мозгоправами.
Кому: Беатрис Хемминг, на Айфон
Зато разговор со мной обойдется бесплатно. Кроме того, твои проблемы мне не безразличны, и я не стану ограничивать беседу часовым интервалом.
Т.
P.S. Мозгоправ загрузит тебя по полной программе да еще втиснет в рамки стандартной классификации из учебника психиатрии.
От: Беатрис Хемминг, с Айфона
Кому: [email protected]
Эти люди — профессионалы. Психотерапевты (в отличие от психологов) — квалифицированные врачи, прошедшие специализацию. Ты не стала бы утверждать, что они «полощут мозги», если бы страдала слабоумием или шизофренией, согласна?
Би.
Кому: Беатрис Хемминг, на Айфон
В точку! Но ты не шизофреничка и не слабоумная.
Т.
P.S. На случай если тебе плохо слышно с твоего высокого пьедестала, я могу крикнуть громче.
От: Беатрис Хемминг, с Айфона
Кому: [email protected]
Я имела в виду не только людей с тяжелыми расстройствами психики. Ходячим больным иногда тоже требуется помощь квалифицированного врача.
Би.
Кому: Беатрис Хемминг, на Айфон
Би, родная, прости. Расскажешь, в чем дело?
Т.
От: Беатрис Хемминг, с Айфона
Кому: [email protected]
У меня оч. важная встреча. Поговорим позже.
Би.
Кому: Беатрис Хемминг, на Айфон
Между прочим, я тоже должна обслуживать посетителей, а не строчить тебе письма с компьютера Беттины. Клиенты за четвертым столиком давно ждут сырную тарелку, но я и пальцем не пошевелю, пока не дождусь твоего ответа.
Т.
Кому: Беатрис Хемминг, на Айфон
Клиенты с четвертого столика ушли бессырно. Дай мне шанс, а? Видишь, я даже не брезгую американизмами, лишь бы ты поняла, как горячо я надеюсь на твое прощение.
Т.
Кому: Беатрис Хемминг, на «Айфон»
Пчелка Би, моя смена закончилась, а я все сижу за компьютером Беттины. Черкни мне хоть пару строчек сразу, как получишь это письмо. Хорошо? Пожа-алуйста.
Т.
От: Беатрис Хемминг, с Айфона
Кому: [email protected]
Я не пряталась от тебя, просто встреча затянулась. Не ищи подтекста в вопросе с психотерапевтом. Это не больше чем дань моде, вроде как «в Нью-Йорке жить — местный обычай любить». В Лондоне уже за полночь, поэтому отправляйся поскорее домой и ложись спать.
Би.
Кому: Беатрис Хемминг, на Айфон
Не хочешь делиться проблемами, так и скажи. Подозреваю, что ты мучаешься из-за Лео. Или дело в отце?
Т.
Ассистентка за стойкой посмотрела на меня:
— Доктор Николс готов вас принять.
У двери в кабинет я вспомнила наш телефонный разговор, который состоялся тем вечером (вечер был у меня, а у тебя в Лондоне два часа ночи). Я так и не сказала, по какой причине собралась к психотерапевту, зато ты объяснила, почему считаешь это глупостью.
«Наш разум есть то, что мы собой представляем, средоточие эмоций, мыслей, убеждений, любви и ненависти, веры и страсти». Твоя горячность меня немного смутила, а ты продолжала: «Как может посторонний человек разобраться в твоей голове, не будучи одновременно богословом, философом и поэтом?»
Я вошла.
Принимая тебя в муниципальной клинике, доктор Николс наверняка носил белый халат, однако здесь, в своем частном кабинете, он был одет в старый шерстяной свитер и выцветшие вельветовые брюки. На фоне полосатых обоев в стиле эпохи Регентства он выглядел несколько неряшливо. На вид я дала бы ему лет тридцать семь — тридцать восемь, примерно так, да?
Он поднялся с кресла. Мне показалось, что его помятое лицо выражает сочувствие.
— Мисс Хемминг, примите искренние соболезнования по поводу смерти вашей сестры.
Из-под стола донеслась какая-то возня. Опустив глаза, я увидела собаку. Старый лабрадор перебирал лапами во сне и постукивал хвостом по полу. В кабинете витал легкий запах псины, который понравился мне больше, чем вазоны с лилиями в вестибюле. Я представила, как в перерывах между приемом пациентов ассистентка мечется по кабинету, распыляя освежитель воздуха.
— Прошу вас, присаживайтесь, — указал на соседнее кресло доктор.
На его рабочем столе я заметила фото маленькой девочки в инвалидной коляске. Фотография намеренно стояла на виду, и от этой безоговорочной отцовской гордости у меня потеплело на душе.
— Чем могу помочь? — осведомился доктор Николс.
— Тесс говорила вам, кого именно боялась?
Явно озадаченный моим вопросом, он покачал головой.
— Она ведь рассказывала вам о телефонных звонках с угрозами?
— Да, Тесс упоминала неприятные звонки.
— А говорила, кто звонит или чего добивается этот человек?
— Нет. Тесс не распространялась на эту тему, а я считал недопустимым давить. Первоначально я предположил, что звонили обычные телефонные хулиганы либо кто-то просто набирал неверный номер, а мысль об угрозах возникла у вашей сестры исключительно в связи с угнетенным психическим состоянием.
— Вы сказали ей об этом?
— Обозначил как возможный вариант.
— И она расплакалась?
Моя осведомленность удивила доктора, но я ведь знаю тебя всю жизнь. В четыре года ты не плакала, даже ссадив коленки или разбив нос, но горько рыдала, когда тебе не верили, и выражала свое негодование бурными потоками слез.
— Вы говорите, что сделали свои предположения лишь первоначально?
— Да. Позже я пришел к выводу, что у Тесс не депрессия, а послеродовой психоз.
Я кивнула. Дома я старательно проштудировала материал и знала, что термин «пуэрперальный» всего-навсего обозначает первые шесть недель после родов.
— Утвердившись в диагнозе, — продолжал доктор, — я заключил, что телефонные звонки, по всей вероятности, были проявлением слуховых галлюцинаций. На простом языке это называется «слышать голоса», в случае Тесс — звонки по телефону.
— Вы изменили диагноз уже после ее смерти, не так ли? — напрямик спросила я.
По лицу доктора промелькнула тень, оно моментально напряглось.
— Именно. Давайте я расскажу вам подробнее о послеродовом психозе. Симптомы включают манию преследования, бред и галлюцинации. В результате, как ни прискорбно, многократно возрастает риск суицида.
Я уже знала об этом из самостоятельных исследований.
— Постойте, я хотела бы все-таки уточнить: вы изменили изначальный диагноз «депрессия» на «психоз» уже после смерти Тесс. Только тогда телефонные звонки превратились в «слуховые галлюцинации»?
— Да, так как слуховые галлюцинации — симптом психоза.
— У Тесс не было психоза. Пуэрперального или послеродового — называйте, как хотите. Не было!
Доктор Николс сделал слабую попытку перебить меня, но я продолжила:
— Сколько раз вы видели мою сестру?
— Психиатрия не связана с глубоким знанием конкретного человека, которое возникает в процессе близкой дружбы или родственных связей, а в случаях острых расстройств также не имеет ничего общего с длительностью наблюдения пациента, как это бывает у семейных врачей. Психиатров специально обучают распознавать симптомы, которые демонстрирует душевнобольной.
Я почему-то представила, как доктор репетирует эту речь перед зеркалом.
— Сколько? — повторила я.
— Один раз, — отвел глаза доктор Николс. — Она автоматически попала в число моих пациентов в связи со смертью ребенка, однако почти сразу после родов выписалась из больницы, поэтому я не мог наблюдать ее в стационаре. Вашей сестре назначили амбулаторный прием через два дня.
— Она проходила по бесплатной системе?
— Да.
— Чтобы попасть к вам на бесплатный прием, нужно ждать в очереди четыре месяца. Собственно поэтому я и заплатила за частную консультацию.
— Случай Тесс расценивался как острый. При любом подозрении на послеродовую депрессию и психоз с пациентами разбираются незамедлительно.
— Разбираются?
— Извините. Я имел в виду, что их сразу же перемещают в верх списка очередников.
— Как долго длится бесплатная консультация?
— Я бы охотно уделял больше времени своим пациентам, но…
— Если очередь растянулась на четыре месяца, вам, наверное, приходится торопиться, чтобы принять такую толпу страждущих?
— Я отвожу на каждого пациента столько времени, сколько могу позволить.
— И все же этого недостаточно, правда?
Прежде чем ответить, доктор Николс немного помолчал.
— Да, недостаточно.
— Послеродовой психоз относится к острым расстройствам, верно?
Мне показалось, что доктор Николс вздрогнул — видимо, не ожидал от меня такой осведомленности, однако я хорошо подготовилась.
— Вы правы.
— И требует госпитализации?
Он жестко контролировал «язык тела» — руки вытянуты по бокам, колени в вельветовых брюках чуть разведены, — но я видела его бессознательное желание скрестить руки и ноги и тем самым физически выразить глухую психологическую оборону.
— Многие из моих коллег, как и я, сочли бы симптомы Тесс проявлениями депрессии, а не психоза. — Доктор Николс рассеянно опустил руку и погладил шелковый загривок лабрадора, точно нуждался в поддержке. — В психиатрии постановка диагноза — гораздо более трудная задача, чем в других областях медицины, где на помощь приходит анализ крови или рентген. Не имея доступа к истории болезни вашей сестры, я не знал, какие патологии психики у нее наблюдались в прошлом.
— Никакой истории болезни не было. На какое число вы назначили ей следующий прием?
— На двадцать третье января, в девять ноль-ноль.
Он даже не заглянул в ежедневник или компьютер. Вне всяких сомнений, тоже готовился к этой встрече. Наверняка все утро просидел на телефоне, консультируясь с юристами. Лицо доктора вновь исказилось короткой судорогой — боялся ли он за себя или искренне переживал твою смерть?
— То есть вы видели мою сестру в день ее гибели? — спросила я.
— Да.
— И в то самое утро вы по-прежнему считали, что она страдает депрессией, а не психозом?
Доктор Николс больше не мог скрывать свою оборонительную позицию и, внутренне ощетинившись, закинул ногу за ногу.
— На тот момент я не наблюдал симптомов психоза. Суицидальных наклонностей ваша сестра также не проявляла. Ничто не указывало на то, что она намерена совершить самоубийство.
Конечно же, не указывало, ведь ты его не совершала! Твою жизнь оборвала рука убийцы. Я услышала свой голос словно бы со стороны — странно тихий и спокойный, хотя в душе у меня все кипело.
— Значит, решающим аргументом для смены диагноза послужила смерть Тесс?
Доктор Николс молчал. Его помятое лицо и брюки уже не казались мне трогательно небрежными; теперь в моих глазах он выглядел просто неряшливо.
— Ваша ошибка не в том, что вы поставили диагноз «депрессия», тогда как Тесс страдала психозом.
Доктор хотел что-то вставить, но я продолжала:
— Вы ни на секунду не предположили, что она говорит правду, вот в чем ваша главная ошибка!
И вновь он попытался перебить меня. Доктор Николс и тебя перебивал, да? А я считала, психиатры по большей части слушают. Видимо, за короткий промежуток времени, отведенный для бесплатной пациентки со срочным направлением, доктору некогда слушать, особенно если в коридоре толпа других больных.
— Вам не приходило в голову, что телефонные угрозы и человек, который преследовал мою сестру в парке, а затем убил, — не галлюцинация, а реальность? — спросила я.
— Тесс не убивали.
Твердая уверенность доктора повергла меня в недоумение.
В конце концов, версия с убийством освобождала бы его от ответственности за ошибочный диагноз. Доктор Николс вновь взял паузу, а потом заговорил, выдавливая слова, как будто они причиняли ему боль:
— Как я уже говорил, у Тесс присутствовали слуховые галлюцинации. Если хотите, можете не соглашаться со мной в плане трактовки этого симптома. Помимо этого, однако, ваша сестра страдала зрительными галлюцинациями. Поначалу я интерпретировал их как ночные кошмары — распространенное явление у больных депрессией на фоне потери близкого человека. Позже я перечитал анамнез и убедился, что явно имею дело с галлюцинациями. — Огорчение, мелькнувшее на лице доктора чуть раньше, теперь обозначилось ярче. — Визуальные галлюцинации — четкий признак острого психоза.
— Какие именно галлюцинации видела Тесс?
— Я должен уважать право пациента на конфиденциальность.
Меня удивило, что доктор Николс вдруг упомянул конфиденциальность, о которой прежде не вспоминал. Закралось сомнение: он сделал это умышленно или просто в очередной раз проявил некомпетентность?
— Я просил Тесс изобразить то, что она видела, — продолжил доктор с благожелательным видом. — Надеялся, это облегчит ее состояние. Поищите рисунки, может быть, найдете.
В кабинет вошла ассистентка. Мое время закончилось, но я не собиралась уходить.
— Вы должны пойти в полицию и сказать, что сомневаетесь в правильности диагноза «послеродовой психоз».
— Я не сомневаюсь в правильности диагноза. Симптомы были налицо, хотя я их упустил.
— В смерти Тесс вы не виноваты, однако в том, что ее убийца разгуливает на свободе, может быть и ваша вина. Из-за вашего диагноза никто не ищет преступника!
— Беатрис…
Доктор Николс впервые назвал меня по имени. Звонок прозвенел, уроки закончились — можно позволить себе неформальность в общении. Он встал из-за стола, хотя я продолжала сидеть.
— Простите, вряд ли я смогу вам помочь чем-то еще. Я не намерен менять свое профессиональное мнение только потому, что вы так захотели и ваша версия вписывается в сценарий, который вы же сами и придумали. Я допустил ошибку, серьезную ошибку и должен это признать.
Сквозь слова доктора Николса тонкой струйкой сочилось чувство вины, грозившее перерасти в бурный поток. Казалось, будто он испытывает облегчение, открыв шлюзы.
— Суровая правда заключается в том, что молодая женщина в состоянии острого послеродового психоза вышла из больницы с ошибочным диагнозом, и я должен понести свою часть ответственности за ее смерть.
Какая ирония: оказывается, с порядочностью спорить труднее, нежели с пороком. Высокие моральные устои хоть и причиняют изрядное неудобство, зато им сложно что-либо противопоставить.
* * *
За распахнутым окном кабинета идет дождь, весенний дождь. Прежде чем упасть на бетонные тротуары, он впитывает в себя запах травы и деревьев. Я успеваю ощутить этот аромат и дуновение свежести и только потом вижу капли. Мой рассказ о встрече с доктором Николсом почти закончен.
— У меня сложилось впечатление, что он страшно корит себя за допущенный промах.
— Вы просили его дать показания в полиции? — спрашивает мистер Райт.
— Да, но доктор Николс настаивал, что полностью уверен в диагнозе «послеродовой психоз».
— Даже при том, что ошибка могла негативно отразиться на его профессиональной репутации?
— Да. Меня это тоже удивило. Тем не менее для себя я объясняла его поступок неуместной демонстрацией силы духа; согласиться со мной, что Тесс не страдала психозом, а погибла от рук убийцы, было бы с его стороны трусостью. К концу нашего разговора я считала доктора Николса плохим врачом, но честным человеком.
Мы делаем перерыв на ленч. У мистера Райта назначена с кем-то встреча, и я ухожу обедать в одиночестве. На улице все еще идет дождь.
Я так и не ответила на твое электронное письмо, не сказала, зачем ходила к психотерапевту. Да, я все-таки пошла. Это случилось через полтора месяца после нашей с Тоддом помолвки. Я думала, что, выйдя замуж, перестану ощущать собственную уязвимость, но кольцо на пальце не стало для меня новым жизненным якорем. Я была на приеме у доктора Вонг. Очень умная и чуткая, она помогла мне осознать, что мое чувство одиночества и неуверенности объясняется драматичными событиями, произошедшими с промежутком всего в несколько месяцев, — уходом отца и смертью Лео. Ты оказалась права, эти две раны никак не заживали в моей душе. Однако окончательным ударом стало то, что в тот же год мама отправила меня в частную школу.
Благодаря сеансам психотерапии я увидела в действиях мамы не отчуждение, а желание защитить своего ребенка. Ты была намного младше, и она могла оградить тебя от своего горя, но со мной у нее это вряд ли получилось бы. Как ни парадоксально, мама отослала меня в закрытую школу, веря, что там мне будет спокойнее.
С помощью доктора Вонг я стала лучше понимать не только себя, но и маму. Поспешно сформированное чувство вины уступило место пониманию, добытому с большим трудом.
Правда, моя проблема не исчезла, и восстановить нанесенный мне урон я не могла, даже зная первопричины. Что-то внутри меня сломалось, разбилось, пусть не нарочно — так щеткой для обметания пыли можно случайно смахнуть на кафельный пол фарфоровую статуэтку, — но все же разбилось.
Думаю, теперь тебе понятно, почему я не разделяю твоего скептицизма насчет психотерапевтов. Хотя не могу не согласиться, что эти люди непременно должны обладать как творческим восприятием, так и глубокими познаниями (перед тем как прийти в психиатрию, доктор Вонг специализировалась на сравнительном литературоведении) и что хороший психотерапевт в наши дни — это современная версия человека эпохи Возрождения. Пишу тебе эти строчки и размышляю, не повлияла ли моя признательность к доктору Вонг на мнение, составленное о докторе Николсе, не из-за этого ли я уверовала в его безусловную порядочность?
Я возвращаюсь в уголовный суд раньше мистера Райта. Пять минут спустя в кабинет влетает и он, вид у него озабоченный. Может быть, деловое свидание прошло неудачно. Подозреваю, это связано с тобой. Твое дело гремит на весь мир — заголовки в газетах и новостях, требования парламентариев о публичном расследовании. Для мистера Райта это чудовищная нагрузка, однако он не только мастерски скрывает громадное давление, под которым находится, но и, к его чести, старается уберечь от давления меня. Он включает диктофон, и мы продолжаем.
— Как скоро после разговора с доктором Николсом вы нашли картины?
Уточнять, какие именно картины, нет нужды.
— Сразу же. Я отправилась на квартиру Тесс и стала искать в спальне. Она убрала оттуда всю мебель за исключением кровати. Даже платяной шкаф выставила в гостиную, где он смотрелся нелепо.
Не знаю, почему я сказала об этом мистеру Райту. Может, решила, если уж тебе придется быть жертвой, пусть знает, что ты жертва со своими причудами и кое-какие из них отнюдь не вызывали восторга у твоей старшей сестры.
— Вдоль стен были расставлены картины, штук сорок — пятьдесят, — продолжаю я, — в основном написанные маслом, плюс несколько коллажей и работ на картоне. Все крупного размера, не меньше тридцати сантиметров в ширину. Чтобы просмотреть их, мне потребовалось время. Я действовала аккуратно, чтобы ничего не повредить.
Твои картины потрясающе красивы. Я когда-нибудь говорила тебе об этом или боялась, что ты не заработаешь ими на жизнь? Мы с тобой знаем ответ. Да, я страшно переживала, что никто не станет покупать огромные полотна, не подходящие по цветовой гамме к интерьеру. Опасалась, что толстый слой краски отвалится и испачкает чей-нибудь ковер, тогда как следовало бы восхищаться объемным цветом, который ты создала.
— Мне понадобилось около получаса, чтобы отыскать те самые картины.
Мистер Райт не видел твоих полотен, только четыре последние «галлюцинации». А меня, думаю, более всего поразил контраст.
— Все остальные работы Тесс были… — Какого черта я не решаюсь произнести вслух правду? — Позитивными. Радостными. Прекрасными. Взрывы жизни, света и цвета на холсте.
Однако для этих четырех картин ты использовала палитру нигилистов, оттенки с 4625-го по 4715-й, черные и коричневые. Сюжеты, изображенные при помощи этих цветов, заставляют зрителя отшатнуться. Мне ничего не нужно объяснять мистеру Райту, фотографии приложены к делу. Моих сил хватает лишь на то, чтобы мельком взглянуть на них. Уменьшенные и даже перевернутые вверх ногами, они все равно производят гнетущее впечатление, и я поспешно отвожу глаза.
— Картины стояли в самом дальнем углу, краска на передней испачкала задник второй. Видимо, Тесс убрала их так быстро, что они не успели высохнуть.
Ты хотела спрятать лицо той женщины, ее зияющий рот, разверстый в крике? Она не давала тебе спать? А может быть, ты пыталась избавиться от мужчины в маске, зловеще притаившегося в тени и напугавшего тебя так же сильно, как меня?
— Тодд сказал, что это лишние доказательства психоза.
— Тодд?
— Мой жених. Бывший.
Миссис Влюбленная Секретарша приносит мистеру Райту сандвич. Она позаботилась о своем боссе, ведь, разумеется, встреча в обеденный перерыв не предполагала никакой еды. Подавая мне минеральную воду, миссис Влюбленная Секретарша даже не глядит в мою сторону. Мистер Райт улыбается ей своей широкой, обаятельной улыбкой:
— Спасибо, Стефани.
Улыбка почему-то расплывается, перед глазами все меркнет. До меня доносится его встревоженный голос:
— С вами все в порядке?
— Да.
Однако меня окружает тьма. Я слышу, но не вижу. То же самое произошло вчера, за ленчем с мамой, и я подумала, что все дело в вине, но сегодня грешить не на что. Надо сохранять спокойствие, и тогда мгла рассеется. Поэтому я вспоминаю дальше. Твои мрачные полотна вновь выступают передо мной из темноты.
Когда пришел Тодд, я рыдала. Мои слезы капали на картины и превращались в черные и грязно-коричневые кляксы. Тодд обнял меня за плечи.
— Дорогая, это рисовала не Тесс.
На мгновение мной овладела надежда: их поставил сюда кто-то еще, другой человек испытывал весь этот ужас.
— Она была не в себе, — продолжал Тодд. — Это не та сестра, которую ты знала. Ею двигало безумие, отнимающее индивидуальность.
Меня разозлило, что он возомнил себя экспертом по душевным расстройствам, что три-четыре сеанса психотерапии, посещенные в тринадцатилетнем возрасте после развода родителей, якобы сделали из него знатока.
Я снова обратила взгляд на картины. Зачем ты нарисовала их, Тесс? В качестве послания? Тогда почему спрятала? Тодд не догадывался, что мое молчание скрывает под собой горячий внутренний монолог.
— Кто-то должен сказать тебе правду, дорогая.
Тодд внезапно превратился в законченного болвана, как будто в корне ошибаться означало проявлять маскулинность, как будто трагедия твоей смерти могла послужить темой семинара по моделям истинно мужского поведения. На этот раз он уловил мой гнев.
— Прости, наверное, «безумие» — слишком грубое слово.
В тот момент я безмолвно и яростно с ним не согласилась. «Психоз» звучало для меня гораздо хуже, чем «безумие». Нельзя быть «психотичным», как Шляпник или Мартовский заяц. Больных психозом не рисуют в книжках, предназначенных для легкого чтения. Разве король Лир страдал психозом, когда в буйстве бреда открывал суровые истины? Я считала, что безумие — это сильное чувство, близкое к мукам и страданиям, обладающее богатой литературной историей и вызывающее уважение, тогда как психоз — нечто позорное, стыдное и жуткое.
Теперь, однако, я не рассматриваю родословную безумия в литературе, я его страшусь и понимаю, что прежде оценивала это чувство с точки зрения стороннего наблюдателя. «Не дайте мне сойти с ума, о боги!»[6], ведь утрата рассудка, личности — как это ни назови — порождает безнадежный, кромешный ужас.
Я придумала какую-то отговорку, чтобы покинуть твою квартиру. Тодд заметно расстроился. Наверное, рассчитывал, что картины положат конец моему «нежеланию смотреть правде в глаза». Эта фраза долетала до меня во время приглушенных телефонных разговоров, которые Тодд вел с нашими общими друзьями в Нью-Йорке и даже с моим начальником. Думая, что я его не слышу, Тодд тайком делился с ними своим беспокойством. По его мнению, твои картины должны были заставить меня смириться с реальностью, которая четырежды предстала передо мной в виде кричащей женщины и монстра-преследователя. Пугающие, отвратительные, психопатические картины — какие еще доказательства мне нужны? Разумеется, теперь мне следовало принять факт твоего самоубийства и жить дальше. Оставить прошлое позади. Строить будущее. Тодд свято верил, что избитые, штампованные выражения способны воплотиться в действительность.
Снаружи было темно и стыло. Начало февраля — не лучшее время для ссор. Я опять сунула руку в карман пальто в поисках несуществующей перчатки. Будь я лабораторной крысой, из меня получился бы весьма скверный образец для экспериментов по закреплению рефлексов. Что хуже — поскользнуться на ступеньках или взяться за мерзлые чугунные перила голой рукой? Я предпочла второе и стиснула зубы, почувствовав обжигающий холод металла.
В глубине души я понимала, что не имею права злиться на Тодда, так как в противном случае пожелала бы опять увидеть в нем того человека, которого, как мне казалось, я знаю, — уравновешенного, спокойного, который уважает власть и закон и старается никому не причинять лишних хлопот. Хотя, думаю, ты рада, что, в противоположность ему, я спорила с полицейскими, ругалась с взрослыми мужчинами и плевать хотела на закон. Все это благодаря тебе.
Бредя по улицам, скользким от застывшей каши из воды и грязи, я осознала, что Тодд, в сущности, совсем меня не знает. Впрочем, как и я его. Наше общение всегда было скудным. Мы никогда не вели долгих бесед за полночь, надеясь обрести в этих интимных ночных разговорах единение душ. Не всматривались друг другу в глаза, ведь если глаза — зеркало души, то заглядывать в них как-то грубо и неприлично. Мы выстроили отношения по типу кольцевой дороги, чтобы объезжать бурные эмоции, сложные чувства и не впускать друг друга в душу.
Решив, что для прогулки погода слишком холодна, я пошла обратно. На верхней ступеньке столкнулась с кем-то в темноте, съежилась от страха и только потом узнала Эмиаса. Полагаю, он тоже не ожидал меня встретить.
— Эмиас?
— Простите, я, верно, вас напугал. Вот, так лучше.
Он посветил фонариком мне под ноги. Под мышкой я заметила у него мешок с грунтом.
— Спасибо.
До меня вдруг дошло, что я живу в его квартире.
— Извините, наверное, я должна заплатить вам за то время, пока мы тут находимся.
— Ни в коем случае. И вообще Тесс уплатила за месяц вперед.
Видимо, Эмиас догадался, что я ему не поверила.
— Я просил ее расплачиваться картинами, — объяснил он, — так же как Пикассо рассчитывался в ресторанах. Тесс успела написать за февраль и март.
Я считала, что ты проводила время в обществе этого старика, потому что жалела его, как всех сирых и убогих, однако выяснилось, что Эмиас наделен редким обаянием. Ты со мной согласна? В нем чувствуются некий шик и мужественность, без какого бы то ни было снобизма или пренебрежения к женщинам. Глядя на Эмиаса, я почему-то представляю себе черно-белую кинохронику, паровозы, мягкие фетровые шляпы и женщин в платьях с цветочным рисунком.
— Боюсь, это не самое благоприятное для здоровья жилище, — продолжил Эмиас. — Я не раз предлагал вашей сестре сделать ремонт, но она сказала, что у квартиры есть своеобразие.
Я устыдилась своей досады по поводу того, что кухня не напичкана бытовой техникой, ванная в удручающем состоянии, а в оконных рамах полно щелей.
Когда мои глаза привыкли к темноте, я увидела, что старик сажал цветы в горшки перед твоей дверью и руки у него перепачканы землей.
— Она приходила ко мне по четвергам, — сказал он, — иногда на бокал вина, иногда на ужин, хотя наверняка могла заняться массой других, более интересных дел…
— Вы ей нравились.
Произнеся это вслух, я поняла, что не солгала. У тебя всегда было много друзей, настоящих друзей из самых разных поколений. Я представляла, что с возрастом ты станешь заводить все более юных приятелей и в свои восемьдесят с хвостиком будешь оживленно болтать с людьми младше тебя на несколько десятков лет. Я задумалась, но Эмиаса это ничуть не смутило. С присущей ему проницательностью он уловил момент, когда ход моих мыслей подошел к концу, и только потом нарушил тишину:
— В полиции меня не очень-то слушали, пока я не рассказал о телефонном хулиганстве. Вот уж тогда они засуетились и начали разыскивать Тесс.
Старик отвернулся. Я, в свою очередь, тоже попыталась проявить уважительность и сделала паузу, чтобы не прерывать его размышлений.
— Она что-нибудь говорила вам об этом?
— Просто сказала, что кто-то замучил ее гадкими звонками и ей пришлось отключить телефон. Предупредила меня на тот случай, если я захочу ей позвонить. Раньше у нее был мобильник, но она, кажется, его потеряла.
— «Гадкие»? Тесс употребила именно это слово?
— Да. По крайней мере полагаю, что так. Самое противное в старости то, что уже нельзя положиться на свою память. Тесс плакала. Хоть и старалась сдержать слезы, а не смогла. — Голос Эмиаса дрогнул, на короткий миг он умолк, чтобы взять себя в руки. — Я посоветовал ей обратиться в полицию.
— Лечащий психиатр Тесс заявил полицейским, что звонки существовали только в ее воображении.
— Он и ей об этом сказал?
— Бедняжка Тесси…
Так тебя называл только отец, еще до своего ухода из семьи.
— Ужасно, когда тебе не верят, — вздохнул Эмиас.
— Да.
Он посмотрел на меня:
— Я слышал телефонный звонок и сказал об этом в полиции, но не мог поклясться, что звонил именно тот человек. Правда, сразу же после этого Тесс попросила, чтобы ключ от ее квартиры оставался у меня. Мы говорили с ней за два дня до того, как она погибла.
В оранжевом свете уличного фонаря я видела, что лицо старика исказилось болью.
— Надо было заставить ее пойти в полицию.
— Вы не виноваты.
— Благодарю, вы очень добры. Как и ваша сестра.
Я подумала, не рассказать ли в полиции про ключ, но решила, что это ничего не даст. Ответят, что это очередное проявление твоей паранойи.
— Психиатр считает ее ненормальной. Как по-вашему, Тесс могла действительно сойти с ума… после смерти малыша? — спросила я.
— Нет. Она была потрясена и очень напугана, но не безумна.
— Полицейские тоже уверены, что Тесс потеряла рассудок.
— А кто-нибудь из них встречался с ней?
Эмиас продолжал рассадку луковиц в горшки. Его старческие, изуродованные артритом руки с тонкой, как папиросная бумага, кожей, должно быть, ныли от холода. Наверное, так он справлялся с горем: сажал в землю неживые на вид луковицы, которые весной чудесным образом превратятся в цветы. Помню, когда умер Лео, ты и мама целыми днями возились в саду. Я только сейчас поняла связь.
— Этот сорт нарциссов называется «Король Альфред», — сообщил Эмиас. — Любимые цветы Тесс, ярко-желтые. Их полагается высаживать осенью, но поскольку они всходят примерно через шесть недель, нужно сдвигать график, чтобы цветение пришлось на весну.
Даже я знала, что нельзя сажать луковицы в мерзлую землю. При мысли о том, что нарциссам Эмиаса не суждено взойти, я почему-то разозлилась.
Если тебе интересно, признаюсь: поначалу я подозревала старика. Когда же увидела, как он сажает для тебя цветы, подозрения бесследно рассеялись, и мне стало стыдно.
Эмиас улыбнулся:
— Тесс рассказывала, что ученые встроили ген нарцисса в рис и вывели сорт риса, обогащенный витамином А, представляете?
Ты и мне об этом говорила.
— Знаешь, почему нарциссы желтые? Благодаря витамину А. Потрясающе, правда, Би?
— Да, любопытно.
Я пыталась сосредоточиться на эскизах нового корпоративного логотипа, подготовленных моей проектной группой для нефтяной компании. Мне совсем не понравился оттенок № 683, выбранный моими подчиненными, который уже присутствовал в логотипе конкурирующей фирмы. Ты не подозревала, что я размышляю совсем не о нарциссах.
— Тысячи детишек теряли зрение из-за отсутствия в пище витамина А, зато теперь новый сорт риса поможет им лучше видеть.
На секунду я перестала думать о логотипе.
— Представляешь, дети смогут видеть благодаря желтому цвету нарциссов!
Больше всего тебя восхитило, как волшебно все сошлось: цвет спасает зрение. Я улыбнулась Эмиасу, и, наверное, в этот момент мы оба вспомнили одни и те же черты твоего характера: любовь к жизни во всех ее многообразных проявлениях, умение радоваться маленьким ежедневным чудесам.
Ко мне возвращается способность видеть, пелена тьмы тает. Хорошо, что ядовитый свет люминесцентных ламп нельзя выключить, что через огромное окно в кабинет льется весеннее солнце. Мистер Райт встревоженно смотрит на меня.
— Вы очень бледны.
— Нет-нет, все нормально.
— На сегодня придется закончить. У меня назначена встреча.
Может, и так, хотя скорее всего мистер Райт просто беспокоится обо мне. Он знает, что я плохо себя чувствую, — видимо, поэтому заранее предупредил секретаршу, чтобы та своевременно подавала мне минеральную воду, и по этой же причине сегодня заканчивает нашу беседу раньше времени. Мистер Райт — тактичный человек, он понимает, что я не хотела бы говорить о своих проблемах со здоровьем, по крайней мере пока позволяют обстоятельства.
Ты уже догадалась, что я больна, так? И тебя удивляет, почему я не рассказываю об этом. Вчера тебе наверняка показались странными мои слова насчет того, что я могу отключиться от бокала вина, выпитого за ленчем. Я не пыталась обмануть тебя, просто не хотела признаваться самой себе в телесной слабости. Мне нужно продержаться до тех пор, пока я не закончу с дачей показаний. Я обязана справиться.
Ты хочешь знать, отчего я заболела. Я непременно скажу тебе всю правду, после того как мы дойдем до того момента, когда твоя история переплелась с моей. А до тех пор я постараюсь не думать о причине своего нездоровья, потому что мои трусишки-мысли уже бегут прочь, сверкая пятками.
Мой монолог прерывается грохотом музыки. Я подхожу к нашей квартире и через незанавешенное окно вижу Касю, танцующую под «Золотые хиты 70-х». Заметив меня, она бросается к двери. Берет за руку и, даже не позволив снять пальто, тянет танцевать. Кася всегда так делает. «Танцы полезно для фигура». Сегодня, однако, у меня совсем нет сил; извинившись, я сажусь на диван и наблюдаю за ней. Кася продолжает танцевать, ее лицо сияет, лоб покрыт капельками пота. Она радуется, что ребенку нравятся ритмичные движения, и как будто пребывает в блаженном неведении о трудностях, словно не подозревает о трудностях, что вскоре поджидают ее, безработную эмигрантку из Польши, да еще мать-одиночку.
Наверху Эмиас притопывает ногой в такт музыке. Впервые услышав этот звук, я решила, что хозяин просит нас уменьшить громкость проигрывателя, однако выяснилось, что ему, наоборот, это очень и очень по душе. Он говорит, что до появления Каси здесь царила унылая тишина. Мне наконец удается уговорить запыхавшуюся подругу сделать паузу и перекусить вместе со мной.
Кася смотрит телевизор, а я тем временем наливаю в плошку молоко для Запеканки, а потом иду с лейкой на твой задний дворик, оставив дверь приоткрытой, чтобы сюда падал свет. Сгущаются сумерки, холодает; весеннее солнце пока что не прогревает воздух надолго. За оградой я вижу три мусорных бака — вот для чего задний двор твоим соседям. Поливая мертвые растения и голую землю, я, как обычно, задаюсь вопросом: зачем? Твои соседи, выставившие мусорные контейнеры, наверное, думают, что я чокнутая. Да я и сама так думаю. Внезапно, как по мановению руки волшебника, я замечаю среди сухих стеблей крохотные зеленые ростки. Меня охватывает радостное изумление. Я открываю кухонную дверь настежь, чтобы получше осветить тесный дворик. Все до единого погибшие растения выпустили зеленые побеги. Чуть дальше из серой земли кверху тянется пучок темно-красных листьев; это куст пиона, который летом вновь расцветет во всей своей пышной красе.
Наконец-то я начинаю понимать вашу с мамой страсть к огородничанью. Возрождение, рост, развитие — ежегодно повторяющееся чудо. Неудивительно, что политические организации и религиозные течения присваивают себе зеленую символику, олицетворяющую весну и жизнь. Нынешним вечером я тоже использую эти образы в дерзкой надежде на то, что смерть не конечна, что где-то далеко, как в любимых книжках Лео про Нарнию, существует рай, где Белая колдунья мертва, а статуи можно оживить. Сегодня это не кажется столь уж невероятным.
Пятница
Я медленно иду к зданию уголовного суда, хотя знаю, что опаздываю. В твоей истории есть три момента, которые мне особенно трудно пересказывать. С первым — описанием того, как тебя нашли, — я справилась, сегодня предстоит второй. Звучит банально — всего-навсего счет, бумажка, но какие последствия она за собой повлекла! Я тяну время и слышу мамин голос: она подгоняет меня, говорит, что уже без десяти девять. «Поторопись же, Беатрис!» Ты обгоняешь нас на велосипеде, сумка с книгами перекинута через руль, глаза блестят, а пешеходы улыбаются, глядя, как ты проносишься мимо в буквальном смысле с ветерком. «Беатрис, у нас впереди не вагон времени!» Но ты-то знала, что вагон, и наслаждалась каждой его секундой.
Мистер Райт ни словом не упоминает о том, что я задержалась, и передает мне пластиковый стаканчик с кофе, который скорее всего купил в автомате возле лифта. Я признательна ему за заботу. Мне совсем не хочется, чтобы он думал обо мне плохо, и мое нежелание описывать следующую порцию событий отчасти связано как раз с этим.
Мы с Тоддом сидели за пластиковым столом на кухне и разбирали твою корреспонденцию. Это занятие меня как-то странно успокаивало. Я с юности составляла различные списки, так что стопка твоих бумаг представляла для меня несложную задачу. Сперва мы отсортировали красные квитанции с требованием срочной оплаты, затем перешли к прочим счетам. Как и я, Тодд мастерски разбирается в формальностях, и в эти минуты нашей совместной работы я впервые со времени своего прилета в Лондон ощутила его близость. Я вспомнила, почему мы стали парой и как из повседневных мелочей между нами возник мостик. Наши отношения были вполне обыденными, в их основе лежала скорее практичность, нежели страсть, и все же я дорожила каждой ниточкой, что протянулась между нами.
Тодд отправился к Эмиасу поговорить об арендном договоре, хотя я усомнилась, что такой документ вообще когда-нибудь существовал. На мои слова Тодд возразил — и вполне логично, — что мы никогда не узнаем этого, если не спросим домовладельца.
Когда дверь за ним закрылась, я взяла в руки следующую бумагу из стопки. С того дня, как ты умерла, мной еще ни разу не владела такая расслабленность. Я уже подумывала о том, чтобы сварить чашечку кофе и включить радиоприемник. Передо мной мелькнул призрак нормальной жизни, и в этот краткий миг я почти представила себе реальность, в которой нет утрат.
— Я вытащила кредитку, чтобы заплатить за телефон. После того как Тесс потеряла мобильник, я ежемесячно оплачивала ее счета за стационарную связь в качестве подарка ко дню рождения. Она говорила, что я чересчур щедра, однако я делала это не только ради нее, но и для собственного спокойствия.
Я должна была знать, что у тебя в любой момент есть возможность позвонить мне и говорить столько, сколько необходимо, не беспокоясь о деньгах. Я так и сказала, но умолчала о другом: помимо этого, мне нужна была уверенность, что твой номер не окажется отключенным за неуплату, когда я сама соберусь тебе позвонить.
— Этот счет оказался больше, чем в предыдущие месяцы, и я решила просмотреть детализацию. — Я говорю медленнее, с откровенной неохотой. — Тесс звонила мне на мобильный двадцать первого января, в час ночи, то есть в восемь утра по нью-йоркскому времени, когда я обычно нахожусь в метро, в пути на работу. Не знаю, каким образом установилось соединение, пусть и всего на несколько секунд. — Я должна произнести это с первой попытки, не останавливаясь, иначе не смогу начать заново. — В тот день у Тесс родился Ксавье. Видимо, она позвонила мне, когда начались схватки. — Я делаю секундную паузу, не осмеливаясь поднять глаза на мистера Райта, затем продолжаю: — Следующий звонок зафиксирован в девять утра по Гринвичу — соответственно в четыре часа дня.
— Через восемь часов. Как вы думаете, с чем связан такой большой перерыв?
— У Тесс не было мобильного. Уехав из дома в больницу, она уже не могла мне позвонить. Кроме того, я бы все равно не успела прилететь из Нью-Йорка и побыть рядом с ней во время родов. — Я почти перешла на шепот, и мистер Райт подается вперед, чтобы расслышать меня. — Во второй раз Тесс позвонила уже после того, как вернулась домой из больницы. Хотела рассказать о Ксавье. Звонок длился двенадцать минут двадцать секунд.
— Что именно сказала ваша сестра?
Внезапно у меня пересыхает во рту. Вся слюна куда-то делась. Я пригубливаю остывший кофе, но язык все равно не слушается.
— Я с ней не разговаривала.
— Скорее всего ты отлучилась из кабинета, дорогая. Или застряла на совещании, — заключил Тодд. Он вернулся от Эмиаса, так и не поверив, что ты расплачивалась за жилье картинами, и застал меня в слезах.
— Нет, я была на месте!
Я вернулась в свой кабинет с затянувшегося совещания в дизайнерском отделе. Вроде бы Триш сказала, что ты на линии и что босс просил меня зайти. Я попросила ее передать тебе, что перезвоню позже. Кажется, я налепила стикер с напоминанием на компьютер, а затем ушла к начальнику. Наверное, поэтому и забыла тебе позвонить — когда что-то записываешь на бумажку, уже не держишь это в голове. Но я не оправдываюсь. Мне нет прощения.
— Я не ответила на звонок Тесс и забыла перезвонить, — сгорая от стыда, тихо произнесла я.
— Ты же не могла предвидеть, что ребенок родится на три недели раньше срока.
Мне следовало предвидеть все.
— Как раз двадцать первого тебя повысили в должности, — напомнил Тодд. — Естественно, твоя голова была забита другими вопросами. — Он говорил небрежно, почти шутливо. Разом нашел мне оправдание.
— Как я могла забыть?!
— Тесс ведь не сказала, что дело важное. И сообщения не оставила.
Реабилитируя меня, Тодд сваливал ответственность на твои плечи.
— Тесс не стала бы беспокоить по пустякам. И что она, по-твоему, должна была передать через секретаршу? Что ее ребенок умер? — сорвалась я, пытаясь переложить частичку вины на Тодда.
Разумеется, я одна за все в ответе.
— А потом вы уехали в Мэн, так? — спрашивает мистер Райт.
— Да, неожиданно для меня самой и всего на несколько дней. До родов ведь оставалось еще три недели… — Я презираю себя за жалкую попытку сохранить лицо. — Судя по телефонному счету, за день до смерти и утром того страшного дня Тесс звонила мне домой и в офис пятнадцать раз.
Перед глазами у меня стоял перечень твоих звонков, каждый из них — мое предательство по отношению к тебе. Пятнадцать обвинений, вечных обвинений в моем преступлении.
— Звонки длились по нескольку секунд.
До переключения на автоответчик. Мне следовало оставить сообщение о своем отъезде, но я этого не сделала, и не потому, что мы уезжали в спешке, а просто на всякий случай. «Давай не афишировать, что нас нет». Не помню, кто это сказал, я или Тодд.
Ты, наверное, думала, что я скоро вернусь и поэтому не хотела разговаривать с автоответчиком. Или не могла заставить себя произнести ужасные слова, не услышав сперва мой голос.
— Бог знает, сколько раз Тесс набирала номер моего мобильного. Я отключила его, потому что в том месте, где мы находились, связь все равно не работала.
— Тем не менее вы пробовали до нее дозвониться?
Полагаю, мистер Райт задает свой вопрос просто из жалости.
— Да. Но только когда мы выходили в ресторан, так как стационарный телефон в коттедже отсутствовал, а мобильный не брал. Я несколько раз звонила ей на домашний, но линия была постоянно занята. Я решила, что она болтает с друзьями или отключила его, чтобы не отвлекаться от работы над картиной.
Мне нет оправданий. Я должна была ответить на твой звонок. Или немедленно перезвонить тебе и упорно набирать твой номер до тех пор, пока не дозвонюсь. А уж если не получилось, следовало попросить кого-нибудь сходить к тебе, узнать, как ты, и первым же рейсом лететь в Лондон.
Во рту у меня опять вдруг пересыхает.
Мистер Райт встает из-за стола:
— Минуточку, я принесу вам воды.
Он выходит, а я начинаю вышагивать по кабинету взад-вперед, словно хочу отделаться от собственной вины. Однако ее уродливая тень, мое собственное порождение, неотступно следует за мной.
До этого я с уверенностью полагала себя серьезной особой, чуткой и внимательной к другим людям. Я добросовестно помнила все дни рождения (ежегодно перенося даты из записной книжки в календарь), в ответ на поздравления всегда сразу же отправляла открытки со словами благодарности (в моем столе хранится целая пачка таких открыток с готовым текстом). Однако счет за телефон убедительно доказывал мою несостоятельность. Заботливая в мелочах, я проявляла жестокий эгоизм и чудовищную нерадивость там, где дело касалось действительно важных жизненных вопросов.
Я слышу твой вопрос, требующий ответа: почему, узнав от детектива Финборо о рождении ребенка, я не сообразила, что ты не смогла связаться со мной? Почему меня волновало только твое нежелание обратиться ко мне, и я не догадалась, что сама лишила тебя такой возможности? Просто тогда я считала, что ты жива. Я не знала, что тебя убили еще до моего прилета в Лондон. Позже, когда нашли твое тело, я потеряла способность мыслить логически, сопоставлять числа.
Даже не могу представить, что ты обо мне думаешь. (Не могу или не смею?) Я должна была начать это письмо с мольбы простить меня, а затем объясниться перед тобой, чтобы ты поняла причины моего невнимания. Тебя наверняка удивляет, почему я так не поступила, верно? Правда в том, что из-за собственной трусости я бесконечно откладывала этот разговор, понимая, что реальных объяснений не существует.
Я пошла бы на все, сестричка, будь у меня второй шанс, но, увы, мы не в сказке: я не могу проделать обратный путь от второй звезды и, влетев через окно, обнаружить тебя мирно спящей в кровати. Мне не суждено проплыть вверх по течению времени и вернуться домой, где я прощена и на столе ждет ужин. Нового начала не будет. Как и второго шанса.
Ты позвала на помощь, а меня не оказалось рядом. Ты мертва. Если бы я ответила на твой звонок, ты осталась бы жива. Причина — следствие. Прости.
Мистер Райт возвращается со стаканом воды для меня. Я помню, что его жена погибла в автокатастрофе. Возможно, он виноват в ее смерти — сел за руль нетрезвым или на секунду отвлекся. Наверное, черная тень моей вины чувствовала бы себя лучше, если бы обрела компанию, однако я не осмеливаюсь задать вопрос вслух. Вместо этого я молча пью воду, а мистер Райт вновь включает диктофон.
— Вы поняли, что ваша догадка подтвердилась и Тесс все-таки хотела с вами поговорить?
— Да.
— И осознали, что были правы с самого начала?
У моей вины появилась оборотная сторона. Ты на самом деле обратилась ко мне за помощью, мы действительно очень близки, я хорошо знаю тебя и могу быть абсолютно уверена в том, что ты не совершала самоубийства. Колебалась ли моя уверенность? Немножко. Когда я думала, что ты намеренно не сказала мне о Ксавье, не позвала меня в минуту страха и отчаяния. Размышляя об этом, я ставила под сомнение нашу близость, ломала голову, знаю ли тебя по-настоящему. В глубине души, тайком, задавалась вопросом: действительно ли ты слишком сильно любила жизнь, чтобы расстаться с ней? Список твоих телефонных звонков дает однозначный, хоть и приобретенный страшной ценой ответ: да.
* * *
На следующий день я проснулась, когда еще было темно. Отказавшись от трусливой мысли принять снотворное (и на время избавиться не только от горя, но и от гнетущего чувства вины), я осторожно, чтобы не разбудить Тодда, вылезла из постели, оделась и пошла на улицу в надежде хоть ненадолго развеяться.
Открыв дверь, я увидела Эмиаса. Старик, вооружившись фонариком, накрывал твои цветочные горшки бумажными пакетами. Он заметил мой освещенный силуэт в дверном проеме.
— Часть из них ночью подмерзла, — сообщил он. — Нужно успеть отогреть ростки, пока не поздно.
Я вспомнила, как совсем недавно Эмиас сажал луковицы нарциссов в промерзшую землю. С самого начала у них не было шансов. Не желая расстраивать старика и одновременно не собираясь вести пустые разговоры об эффективности бумажных «теплиц», я сменила тему:
— В этот час здесь очень тихо, не правда ли?
— Вот погодите, весной услышите такие концерты!
На моем лице отразилось недоумение, и Эмиас объяснил:
— Рассветный хор. Уж не знаю почему, но птицы особенно полюбили эту улицу. Видимо, у них есть на то свои причины.
— Никогда не понимала, зачем птицам петь по утрам, — пожала плечами я. Поддерживала разговор из вежливости или пыталась убежать от своих мыслей?
— Песни помогают птицам обозначить границы территорий и привлечь пару, — ответил Эмиас. — Жаль, что люди не используют музыкальный подход, верно?
— Согласна.
— А вы знаете, что утренний концерт проходит в строгой последовательности? — улыбнулся старик. — Сперва черные дрозды, потом малиновки, крапивники, за ними зяблики, славки и певчие дрозды. Когда-то я даже слыхал соловья.
Как только Эмиас заговорил про рассветный птичий хор, я поняла, что найду твоего убийцу.
— Вам известно, что в репертуаре соловья имеется до трехсот любовных песен?
Я определила свою главную цель; кружить обходными путями раскаяния не было времени.
— Один композитор записал песню жаворонка, воспроизвел ее в замедленном темпе и обнаружил близкое сходство с Пятой симфонией Бетховена.
Это мой долг перед тобой. Сейчас даже больше, чем прежде, ты заслуживаешь того, чтобы справедливость была восстановлена.
Эмиас продолжал рассказывать о волшебстве утренних птичьих трелей. Чувствовал ли он, как успокаивает меня его речь? Думаю, да. Он позволял мне размышлять, но не в одиночестве; его слова мягким фоном скрадывали мои безрадостные эмоции. Я прислушалась: не поет ли птица? Тишина. В темноте и безмолвии трудно было представить яркий весенний рассвет, наполненный пением птиц.
Ровно в девять утра я сняла трубку и набрала номер участка.
— Будьте добры, соедините с сержантом Финборо. Это Беатрис Хемминг.
Разбуженный Тодд посмотрел на меня со смесью удивления и недовольства:
— Что ты делаешь, дорогая?
— Мне полагается копия протокола о вскрытии. Констебль Вернон снабдила меня кучей бумажек, среди прочего там было написано и про это.
Я вела себя слишком пассивно, слишком верила той информации, которую мне преподносили.
— Дорогая, ты только напрасно потратишь чужое время.
Тодд не сказал «это напрасная трата времени», а подчеркнул, что я напрасно трачу время чужих людей — тех, кого он даже не знает! Как и я, Тодд всегда старается не доставлять никому лишних хлопот. Я тоже раньше старалась.
— За день до смерти Тесс звонила мне домой и на работу ежечасно и Бог знает сколько раз набирала номер моего мобильного. Тогда же она оставила Эмиасу запасной ключ, объяснив, что опасается держать его под цветочным горшком.
— Может, твоя сестра наконец задумалась об элементарной безопасности.
— Нет. По словам Эмиаса, Тесс принесла ему ключ после одного из тех звонков. В день убийства она звонила мне в десять утра — должно быть, по возвращении от психиатра — и затем продолжала звонить до половины второго, то есть до того времени, когда отправилась на почту и на встречу с Саймоном в Гайд-парк.
— Дорогая…
— Она рассказывала психиатру о своих страхах. Кроме того, если верить Саймону, Тесс тряслась от ужаса. Она говорила, что нуждается в круглосуточной защите и что какой-то человек пришел в парк следом за ней.
— Допустим, Тесс все это говорила, но ведь она страдала от послеродового…
Сержант Финборо снял трубку. Я сообщила ему о твоих многочисленных звонках.
— Понимаю, это очень тяжело — чувствовать на себе ответственность…
Сочувствие в голосе детектива меня удивило. Не знаю отчего, ведь он всегда относился ко мне по-доброму.
— Конечно, вряд ли мои слова вас утешат, — продолжил сержант Финборо, — однако, по заключению психиатра, Тесс, вероятнее всего, осуществила бы свое намерение, даже если бы вы поговорили с ней по телефону.
— Осуществила свое намерение?
— Думаю, звонки Тесс были, так сказать, криками о помощи. И все же это отнюдь не означает, что кто-то действительно смог бы ее спасти, даже самые близкие родственники.
— Она нуждалась в помощи, потому что ей угрожали.
— Безусловно, ваша сестра так считала. Однако в свете прочих обстоятельств новость о звонках не меняет нашего убеждения в том, что Тесс совершила самоубийство.
— Я бы хотела получить копию протокола вскрытия.
— Зачем вам лишний стресс? Я изложил вам основные выводы и…
— У меня есть право ознакомиться с протоколом.
— Разумеется. Меня беспокоит лишь, что вы опять расстроитесь.
— Мне самой решать.
Я видела, как твое тело в пластиковом мешке выносили из вонючего туалета. После этого зрелища понятие «расстройство» стало для меня весьма относительным. Сержант Финборо неохотно пообещал, что попросит сотрудников следственного отдела выслать мне копию протокола.
Я положила трубку и наткнулась на взгляд Тодда.
— Чего именно ты этим хочешь добиться?
В словах «именно» и «этим» я четко расслышала всю убогость наших отношений. Нас связывали искусственные ниточки мелкого и обыденного, но сокрушающий факт твоей смерти раз и навсегда разорвал их. Я сказала, что должна съездить в больницу Св. Анны, и ушла, радуясь предлогу, избавлявшему меня от необходимости оставаться рядом с Тоддом и начинать разговор, к которому я пока не была готова.
Мистер Райт склоняется над толстой папкой с документами — одной из многих, помеченных неизвестным мне шифром. Зато в отличие от остальных на ней крупным корявым почерком написано «Беатрис Хемминг».
За этой накорябанной подписью ощущается что-то человечное; глядя на нее, я думаю обо всех людях, стоящих за механизмом правосудия. Кто-то написал мое имя на папках — может быть, та же самая секретарша, что печатает на машинке, жужжащей где-то за стенкой, точно гигантский комар.
— Какое мнение у вас сложилось о сержанте Финборо после этого разговора? — спрашивает мистер Райт.
— Он показался мне умным и добрым. К моему глубокому огорчению, я понимала, почему он интерпретировал звонки Тесс как «крики о помощи».
— Вы упомянули, что направились в больницу Святой Анны?
— Да, за разрешением похоронить малыша вместе с Тесс.
Я была обязана не только восстановить справедливость, но и организовать тебе достойные похороны.
Я позвонила в больницу в половине седьмого утра. Несмотря на ранний час, на мой звонок ответили. Дежурная женщина-врач, снявшая трубку, поговорила со мной очень доброжелательно и предложила приехать чуть позже, в рабочие часы.
По дороге в больницу я подключила гарнитуру для разговоров за рулем и позвонила отцу Питеру, приходскому священнику и новому маминому духовнику, которого она попросила провести похоронную службу. В памяти смутно всплывали первые уроки закона Божьего и осуждение самоубийц как великих грешников («Самоубийцам в рай вход воспрещен!»). С самого начала разговора я встала в защитную стойку:
— Все считают, что Тесс покончила жизнь самоубийством, хотя лично я в это не верю. Но даже если и так, не надо ее судить! — Не давая отцу Питеру шанса возразить, я решительно продолжила: — Ребенок должен лежать в могиле вместе с ней. Я не допущу дурных слухов о моей сестре.
— Поверьте, мы давно не хороним людей на перекрестках и не забиваем им в сердце осиновый кол, — спокойно отозвался отец Питер. — Безусловно, младенца следует похоронить с матерью.
Несмотря на мягкий голос священника, моя подозрительность не уходила.
— Мама сказала вам, что Тесс не была замужем?
— Как и Дева Мария.
Ответ священника поверг меня в изумление. Он серьезно?
— Верно. Только ведь Мария была… девственницей и Богоматерью.
Отец Питер рассмеялся. После твоей смерти я впервые показалась кому-то забавной.
— Моя работа заключается не в том, чтобы осуждать людей налево и направо. Священники призваны учить любви и прощению — для меня это и есть суть христианства. А способность видеть любовь и всепрощение в себе и окружающих — это цель, к которой нужно ежедневно стремиться.
До твоей гибели я бы сочла проповедь отца Питера пошлой. Глобальные истины — тема щекотливая, лучше ее избегать. Однако теперь, когда тебя нет в живых, я предпочитаю максимально прямую манеру общения. Давайте говорить по существу. Давайте открыто выражать свои чувства и убеждения, не прикрываясь любезной светской болтовней.
— Хотите произнести речь во время службы? — спросил отец Питер.
— Нет, предоставлю эту возможность маме. Я знаю, она хотела бы сказать несколько слов.
Она вправду об этом говорила? Или я выдавала желаемое за действительное?
— Что-нибудь еще? — уточнил священник.
— Если честно, я вообще против того, чтобы хоронить Тесс в земле. У нее всегда был свободный дух. Конечно, это избитая фраза, но по-другому объяснить не могу. Я не имею в виду, что для Тесс не существовало рамок, и все-таки мне представляется, что сейчас она парит высоко в небе. Ее стихия — воздух, а не земля. Мне претит мысль о том, что Тесс закопают…
Я еще ни с кем не разговаривала о тебе вот так откровенно. Слова поднимались откуда-то из глубины, совсем не из тех тонких поверхностных слоев, где они обычно формируются и откуда попадают в речь. Наверное, это главное занятие священников — пробиваться в тайники души, где обитает — если она вообще есть — вера. Отец Питер молчал, однако я знала, что он внимательно слушает. Проезжая мимо магазина бытовой техники, я продолжила наш несуразный разговор:
— Я только сейчас осознала, в чем смысл погребальных костров. С одной стороны, сжигать близкого человека страшно, но когда смотришь, как дым поднимается к небесам, захватывает дух. Я искренне надеюсь, что Тесс на небе. Где-то там, где много цвета, света и воздуха.
— Понимаю. Боюсь, погребальный костер мы организовать не сможем. Послушайте, а как вы и миссис Хемминг относитесь к кремации?
Мне понравился непринужденный тон отца Питера. Смерть и похороны были частью его повседневной работы — и весьма серьезной частью, однако он не допускал, чтобы эти темы влияли на общий ход разговора.
— Я думала, у католиков кремация не разрешена. Мама говорила, церковь считает это язычеством.
— Раньше считала, теперь уже нет. Главное — верить в телесное воскресение.
— Я верю.
Я хотела, чтобы мои слова прозвучали непринужденно, однако вместо легкости в них слышалось отчаяние.
— Поговорите с матерью еще раз, а потом позвоните мне, если остановитесь на кремации и даже если просто захотите обсудить этот вопрос.
— Хорошо, спасибо.
Припарковав взятую напрокат машину на подземной стоянке у больницы, я вдруг подумала: а что, если отвезти твой прах в Шотландию? Взобраться на гору, поросшую розовато-лиловым вереском и желтым дроком, под серые небеса, к низким облакам, и развеять его на чистом холодном ветру. К сожалению, я знала, что мама ни за что не позволит тебя кремировать.
Мне уже приходилось бывать в больнице Св. Анны, но сейчас я с трудом узнавала отремонтированное здание со сверкающим вестибюлем, современной отделкой, художественными инсталляциями и кофе-баром. В отличие от прочих больниц эта казалась частью внешнего мира. Через широкие стеклянные двери я видела людей на улице, просторный вестибюль был залит солнечным светом. Пахло обжаренными кофейными зернами и новенькими куклами, которых только что вытащили из коробки в праздник Рождества… Может, блестящие стулья в вестибюле сделаны из того же пластика?
Следуя указателям, я вышла из лифта на четвертом этаже и оказалась в родильном отделении. Блеск модной переделки сюда не проникал, аромат кофе и новеньких кукол улетучился, напрочь перебитый обычными госпитальными запахами антисептиков и страха (или их чувствовали — из-за Лео — только мы?). Окон не было, только люминесцентные лампы, льющие безжалостный свет на пол, покрытый линолеумом. Никаких настенных часов, и даже наручные часы медсестер лежали на столах циферблатом вниз. Я вновь очутилась в больничном мире, вне времени и вне погоды, где боль, страдания и смерть — пиковые отклонения линии жизни — по-кафкиански превращались в обыденность. Я выполнила требование таблички, предписывающей вымыть руки с дезинфицирующим гелем, и больничный запах прилип к моей коже, заставив потускнеть бриллиант в кольце. Я нажала на кнопку звонка перед запертым коридором. Дверь открыла женщина лет сорока с небольшим, серьезная и усталая. Ее рыжие вьющиеся волосы были заколоты большим канцелярским зажимом.
— Меня зовут Беатрис Хемминг. Я звонила.
— Да, проходите. Я — Крессида, старшая акушерка. Доктор Сондерс ожидает вас.
Она проводила меня в послеродовое отделение. Из палат по обе стороны коридора доносился детский плач. Раньше я не слышала, как плачут новорожденные. Один из них, как мне показалось, кричал особенно сердито и обиженно, будто его или ее бросили навсегда. Старшая акушерка привела меня в комнату для посетителей и профессионально-сочувственным тоном произнесла:
— Сожалею по поводу смерти вашего племянника.
Поначалу я не поняла, о ком она говорит, так как попросту не задумывалась о родственной связи между мной и Ксавье.
— Я всегда называла его малышом Тесс, а не племянником…
— Когда состоятся похороны?
— В следующий четверг. Сестру тоже хоронят.
Из голоса старшей акушерки исчезло профессиональное участие, теперь в нем звучало искреннее потрясение.
— Ох, простите, я не знала. Мне сообщили только о мальчике. Мои соболезнования.
Я испытала признательность к любезной докторше, с которой разговаривала утром, за то, что она не превратила твою смерть в расхожую сплетню. С другой стороны, в больнице смерть — тема скорее деловая.
— Я хочу, чтобы ребенка похоронили вместе с ней.
— Да, разумеется.
— Кроме того, мне нужно поговорить с теми, кто находился с Тесс во время родов. Я должна была быть рядом, но… даже не ответила на ее звонок.
Я расплакалась, однако здесь слезы воспринимались как совершенно нормальное явление; даже эту комнату со съемными чехлами на диванах, видимо, оборудовали с расчетом на рыдающих родственников. Старшая акушерка положила руку мне на плечо:
— Я узнаю, кто дежурил в тот день, и попрошу поговорить с вами. Позвольте вас ненадолго оставить.
Она вышла в коридор. Через раскрытую дверь я увидела женщину, которая лежала на каталке и прижимала к груди новорожденного ребенка. Рядом стоял врач, обнимавший за плечи мужчину.
— Обычно у нас плачут дети, а не отцы.
Мужчина расплылся в улыбке, доктор тоже улыбнулся в ответ.
— Еще сегодня утром вы были парой, а сейчас — уже целая семья. Поразительно, не так ли?
Крессида покачала головой:
— Вряд ли этот факт должен удивлять вас как акушера-гинеколога, доктор Сондерс.
Доктор отвез каталку с матерью и младенцем в соседнюю палату, я проводила их взглядом. Даже на расстоянии я рассмотрела правильные черты его лица и глаза, излучающие добрый свет. Все это вместе придавало ему скорее мягкую, нежели хищную красоту. Вскоре он со старшей акушеркой вошел в комнату для посетителей.
— Доктор Сондерс, это Беатрис Хемминг, — представила меня Крессида.
Врач улыбнулся совершенно естественной, обаятельной улыбкой и напомнил мне тебя: ты тоже относилась к собственной красоте небрежно, словно бы не замечала ее.
— Ах да, моя коллега, с которой вы сегодня разговаривали, предупредила о вашем приходе. Наш больничный священник уладил все формальности с похоронным бюро. Во второй половине дня они заберут тело ребенка.
Несмотря на окружающую суету, доктор Сондерс говорил неспешно, размеренно, как будто привык полагаться на то, что его услышат.
— Священник перенес тело в комнату прощания, — продолжал он. — Мы решили, что морг — неподходящее место для малыша. Сожалею, что ему пришлось пролежать там все это время.
Мне следовало подумать об этом раньше. О нем. Нельзя было оставлять Ксавье в морге.
— Проводить вас туда? — предложил доктор Сондерс.
— Если я не отнимаю вашего времени…
— Нет-нет, нисколько.
Доктор повел меня к лифту. Я услышала женский крик. Он доносился сверху — очевидно, из родовой палаты. Как и плач младенцев, крик роженицы, пронизанный дикой болью, был совершенно особенным, ни на что не похожим. В лифте помимо нас находились медсестры и другой врач, однако они никак не реагировали на душераздирающие звуки — судя по всему, привыкли к ним, изо дня в день работая в этом кафкианском больничном мире.
Двери лифта закрылись. Я оказалась прижатой к доктору Сондерсу. У него на шее из-под медицинской формы выглядывала тонкая золотая цепочка, на которой висел узенький ободок обручального кольца. На втором этаже все вышли, в кабине лифта мы остались одни. Доктор Сондерс посмотрел мне в глаза:
— Искренне сожалею по поводу вашей сестры.
— Вы знали ее?
— Возможно, да. Не могу сказать точно. Наверное, звучит черство, но…
— …у вас сотни пациентов? — подсказала я.
— Да. За год в нашей больнице рождается более пяти тысяч младенцев. Когда родился малыш Тесс?
— Двадцать первого января.
Доктор Сондерс на несколько секунд умолк, потом произнес:
— В таком случае меня здесь не было. Я уезжал на всю неделю в Манчестер, на курсы. Простите.
Правда это или ложь? Может, надо было потребовать от него алиби на день родов и твоего убийства? Я мысленно задавала тебе вопрос, но ты не отвечала, совсем. Вместо этого я слышала голос Тодда, убеждающий меня не вести себя глупо. В его доводах был резон. Обвинять всех мужчин в Лондоне, пока каждый из них не докажет свою непричастность? И кто вообще сказал, что тебя убил мужчина? Не подозревать ли и женщин — участливую акушерку, любезную докторшу, с которой я разговаривала утром? А в полиции считали сумасшедшей тебя. Однако доктора и медсестры на самом деле властны над жизнью и смертью, и некоторые из них пьянеют от этой власти. Хотя постой: зачем врачу-профессионалу, жаждущему удовлетворить прихоть нездорового рассудка, выбирать полуразрушенный общественный туалет, когда в его распоряжении целая больница, полная пациентов? В этот момент доктор Сондерс прервал мои размышления — его обезоруживающая улыбка заставила меня смутиться и слегка покраснеть.
— Выходим.
По-прежнему не слыша твоего голоса, я твердо сказала себе, что красота еще не делает из мужчины убийцу и причина моей неприязни в другом: такой красавец, даже будь он холостяком, и не посмотрел бы в мою сторону, отверг бы меня, сам того не сознавая. Если честно, только поэтому я и отнеслась к доктору Сондерсу с подозрением. Я лишь простерла свою обычную настороженность на другой, более глубокий уровень.
Когда мы пришли в больничный морг, я все еще думала не о Ксавье, а о том, как отыскать твоего убийцу.
Доктор Сондерс привел меня в комнату, предназначенную для прощания с усопшими. У дверей он спросил, нужно ли его присутствие. Я не задумываясь ответила отказом.
Я вошла. Обстановка комнаты была хорошо продумана и выполнена со вкусом, напоминая гостиную: на окнах — шторы с набивным рисунком, на полу — толстый ковер и вазы с цветами (искусственными, но дорогими, из шелка). Я пытаюсь убедить тебя в том, что комната показалась мне милой, но нет, не стану обманывать. Эта гостиная для мертвых гостей была ужасна. На одном участке ковра ворс почти вытерся — возле самой двери, там, где неподвижно стояла я и точно так же застывали почти все приходившие сюда люди. Войдя сюда, они сгибались под тяжестью горя и не желали подходить к любимому, близкому человеку, так как знали: приблизившись, они окончательно осознают, что его, любимого и близкого, здесь уже нет.
Я подошла к нему. Взяла на руки и завернула в голубое кашемировое одеяльце, которое ты для него купила. Прижала к груди.
У меня нет слов.
Мистер Райт выслушал мой рассказ о Ксавье с участливым вниманием, не перебивая и терпеливо дожидаясь окончания пауз. Должно быть, это он дал мне бумажный платочек, который я сейчас держу в руке, уже насквозь мокрый.
— И после этого вы отказались от намерения кремировать Тесс? — спрашивает он.
— Да.
Во вчерашней газете какой-то журналист предположил, что мы «не разрешили кремировать тело, чтобы не уничтожить улики». Однако причина в другом.
Я провела с Ксавье около трех часов. Держа его на руках, я поняла, что холодный горный воздух не подходит для малыша и, следовательно, для тебя как для его матери — тоже. Когда я наконец вышла из комнаты для прощаний, то сразу же позвонила отцу Питеру.
— Можно похоронить его на груди у Тесс? — спросила я, ожидая услышать, что это невозможно.
— Конечно, можно. Там ему будет лучше всего, — ответил отец Питер.
Мистер Райт не любопытствует, почему я предпочла обычные похороны кремации, и я благодарна ему за это. Я продолжаю свой рассказ, стараясь не поддаваться эмоциям, но мне мешает ком в горле.
— Затем я вернулась на пост старшей акушерки, рассчитывая поговорить с врачом, который принимал роды, но выяснилось, что она не нашла медицинскую карту Тесс и потому не могла назвать конкретную фамилию. Акушерка предложила мне прийти во вторник, сказав, что к этому времени обязательно найдет записи.
— Беатрис?
Я вскакиваю из-за стола.
Едва успеваю добежать до туалета и сгибаюсь в приступе страшной, неконтролируемой рвоты. Меня колотит крупная дрожь. Чья-то молодая секретарша заглядывает в дверь и тут же испуганно ее закрывает. Я лежу на холодном кафельном полу, пытаясь подчинить непослушное тело.
Заходит мистер Райт. Он аккуратно берет меня под мышки и помогает подняться. Он придерживает меня за плечи, а я вдруг понимаю, что мне нравится ощущать заботу и даже не отеческое, а просто сердечное к себе отношение. Странно, что я не догадывалась об этом раньше и отвергала доброту еще до того, как ее успевали выразить.
Руки и ноги наконец перестают трястись.
— Беатрис, вам лучше пойти домой.
— Но мы же еще не закончили…
— Давайте продолжим завтра с утра, если позволит ваше самочувствие, договорились?
— Хорошо.
Мистер Райт намерен вызвать такси или хотя бы проводить меня до метро, но я вежливо отклоняю его предложение. Мне просто нужно на воздух, говорю я, и он не настаивает.
Я хочу побыть наедине со своими мыслями, и все они о Ксавье. Я полюбила его с той самой секунды, когда взяла на руки, — полюбила как маленького человечка, а не только твоего сына.
На улице я запрокидываю голову к бледно-голубому небу, чтобы не дать пролиться слезам. Я вспоминаю твое письмо про Ксавье — в этой истории оно еще не звучало. Я думаю о том, как ты брела из больницы домой под холодным проливным дождем, как смотрела в черную безжалостную вышину. Представляю, как ты кричала: «Верните его мне!» — а ответом была тишина.
Я думаю о том, как ты набирала номер моего телефона.
Суббота
Выходной день, половина девятого утра, улицы практически безлюдны. В здании, где расположены офисы уголовного суда, тоже пусто. Единственная живая душа — администратор за стойкой, по случаю субботы одетая менее строго. В лифте никого. Я поднимаюсь на третий этаж. Миссис Влюбленная Секретарша сегодня не работает, поэтому я сразу прохожу через приемную в кабинет мистера Райта. Он уже приготовил для меня кофе и минералку.
— Уверены, что сможете давать показания? — осторожно интересуется мистер Райт.
— Да, конечно. Сегодня я прекрасно себя чувствую.
Он включает диктофон, пленка начинает тихонько жужжать. Мистер Райт с беспокойством смотрит на меня. Наверное, со вчерашнего дня он видит во мне гораздо более хрупкого человека, чем ему казалось раньше.
— Если не возражаете, начнем с протокола вскрытия. Вы попросили копию.
— Верно. Спустя два дня мне прислали ее по почте.
Перед мистером Райтом лежит еще один экземпляр протокола, отдельные строчки выделены желтым маркером. Я знаю, какие именно, и сейчас приведу их, но сперва процитирую фразу, не отмеченную желтым в тексте, но особо запечатлевшуюся в моей памяти. В самом начале протокола патологоанатом «душой и совестью» клянется говорить правду. Твое тело подверглось не отвлеченному научному анализу; к нему отнеслись по-человечески.
Департамент судебной медицины,
госпиталь «Челси и Вестминстер», Лондон
Я, Розмари Дидкотт, бакалавр медицины, свидетельствую душой и совестью, что тридцатого января две тысячи десятого года в морге госпиталя «Челси и Вестминстер» в присутствии коронера, мистера Пола Льюис-Стивенса, я произвела вскрытие трупа Тесс Хемминг, проживавшей по адресу: Чепстоу-роуд, дом № 35, Лондон, — о чем составлен нижеприведенный протокол. Труп опознан, личные данные предоставлены сержантом уголовной полиции детективом Финборо.
На вскрытие доставлен труп женщины европеоидной расы, белой, худощавого сложения, длина тела — сто семьдесят сантиметров, возраст — двадцать один год. Присутствуют признаки естественных родов, прошедших за двое суток до момента смерти.
На правом колене и локте правой руки обнаружены старые шрамы, относящиеся к детскому периоду.
На запястье и предплечье правой руки обнаружен свежий разрез длиной десять сантиметров и глубиной четыре сантиметра, вызвавший рассечение межкостных мышц и повреждение лучевой артерии. На запястье и предплечье левой руки обнаружен разрез меньшего размера, длиной пять сантиметров и глубиной два сантиметра, а также более крупный разрез длиной шесть сантиметров и глубиной четыре сантиметра, который послужил причиной повреждения локтевой артерии. Исходя из характера повреждений, имею основания утверждать, что раны нанесены разделочным ножом, найденным рядом с трупом.
Иных повреждений, как то открытых или закрытых ран, ссадин или гематом не обнаружено.
Признаки недавних половых контактов отсутствуют.
Взятые образцы крови и тканей направлены для лабораторного анализа.
Смерть молодой женщины наступила предположительно за шесть суток до вскрытия, двадцать третьего января.
По результатам вскрытия я пришла к заключению, что смерть наступила вследствие массивной кровопотери, вызванной повреждениями артерий на запястьях и предплечьях рук.
Я читала этот документ снова и снова, сотню раз, но словосочетание «разделочный нож» остается таким же чудовищным, как при первом прочтении, а марка «Сабатье», которая могла бы чуть-чуть замаскировать этот ужас, не упоминалась.
— Результаты лабораторного анализа прилагались? — уточняет мистер Райт. (Он имеет в виду анализы крови и образцов кожи, сделанные отдельно, уже после вскрытия.)
— Да, в конце протокола. На листе значилась свежая дата, то есть их отправили мне сразу по готовности. Правда, я ничего не поняла. Там все было написано сложным научным языком, так что непрофессионал не сумел бы разобраться. К счастью, у меня есть приятельница-медик.
— Кристина Сеттл?
— Да.
— У меня есть ее свидетельские показания.
До меня доходит, что над твоим делом трудятся десятки людей, которые действуют параллельно.
* * *
Перебравшись в Штаты, я растеряла связи со старыми школьными и университетскими приятелями, однако после твоей смерти на меня обрушился поток писем и звонков с «дружеской поддержкой», как это называла мама. Среди выражавших соболезнования была и Кристина Сеттл, которая работает врачом в больнице Чаринг-Кросс. (Между прочим, она сообщила, что больше половины моих сокурсников — тех, кто имел отличные оценки по биологии и получал стипендию из фонда Наффилда, — ушли в научную работу.) В общем, Кристина прислала теплое письмо, написанное все таким же безупречным наклонным почерком, что и в школе, закончив его обычной для подобных посланий фразой: «Если смогу быть чем-то полезна, обращайся в любое время». Я решила поймать ее на слове и позвонила.
Кристина внимательно выслушала мою необычную просьбу. Сказала, что по должности она всего лишь старший семейный врач, к тому же педиатр, а не патологоанатом, поэтому не сумеет компетентно расшифровать результаты анализов. Я подумала, что ей просто не хочется заниматься моим вопросом, но в конце разговора она попросила переслать ей копию протокола по факсу. Через два дня Кристина предложила встретиться за чашкой кофе — знакомый ее знакомого патологоанатома перевел результаты анализов на доступный язык.
Тодд обрадовался, когда я сказала ему о предстоящей встрече с Кристиной, сочтя мое желание пообщаться со старыми друзьями попыткой вернуть жизнь в нормальное русло.
Я вошла в бистро, выбранное Кристиной, и была ошеломлена бурлившим вокруг оживлением. Со дня твоей смерти я забыла, что такое общественные места, поэтому громкие голоса и смех повергли меня в растерянность. Увидев Кристину, однако, я приободрилась: во-первых, она выглядела точь-в-точь как в школьные годы — те же темные волосы, те же очки в некрасивой толстой оправе; а во-вторых, моя приятельница заказала отдельную кабинку, отгороженную от шумного зала. (Кристина — по-прежнему отличный организатор.)
Я полагала, она тебя не помнит — мы ведь были уже в шестом классе, когда ты только поступила, — но Кристина утверждала обратное.
— Помню как сейчас. Даже в свои одиннадцать Тесс была самой крутой девчонкой в школе.
— Сомневаюсь, что «крутая» — подходящее слово для…
— Нет-нет, «крутая» в хорошем смысле. Я не имела в виду холодная, заносчивая и все такое прочее. В этом-то вся штука. Знаешь, чем мне запомнилась твоя сестра? Она все время улыбалась. Потрясающе красивая девчонка, которая неизменно светилась улыбкой. В жизни не встречала такого замечательного сочетания качеств. — Кристина умолкла, затем, поколебавшись, добавила: — Наверное, тебе тяжело было с ней тягаться…
Я не очень поняла, что двигало Кристиной — любопытство или сочувствие, и решила перейти прямо к сути дела:
— Расскажешь, о чем говорится в протоколе?
Кристина достала из сумки копию протокола и записную книжку. Краем глаза я увидела пакетик детского жаропонижающего порошка и яркую книжку с прочной обложкой. И пусть почерк и очки Кристины остались прежними, в ее жизни явно произошли изменения. Она опустила взгляд в записную книжку.
— Джеймс, знакомый моего знакомого, — старший патологоанатом и очень хороший специалист. Правда, он не хочет, чтобы всплыло его имя, — на врачей этого профиля постоянно заводят судебные дела и травят в прессе, так что ссылаться на него нельзя.
— Разумеется.
— Если не ошибаюсь, Хеммз, ты сдавала экзамены по английскому, химии и биологии, так?
Хеммз — мое старое школьное прозвище, запылившееся от времени. Я даже не сразу сообразила, что оно относится ко мне.
— Так.
— А потом специализировалась на биохимии?
— Нет, у меня степень по английской литературе.
— Тогда не буду загружать тебя терминами. Выражаясь простым языком, на момент смерти в организме Тесс присутствовали три вида химических веществ.
Кристина не поднимала глаз от блокнота и не видела моей реакции. Я была потрясена.
— Какие именно?
— Первое — каберголин, подавляющий выработку грудного молока.
Саймон говорил мне об этих таблетках, и при новом упоминании о них у меня вновь так остро кольнуло в сердце, что я побоялась вдумываться дальше.
— А еще?
— Второе вещество — седативное, то есть успокоительное, принятое в большой дозе. В связи с тем, что прошло несколько дней, прежде чем тело обнаружили и взяли кровь на анализ… — Голос Кристины дрогнул, но вскоре она овладела собой и продолжила: — В общем, из-за задержки по времени точное количество лекарства в крови Тесс установить невозможно. Джеймс сказал, что можно лишь дать примерную оценку.
— И?..
— Тесс в несколько раз превысила допустимую дозу. Такое количество, хотя и не смертельное, обязательно должно было привести ее в сонное состояние.
Вот почему отсутствовали следы борьбы. Убийца сперва накачал тебя снотворным! Видимо, ты поняла это слишком поздно?
Кристина водила глазами по строчкам, выведенным своим идеальным почерком.
— Третье вещество — фенилциклогексилпиперидин, по-другому — фенциклидин. Это мощный галлюциноген, разработанный в пятидесятые годы как анестетик, но позже запрещенный к применению из-за токсических побочных эффектов.
— Галлюциноген? — как попугай изумленно повторила я.
Кристина решила, что выразилась недостаточно ясно.
— Фенциклидин вызывает галлюцинации, — терпеливо объяснила она, — говоря на жаргоне, «приход». Это наркотик типа ЛСД, но более опасный. Джеймсу опять же трудно утверждать, сколько она приняла и за какое время до смерти. Усложняет ситуацию еще и то, что данное вещество сохраняется в мышечной и жировой ткани организма с полным психоактивным эффектом, то есть продолжает действовать даже после того, как человек прекратил прием.
Продравшись сквозь дебри научной терминологии, я наконец что-то поняла.
— Значит, у Тесс могли быть галлюцинации в течение нескольких дней перед смертью? — уточнила я.
— Да.
Доктор Николс все-таки не ошибся, однако твои галлюцинации были вызваны не послеродовым психозом, а сильным наркотиком.
— Он все спланировал. Перед убийством лишил ее рассудка.
— Беатрис…
— Свел ее с ума, заставил всех поверить, что Тесс психически ненормальная, опоил снотворным, а затем убил.
Карие глаза Кристины за толстыми стеклами очков казались огромными; линзы усиливали их сочувственное выражение.
— Когда я думаю о том, как сильно люблю своего ребенка, мне становится страшно. Не представляю, что бы я сделала на месте Тесс.
— Самоубийство не было для нее выходом. После смерти Лео Тесс не смогла бы покончить с собой, даже если бы захотела. И она никогда не употребляла наркотики.
Мы обе замолчали. Окружающий шум грубо врывался в кабинку, нарушая наше тягостное безмолвие.
— Ты знала ее лучше всех, Хеммз.
— Это так.
Кристина улыбнулась в знак капитуляции перед моей уверенностью, основанной на силе кровных уз.
— Я очень признательна тебе за помощь.
Кристина стала первым человеком, который помог мне на деле. Без нее я не узнала бы о снотворном и галлюциногене. Кроме того, я была благодарна ей за то, что, уважая мое мнение, Кристина воздерживалась от высказывания своих мыслей. Несмотря на то что в нашу бытность школьницами она не считалась моей близкой подругой, на прощание мы крепко обнялись.
— Она рассказывала вам что-то еще о фенциклидине? — задает вопрос мистер Райт.
— Нет, но я легко нашла информацию в Сети и выяснила, что этот психоактивный препарат среди прочего вызывает ментальные расстройства, манию преследования и кошмарные видения.
Сознавала ли ты, что подвергаешься психическим пыткам? А если нет, что, по-твоему, с тобой происходило?
— Особенно тяжелое воздействие он оказывает на людей, перенесших психологическую травму.
Убийца использовал против тебя твое же горе, зная, что это усугубит действие наркотика.
— Некоторые интернет-сайты обвиняли военные власти США в применении фенциклидина на заключенных в иракской тюрьме Абу-Грейд и при выдаче беглых преступников иностранным государствам. Понятно, какой чудовищный эффект достигался при использовании этого вещества.
Что было страшнее — воздействие наркотика или мысль о том, что ты сходишь с ума?
— Вы рассказали об этом полиции? — спрашивает мистер Райт.
— Да, я оставила сообщение для сержанта Финборо, так как рабочий день давно закончился. На следующий день он перезвонил мне и назначил встречу.
— Дорогая, просто не верится, что ты опять заставила беднягу прийти сюда.
Тодд насыпал чай в заварочный чайник и теперь выкладывал на тарелку печенье, словно стараясь возместить детективу причиненные мной неудобства.
— Он должен знать про наркотики.
— Солнышко, полиции уже про них известно.
— Нет, не известно.
Тодд разложил ванильное и шоколадное печенье в два аккуратных ряда, светлый и темный, сквозь эту симметрию выражая свое недовольство.
— Имея на руках результаты анализов, они придут к точно таким же выводам, что и я.
Тодд отвернулся, чтобы снять с плиты кастрюлю с кипятком.
Когда вчера вечером я рассказала ему о наркотиках, он никак не отреагировал и вместо этого спросил, почему я не сообщила ему, зачем на самом деле встречалась с Кристиной.
— Подумать только, твоя сестра даже чайником не обзавелась!
В дверь позвонили.
Тодд поздоровался с сержантом Финборо, а затем поехал за мамой. Мы с ней вместе собирались упаковать и вывезти твои вещи. Тодд, очевидно, надеялся, что это занятие вынудит меня «склонить голову перед фактами». Знаю, это очередной американизм, но точного соответствия в английском не подберу. Мама бы сказала, «посмотреть правде в глаза».
Детектив сел на твой диван, взял с тарелки шоколадное печенье и внимательно выслушал пересказ моего разговора с Кристиной.
— Мы знаем о том, что в крови вашей сестры найдено снотворное средство и фенциклидин.
Я вздрогнула. Выходит, Тодд прав?
— Почему же вы промолчали?
— Решил, что вам и вашей матери и без того хватает стрессов. Не хотел лишний раз огорчать. Наличие наркотиков в крови только подтвердило нашу версию о самоубийстве.
— Хотите сказать, Тесс умышленно приняла эти вещества?
— Следов борьбы и насилия не обнаружено. Люди, вознамерившиеся покончить с жизнью, нередко накачивают себя успокоительными.
— Но ведь дозировка была не смертельная!
— Согласен, хотя Тесс могла об этом и не знать. В конце концов, она ничего подобного раньше не принимала.
— Верно. Ни раньше, ни в тот раз. Должно быть, ее хитростью заставили проглотить эти препараты. — Мне захотелось стереть с лица детектива выражение вежливого участия. — Неужели вы не понимаете? Убийца опоил Тесс снотворным, чтобы она не сопротивлялась. Поэтому на теле не обнаружили следов борьбы!
Лицо детектива не изменилось, как и его позиция.
— Либо ваша сестра просто приняла слишком большую дозу лекарства.
Еще в начальной школе строгая учительница приучила меня находить правильные ответы в тексте учебника.
— А что вы скажете по поводу фенциклидина? — Я была уверена, что у сержанта Финборо не найдется объяснений, каким образом этот наркотик попал в твой организм.
— Я разговаривал с инспектором из отдела по наркотикам, и он сказал, что торговцы давно практикуют продажу фенциклидина под видом ЛСД. У этой гадости множество названий: «ракетный двигатель», «озон», «ангельская пыль». Вероятно, дилер Тесс…
— Вы всерьез полагаете, что у Тесс был дилер?
— Извините. Я имел в виду человека, у которого она купила наркотик. Он продал ей якобы ЛСД, а на самом деле — фенциклидин. Кроме того, я общался с психиатром Тесс, доктором Николсом, и…
— Тесс ни за что на свете не прикоснулась бы к наркотикам! — перебила я. — Она испытывала к ним отвращение. Даже в школе, когда одноклассники пробовали курить марихуану, моя сестра не желала иметь с этим ничего общего. Она видела в своем здоровье бесценный дар, которого был лишен Лео, и поэтому считала, что не имеет права его разрушать.
Сержант Финборо замолчал, как будто действительно обдумывал мою точку зрения.
— И все-таки Тесс уже вышла из школьного возраста с его детскими проблемами, не так ли? Я не говорю, что она подсела на наркотики или употребляла их раньше, однако вполне естественно предположить, что ей хотелось забыться, уйти от своего горя.
Я вспомнила слова детектива о том, что после смерти Ксавье ты оказалась в аду, разделить с тобой который не мог никто. Даже я. А я ведь тоже мечтала забыться, хотя бы на несколько часов. У меня были снотворные таблетки, но я не приняла ни одной.
— Вам известно, что фенциклидин можно курить? — спросила я. — А также нюхать, вводить при помощи шприца или глотать. Убийца запросто мог подсыпать наркотик в стакан с водой, и Тесс ничего бы не заметила.
— Беатрис…
— Доктор Николс ошибался насчет причины ее галлюцинаций. Они никак не связаны с психозом.
— Вы правы. Тем не менее дослушайте меня, пожалуйста. После получения результатов протокола я беседовал с доктором Николсом, и он сказал, что независимо от причин, вызвавших галлюцинации у вашей сестры, она, так или иначе, страдала расстройством психики, что привело к печальным последствиям. Люди, принимающие фенциклидин, нередко причиняют себе увечья или совершают суицидальные попытки. Инспектор из отдела по наркотикам подтвердил то же самое.
Я вновь попыталась перебить детектива, но он решил довести мысль до конца.
— Все факты указывают в одном направлении.
— И коронер в это поверил? Поверил, что девушка, никогда в жизни не прикасавшаяся к наркотикам, добровольно приняла дозу мощного галлюциногена? И даже не усомнился?
— Нет. Если честно, он сказал мне, что… — Сержант Финборо смущенно кашлянул.
— Что он вам сказал? Что именно?
Детектив молчал.
— Я имею право знать!
— Разумеется. Он сказал, что Тесс жила в Лондоне, была студенткой, да еще художественного колледжа, так что его гораздо больше удивило бы, если…
— Если бы она оказалась «чистой»? — закончила за него я.
— Ну что-то в этом роде.
Значит, ты была «нечистой» в том отвратительном смысле, который это слово принесло с собой в двадцать первый век. Я достала из конверта счет за телефон.
— Вы ошибались, утверждая, что Тесс не захотела сообщить мне о смерти малыша. Она снова и снова пыталась дозвониться до меня, но безрезультатно. Даже если вы расцениваете эти звонки как «крики о помощи», она кричала мне. Потому что мы с сестрой были очень близки. Я знала ее, как никто другой. Тесс не принимала наркотиков. И не убивала себя.
Сержант Финборо молчал.
— Она взывала о помощи, но меня не оказалось рядом. И все-таки она кричала мне.
На лице сержанта промелькнуло нечто большее, чем просто сочувствие.
— Да.
Через полтора часа после ухода детектива Финборо Тодд привез маму. Батареи окончательно остыли, поэтому она осталась в пальто. Дыхание вылетало изо рта морозным облачком.
— Ну что ж, начнем укладывать вещи. Я взяла с собой мешки, бумажные пакеты и целлофан.
Видимо, мама надеялась, что, настроившись на деловой лад, мы убедим себя, будто сможем устранить последствия хаоса, вызванного твоей смертью. Хотя, если честно, на самом деле смерть оставляет после себя пугающе длинный список практических задач. Все эти вещи, которые тебе уже не пригодятся, нужно рассортировать, упаковать и как-то распределить в мире живых. Мне почему-то представляются безлюдный аэропорт и багажная лента, на которой по кругу без конца вращаются твои картины, книги, платья, контактные линзы, не нужные никому, кроме нас с мамой.
Мама принялась разрезать пузырчатый целлофан.
— Тодд говорил, ты вынудила сержанта Финборо еще раз с тобой встретиться?
— Да. — Поколебавшись, я добавила: — В крови Тесс обнаружили химические вещества.
— Тодд мне уже об этом рассказал. Мы все отлично знаем, Беатрис, что она не отвечала за свои действия. Бог свидетель, на долю нашей девочки выпали страшные муки, ей было от чего искать забвения.
Не дав мне возразить, мама направилась в гостиную («Нужно же хоть что-то успеть до обеда!»).
Я достала картины с твоей обнаженной натурой, написанные Эмилио, и начала поспешно заворачивать их в плотный целлофан. Во-первых, я не хотела, чтобы эти полотна увидела мама, а во-вторых, и сама не желала на них смотреть. Можешь считать меня не в меру стыдливой, но я просто не вынесла бы естественного, теплого цвета твоего тела на картинах, тогда как в морге твое лицо потрясало своей ужасающей бледностью. Мне вдруг пришло в голову, что Эмилио имел самый очевидный мотив для убийства. Из-за тебя он рисковал лишиться и карьеры, и жены. Да, она знала о ваших отношениях, но он-то об этом не подозревал и боялся реакции с ее стороны. Правда, твоя беременность выдавала его с головой, и если Эмилио убил тебя, чтобы сохранить репутацию и брак, то непонятно, зачем он дожидался родов.
Я справилась с картинами Эмилио и начала упаковывать одну из твоих работ, не глядя на яркие оттенки и вспоминая безудержный восторг, с которым ты, четырехлетняя девчушка, сжимала крохотными пальчиками целлофановые пузырьки: «Хлоп!»
Вошедшая в комнату мама оглядела груду картин.
— Ну и куда, скажи на милость, она собиралась девать это добро?
— Кажется, совет колледжа просил предоставить картины для выставки, которая состоится через три недели. У Тесс будет специальная экспозиция.
Мне позвонили из колледжа несколько дней назад, и я охотно дала согласие.
— А платить они, конечно, не собираются? — поджала губы мама. — Я имела в виду, ради чего вообще Тесс рисовала свои картинки?
— Мечтала быть мастером кисти.
— В смысле оформителем? — изумилась мама.
— Нет, теперь так называют художников.
— Сейчас модно так говорить, — объяснила ты, подшучивая над моим устаревшим лексиконом. — Поп-звезды у нас теперь «мастера сцены», прежние художники — «мастера кисти», а бывшие маляры — «оформители».
— Рисование картинок с утра до ночи — занятие для детского сада, — продолжала мама. — Я не возражала, когда Тесс заявила, что будет сдавать экзамен по рисованию. Наоборот, подумала, что ей не помешает немного отвлечься от серьезных предметов. Но называть это продолжением образования нелепо!
— Она развивала свой талант.
Понимаю, прозвучало слабовато.
— Сплошной инфантилизм! — отрезала мама. — Она растеряла все свои знания.
Мама очень злилась на тебя за то, что ты умерла.
Опасаясь скандала, я пока не говорила ей о том, что Ксавье похоронят вместе с тобой, но откладывать дальше было нельзя.
— Мам, знаешь, Тесс наверняка захотела бы, чтобы Ксавье…
— Ксавье?
— Ее малыш, чтобы он…
— Она дала ребенку второе имя Лео?
Для мамы это стало шоком. Прости.
Она вернулась в гостиную и принялась засовывать твою одежду в черный мешок для мусора.
— Мамочка, Тесс не понравилось бы, что вещи просто выбросили на помойку. Она сдавала все на утилизацию.
— Эти тряпки никому не подойдут.
— Она упоминала пункт приема ветоши… — заикнулась я, но мама уже отвернулась и выдвинула нижний ящик твоего шкафа.
Достав из тонкого бумажного пакета крошечный кашемировый жилет на пуговках, она обернулась ко мне и растроганно произнесла:
— Какая прелесть…
Я помню, как сама изумилась, обнаружив в твоей убогой квартире такие дорогие и качественные детские одежки.
— Откуда они у нее? — вопросила мама.
— Не знаю. Эмиас сказал лишь, что Тесс устроила себе шопинг.
— На какие деньги? Неужели отец ребенка раскошелился?
Я собралась с духом; мама имела право знать.
— Он женат.
— Мне это известно.
Очевидно, мама заметила мое смущение — в ее голосе появилась сухость.
— Ты спрашивала, не намерена ли я нарисовать на крышке гроба букву «А». Поскольку наша Тесс не замужем, «алая буква», символ адюльтера, может означать только одно: отец ребенка женат.
Мои брови удивленно поползли вверх, а мама произнесла еще жестче:
— Полагала, я не знаю, откуда это[7]?
— Прости. Я поступила жестоко.
— Вы, мои девочки, почему-то считали, что, получив аттестаты, оставили свою мать далеко позади и все, на что я способна, — это обдумывать меню скучного званого ужина.
— Просто я никогда не видела тебя с книгой в руках.
Мама все еще держала крохотную жилетку Ксавье и безотчетно поглаживала ее пальцами.
— Раньше я много читала. Ваш отец хотел спать, но я не выключала ночник. Он злился, а я не могла остановиться, читала запоем. Потом Лео стало хуже, и у меня больше не было времени на чтение. Да и вообще я поняла, что в книгах пишут всякий вздор и чепуху. Кому интересна чужая история любви или описание заката на десяти страницах?
Она отложила жилетку и вновь принялась запихивать твою одежду в мешок вместе с вешалками, так что крючки прорывали тонкий черный пластик. Глядя на ее неуклюжие движения, исполненные боли, я вспомнила нашу школьную печь для обжига и противень с мягкими глиняными горшочками, который мы в нее задвигали. В печи глина затвердевала, и горшочки, вылепленные с дефектами, трескались и рассыпались на куски. Твой уход из жизни подкосил маму, скривил главную ось, и, наблюдая, как она завязывает узлом верхнюю часть мешка, я понимала: в момент, когда она осознает твою смерть, горе станет для нее той самой печью, что разобьет горшочек — жизнь — на куски.
Через час я отвезла маму на вокзал. Вернувшись домой, достала твою одежду из беспорядочно набитых мешков и убрала в шкаф, поставила обратно на каминную полку часы. Даже твои туалетные принадлежности остались на прежнем месте в ванной комнате, тогда как свои я держала в косметичке на стуле. Кто знает, может, поэтому я и жила в твоей квартире все это время, чтобы не выбрасывать твои вещи.
Я закончила упаковывать картины. Поскольку они предназначались для выставки, мне не было тяжело на душе. Наконец остались четыре последние работы. Толстый слой гуаши запечатлел твои кошмары: мужчина в маске склоняется над женщиной, чей окровавленный, порванный рот разверст в безмолвном крике. Только сейчас я догадалась, что белый овал у нее на руках — единственное светлое пятно в буром мраке — ребенок. Я также поняла, что ты писала эти картины, находясь под влиянием фенциклидина, что это визуальная запись твоего пребывания в аду. Я заметила потеки краски — следы моих слез, которые я роняла, впервые увидев этот ужас. В тот раз я могла лишь молча плакать, но теперь, когда я убедилась, что кто-то умышленно подвергал тебя мучительным пыткам, мои слезы высохли, затвердели и превратились в ненависть. Я поклялась найти убийцу.
В кабинете жарко натоплено, а солнечные лучи, льющиеся в окно, нагревают воздух еще больше, отчего меня клонит в сон. Я допиваю свой кофе и стараюсь встряхнуться.
— Вы поехали на квартиру к Саймону? — задает очередной вопрос мистер Райт.
Видимо, он сверяет мои слова с показаниями других свидетелей на предмет хронологии.
— Да.
— Поговорить о наркотиках?
— Да.
Я нажала на кнопку звонка. Дверь открыла уборщица, я уверенно вошла в квартиру. Как и в прошлый раз, меня поразила окружающая роскошь. Пожив некоторое время у тебя, я стала меньше зацикливаться на материальных благах. Саймон сидел на кухне, ел хлопья с молоком. При виде меня он сперва растерялся, а затем явно впал в раздражение. На его детском личике темнела щетина, но я решила, что небритость, как и пирсинг, просто способ выделиться.
— Это ты дал Тесс деньги на детскую одежду? — напрямик спросила я. Вопрос пришел мне в голову уже после того, как я переступила порог квартиры, однако пришелся к месту.
— Кто позволил тебе вламываться ко мне в дом?
— Дверь была открыта. Мне нужно еще кое о чем тебя спросить.
— Я не давал ей денег. Предлагал как-то раньше, но она не взяла. — Обиженный тон Саймона убедил меня в правдивости его ответа.
— Знаешь, кто мог дать эти деньги?
— Понятия не имею.
— В тот день в парке Тесс выглядела сонной?
— О Господи, при чем тут это?
— Просто хочу знать, не выглядела ли она сонной во время вашей встречи.
— Нет. Наоборот, дерганая была.
Значит, убийца заставил тебя принять снотворное позже, после ухода Саймона.
— Тебе не показалось, что у Тесс галлюцинации?
— Я думал, ты не согласна с диагнозом «послеродовой психоз».
— Галлюцинации были?
— Если не считать того, что ей мерещился несуществующий человек в кустах? — с отвратительной издевкой проговорил Саймон.
Я промолчала.
— Нет, за исключением этого, никаких отклонений я не заметил.
— В крови Тесс обнаружили снотворное и фенциклидин. Его еще называют «ангельская пыль» и…
— Нет, — решительно перебил Саймон. — Насчет наркотиков Тесс была упертая как ослица.
— А ты ими балуешься, да?
— И что с того?
— А то, что ты мог угостить ее чем-нибудь таким, чтобы она повеселела. Предложил выпить, а сам подмешал в стакан кое-что «волшебное», так?
— Я ничего не подмешивал в стакан и не давал Тесс денег. И вообще лучше уходи подобру-поздорову.
Саймон копировал другого, более властного человека — возможно, собственного отца.
Я вышла в коридор и мимоходом заметила через открытую дверь спальни твое фото на стене. Тебя сняли со спины, с рассыпанными по плечам волосами. Я вошла в комнату. Спальня явно принадлежала Саймону: одежда аккуратно сложена, пиджаки развешаны на деревянных плечиках, кругом идеальная чистота.
Вдоль одной из стен тянулась огромная надпись, выполненная безупречным каллиграфическим почерком: «Баллада о женском первоначале». Под ней — твои фото, десятки снимков, прикрепленных к стене мягким клеем. Все они запечатлели твою спину.
Саймон неожиданно вырос передо мной и посмотрел мне в глаза.
— Ты ведь знала, что я ее люблю.
Однако эти снимки напомнили мне про обитателей острова Бекия, убежденных, что фотография крадет человеческую душу.
— Все это войдет в мое дипломное портфолио, — похвастался Саймон. — Я предпочел жанр фоторепортажа со съемкой одного объекта. Мой преподаватель считает, что это самый выдающийся и оригинальный проект на всем курсе.
Почему он не фотографировал твое лицо?
— Я не хотел посвящать проект конкретному человеку, — словно угадал мои мысли Саймон, — поэтому специально не снимал анфас, так сказать, запечатлевал женщину вообще.
Или под этим предлогом незаметно ходил за тобой по пятам?
— «Баллада о женском первоначале» — это название стихотворения, — все тем же самодовольным тоном продолжал Саймон. — А рефрен, знаешь, какой? «Ибо всякая супруга злее всякого супруга!»[8]
Во рту у меня пересохло, а слова зазвенели гневом.
— В стихотворении говорится о матерях, защищающих своих детей, вот почему «всякая супруга злее всякого супруга»! Женщина храбрее. А мужчин Киплинг называет трусами: «Из боязни пораженья взор по-девичьи потупят…»
Саймон не ожидал, что я знакома с поэзией и уж тем более с творчеством Киплинга. Возможно, тебя это тоже удивляет. В Кембридже я увлекалась английской литературой, помнишь? Когда-то я была эстеткой. Правда, надо признать, что темой моей дипломной работы был структурный, а не смысловой анализ литературных произведений.
Я сняла со стены твое фото, потом еще одно и еще, до тех пор пока не забрала все, чтобы Саймон больше не мог на тебя смотреть. А затем я ушла и унесла их с собой, несмотря на бурные протесты Саймона, кричавшего, что фотографии нужны ему для выпускного проекта, что я — воровка, и что-то еще, чего я не стала слушать, захлопнув дверь.
По дороге домой я время от времени бросала взгляд на стопку фотографий, лежавшую у меня на коленях, и размышляла, как часто Саймон следил за тобой, делая свои снимки. Пошел ли он за тобой и в тот день, после вашего расставания в парке? Я остановила машину у обочины и принялась изучать фото. На всех была только твоя спина, менялась лишь окружающая обстановка — от лета к зиме, да твоя одежда — футболки, куртка, теплое пальто. Саймон преследовал тебя много месяцев. Тем не менее фотографии в заснеженном парке я не нашла.
Коренные жители острова Бекия верили, что фотокарточку можно прикрепить к фигурке человека и проклясть, что фотография несет в себе такую же мощную энергетику, как волосы или кровь жертвы.
Дома я увидела на кухне новый чайник в коробке и услышала, как Тодд возится в спальне. Войдя в комнату, я обнаружила, что он пытается разломать одну из твоих «бредовых» картин, однако плотный холст не поддавался.
— Постой, ты что делаешь?
— В мусорный мешок они не влезли, не мог же я просто оставить их возле бака. — Тодд обернулся ко мне. — Какой смысл держать в доме эти картины, если они тебя только расстраивают?
— Их надо сохранить.
— Зачем?
— Затем, что… — Я запнулась.
— Зачем «затем»?
Картины доказывают, что мою сестру подвергали психологическим пыткам, подумала я, но не произнесла этого вслух, так как знала: мои аргументы лишь вызовут спор о причинах твоей смерти, а спор неизбежно приведет к конфликту и нашему расставанию. Я не хотела стать еще более одинокой, чем была.
— Вы рассказали в полиции о фотографиях, сделанных Саймоном? — спрашивает мистер Райт.
— Нет. Полицейские и так относились к версии убийства более чем скептически, вряд ли снимки убедили бы их в обратном.
Я благоразумно молчу насчет бекийцев и черной магии.
— Саймон всегда мог оправдаться тем, что снимки предназначались для дипломной работы, — продолжаю я.
Мистер Райт смотрит на часы:
— Через десять минут я должен присутствовать на другой встрече, давайте на сегодня закончим.
Он не говорит, с кем встречается, однако это свидание наверняка очень важное, если назначено на субботний вечер. Или же мистер Райт просто заметил мое утомление. Большую часть времени я чувствую себя совсем измотанной, но после того, через что прошла ты, я не имею права жаловаться.
— Не против, если мы продолжим завтра? — интересуется мистер Райт. — Конечно, если позволит ваше самочувствие.
— Нисколько не против, — говорю я, хотя работать по воскресеньям совсем неправильно.
Мистер Райт словно читает мои мысли:
— Ваши показания имеют первостепенную значимость. Я бы хотел зафиксировать как можно больше информации, пока она еще свежа у вас в памяти.
Как будто моя голова — холодильник, набитый важными сведениями, которые могут испортиться в контейнере для фруктов. Нет, на самом деле все иначе. Просто мистер Райт догадался, что мой недуг гораздо серьезнее, чем он предполагал. Будучи умным и проницательным человеком, он, естественно, беспокоится, не повлияет ли ухудшение моего физического состояния на умственные способности, в частности на память. Он правильно делает, что поторапливает меня.
Я еду в переполненном автобусе, прижатая к окошку. Сквозь небольшой прозрачный островок на запотевшем стекле я вижу, как мимо проплывают лондонские здания. Я не говорила тебе, что вместо литературоведения всегда хотела изучать архитектуру? Уже через три недели после поступления на первый курс я поняла, что совершила ошибку. Мой математический склад ума и внутренняя неуверенность требовали чего-то более прочного и основательного, нежели изучение структуры сравнений в метафизической поэзии. У меня не хватило смелости подать заявление о переводе — а вдруг бы меня отчислили с факультета литературы, а на архитектурном не нашлось бы места? Я сочла, что риск слишком велик. Однако всякий раз, глядя на красивое сооружение, я жалею, что не связала жизнь с архитектурой.
Воскресенье
Воскресным утром в здании никого нет, даже администратора за стойкой в вестибюле. Я захожу в пустой лифт и поднимаюсь на третий этаж. Должно быть, сегодня здесь только я и мистер Райт.
Он предупредил, что на этот раз хочет услышать ту часть истории, в которой фигурирует Кася Левски. Мне немножко не по себе, так как Касю я видела всего час назад — она разгуливала по квартире в твоей старой ночнушке.
Я прямиком захожу в кабинет мистера Райта. Как и вчера, на столе меня ждут кофе и минеральная вода. Мистер Райт справляется о моем самочувствии, я отвечаю, что все в порядке.
— Для начала я вкратце повторю все, что вы уже рассказали о Касе Левски, — говорит он, сверяясь со своими записями, видимо, сделанными на основе моих предыдущих показаний. — «Кася Левски пришла на квартиру Тесс двадцать седьмого января около четырех часов дня и сказала, что хочет повидать ее», — вслух читает мистер Райт.
Я вспоминаю, как услышала звонок и помчалась к двери, едва не выкрикнув: «Тесс!» Помню вкус твоего имени на губах и глухую неприязнь, которую испытала, когда на пороге увидела Касю в дешевых туфлях на высоченной платформе, с большим животом и набухшими венами на тонких белых ногах, покрытых мурашками. Мне стыдно вспоминать свой тогдашний снобизм, однако я рада, что память меня пока не подводит.
— Кася сообщила, что проходила лечение в той же клинике, что и Тесс?
— Да.
— Она сказала, в какой именно?
Я отрицательно качаю головой. Никаких вопросов я Касе не задавала, поскольку в тот момент больше всего хотела, чтобы она поскорее убралась. Мистер Райт снова опускает взгляд на бумаги.
— Она сказала, что раньше тоже была одиночкой, но теперь ее приятель вернулся?
— Да.
— Вы виделись с Майклом Фланаганом?
— Нет, он сидел в машине. То и дело сигналил клаксоном, а Кася нервничала.
— Когда произошла ваша следующая встреча? Сразу после визита к Саймону Гринли?
— Да. Я взяла с собой кое-что из детской одежды.
Тут я чуть-чуть лукавлю. Встреча с Касей была для меня предлогом уйти из дома и избежать разговора с Тоддом, который положил бы конец нашим отношениям.
Несмотря на сильный снег и скользкие тротуары, я добралась до квартиры Каси всего за десять минут. Она потом призналась, что всегда сама приходила к тебе — видимо, чтобы не видеть Митча. Ее квартира находится в доме на Трафальгар-Кресент. Это место представляет собой уродливую кривую, втиснувшуюся между аккуратными зелеными квадратами парковых площадей и плавными изгибами Ноттинг-Хилла. Параллельно и севернее этой улицы — добраться до нее так же легко, как достать книжку с верхней полки стеллажа, — расположен Вествэй, где шум машин не смолкает ни днем, ни ночью. Лестничные пролеты пестрели метками, которые оставили граффитисты (может, их тоже следует называть «мастерами кисти»?), подобно тому, как собаки метят свою территорию. Кася открыла дверь, не снимая цепочки.
— В чем дело?
— Я — сестра Тесс Хемминг.
Звякнула цепочка, послышался щелчок отодвигаемого засова. Даже у себя дома (при том, что за окном валил снег, а она была беременна!) Кася вырядилась в куцую маечку и черные лакированные сапоги на шпильке, украшенные стразами. На мгновение я испугалась, что передо мной проститутка, ожидающая клиента. Да, я слышу, как ты смеешься надо мной. Прекрати.
— А, Беатрис, — произнесла Кася, и я удивилась, что она запомнила мое имя. — Входить. Пожалуйста.
С нашей прошлой встречи, когда она пришла к тебе на квартиру и спросила тебя, минуло немногим больше двух недель. За это время ее живот заметно вырос. Я предположила, что она примерно на восьмом месяце.
Я вошла внутрь. В квартире пахло дешевой туалетной водой и освежителем воздуха; последний, впрочем, плохо маскировал застарелые запахи сырости и плесени, пятна которой виднелись на стенах и ковре. Индийское покрывало, точно такое же, как на твоем диване (ты подарила Касе второе?), висело на гвоздях, закрывая окно вместо шторы. Я не собиралась глубоко вдумываться в коряво составленные предложения или продираться сквозь польский акцент, однако в этом разговоре плохое знание языка придало ее словам неожиданную пронзительность.
— Я сожалеешь. Ты, наверное… как это сказать? — Не найдя подходящего эквивалента, Кася сконфуженно пожала плечами. — Печалиться? Нет, не сильное слово.
Как ни странно, эта фраза на ломаном английском прозвучала гораздо искреннее, чем безупречно составленное письмо-соболезнование.
— Ты любишь ее очень-очень крепко, Беатрис.
Кася сказала «любишь» в настоящем времени — то ли еще не выучила прошедшего, то ли острее других почувствовала тяжесть моей утраты.
— Да, люблю.
Она устремила на меня теплый, сочувственный взгляд и одним махом поставила меня в тупик. Сорвала ярлычок, который я аккуратно на нее наклеила. Кася проявила доброту по отношению ко мне, тогда как все должно было быть наоборот. Я протянула ей маленький чемоданчик с детскими вещами.
— Возьми, тут кое-что для малыша.
Особой радости она почему-то не выказала. Видимо, из-за того, что одежки предназначались для Ксавье и на них лежала печать скорби.
— Тесс… хоронят? — спросила Кася.
— Ах да, совсем забыла. В четверг, пятнадцатого февраля, в одиннадцать утра. Мы похороним ее в Литтл-Хадстоне, это недалеко от Кембриджа.
— Можешь записывать?
Я написала время и место похорон на листке бумаги, а потом буквально всучила ей чемоданчик с одеждой:
— Тесс хотела бы, чтобы ты взяла вещи для ребенка.
— Наш священник служить месса для Тесс в воскресенье.
Почему Кася вдруг сменила тему? Чемоданчик она даже не открыла.
— Ты не возражать?
Я покачала головой. Не знаю, правда, как бы ты к этому отнеслась.
— Отец Иоанн. Очень хороший человек. Очень… — Кася рассеянно положила руку на живот.
— Добрый христианин? — подсказала я.
Она улыбнулась, поняв шутку.
— Для священника? Так.
Тоже пошутила? Да, на самом деле моментально нашлась с ответом. Кася оказалась гораздо умнее, чем я думала.
— Месса. Тесс не есть против? — уточнила она.
Кася опять употребила настоящее время. Может, умышленно (если месса — это то, что я думаю, значит, ты там, на небесах или у ворот в чистилище, но в любом случае в настоящем времени, «сейчас», пусть и не «здесь и сейчас»), а может, случайно. Может быть, Касина месса поднялась в небеса, дошла до тебя, и тебе теперь немножко неловко за свой земной атеизм.
— Не хочешь взглянуть на вещи? Может, что-то понравится?
Не уверена, действовала ли я из благородных побуждений или хотела вернуть себе ту точку опоры, где чувствовала свое превосходство. Мне определенно не нравилось, что особа вроде Каси проявляет по отношению ко мне доброту. Да, тогда я еще позволяла себе высокомерно думать «особа вроде».
— Сперва я делаю чай?
Вслед за Касей я вошла в облезлую кухню. Сквозь дырки в линолеуме проглядывал бетонный пол, однако в остальном было довольно чисто, учитывая, чего стоило навести порядок в этой разрухе. Щербатые фарфоровые чашки сияли, как и старые блюдца с потертыми ободками. Кася налила воды в чайник и поставила его на плиту. Не надеясь, что от нее можно добиться полезной информации, я все-таки попробовала:
— Случайно, не видела, чтобы кто-то приносил Тесс наркотики?
Кася обратила на меня изумленный взгляд:
— Тесс никогда не принимать наркотики. Ребенку нельзя, вред. Даже чай и кофе.
— Тебе известно, кого она боялась?
— Тесс не бояться…
— Уже после родов, — уточнила я.
В Касиных глазах заблестели слезы, она поспешно отвернулась. Ну конечно, когда ты рожала Ксавье, она была на Мальорке вместе с Митчем и вернулась уже после твоей смерти. Пришла к тебе, а застала меня. Мне стало неловко за то, что я ее расстроила. Ни к чему приставать с расспросами, если Кася все равно не может помочь. Поскольку она занялась приготовлением чая, уйти было неудобно, но о чем дальше разговаривать, я не знала.
— У тебя есть работа? — спросила я. Далекий от изысканности вариант вопроса «Чем вы занимаетесь?», типичного для светской беседы на званом вечере.
— Да, убирать. Иногда витрины в супермаркет, но это работаю ночью, сильно тяжело. Иногда я работать журналы.
Я сразу подумала о порножурналах. Мои предрассудки, основанные на внешнем виде Каси, слишком крепко укоренились в сознании, чтобы предполагать иные версии. Однако надо признать, я уже не столько осуждала Касю за аморальное занятие, сколько беспокоилась о ее здоровье. Отнюдь не дурочка, она догадалась о моих сомнениях по поводу работы в журналах.
— Бесплатные, — пояснила она. — Я раскладывать их в почтовые ящики. Там, где табличка «Не класть почтовый мусор», тоже класть. Я не читаю английски.
Я улыбнулась, и Кася обрадовалась этой первой искренней улыбке.
— Богатые дома не хотеть бесплатные журналы. А мы не ходить в бедные. Юмор, так?
— Юмор. — Я помялась в поисках новой темы для поддержания беседы. — А где ты познакомилась с Тесс?
— О, разве я не говорить?
Разумеется, Кася говорила, но я благополучно пропустила ее слова мимо ушей. Вполне понятно, если вспомнить, как мало она меня интересовала.
— В клиника. Мой малыш тоже болеть.
— У твоего ребенка муковисцидоз?
— Да, муковисцидоз. Но теперь… — Кася положила руку на живот, — все хорошо. Чудо. — Она осенила себя крестным знамением столь же непринужденно, как если бы откинула со лба прядь волос. — Тесс называть это «клиника для несчастные мамочки». Первый раз, когда мы встречаемся, она меня рассмешить. Потом пригласить к себе в гости. — Кася запнулась и отвернула лицо. Я поняла, что она борется с подступающими слезами, и уже протянула руку, чтобы погладить ее по плечу, но не смогла. Для меня коснуться незнакомого человека так же трудно, как для арахнофоба дотронуться до паука. Тебе моя боязнь может показаться забавной, а я страдаю от нее всерьез.
Кася закончила возиться с чаем и поставила приборы на поднос. Я обратила внимание, что она сделала все по правилам: чашки, блюдца, молочник, ситечко, предварительно прогретый заварочный чайник.
Проходя в гостиную, я увидела на стене картину, которую прежде не заметила: портрет Каси, нарисованный углем, очень красивый. Глядя на него, я поняла, что Кася тоже очень красива. Портрет написала ты.
— Тесс? — кивнула я в сторону картины.
— Да.
На мгновение наши глаза встретились, и между нами промелькнуло нечто не нуждающееся в объяснениях и потому разрушающее все преграды. Если переводить это «нечто» в слова, то получилось бы примерно так: Кася была твоей близкой подругой и тебе захотелось написать ее портрет; ты видела в людях красоту, скрытую от других. На самом деле мы не произнесли ни звука, все произошло почти неуловимо, на уровне обмена мыслями. Стук входной двери заставил меня вздрогнуть.
Я обернулась и увидела молодого мужчину. Высокий и мускулистый, лет двадцати, в крохотной квартирке он смотрелся нелепо. Рабочий комбинезон на голое тело, руки сплошь покрыты татуировками, волосы припорошены пылью от штукатурки. Для такого громилы голос у парня оказался на удивление тихим, однако в нем явно слышался оттенок угрозы.
— Кэш? Какого дьявола ты не заперла дверь? Я ведь говорил… — Увидев меня, он подозрительно замолчал. — Медсестра?
— Нет, — ответила я.
Парень проигнорировал меня и вновь обратил вопрос к Касе:
— Тогда кто это, черт подери?
— Митч… — испуганно пролепетала она.
Он уселся на диван, демонстрируя свое право на территорию и отсутствие такового права у меня.
Кася заметно нервничала, так же как в тот день, когда он, сидя в машине, сердито нажимал на клаксон.
— Это Беатрис.
— И что этой Беатрис от нас нужно? — с издевкой спросил Митч.
Мне вдруг стало неловко за свой наряд — дизайнерские джинсы и серый кашемировый свитер. Моя форма одежды отвечала требованиям уик-энда в Нью-Йорке, однако мало подходила для буднего утра в интерьере Трафальгар-Кресент.
— Митч работает ночь. Сильно много, — сообщила Кася. — От работа он быть… — Она попыталась подобрать нужную фразу, но, чтобы описать поведение ее приятеля, требовалось знать язык на уровне носителя.
«Не в духе» — первое, что пришло мне в голову; даже захотелось выписать для Каси это словосочетание.
— Не хрен за меня извиняться! — прорычал Митч.
— Моя младшая сестра, Тесс, дружила с Касей, — пояснила я и вместо своего услышала мамин голос — тревога всегда усиливает мой акцент, характерный для «высших слоев общества».
Митч устремил на Касю злобный взгляд:
— Это та, к которой ты все бегала?
Не знаю, хватало ли у нее знания языка, чтобы понимать, насколько грубо Митч с ней обращается. Вполне вероятно, он допускал не только словесную грубость.
— Тесс — мой подруга, — тихо произнесла Кася.
Я уже очень давно не слышала, чтобы кто-то встал на сторону человека, назвав его своим другом. В последний раз, кажется, в начальной школе. Сила и простота этих слов тронули меня до глубины души. Я встала, не желая усложнять жизнь Касе.
— Я, пожалуй, пойду.
Митч растянулся в кресле; чтобы пройти к двери, мне пришлось перешагнуть через его ноги. Кася пошла за мной.
— Спасибо за одежда. Очень добро.
— Что еще за одежда? — вскинулся Митч.
— Я принесла кое-какие вещи для ребенка, только и всего.
— Строишь из себя даму-благотворительницу?
Кася не поняла, что именно сказал ее приятель, но по враждебному тону догадалась о смысле. Я обернулась к ней:
— Одежки такие милые, я не хотела их выбрасывать или сдавать в комиссионный магазин, где они достались бы неизвестно кому.
Митч вскочил на ноги — задира, готовый к драке и наслаждающийся своим воинственным пылом.
— А-а, либо мы, либо комиссионка?
Раньше я стремилась избегать конфликтов, но теперь перестала их бояться.
— У нас и без тебя, на хрен, полно детского барахла! — рявкнул Митч и направился в спальню. Через несколько секунд он вынес оттуда ящик от комода и бросил его мне под ноги. Я опустила взгляд. Ящик был набит дорогой детской одеждой и прочими принадлежностями. Кася страшно смутилась.
— Тесс и я ходить магазины. Вместе. Мы…
— На какие деньги? — изумилась я. Прежде чем Митч успел взорваться, я торопливо продолжила: — У Тесс ведь тоже совсем не было денег, и я просто хотела узнать, откуда они появились.
— Дали в больница после лечения. Триста фунтов.
— После какого лечения? От муковисцидоза?
— Так.
Подкуп? У меня вошло в привычку подозревать всех подряд, а это экспериментальное лечение — я с самого начала относилась к нему с опаской — стало благодатной почвой для сомнений, зерна которых упали в нее еще раньше.
— Можешь вспомнить фамилию человека, который вам их дал?
Кася покачала головой:
— Деньги в конверте. Нет письма. Сюрприз.
Митч перегородил ей дорогу:
— И ты потратила такую хренову тучу денег на детские тряпки, из которых младенец через месяц вырастет?! Ничего лучше не придумала?
Кася отвела глаза. Я поняла, что ссора давняя и затяжная и что она убила всю радость, которую Кася испытывала, покупая одежду для ребенка.
Она проводила меня на улицу. Спускаясь по бетонным ступенькам подъезда, изрисованного метками граффити, она угадала, что я сказала бы ей, если бы мы могли свободно общаться, и произнесла:
— Он отец. Тут ничего не изменить.
— Я живу в квартире Тесс. Заглянешь ко мне?
Я и сама не ожидала, как сильно хочу услышать «да».
— Даже думать забудь! — проревел сверху Митч и швырнул чемоданчик с одеждой.
Ударившись о бетонную площадку, он раскрылся, маленькие кофточки, чепчик и одеяльце разлетелись по мокрому полу. Кася помогла мне собрать вещи.
— Пожалуйста, не приходи на похороны. Не надо.
Из-за Ксавье. Ей было бы слишком тяжело.
* * *
Я побрела домой, сгибаясь под порывами резкого ветра. Чтобы защититься от холода, я подняла воротник, натянула на голову шарф и из-за этого не услышала звонок мобильного, который переключился на голосовую почту. Мама сообщила, что отец хочет поговорить со мной, и оставила номер его телефона. Я знала, что не стану звонить. Беатрис Хемминг опять превратилась в неуверенного в себе подростка, неуклюжую девчонку, сознающую, что она, будто гадкий утенок, не вписывается в новую, полностью сформированную жизнь отца, из которой тот ее вычеркнул. Я заново пережила острое чувство отверженности. Нет, само собой, он помнил наши дни рождения и присылал дорогие «взрослые» подарки, словно старался выпихнуть нас из детства, за пределы своей ответственности. Две недели летних каникул, ежегодно проводимые вместе с отцом, когда наши бледные английские физиономии служили укором щедрому солнцу Прованса, проходили невесело, а по возвращении домой эти недели растворялись в памяти, будто их не было вовсе. Как-то раз мне на глаза попались сундуки, в которых хранились наши постельные принадлежности: на весь оставшийся год их убирали в дальний угол чердака. Даже ты со своим оптимизмом и способностью видеть в людях лучшее разделяла мои чувства.
Думая об отце, я вдруг понимаю, почему ты полностью освободила Эмилио от всякой ответственности за Ксавье. Ты слишком любила своего малыша, слишком дорожила им, чтобы позволить кому-либо считать его позорным пятном на репутации. Ксавье ни на секунду не должен был почувствовать себя нелюбимым или нежеланным. Ты оберегала не Эмилио, а свое дитя.
Я ничего не говорю мистеру Райту о своем незвонке отцу и рассказываю только про деньги, которые тебе и Касе заплатили за участие в эксперименте.
— Суммы небольшие, — продолжаю я, — но для Тесс и Каси они могли послужить стимулом к участию.
— Тесс не сказала вам о вознаграждении?
— Нет. Она видела в людях лишь хорошее, но знала, что я — скептик. Очевидно, просто не хотела выслушать очередную порцию моих нравоучений.
Ты, разумеется, догадываешься, какие наклейки я могла бы наклеить на задний бампер: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке», «Корпоративный альтруизм абсурден по определению».
— Вы считаете, для вашей сестры основным мотивом стали деньги? — осведомляется мистер Райт.
— Нет. Эксперимент был для нее единственным шансом излечить ребенка от болезни. В случае необходимости Тесс сама заплатила бы кому угодно, хотя, думаю, тот, кто дал ей деньги, об этом не подозревал. По ее виду было понятно, что она, как и Кася, нуждается. — Я беру паузу, пока мистер Райт делает пометки, затем продолжаю: — После того как Тесс впервые рассказала мне о новом методе лечения, я детально изучила информацию на сайте проекта, однако о финансовой стороне дела не задумывалась. Позже из Интернета я выяснила, что участие в медицинских экспериментах оплачивается на законных основаниях. Существуют даже специальные сайты по набору добровольцев с рекламными обещаниями вроде «Вам будет на что поехать в отпуск!».
— Это распространялось и на участниц эксперимента, проводимого компанией «Хром-Мед»?
— Нет. На веб-сайте, где была подробно изложена медицинская сторона проекта, ни словом не говорилось о каком-либо вознаграждении. Разработка генетических методов лечения требует огромных средств. В сравнении с этим триста фунтов — сумма смехотворная, но и она вызывала подозрения. На сайте «Хром-Мед» указывались электронные адреса всех сотрудников компании — видимо, для демонстрации публичности проекта, — и я написала письмо профессору Розену. Я была уверена, что подготовку ответа он поручит кому-нибудь из своих подчиненных, и все же решила попробовать.
Мистер Райт кладет перед собой копию моего письма.
От: Беатрис Хемминг, с Айфона
Кому: [email protected]
Уважаемый профессор Розен.
Не могли бы Вы объяснить, в связи с чем беременным женщинам, принимающим участие в испытаниях генетического метода лечения муковисцидоза, выплачивают по триста фунтов стерлингов? Или Вы предпочитаете называть это компенсацией?
Беатрис Хемминг
Как я и предполагала, профессор не ответил, но я не отходила от компьютера и продолжала рыться в Сети. Придя с улицы, я даже не сняла пальто, а сумку бросила при входе. Свет я не включала, и в комнате уже сгустилась темнота. Когда вошел Тодд, я едва взглянула в его сторону и даже не поинтересовалась, где он был целый день.
— Представляешь, Тесс и Касе заплатили за участие в эксперименте, хотя это нигде не зафиксировано.
— Беатрис…
Тодд перестал называть меня «дорогая».
— Но главное в другом, — возбужденно говорила я. — Раньше мне не приходило в голову поинтересоваться финансированием проекта, а сейчас я узнала кое-что важное. На сайтах серьезных изданий, таких как «Файнэншл таймс» и «Нью-Йорк таймс», говорится, что уже через две-три недели «Хром-Мед» выбросит на рынок пакет акций.
Об этом наверняка писали в газетах, но после твоей смерти я перестала их читать. Новость об акциях «Хром-Мед» имела для меня огромное значение, однако Тодд никак не отреагировал.
— Совет директоров «Хром-Мед» готовится получить фантастические прибыли. Оценки сетевых источников разнятся, но в любом случае речь идет об огромных деньгах, — продолжала я. — А поскольку все сотрудники компании — акционеры, им тоже достанется по куску пирога.
— «Хром-Мед» вложил в исследования миллионы, если не миллиарды, — раздраженно произнес Тодд. — Эксперимент оказался удачным, проект окупил себя, и сейчас компания размещает акции на рынке. Абсолютно логичный шаг в бизнесе.
— Но выплаты женщинам…
— Прекрати! Ради Бога, прекрати! — вдруг заорал Тодд.
На несколько секунд мы оба растерялись. За четыре года, проведенных вместе, мы ни разу не повысили друг на друга голос. Крик представлялся чем-то неприлично-интимным. Тодд постарался совладать с собой и продолжил более спокойно:
— Сперва ты приплела женатого преподавателя, потом чокнутого студента, а теперь еще и эксперимент, который, между прочим, получил полную поддержку мирового научного сообщества и СМИ.
— Да, я подозреваю всех подряд, в том числе ученых, проводивших эксперимент, так как пока не знаю, кто и за что убил Тесс. Известно лишь, что ее убили, поэтому я обязана отрабатывать любые версии.
— Нет, не обязана. Отрабатывать версии — дело полиции, и она со своей задачей справилась, а ты докапываешься неизвестно до чего.
— Моя сестра погибла от рук убийцы.
— Дорогая, рано или поздно ты должна принять, что…
Я перебила Тодда:
— Тесс ни за что на свете не совершила бы самоубийства!
В этот момент нашей ссоры и я, и Тодд одновременно смутились. Мы словно бы снимались в каком-то дурацком фильме, произнося реплики из нелепого, тяжеловесного сценария.
— Ты веришь в то, во что хочешь верить, — язвительно сказал Тодд, — но это отнюдь не означает, что твои представления соответствуют истине.
— Откуда тебе знать, что истинно, а что нет? — не выдержала я. — Ты видел мою сестру всего несколько раз, да и то почти не общался с ней. Люди такого типа, как она, тебя не интересовали!
Я скандалила осознанно, уверенно, на повышенных тонах, но в глубине души опять свернула на окружную дорогу наших отношений и сохраняла внутреннее спокойствие. Я продолжала свой спектакль, немного удивляясь тому, как легко мне это удается, учитывая, что раньше никогда не устраивала ссор.
— Как ты ее называл? Ненормальная? — спросила я, не рассчитывая на ответ. — Оба раза, когда мы ужинали вместе с Тесс, ты даже не дал себе труда послушать, о чем она говорит! Ты составил свое мнение, совершенно не зная человека!
— Ты права. Я не был близко знаком с твоей сестрой и признаю, она действительно не вызывала у меня симпатии. Если честно, Тесс меня раздражала. Однако сейчас речь идет не о том, насколько…
— Ты осудил ее только потому, что она училась в художественном колледже, жила и одевалась так, как ей нравилось!
— Ради всего святого…
— Ты не видел в ней личность!
— Беатрис, ты в корне ошибаешься. Послушай, я знаю, ты пытаешься переложить на кого-то ответственность за смерть сестры и не хочешь чувствовать виноватой себя. — Слышно было, что Тодд сдерживается с трудом; его интонации напомнили мне мое собственное общение с полицией. — Тебе страшно жить с этой виной, и это вполне естественно. Я хочу, чтобы ты поняла лишь одно: как только ты смиришься с действительностью, то сразу осознаешь, что тебе не в чем себя винить. Тесс покончила жизнь самоубийством. Причины его известны, с ними согласны все — и полиция, и коронер, и врачи, и даже твоя мать. В смерти Тесс не виноват никто, в том числе ты. Поверь в это — и сможешь двигаться дальше. — Тодд неловко положил руку на мое плечо. Как и мне, физический контакт дается ему непросто. — Я взял два билета домой, рейс — сразу после похорон.
Я молчала. Разве я могла улететь?
— Понимаю, ты переживаешь за мать, думаешь, что ей нужна твоя поддержка, — продолжал Тодд, — но и она считает, что тебе лучше поскорее вернуться домой, к нормальной жизни. — Он убрал руку с моего плеча, хлопнул ладонью по столу. Я обратила внимание и на это проявление эмоций, нехарактерное для Тодда, и на помехи, пробежавшие по экрану. — В последнее время я тебя не узнаю. Даже сейчас, когда я распинаюсь перед тобой, ты не удосуживаешься оторвать взгляд от чертова монитора!
Я обернулась и только теперь заметила побелевшее лицо и ссутуленные плечи Тодда.
— Прости, я не могу покинуть Лондон до тех пор, пока не выясню, что случилось на самом деле.
— Мы все знаем, что случилось на самом деле. Ты должна смириться. Жизнь продолжается, Беатрис, наша жизнь.
— Тодд…
— Понимаю, тебе очень тяжело без сестры, но ведь у тебя есть я. — К глазам Тодда подступили слезы. — Через три месяца мы станем мужем и женой.
Я молчала, пытаясь подобрать слова. Тодд вышел на кухню. Я не могла внятно объяснить, что не имею права выходить замуж, ведь брак — это обязательство перед будущим, а будущего без тебя я не представляла. Причина моего решения заключалась именно в этом, а не в том, что я не испытывала к Тодду страстной любви.
Я пришла на кухню. Тодд стоял спиной, и в этот момент я увидела, каким он будет в старости.
— Тодд, прости, но я не…
Он резко обернулся:
— Я люблю тебя, черт подери!
Он кричал на меня, как абориген на чужестранца, рассчитывая, что громкость объяснит смысл непонятных слов, надеясь криком вызвать во мне ответную любовь.
— Ты совсем не знаешь меня, иначе никогда бы не полюбил.
Это правда. Тодд не знал меня, потому что я этого не позволяла. Если у меня и была своя песня, я ни разу не пела ее для Тодда; никогда не проводила воскресное утро в постели вместе с ним. Это я всегда придумывала повод встать и куда-нибудь отправиться. Может, он и заглядывал мне в глаза, только я на него не смотрела.
— Ты заслуживаешь лучшего, — промолвила я и попыталась взять его за руку, но он ее отдернул. — Прости.
Тодд отшатнулся от меня. Однако мне действительно было очень больно тогда, и больно до сих пор. К сожалению, я не хотела замечать, что по безопасной окружной дороге двигаюсь только я, а Тодд все это время находился внутри нашей связи, одинокий и уязвимый. Я опять повела себя жестоко и эгоистично по отношению к близкому человеку, вместо того чтобы о нем заботиться.
До твоей смерти я считала, что у нас с Тоддом серьезные, зрелые отношения, но с моей стороны это было всего-навсего малодушием, пассивной позицией, обусловленной многолетней неуверенностью в себе и жизни, тогда как Тодд на самом деле заслуживал, чтобы его выбрали по любви и любили искренно.
Через несколько минут он ушел, не сказав куда.
Мистер Райт решил устроить «деловой ленч» и достал сандвичи, заказанные в кафе. Он ведет меня по безлюдным коридорам в переговорную, где есть стол. Огромный офис, в котором сидим только мы, почему-то кажется уютным.
Я не рассказала ему о том, что во время своего расследования разорвала помолвку и что Тодд, у которого в Лондоне не было ни одной знакомой души, ушел в метель и провел ночь в гостиничном номере. Я упоминаю лишь про акции компании «Хром-Мед».
Мистер Райт просматривает распечатку телефонных звонков, предоставленную полицией, и спрашивает:
— В двадцать три тридцать вы набирали номер сержанта Финборо, верно?
— Да. Оставила сообщение с просьбой перезвонить мне. Поскольку до половины десятого утра он так и не позвонил, я не стала ждать и отправилась в больницу Святой Анны.
— Вы заранее туда собирались?
— Да. В прошлый раз старшая акушерка обещала найти карту Тесс и просила прийти.
К больнице я подошла в большом волнении, ожидая наконец встретить того врача, который принимал у тебя роды. Я подсознательно чувствовала, что обязана поговорить с этим человеком, хотя сама не знала почему. Возможно, в наказание, чтобы в полной мере ощутить свою вину. Я пришла на пятнадцать минут раньше и решила подождать в больничном кафетерии. Усевшись за столик с чашкой кофе, я увидела на экране телефона значок нового сообщения.
Кому: Беатрис Хемминг, на Айфон
Уважаемая мисс Хемминг.
Уверяю Вас, мы не выплачиваем участницам эксперимента никакого вознаграждения. Все они принимают участие в проекте совершенно добровольно и безвозмездно. Если Вы пожелаете обратиться в Комитет по этике, то сами убедитесь, что во время нашего научного исследования соблюдаются самые строгие этические нормы.
С наилучшими пожеланиями,
Сара Стонакер,
пресс-секретарь профессора Розена
Я немедленно написала ответ.
От: Беатрис Хемминг, с Айфона
Кому: [email protected]
В проекте принимала участие моя сестра. После эксперимента ей заплатили триста фунтов. Ее звали Тесс Аннабел Хемминг (Аннабел — в честь бабушки), ей был двадцать один год. Ее убили после того, как она родила мертвого ребенка. Похороны Тесс и малыша состоятся в четверг. Если бы Вы знали, как страшна тоска.
Место для написания письма было самое подходящее. Я представляла, как боль и смерть, запертые в палатах наверху, просачиваются сквозь этажи и невидимым туманом осаждаются здесь, в больничном кафетерии, в чашках с травяным чаем и капуччино. Наверняка за этим и соседними столиками было написано не одно эмоциональное письмо, подобное моему. Я сильно сомневалась, что пресс-секретарь передаст его профессору Розену.
Мне не оставалось ничего другого, кроме как расспросить сотрудников больницы о деньгах.
За пять минут до назначенного времени я поднялась в лифте на четвертый этаж и вошла в родильное отделение.
Старшая акушерка встретила меня с удрученным выражением лица, хотя, возможно, выбивающиеся из-под колпака кучерявые рыжие волосы придавали ей озабоченный вид постоянно.
— К сожалению, нам так и не удалось найти медицинскую карту вашей сестры, а без нее мы не смогли выяснить, кто из нашего персонала присутствовал на родах.
Я ощутила облегчение, но сочла, что сдаться сразу — значит проявить трусость.
— Может быть, кто-нибудь припомнит?
— Боюсь, что нет. В последние три месяца мы испытываем острую нехватку персонала и привлекаем к работе большое число временных врачей и акушерок. Полагаю, в тот день дежурил кто-нибудь из них.
В разговор вступила молоденькая медсестра с панковским кольцом в ноздре, сидевшая за столом на сестринском посту:
— В нашей компьютерной базе хранится общая информация — дата и время поступления и выписки пациенток, а в случае с вашей сестрой, к несчастью, еще и сведения о смерти младенца, но больше ничего — ни анамнеза, ни данных о закреплении за определенным врачом. Вчера я лично справлялась в психиатрическом отделении. Доктор Николс сказал, что вообще не видел медицинскую карту вашей сестры и что персонал родильного отделения «совсем разболтался». Доктор был не на шутку сердит, хотя обычно ведет себя очень спокойно.
Я вспомнила, как доктор Николс говорил, что не имел возможности изучить твою историю болезни. Тогда я не знала, что это связано с пропажей карты.
— Может быть, данные из медкарты сохранились где-нибудь в базе? — с надеждой спросила я.
Старшая акушерка покачала головой:
— Наблюдая беременных, мы заносим всю информацию только на бумагу, чтобы женщина всегда носила карту с собой на случай, если будет далеко от больницы, когда начнутся схватки. Потом мы прикладываем туда же родовой лист, и после выписки пациентки карта отправляется на хранение в архив.
Настойчиво зазвенел телефон, однако старшая акушерка продолжала разговаривать со мной, не обращая на него внимания.
— Прошу принять мои извинения. Мы понимаем, насколько это для вас важно.
Она сняла трубку телефона, а мое первоначальное облегчение сменилось подозрительностью. Может быть, в медицинской карте была какая-то зацепка, ключик к раскрытию убийства? Не поэтому ли она «пропала»? Я дождалась, пока старшая акушерка закончит разговор.
— Вам не кажется странной утеря медицинских документов? — спросила я.
— К сожалению, здесь нет ничего странного, — вздохнула старшая акушерка.
Проходивший мимо дородный врач-консультант, одетый в темный костюм в узкую белую полоску, задержался и вставил:
— Во вторник из моей диабетической клиники пропала целая тележка с медицинскими документами. Кипа бумаг — и все провалились в какую-то административную черную дыру.
Краем глаза я увидела доктора Сондерса, который подошел к сестринскому посту и просматривал карту пациентки. Меня он не замечал.
— В самом деле? — равнодушно отозвалась я, однако Полосатый консультант продолжал развивать тему:
— В прошлом году строители сдали больницу Святого Иоанна, напрочь забыв построить морг. Когда скончался первый больной, его просто некуда было девать!
Старшую акушерку его присутствие явно смутило, а я удивилась: с какой стати Полосатый со мной откровенничает?
— Когда переводили в другое место пациентов из отделения подростковой онкологии, никто не позаботился перевезти замороженные яйцеклетки и сперму, — не унимался он. — А теперь их шансы продолжить свой род после выздоровления равны нулю.
Доктор Сондерс заметил меня и ободряюще улыбнулся.
— Поверьте, мы не всегда так потрясающе безответственны.
— Вам известно, что участницам генетического эксперимента по лечению муковисцидоза выплачивалось вознаграждение? — задала вопрос я.
— Нет, я этого не знал, — ответил Полосатый, слегка обидевшись за резкую смену темы.
— Я тоже, — добавил доктор Сондерс. — А в каком размере?
— По триста фунтов.
— Скорее всего просто добрый жест со стороны кого-то из персонала, — сдержанно произнес доктор Сондерс и опять напомнил мне тебя — ты тоже старалась видеть в людях только хорошее. — Помните прошлогодний случай с сиделкой из онкологии? — обратился он к коллеге.
Полосатый консультант кивнул.
— Истратила все деньги транспортного отдела на новую одежду для старика, которого ей стало жалко.
К разговору присоединилась молоденькая медсестра с проколотой ноздрей.
— Кстати, акушерки тоже нередко пытаются помогать нуждающимся мамочкам и при выписке дают им с собой подгузники и детскую смесь, а иногда «исчезает» ванночка или стерилизатор.
— Хотите сказать, вернулись те времена, когда медицинские сестры были сестрами милосердия? — ухмыльнулся Полосатый.
Медсестра сердито посмотрела на него, а тот расхохотался.
Почти одновременно прозвучал сигнал мобильного и зазвонил телефон на посту. Консультант в полосатом костюме отошел в сторону, чтобы ответить на звонок; медсестра взяла трубку аппарата, а старшая акушерка поспешила в палату, вызванная кем-то из пациенток. Я осталась наедине с доктором Сондерсом.
Симпатичные мужчины, не говоря уже о настоящих красавцах, с юных лет внушали мне робость. Меня пугает не столько неизбежность быть отвергнутой, сколько их холодный взгляд «сквозь», из-за которого я словно превращаюсь в невидимку.
— Хотите кофе? — улыбнулся доктор Сондерс.
Я отрицательно покачала головой, наверняка покраснев. Мне не хотелось быть объектом жалости.
Признаюсь, хотя официального разрыва с Тоддом пока не произошло, в глубине души я немного помечтала о романе с доктором Сондерсом, сознавая, однако, что эта мечта неосуществима. Даже если допустить, что он мог бы увлечься мной, фантазия не увела бы меня далеко, ведь его обручальное кольцо не позволяло вообразить наши отношения сколь-нибудь прочными или длительными, как мне того хотелось бы.
— Я оставила старшей акушерке номер своего мобильного на случай, если медицинская карта Тесс вдруг отыщется. Правда, она предупредила, что карта может быть утеряна безвозвратно.
— Вы сказали, что пропажа карты вызвала у вас подозрения, правильно?
— Поначалу да, но чем дольше я находилась в больнице, тем труднее было представить что-либо зловещее. Здесь все работали бок о бок в буквальном смысле, заглядывая друг другу через плечо. Вряд ли злоумышленнику удалось бы совершить что-то серьезное в стенах больницы. Правда, я не знала, что подразумевает под собой это «что-то».
— А выплаты?
— Сотрудники больницы нисколько не изумились этому факту и уж тем более не усмотрели в нем чего-либо подозрительного.
Мистер Райт вновь проглядывает распечатку моих звонков.
— Детектив Финборо так и не перезвонил вам. Почему вы не стали добиваться разговора с ним?
— А что бы я ему сказала? Что беременным женщинам заплатили за участие в эксперименте, но в больнице Святой Анны никто этому не удивился? Что компания «Хром-Мед» выпустила дополнительные акции, но даже мой жених признал логичность подобного хода? Или то, что медицинская карта Тесс таинственным образом исчезла, но такие вещи случаются в больнице сплошь и рядом? Мне не с чем было идти к сержанту Финборо.
У меня пересыхает во рту. Сделав глоток воды, я продолжаю:
— Я пришла к выводу, что версия, связанная с экспериментом и больницей, завела меня в тупик и что необходимо отработать мои первоначальные подозрения относительно Эмилио Коди и Саймона. Я знала, что большинство убийц находятся в ближайшем бытовом окружении жертвы. Забыла, где я это слышала.
Зато помню, как подумала о том, что слова «убийство» и «быт» несовместимы. Быт — это глажка белья воскресным вечером или укладывание тарелок в посудомоечную машину, а убийство — совсем из другого ряда.
— Выходило, что убийцей мог быть и Эмилио, и Саймон. Первый имел явный мотив, а второй страдал от безответной любви, и фотографии служили тому подтверждением. С обоими Тесс свел колледж: Саймон — ее однокашник, Эмилио — преподаватель. Туда я и отправилась сразу после больницы, надеясь собрать какую-то информацию.
Мистер Райт, наверное, думает, что я действовала твердо и решительно, на самом же деле я просто не хотела возвращаться домой. Отчасти из-за того, что ничуть не продвинулась в расследовании, а еще потому, что пыталась избежать встречи с Тоддом. Он позвонил и пообещал прийти на твои похороны, однако я сказала, что в этом нет необходимости. Причин откладывать отлет в Штаты у Тодда больше не было, ему осталось только зайти к тебе на квартиру и собрать вещи. Я не желала находиться там в это время.
Подъездные аллеи и дорожки, ведущие к колледжу искусств, были завалены снегом, почти все окна — погружены во тьму.
Секретарь на кафедре, девушка с немецким акцентом, сказала, что сегодня последний из трех академических, то есть неучебных, дней, и разрешила мне оставить несколько объявлений. В первом я сообщала о месте и времени похорон, а во втором просила твоих друзей прийти на встречу со мной через две недели в кафе напротив колледжа. Я сделала это импульсивно, поставив дату наугад. Моя просьба, размещенная среди объявлений о съеме жилья и продаже подержанных вещей, выглядела странно. Вряд ли кто-нибудь откликнется, решила я, но не стала снимать листок с доски.
У двери твоей квартиры я увидела Тодда. Он мерз в темноте, накинув на голову капюшон, чтобы защититься от мокрого снега.
— У меня нет ключа.
Я думала, у него есть дубликат.
— Извини.
Я отперла замок, он вошел в квартиру.
Через полуоткрытую дверь спальни я наблюдала, как он укладывает в чемодан одежду — аккуратно, тщательно. Неожиданно Тодд обернулся и как будто застал меня врасплох: в первый раз за все время мы по-настоящему смотрели друг другу в глаза.
— Поедем со мной. Прошу тебя.
Глядя на безупречно свернутые вещи и вспомнив размеренный ритм нашей жизни в Нью-Йорке — тихую гавань, убежище от бушующего здесь шторма, я заколебалась. Однако моя аккуратно сложенная жизнь осталась в прошлом, возврата к ней быть не могло.
— Беатрис?
Я мотнула головой, и от этого короткого движения у меня перед глазами все поплыло.
Тодд предложил вернуть машину, взятую напрокат в аэропорту. В конце концов, я не знала, как долго пробуду в Лондоне, к тому же аренда автомобиля обходилась непомерно дорого. Приземленность нашего разговора, внимание к мелочам казались столь привычными и умиротворяющими, что я едва не попросила Тодда остаться. И все же не сделала этого. Не имела права.
— Если нужно, я задержусь до похорон, — предложил он.
— Не стоит. Спасибо.
Я отдала Тодду ключи от машины, и только потом, когда он завел двигатель, вспомнила, что не вернула кольцо. Крутя его на пальце, я смотрела в окно вслед отъехавшему автомобилю и еще долго вглядывалась во мрак, прислушиваясь к шуму двигателей чужих машин. Клетка одиночества захлопнулась.
Я рассказала мистеру Райту о своем визите в колледж, умолчав о разрыве с Тоддом.
— Не против, если я схожу за пирожными? — неожиданно спрашивает он.
— Вы очень любезны, — растерянно лепечу я.
«Очень любезны». Завтра возьму с собой словарь синонимов. Может, он действительно проявляет любезность, а может, просто голоден. А если это романтический жест — чай вдвоем, совсем как в старину? Мне отчего-то хочется верить, что это именно так.
Мистер Райт выходит из кабинета, а я набираю рабочий номер Тодда. Секретарша не узнает меня по голосу — наверное, полностью восстановились родные английские интонации — и переключает на него. Между нами до сих пор существует определенная неловкость, но уже в меньшей степени, чем раньше. Мы выставили на продажу нашу общую квартиру и теперь обсуждаем детали. Внезапно Тодд меняет тему:
— Я видел тебя в новостях. Ты в порядке?
— Да, спасибо.
— Я хотел бы попросить у тебя прощения…
— Мне не за что тебя прощать. По правде говоря, это я…
— Нет-нет, я должен извиниться. Ты оказалась полностью права насчет сестры.
Повисает неловкая тишина. Я прерываю паузу:
— Ну как, вы с Карен съезжаетесь?
— Да, — чуть помедлив, отвечает Тодд. — Разумеется, пока квартира не продана, я буду продолжать выплачивать свою долю кредита.
Карен — его новая девушка. Когда Тодд рассказал о ней, я почувствовала, хоть меня и кольнула совесть, явное облегчение. Хорошо, что он утешился так быстро.
— Я решил, ты не будешь возражать, — говорит Тодд, а мне почему-то кажется, что именно на это он и надеялся. С напускной бодростью он продолжает: — Все почти так же, как было у нас с тобой, только совсем наоборот.
Я не нахожусь с ответом.
— Если уж поровну любить нельзя, — шутливо произносит Тодд.
Его наигранный тон, однако, не вводит меня в заблуждение, и я со страхом ожидаю завершения: «Тем, кто любит больше, пусть буду я»[9].
Мы говорим друг другу «до свидания».
Я уже напоминала тебе, что когда-то изучала литературу, верно? У меня в запасе целая уйма цитат, но все они, как ни странно, лишь подчеркивают неполноценность моей жизни, вместо того чтобы поднимать боевой дух.
Мистер Райт приносит стаканчики с чаем и пирожные. Мы делаем небольшой перерыв в работе и беседуем о пустяках — о погоде, теплой не по сезону, о первоцветах в парке Сент-Джеймс, о кустиках пионов у тебя на заднем дворе. Наше чаепитие носит легкий романтический налет, оттенок невинности, характерной для девятнадцатого столетия, хотя, конечно, вряд ли героини Джейн Остен пили чай из одноразовых стаканчиков, да и сладости тогда не упаковывали в прозрачные пластиковые коробки.
Надеюсь, мистер Райт не обидится, что я не смогла доесть пирожное из-за подступившей тошноты.
После чая мы возвращаемся к предыдущей порции моих показаний. Мистер Райт делает необходимые уточнения, а потом предлагает завершить работу. Он вынужден провести в офисе еще некоторое время, чтобы разобраться с бумагами, и все же проявляет любезность, сопровождая меня к лифту. Мы идем по длинному коридору мимо пустых темных кабинетов, и кажется, будто мистер Райт провожает меня до дома. Он ждет, пока двери лифта откроются и я войду в кабину.
Покинув здание уголовного суда, я иду на встречу с Касей. Я потратила свой двухдневный заработок — купила билеты на колесо обозрения, куда обещала ее сводить. Однако от усталости я еле тащусь по улице, отяжелевшие руки и ноги меня не слушаются, и я хочу лишь одного — прийти домой и лечь спать. Завидев длинный хвост очереди, я досадую, что знаменитый «Лондонский глаз» превратил город в современного циклопа.
Кася машет мне рукой — она стоит в самом начале очереди. Должно быть, провела здесь не один час. Окружающие бросают на нее взгляды — видимо, опасаются, что схватки начнутся прямо в кабинке-капсуле, на высоте. Я присоединяюсь к ней, и через десять минут нас уже приглашают на посадку.
Капсула поднимается вверх, под нами разворачивается панорама Лондона, и я уже не ощущаю усталости и недомогания; меня переполняет восторг. Конечно, похвастаться зарядом энергии я не могу, зато сегодня по крайней мере не теряла сознания, а это хороший знак. Возможно, еще есть надежда, что я уцелею и все обойдется.
Я показываю Касе достопримечательности, прошу людей на южной стороне подвинуться, чтобы она могла увидеть Биг-Бен, электростанцию Баттерси, палату общин, Вестминстерский мост. Я вытягиваю руку, знакомя Касю с моим родным городом, и сама изумляюсь не только собственной гордости за красоту Лондона, но и тому, что он по-прежнему мой. Раньше я предпочитала жизнь за океаном, в Нью-Йорке, но сейчас по какой-то необъяснимой причине остро чувствую, что мое место здесь.
Понедельник
Я просыпаюсь на удивление рано. Запеканка пушистым клубком с мурлыканьем трется о мои ноги. (Прежде я не понимала, с чего тебе взбрело в голову подобрать бездомного котенка.) Мистер Райт сказал, что сегодня мы должны «пройти» день твоих похорон. В половине шестого утра я оставляю бесплодные старания заснуть и выхожу на задний дворик. Сперва я должна проговорить свои показания про себя, убедиться, что не упустила ни одной важной подробности, однако, несмотря на мои попытки сосредоточиться, мысли ускользают. Я рассеянно смотрю на листья и бутоны, усыпавшие ветки, которые, как я считала, уже не возродятся к жизни. Правда, одна беда все-таки случилась: роза сорта «Констанс спрай» погибла, отравленная лисьей мочой, и вместо нее я посадила «Кардинала Ришелье». Ни одна лиса не посмеет мочиться на кардинала.
Кто-то накидывает мне на плечи пальто. Я оборачиваюсь и вижу Касю, которая сонно тащится обратно в постель. Твоя ночнушка уже не налезает на ее огромный живот. Осталось всего три дня. Кася попросила меня присутствовать на родах, быть ее «повитухой». Для меня это звучит слишком громко, ведь я совсем не знаю, что нужно делать. Ты ничего не говорила мне насчет обязанностей повитухи, когда собиралась рожать Ксавье, просто хотела, чтобы я находилась рядом. Возможно, ты думала (между прочим, правильно), что я могу испугаться, а может, чтобы быть вместе с тобой, мне не требовалось особой «должности». Я — твоя сестра и тетя Ксавье. Этого достаточно.
Ты можешь подумать, что Кася — мой шанс искупить вину перед тобой, но это было бы слишком просто. Пожалуйста, не считай, что она для меня лекарство, ходячий и разговаривающий курс прозака. Тем не менее именно Кася заставила меня посмотреть в будущее. Помнишь, Тодд говорил: «Жизнь должна продолжаться»? Поскольку я не могла перемотать ленту времени назад к тому моменту, когда ты была жива, я хотела «встать на паузу», ведь двигаться вперед означало бы проявить эгоизм. Однако растущий ребенок Каси (она узнала, что родится девочка) — наглядное доказательство тому, что жизнь действительно не стоит на месте, антоним фразы memento mori. Не знаю, существует ли выражение memento vitae.
Эмиас был прав: утренний хор здесь действительно громкий и многоголосый. Птицы стараются во всю мочь уже больше часа. Я пытаюсь вспомнить, кто за кем поет. Если не ошибаюсь, сейчас должен вступить лесной жаворонок. Изумленно слушая трели жаворонка, похожие на прелюдии Баха, я испытываю странное умиротворение и вспоминаю твои похороны.
Ночь перед похоронами я провела в Литтл-Хадстоне, в своей детской спальне. Я уже много лет не спала в односпальной кровати. Давно забытый узкий матрас, тщательно подоткнутая простыня и стеганое пуховое одеяло создали ощущение уюта. Я встала в половине шестого утра, а когда спустилась вниз, обнаружила, что мама уже возится на кухне. На столе стояли две кружки кофе. Передав мне мою, она сказала:
— Хотела принести кофе в спальню, но побоялась разбудить.
Даже не пригубив напиток, я знала, что он остыл. За окном еще не рассвело, по крыше стучал дождь. Мама беспокойно отдернула занавески, как будто хотела что-то разглядеть, но в темных стеклах было видно только ее собственное отражение.
— Когда человек умирает, ты помнишь его в разном возрасте, правда? — спросила она.
Пока я раздумывала над вопросом, мама продолжила:
— Ты, наверное, представляешь себе уже взрослую Тесс, ту, с которой была близка в последнее время. А я вот сегодня проснулась и вспомнила ее в трехлетнем возрасте. Она тогда надела красивую юбочку, которую я купила ей в «Вулворте», и игрушечную полицейскую каску, а в качестве жезла использовала деревянную ложку. Вчера в автобусе я вспоминала, как держала на руках малышку двух дней от роду, чувствовала ее тепло. Тесс крепко ухватила меня за большой палец своими пальчиками, такими крохотными, что они даже не смыкались. Я помню форму ее головы, помню, как гладила по затылку, пока она не засыпала, помню запах — Тесс пахла невинностью. Часто вспоминаю ее в тринадцатилетнем возрасте, когда она превратилась в настоящую красавицу, и я нервничала всякий раз, замечая обращенные на нее мужские взгляды. В моих воспоминаниях Тесс такая разная, но это все она, моя дочь…
Без пяти одиннадцать мы отправились в церковь. Ветер швырял потоки холодного дождя нам в лицо. Черная юбка липла к маминым мокрым коленям, мои сапоги были заляпаны грязью. Как ни странно, я радовалась непогоде. «Дуй, ветер! Дуй, пока не лопнут щеки! Лей, дождь, как из ведра…»[10] Конечно, передо мной была не степь, а всего лишь Литтл-Хадстон, хмурое утро и машины, в два ряда припаркованные вдоль дороги, ведущей к церкви.
Перед входом под проливным дождем собралось около ста человек, некоторые держали зонты, другие просто укрыли головы капюшонами. Сперва я решила, что двери еще закрыты, но потом поняла, что церковь переполнена и снаружи стоят те, кто не поместился внутри. В толпе я заметила сержанта Финборо и констебля Вернон, однако прочие люди за завесой дождя и эмоций слились для меня в неопределенную массу.
Глядя на людей, стоящих перед церковью, и представляя тех, кто внутри, я подумала, что у каждого из них есть собственные воспоминания о тебе — о твоем голосе, улыбке, манере смеяться, словах и поступках — и что если собрать все эти фрагменты воедино, можно было бы воссоздать твой полный портрет, сохранить тебя всю.
Отец Питер встретил нас у ворот кладбища и провел к церкви, держа над нашими головами зонтик. Он сказал, что разместил пришедших на хорах и поставил дополнительные стулья, но все равно не хватало даже стоячих мест. В сопровождении отца Питера мы прошли к церкви.
По дороге через кладбище я заметила одинокую сгорбленную фигуру мужчины. Он был без головного убора и насквозь промок. Мужчина стоял над темной ямой, ожидавшей, когда в нее опустят гроб с твоим телом. Я узнала отца. Много лет мы ждали его, но он все не приходил, и вот теперь он ждал тебя.
Медленно и мерно зазвонил церковный колокол. Этот звон — самый страшный звук на свете. В нем нет ничего человеческого, нет ритма жизни, только удар за ударом, подчеркивающие невосполнимость утраты. Мы подошли к дверям. Переступить порог церкви для меня казалось так же страшно и почти невозможно, как шагнуть в пустоту из окна небоскреба. Вероятно, мама разделяла мои чувства. Мы обе знали, что этот короткий шаг неизбежно приведет к тому, что твое тело засыплют тяжелой мокрой землей. Кто-то обнял меня за плечо, я обернулась и увидела отца. Другой рукой он поддерживал маму. Отец ввел нас в церковь. Увидев тебя, мама содрогнулась, и эта дрожь через отца передалась мне. Он продолжал бережно поддерживать нас, пока мы шли по бесконечному проходу к нашим местам в первом ряду, а затем сел между нами и взял обеих за руки. Никогда прежде я не испытывала такой горячей благодарности за простое прикосновение.
Один раз я обернулась и окинула взглядом людей, собравшихся в церкви и толпившихся на крыльце. Не было ли среди них — среди нас — убийцы?
Меня порадовало, что мама заказала полную заупокойную мессу — это все же на какое-то время откладывало момент твоего погребения. Ты никогда не любила проповеди, но речь отца Питера не оставила бы тебя равнодушной. Накануне был День святого Валентина, и, может быть, поэтому он выбрал тему неразделенной любви. Я могу почти точно процитировать его слова: «Когда я говорю о неразделенной любви, большинство из вас думают о любви романтической, между мужчиной и женщиной, хотя существует много других видов любви, которая изливается без ответа. Бунтующая девушка-подросток не любит свою мать столь же горячо, как мать любит ее; агрессивный отец, изрыгающий брань, не способен ответить на чистую любовь маленького сына. Однако высшее проявление неразделенной любви — это наша скорбь по умершим. Как бы сильно и долго мы ни любили тех, кого уже нет в живых, они не могут ответить на наши чувства. По крайней мере так нам кажется…»
По окончании мессы мы двинулись на кладбище. Безжалостный дождь превратил укрытую снежным покрывалом землю в грязную жижу.
Отец Питер начал читать погребальную молитву: «В руки Твои, Господи, вверяем сестру нашу Тесс и младенца Ксавье и предаем земле их тела. Земля к земле, пепел к пеплу, прах к праху в надежде на воскресение к вечной жизни через Господа нашего Иисуса Христа».
Я вспоминаю похороны Лео. Мне было одиннадцать, тебе шесть, я держала тебя за руку, сжимая твои маленькие нежные пальчики. Когда викарий произнес «в надежде на воскресение к вечной жизни», ты посмотрела на меня и сказала: «Я не хочу надеяться, Би, я хочу твердо знать, что Лео воскреснет».
На твоих похоронах я тоже хотела твердо знать, что ты воскреснешь, но даже церковь может лишь надеяться, но не гарантировать, что, умирая на Земле, человек возрождается к прекрасной вечной жизни на небесах.
Гроб с твоим телом опустили в глубокую узкую яму, вырытую в земле. Вниз, вниз, мимо торчащих корней, царапающих стенки, еще ниже. Я бы отдала что угодно, лишь бы еще раз хоть несколько секунд подержать тебя за руку. Что угодно.
Капли дождя забарабанили по крышке. «Кап-кап, дождик, кап-кап-кап», — пела я тебе. Мне уже было целых пять лет, а ты только родилась.
Гроб достиг дна ужасной ямы. Какая-то часть меня опустилась в грязную землю, легла рядом и умерла вместе с тобой.
Мама шагнула вперед, вытащила из кармана пальто деревянную ложку и разжала пальцы. Ложка ударилась о гроб. Твоя волшебная палочка.
А я похоронила письма, которые подписывала «L.O.L.». И звание старшей сестры. И прозвище Пчелка Би. Нашу родственную связь, не важную для прочих. Мелочи. Пустяки. Ты знала, что я не складывала слова из макаронных букв алфавита, а отдавала гласные тебе, чтобы у тебя получилось больше слов. Я знала, что сперва твоим любимым цветом был лиловый, а затем стал желтый («Охра — самый эстетский оттенок, Би!»), а ты знала, что я любила оранжевый до тех пор, пока не открыла для себя более глубокий серо-коричневый, и ты меня за это дразнила. А еще ты знала, что моей первой фарфоровой фигуркой был котенок (ты одолжила мне пятьдесят пенсов из своих карманных денег) и что однажды я вытащила всю свою одежду из школьного чемодана и разбросала ее по комнате — единственный раз, когда я дала выход своему дурному настроению. В пятилетнем возрасте ты на протяжении целого года каждую ночь залезала ко мне в кровать. Я похоронила все, что мы делили друг с другом — сильные корни, стебли, нежные листья и цветы сестринской дружбы, — бросила в землю рядом с твоим гробом. И осталась на краю могилы, настолько раздавленная горем, что находиться в этом месте мне было невыносимо.
Я позволила себе оставить лишь тоску. Что это такое? Слезы, подступающие к глазам, чувства, комком стоящие в горле, пустота в груди по размерам больше меня самой. Все, что у меня теперь есть? Двадцать один год любви к тебе, и ничего. Неужели это «ничего» должно заменить ощущение упорядоченности мира — моего мира, — основанное на твоем существовании, сформировавшееся еще в детстве и взрослевшее вместе со мной? Ужас пустоты ни с чем не сравнить. Я стала ничьей сестрой.
Отцу дали зачерпнуть горсть земли. Он вытянул руку над гробом, но не нашел в себе сил разжать пальцы и спрятал руку в карман, высыпав землю туда, а не на тебя. Глядя, как отец Питер бросил первую пригоршню земли на крышку гроба, отец побледнел и, шатаясь, побрел прочь. Я подошла к нему и взяла его перепачканную ладонь в свою, кожей ощутив шершавость земли. Он посмотрел на меня с любовью. Эгоистичный человек способен любить, несмотря на свой эгоизм, верно? Даже если он причинил любимому человеку боль, предал его. Кому, как не мне, это сознавать.
Когда закапывали твою могилу, мама не проронила ни звука. Взрыв в космосе происходит бесшумно.
* * *
Ее безмолвный крик все еще стоит у меня в ушах, когда я подхожу к зданию уголовного суда. Понедельник, кругом людно. Войдя в переполненный лифт, я, как обычно, начинаю нервничать, что он застрянет, у мобильника пропадет сигнал и Кася не сможет до меня дозвониться, если у нее начнутся роды. Благополучно добравшись до третьего этажа, я сразу проверяю, не поступало ли сообщений: нет. На всякий случай проверяю пейджер, номер которого есть только у Каси. Согласна, это перебор, но, как и недавнее обращение в католичество, моя трансформация во внимательного и заботливого человека должна быть абсолютно полной, с молитвенными четками, воскурением благовоний, пейджером и особым рингтоном на телефоне, установленным специально для Каси.
Я наконец-то поняла, что не обладала даром заботливости с рождения и не могу считать его неотъемлемой чертой своего характера. И да, возможно, мои тревоги по поводу Каси — способ перевести мысли в сторону тех, кто жив. Memento vitae. Мне это необходимо.
Я вхожу в кабинет мистера Райта. Сегодня он не приветствует меня улыбкой, возможно, потому, что на этот раз мне предстоит говорить о твоих похоронах, или потому, что романтическая искорка, мелькнувшая за чаем в воскресенье, угасла под тяжестью моих слов. Свидетельские показания по делу об убийстве вряд ли похожи на любовный сонет. Держу пари, птицы Эмиаса не поют друг дружке о таких вещах.
Мистер Райт опустил жалюзи, чтобы укрыться от яркого весеннего солнца, и это приглушенное освещение кажется мне весьма уместным для монолога о похоронах. Сегодня я постараюсь не упоминать о своем нездоровье, ведь, еще раз повторюсь, я не имею права жаловаться, тогда как твое искалеченное тело погребено в земле.
Строго придерживаясь фактов, а не эмоций, я рассказываю мистеру Райту о том, как прошли похороны.
— После похорон у меня появились две новые зацепки, на тот момент еще смутные, — говорю я, опустив описание нечеловеческой муки, пережитой мной возле твоей могилы. — Во-первых, я поняла, почему Эмилио Коди — если убийца он — вынужден был дождаться рождения Ксавье.
Мистер Райт не понимает, что я имею в виду, а ты, думаю, догадалась.
— Я всегда знала, что у Эмилио есть мотив, — продолжаю я. — Роман с Тесс ставил под угрозу его карьеру и брак. И хотя жена не подала на развод, узнав правду, он не мог предполагать этого заранее. Возникал вопрос: если преступник — Эмилио и Тесс он убил, чтобы сохранить семью, почему было не сделать этого сразу, еще когда она отказалась делать аборт?
Мистер Райт кивает — он заинтригован.
— Во-вторых, я вспомнила, что именно Эмилио Коди позвонил в полицию после того, как увидел меня по телевизору в роли Тесс, и сказал, что она уже родила. Это означало, что он либо виделся с ней, либо разговаривал по телефону. Поскольку он уже писал на меня жалобу, мне следовало действовать осторожно, чтобы меня не обвинили в преследовании. Я позвонила Эмилио и спросила, нужны ли ему еще портреты Тесс. Он был очень зол на меня, однако по-прежнему хотел забрать картины.
Эмилио казался слишком крупным для твоей квартиры — от присутствия большого разгневанного мужчины она сразу стала еще теснее. Эмилио не поленился развернуть каждый портрет с твоей обнаженной фигурой. Проверял, не испортила ли я их, не подрисовала ли где-нибудь фиговый листок? Или просто еще раз хотел полюбоваться твоим телом?
— Какого черта ты рассказала моей жене про свою сестру, про муковисцидоз и все остальное? — злобно прошипел Эмилио. — Мало того что теперь она сама ходит по анализам, так еще и меня заставила проверяться!
— Очень благоразумно с ее стороны. У вас, несомненно, присутствует дефектный ген, иначе Ксавье не был бы болен. Чтобы ребенок унаследовал заболевание, носителями должны быть оба родителя.
— Знаю. Генетики все нам разжевали. Вопрос в том, я ли отец этого ребенка!
Я изумленно посмотрела на Эмилио.
— Тесс была девушкой без комплексов, — раздраженно пожал плечами он. — У нее вполне могли быть другие любовники.
— Она бы сказала. И вам, и мне. Тесс никогда не лгала.
Эмилио промолчал, зная, что это так.
— Это вы известили полицию о том, что ребенок уже родился? — спросила я.
— Я счел, что так будет правильно.
Опровергнуть его? Этот человек ни разу не поступил правильно. Однако я задавала вопросы для другой цели.
— Значит, Тесс сказала вам, что Ксавье умер?
Эмилио не ответил.
— Вы встречались или разговаривали по телефону?
Он взял под мышку картины и направился к двери, но я загородила проход.
— Тесс хотела, чтобы вы признали Ксавье?
— Давай раз и навсегда разберемся с этим. Когда она сообщила о своей беременности, я выразился абсолютно ясно. Однозначно дал понять, что не намерен оказывать какую-либо помощь и признавать отцовство. Кстати, Тесс не стала поднимать шума и даже сказала, что ребенку без меня будет лучше.
— Допустим. А потом, когда Ксавье умер?
Эмилио опустил картины на пол. На мгновение мне показалось, что сейчас он меня оттолкнет, однако вместо этого он поднял руки в совершенно нелепом театральном жесте, отталкивающем в своей детскости.
— Ладно, сдаюсь. Она пригрозила открыть правду.
— То есть Тесс требовала, чтобы вы признали Ксавье вашим сыном?
— Именно.
— Мальчик уже был мертв. Она просто хотела, чтобы отец не стыдился собственного ребенка.
Стоя в той же позе, Эмилио стиснул кулаки, и я подумала, что он собирается меня ударить, однако его руки безвольно упали по сторонам.
— Спроси лучше того мальчишку, который все время таскался за ней со своим идиотским фотоаппаратом. Он был помешан на твоей сестре. И дьявольски ревнив!
— Я знала, что Тесс ни о чем не просила бы своего любовника, если бы ребенок выжил, но когда Ксавье умер, ей было невыносимо сознавать, что Эмилио не признал собственного сына.
Глядя на отца, стоявшего у могилы, я поняла, что он искупил свою вину. В тот день и час, когда твое бездыханное тело предавали земле, он пришел и доказал, что он твой отец. Отрекаться от мертвого ребенка — грех.
Немного помедлив, мистер Райт задает следующий вопрос:
— Вы поверили Эмилио насчет Саймона?
— Я подозревала обоих. В то же время мне нечего было им предъявить. Я не имела сколь-нибудь серьезных доказательств, которые поколебали бы мнение полиции о самоубийстве Тесс.
Я рассказала мистеру Райту о встрече с Эмилио, с точки зрения детектива, но на самом деле вела себя как твоя сестра. Наверное, справедливости ради нужно признаться в этом мистеру Райту. Конечно, мне трудно обнажить душу, и все-таки хватит робеть и стесняться. Не важно, что он обо мне подумает. Итак, продолжим.
Эмилио стоял у открытой входной двери, держа под мышкой твои портреты и источая злобу каждой клеткой своего тела.
— Ты что, не поняла? Между мной и Тесс был только секс. Превосходный секс, и ничего больше! Она знала об этом.
— А вы не задумывались о том, что юная девушка вроде Тесс могла видеть в вас образ отца?
Да, я так считала, несмотря на твои упорные отрицания.
— Ничего подобного.
— Вам не приходило в голову, что Тесс относилась к вам не просто как к сексуальному партнеру, особенно учитывая, что ее собственный отец давно бросил семью, а вы к тому же были преподавателем?
— Нет, не приходило.
— Надеюсь, что и вправду нет, иначе вы причинили бы ей еще больше боли.
Я была довольна, что наконец высказала Эмилио в лицо все, что думала.
— А что, если твоей сестре просто нравилось нарушать правила? Связь со мной выходила за границы дозволенного. Может, она ловила от этого кайф? — почти игриво спросил Эмилио. — Запретный плод сладок, не так ли?
Я не ответила. Эмилио подошел ближе. Слишком близко.
— А ты не очень-то любишь секс, угадал?
Я вновь промолчала. Он посмотрел на меня, ожидая реакции.
— Тесс говорила, что ты занимаешься сексом только в качестве оплаты за стабильные отношения.
Его цепкий взгляд так и впился в меня.
— Она сказала, ты выбрала скучную, но стабильную работу, и то же самое касалось твоего жениха. — Эмилио пытался сорвать защитный слой с наших сестринских отношений. — Твоя сестра утверждала, что тебе важней безопасность, чем счастье. — Увидев, что попал в точку, он продолжал: — Что ты боишься жить.
Ты была права, как обычно. Другие люди плывут по океану бытия, почти не сталкиваясь с бурями, но для меня жизнь неизменно представлялась горной вершиной, крутой и опасной. Чтобы не сорваться вниз, я постоянно искала точки опоры и держалась за страховочные тросы, то есть за свою высокооплачиваемую работу, хорошую квартиру и надежного партнера. Возможно, я уже признавалась тебе в этом.
Эмилио все еще сверлил меня взглядом, ожидая, что я расценю это как предательство с твоей стороны. Однако я, напротив, была глубоко тронута. Ты стала мне еще ближе. Оказывается, ты знала меня гораздо лучше, чем можно предположить. И все равно любила. У тебя хватало такта и доброты не показывать, что ты знаешь о моей трусости. Ты позволила мне как старшей сестре сохранить чувство собственного достоинства. Жаль, что мы не говорили с тобой об этом. Если бы я осмелилась оторвать взгляд от крутого склона, по которому карабкалась с таким трудом, то увидела бы, как ты свободно паришь в небе, не боясь тревог и забот, не привязанная к клетке цепью. И совсем без страховки. Надеюсь, теперь ты видишь, что я чуть-чуть набралась храбрости.
Мистер Райт выслушал мой рассказ о визите Эмилио. Уронила ли я себя в его глазах? Миссис Влюбленная Секретарша спешит подать ему кофе. Фарфоровая чашка, на блюдце — печенье в шоколадной глазури. Соприкасаясь с горячей стенкой чашки, шоколад тает и растекается по белому фарфору. Мне достается пластиковый стаканчик, а печенья не положено. Мистер Райт смущен такой предвзятостью. Когда секретарша удаляется, он кладет одно печеньице рядом с моим стаканчиком.
— Вы говорите, на похоронах у вас появилось две зацепки?
Зацепки? Так и сказала? Я уже не в первый раз слышу от себя новые слова, и на короткий миг мне кажется, что нелепость всего происходящего превращает мою жизнь в фарс.
— Доктора Блэка убил лейтенант Мастард. На кухне, подсвечником.
— Какая ты глупенькая, Би! Не лейтенант Мастард, а профессор Плам. Задушил веревкой в библиотеке.
Мистер Райт терпеливо ждет.
— Да. Вторая зацепка — профессор Розен.
Хотя горе и дождь застлали лица почти всех пришедших на похороны, профессора Розена я заметила — возможно, потому, что его часто показывали по телевизору. Он стоял среди тех, кто не попал в церковь, и держал над головой зонт — зонт ученого, с клапаном, пропускавшим воздух при сильных порывах ветра, тогда как у остальных зонтики выгибались наизнанку, грозя сломаться. Позже он подошел ко мне и неловко протянул руку для приветствия, но затем уронил ее, словно смутившись.
— Альфред Розен. Я хотел бы извиниться за бестактное письмо, которое отправила вам моя ассистентка. — Он протер платком запотевшие стекла очков. — Я отослал вам мои контактные данные, на случай если у вас возникнут дополнительные вопросы. Буду рад ответить.
Чопорный язык профессора и скованность — вот и все, на что я обратила внимание, потому что мои мысли были заняты тобой.
— Примерно через неделю после похорон я позвонила по номеру, который дал профессор Розен.
Я обхожу молчанием эту неделю, когда в полном смятении не могла думать, есть и даже разговаривала с трудом.
— Профессор сказал, что ему предстоит длительная поездка с лекциями, — поспешно добавляю я, стараясь выбросить из головы воспоминания о тех ужасных днях, — и предложил встретиться до его отъезда.
— Он входил в круг подозреваемых? — осведомляется мистер Райт.
— Нет. У меня не было оснований предполагать, что персонал его клиники или он лично связан со смертью Тесс. К тому времени я согласилась с мнением врачей из больницы Святой Анны, что в выплатах участницам эксперимента нет ничего криминального, но все-таки хотела напрямую спросить профессора, уверенная в том, что подозревать следует всех.
Я не могла позволить себе распутывать только одну ниточку. Я должна была отследить все направления, чтобы в конце концов добраться до центра лабиринта и найти твоего убийцу.
— Профессор назначил мне встречу на десять утра, но, узнав, что в девять тридцать «Хром-Мед» ежедневно проводит открытый информационный семинар, я сразу туда записалась.
Мистер Райт удивленно приподнимает брови.
— Это чем-то похоже на ситуацию с атомной энергетикой в прежние годы, — поясняю я. — Все должно было выглядеть максимально открыто и гладко. Что-то вроде «Приезжайте в Селлафилд и берите с собой корзинку для пикника!»[11].
Мистер Райт улыбается, а я понимаю, что произошло нечто очень странное. Произнеся последнюю фразу, я поймала себя на том, что выражаюсь точь-в-точь как ты.
Понедельник, обычный утренний час пик, переполненное метро. Тесно зажатая между другими пассажирами вагона, я вдруг с ужасом вспомнила про записку, которую оставила на доске объявлений в колледже и в которой просила твоих друзей собраться в кафе. В тоске после твоих похорон я совсем забыла о встрече, назначенной на полдень того самого дня, и теперь предчувствовала, что она окажется гораздо важнее разговора с профессором Розеном.
Почти ровно в половине десятого я подошла к зданию компании «Хром-Мед» — десятиэтажной высотке из стекла и бетона с прозрачными лифтами, что плыли вверх, будто искрящиеся пузырьки газа в минеральной воде. В верхней части по кругу бежали лиловые и голубые огоньки, которые складывались в девиз: «Научная фантастика становится научным фактом».
Эффектное зрелище подпортила толпа примерно из десяти пикетчиков с плакатами. Надписи на плакатах гласили: «Нет искусственным детям!» и «Оставьте роль Бога Богу!» Демонстранты не выкрикивали лозунгов, хмуро стояли, позевывая, точно развивать бурную деятельность было еще рано. Я предположила, что эти люди стоят здесь ради того, чтобы попасть на телеэкраны, хотя за последние недели внимание журналистов к эксперименту заметно ослабло, а для сюжетов использовались съемки, сделанные ранее. С другой стороны, в тот день впервые за долгое время с неба не сыпал дождь или снег, и они просто могли счесть погоду подходящей для сбора.
Подойдя ближе, я расслышала голос одной из демонстранток, женщины с обильным пирсингом и сердито торчащими рыжими вихрами. Она обращалась к журналисту:
— …и только богатые смогут позволить себе встроить нужные гены, чтобы сделать своих детей красивее и здоровее. Только богатые будут иметь возможность избавить собственное потомство от рака или сердечных болезней!
Видеокамер не было, журналист со скучающим видом записывал речь на диктофон, но вихрастая демонстрантка не смущалась и горячо продолжала:
— Со временем это приведет к возникновению класса генетических сверхлюдей, члены которого будут вступать в брак только друг с другом. Кому захочется иметь супруга уродливее или глупее себя, более слабого и склонного к болезням? Через несколько поколений на Земле будет два вида людей: генетически-обеспеченные и генетически-обделенные.
Я подошла к рыжеволосой и спросила:
— Вы когда-нибудь видели больного муковисцидозом, мышечной дистрофией или хореей Гентингтона?
Она свирепо уставилась на меня, недовольная тем, что прервали ее тираду.
— Вы просто не имеете представления, как это — жить с муковисцидозом, знать, что болезнь убивает тебя, захлебываться собственной мокротой. Вы далеки от этого, не так ли?
Женщина отошла в сторону.
— Вам повезло! — крикнула я ей в спину. — Природа создала вас генетически-обеспеченной.
У центрального входа я нажала кнопку охранной системы и назвала себя. Дверь открылась, я вошла. На стойке службы безопасности оставила роспись в журнале и предъявила паспорт, как того требовала инструкция. Автоматическая камера сделала мое фото, мне выдали пропуск и впустили внутрь. Не знаю, к чему такие тщательные проверки, однако все электронные устройства выглядели гораздо более сложными, чем те, что установлены в терминалах аэропорта. Меня и еще четырнадцать человек пригласили в помещение для семинаров, где сразу бросался в глаза огромный экран. Нас приветствовала бойкая женщина-координатор, представившаяся как Нэнси.
После вводного курса в генетику Нэнси показала короткий фильм о мышах, которым на эмбриональной стадии развития ввели ген медузы. Свет на экране погас, и — вуаля! — мыши засветились в темноте зеленым. Со всех сторон послышались охи и ахи. Помимо меня, лишь один человек не впечатлился увиденным — мужчина средних лет с седоватыми волосами, собранными в конский хвост.
Бойкая Нэнси показала следующий фильм, на этот раз о мышах в лабиринте.
— А это Эйнштейн и его друзья, — весело сказала она. — Эти милые зверушки получили дополнительный ген памяти, который делает их значительно умнее.
«Эйнштейн и его друзья» с фантастической скоростью находили выход из лабиринта, затмевая своих скромных соплеменников, чьи гены не подверглись модификации.
Мужчина с конским хвостом поднял руку.
— Скажите, ваш «интеллектуальный» ген входит в зародышевую линию? — резко спросил он.
Нэнси улыбнулась остальной аудитории.
— То есть передается ли этот ген следующим поколениям? — Не переставая улыбаться, она повернулась к Хвостатому: — Да. Первые мыши подверглись генетическому воздействию почти десять лет назад, а эти приходятся им прапрапра… в общем, очень далекими потомками. Если говорить серьезно, то уже доказано, что данный ген присутствовал во всех промежуточных поколениях.
— Когда вы намерены проводить испытания на людях? — с той же агрессивностью во взгляде и голосе осведомился Хвостатый. — Эксперимент произведет эффект разорвавшейся бомбы, верно?
Бойкая Нэнси не повела и бровью.
— Закон запрещает усовершенствование людей. Вмешательство на генетическом уровне допускается только для лечения болезней.
— Коль скоро вмешательство разрешено в принципе, вам остается лишь немного подождать и…
— Научные разработки проводятся исключительно для расширения познаний. Мы не преследуем каких-либо корыстных и тем более преступных целей, — невозмутимо ответила Бойкая Нэнси. Возможно, у нее имелись заготовленные ответы на подобные вопросы.
— Ваша компания собирается провести выпуск акций на рынок?
— Простите, я не уполномочена обсуждать финансовые аспекты деятельности компании.
— А у вас есть акции? Как и у всех сотрудников, да? — не унимался Хвостатый.
— Как я уже сказала… — начала Нэнси, однако он ее перебил:
— Значит, вы будете покрывать свою фирму, если что-то пойдет не так? Не захотите, чтобы все выплыло наружу?
Тон Бойкой Нэнси по-прежнему оставался любезным, однако под дорогим льняным костюмом чувствовался стальной характер.
— Уверяю вас, мы гарантируем полную открытость проектов, и до настоящего времени случаев, когда что-то пошло «не так», у нас не было.
Нэнси нажала кнопку и показала следующий отрывок: ассистент опускал в клетку с мышами линейку, после чего становились понятны их размеры — не столько по линейке, сколько в сравнении с ладонью ассистента. Мыши были просто великанами.
— Эти крошки получили ген, ускоряющий рост мышечной массы, — защебетала Бойкая Нэнси. — Однако в ходе эксперимента выявился неожиданный побочный эффект. Ген не только способствовал росту мышей, но и делал их необыкновенно кроткими. Мы рассчитывали получить Арнольда Шварценеггера, а вырастили гигантского Бемби.
Зрители за исключением меня и Хвостатого дружно рассмеялись. Словно бы сдерживая собственный восторг, Нэнси продолжила:
— Следует отметить, что данное исследование позволило прийти к важному открытию. Как выяснилось, один и тот же ген оказывает два вида воздействия, совершенно различных и не связанных между собой.
Именно об этом я тебе и говорила. Видишь, не такая уж я и паникерша.
После того как Бойкая Нэнси вывела нас из зала, я увидела, что мужчину с конским хвостом задержал охранник. Они о чем-то спорили, а затем охранник решительно взял Хвостатого за плечо и куда-то увел.
Группа под предводительством Нэнси двинулась в противоположном направлении. Мы пришли в просторное помещение, целиком посвященное экспериментальному методу лечения муковисцидоза. Стены пестрели фотографиями выздоровевших детишек и газетными заголовками ведущих мировых изданий. Бойкая Нэнси очень кратко и поверхностно объяснила непосвященным, что представляет собой муковисцидоз. Экран за ее спиной показал больного ребенка. Аудитория не отрывала глаз от экрана, и только я смотрела на Бойкую Нэнси, чьи щеки раскраснелись, а голос звенел от возбуждения.
— История создания лекарства, способного побороть муковисцидоз, началась в 1989 году, когда международная группа ученых открыла ген, отвечающий за возникновение заболевания. Звучит просто, но не забывайте, что каждая клетка человеческого организма содержит сорок шесть хромосом, а каждая хромосома, в свою очередь, несет в себе более тридцати тысяч генов. Выявление того самого единственного гена стало научным прорывом. И вот поиски лекарства начались!
Не хватало только бодрой музыки, как в начале фильма «Звездные войны». Бойкая Нэнси вдохновенно продолжала:
— Ученые установили, что дефектный ген вызывает выработку избыточного количества соли и недостаточного количества воды в клетках, выстилающих легкие и стенки кишечника, в результате чего образуется вязкая слизь.
Она повернулась к экрану, где в кадре был задыхающийся ребенок, и голос ее слегка дрогнул. Возможно, это происходило всякий раз при демонстрации фильма.
— Проблема заключалась в том, как перенести здоровый ген в организм пациента. Существующий метод с использованием вирусов был далек от совершенства, заключал в себе много рисков и часто оказывался неэффективным. Профессор Розен при поддержке компании «Хром-Мед» создал искусственную хромосому, новый и абсолютно безопасный способ доставки здорового гена в клетку.
Молодой человек, одетый в свитер с эмблемой Оксфордского университета, озабоченно спросил:
— Правильно ли я понял, что в каждую клетку вводится дополнительная хромосома?
— Да, — сияя, подтвердила Бойкая Нэнси. — У пациентов, получивших лечение, в каждой клетке содержится сорок семь, а не сорок шесть хромосом. Однако это всего лишь микрохромосома, она…
Когда молодой человек в оксфордском свитере опять перебил ее, группа напряглась. Он что, решил сменить Хвостатого в роли грубияна?
— Дополнительная хромосома входит в зародышевую линию?
— Да, она передается по наследственной линии.
— И вас это не беспокоит?
— Честно говоря, нет, — ослепительно улыбнулась Нэнси, и ее утешительный ответ развеял всю враждебность, которая еще оставалась у оксфордца, или же его лицо просто погрузилось в темноту, потому что Бойкая Нэнси потушила свет.
На широком экране начался новый фильм, в котором показывали двойную спираль ДНК, перекрученную миллионы раз. Мне и еще тринадцати членам группы продемонстрировали два дефектных гена, а затем удивительную замену их на здоровые.
Для стороннего наблюдателя видеть чудо научного открытия, наблюдать, как расширяются границы изведанного, — зрелище потрясающее. Это все равно что смотреть в телескоп вместе с Гершелем в тот момент, когда он открыл спутник Урана, или стоять рядом с Христофором Колумбом, когда вдали появился берег Нового Света. Думаешь, я преувеличиваю? Я видела лекарство от муковисцидоза, Тесс, видела своими глазами! С его помощью можно было бы отменить смертный приговор Лео. Наш брат сейчас был бы жив, вот о чем я думала, пока Нэнси рассказывала о теломерах, ДНК-чипах и стволовых клетках. Лео мог бы жить…
Когда на экране появились младенцы, рожденные уже здоровыми, счастливые матери и смущенные наплывом чувств отцы, я вспомнила про мальчика, которому уже полагалось вырасти из детских штанишек и открыток с Экшнменом. Сейчас он был бы выше меня.
Фильм закончился, а я осознала, что на короткое время забыла о событиях последнего месяца, ну или по крайней мере отложила мысли о них в дальний угол. Потом, конечно, вспомнила и порадовалась тому, что нет причин проводить параллели между изобретением нового лекарства и смертью, твоей или Ксавье. Мне хотелось, чтобы генетический метод лечения муковисцидоза стал нашим Новым Светом, ради открытия которого не пришлось приносить страшные жертвы.
Я ошиблась, решив, что фильм окончен. В завершение на экране появился профессор Розен со своей речью. Я читала текст его выступления и в Сети, и в газетах, однако сейчас эта речь зазвучала по-новому.
«Большинство полагают, что ученые не вкладывают душу в свое дело. Музыканты, художники, поэты — люди творческие, а мы якобы черствы и бесстрастны. Практически для всех слова «клиника», «клинический» дышат холодом, тогда как в действительности они напрямую связаны с оказанием медицинской помощи, то есть несут в себе добро, благо. Мы, ученые, равно как поэты и музыканты, должны делать свое дело с открытым сердцем, вдохновенно и страстно».
Десять минут спустя секретарь профессора Розена, поднявшись вместе со мной на стеклянном лифте, препроводила меня на верхний этаж, где уже ждал сам автор открытия. Профессор выглядел так же, как на телеэкране и на похоронах: карикатурные очки в проволочной оправе, сутулые плечи, угловатость движений — классический образ изобретателя. Мы поздоровались, я поблагодарила его за то, что пришел на твои похороны, в ответ он коротко кивнул — на мой взгляд, немного суховато. Пока мы шли по коридору, я решилась прервать паузу:
— Мой брат страдал муковисцидозом. Если бы вы сделали свое чудесное открытие на несколько лет раньше…
Профессор слегка отвернул лицо, а я вспомнила по телевизионным интервью, какой дискомфорт доставляют ему похвалы. Он сменил тему, и мне понравилось это проявление скромности.
— Ну как, семинар оказался полезным? — спросил он.
— Да, очень. И удивительным.
Я открыла рот, чтобы продолжить, но профессор перебил меня, сам того не сознавая.
— Больше всего меня беспокоят мыши с высоким коэффициентом интеллекта. Я участвовал в самом первом эксперименте. Молодой ученый из Имперского колледжа сравнивал сверхумных и обычных мышей, искал различия или еще какую-то чепуху. Давно это было.
— Сюжет об этих мышах включен в фильм о компании «Хром-Мед», разве не так?
— Так, так. «Хром-Мед» выкупил научную разработку, то есть, в сущности, сам ген ради всего того ценного, что с ним связано. К счастью, генная инженерия у нас запрещена, во всяком случае, применительно к людям, иначе по улицам давно бы разгуливали светящиеся человечки и великаны, пускающие пузыри.
Эта фраза показалась мне позаимствованной или по меньшей мере зазубренной, поскольку профессор мало напоминал человека, способного блеснуть остроумием.
— Но ведь лекарство от муковисцидоза — совсем другое дело.
Профессор Розен резко остановился и посмотрел на меня.
— Вы правы. Нет ничего общего между изобретением лекарства от страшного заболевания и баловством с генами ради каких-то усовершенствований или просто ради создания паноптикума. Нечего даже и сравнивать!
Профессор произнес это с неожиданным жаром, и я впервые увидела в нем живого человека.
Мы вошли в его кабинет. Просторное помещение, с трех сторон заключенное в стекло, через которое открывалась роскошная панорама Лондона, соответствовало общему горделивому облику здания. Профессорский стол, однако, выглядел маленьким и облезлым. Видимо, хозяин переносил его из кабинета в кабинет, начиная с комнаты в студенческом общежитии, пока стол не очутился здесь, нелепо выделяясь на фоне элегантной обстановки.
Профессор закрыл дверь.
— У вас есть ко мне вопросы?
На миг я забыла о своих подозрениях, а когда вновь вспомнила, мне показалось глупым расспрашивать о выплатах (жалкие триста фунтов, капля в море по сравнению с колоссальными вложениями в эксперимент), а в свете недавнего семинара — еще и невежливым. Тем не менее с определенного времени я перестала руководствоваться понятиями вежливости и приличий.
— Вам известно, за что участницам вашего проекта платили деньги? — спросила я.
На лице профессора не дрогнула ни одна черточка.
— Моя пресс-секретарь выразилась в письме бестактно по форме, однако по смыслу правильно. Я не знаю, кто заплатил вашей сестре и прочим женщинам, но, уверяю, это был не я и никто из моих коллег, проводивших эксперимент. Специально для вас я подготовил отчеты членов комитета по этике с фамилиями ответственных лиц. Можете сами убедиться, что мы не производили и не предлагали никаких выплат. Это было бы неправомерно. — Профессор вручил мне стопку документов и продолжил: — На самом деле, если бы вставал вопрос денег, скорее мамочки платили бы нам, нежели наоборот. Будущие родители чуть не на коленях умоляют нас включить их в проект.
Повисла неловкая тишина. Я получила исчерпывающий ответ, хотя провела в кабинете профессора не более трех минут.
— Вы еще сотрудничаете с Имперским колледжем? — спросила я, чтобы выиграть немного времени.
Как ни странно, вопрос задел профессора за живое. Он сразу ушел в глухую оборону, в голосе зазвенела напряженность.
— Нет. Я работаю на полную ставку здесь, и только здесь. «Хром-Мед» гораздо лучше оснащен. Кроме того, меня отпускают на выездные лекции.
В интонациях профессора я уловила странную горечь.
— От приглашений, наверное, нет отбоя? — проговорила я, стараясь быть любезной.
— Да, интерес к проекту ошеломляющий. Самые престижные университеты Европы обратились ко мне с просьбой о лекциях. Кроме того, все восемь университетов «Лиги плюща» пригласили меня выступить с программной речью, а четыре из них предложили почетную профессорскую степень. Завтра я улетаю в лекционный тур по Штатам. Какое счастье — подробно излагать материал подготовленной аудитории, а не давать дурацкие трехминутные интервью!
Это признание профессора стало для меня джинном, вырвавшимся из бутылки. Оказывается, я поняла его совсем неправильно. Он все-таки грезил о славе, но только о той, лучи которой освещали бы его за лекционной кафедрой уважаемых университетов, а не перед объективами телекамер. Профессор Розен жаждал похвал, но исключительно от коллег.
Я сидела на некотором расстоянии от него, однако в разговоре он все равно откидывался назад, как будто находился в ограниченном пространстве.
— В ответе, присланном мне по электронной почте, вы, кажется, намекали на некую связь между смертью вашей сестры и моим экспериментом.
Профессор назвал эксперимент «своим», и я вспомнила, что в телеинтервью он говорил «моя хромосома». Прежде я не догадывалась, как сильно он отождествляет себя с проведением эксперимента.
Профессор повернул голову и теперь смотрел не на меня, а на собственное полупрозрачное отражение в стеклянной стене.
— Поиски лекарства от муковисцидоза — дело всей моей жизни. Ради него я в буквальном смысле пожертвовал всем, чем дорожил, — временем, силами, даже любовью. Сами понимаете, я сделал свое открытие не для того, чтобы кто-то пострадал.
— Что побудило вас к действию?
— Умирая, я хочу знать, что сделал этот мир лучше. — Профессор посмотрел мне в глаза. — Я верю, что мое изобретение станет переломной вехой для наших потомков и приведет к тому времени, когда мы сможем вырастить поколение людей, избавленных от всех недугов. Не будет ни муковисцидоза, ни синдрома Альцгеймера, ни заболеваний двигательных нейронов, ни рака, — с жаром говорил профессор. — Мы не только уничтожим эти болезни, но и добьемся того, чтобы здоровые гены передавались из поколения в поколение. За миллионы лет эволюции природа не справилась даже с банальной простудой, не говоря уже о более серьезных хворях, а мы сможем победить их все за какие-то сто лет!
Почему ораторский пыл профессора вызывал у меня смутное беспокойство? Вероятно, потому, что любой фанатик, чем бы он ни занимался, заставляет нас отшатнуться. Я вспомнила, как профессор Розен сравнивал ученых с музыкантами, художниками и поэтами, и увидела в этом сравнении угрозу, ведь в распоряжении генетиков не слова, не краски и ноты, но клетки человеческого организма. Должно быть, профессор Розен уловил мою тревогу, хотя интерпретировал ее по-своему.
— Думаете, я преувеличиваю, мисс Хемминг? Моя хромосома уже вошла в генофонд. За свою жизнь я перескочил через миллионы лет человеческой эволюции!
* * *
Я сдала свой временный пропуск и вышла на улицу. Демонстранты по-прежнему стояли перед зданием. Их лозунги звучали громче и дружнее — протестующие подкрепились кофе из термосов. Среди них я заметила мужчину с конским хвостом. Мне стало интересно, как часто он ходит на ознакомительные семинары и провоцирует Бойкую Нэнси. Видимо, ради соблюдения законности и сохранения лица фирмы администрация «Хром-Мед» не могла распорядиться, чтобы его попросту не пускали.
Завидев меня, он пошел следом.
— Знаете, как они измеряют коэффициент интеллекта этих мышей? — спросил Хвостатый. — Опыт с лабиринтом — не единственный.
Я отрицательно покачала головой и пошла в другую сторону, но он не унимался:
— Мышей сажают в клетку и подключают к ней электрический ток. Мыши, подвергшиеся генетическому вмешательству, при повторном эксперименте проявляют страх. Их ай-кью измеряют при помощи страха.
Я ускорила шаг, однако Хвостатый не отставал.
— А еще мышей бросают в резервуар с водой. Под водой есть возвышение. Высокоинтеллектуальные мыши научаются его находить.
Я поспешила к метро, пытаясь вновь пробудить в душе недавнее ощущение восторга по поводу гениального метода лечения муковисцидоза, однако разговор с профессором Розеном и рассказы про мышей вызывали беспричинную тревогу. В голове неотвязно вертелась фраза: «Их ай-кью измеряют при помощи страха».
— Я хотела верить, что эксперимент полностью легален и никак не связан с убийством Тесс или смертью Ксавье. И все же после посещения семинара у меня вновь проснулись подозрения.
— Из-за беседы с профессором Розеном? — спрашивает мистер Райт.
— Отчасти. Я полагала, он избегает славы, так как не любит публичности, однако же профессор с явной гордостью говорил о своих лекционных турах и подчеркивал, что они состоятся в самых престижных университетах мира. Получалось, я судила о нем совершенно неверно.
— Вы стали подозревать профессора?
— Скорее, насторожилась. Раньше мне казалось, что он пришел на похороны и предложил ответить на мои вопросы, искренне соболезнуя, но теперь я уже в этом сомневалась. В сущности, большую часть жизни окружающие воспринимали профессора как «чокнутого фанатика», начиная со школы, где наверняка дразнили зубрилой, и позже в университете. А сейчас благодаря своей хромосоме он неожиданно стал едва ли не самым важным человеком и в настоящем, и в будущем. Даже если бы в ходе эксперимента что-то пошло не так, профессор вряд ли захотел бы расстаться со своим новообретенным звездным статусом.
Однако более всего меня волновали возможности не только и не столько профессора Розена, а власть, которой обладал любой ученый-генетик. Удаляясь от здания «Хром-Мед», я размышляла о мойрах, богинях судьбы: первая прядет нить человеческой жизни, вторая отмеряет ее длину, а третья перерезает. Я думала о двойной спирали ДНК, двух нитях, переплетенных в каждой клеточке нашего организма и заключающих в себе код грядущего. Никогда прежде наука так близко не подходила к тому, что делает человека человечным. И смертным.
Погруженная в раздумья после посещения клиники «Хром-Мед», почти всю дорогу до студенческого кафе я прошла пешком. Похороны собрали много твоих друзей, но я сомневалась, что кто-нибудь из них захочет прийти уже не к тебе, а ко мне.
Войдя, я обнаружила, что кафе переполнено и все собравшиеся ждут меня. От изумления я онемела. Никогда не любила быть хозяйкой приема, даже если дело касалось скромной вечеринки с приятелями, а тут — целая толпа незнакомцев! Кроме того, на фоне их вызывающих нарядов, агрессивных причесок и пирсинга я выглядела чересчур старомодной и консервативной. Парень с растаманскими косичками и темными миндалевидными глазами, назвавшийся Бенджамином, взял меня под руку и подвел к столу.
Решив, что я хотела бы подробнее узнать о твоей жизни в колледже, студенты наперебой рассказывали мне о твоем таланте, доброте и чувстве юмора. Слушая их трогательные истории, я вглядывалась в лица и думала, мог ли кто-нибудь из однокурсников тебя убить. Хватило бы у Аннет, хрупкой девушки с копной медно-рыжих волос и тонкими руками, силы и подлости для убийства? Настоящие ли слезы блестели в прекрасных выразительных глазах Бенджамина, или он искусно притворялся, сознавая привлекательность этого образа?
* * *
— Друзья Тесс описывали ее по-разному, — говорю я мистеру Райту, — но эти описания связывало нечто общее. Все до единого однокурсники моей сестры упоминали ее joie de vivre — жизнерадостность.
Радость и жизнь, соединенные вместе. По иронии судьбы эта фраза точнее всего характеризует твою натуру.
— У Тесс было много друзей? — спрашивает мистер Райт, и я благодарна ему за вопрос, которого он не обязан задавать.
— Да. Она дорожила дружбой.
Ведь так, правда? Ты легко сходилась с людьми и никогда не разбрасывалась друзьями. В твой двадцать первый день рождения рядом с тобой за столом сидели подруги по начальной школе. Ты забираешь друзей вместе с собой из прошлого в настоящее. Разве можно завидовать дружбе? Дружба — слишком ценная вещь, чтобы забывать о ней, едва она перестает приносить пользу.
— Вы спросили приятелей Тесс о наркотиках?
Вопрос мистера Райта заставляет меня вновь сосредоточиться.
— Да. Как и Саймон, все единодушно подтвердили, что Тесс не принимала наркотики ни в каком виде. Я пыталась узнать побольше об Эмилио Коди, однако не добилась толку, лишь в очередной раз убедилась, что он «заносчивый самовлюбленный придурок». Его роман с моей сестрой, как и ее беременность, ни для кого не были секретом. А потом я спросила про Саймона.
Атмосфера в кафе почему-то изменилась, стала более напряженной. В воздухе повисло нечто, чему я не находила объяснения.
— Вы все были в курсе, что Саймон добивался близких отношений с Тесс? — спросила я.
Кое-кто закивал, но желающих высказаться не нашлось.
— Эмилио Коди упоминал, что Саймон ревновал к нему, — добавила я, пытаясь вызвать народ на откровенность.
Голос подала девушка с черными как вороново крыло волосами и кроваво-красными губами — точь-в-точь ведьма из детской книжки:
— Саймон ревновал Тесс ко всем, кого она любила.
«Включая меня?» — промелькнуло у меня в голове.
— Но Эмилио она не любила, так?
— Не любила. С Эмилио все обстояло по-другому. Для Саймона это было что-то вроде спортивного азарта, кто кого, — продолжила хорошенькая ведьмочка. — Самую сильную ревность он испытывал по отношению к ребенку Тесс. Саймон не мог стерпеть, что вместо него она уже любит кого-то, кто еще даже не родился на свет.
Я вспомнила фотоколлаж: тюремная решетка, составленная из детских лиц.
— Он приходил на похороны?
Прежде чем ответить, Ведьмочка немного поколебалась.
— Мы ждали Саймона у метро, но он так и не появился. Я позвонила ему и спросила, что за дурацкие фокусы он выкидывает. Саймон сказал, что передумал и не придет. Дескать, особого места у гроба ему не отведут, его чувства к Тесс — погодите, дайте вспомнить — «останутся непонятыми» и «для него это мучительно больно».
Не поэтому ли все замялись, когда я начала расспрашивать про Саймона?
— По словам Эмилио Коди, Саймон просто помешался на Тесс, — сказала я. — Это правда?
— Да, — ответила Ведьмочка. — Когда он начал свой дебильный проект «Женское первоначало» или что-то в этом роде, то шлялся за Тесс по пятам.
Бенджамин бросил на Ведьмочку предостерегающий взгляд, однако та продолжила:
— Черт, да он буквально преследовал ее!
— А фотокамеру использовал только как предлог? — спросила я, вспомнив твои фото на стене его спальни.
— Ага, — кивнула Ведьмочка. — У него не хватало мужества смотреть ей в лицо, приходилось прикрываться камерой. Он нарочно ставил длинные объективы, изображал из себя гребаного папарацци.
— Как вы думаете, почему Тесс терпела его?
Ответить мне решился застенчивый молодой человек, который до этого молчал:
— Тесс была очень добрая. Наверное, жалела Саймона. У него совсем не было друзей.
Я повернулась к Ведьмочке:
— Дипломный проект Саймона не пропустили? Я правильно вас поняла?
— Да. Миссис Барден, наш куратор, велела ему прекратить фотосъемки. Она знала, что проект — лишь повод ходить следом за Тесс, и пригрозила Саймону исключением.
— Когда это было?
— В начале учебного года, — сказала Аннет. — В прошлом сентябре, на первой неделе. Тесс испытала большое облегчение.
Однако «фотосессия» продолжалась всю осень и часть зимы!
— Саймон продолжал снимать, — сообщила я. — Разве вы не знали?
— Должно быть, стал действовать осторожнее, — высказал мнение Бенджамин.
— Да уж, для него это не составило бы труда, — согласилась с ним Ведьмочка. — Правда, с тех пор как Тесс взяла академический отпуск, мы редко ее видели.
Я вспомнила слова Эмилио: «Расспроси лучше того мальчишку, которой вечно таскался за ней со своим чертовым фотоаппаратом!»
— Эмилио Коди знал, что Саймон не остановился, а ведь он преподает в вашем колледже. Почему же он не сделал так, чтобы Саймона исключили?
— Потому что Саймон знал о его романе с Тесс, — пожала плечами Хорошенькая Ведьмочка. — Возможно, оба покрывали друг дружку.
Откладывать следующий вопрос я больше не могла.
— Как по-вашему, мог один из них убить Тесс?
Среди студентов воцарилось угрюмое молчание, однако я уловила в нем скорее замешательство, нежели оторопь. Наконец заговорил Бенджамин — просто из любезности, думаю.
— Саймон сказал нам, что у Тесс развился послеродовой психоз, из-за которого она покончила жизнь самоубийством. Дескать, таков вердикт коронера, и у полиции тоже нет никаких сомнений.
— Мы не очень-то доверяли Саймону, — прибавил застенчивый юноша, — но то же самое написали в местной газете.
— Саймон еще сказал, что вас тогда не было в Лондоне, а он видел Тесс и… — Аннет сконфуженно умолкла, но я и так примерно представляла, что этот паршивец наговорил о твоем душевном состоянии.
Значит, пресса и Саймон убедили всех в твоем самоубийстве. Тесс, о которой рассказывали твои однокурсники, никогда не покончила бы с собой, но ты была одержима современным дьяволом в обличье послеродового психоза, и этот дьявол заставил веселую, энергичную девушку так сильно возненавидеть жизнь, что она решилась на смерть. Твой убийца имеет научное название, а не человеческое лицо.
— Полиция действительно поддерживает версию самоубийства на почве послеродового психоза, — промолвила я, — но я уверена, что это ошибка.
Некоторые студенты посмотрели на меня сочувственно, на лицах других отразилась жалость, бедная родственница сочувствия. А потом выяснилось, что уже половина второго, через десять минут начнется лекция, и все начали расходиться.
Я решила, что Саймон успел обработать их перед встречей со мной. Несомненно, он наплел твоим друзьям про чокнутую старшую сестрицу с ее безумными теориями. Потому-то мой вопрос об убийце и вызвал у них смущение, а не шок, потому-то они и держались со мной так скованно. И все же я не винила их за то, что им больше хотелось верить Саймону, чем мне; за то, что они предпочли версию твоей гибели, не связанную с убийством.
Бенджамин и Хорошенькая Ведьмочка уходили последними. Они пригласили меня на выставку, которая должна была состояться через неделю, и с трогательной настойчивостью добивались от меня обещания обязательно прийти. Я согласилась, так как увидела в этом еще одну возможность поговорить с Саймоном и Эмилио.
Оставшись одна, я вновь подумала о Саймоне. Мало того что он наврал мне про фотографии, так еще и расписал свою ложь в красках. «Фото войдут в мой дипломный проект», «Мой преподаватель считает, что это лучшая и самая оригинальная работа на всем курсе». О чем еще он солгал? Правда ли, что в день смерти ты звонила ему и просила встретиться, или же он просто следил за тобой, как постоянно делал раньше, и все его россказни — лишь попытки отвести от себя подозрения? Безусловно, Саймон умеет ловко манипулировать людьми. Человек в кустах — был ли он на самом деле, или Саймон выдумал его, точнее, хитро сослался на твою паранойю, чтобы никто не заподозрил его самого? Сколько раз он сидел на ступеньках перед твоей дверью с огромным букетом, разыгрывая невинное ожидание, хотя знал, что ты уже мертва?
Размышляя об Эмилио и Саймоне, я столкнулась с новым вопросом, который мучает меня до сих пор: правда ли, что в жизни любой головокружительно красивой женщины непременно появляется какой-нибудь негодяй? Если бы мертвой нашли меня, мои друзья и бывший жених вряд ли попали бы в список подозреваемых. Я не верю, что очаровательные красавицы возбуждают нездоровую страсть в нормальных мужчинах; скорее, они привлекают к себе внимание психов и извращенцев. Необыкновенная привлекательность таких женщин становится для неуравновешенных и психически нездоровых мужчин вспышкой света среди тьмы, в которой они пожизненно блуждают; пламенем, непреодолимо влекущим к себе и вызывающим стремление его погасить.
— После кафе вы сразу вернулись на квартиру? — спрашивает мистер Райт.
— Да, — коротко отвечаю я. Нет сил рассказывать об обратном пути к тебе домой, вспоминать о том, что я там услышала. От усталости я еле шевелю губами, тело наливается тяжестью.
Мистер Райт с беспокойством смотрит на меня.
— На сегодня хватит, — решает он.
Мистер Райт предлагает вызвать для меня такси, но я отказываюсь под тем предлогом, что хочу пройтись пешком и подышать свежим воздухом.
Он провожает меня до лифта, и я вдруг понимаю, как признательна ему за эту старомодную учтивость. Наверное, Эмиас в молодости чем-то напоминал мистера Райта. На прощание мистер Райт улыбается мне, и я опять думаю, что искорка надежды на романтические отношения между нами все-таки не потухла. Приятные фантазии взбадривают меня лучше кофеина. Разве нельзя немного помечтать? Позволив себе эту маленькую роскошь, я решаю не толкаться в переполненном метро, а пройти через парк Сент-Джеймс.
Чистый весенний воздух придает мне сил, несерьезные мысли делают чуть более храброй. У выхода из парка я прикидываю, не пройтись ли и через Гайд-парк? Давно пора набраться смелости, победить свои страхи и упокоить призраков.
С бьющимся сердцем я миную ворота Королевы Елизаветы. Как и парк Сент-Джеймс, расположенный по соседству, Гайд-парк являет собой калейдоскоп цветов, звуков и запахов. В его яркой зелени не прячутся демоны, среди игроков в мяч не видно зловещих теней.
Я прохожу мимо розария и затем мимо эстрады, похожей на детскую книжку-раскладушку: нежно-персиковый круглый борт и сахарно-белая верхушка, опирающаяся на лакричные палочки-колонны. Внезапно мне вспоминается взрыв в толпе, разбросанные обломки гвоздей, кровь и хаос…
Я чувствую на себе чей-то взгляд. Ощущаю холодное дыхание чужака. Не оборачиваясь, я иду дальше, а преследователь ускоряет шаг. По спине у меня бегут мурашки, мышцы напрягаются почти до судорог. Впереди я вижу берег озера, пляж, людей и со всех ног бегу к ним. От страха и прилива адреналина у меня трясутся коленки.
На пляже я падаю в шезлонг, по-прежнему чувствуя дрожь в ногах и боль под ребром при каждом вдохе. В бассейне-«лягушатнике» плещутся дети; там же, закатав брюки, шлепают по воде двое мужчин средних лет, по-видимому, занимающих не последние должности. Только теперь я решаюсь обернуться. Среди деревьев мелькает кто-то в черном. Я пристально вглядываюсь, но это всего лишь игра света и тени в ветвях.
Я огибаю рощицу, стараясь держаться поближе к людям. На другой стороне передо мной открывается участок сочной молодой травы, усыпанной разноцветными пятнышками крокусов. По траве босиком прогуливается девушка. Она держит туфли в руке и наслаждается теплом прогретой земли, а я думаю о тебе. Я провожаю ее взглядом до самого конца участка и только тогда замечаю полуразваленный туалет, уродливую темную рану на фоне ярких красок весны.
Я спешу следом за девушкой и приближаюсь к зданию туалета. Она уже далеко, ее обнимает за талию молодой человек. Радостно смеясь, они покидают парк. Я тоже выхожу на ватных ногах, как следует не отдышавшись. Мысленно пытаюсь пристыдить себя: «Чего ты испугалась, трусишка? Все в порядке, Беатрис, просто у тебя разыгралось воображение». Утешения, позаимствованные из надежного, безопасного мира детства. В шкафу нет никакого чудовища. Но мы-то с тобой знаем, что убийца реально существует.
Вторник
Добравшись до уголовного суда, я втискиваюсь в набитый лифт, где остро пахнет потом и тела вынужденно прижаты друг к другу. В окружении людей, при ярком дневном свете я понимаю, что ничего не скажу о человеке из парка. Мистер Райт просто успокоит меня и скажет — совершенно правильно, — что убийца сидит в тюрьме, что в освобождении под залог ему отказано и что после суда он получит пожизненное заключение без права на амнистию. Следовательно, этот человек уже никогда не сможет причинить мне вреда. Лифт останавливается на третьем этаже. Я строго говорю себе, что преступника здесь нет и быть не может, что отныне и навеки он — пустота и я не должна позволять этой пустоте обретать контуры даже в моих мыслях.
Итак, сегодня утром я даю себе новое обещание. Я больше не буду бояться воображаемого зла, не допущу, чтобы оно овладело моим разумом, как однажды — телом. Наоборот, я постараюсь ощутить поддержку мистера Райта, миссис Влюбленной Секретарши и остальных реальных людей, что находятся в этом здании рядом со мной. Да, у меня по-прежнему случаются обмороки, чаще, чем раньше, силы постепенно уходят, но я не поддамся безотчетному ужасу и телесному недугу. Вместо того чтобы воображать все плохое и уродливое, я постараюсь разглядеть красоту в привычных, ежедневных вещах, как делала ты. И самое главное, я буду думать о том, что пришлось вынести тебе, думать и сознавать, что в сравнении с этим кошмаром мои призрачные угрозы — ничто, и довольно себя жалеть.
Пожалуй, сегодня кофе буду подавать я. И руки у меня вовсе не дрожат, ничуточки. Вот посмотри. Я беру в автомате два стаканчика кофе и спокойно приношу их в кабинет.
Мистер Райт удивленно благодарит меня за любезность. Он заправляет в диктофон новую кассету, и мы приступаем.
— В прошлый раз вы закончили на том, как расспрашивали однокурсников Тесс об Эмилио Коди и Саймоне, — напоминает мистер Райт.
— Все верно. После встречи в кафе я вернулась на квартиру. У Тесс был телефон с древним автоответчиком. Кажется, она купила его на распродаже с машины, и ее он вполне устраивал.
Я опять хожу вокруг да около, хотя нужно продолжать.
— Войдя, я увидела мигающую лампочку автоответчика — знак того, что пленка дописана до конца.
Не снимая пальто, я нажала кнопку воспроизведения. Ничего важного, сообщение от газовой фирмы. Остальные монологи, обращения к тебе разных людей, я прослушала еще раньше.
Я разделась и хотела перемотать кассету, но тут вдруг заметила, что она двухсторонняя, и решила прослушать сторону «Б». Каждое сообщение предварял механический голос, извещавший о дате и времени звонка. Последняя запись была сделана во вторник, двадцать первого января, в двадцать часов двадцать минут. Всего через несколько часов после того, как ты родила Ксавье. Комнату заполнили звуки колыбельной. Сладкие, зловещие звуки.
* * *
Я стараюсь говорить бодро, может быть, даже громковато, желая, чтобы слова заглушили колыбельную, звучащую в моей голове.
— Запись была профессиональная, то есть тот, кто ее поставил, поднес трубку к динамику проигрывателя.
Мистер Райт кивает; он слышал запись, хотя в отличие от меня не выучил ее наизусть.
— От Эмиаса я уже знала, что какой-то мерзавец изводил Тесс звонками, — продолжаю я, — и что она боялась этого человека. Он проделывал свой гадкий трюк много раз, но лишь однажды звонок попал на пленку.
Неудивительно, что, придя к тебе, я обнаружила отключенный аппарат. Ты больше не могла выносить этот ужас.
— Вы сразу же позвонили в полицию? — спрашивает мистер Райт.
— Да, оставила голосовое сообщение для детектива Финборо. Рассказала о фальшивом дипломном проекте Саймона; о том, что выяснила причину, по которой Эмилио, задумавшему убить Тесс, пришлось бы ждать до момента рождения ребенка. Я поделилась своими подозрениями насчет эксперимента профессора Розена — во-первых, непонятные выплаты участницам, во-вторых, пропажа медицинской карты Тесс, — однако упомянула, что прямой связи между этими фактами не вижу. Я также сказала, что ключом к разгадке считаю колыбельную. Если полиция вычислит звонившего, то найдет и убийцу. Нельзя сказать, что я говорила спокойно и рассудительно, однако, представь, я только что прослушала эту жуткую колыбельную. Спокойствие и рассудительность оставили меня.
Оставив сообщение для сержанта Финборо, я поехала в больницу Св. Анны. Мои горе и гнев требовали физического выплеска. Я направилась в психиатрическое отделение, где доктор Николс принимал амбулаторных больных, нашла дверь, на которой висела табличка с его фамилией, и практически вломилась в кабинет, опередив собиравшегося войти пациента. За моей спиной раздались негодующие возгласы медсестры-администратора, однако я пропустила их мимо ушей.
Доктор Николс явно не ожидал увидеть меня.
— У нее на автоответчике записана колыбельная! — выдохнула я и начала петь: — «Спи, малыш, засыпай / И отцу не докучай, / Мама деревце тряхнет, С ветки сон упадет. / Спи, засыпай».
— Беатрис, прошу…
— Тесс слушала ее в тот вечер, когда вернулась из роддома, — перебила я. — Всего через несколько часов после смерти ребенка. Бог знает, сколько раз этот негодяй прокручивал ей колыбельную. Телефонные звонки не были слуховыми галлюцинациями! Кто-то подвергал мою сестру изощренной пытке!
Доктор Николс, ошеломленно глядя на меня, молчал.
— Тесс не была сумасшедшей, но кто-то очень старался свести ее с ума или по крайней мере убедить окружающих, что она ненормальная!
— Бедняжка, — потрясенно проговорил доктор. — Слушать колыбельную сразу после гибели собственного ребенка — сущий кошмар. Простите, а вы уверены, что здесь налицо злой умысел? Может быть, это просто чья-то ужасная ошибка? Что, если колыбельную записал на автоответчик кто-то из друзей Тесс, не знавших, что малыш умер?
Безусловно, подобное объяснение как нельзя лучше устраивало доктора Николса.
— Я так не думаю.
Он отвел глаза. Сейчас на докторе был мятый белый халат, придававший ему еще более неряшливый вид.
— Почему вы не выслушали Тесс, не расспросили как следует?
— Единственный раз, когда она пришла ко мне на прием, у меня, как всегда, было очень много больных плюс экстренные, и ни минуты лишнего времени…
Я сверлила взглядом доктора Николса, однако он упорно отворачивался.
— Мне следовало уделить больше внимания вашей сестре. Я искренне сожалею.
— Вы знали о фенциклидине?
— Да, полицейские сообщили мне о наркотике, но гораздо позже. Я рассказал, что фенциклидин вызывает галлюцинации, часто кошмарные. Под влиянием отрицательных эмоций их сила и яркость возрастают. Как указано в литературе, это вещество провоцирует суицидальные попытки. Должно быть, колыбельная стала последней каплей.
Здесь в отличие от частного кабинета не было собаки, но я чувствовала, что доктору для обретения уверенности очень хочется погладить мягкое мохнатое ухо.
— Это обстоятельство объясняет перемену в состоянии вашей сестры по сравнению с тем, какой я видел ее на приеме, — продолжал он. — Видимо, она услышала колыбельную, затем приняла наркотик, и сочетание… — Взглянув на меня, доктор запнулся. — Считаете, я ищу себе оправдания?
Меня удивила эта откровенная фраза, первая за время нашего разговора.
— На самом деле мне нет оправданий. Ваша сестра явно страдала галлюцинациями, и не важно по какой причине — под воздействием психоза или наркотического вещества. Я упустил этот важный симптом. Она находилась в опасности, а я не предотвратил угрозу ее жизни, как того требовал профессиональный долг.
Как и при нашей первой встрече, я уловила в словах доктора Николса стыд и раскаяние. Я пришла, чтобы излить гнев, но теперь в этом не было смысла. Уверовав в свою ошибку, он казнил себя и без моих обвинений.
Дверь распахнулась, на пороге показались администратор и рослый медбрат. Тишина в кабинете привела их в недоумение.
Я закрыла за собой дверь. Мне больше нечего было сказать.
Я быстро шла по коридору к выходу, словно стремясь обогнать собственные раздумья, ведь цель, которая позволяла мне отвлечься, исчезла. Теперь меня всецело занимала мысль о том, что ты чувствовала, слушая колыбельную.
— Беатрис?
Я буквально налетела на доктора Сондерса и только тогда осознала, что рыдаю — слезы лились по щекам, из носа текло, пальцы сжимали насквозь промокший платок.
— Перед смертью Тесс подвергли психологической пытке… — всхлипывала я. — Довели до самоубийства…
Доктор Сондерс молча прижал меня к груди, однако его крепкие объятия не давали мне ощущения безопасности. Физический контакт — даже с родственниками, не говоря уж о малознакомых людях, — всегда доставлял мне определенный дискомфорт, поэтому я скорее напряглась, чем успокоилась. Доктор же, который, очевидно, привык утешать расстроенных женщин, держался совершенно непринужденно.
— Позвольте еще раз пригласить вас на чашку кофе.
Я согласилась, потому что хотела побольше узнать о докторе Николсе, получить доказательства его некомпетентности и убедить полицию пересмотреть отношение к той информации, которую он дал. Кроме того, когда я обронила фразу о психологической пытке, доктор Сондерс не выказал ни малейшего скепсиса, что позволило мне отнести его наряду с Кристиной и Эмиасом к тому узкому кругу людей, которые верили моим словам и не считали их выдумкой.
Мы сели за столиком в самом центре оживленного кафе. Доктор Сондерс устремил на меня спокойный долгий взор. Я вспомнила, как в детстве мы с тобой играли в гляделки. «Просто смотри в зрачки, Би, в этом вся штука». Но я так и не научилась этому фокусу. Не могла смотреть в глаза, особенно когда передо мной сидел очень красивый мужчина. Даже в тогдашних обстоятельствах.
— Доктор Сондерс…
— Пожалуйста, называйте меня просто Уильям, — улыбнулся он. — Я не очень силен в тонкостях этикета. А всему виной родители, которые определили меня в прогрессивную школу. Моей первой формой стал белый халат; его я надел, уже получив диплом врача. А еще у меня есть привычка рассказывать о себе больше, чем интересно моим собеседникам. Извините, что перебил вас. Вы хотели о чем-то спросить?
— Да. Вы знакомы с доктором Николсом?
— Мы пересекались много лет назад, когда участвовали в программах организованной самопомощи для больных муковисцидозом, и с тех пор остаемся друзьями, хотя в последнее время видимся довольно редко. А почему он вас интересует?
— Доктор Николс был лечащим психиатром Тесс. Я хотела бы знать его профессиональную пригодность.
— Если коротко, он хороший специалист. Вы полагаете иначе?
Доктор Сондерс выжидающе посмотрел на меня, однако я намеревалась получить сведения, а не выдавать их, и он, видимо, это понял.
— Понимаю, Хьюго выглядит немного неряшливо, — продолжил он. — Заношенные брюки, старый пес и все такое, но, поверьте, как психиатр он очень силен. Если в медицинском обслуживании вашей сестры допущены ошибки, то это гораздо скорее связано с отвратительным финансированием психиатрического отделения в государственной больнице, нежели лично с Хьюго.
Доктор Сондерс вновь напомнил мне тебя: он, как и ты, искал в людях лучшее, и, так же как в разговорах с тобой, на моем лице отразилось недоверие.
— До того как заняться врачебной практикой, он работал в исследовательской лаборатории, — продолжал Уильям. — Считался восходящей звездой университета. По слухам, он демонстрировал блестящие способности, как говорится, был рожден для славы.
Признаться, я была озадачена. Описание никак не вязалось с тем доктором Николсом, которого я видела; ничто в его облике даже не намекало на потенциальную гениальность.
Уильям отошел к стойке за сливками. Получается, доктор Николс обвел меня вокруг пальца? Затрапезная одежда, пес-компаньон — неужели он специально создал этот образ при первой встрече, а я невольно на него купилась? Но зачем столько усилий, столько коварства? Сомнения привычно всколыхнулись в моей душе, и все же я не нашла оснований подозревать доктора Николса. Этот безнадежный растрепа слишком порядочен, чтобы иметь отношение к убийству. Слухи о его «звездности», конечно, раздуты на пустом месте. В любом случае он встречался с тобой уже после родов, и то лишь однажды. Если он не психопат, с какой стати ему тебя убивать?
Уильям принес сливки. Я хотела поделиться с ним подозрениями и тем самым облегчить себе душу, но вместо этого принялась размешивать кофе. Мой взгляд упал на кольцо. И почему я не отдала его Тодду?
Уильям тоже обратил внимание на мою руку.
— Какой крупный камень, — заметил он.
— Вы правы. Только я уже разорвала помолвку.
— Зачем же носите кольцо?
— Все забываю снять.
Он расхохотался — совсем как ты, открыто и заразительно. Только ты вот так, по-доброму, поддразниваешь меня.
Услышав писк пейджера, Уильям нахмурился.
— Обычно до начала работы в оперблоке у меня есть двадцать минут, но сегодня дежурным врачам требуется помощь.
Он встал, и из-под выреза на шее показалась цепочка с золотым обручальным кольцом. Возможно, я невольно выдала больше, чем собиралась.
— Моя жена работает рентгенологом в Портсмуте, — сказал он. — В наши дни трудно найти работу в одном и том же городе, и уж тем более в одной больнице. — Уильям затолкал цепочку обратно. — Нам запрещается носить кольца на руках, слишком много микробов на них сидит. Весьма символично, не находите?
Я кивнула. Как ни странно, Уильям относился ко мне иначе, чем прежде. Я вдруг осознала, что моя одежда не слишком хорошо выглажена, волосы не уложены в прическу, а на лице нет косметики. Никто из моего нью-йоркского окружения не узнал бы меня в тот момент, когда я, трясясь от гнева, пела колыбельную в кабинете доктора Николса. Элегантной, ухоженной, рассудительной и сдержанной Беатрис, которой я была в Штатах, уже не существовало. Возможно, именно поэтому люди в общении со мной не стесняются своей неопрятности и приоткрывают те стороны жизни, которые обычно прячут от посторонних?
Провожая Уильяма взглядом, я задавалась вопросом — и задаюсь им до сих пор: действительно ли мне хотелось бы встретить человека, хоть немного похожего на тебя? А то сходство, которое я улавливала, — было ли оно истинным, или я заблуждалась в своих надеждах?
Я рассказала мистеру Райту о своем визите к доктору Николсу и последующем разговоре с Уильямом.
— У вас имелись догадки, кто мог проигрывать по телефону колыбельную? — спрашивает он.
— В принципе у Саймона хватило бы подлости на подобную выходку, как и у Эмилио. Представить, что профессор Розен издевался над своей пациенткой таким способом, я не могла, хотя однажды уже ошиблась насчет него.
— А доктор Николс?
— В силу своей специальности, он лучше остальных знал, как причинить острую психологическую боль. Однако я не увидела в нем ни малейшей склонности к жестокости или садизму. К тому же у него не было мотивов.
— То есть вы изменили свое мнение о профессоре Розене, но не о докторе Николсе?
— Верно.
Мистер Райт будто бы собирается задать мне еще один вопрос, затем передумывает и что-то пишет в блокнот.
— В тот же день вам позвонил инспектор Хейнз? — уточняет он.
— Да. Представился начальником детектива Финборо. Я сочла хорошим знаком, что на мой звонок ответил кто-то из руководства.
Голос инспектора Хейнза бухал в трубке — голос человека, привыкшего водворять тишину в шумной аудитории:
— Я соболезную вам, мисс Хемминг, но при всем том не позволю предъявлять огульные обвинения. Когда мистер Коди подал жалобу, я оправдал вас якобы за недостатком улик, а на самом деле из чистого сочувствия к вашему горю. Несмотря на это, вы переходите всякие границы и полностью исчерпали мое терпение. В последний раз вас предупреждаю: прекратите поднимать ложную тревогу!
— Я не поднимаю…
— Поднимаете! — громыхнул инспектор. — Как тот мальчик, что кричал: «Волки, волки!» — В восторге от собственного остроумия, он едва не хрюкнул. — Повторяю: коронер вынес обоснованное заключение о причинах смерти вашей сестры. Какой бы горькой ни была правда — а я понимаю, насколько тяжело вам смириться с ней, — она заключается в том, что ваша сестра совершила самоубийство, и виновных в ее гибели нет!
Вряд ли сейчас в полицию набирают таких людей, как инспектор Хейнз: властных, самодовольных, не терпящих возражений. Я попыталась успокоиться — нельзя выставлять себя слабоумной истеричкой, какой он меня считает.
— Послушайте, имея на руках запись колыбельной, вы сами видите, что кто-то пытался…
— Нам давно известно про колыбельную, мисс Хемминг, — перебил меня инспектор.
От изумления я потеряла дар речи.
— Когда ваша сестра пропала без вести, сосед сверху, пожилой джентльмен, впустил нас в ее квартиру. Один из моих подчиненных произвел тщательную проверку на предмет улик, которые помогли бы нам установить местонахождение потерпевшей. Он прослушал все сообщения на автоответчике и не усмотрел в колыбельной ничего дурного.
— Но ведь колыбельную прокручивали много раз, хотя запись всего одна, — в отчаянии проговорила я. — Вот почему Тесс боялась снимать трубку, а затем отключила телефон. И Эмиас подтвердил, что звонили неоднократно.
— Он человек в возрасте и сам признается, что память его подводит.
Я все еще сдерживалась.
— Разве даже одного звонка не достаточно? Разве он не показался вам странным?
— Не более странным, чем платяной шкаф посреди гостиной или большое количество дорогих красок при отсутствии элементарных предметов быта, например, чайника.
— Так вы поэтому ничего мне не сказали о колыбельной? Не усмотрели в ней «ничего дурного» или хотя бы необычного?
— Именно.
Я переключила телефон на громкую связь и положила трубку, чтобы инспектор не догадался о том, что у меня трясутся руки.
— Если рассматривать факт записи на автоответчике вкупе с наркотическим веществом, обнаруженном в крови Тесс, разве это не доказывает, что над ее психикой жестоко издевались?
Гулкий голос инспектора заполонил комнату:
— А по-моему, гораздо правдоподобнее, что запись оставил друг или подруга вашей сестры, не знавшие о родах. Нечаянная бестактность, и только!
— Это вам доктор Николс сказал?
— Это абсолютно разумный вывод. Особенно, учитывая, что ребенок родился на три недели раньше срока.
Я уже не могла скрыть дрожь в голосе.
— Если вы давно знали о колыбельной и не приняли ее во внимание, зачем же звоните мне?
— Не забывайте, это вы позвонили нам, мисс Хемминг, а я из вежливости ответил на ваш звонок!
— В спальне освещение лучше, поэтому Тесс передвинула шкаф в гостиную и сделала из спальни студию! — почти крикнула я, но инспектор уже положил трубку.
Поселившись у тебя, я поняла смысл перестановки.
— Выставка состоялась через неделю после того, как вы услышали колыбельную? — задает вопрос мистер Райт.
— Да, меня пригласили однокурсники Тесс. Я непременно должна была посетить выставку, так как она давала возможность еще раз поговорить с Саймоном и Эмилио.
Знаешь, мне кажется логичным, что именно на художественной выставке в колледже, где каждый мог увидеть твои прекрасные полотна, почувствовать твой талант и любовь к жизни, я наконец нащупала ниточку, приведшую меня к убийце.
Утром в день выставки в дверь позвонил Бенджамин. Он убрал свои растаманские косички в хвост и выглядел по-деловому. С ним был еще один парень, мне незнакомый. Приехали они на старом белом фургончике, который должен был перевезти твои картины в колледж. Бенджамин сказал, что выставка в конце учебного года — более важное и помпезное мероприятие, но и эта тоже имеет немалое значение. Все участники пригласили родных и близких, ожидались также и потенциальные покупатели. Твои друзья обращались со мной осторожно, заботливо, как будто от громкого возгласа или смеха я могу рассыпаться на кусочки.
Когда они отъезжали от обочины, загрузив картины в кузов, в глазах у обоих стояли слезы. Что бы ни опечалило их, эта сторона твоей жизни оставалась для меня тайной. Возможно, они просто вспомнили, как раньше бывали в этой квартире, и контраст — я здесь, а тебя нет — оказался слишком болезненным.
Я своими руками заворачивала картины в бумагу и все равно просто ахнула, когда вошла в выставочный зал. Дома они темной грудой стояли у стены, но, развешанные по стенам, являли собой взрыв ярких красок и буквально дышали жизнью. Твои друзья, те, что неделю назад собрались в кафе, по очереди подходили ко мне и заводили беседу, как будто им поручили за мной присматривать.
Саймона нигде не было, однако сквозь толпу в дальнем конце зала я разглядела Эмилио. Рядом с ним стояла Хорошенькая Ведьмочка. Судя по ее лицу, случилась какая-то неприятность. Приблизившись, я увидела, что он выставил на обозрение картины с твоей обнаженной натурой.
Когда я подошла к Эмилио, внутри у меня все бурлило от ярости, и все же мне пришлось понизить голос, чтобы посторонние не услышали наш разговор и у этого мерзавца не появилась лишняя аудитория.
— Неужели смерть Тесс не положила конец вашему с ней роману? — возмущенно зашептала я.
Эмилио жестом обвел полотна с таким видом, точно наслаждался моей злостью:
— Картины отнюдь не означают, будто между нами что-то было.
На моем лице отразилось глубокое недоверие.
— Считаешь, все художники непременно спят со своими моделями, Беатрис?
Вообще-то да, именно так я и считала, а обращение ко мне по имени было недопустимой фривольностью, такой же как выставление напоказ твоих портретов в обнаженном виде.
— Чтобы написать ню, вовсе не обязательно состоять в любовной связи с натурщицей.
— Но вы состояли с ней в любовной связи! А теперь хотите, чтобы об этом узнали все? Как же, посмотрите, ослепительно красивая девушка готова на секс с мужчиной двадцатью годами старше! То, что вы ее преподаватель и вдобавок женаты, конечно, не важно по сравнению с шансом изобразить из себя настоящего мачо, так?
Я заметила, что Хорошенькая Ведьмочка коротко кивает, одобрительно и немного удивленно. Эмилио бросил на нее испепеляющий взгляд, она пожала плечами и удалилась.
— Значит, по-вашему, мои картины призваны доказать всем, что я мачо?
— Да, посредством демонстрации тела Тесс.
Я развернулась и пошла обратно, к твоим картинам. Эмилио двинулся вслед за мной.
— Беатрис!
Я не обернулась.
— У меня есть новость, которая может вас заинтересовать. Мы получили результаты медицинских тестов. Моя жена не является носителем муковисцидоза.
— Рада за нее.
Эмилио, как оказалось, не договорил.
— У меня тоже отсутствует дефектный ген.
Стоп, что-то здесь не сходилось. У Ксавье диагностировали муковисцидоз, значит, по законам генетики, болезнь передалась ему от обоих родителей.
Я ухватилась за возможное объяснение.
— Нельзя судить по одному-единственному тесту. Ген муковисцидоза способен к разнообразным мутациям и…
— Мы сделали все тесты, какие только существуют, — перебил меня Эмилио. — Все! Нам четко и ясно сказали, что ни я, ни моя жена не являемся носителями заболевания.
— Иногда муковисцидоз развивается у ребенка даже в том случае, если один из родителей здоров.
— И какова же вероятность этого? Один шанс из миллиона? Ксавье не имеет ко мне никакого отношения!
Эмилио впервые произнес имя Ксавье вслух — выдохнул так же небрежно, как и свой отказ от него.
Получалось, что отцом Ксавье был кто-то другой, но ты сказала мне, что беременна от Эмилио, а ты никогда не лжешь.
Напряженное внимание, с которым меня слушает мистер Райт, возрастает.
— Я поняла, что у Ксавье никогда не было муковисцидоза.
— Потому что носителями должны быть оба родителя?
— Именно так.
— Так в чем же, по-вашему, было дело?
Я беру короткую паузу, вспоминая чувства, захлестнувшие меня в момент осознания истины.
— Компания «Хром-Мед» проводила генетические испытания на абсолютно здоровых детях.
— С какой целью?
— С целью мошенничества.
— Если можно, объясните подробнее.
— Неудивительно, что «волшебный» метод лечения муковисцидоза оказался таким эффективным, ведь младенцы изначально не были больны! Благодаря «чудесному изобретению» рейтинг «Хром-Мед» взлетел до небес. Компания вот-вот собиралась выпустить на рынок дополнительные акции.
— Куда же смотрели органы надзора, контролировавшие ход эксперимента?
— Видимо, их каким-то образом ввели в заблуждение, понятия не имею, как именно. С другой стороны, участницы эксперимента вроде Тесс ни на секунду не усомнились бы в диагнозе. Если в семье кто-то болен муковисцидозом, всегда следует предполагать носительство.
— По вашему мнению, профессор Розен был причастен к афере?
— Я решила, что причастен. Даже если идея изначально принадлежала не ему, все осуществлялось с его ведома. Кроме того, возглавляя «Хром-Мед», в скором будущем он мог рассчитывать на фантастические прибыли.
После встречи с профессором Розеном в клинике я сочла его фанатиком от науки, жаждущим признания коллег. У меня в голове с трудом укладывался образ корыстолюбивого мошенника, которым двигало не тщеславие — мотив, старый как мир, а еще более древний порок — алчность. Я не верила в актерские способности профессора; не верила, что его жаркий монолог об уничтожении болезней и прорыве в истории был просто пылью, пущенной в глаза мне и, конечно, всем остальным. Однако если все действительно обстояло так, профессор держался весьма убедительно.
— Вы вновь связались с ним?
— Попыталась. Он улетел в Штаты со своим лекционным туром и должен был вернуться почти через две недели, шестнадцатого марта. Я оставила сообщение на автоответчике, но по возвращении профессор мне так и не перезвонил.
— Вы разговаривали с детективом Финборо?
— Да, позвонила и попросила встретиться. Он назначил встречу на вторую половину того же дня.
Мистер Райт сверяется с записями.
— При вашей беседе с сержантом Финборо также присутствовал инспектор Хейнз?
— Все правильно.
Человек, который бесцеремонно вторгался в чужое личное пространство, уверенный, что у него есть на это право.
— Прежде чем мы продолжим, я бы хотел уточнить один момент, — мягко произносит мистер Райт. — Какую связь вы проводили между аферой и смертью вашей сестры?
— Я пришла к выводу, что Тесс обо всем догадалась.
Тяжелый второй подбородок инспектора Хейнза нависал над столом. Его внешность полностью соответствовала низкому властному голосу и надменной манере. Рядом с ним сидел сержант Финборо.
— Что, по-вашему, вероятнее, мисс Хемминг, — загремел инспектор Хейнз, — что солидная компания, пользующаяся всемирно признанным авторитетом и прошедшая миллион различных проверок, ставит генетические эксперименты на здоровеньких младенцах, или все-таки, что молоденькая студентка не помнит, от кого забеременела?
— Тесс не стала бы обманывать меня насчет отца ребенка.
— В нашей прошлой беседе я любезно попросил вас прекратить навешивать безосновательные обвинения.
— Да, но…
— Всего неделю назад вы оставили сообщение, в котором назвали главных подозреваемых — мистера Коди и Саймона Гринли.
Я проклинала себя за то, что оставила на автоответчике детектива Финборо это дурацкое сообщение. Оно характеризовало меня как эмоционально нестабильную особу и подрывало всякое доверие к моим словам.
— Теперь, стало быть, вы передумали? — Инспектор Хейнз подался вперед грузным туловищем.
— Да.
— А мы — нет, мисс Хемминг. Не появилось никаких новых обстоятельств, могущих поставить под вопрос заключение коронера о самоубийстве. Еще раз изложу для вас голые факты, и даже если вы не хотите их слышать, это не означает, что они не существуют!
Сразу три отрицания в одном предложении. Красноречием инспектор отнюдь не обладал, хотя сам был убежден в обратном.
— Незамужняя молодая женщина, студентка художественного колледжа, — продолжал инспектор, с особым удовольствием выделяя определенные слова, — носит внебрачного ребенка, у которого диагностирован муковисцидоз. Плод получает успешное лечение in utero[12], — судя по всему, инспектор Хейнз страшно гордился своими познаниями и возможностью щегольнуть латынью, — однако погибает при родах от внешних причин. — (Да, я отметила это безличное «плод»). — Кто-то из приятелей молодой женщины, которых у нее, очевидно, было много, записывает на автоответчик бестактное сообщение, каковое способствует усилению суицидальных наклонностей.
Я попыталась что-то сказать, но инспектор Хейнз сделал паузу ровно настолько, чтобы набрать воздуха.
— Испытывая галлюцинации, связанные с приемом запрещенного наркотического вещества, она вооружается кухонным ножом и идет в парк.
Сержант Финборо бросил взгляд на своего начальника.
— Вполне вероятно, что она приобрела нож специально, — рявкнул инспектор. — Выбрала дорогое и необычное орудие. Или просто острое. Я, знаете ли, не психиатр и не разбираюсь, что там в голове у потенциальных самоубийц.
Детектив Финборо изумленно отпрянул, на его лице отразилась явная неприязнь.
— Итак, она направляется в заброшенный общественный туалет, — гнул свое инспектор. — Опять же точно назвать причину затрудняюсь — то ли, чтобы укрыться от посторонних глаз, то ли, чтобы труп подольше не обнаружили. На подходе к парку или уже непосредственно в туалете принимает мощную дозу снотворного… — удивительно, как это он еще воздержался от фразы «тщательно спланированное самоубийство», — а затем при помощи кухонного ножа вскрывает вены на руках. Впоследствии выясняется, что отец ее незаконнорожденного ребенка — вовсе не преподаватель колледжа, как она считала, а другой мужчина, носитель гена муковисцидоза.
Я сделала еще одну попытку возразить, однако это было все равно что звонить в колокольчик на обочине шоссе М4. Знаю, это одно из твоих выражений, я вспомнила его, когда безуспешно пыталась вставить хоть словечко в напыщенную речь инспектора Хейнза. Видя его полное пренебрежение ко мне, я понимала, что плохо одета и волосы давно пора привести в порядок, что я веду себя дерзко и неуважительно по отношению к представителю закона… Понятно, почему он держался со мной столь высокомерно. Раньше я и сама так же относилась к людям вроде меня.
Сержант Финборо проводил меня к выходу.
— Он совершенно не слушал, — устало произнесла я в дверях.
Детектив чувствовал себя неловко.
— Это все из-за ваших обвинений в адрес Эмилио Коди и Саймона Гринли.
— Вы тоже считаете, что я поднимала ложную тревогу? Слишком часто кричала: «Волки, волки!» — так?
— И слишком громко, — улыбнулся сержант Финборо. — Вдобавок Эмилио Коди накатал на вас жалобу. А Саймон Гринли — тот вообще сын министра.
— Но ведь нестыковки видны невооруженным глазом. Неужели ваш босс их не замечает?
— После того как он сделал вывод на основе реальных фактов, переубедить его очень сложно. Разве что в противовес найдутся более серьезные аргументы.
Порядочный человек и хороший работник, сержант Финборо не позволял себе открыто критиковать руководство.
— А как думаете вы?
Помолчав, он ответил:
— Экспертиза ножа показала, что он абсолютно новый и ни разу не использовался прежде.
— Моя сестра не могла купить такой дорогой нож.
— Согласен, учитывая, что у нее не было даже чайника или тостера.
Значит, когда детектив приходил поговорить по поводу протокола вскрытия, он обратил на это внимание. То есть заглянул не просто из сочувствия, как мне показалось. Все-таки в первую очередь он был профессионалом. Я набралась мужества и спросила:
— Вы верите в то, что Тесс убили?
На некоторое время между нами опять повисла пауза.
— Для меня это пока под вопросом.
— Вы намерены отыскать ответ на этот вопрос?
— Постараюсь. К сожалению, большего обещать не могу.
Мистер Райт — весь внимание: корпус чуть наклонен вперед, в глазах живой интерес; он непосредственный участник моего рассказа. Как редко в наше время встретишь человека, по-настоящему умеющего выслушать собеседника.
— Из полицейского участка я отправилась к Касе. Я должна была убедить ее и Митча пройти тест на носительство муковисцидоза. Если хотя бы у одного из них результат окажется отрицательным, стоит подключать к делу полицию.
Со времени моего последнего визита облезлая гостиная Каси еще больше отсырела. Слабенький электрообогреватель не справлялся с влагой, сочащейся сквозь стены. Из щелей дуло, тонкая ткань индийского пледа, служившего занавеской, трепыхалась на сквозняке. В прошлый раз я видела Касю три недели назад, теперь она уже была на девятом месяце.
— Беатрис, я не понимаю, — растерянно произнесла она.
И вновь мне резануло слух обращение по имени — на этот раз я малодушно предпочла бы сохранить дистанцию, так как пришла с плохими новостями. Выбрав самый сухой и формальный тон, я объяснила:
— Чтобы родился ребенок, больной муковисцидозом, ген должен присутствовать у обоих родителей.
— Да, мне говорят в клинике.
— У отца Ксавье ген заболевания не выявлен. Ксавье не болел муковисцидозом.
— Ксавье не болеть?
— Нет.
Из ванной вышел Митч. Наверное, подслушивал.
— Да она, на хрен, просто врала насчет своих приятелей по койке.
Его лицо, отмытое от штукатурной пыли, было очень красивым, хотя контраст между изящными контурами лица и мускулистым телом, сплошь покрытым татуировками, почему-то казался угрожающим.
— Моя сестра не страдала комплексами в плане секса, — ответила я. — Если бы она спала с кем-то еще, то откровенно сказала бы мне об этом. Ей незачем было врать. Я действительно считаю, что тебе нужно пройти тест, Митч.
Зря я назвала его по имени. Я хотела, чтобы это прозвучало дружелюбно, а вышло, как будто школьная учительница обращается к первокласснику. Во взгляде Каси по-прежнему сквозило недоумение.
— Я имею ген муковисцидоза. Мой тест положительный.
— Допустим, но, возможно, тест Митча покажет отрицательный результат и выяснится, что ген заболевания у него отсутствует, и…
— Ага, как же, — язвительно перебил он. — Все доктора ошибаются, а ты одна права. — Митч посмотрел на меня с ненавистью. Может, и вправду ненавидел. — Твоя сестрица наврала насчет отца ребенка! Да и кто бы осудил девчонку, если ты постоянно допекала ее, заносчивая сучка!
Мне хотелось надеяться, что Митч проявляет словесную агрессию ради Каси, пытается убедить ее, что твой малыш был болен, так же как и его ребенок до проведения эксперимента, что лечение не жульничество. Доказать это можно было одним способом: выставить тебя обманщицей, а меня — надменной стервой, однако Митч слишком открыто наслаждался собственной грубостью, поэтому едва ли действовал из добрых побуждений.
— Хочешь правду? Твоя сестрица трахалась со всеми подряд и сама не знала, от кого залетела!
— Нет. Тесс не быть такая, — тихо, но решительно произнесла Кася.
Я вспомнила простую верность, с которой она назвала тебя подругой. Митч набычился, но Касю это не испугало.
— Беатрис говорит правда.
Произнося эти слова, она встала и рефлекторно заняла оборонительную позицию. По инстинктивному движению Каси я догадалась, что Митч ее бьет.
Тяжелая тишина в комнате смешалась с сырым дыханием стен. Хоть бы кто-нибудь нарушил молчание! Лучше жаркий словесный бой сейчас, нежели физическое насилие потом. Кася махнула мне, показывая на дверь, я вышла вместе с ней.
Мы молча спустились по крутым и грязным бетонным ступенькам. Проводив меня, она повернулась, чтобы уйти, но я взяла ее за руку.
— Переезжай ко мне.
Кася отвела глаза, свободная рука коснулась живота.
— Я не могу.
— Пожалуйста.
Я испугалась самой себя. Максимум, на что я была способна прежде, — подписать чек на благотворительность, а теперь вдруг приглашаю переехать к себе почти незнакомую женщину и очень рассчитываю на ее согласие. Я испугалась собственных эмоций. Кася развернулась и пошла вверх по замызганной лестнице в сырую холодную квартиру — назад, к неизбежности.
Говорила ли тебе Кася, за что любит Митча? Наверняка говорила, ведь она не из тех девушек, которые ложатся в постель без любви. Если обручальное кольцо Уильяма свидетельствовало о том, что он уже кому-то принадлежит, то миниатюрный золотой крестик на шее Каси не имел ничего общего с обетами, а служил знаком, запрещающим переступать границы всякому, кто не питает к владелице любви и нежности. Меня бесило, что Митч не обращал внимания на этот знак, грубо его игнорировал.
Вскоре после полуночи раздался звонок в дверь. Я побежала открывать, надеясь, что это Кася. Прежде всего в глаза мне бросился не ее вульгарный наряд или пережженные волосы, а кровоподтеки на лице и руках.
В ту первую ночь нам пришлось спать в одной кровати. Кася храпела, как паровоз. Да, ты говорила, что беременные часто храпят. Мне нравились эти богатырские раскаты. Сколько ночей я провела без сна, слушая свое горе, когда единственными звуками в квартире были мои сдавленные рыдания в подушку и ритмичный стук безмолвно кричащего сердца. Касин храп, такой обычный, житейский и невинный, успокаивал своей назойливостью. Этой ночью я впервые после твоей смерти заснула крепким сном.
Мистеру Райту пришлось отлучиться на деловую встречу, поэтому сегодня я возвращаюсь домой рано. Дождь льет как из ведра, и по дороге от метро до квартиры я успеваю насквозь промокнуть. Кася стоит у окна, высматривая меня. Мгновение спустя она с улыбкой открывает дверь.
— Беата! — Это «Беатрис» по-польски.
Кажется, я говорила тебе, что уступила кровать ей, а сама сплю в гостиной на матрасе-футоне и чувствую себя великаншей: ноги упираются в шкаф, а голова — в дверь.
Я одеваюсь в сухое и размышляю о том, что сегодня выдался хороший день. Мне удалось сдержать обещание, данное самой себе: не бояться, не робеть. Когда же на меня напала слабость, озноб и тошнота, я постаралась не допустить, чтобы тело одержало победу над духом, и, по-моему, весьма преуспела. Правда, у меня не хватило сил разглядеть что-то красивое в каждодневной рутине, однако не все же сразу, согласна?
Переодевшись, я преподаю Касе урок английского — мы занимаемся ежедневно. У меня есть учебник специально для поляков, слова в нем разбиты на группы, и перед каждым уроком Кася выучивает новую группу.
— Piękny, — говорю я, следуя инструкции по произношению.
— Прекрасный, красивый, замечательный.
— Молодчина, — хвалю я.
— Спасибо, Беата, — с шутливой торжественностью отвечает Кася.
Мне ужасно нравится, когда она называет меня по-польски, хотя я это скрываю.
— Ukochanie?
— Любовь, нежность, обожать.
— Отлично. Nienawiść?
Кася молчит. Я смотрю на страницу, где приведены пары антонимов. Только что я произнесла слово «ненависть» по-польски. Кася пожимает плечами. Я делаю другую попытку и называю польский эквивалент слова «несчастный». Она вновь непонимающе смотрит на меня.
Поначалу эти провалы в словарном запасе приводили меня в отчаяние. Нежелание Каси заучивать слова с негативным смыслом я считала ребячливостью, лингвистической «политикой страуса». Однако позитивные слова она запоминает с большим старанием и даже учит разговорные выражения.
«Как дела, Кася?» — «Тип-топ, Беата!» (Кася — поклонница старых мюзиклов.)
Я попросила ее не уезжать после рождения ребенка. И Кася, и Эмиас в полном восторге. Он разрешил нам пожить в квартире бесплатно, пока мы не встанем на ноги. Я буду приглядывать за Касей и малышкой. Я справлюсь, веришь?
После урока я выглядываю в окно и только сейчас обращаю внимание на цветочные горшки, расставленные на ступеньках. Передо мной целая россыпь (скромная, но все же россыпь) ярко-желтых нарциссов.
Я звоню в дверь Эмиаса. Он искренне рад меня видеть. Я целую его в щеку и радостно сообщаю:
— Ваши нарциссы расцвели!
Восемь недель назад я наблюдала, как Эмиас сажает луковицы в мерзлую землю, и, даже не обладая познаниями в цветоводстве, была уверена, что они погибнут. Эмиас улыбается, довольный моим смущением.
— Вовсе не обязательно делать такой изумленный вид.
Как и ты, я частенько заглядываю к Эмиасу — иногда на ужин, а иногда просто на стопку виски. Раньше я думала, что ты ходишь к нему из жалости.
— Признайтесь, вы, наверное, воткнули уже распустившиеся цветы в горшки, пока я не видела?
Эмиас разражается добродушным хохотом. Для старика он хохочет громко. Громко и энергично, правда?
— Сперва я полил землю горячей водой и хорошенько перемешал, а уж потом высадил луковицы. Все растет гораздо лучше, если предварительно прогреть почву.
Я мысленно представляю действия Эмиаса и чувствую умиротворение.
Среда
С утра я приезжаю в уголовный суд, и у меня создается впечатление, что нарциссы выращивает не только Эмиас. Секретарша мистера Райта разворачивает влажную бумагу и тоже достает букетик. Словно прустовское печенье «Мадлен», опущенное в чашку с липовым чаем, мокрое бумажное полотенце, которым обернуты стебли цветов, пробуждает во мне сладкие воспоминания: залитый солнцем класс и букетик желтых нарциссов на столе у миссис Поттер. Цветы из нашего садика. На короткий миг я возвращаюсь в прошлое — Лео жив, папа не ушел из семьи, а мысль о частной школе еще не омрачает мамино лицо, когда она приходит поцеловать меня на ночь. Однако ниточка, протянувшаяся из прошлого, растворяется, и память переносит меня на пять лет вперед. Пришел твой черед дарить миссис Поттер букетик нарциссов, а мне обидно, ведь она уже не моя учительница. Я вот-вот должна поступить в пансион, где будет не до цветов — если они там и растут, рвать их наверняка запрещают. Мне горько от того, что все переменилось к худшему.
В приемной появляется мистер Райт. У него красные, отекшие глаза, по щекам текут слезы.
— Не волнуйтесь, у меня всего лишь аллергия на пыльцу, — говорит он. — Это не заразно.
Мы входим в кабинет, и я испытываю мимолетную жалость к секретарше, которая, заботясь о здоровье шефа, вынуждена немедленно избавиться от солнечно-радостных цветов.
Мистер Райт подходит к окну:
— Не против, если я закрою?
— Нет, ничуть.
Бедный, ему так плохо. По крайней мере сегодня я могу посочувствовать другому человеку, а не зацикливаться на собственном нездоровье. В самом деле, нельзя же думать только о себе.
— Мы остановились на том, что Кася переехала к вам, правильно? — уточняет мистер Райт.
— Да.
Он тепло улыбается:
— Если не ошибаюсь, вы все еще живете вместе?
Наверное, узнал из газет. Значит, я была права, и та фотография, где я обнимаю Касю, разошлась по всем изданиям.
— Все верно. На следующее утро я прокрутила ей колыбельную. Так же, как и остальные, Кася предположила, что кто-то из друзей Тесс всего лишь проявил нечаянную бестактность.
— Вы поделились с ней своими подозрениями?
— Нет. Не хотела расстраивать. Она ведь еще при первой встрече дала понять, что ничего не знает о страхах Тесс и уж тем более о том, кто мог ее запугивать. Я пожалела, что вообще поставила Касе колыбельную.
А если бы я видела в ней ровню? Высказала бы все, что у меня на сердце? Пожелала бы разделить с кем-то свои думы? Знаешь, после того как она проспала целую ночь рядом со мной и я до утра слушала ее храп, а потом разбудила, приготовила чай и нормальный завтрак, я решила, что моя роль — заботиться о Касе. Защищать ее.
— После колыбельной на автоответчике шло еще одно сообщение, — продолжаю я. — От какой-то незнакомой мне Хэтти. Я не придала ему значения, но Кася узнала голос и сообщила, что эта женщина вместе с ней и Тесс проходила лечение в «Клинике страдающих мамочек». К этому времени Хэтти уже должна была родить, но Кася не ожидала, что та позвонит. Она не поддерживала дружбу с Хэтти, приятельские посиделки всегда устраивала Тесс. Телефонного номера Хэтти у Каси не было, зато нашелся адрес.
Я отправилась по адресу, который дала Кася. Звучит просто, хотя в отсутствие автомобиля и при моих крайне смутных познаниях в области функционирования общественного транспорта любая поездка превращается для меня в затяжную пытку. Кася, переживавшая по поводу синяков на лице, осталась дома. Она решила, что я хочу навестить твою подругу просто из сентиментальных побуждений, а я не стала ее разубеждать.
Я поднялась на крыльцо симпатичного домика в Чизвике и нажала кнопку звонка, чувствуя себя немного не в своей тарелке. Я пришла без предварительной договоренности и не знала, застану ли Хэтти дома. Дверь открыла няня-филиппинка со светловолосым мальчуганом лет двух на руках. Она держалась очень скромно и не поднимала глаз.
— Беатрис? — неожиданно услышала я.
Я растерялась. Откуда женщина знает мое имя?
Заметив мое озадаченное выражение, она пояснила:
— Я — Хэтти, подруга Тесс. Я подходила к вам на похоронах с соболезнованиями.
На кладбище передо мной и мамой выстроилась целая очередь твоих друзей и знакомых. Жестокая пародия на свадебный прием, только здесь каждый из «гостей» ожидал возможности выразить свое сожаление. Их было так много, что мне даже показалось, будто все эти люди несут бремя вины за твою смерть. Длинная цепочка соболезнующих вызывала у меня неловкость, я хотела, чтобы все поскорее закончилось, и совершенно не воспринимала ни имен, ни лиц.
Кася не сказала, что Хэтти — филиппинка, да и с чего ей было об этом говорить. Меня же удивила не столько национальность Хэтти, сколько ее возраст. Ты и Кася еще совсем молоды, почти девчонки, тогда как Хэтти я бы дала на вид лет сорок. Кроме того, я заметила у нее на пальце обручальное кольцо.
Хэтти придержала передо мной дверь. В ее манере сквозила робость, даже почтительность.
— Входите, пожалуйста.
Я последовала за ней в дом, рассчитывая услышать писк младенца, однако никаких признаков присутствия грудного ребенка не обнаружила, лишь из гостиной доносились звуки детской телепередачи. Хэтти усадила светловолосого малыша перед телевизором, а я припомнила: ты как-то говорила мне о своей приятельнице-филиппинке, которая работает няней. Я тогда пропустила ее имя мимо ушей, раздосадованная очередным проявлением твоего — модного нынче — либерализма в дружбе (нянька с Филиппин, Боже мой!).
— Хэтти, если не возражаете, я хотела бы задать вам несколько вопросов.
— Да, только в двенадцать мне нужно забрать из школы брата этого сорванца. Не против, если я… — Она жестом указала в сторону кухни, где стояла гладильная доска и корзина с бельем.
— Нет, ну что вы.
Казалось, ее совсем не удивило, что я пришла к ней со своими расспросами. Устроившись на кухне, я обратила внимание, что, несмотря на холод, Хэтти одета в тоненькое платье из дешевой материи и старые пластиковые шлепанцы.
— Кася Левски сказала, что вы участвовали в эксперименте по внутриутробному лечению муковисцидоза у детей, верно? — спросила я.
— Да.
— Ген муковисцидоза выявлен и у вас, и у вашего мужа?
— Однозначно.
Пораженная контрастом между кроткой внешностью и резким тоном, я решила, что ослышалась.
— Вы проверялись на носительство раньше?
— У меня есть сын, больной муковисцидозом.
— Простите, я не знала.
— Он живет с отцом и бабушкой. Моя дочь тоже с ними, но она не больна.
И Хэтти, и ее муж — носители заболевания. То есть она не поможет мне поддержать теорию насчет того, что «Хром-Мед» ставит эксперименты на здоровых младенцах. Если только…
— Ваш муж сейчас на Филиппинах?
— Да.
Воображение начало рисовать мне различные сценарии, по которым очень бедная и робкая филиппинская девушка беременеет в то время, как ее муж находится на родине.
— Вы работаете няней с проживанием? — спросила я, то ли в неуклюжей попытке завести светскую беседу, то ли с намеком на то, что отец ее ребенка — хозяин дома.
— Да. Джорджине нравится, что я живу здесь, когда мистер Беван в отъезде.
Значит, мать семейства для нее — Джорджина, а отец — мистер Беван.
— А вы не хотели бы поселиться отдельно? — Я пробивала все тот же сценарий с похотливым главой семьи. Как это выглядело в моем представлении, точно сказать не могу. Видимо, я ожидала услышать что-то вроде «О да, и тогда мне не пришлось бы терпеть гадости, с которыми хозяин пристает ко мне по ночам».
— Я счастлива здесь. Джорджина очень добрая и милая. Мы с ней подруги.
Последнюю фразу я в расчет не приняла. Дружба предполагает определенное равенство между людьми.
— А мистер Беван?
— Я редко его вижу. Он почти всегда в командировках.
С этой стороны ничего выудить не удалось. Я наблюдала за тем, с какой тщательностью Хэтти гладит белье, и думала, что друзья Джорджины наверняка ей здорово завидуют.
— Вы уверены, что отец вашего ребенка является носителем гена?
— Я ведь уже сказала, мой сын болен муковисцидозом. — Резкий тон, который я уже слышала раньше, теперь не вызывал сомнений. — Я разговариваю с вами, потому что вы сестра Тесс. Из уважения к ней. Но у вас нет права задавать мне такие вопросы. Какое вам до этого дело?
Я полностью ошибалась насчет Хэтти. Сперва мне показалось, что она отводит глаза из стеснения, однако эта женщина просто держала дистанцию, охраняя личное пространство. Хэтти не была робкой скромницей и яростно защищала неприкосновенность своей территории.
— Прошу прощения. Видите ли, я подозреваю, что эксперимент проводился с нарушением легитимности, и в связи с этим хочу знать, являетесь ли вы и ваш муж носителями гена муковисцидоза.
— Думаете, я понимаю трудные английские слова вроде «легитимности»?
— Пожалуй, я вас немного недооценила.
Хэтти посмотрела на меня почти что с улыбкой, и я вдруг увидела перед собой другого человека. Теперь я не сомневалась, что Джорджина, кем бы она ни была, действительно считает Хэтти своей подругой.
— Эксперимент вполне законный, моего малыша вылечили от муковисцидоза. Но мой сын, тот, что остался на Филиппинах, уже не выздоровеет. Время упущено.
Хэтти по-прежнему не говорила, кто отец ребенка. Я поняла, что мне лучше попытаться в другой раз, когда она, возможно, будет более откровенна.
— Можно спросить еще кое о чем? — осторожно промолвила я.
Хэтти кивнула.
— Вам заплатили за участие в эксперименте?
— Да, триста фунтов. Мне пора забирать Барнаби из школы.
У меня осталось еще много вопросов, и я запаниковала — а вдруг другой возможности поговорить не представится? Хэтти пошла в гостиную и ласковыми уговорами увела младшего братишку Барнаби от телевизора.
— Можно прийти к вам еще раз?
— Я буду работать в следующий вторник. Хозяева уходят в восемь. Если хотите, приходите.
— Спасибо, я…
Хэтти, державшая на руках мальчугана, приложила палец к губам, оберегая уши ребенка от взрослых разговоров.
— При первой встрече мне показалось, что у Хэтти нет ничего общего с Тесс или Касей, — рассказываю я. — Отличалось все: возраст, национальность, занятие. Однако, заметив ее дешевую одежду, я поняла, что, помимо участия в эксперименте, всех троих объединяет еще кое-что: бедность.
— Вы сочли это обстоятельство важным? — спрашивает мистер Райт.
— Я подумала, что женщин, находящихся в стесненном положении, легче прельстить вознаграждением или подкупить. Кроме того, учитывая, что муж Хэтти жил на Филиппинах, все трое фактически были одиночками.
— А как же бойфренд Каси, Майкл Фланаган?
— Когда Кася согласилась участвовать в эксперименте, он уже бросил ее, а когда вернулся, они провели вместе всего несколько недель. Человек, стоявший за аферой, умышленно выбирал незамужних, в расчете на то, что о них некому позаботиться и никто не будет проявлять чрезмерного любопытства. Можно сказать, он пользовался их уязвимостью.
Мистер Райт хочет ободрить меня, но я не намерена отклоняться от темы и искать себе оправданий, поэтому решительно продолжаю:
— В телерепортажах и на фотографиях, которые я видела в клинике «Хром-Мед», вместе с младенцами в кадре практически всегда были не только счастливые мамочки, но и отцы. У меня возникло подозрение, что матерей-одиночек набирали исключительно из больницы Святой Анны, что только там творилось что-то непонятное.
Хэтти аккуратно усадила светловолосого малыша в коляску, туда же положила бутылочку с питьем и плюшевого мишку, затем установила охранную сигнализацию и взяла ключи. Я все еще пыталась найти признаки того, что где-то наверху находится новорожденный младенец, однако не заметила ни пеленок с подгузниками, ни «радионяни», как не услышала и детского плача. Хэтти упорно молчала. Теперь, когда она собралась уходить, мне стало ясно, что в доме больше никого нет. Уже у самого порога я собралась с духом, чтобы задать жестокий вопрос:
— А… ваш ребенок?..
— Умер, — тихо, чтобы не услышал мальчуган, промолвила Хэтти.
В обеденный перерыв у мистера Райта вновь назначено деловое свидание, и я выхожу прогуляться. Парк омыт вчерашним дождем, сверкает мокрая трава, крокусы — будто россыпь драгоценных камней. Лучше я поговорю с тобой здесь, где цвета поражают яркостью, даже когда солнце прячется за тучу.
Хэтти сообщила тебе, что ее ребенок умер после экстренного кесарева сечения, но говорила ли она, что наряду с этим ей сделали гистерэктомию, то есть удалили матку? Не знаю, что подумают посетители парка, глядя, как у меня по щекам текут слезы, — наверное, решат, что я немного не в себе. Сперва же при словах Хэтти я не то что не заплакала, но даже не посочувствовала ей, полностью уйдя мыслями в составление логической цепочки.
Я возвращаюсь в кабинет мистера Райта и продолжаю давать показания — излагаю сухие факты, лишенные эмоциональной окраски.
— По словам Хэтти, причиной смерти ее ребенка стало заболевание сердца. Ксавье умер от проблем с почками. Я не сомневалась, что гибель обоих младенцев не случайна и каким-то образом связана с экспериментальным лечением, которое проводилось в больнице Святой Анны.
— Вы догадывались о возможном характере этой связи?
— Нет. Я не понимала, в чем дело. Сперва я выстроила вполне правдоподобную теорию, согласно которой эксперимент ставился на здоровых детях и был сплошной аферой, затеянной ради прибыли, но теперь выяснилось, что двое младенцев умерли, и моя версия рассыпалась.
Миссис Влюбленная Секретарша приносит мистеру Райту антигистаминное средство. Ошибочно решив, что мои глаза тоже покраснели от аллергии, она спрашивает, не нужна ли таблетка и мне. Я понимаю, что была к ней несправедлива, и даже не из-за этой попытки проявить заботу; просто я с самого начала не совсем верно истолковала причину, по которой она поспешила убрать нарциссы. Секретарша удаляется, и мы продолжаем.
— Я позвонила профессору Розену. Поскольку он еще не вернулся из лекционного тура, я оставила сообщение на мобильном, в котором спрашивала, что, черт возьми, происходит.
Я предположила, что профессор специально выставлял напоказ свою гордость по поводу приглашения в лучшие университеты США, пытаясь тем самым отвлечь внимание от своих истинных целей. Может, он нарочно улетел в Штаты, опасаясь, что вскроются неприглядные факты?
— В полицию вы больше не обращались? — задает вопрос мистер Райт, глядя на распечатку моих телефонных звонков. На этом этапе номер полицейского участка в ней отсутствует.
— Нет. Инспектор Хейнз и без того считал меня истеричкой, в чем, собственно, по большей части я была виновата сама. Прежде чем идти в полицию, мне требовалось найти «серьезные аргументы в противовес».
Бедная Кристина! Заканчивая свое письмо-соболезнование положенным «Если чем-то смогу быть полезна…», она не подозревала, что я дважды поймаю ее на слове. Я позвонила ей на мобильный и рассказала о ребенке Хэтти. Кристина была на работе и отвечала по-деловому четко.
— Протокол вскрытия есть?
— Нет. Хэтти сказала, что не стала его забирать.
На другом конце линии послышался короткий звук. Поговорив с кем-то, Кристина устало сообщила мне, что перезвонит вечером, когда освободится с дежурства.
Ожидая ее звонка, я решила навестить маму. Было двенадцатое марта, и я знала, что в этот день ей всегда тяжело.
В день рождения Лео я обязательно звонила маме и присылала букет цветов — проявляла заботу на расстоянии. И всегда запасалась поводом для окончания разговора — совещание у шефа, вызов по конференц-связи, — барьером против возможного эмоционального выплеска. Тем не менее выплесков не происходило, оставалась лишь легкая неловкость по мере того, как сдерживаемые чувства ослабевали и рассеивались, словно шум в трубке во время трансатлантического звонка.
Открытку для Лео я приготовила раньше, а возле станции метро «Ливерпуль-стрит» купила для тебя букет пронзительно-синих васильков. Пока продавщица заворачивала цветы, я вспомнила, что Кася просила меня положить их на месте твоей гибели, в парковом туалете. Она сама так и сделала, уже давно. Кася почему-то проявляла особую настойчивость в этом вопросе и верила, что маме подобный жест тоже принесет утешение. Тем не менее я знала, что мама находит этот модный в последнее время способ выражения горя — цветочные «алтари» возле пешеходных переходов, под уличными фонарями и на обочинах шоссе — странным и неприятным. Цветы следует приносить туда, где человек похоронен, а не туда, где умер. Кроме того, я поклялась приложить все усилия, чтобы мама никогда не увидела проклятый общественный туалет, да и себе дала зарок не приближаться к этому месту. В общем, я сказала Касе, что лучше уж посажу красивые цветы в твоем садике, стану заботиться о них и радоваться росту, а еще, как и мама, принесу букет на твою могилу.
Пройдя пешком полмили от вокзала в Литтл-Хадстоне до церковного кладбища, я увидела, что мама уже там. Я ведь рассказывала тебе о нашем с ней ленче несколько дней назад и чуть-чуть забежала вперед, чтобы ты знала правду и не относилась к маме несправедливо. Итак, для тебя уже не секрет, что после твоей смерти она вновь превратилась в «маму из детства» в шуршащем шелковом пеньюаре, от которой в темноте детской пахло кремом для лица, теплом и уютом. Нежная и любящая, она вдруг стала очень хрупкой и ранимой. Перемена произошла на похоронах, причем не постепенно, а в один момент, с ужасающей быстротой. Когда твой гроб опускали в раскисшую землю, из маминой груди вырвался безмолвный вопль, а вместе с ним, полностью обнажив душу, слетело все светское притворство, что долгие годы пропитывало ее натуру. В то же страшное мгновение разлетелась на куски мамина выдумка о твоей смерти. Теперь она, как и я, знала, что ты никогда не совершила бы самоубийства, и это чудовищное знание высосало из нее все соки, обесцветило волосы.
И все-таки видеть ее такой седой и постаревшей каждый раз было для меня новой мукой.
— Мам, — окликнула я.
Она обернулась, вся в слезах, крепко обняла меня и прижалась мокрой щекой к моему плечу. Я почувствовала влагу сквозь ткань блузки. Отстранившись, мама сделала попытку улыбнуться.
— Сделала из тебя носовой платок, да?
— Ничего, плачь.
Мама провела рукой по моим волосам:
— Ну и растрепа. Давно пора подстричься.
— Знаю, — вздохнула я и обняла ее за плечо.
Отец вернулся во Францию, не пообещав звонить или навещать нас. Довольно честный поступок — не давать обещаний, которые не сумеешь сдержать. Я сознаю, что он меня любит, однако в повседневной жизни его рядом не будет. Получается, мы с мамой остались совсем одни и от этого, став еще дороже и ближе друг другу, должны постараться играть не только свои роли, но и заменить ушедших — тебя, Лео, отца; найти в себе силы расшириться в момент наибольшего сжатия.
Я положила цветы на твою могилу, которую не видела со дня похорон. Глядя на холмик земли, я поняла, к чему все шло — мои походы в полицию и больницу, поиски по Интернету, расспросы, подозрения, обвинения, — чем все закончилось: вот этим. Ты лежишь под слоем душной земли, лишенная света, воздуха, жизни и любви.
Я повернулась к могиле Лео и положила на нее открытку с Экшнменом. По-моему, для восьмилетнего мальчика в самый раз. Я никогда не прибавляла ему лет. Рядом с открыткой уже лежала коробка с маминым подарком. Она сказала, что это радиоуправляемый вертолет.
— Как ты выяснила, что у Лео муковисцидоз? — спросила я.
Она говорила, что узнала о болезни еще до того, как проявились какие-либо симптомы, но ведь они с отцом не догадывались о своем носительстве, так с чего вдруг мама решила поехать с сыном на анализ? Задаваться мысленными вопросами стало моей привычкой — даже здесь, у могилы Лео, даже в его день рождения.
— В раннем детстве, когда твой брат плакал, я целовала его личико, и слезы на вкус были очень солеными, — начала рассказывать мама. — Я вскользь упомянула об этом в беседе с педиатром. Оказалось, что соленые слезы — симптом муковисцидоза.
Мы с тобой тоже плакали, но нас она не целовала, помнишь? А я не забыла то время, когда еще целовала, — до того, как почувствовала соль в слезах Лео.
Я перевела взгляд со старой могилы Лео на твою, совсем свежую, и осознала, что этот контраст отражает разницу в моей скорби по каждому из вас.
— Я определилась с надгробием, — сообщила мама. — Хочу, чтобы здесь стоял ангел — такой большой, из камня, с распростертыми крыльями.
— Ей понравился бы ангел.
— Да уж, ее бы это позабавило.
Мы обе слабо улыбаемся, представляя твою реакцию на каменного ангела.
— А вот нашему Ксавье ангел действительно пришелся бы по душе, — продолжила мама. — Для ребенка ангел — подходящий образ, правда? Не слишком сентиментальный.
— Пожалуй.
На самом деле сентиментальной стала мама. Каждую неделю она приносила нового плюшевого мишку на замену промокшему и испачканному. Она немножко стеснялась этого, самую чуточку. Прежнюю маму подобное проявление дурного вкуса привело бы в ужас.
Я опять вспомнила тот диалог, когда я советовала тебе рассказать маме о беременности. В памяти всплыло окончание разговора, подсознательно забытое мной раньше.
— У тебя еще остались трусики с вышитыми на них днями недели? — спросила ты.
— Не увиливай от ответа! Между прочим, трусики-«недельки» я получила в подарок в девятилетнем возрасте.
— И что, вправду надевала их по графику?
— Она будет очень обижена, если ты ей не расскажешь.
Ты неожиданно посерьезнела.
— Она наговорит вещей, о которых потом будет жалеть. А ведь сказанного не вернешь.
Ты проявляла доброту, ставила любовь превыше истины. Раньше я этого не понимала, думала, что ты просто ищешь себе оправданий. Увиливаешь от ответа.
* * *
— Би, я обо всем расскажу ей после того, как малыш родится. Когда она уже полюбит его.
Ты никогда в этом не сомневалась.
В керамический горшок у твоей могилы мама посадила розу сорта «Мадам Альфред Карьер».
— Это на время, пока не привезут ангела, а то здесь совсем голо.
Я набрала воды в лейку, чтобы полить розу, и вспомнила, как ты, совсем кроха, семенила за мамой, в одной руке сжимая миниатюрные грабельки, а в другой — семена, надерганные с других растений, кажется, с водосбора.
— Тесс любила копаться в земле, правда? — обратилась я к маме.
— С самого детства, — кивнула та. — А вот я увлеклась цветоводством только после тридцати.
— И что же тебя побудило?
Я просто поддерживала легкую беседу, чтобы помочь маме развеяться. Она всегда с удовольствием разговаривала о растениях.
— Когда я бросала в землю семечко, из него вырастало нечто такое, что с каждым днем становилось все красивее и красивее. А со мной происходило наоборот, — вздохнула мама, пощупав пальцами почву вокруг розы. Под ногти забилась земля. — Не стоило переживать из-за утраты привлекательности, а я переживала, и сильно. Это началось еще до того, как умер Лео. Мне недоставало той доброты и предупредительности, с какой окружающие относятся к красивым женщинам, ведь я была хороша собой. Электрик, приходивший чинить проводку, или таксист — все почему-то грубили. Мужчины, которые прежде охотно оказывали мне небольшие услуги, держались угрюмо и недоброжелательно, словно знали, что раньше я была очень хорошенькой, можно даже сказать, красивой, а теперь моя красота увяла, и они не хотели смотреть на старуху. Они как будто упрекали меня…
Я слегка растерялась от такого поворота, но лишь слегка. «Стрельба с бедра» стала для меня уже почти привычным стилем разговора. Мама провела по лицу рукой, на щеке остался грязный след.
— А потом начала подрастать Тесс, прелестная и невинная. Она даже не догадывалась, сколь щедры к ней люди благодаря ее красоте.
— Тесс никогда не пользовалась своей привлекательностью.
— Да в этом и не было нужды. Мир распахнул перед ней все двери, и она с улыбкой шагала по жизни, думая, что так будет вечно.
— Ты ей завидовала?
Задумавшись, мама отрицательно покачала головой:
— Это нельзя было назвать завистью, просто, глядя на нее, я видела, во что превратилась сама. — Она внезапно умолкла, потом произнесла: — Я немножко пьяна. Если честно, позволяю себе опрокинуть стаканчик в день рождения Лео. И в годовщину его смерти. А теперь добавятся еще Тесс и Ксавье, да? Так и спиться недолго.
Я крепко стиснула ее ладонь.
— Тесс всегда приезжала ко мне в день рождения Лео, — сказала мама.
Когда мы с мамой прощались на вокзале, я предложила в следующее воскресенье съездить на экскурсию в Питерсхэм-Медоуз, в питомник цветов. Ты очень любила это место, хотя растения там дорогие — тебе не по карману. Мы договорились, что выберем новый цветок для твоего садика.
Я вернулась в Лондон на электричке. Ты ни разу не говорила мне, что в день рождения Лео навещаешь маму. Наверное, оберегала меня от угрызений совести. Как часто ты бывала у нее, пока не стал заметен живот? Распечатка телефонных звонков ясно свидетельствовала, что я бессовестно пренебрегала общением с тобой, да и с мамой тоже. Заботливой дочерью, каковой я самонадеянно полагала себя, на деле оказалась ты.
Я сбежала, так? Выбрала работу в Нью-Йорке не ради продвижения карьеры, а просто воспользовалась шансом удрать от мамы, избежать дочерней ответственности. Вот почему я предпочла жизнь на другом континенте, не обремененную заботами. Так же как отец. Но ты — ты осталась. Может, мне и приходилось напоминать тебе о днях рождения, но ты не сбежала.
Странно, почему доктор Вонг не указала на мои недостатки. Хороший психотерапевт всегда достанет из-за кушетки «портрет Дориана Грея», чтобы пациент увидел себя таким, какой он есть на самом деле. Впрочем, не стоит предъявлять ей претензии; я не сумела задать правильных вопросов, ни себе, ни о себе.
Телефонный звонок вырвал меня из раздумий. Звонила Кристина. Сперва немного поболтала «ни о чем» — подозреваю, просто оттягивала разговор на неприятную тему, — а затем перешла к сути:
— В общем, так, Хеммз: смерти Ксавье и второго ребенка никак не связаны между собой.
— Связь должна быть. Тесс и Хэтти вместе участвовали в эксперименте, в одной и той же больнице.
— Да, но с медицинской точки зрения связи нет. Не существует такой причины, которая у одного младенца вызывает острую сердечную недостаточность, а у другого — серьезную нефрологическую проблему, по всей видимости, полный отказ почек, и убивает обоих.
— Погоди, — всполошилась я, — но ведь один ген может отвечать за совершенно разные вещи, верно? Возможно, что…
Кристина не дала мне договорить, или просто в электричке телефон плохо принимал сигнал.
— На всякий случай я проконсультировалась с нашим профессором. Я не стала объяснять ему, в чем дело, просто описала гипотетическую ситуацию. По его словам, вероятность того, что два столь различных и грозных заболевания могут быть спровоцированы одним и тем же фактором, исключена.
Кристина нарочно упрощала научную терминологию, чтобы я лучше поняла, хотя и в более сложном варианте вердикт прозвучал бы точно так же. Экспериментальное лечение в больнице Святой Анны не имеет отношения к гибели обоих детей.
— Разве не странно, что в родильном отделении умирают сразу двое новорожденных? — спросила я.
— В каждом роддоме есть определенный процент смертности. В больнице Святой Анны ежегодно появляются на свет пять тысяч малышей. К сожалению, два смертных случая вряд ли следует считать серьезным отклонением от среднего коэффициента.
Я не отставала от Кристины, приводила еще какие-то доводы, но та молчала. Электричку трясло, и физический дискомфорт будто в зеркале отражал мое растрепанное эмоциональное состояние, вдобавок заставляя волноваться за Касю. Я хотела устроить ей небольшое путешествие, но сомневалась, не повредит ли это ее здоровью, и решила спросить у Кристины. Довольная возможностью сменить тему, та охотно надавала мне уйму полезных советов.
Мой рассказ о телефонном разговоре с Кристиной подходит к концу.
— Я решила, что в больнице Святой Анны утаили истинную причину гибели обоих детей. И в том и в другом случае протокол вскрытия отсутствовал.
— Вам никогда не приходило в голову, что вы можете заблуждаться?
— Нет.
Мистер Райт смотрит на меня почти с восхищением, но я говорю правду — это действительно так.
— У меня не было сил задумываться о собственной правоте. Я просто не смогла бы вернуться назад, к исходной точке, и начать все сначала.
— И что же вы сделали дальше? — спрашивает мистер Райт, а я ощущаю невыносимую усталость и подавленность, такую же, как тогда.
— Опять пошла к Хэтти. Я не знала, выйдет ли из этого какой-то толк, но обязана была попытаться.
Я понимала, что хватаюсь за соломинку, и тем не менее продолжала хвататься. Если бы я сумела выяснить, кто отец ребенка Хэтти, это могло бы помочь в расследовании, хотя особых надежд я не питала.
Дверь открыла миловидная женщина лет тридцати пяти — очевидно, Джорджина. В одной руке она держала детскую книжку, в другой — губную помаду.
— Вы, наверное, Беатрис. Проходите, пожалуйста. Я обещала Хэтти уйти не позже восьми, но чуть-чуть задержалась.
Позади нее в коридоре появилась Хэтти.
— Почитай детям сказку про корову, а я пока предложу Беатрис чего-нибудь выпить, хорошо?
Хэтти ушла наверх. Я догадалась, что Джорджина не случайно нашла повод отослать ее, хотя держалась с искренней дружелюбностью.
— «Перси и корова» — самая короткая история, шесть минут от начала до конца с учетом всех «чух-чух» и «му-му», так что Хэтти скоро вернется. — Джорджина откупорила бутылку вина и подала мне бокал. — Не надо ее огорчать. Ей столько пришлось вынести. После того как это случилось, она почти ничего не ест. Пожалуйста… будьте к ней добрее.
Я кивнула. Такое проявление заботы вызвало у меня симпатию. С улицы донесся гудок автомобиля. Перед уходом Джорджина крикнула:
— Хэттс, я открыла бутылку «Пино гри», угощайся!
Хэтти сверху поблагодарила. Обе женщины напоминали скорее соседок по квартире, нежели хозяйку и няню с проживанием.
Уложив детей, Хэтти спустилась вниз, и мы перешли в гостиную. Она уселась на диван, поджав ноги, с бокалом вина в руке, и у меня опять создалось впечатление, что она чувствует себя здесь полноправным членом семьи, а не помощницей.
— Джорджина очень милая, правда? — произнесла я.
— Да, очень. Когда я рассказала ей о смерти малыша, она предложила оплатить мне авиабилет до дома и выдать двухмесячное жалованье. Вообще-то они с мужем не могут позволить себе такие расходы — оба работают полный день, и денег едва хватает на то, чтобы выплачивать мне обычную зарплату.
Значит, Джорджина не относилась к типичным богатеньким дамочкам, нанимающим в дом няню-филиппинку, а Хэтти вовсе не ютилась в чулане. Я задала все те же вопросы, с которыми обращалась ко всем раньше: известно ли Хэтти, что ты кого-то боялась; знает ли она, кто мог снабдить тебя наркотиками; возможные причины твоего убийства (в этом месте я привычно напряглась, ожидая предсказуемой реакции на вопрос). Увы, Хэтти не могла мне помочь. Как и прочие твои друзья, она не видела тебя после рождения Ксавье. Я почти исчерпала перечень вопросов, но так ничего и не выяснила.
— Почему вы не говорите, кто отец вашего ребенка?
Как мне показалось, она покраснела.
— Кто он, Хэтти?
— Мой муж.
Она умолкла, предоставив мне самой строить догадки.
— Вы устроились на работу, уже будучи в положении?
— Я боялась, что меня не возьмут, если узнают. Когда беременность подтвердилась, я солгала хозяевам насчет срока. Пусть лучше Джорджина осудит меня за распущенность, чем будет считать обманщицей. — Заметив мой удивленный взгляд, Хэтти пояснила: — Она ведь относится ко мне как к близкой подруге.
На мгновение я ощутила себя вне понимания дружеских уз, что связывают женщин. Я ведь в них никогда не нуждалась — у меня была ты.
— Вы сообщили Тесс о смерти малыша?
— Да. Она должна была родить только через три недели. Когда я ей рассказала, она расплакалась, и это меня разозлило. Тесс переживала чувства, которых я не испытывала.
Ты понимала, что Хэтти злилась? Она единственная из всех, кто высказался о тебе не по-доброму и кого ты недопоняла.
— Если честно, я была рада, — с вызовом промолвила Хэтти, приготовившись защищаться против моего справедливого негодования.
— Могу вас понять, — ответила я. — У вас уже есть дети, которых нужно поднять на ноги. Рождение ребенка означало потерю работы. Какими бы добросердечными ни были ваши хозяева, вам пришлось бы уволиться и тогда вы не смогли бы высылать домой деньги. — Бросив взгляд на Хэтти, я осознала, что по-прежнему далека от истины. — Или вам тяжело думать о том, что еще один ребенок будет расти без вас, пока вы зарабатываете на жизнь здесь, в Британии?
В глазах Хэтти я прочла молчаливое подтверждение. Почему же я сумела ее понять, а ты — нет? Я знаю, что такое стыд, а ты просто никогда с этим не сталкивалась.
Хэтти встала.
— У вас еще остались вопросы? — Она ясно давала понять, что мне пора.
— Да. Вы знаете, кто конкретно сделал вам инъекцию с лечебным геном?
— Нет.
— А как фамилия доктора, который принимал у вас роды?
— Мне делали кесарево сечение.
— Но вы же видели его или ее.
— Нет. Доктор был в маске. И когда мне делали укол, и когда оперировали. Постоянно в масках. На Филиппинах все по-другому. У нас не заботятся о стерильности так, как здесь.
Я неожиданно вспомнила четыре картины, на которых ты запечатлела свои кошмары. Кричащая женщина, а над ней нависает фигура в маске. Значит, это не просто отражение галлюцинаций, а реальный факт.
— Хэтти, у вас сохранилась медицинская карта?
— Нет.
— Ее потеряли?
Она удивлена моей осведомленности.
Я допиваю кофе, и вдруг меня пронзает дрожь — не знаю, что причиной тому, кофеин или воспоминание о тех ужасных картинах. Нечаянно я проливаю немного кофе на стол и наталкиваюсь на встревоженный взгляд мистера Райта.
— Закончим на сегодня? — мягко говорит он.
— Да, если вы не против.
Мы вместе выходим в приемную. Мистер Райт замечает на столе у секретарши букетик нарциссов и останавливается. Та замирает. Он обращает на меня взгляд покрасневших глаз.
— Мне очень понравился факт, которым с вами поделилась Тесс, — насчет того, что ген желтого нарцисса спасает детям зрение.
— Мне тоже.
* * *
Сержант Финборо ожидает меня в кафе «Карлуччо» неподалеку от уголовного суда. Он позвонил мне вчера, попросил о встрече. Может, это и вопреки правилам, но я согласилась. К чести детектива, нужно признать: он придет не для того, чтобы попытаться выгородить себя или исказить события, произошедшие на самом деле. Когда я подхожу к нему, возникает легкое замешательство. Стоит ли нам обменяться приветственным поцелуем, как обычно делают друзья, а не… Кто? Кто мы друг другу? Это он, сержант Финборо, подтвердил, что в грязном туалете нашли твое тело, тебя. Он взял меня за руку, посмотрел в глаза и разрушил все, чем я жила до той минуты. Мы не приятели, чтобы по-светски чмокнуть друг друга в щеку, и все же наши отношения глубже, чем просто между полицейским и родственницей жертвы. Я пожимаю руку сержанта и удерживаю его ладонь в своей; на этот раз теплее моя рука.
— Беатрис, я хотел перед вами извиниться.
Я собираюсь что-то ответить, но тут подходит официантка с подносом на поднятой руке и карандашом, по-деловому заткнутым в волосы. Пожалуй, нам стоило выбрать другое место, более тихое и серьезное, например, церковь, где о самом важном можно говорить вполголоса, не перекрикивая звон посуды и оживленную болтовню посетителей.
Мы садимся за столик и оба ощущаем, что обстановка слишком интимная. Молчание нарушаю я:
— Как дела у констебля Вернон?
— Ее повысили в должности, — отвечает сержант Финборо. — Теперь она работает в отделе по борьбе с насилием в семье.
— Я за нее рада.
Детектив улыбается. Теперь, когда лед растоплен, он отваживается перейти к более серьезной теме:
— Вы были правы с самого начала. Простите, что не верил вам.
Как я мечтала услышать эти слова! Если бы я только могла вернуться в прошлое и по секрету шепнуть на ухо прежней себе, что однажды полицейский все-таки произнесет их…
— По крайней мере вы сомневались, — говорю я, — и предприняли действия, чтобы проверить свои сомнения.
— К сожалению, слишком поздно. Мы не имели права подвергать вас такой опасности.
Шум в кафе неожиданно смолкает, зал погружается во тьму. Я слышу только детектива Финборо, который спрашивает, как я себя чувствую, но затем и его голос растворяется во мраке. Хочется кричать, но я нема…
Я прихожу в себя в теплой и чистой дамской комнате. Сержант Финборо рядом со мной. По его словам, я была «в отключке» около пяти минут. Не так уж и долго, хотя слух пропал впервые. Персонал кафе любезно позаботился обо мне, вызвав такси. Я прошу детектива Финборо проводить меня, он охотно соглашается.
Я сижу в такси вместе с офицером полиции, но мне все равно страшно. Я знаю, что убийца крадется следом, чувствую его зловещее приближение. Рассказать все сержанту Финборо? Как и мистер Райт, он лишь скажет, что преступник находится в камере предварительного заключения и уже не сможет причинить мне вреда, что бояться не нужно. У меня нет сил поверить ему.
Дождавшись, пока я войду в квартиру и закрою за собой дверь, сержант Финборо уезжает на такси по своим делам. Запеканка пушистым клубком трется о мои ноги и мурлычет. Я зову Касю. Она не отзывается. Я подавляю мгновенную вспышку тревоги, а потом вижу на столе записку. Кася ушла на курсы будущих матерей и скоро вернется.
Я подхожу к окну, отдергиваю шторы. Чей-то кулак ударяет в стекло, пытаясь его разбить. Я кричу. Тень исчезает в темноте.
Четверг
Несмотря на прекрасный весенний день, я не решаюсь идти через парк и, чтобы все время быть среди людей, предпочитаю добраться до уголовного суда на метро.
Меня радует даже битком набитый лифт, хотя я, как обычно, переживаю, что пейджер и мобильный телефон не будут принимать сигналы и Кася не сможет до меня дозвониться.
Лифт выплевывает меня на третьем этаже; первым делом я проверяю связь — все работает. Вчера я не сказала Касе о человеке в окне, не хотела ее пугать. Или признавать, что ухудшается не только мое физическое, но и душевное здоровье. Да, у меня серьезный телесный недуг, но я никогда не думала, что мне грозит еще и расстройство психики. Может быть, тень в окне — лишь галлюцинация, плод фантазии, игра угасающего разума? Допускаю, что для сохранения рассудка нужны физические силы, которых у меня уже нет. Безумие — вот чего я боюсь больше всего на свете, даже больше убийцы. Душевная болезнь уничтожает человека как личность, а тело, в которое эта личность заключена, надолго ее переживает. Нелепость, правда? Ты тоже испытывала страх, я знаю. Если бы только ты могла знать, что причиной твоего психического расстройства служил наркотик, а не сбой в собственном организме!
А что, если меня тоже пичкают фенциклидином? Эта мысль не приходила тебе в голову? Возможно, зло, сгущающееся вокруг меня, — результат действия галлюциногена? Нет, это исключено. Я бываю только в уголовном суде, в «Койоте» и дома, где никто не мог подсыпать мне наркотик.
Я пока не стану рассказывать мистеру Райту о человеке за окном, как и о своем страхе перед утратой рассудка. Если я ему ничего не скажу, он продолжит обращаться со мной как с нормальной, а я, соответственно, так и буду себя вести. Он исходит из того, что я в здравом уме и трезвой памяти, значит, я должна оправдать его ожидания. Вдобавок я чувствую себя в безопасности, пока нахожусь в обществе мистера Райта. Подожду до вечера, а потом скажу.
Сегодня его кабинет уже не залит светом; по углам прячется сумрак, который я стараюсь не замечать. Слыша себя со стороны, я понимаю, что речь у меня немного замедленная и смысл слов ускользает. Однако поскольку мистер Райт сказал, что сегодня рассчитывает закончить, я должна напрячься.
Мистер Райт не замечает перемен в моем состоянии. Либо я хорошо притворяюсь, либо он полностью сосредоточен на завершении работы с главной свидетельницей. Мистер Райт коротко восстанавливает мои последние показания.
— Хэтти Сим сообщила вам, что врач, который делал ей инъекцию и принимал роды, носил маску?
— Верно. Я уточнила, были ли это разные люди или один человек. Хэтти сказала, что один, но не запомнила его приметы — голос, цвет волос, рост и прочее. Она пыталась стереть из памяти этот кусок жизни, и я ее не осуждала.
— Вы пришли к выводу, что роды у Хэтти и Тесс принимал один и тот же врач?
— Да. Более того, я не сомневалась, что он и есть убийца. Правда, чтобы идти в полицию, требовались доказательства.
— Более веские аргументы?
— Именно. Я должна была доказать, что он умышленно скрывал лицо под маской. Мне не удалось выяснить, кто принимал у Тесс роды — и это тоже было не случайно, — но я надеялась хотя бы узнать, кто вводил ей и Хэтти экспериментальный препарат.
К тому времени как я добралась из Чизвика до больницы Св. Анны, было уже за полночь. Свет в окнах не горел, и я сообразила, что время для расспросов не самое удачное, однако, чувствуя необходимость разобраться во всем немедленно, я уже нажала кнопку звонка. Незнакомая медсестра, открывшая дверь, хмуро посмотрела на меня, и я вспомнила, что в больнице принимают особые меры предосторожности против похищения младенцев.
— Извините, мне нужна старшая акушерка. Если не ошибаюсь, Крессида.
— Она давно дома. Ее смена закончилась шесть часов назад. Приходите завтра.
Нет, ждать я не могла.
— А Уильям Сондерс здесь?
— Вы его пациентка?
— Нет, — замялась я. — Приятельница.
Где-то в глубине заплакал ребенок, потом еще один и еще. Раздался сигнал вызова из палаты. Молодая медсестра поморщилась, и я заметила, какой утомленный у нее вид.
— Ладно, проходите. Он в комнате для дежурных врачей, третья дверь справа.
Под недоверчивым взглядом медсестры я постучала в дверь и вошла. В комнате царил полумрак, свет падал только из дверного проема. Уильям мгновенно проснулся и сел на кушетке — как-никак во время дежурства он должен был находиться в полной готовности к действию.
— Что вы тут делаете, Би?
Так меня не называл никто, кроме тебя. Ты словно бы позволила Уильяму разделить частичку нашей с тобой близости. Он откинул плед и встал. На нем была синяя медицинская форма, волосы немного примялись. Мне бросились в глаза теснота и жесткая узкая кушетка.
— Вы знаете, кто из докторов вводил участницам эксперимента препарат с лечебным геном? — спросила я.
— Нет. Хотите, чтобы я попробовал выяснить?
Прямо и просто.
— Да.
— Хорошо.
Уильям выглядел очень собранным и деловитым. Я порадовалась, что он воспринял меня всерьез.
— Может быть, вам известны имена и фамилии других пациенток, помимо вашей сестры?
— Кася Левски и Хэтти Сим. Тесс познакомилась с ними в клинике.
— Будьте добры, запишите.
Он подождал, пока я, порывшись в сумке, нашла ручку и записала фамилии, а затем осторожно забрал у меня листок бумаги.
— Позвольте спросить: почему вас интересует эта информация?
— Потому что этот человек был в маске! И когда делал укол, и когда принимал роды.
Возникла пауза, и я ощутила, что серьезность, с которой Уильям ко мне отнесся, ослабела.
— Вообще-то для медицинского персонала вполне естественно надевать маски, особенно в родильном отделении, — пожал плечами он. — Роды — такая штука… Кровь, слизь, прочие биологические жидкости; без средств защиты не обойтись.
Уловив мое недоверие и разочарование, он продолжил:
— Это лишь соблюдение правил, по крайней мере в нашей больнице. Мы занимаем второе место после Йоханнесбурга по количеству клиентов с положительным ВИЧ-статусом. Нас регулярно заставляют сдавать анализы, чтобы не допустить заражения пациентов, однако никто их не проверяет. Когда к нам приходит беременная женщина, мы не знаем, является ли она ВИЧ-инфицированной.
— Но при чем здесь введение препарата? Это же просто инъекция, укол. Никаких биологических жидкостей. Зачем надевать маску?
— Вероятно, врач, который делал укол, просто привык соблюдать правила безопасности.
Раньше я находила способность Уильяма видеть в людях лучшее трогательной, ведь она напоминала мне о тебе, однако сейчас та же самая черта меня взбесила.
— Вам проще списать все на правила, нежели допустить мысль, что мою сестру убил человек в белом халате, скрывший свое лицо под маской!
— Послушайте, Би…
— К сожалению, я лишена роскоши выбора. Передо мной есть лишь одна правда, страшная и жестокая. — Я отступила на шаг назад. — Вы надеваете маску?
— Да, довольно часто. Возможно, вам это покажется излишней предосторожностью, но…
— Это вы? — перебила я.
— Что?..
Уильям в упор смотрел на меня. Я отвела взгляд.
— Думаете, это я убил Тесс? — потрясенно произнес он.
Я ошибалась, когда думала, что словом нельзя ранить.
— Простите. — Я заставила себя поднять глаза. — Кто-то убил мою сестру. Не знаю кто; знаю лишь, что ее убили. Вполне возможно, что я встречалась с этим человеком, разговаривала и ничего не заподозрила. У меня нет ни единого доказательства.
Уильям взял меня за руку, и я поняла, что вся дрожу. Он нежно провел пальцами по тыльной стороне моей ладони, очень осторожно, я даже сразу не поняла, что это жест не дружбы, но влечения. Когда он продолжил, я, к своему величайшему изумлению, убедилась, что ошибки быть не может.
Я высвободила руку. На лице Уильяма отразилось огорчение, однако голос прозвучал мягко.
— Я не лучшая партия, верно?
Ошеломленная, в каком-то сладком дурмане я направилась к двери.
Почему я ушла, почему не воспользовалась шансом? Даже сумей я закрыть глаза на то, что Уильям женат (а я сумела бы), нашим отношениям все равно не суждено было продлиться, тогда как для меня главное — надежность и стабильность. Вспышка страсти, не более, а потом — тяжкий груз эмоционального долга на моих плечах. А может, дело лишь в том, что он назвал меня Би — так, как называла только ты. Именем, которое заставляло помнить, кем я была все эти долгие годы, и о которое я споткнулась.
Я закрыла за собой дверь. Ноги подкашивались, но я устояла перед искушением. Не потому, что у меня такие уж высокие моральные принципы. Просто в который раз предпочла осторожность риску, безопасность — мимолетному счастью.
Я стояла у обочины недалеко от больницы и ждала автобус. Какие сильные руки у Уильяма, какие нежные пальцы… Я вновь представила себя в его объятиях, ощутила тепло мужского тела, но… Вокруг были только темнота и холод, а я жалела о своей нерешительности и о том, что всегда, неизменно и предсказуемо, ухожу.
Я уже собралась вернуться и даже сделала несколько шагов, как вдруг мне послышался шорох. Кто-то прятался сзади, совсем рядом. Чужак мог скрываться за углом — по обе стороны от дороги отходили два темных переулка — или за любым припаркованным автомобилем. Занятая своими мыслями, я не обратила внимания, что на шоссе совершенно нет машин, а на тротуарах — людей, только я и тот, кто за мной следил.
Неожиданно я заметила приближающееся черное такси. Сигнал «свободно» не горел, но я все равно вытянула руку, молясь о том, чтобы авто не проехало мимо. К счастью, таксист остановился, да еще и отругал меня за то, что я разгуливаю по улицам одна в такой поздний час. Я отдала ему все деньги, что были при себе, и он довез меня до самого дома. Прежде чем уехать, таксист дождался, пока я, целая и невредимая, зайду в квартиру.
Мистер Райт с беспокойством смотрит на меня. Я чувствую себя очень скверно, во рту пересохло. Я выпиваю стакан воды, оставленный на столе секретаршей. Мистер Райт осведомляется, есть ли у меня силы продолжать, я киваю. Рядом с ним мне спокойнее; кроме того, я не хочу возвращаться в пустую квартиру.
— Вы подумали, это тот же человек, который преследовал Тесс? — спрашивает мистер Райт.
— Да, было ощущение, что за мной кто-то наблюдает. И еще шорох, который меня встревожил… Но никого конкретно я не видела.
Мистер Райт предлагает взять сандвичи и отправиться в парк на короткий «рабочий пикник». Видимо, надеется, что на свежем воздухе я немного взбодрюсь и смогу говорить четче. Диктофон он тоже берет с собой. Мне и в голову не приходило, что это устройство может работать на батарейках.
Мы идем в парк Сент-Джеймс, который выглядит точь-в-точь как на картинке из сказки про Мэри Поппинс. Повсюду буйная зелень, все в цвету, а в лазурном небе плывут облачка-меренги. На траве там и сям расположились работники офисов, так что парк стал похож на пляж, только без моря. Мы с мистером Райтом идем бок о бок, подыскивая более-менее тихое местечко. Добрые глаза моего спутника устремлены на меня, и я ощущаю исходящую от него теплоту. Чувствует ли он то же самое?
Навстречу женщина катит по дорожке двухместную детскую коляску, нам приходится посторониться. Мистер Райт отступает на обочину, и левая сторона моего тела неожиданно оказывается беззащитной. Мне вдруг кажется, будто я лежу на полу, на левом боку, и холод бетона проникает внутрь, добирается до самых дальних уголков; сердце колотится как сумасшедшее, я не могу пошевелиться. Прости, я перематываю пленку вперед, это от страха. Но вот мистер Райт снова рядом со мной, мы идем нога в ногу. Теперь я опять излагаю события по порядку.
Мы находим спокойный уголок, мистер Райт расстилает плед. Я тронута его заботливостью — тем, что, взглянув с утра на синее небо, он спланировал эту небольшую прогулку.
Он включает диктофон. Подождав, пока мимо пройдет шумная группа подростков, я начинаю:
— Стук входной двери разбудил Касю, или же она просто не спала. Я спросила, помнит ли она, кто вводил ей препарат.
Кася натянула на коленки ночную рубашку.
— Я не знаю имя, — сказала она. — Какая-то проблема?
— Он был в маске, да?
— Так, в маске. Что-то плохое случиться? Скажи, Беата!
Касина рука непроизвольно скользнула к животу. Я не имела права ее пугать.
— Все хорошо, успокойся.
Ты же знаешь, она очень проницательна, ее не так легко сбить с толку.
— Ты говорила, ребенок Тесс не болеть. У малыша не был муковисцидоз. Когда ты приходить ко мне и говорить Митч сделать анализ.
Я и не подозревала, что Кася поняла все до последнего слова. Судя по всему, она серьезно обдумывала тот разговор, хотя и не задавала вопросов, видимо, решив, что в случае необходимости я сама ей все расскажу.
— Ты права. Я хочу докопаться до истины, но ты тут ни при чем. У тебя и твоей малышки все будет хорошо, просто замечательно.
Кася улыбнулась выражению «просто замечательно», которое она недавно выучила, но улыбка у нее вышла слабой, натянутой, словно бы только ради меня.
Я обняла ее.
— Все будет в порядке. У вас обеих. Обещаю.
Я не смогла защитить тебя и Ксавье, но постараюсь уберечь Касю. Никто не посмеет причинить вред ей или ее ребенку.
Чуть поодаль подростки играют в софтбол. Интересно, что подумает человек, который будет расшифровывать мою запись, когда услышит фон — щебет птиц в парке, смех, звонкие крики?
— На следующий день вы получили электронное письмо от профессора Розена, так? — задает вопрос мистер Райт.
— Да. В субботу утром, в десять пятнадцать.
Я шла в «Койот», где мне предстояло отработать дневную смену. Недавно у Беттины появилась новая идея для уик-энда — «Поздний завтрак выходного дня».
— Я обратила внимание, что письмо отправлено с личного ящика профессора, хотя раньше он писал с электронного адреса компании.
Мистер Райт пробегает взглядом копию письма.
Кому: Беатрис Хемминг, на Айфон
Я только что вернулся из лекционного тура и прочел Ваше сообщение. По обыкновению, я не беру в деловые поездки мобильный телефон (члены семьи в случае срочной надобности могут связаться со мной по телефонному номеру отеля). Утверждать, что мой метод несет в себе какой-либо риск для младенцев, — полнейший абсурд. Смысл моего открытия заключается именно в том, что данный способ доставки здорового гена в организм абсолютно безопасен и способствует максимальной эффективности лечения.
Альфред Розен
Профессор, доктор философских наук, магистр гуманитарных наук,
выпускник Кембриджского ун-та
От: Беатрис Хемминг, с Айфона
Кому: [email protected]
Можете ли Вы объяснить, почему врач в больнице Святой Анны находился в маске, когда принимал роды и когда вводил участницам эксперимента хромосому?
Кому: Беатрис Хемминг, на Айфон
Разумеется, во время родовспоможения медицинский персонал обязан носить средства индивидуальной защиты. Впрочем, Вы обратились немного не по адресу. Если Вас так волнует ответ, обратитесь за разъяснениями в родильное отделение.
Что же касается инъекций, сотрудник больницы, проводивший процедуру, по всей видимости, совершенно не понял смысла моего метода. В отличие от вируса моя микрохромосома не несет в себе угрозы инфицирования. Соответственно, принимать специальные меры предосторожности нет нужды. Возможно, работники больницы просто привыкли к определенному порядку?
Как бы то ни было, на похоронах Вашей сестры я пообещал ответить на все Ваши вопросы и потому попробую что-нибудь узнать, хотя очень сомневаюсь насчет результата.
* * *
Верить профессору или нет? Я не знала, почему он мне помогает.
Задумка Беттины насчет позднего завтрака оказалась удачной, к полудню от посетителей не было отбоя. Завидев Уильяма, который проталкивался через толпу и махал мне рукой, я остолбенела. Он улыбнулся моему изумлению.
— Старшая акушерка, Крессида, сказала мне, что вы здесь работаете. Надеюсь, не помешал?
Я вспомнила, что сообщила ей свои контактные данные, когда просила найти твою медицинскую карту.
Подмигнув, Беттина забрала у меня поднос с заказанными напитками, чтобы я могла переговорить с Уильямом. Как ни странно, она вовсе не удивилась тому, что мной интересовался красивый мужчина. Я направилась в дальний угол бара, Уильям пошел следом.
— Мне не удалось выяснить, кто делал инъекцию Тесс и остальным женщинам. Их медицинские карточки бесследно исчезли. Извините, зря я пообещал…
Я еще раньше поняла, что у него ничего не выйдет. Если никто не знал фамилии врача, который присутствовал на родах — контролировал процесс, занявший как минимум несколько часов, — то вряд ли без медицинской карты Уильям сумел бы узнать, кто делал укол, быструю и несложную процедуру.
— Раз уж я не выполнил своих обязательств, — продолжил Уильям, — то постарался хотя бы навести справки в генетической клинике. В свое время оказал там кое-кому несколько одолжений. Смотрите, что я раздобыл. — Он вручил мне тоненькую стопку бумаг, словно букет цветов. — Драгоценные крупицы ваших доказательств, Би.
На верхнем листе я прочла фамилию Митча.
— Майкл Фланаган — сексуальный партнер Каси Левски, — сообщил Уильям, и до меня дошло, что я почти не рассказывала ему о своей дружбе с Касей. — Ген муковисцидоза у него не выявлен.
Значит, Митч все-таки сделал анализ и скрыл результаты от Каси. Вероятно, он, как и Эмилио, подумал — или убедил себя, — что отец ребенка не он. Представляю, какое облегчение испытал Митч при этой мысли. Надо же, подвернулся удачный повод порвать с Касей, выставить ее лживой шлюхой. Только верил ли он в это сам?
Поскольку я молчала и не выказывала особой радости, Уильям решил, что я не вполне понимаю ситуацию.
— Видите ли, чтобы ребенок унаследовал болезнь, непременным условием является наличие гена у обоих родителей. В данном случае у отца ген отсутствует, и значит, вероятность муковисцидоза у ребенка нулевая. Определенно, вокруг эксперимента творится что-то очень странное, и эти документы — лишнее тому доказательство.
Уильям опять неправильно расценил мое молчание.
— Простите, — сказал он. — Зря я вас не слушал и не поддержал с самого начала. Но еще не все потеряно. Вы ведь можете отнести эти бумаги в полицию. А хотите, я отнесу?
— Ничего не получится.
Уильям недоуменно посмотрел на меня.
— Кася, его бывшая партнерша… Понимаете, она из тех девушек, о ком у окружающих складывается неверное суждение. В полиции сочтут, что она либо ошиблась, назвав отцом ребенка Майкла Фланагана, либо обманула его. То же самое они сказали про мою сестру.
— Вы не можете утверждать наверняка.
Увы, я могла, потому что когда-то сама относилась к Касе с предубеждением. Инспектор Хейнз, как и я прежде, увидел бы в ней девицу, которая спит со всеми подряд и способна записать в отцы своего ребенка кого угодно.
В кармане Уильяма запищал пейджер. Этот звук совсем не вписывался в общий фон, состоявший из оживленных разговоров и звона бокалов.
— Извините, мне пора, — произнес Уильям.
Я вспомнила, что дорога до больницы занимает у него двадцать минут.
— Вы успеете?
— Конечно. Я приехал на велосипеде.
После его ухода Беттина опять мне подмигнула, я улыбнулась ей в ответ. Несмотря на то что «крупицы доказательств» оказались бесполезными, я ощутила поддержку. Впервые за все время кто-то встал на мою сторону.
Словно в награду за мою улыбку Беттина отпустила меня пораньше.
Придя домой, я обнаружила, что Кася, стоя на четвереньках, усердно натирает пол в кухне.
— Боже мой, что ты делаешь?
Она подняла голову; на лбу блестели капельки пота.
— Доктора говорят, это быть полезно для малыша, тренировать правильная поза.
Твоя квартира быстро стала похожа на ее собственную, где посреди сырости и ржавчины все сияло чистотой.
— Ладно, — вздохнула я. — Я не против уборки.
Когда Кася была подростком, ее мать работала на заводе. Смены были долгими и тяжелыми. Каждый день после школы Кася убирала, скребла и мыла квартиру, чтобы мать, вернувшись домой, порадовалась идеальной чистоте. Касина любовь к порядку — настоящий подарок.
Я не сказала ей, что у Митча отсутствует ген муковисцидоза, как и о том, что ребенок Хэтти умер. Еще накануне я думала, что оберегаю Касю, однако сегодня засомневалась — не подрываю ли, наоборот, ее доверие? Я совсем запуталась.
— Вот. — Я протянула билеты. — Это тебе.
Она поглядела на меня с любопытством.
— На самолет денег не хватило, только на автобус. Через полтора месяца после рождения ребенка мы с тобой едем в Польшу. Для малышки проезд бесплатный.
Я решила, что Кася должна показать дочку дедушкам и бабушкам — всем четверым, а также своим дядям, тетям и двоюродным братьям с сестрами. У нее целая толпа родственников, на чью поддержку можно рассчитывать. Мы с тобой были этого лишены, ведь мама и отец — единственные дети; наше семейное древо засохло еще до того, как мы родились.
Странно притихнув, Кася молча смотрела на билеты.
— А еще я купила тебе эластичные чулки. Моя приятельница, очень хороший доктор, сказала, что тебе нужно их носить для профилактики тромбоза, zakrzepica.
Последнее слово я специально перевела на польский, заранее отыскав его в словаре. На Касином лице застыло все то же непонятное выражение, и я испугалась, что слишком давлю на нее.
— Мне совсем не обязательно останавливаться у тебя дома, просто я боюсь отпускать тебя в дорогу одну с новорожденным младенцем на руках.
Кася поцеловала меня. Я в первый раз увидела у нее на глазах слезы.
Я рассказываю мистеру Райту об анализах Митча.
— Я поняла, что есть еще одна причина, по которой преступник отбирал бедных одиноких девушек: их слова меньше приняли бы на веру.
На солнышке я не взбодрилась; напротив, меня только больше потянуло в сон. Я заканчиваю говорить про Митча, речь становится все менее связной.
— Потом я отдала Касе билеты, она расплакалась.
Мне трудно сосредоточиться и отделить важное от второстепенного.
— Тем вечером я в полной мере осознала, какая она отважная девочка. Я считала Касю наивной и инфантильной, однако она не раз проявляла настоящее мужество. Плохо, что я не разглядела этого в тот раз, когда она встала на мою защиту, понимая, что Митч ей этого не спустит и изобьет.
Кровоподтеки и ссадины на лице и руках Каси красноречиво свидетельствовали о ее храбрости. Подтверждением этому служил и оптимизм — способность улыбаться и танцевать, несмотря на все трудности, ожидавшие впереди. Подобно тебе, Кася наделена даром видеть счастье в малом. Просеивая песок на золотом прииске жизни, она каждый день находит драгоценные частички.
И совсем не важно, что она, как и ты, страшная растеряха. Считать это признаком незрелой натуры — все равно что думать, будто моя хорошая память на вещи — признак взрослости. Стоит упомянуть и то, что, обучаясь иностранному языку, Кася усваивала только те слова, которые несли в себе позитивный смысл, и отказывалась запоминать противоположные, таким образом, лингвистически выстраивая собственный светлый мир. Согласись, это не наивность, а фантастическое жизнелюбие.
На следующее утро я поняла, что обязана посвятить ее во все события. Кто дал мне право полагать, что после всего случившегося с тобой я сумею уберечь кого-то еще?
— Я собралась поговорить с Касей, но она уже уселась на телефон, чтобы сообщить половине Польши о том, что приедет показать ребенка. А потом я получила письмо от профессора Розена, в котором он просил о встрече. Когда я вышла из дома, Кася весело болтала по телефону.
Профессор Розен назначил встречу у входа в здание «Хром-Мед». Несмотря на воскресенье, в клинике бурлила жизнь. Я ожидала, что мы будем разговаривать у него в кабинете, однако профессор повел меня к своей машине. Когда мы сели в салон, он запер двери. Митингующие по-прежнему стояли на своем месте, поодаль; в машине их выкрики были не слышны.
Профессор пытался сохранять спокойствие, но его выдавала дрожь в голосе.
— По номеру моего эксперимента в больнице Святой Анны проходит заказ вектора на основе активного вируса!
— И что это означает? — спросила я.
— Либо это какой-то чудовищный бардак, — сказал профессор, а я подумала, что раньше не слышала от него подобных слов, — либо в больнице проводят испытание другого гена, для интеграции которого в клетку требуется вектор на основе вируса, а мой эксперимент по генной терапии муковисцидоза используется как прикрытие.
— То есть ваш эксперимент подорван?
— Если вам нравятся громкие фразы, то да, я допускаю такую вероятность.
Профессор старался преуменьшить значение происходящего, но выходило у него скверно.
— Но почему, зачем?
— Подозреваю, что если все-таки имеет место нелегальный эксперимент, его цель — генная модификация. В Британии проведение подобных опытов на людях запрещено.
— Какая модификация?
— Откуда мне знать? Голубые глаза, увеличение интеллекта или мышечной массы — перечень нелепостей бесконечен. В любом случае для транспортировки этого гена в клетку необходим вектор на основе активного вируса.
Он говорил сухо, как ученый, но за словами скрывалась буря эмоций. Профессор был вне себя от ярости.
— Вы знаете, кто в больнице Святой Анны делает пациенткам инъекцию лечебного гена? — спросила я.
— У меня нет доступа к подобной информации. Принцип компании «Хром-Мед» — посадить каждого в отдельный скворечник и не выпускать оттуда. Совсем не так, как в университете, никакого обмена идеями или информацией. Фамилии врача я не знаю, но на его или ее месте я ставил бы нелегальный эксперимент на тех же младенцах, кому вводил бы хромосому для лечения реально подтвержденного муковисцидоза. Допускаю, что этот человек утратил осторожность либо ему просто не хватает пациентов. — Профессора переполняли гнев и горечь. — Кто-то пытается сделать новорожденных детей еще более совершенными, но здоровый — значит уже совершенный. Здоровый — уже совершенный! — У него тряслись руки.
Скорее всего ты узнала о запрещенных испытаниях, узнала, кто за ними стоит, и за это тебя убили, так?
— Вы должны пойти в полицию.
Отвернувшись в сторону, профессор отрицательно помотал головой.
— Вы обязаны обо всем рассказать.
— Это не более чем догадки.
— Моя сестра и ее ребенок мертвы.
Профессор Розен вглядывался в лобовое стекло, словно вел машину, а не прятался в ней.
— Сначала мне нужно доказать, что имеет место мошенничество, только тогда я смогу спасти свой проект. В противном случае меня вынудят прекратить испытания во всех больницах до полного выяснения обстоятельств, а это займет месяцы или даже годы. В конце концов, мой метод могут вообще запретить!
— Но ведь это никак не затронет эксперимент по лечению муковисцидоза. Конечно, все…
— Стоит только газетчикам что-нибудь пронюхать, — перебил меня профессор, — и они перевернут все с ног на голову. Вы же знаете, насколько «умны и деликатны» репортеры. В детских смертях обвинят меня и мою хромосому!
— Вряд ли это произойдет.
— Да что вы говорите! Люди в своей массе настолько малообразованны и плохо просвещены, что не видят разницы между генным модифицированием и генной терапией.
— Это же очевидное… — начала я, но профессор Розен вновь не дал мне договорить.
— Толпы имбецилов клеймят ни в чем не повинных педиатров и даже в открытую на них нападают только потому, что не отличают педиатра от педофила. Точно так же эти глупцы станут кричать, что всему виной мой метод лечения муковисцидоза, ведь они не понимают разницы!
— Зачем же вы пытались что-то расследовать, если не намерены идти с результатами в полицию?
— Я влез в это дело, потому что обещал вам ответить на вопросы! — гневно сверкнул глазами профессор в бешенстве от того, что я поставила его в очень неприятное положение. — Я не рассчитывал что-либо раскопать.
— Хотите сказать, мне придется идти в полицию без вас? — спросила я.
Лицо профессора было искажено, словно от зубной боли, он нервно пытался разгладить складки на темно-серых брюках.
— Заказ на вирусный вектор вполне мог быть ошибкой. Сбой компьютера и все такое. Кроме того, административные ошибки у нас далеко не редкость.
— Это все, что вы скажете в полиции?
— Да, поскольку это самое правдоподобное объяснение.
— И тогда мне не поверят.
Молчание разделило нас, будто глухая стена. Я нарушила его первой:
— Что для вас важнее: здоровье детей или собственная репутация?
Профессор Розен нажал кнопку, отпирающую дверные замки, и посмотрел на меня:
— Если бы вашему брату еще только предстояло появиться на свет, как бы вы посоветовали мне поступить?
Задумавшись всего на миг, я ответила:
— Пойти в полицию и рассказать правду, а потом приложить все возможные и невозможные усилия, чтобы спасти ваш проект.
Профессор вышел из машины и двинулся прочь, не потрудившись подождать меня или запереть авто.
Демонстрантка с рыжими вихрами узнала его и завопила:
— Оставьте роль Бога Богу!
— Если бы Бог как следует выполнял свою работу, мне не пришлось бы делать свою! — огрызнулся профессор.
Женщина плюнула ему в спину.
Мужчина с седыми волосами, стянутыми в конский хвост, крикнул:
— Нет дизайнерским младенцам!
Пробившись сквозь толпу митингующих, профессор исчез за дверями клиники.
Профессор Розен не подходил на роль отъявленного мерзавца; он был всего-навсего малодушным и эгоистичным человеком, который не мог вынести мысли об утрате новообретенной славы и престижа. Однако его бездействию имелось моральное оправдание; обстоятельство, снимающее ответственность: лечение муковисцидоза — неоценимо значимое дело. Кому, как не нам с тобой, об этом знать.
Уже в метро я сообразила, что профессор снабдил меня крайне важной информацией. На мой вопрос, известно ли ему, кто из врачей в больнице Святой Анны вводил пациенткам «волшебную» хромосому, он ответил, что не имеет доступа к таким сведениям, но тут же упомянул, что этот человек, по-видимому, специально отбирал еще не рожденных детей, у которых был подтвержден диагноз муковисцидоза, чтобы подвести свой подпольный генетический эксперимент под легальное испытание нового метода лечения. Иными словами, уколы женщинам делал тот, кто отвечал за проведение эксперимента по муковисцидозу. Сама понимаешь, найти врача, ответственного за осуществление проекта в больнице Святой Анны, в тысячу раз проще, чем установить личность того, кто делал простой укол.
Здесь очень хорошо. Небо — точь-в-точь голубой веджвудский фарфор. Клерки по одному и группами возвращаются в свои офисы, а я вспоминаю, как в школе Святой Марии в жаркое время уроки проводились на открытом воздухе. Все — и учительница, и ученицы — усердно делали вид, будто смотрят в книгу, а на самом деле наслаждались летним теплом. На мгновение я даже забываю, что замерзла.
— По вашему мнению, в разговоре с вами профессор Розен сознательно не пошел на полную откровенность? — спрашивает мистер Райт.
— Да. Он очень умен и педантичен, такие люди не позволяют себе забыть об осторожности. Полагаю, он утаил фамилию врача для очистки совести, предоставив мне самой найти недостающее звено, если у меня хватит сообразительности. А может быть, именно в этот момент в нем возобладали лучшие качества. В любом случае мне всего-навсего требовалось найти того, кто руководил испытаниями новой хромосомы в больнице Святой Анны.
Ноги у меня совершенно онемели. Не знаю, смогу ли я встать, если сделаю попытку.
— Я позвонила Уильяму, и он пообещал, что к вечеру постарается все разузнать. Потом я позвонила Касе на мобильный, однако номер оказался занят. Видимо, она все еще болтала с родственниками — теперь уже они звонили ей, так как к этому времени деньги на ее телефонном счете давно должны были закончиться. В тот день Кася собиралась пойти в церковь, встретиться с кем-то из своих землячек, поэтому я решила рассказать ей обо всем, когда она вернется. Когда нам станет известно имя убийцы и Кася с малышкой будут в безопасности.
Тем временем я отправилась в Питерсхэмский питомник, где мы с мамой хотели выбрать растение для твоего садика. Я порадовалась возможности немного отвлечься: лучше что-то делать, чем бесцельно мерить шагами квартиру в ожидании звонка Уильяма.
Кася опять настойчиво убеждала меня в том, что я должна положить цветы у туалета, где тебя нашли. Она объяснила, что таким образом я оставлю на чем-то плохом и страшном свой odcisk palca, наполненный любовью. По-польски odcisk palca означает «отпечаток пальца»; перевод не точный, но очень красивый, правда? И все же это должны делать другие люди, не я. Мне предстояло найти источник зла и встретить его во всеоружии, а не с цветами.
После долгих недель холода и сырости выдался первый сухой весенний денек. В питомнике уже начали распускаться камелии, примулы и тюльпаны. Я поцеловала маму, она крепко обняла меня в ответ. Под сводами старинных оранжерей мы ощущали себя путешественницами во времени, которые перенеслись в прошлое и очутились в пышном саду богатого особняка.
Маму интересовала морозоустойчивость тех или иных видов и способность к повторному цветению, а я была погружена в собственные мысли. Почти два месяца поисков, и вот сегодня вечером я наконец узнаю, кто тебя убил.
Впервые после приезда в Лондон я почувствовала, что мне жарко, и решилась снять дорогое теплое пальто.
— Что за ужасный наряд, Беатрис? — охнула мама.
— Это одежда Тесс.
— Я так и подумала. Ты что, осталась совсем без средств?
— Почти. Кое-что есть, но эти деньги заморожены до тех пор, пока не будет продана квартира.
Признаюсь, с некоторых пор я ношу твои вещи. При моем теперешнем образе жизни нью-йоркские наряды выглядят нелепо, к тому же я убедилась, что твоя одежда намного удобнее. Наверное, я должна была бы испытывать какие-то особые, серьезные и странные ощущения от того, что одеваюсь в платья умершей сестры, однако почему-то представляю лишь, как бы ты развеселилась, увидав в обносках из обносков ту, которая прежде носила лишь дорогие дизайнерские модели и отдавала вещь в химчистку, надев ее один раз.
— Ты уже знаешь, как все случилось? — спросила мама. Этот вопрос она задала впервые.
— Пока нет, но надеюсь, скоро буду знать.
Мама протянула руку и погладила лепестки раннего клематиса.
— Вот этот.
Она резко умолкла, пронзенная острой судорогой горя. У меня разрывалось сердце — так больно было на нее глядеть. Я обняла маму, но она полностью ушла в себя. Несколько минут я просто стояла и держала ее за плечи.
— Ей, бедняжке, наверное, было так страшно, — проговорила мама, повернувшись ко мне. — А меня не оказалось рядом.
— Тесс была взрослой женщиной.
Мама заплакала. В слезах изливался ее безмолвный крик.
— Я должна, должна была быть с ней.
Я вспомнила, как маленькой девочкой боялась темноты. Шорох маминого пеньюара, аромат крема для лица — ее звук и запах прогоняли все мои страхи. Да, если бы она была с тобой…
Я еще крепче прижала маму к себе и постаралась придать словам как можно больше убедительности.
— Тесс ничего не почувствовала, честное слово. Ее опоили снотворным, так что она просто заснула. Ей не было страшно, мамочка, она ушла во сне.
Теперь и я научилась ставить любовь превыше истины.
Мы продолжили экскурсию по питомнику. Глядя на растения, мама немножко повеселела.
— Значит, ты скоро уедешь, — вздохнула она. — Когда все станет известно.
Почему она так плохо обо мне подумала? Разве я могла оставить ее после всего, что произошло?
— Нет, не уеду. Я остаюсь в Лондоне. Эмиас разрешил мне жить в квартире сколько угодно, он даже денег с меня брать не станет.
Нельзя сказать, что я приносила себя в жертву, нет. Я решила поступить в архитектурный колледж. Собственно, и сейчас не отказываюсь от своего решения, надо только дождаться окончания суда. Не знаю, примут ли меня, где взять деньги на оплату обучения и как я смогу приглядывать за Касей и ее девочкой, но по крайней мере хочу попробовать. Мой математический ум отлично справится с задачами по возведению конструкций, а в придачу я постараюсь откопать в себе хоть капельку твоего художественного таланта. Кто знает? Может быть, мои творческие способности спят где-то в дальнем уголке сознания; может, зашифрованный код скрыт в одной из хромосом и только ждет благоприятных условий, чтобы проявиться в назначенный час.
На телефоне раздался сигнал сообщения. Уильям написал, что нам нужно срочно встретиться. Я отправила ему адрес квартиры. От волнения у меня подкашивались ноги.
— Тебе пора уходить? — спросила мама.
— Да, совсем скоро. Извини.
Мама взъерошила мою челку:
— Ты так и не подстриглась.
— Знаю.
Она улыбнулась, продолжая гладить меня по волосам:
— Как же вы с ней похожи…
Когда я добралась до дома, Уильям уже ждал меня на ступеньках. Он был бледен, на лице, обычно добром и открытом, застыло напряженное выражение.
— Я узнал, кто руководит экспериментом по лечению муковисцидоза в больнице Святой Анны, — сказал он. — Можно войти? По-моему, здесь не очень…
Голос Уильяма, всегда ровный и спокойный, стал хрипловатым и прерывистым. Я открыла дверь, мы вошли в квартиру. Он заговорил не сразу. В тишине я услышала, как часы пробили два, и только потом Уильям произнес:
— Это Хьюго Николс.
Прежде чем я успела открыть рот, он обернулся ко мне и торопливо произнес:
— Сам не понимаю. Зачем лечить от муковисцидоза здоровых детей? Что, черт побери, он творит? Нет, просто не понимаю!
— Этот эксперимент используется лишь как прикрытие, — сказала я. — Чтобы проводить испытания другого гена.
— Боже. Как ты об этом узнала?
— От профессора Розена.
— Он намерен обратиться в полицию?
— Нет.
После небольшой паузы Уильям промолвил:
— Значит, все в моих руках. Я должен сообщить полиции, что это Хьюго. Господи, ну почему он, а не кто-то другой!
— Понимаю, тебе будет тяжело.
— Увы, нелегко.
Кое-что, однако, не укладывалось у меня в голове.
— Но зачем психиатру заниматься генетическими экспериментами? — спросила я.
— До того как стать практикующим врачом, Хьюго работал в исследовательской лаборатории. Я говорил тебе, нет?
Я кивнула.
— Он проводил исследования в области генетики.
— Об этом ты не упоминал.
— Не думал, что… Черт, я и сам не подозревал, насколько это существенно.
— Извини, я не хотела тебя обидеть.
Я вспомнила: Уильям действительно рассказывал, что доктор Николс, по слухам, был очень перспективным ученым, перед которым открывалось блестящее будущее. Я же не придала значения его словам, решив, что это выдумки, и всецело положилась на собственное мнение. Только сейчас я поняла, что исключала доктора Николса из круга подозреваемых не только потому, что видела в нем безнадежного неудачника, неспособного к насилию, и даже не потому, что у него отсутствовали мотивы преступления, а лишь на основании своей твердой веры в его безусловную порядочность.
Уильям сел на диван и беспокойно забарабанил пальцами по ручке.
— Однажды я разговаривал с Хьюго о его исследовании. Он вроде бы говорил, что открыл важный ген, а потом какая-то компания выкупила у него разработку.
— Какая именно?
— Не знаю. Это было давно, много лет назад. Помню только, что Хьюго, обычно такой сдержанный и уравновешенный, рассказывал о своем открытии очень страстно, с большим жаром. — Уильям встал и принялся нервно ходить по комнате. — Он говорил, что внедрение этого гена в человеческий организм — мечта… нет, даже не мечта, а цель всей его жизни. Утверждал, что хочет оставить свой след в будущем.
— След в будущем? — пораженно отозвалась я, думая о том, что доктор Николс лишил тебя этого самого будущего.
Уильям решил, что я его не поняла.
— Хьюго хотел внедрить свой ген в половые клетки, чтобы следующие поколения его унаследовали. Говорил, что собирается улучшить человеческую природу. И хотя испытания на животных прошли успешно, ставить эксперименты на людях ему не дали, поскольку генная инженерия с целью усовершенствования человека запрещена законом.
— А за какое именно улучшение отвечал его ген?
— За уровень интеллекта.
Уильям сказал, что не поверил доктору Николсу, ведь открытие на самом деле было сенсационным, а ученый — совсем молодым. Он говорил что-то еще, но я не слушала, а вспоминала свой визит в клинику «Хром-Мед» и фильм про мышей. Я вспомнила, что коэффициент интеллекта измеряют при помощи страха.
— Я решил, что Хьюго выдумал эту историю или по крайней мере сильно приукрасил правду, — продолжал Уильям. — Сами посудите, если разработка действительно сулила ему славу, с какой стати было уходить в рутинную больничную практику? Видимо, он нарочно переквалифицировался в обычного врача и все это время ждал, когда подвернется возможность испытать свой ген на людях.
Я вышла в твой садик — мне в буквальном смысле не хватало воздуха и пространства, чтобы осознать всю значимость открывшихся фактов. Не желая оставаться с ними наедине, я обрадовалась тому, что Уильям пожелал разделить со мной компанию.
— Должно быть, Хьюго уничтожил медицинскую карту Тесс, — высказал он предположение, — а затем сфабриковал причины гибели младенцев, чтобы их смерть не могли связать с экспериментом. И ведь ему удалось замести следы! Господи, я говорю совсем как телерепортер. Подумать только, речь идет о Хьюго, которого я любил и знал, то есть думал, что знаю…
С тех пор как нашли твое тело, я разговариваю на том же, чуждом мне, языке. Прежний словарный запас не способен описать все, что происходит сейчас.
Я смотрю на маленький клочок земли, где мы с мамой решили посадить для тебя клематис, который будет цвести до поздней осени.
— У него, наверное, были сообщники? — говорю я. — Доктор Николс не мог сам принимать роды у Тесс.
— Все врачи проходят шестимесячный курс акушерства. Хьюго знал, что и как делать.
— Неужели никто не обратил внимания? Психиатр, принимающий роды…
— Во-первых, в родовой палате всегда куча народу, а во-вторых, у нас страшная нехватка персонала. Завидев еще один белый халат, мы просто благодарим небеса и переходим к очередному страждущему. Многие доктора работают на временной основе, а две трети акушерок присылают к нам из агентства, поэтому с врачами они не знакомы. — Уильям посмотрел на меня. Его хмурое лицо посерело от беспокойства. — Кроме того, не забывай, Би, он носил маску.
— Но кто-то же…
Уильям взял меня за руку.
— В больнице чертовски не хватает рук, и мы вынуждены доверять друг другу, потому что иначе просто нельзя. Да, и каждый из нас наивно полагает, что его коллеги пришли сюда для одной и той же цели — лечить людей, ставить их на ноги.
Тело Уильяма напряглось, как сталь, он крепко стиснул мои ладони.
— Хьюго одурачил не только тебя, но и меня. Я считал его своим другом.
Несмотря на солнце и теплый шерстяной плед, меня бьет озноб.
— Я поняла, что у доктора Николса все это время было очень удобное положение, — говорю я. — Кто лучше психиатра знает, как довести человека до безумия или самоубийства? О подробностях врачебного приема моей сестры я знала только с его слов.
— Вы сделали вывод, что доктор Николс в самом деле пытался довести Тесс до суицида?
— Да, а когда ничего не вышло, несмотря на садистские пытки, доктор Николс ее убил.
Неудивительно, что он так казнил себя за то, что проглядел послеродовой психоз, и упорно декларировал свою профессиональную непригодность; потеря репутации — сущие пустяки по сравнению с обвинением в убийстве.
Мистер Райт бросает взгляд на одну из пометок, сделанных раньше.
— Вы сказали, доктор Николс не входил в число тех, кого вы подозревали в записи колыбельной, верно?
— Да. Я полагала, что у него нет мотива преступления и… — я делаю короткую паузу, — считала его плохим врачом, но глубоко порядочным человеком, который признал свою серьезную ошибку.
Я по-прежнему дрожу от холода. Мистер Райт снимает пиджак и накидывает его мне на плечи.
— Я поняла, что Тесс догадалась о фальшивом эксперименте, и за это он ее убил. Все сошлось.
«Все сошлось». Эта фраза звучит так гладко, словно вставлен последний кусочек пазла, и получилась законченная картинка, словно металл не вспорол нежную кожу и на землю не пролилась алая кровь.
* * *
Мы молча стояли посреди твоего крошечного садика. Я заметила, что зеленые побеги на некогда мертвых ветках вытянулись еще на несколько сантиметров, что они полны жизни, а в миниатюрных тугих бутонах до поры заключены пышные летние цветы.
— Думаю, надо позвонить в полицию, — сказал Уильям. — Хочешь, я сам?
— Пожалуй, к тебе отнесутся с бо́льшим доверием. Ты не поднимал ложную тревогу и не впадал в истерику.
— Хорошо. С кем я должен говорить?
— С инспектором Хейнзом. Если его не будет, попроси соединить тебя с сержантом Финборо.
Уильям взял свой мобильник, набрал номер, который я ему продиктовала, и спросил инспектора Хейнза.
Пока он излагал полицейскому все, чем только что поделился со мной, я испытывала непреодолимое желание наорать на доктора Николса, жестоко избить его, даже прикончить, и от этого мне почему-то становилось легче. Наконец-то мой гнев и ярость обрели мишень; теперь я могла метнуть гранату, которую так долго сжимала в руке, нацелив на источник угрозы, и после броска ощутить свободу и облегчение.
Уильям нажал кнопку отбоя.
— Инспектор попросил нас приехать в участок, только ему нужен еще час, чтобы собрать руководство.
— Ты имеешь в виду, он просил подъехать тебя.
— Прости, Би, но герой появился в последний момент. Почти как американцы во Второй мировой.
— Ну если по справедливости, то все-таки мы победили благодаря им.
— Поедем вместе. А пока я рад, что у нас есть немножко времени побыть наедине.
Уильям протянул руку и осторожно убрал с моего лица прядь волос. А потом поцеловал в губы.
Меня охватили сомнения. Могу ли я хоть ненадолго сойти со своего крутого горного склона или преодолеть жесткие моральные рамки, установленные тобой? Я пошла обратно в квартиру, Уильям последовал за мной. Обернувшись, я поцеловала его. Я ловила момент, проживала от первой до последней секунды, ведь он мог оказаться совсем недолгим. Если твоя смерть чему-то и научила меня, то именно этому — минуты счастья слишком дороги, чтобы их терять. Я поняла ценность настоящего, ведь это все, что у нас есть.
Уильям раздел меня, и я сбросила свою старую оболочку, обнажила всю себя. Цепочка с обручальным кольцом уже не висела на его шее. И когда я прохладной кожей ощутила жар тела Уильяма, все мои страховочные тросы оборвались.
Мистер Райт достает из бумажного пакета бутылку вина и два пластиковых стаканчика — их он взял в офисе, в автомате для воды. Как это похоже на него — всегда проявлять заботу и предусмотрительность. Он наливает мне вина, я залпом осушаю стаканчик. Наверное, не слишком благоразумный поступок, однако мистер Райт никак его не комментирует, как не комментировал и мое признание о том, что я переспала с Уильямом. Мистер Райт не выносит оценок, не судит, и за это я ему крайне признательна.
Мы лежали в твоей кровати. Из окна падали косые лучи утреннего солнца. Прислонившись к плечу Уильяма, я пила чай, который он для меня приготовил, и старалась растянуть удовольствие. Кожа еще хранила нежность его прикосновений, и, понимая, что скоро придется покинуть постель и вернуться в обычный мир, я вспомнила Джона Донна, укоряющего Солнце, «старого дурачину», за то, что светило велит ему оставить возлюбленную. Просто удивительно, насколько это стихотворение сейчас подходило мне.
* * *
Вино на короткое время оживляет кровь, мне становится теплее.
— Уильям пошел в ванную и заглянул в туалетный шкафчик, где нашел пузырек с таблетками и больничной этикеткой. Это был фенциклидин. Пузырек стоял там все время. Уильям сказал, что некоторые наркотические препараты запрещено продавать на улице, однако закон разрешает врачам выписывать их пациентам в лечебных целях.
— На этикетке значилось имя врача, выписавшего рецепт?
— Нет, но Уильям сказал, что полиция без труда вычислит доктора Николса по больничному реестру лекарств. Мне стало стыдно. Идиотка, я даже не подумала, что наркотик может находиться на виду, преспокойно стоять на полке. Он ведь был там все это время.
Извини, я начинаю повторяться. Мне все труднее соображать.
— А потом? — спрашивает мистер Райт.
Мой рассказ почти закончен. Собрав последние силы, я продолжаю:
— Мы вышли из квартиры вместе. Накануне Уильям пристегнул свой велосипед цепью к ограде на другой стороне улицы, однако теперь не обнаружил его на прежнем месте. Велосипед украли, оставили только цепь. Уильям взял ее с собой и еще пошутил, что раз мы идем в полицию, то заодно можем заявить и о краже велосипеда.
Мы решили не ползти через пробки на такси, а пройти пешком через Гайд-парк. Завидев перед воротами парка цветочный киоск, Уильям предложил принести цветы к месту твоей гибели и направился к цветочнице.
Пока он выбирал букет, я отправила сообщение для Каси, всего два слова: odcisk palca. Она поймет, что я наконец оставила свой «отпечаток пальца», знак любви.
Вернулся Уильям с двумя букетиками нарциссов.
— Ты говорила, это любимые цветы Тесс. Желтый пигмент в нарциссах помогает спасать зрение детишкам.
Я была удивлена и растрогана, тем что он запомнил эти слова.
Уильям обнял меня, мы вошли в парк. Я словно бы слышала, как ты поддразниваешь меня. Ну да, я страшная лицемерка. Понимаешь, я знала, что отношения с Уильямом не продлятся долго, что он не уйдет от жены. В то же время я сознавала, что это не сломает мне жизнь. Я испытывала не гордость, но облегчение. Наконец-то я освободилась от прежней себя — от той, которой уже не была и не хотела быть. В душе у меня пробились тоненькие ростки надежды, и я дала себе слово, что позволю им расти дальше. Выяснив обстоятельства твоей смерти, я получила право посмотреть вперед и даже осмелилась представить свое будущее — будущее без тебя. Два месяца назад в этом самом парке я сидела на снегу и оплакивала гибель младшей сестры среди голых, безжизненных деревьев, а сегодня здесь царят смех, веселье, пикники, шумные игры и буйство зелени. То же место, но пейзаж совершенно иной.
Возле туалета я сняла с нарциссов целлофановую обертку, чтобы они выглядели как с домашней клумбы, и положила цветы у двери. Внезапно у меня в голове что-то щелкнуло, и память непрошено подала мне знак — точнее, указала на пробел.
— Я ведь не говорила тебе о нарциссах и о том, почему Тесс любила желтый цвет.
— Разумеется, говорила. Поэтому я их и выбрал.
— Нет. Я рассказывала об этом только Эмиасу и маме.
По большому счету я вообще почти ничего не рассказывала Уильяму о тебе, да и о себе тоже.
— Должно быть, ты узнал это от самой Тесс.
Зажав букет в руке, Уильям шагнул ко мне.
— Послушай, Би…
Я попятилась.
— Не смей называть меня Би!
Он приблизился и грубо втолкнул меня внутрь туалета.
— Он закрыл дверь и приставил мне к горлу нож.
Мой голос срывается от прилива адреналина. Да, Уильям разыграл звонок инспектору Хейнзу. Наверное, насмотрелся «мыльных опер» — в больничных палатах их крутят с утра до вечера, я помню это еще со времен болезни Лео. Возможно, Уильям почувствовал себя загнанным в угол, а может быть, я просто слишком увлеклась и ничего вокруг не замечала. Мистер Райт, как всегда, воздерживается от комментариев по поводу моей вопиющей легковерности.
Подростки бросили игру в софтбол и на всю громкость включили музыку. Клерков, отдыхающих в обеденный перерыв, сменили матери с детьми трех — пяти лет. Малышня пищит тонкими, едва сформировавшимися голосами, радостные визги моментально сменяются обиженным ревом и наоборот.
Пусть дети кричат сильнее и смеются звонче, пусть гремит музыка, а в парке соберется как можно больше народу, чтобы на скамейках не осталось ни одного свободного места. Пусть солнце светит ярко-ярко.
Он закрыл дверь туалета и примотал ручку цепью от велосипеда. Кстати, никакого велосипеда и не было. Солнечные лучи едва просачивались через узкие окошки в верхней части полуобвалившейся постройки. Грязные стекла делали свет мутным, больным, превращая его в полумрак кошмарного видения. Толстые кирпичи, пропитанные сыростью, заглушали звуки, доносящиеся извне, — детский смех и плач, музыку из динамиков проигрывателя. Поразительно, насколько тот день был схож с сегодняшним, который мы проводим на лужайке с мистером Райтом, хотя, может быть, в парке каждый день слышатся примерно одни и те же звуки. Запертая в холодном, безжалостном помещении, я, как и сейчас, страстно желала, чтобы дети шумели громче, а музыка играла на всю мощь. На что я рассчитывала? На то, что они услышат мои крики, раз я слышу их смех? Увы, нет. Если бы я только открыла рот, убийца заставил бы меня замолчать при помощи ножа. Значит, на пороге смерти я всего лишь искала утешения в звуках жизни.
— Это ты убил ее, да? — спросила я.
Веди я себя похитрее, можно было бы дать ему лазейку — например, притвориться, будто я испугалась изнасилования в какой-нибудь особо жестокой, садистской форме, — но как только с моих уст слетело обвинение, призрачные шансы выйти отсюда рассеялись окончательно. Впрочем, Уильям не собирался оставлять меня в живых, что бы я ни говорила. В моей голове вихрем проносились популярные советы насчет того, как поладить с похитителем. (Откуда, скажи на милость, они взялись? И с какой стати кто-то решил, что подобные советы пригодятся широкому кругу населения?) Как ни странно, я их запомнила, но принести пользу мне они не могли, так как похитителем оказался мой любовник, и все пути к отступлению были отрезаны.
— Я не виноват, что Тесс умерла.
На миг мне показалось, что это правда, что я неправильно поняла Уильяма и все обернется именно так, как я полагала, — мы пойдем в полицию и доктора Николса арестуют. Однако самообман — слабая штука, когда на другой чаше весов нож и дверная ручка, примотанная цепью.
— Я не хотел, чтобы так вышло, не планировал убийства. В конце концов, я врач. Ты хоть представляешь, каково мне? Я живу точно в аду.
— Так отпусти меня, прошу тебя.
Он молчал. От страха моя кожа покрылась сотнями тысяч мурашек; сотни тысяч крохотных волосков приподнялись, встав на бесполезную защиту.
— Лечащим врачом Тесс был ты?
Я отчаянно пыталась разговорить Уильяма, не надеясь, что кто-то придет и спасет меня, но ради того, чтобы хоть ненадолго продлить собственную жизнь, пускай даже в этом омерзительном туалете, даже рядом с убийцей. А еще я должна была знать правду.
— Да. Наблюдал ее во время беременности.
Ты никогда не упоминала фамилии врача, говорила просто «доктор», а я, поглощенная своими многочисленными заботами, не интересовалась.
— У нас сложились хорошие отношения, мы даже подружились. Я всегда относился к Тесс по-доброму.
— И роды принимал тоже ты?
— Да.
Я вспомнила человека в маске на твоих полотнах-кошмарах — зловещую черную тень, нависшую над тобой.
— В тот день в парке она обрадовалась, увидев меня, — продолжал Уильям. — Улыбнулась. Я…
— Постой, но ведь Тесс боялась тебя, — перебила я.
— Не меня, а того, кто принимал роды.
— Как же она тебя не узнала? Даже если ты был в маске, тебя выдал бы голос. Если ты общался с ней всю беременность…
Уильям не ответил. Я не подозревала, что могу испытывать перед ним еще больший ужас.
— Ты не разговаривал с ней во время родов! Молчал, когда она тужилась и когда умер Ксавье!
— Минут через двадцать я вернулся в палату, чтобы ее успокоить. Говорю же, я всегда хорошо относился к твоей сестре.
Значит, он снял маску и сменил личину, вновь превратившись в заботливого доктора, которым ты его считала. И я тоже.
— Я предложил позвонить кому-нибудь из родственников, — сказал Уильям, — и она дала твой номер.
Ты думала, я знаю. Все это время ты верила, что я приду…
* * *
Мистер Райт с тревогой смотрит на меня.
— Беатрис, вы бледны.
Да, и внешне, и внутренне. Есть такое выражение: «побледнеть и растаять», оно как раз про меня. Блеклый образ на фоне яркого мира, для которого я невидима.
Снаружи, под теплыми лучами солнца, сидят, лежат, двигаются люди, но я, запертая в грязном туалете, для них невидимка. Уильям снял галстук и с его помощью связал мне руки за спиной.
— При первой же нашей встрече ты назвал Тесс по имени.
Говорить, говорить — единственный способ выиграть несколько драгоценных минут жизни и узнать правду.
— Да, дурацкий промах, — ответил он. — Видишь, я не профессионал. Не умею лгать и изворачиваться.
Умел, и еще как. Он манипулировал мной с самого начала, направляя разговор в нужную сторону и уходя от вопросов. Все эти два месяца — и когда я разыскивала твою медицинскую карту, и когда пыталась выяснить, кто руководил экспериментальным лечением в больнице Святой Анны — Уильям делал так, чтобы у меня не появилось какой-либо информации, и даже придумал себе отговорку, на случай если его поведение покажется мне неубедительным. «Господи, я говорю совсем как телерепортер». Именно этот стиль он и старался воспроизвести.
— Клянусь, я не собирался ее убивать! Камень в окно швырнул какой-то хулиган, а не я. Тесс просто подумала, что целились в нее.
Теперь он связывал мои ноги бечевкой.
— А колыбельная? — спросила я.
— Я запаниковал, сделал первое, что пришло мне в голову. Взял диск в послеродовой палате, зачем-то принес домой. Я ничего не продумывал специально, понимаешь? Откуда мне было знать, что она запишет колыбельную на пленку? У кого сейчас остались древние телефоны с пленочными кассетами? Все давно пользуются голосовой почтой.
Уильям разрывался между мелочами обыденной жизни и тяжким ужасом совершенного убийства. Чудовищность его преступления увязла в сетях незначительных деталей, повседневных пустяков.
— Ты знал, что анализы Митча не доказательство, потому что Касе все равно не поверят.
— В худшем случае ты бы отнесла бумаги ее дружка в полицию и выставила себя дурой.
— Но ты вел себя так, чтобы я тебе доверяла.
— Ты сама затеяла эту игру. Не оставила мне выбора.
Уильям завоевал мое доверие еще до того, как принес анализы Митча, задолго до того. Ему помогла моя неуверенность в себе. Глядя на Уильяма, я испытывала тревогу, обычную для меня в обществе красивого мужчины, и не задумывалась всерьез, что его тоже можно подозревать в убийстве, а потому не придала значения своему беспокойству. Во всей этой истории Уильям был единственным, чьи поступки я связывала с собой, а не с тобой.
Однако я слишком надолго замолчала; нельзя допускать, чтобы пауза затягивалась.
— И это ты, а не доктор Николс обнаружил тот самый ген?
— Да. Хьюго — отличный малый, хоть и посредственность.
Рассказы про доктора Николса оказались одновременно ложью и хвастовством. Уильям с самого начала оговаривал коллегу, умело отводя подозрения от себя. Коварный план был просчитан до мелочей.
— Идиоты из комитета по этике в Имперском колледже запретили мне проводить испытания на людях, — продолжал Уильям. — Трусливые глупцы, они не видели будущего, как видел его я. Только представь: ген, отвечающий за скачок интеллекта. Понимаешь, что это значит? А потом на меня вышло руководство «Хром-Мед». Я поставил лишь одно условие: тесты на людях.
— И они согласились?
— Меня обманули. Я…
— И ты им поверил? В совете директоров «Хром-Мед» сидят не дураки, я читала их биографии. Им просто выгодно, чтобы кто-то делал за них черную работу, а если что-то пойдет не так, взял вину на себя.
Уильям покачал головой, но я видела, что задела его. Передо мной открылся проход, и я сломя голову помчалась по нему.
— Генетическое улучшение свойств организма — вот где зарыты деньги! Как только правительство даст разрешение, генная инженерия начнет приносить космические прибыли. «Хром-Мед» просто хочет опередить остальных и встретить этот день во всеоружии.
— Этого нельзя знать наверняка.
— Уильям, тебя использовали.
Слишком напуганная, я допустила ошибку. Моим словам не хватило нужной убедительности. Я лишь уколола самолюбие Уильяма и раздразнила его гнев. Если раньше он держал нож почти небрежно, то теперь стиснул рукоятку так, что побелели костяшки пальцев.
— Расскажи про испытания на людях. Как все произошло?
Уильям по-прежнему сжимал нож, но пальцы вновь порозовели — хватка немного ослабела. В другой руке у него был фонарик. Он хорошо подготовился: нож, фонарь, цепь от велосипеда — пародия на снаряжение для бойскаутского похода. Чем еще он запасся?
Мистер Райт взял мою руку в свою ладонь, и меня вновь переполняет благодарность. Я больше не отторгаю искреннюю доброту.
— Уильям рассказал, что ген, который он открыл, в организме человека контролирует две совершенно не связанные функции: память и работу легочной системы. Это означает, что при рождении младенцы не способны самостоятельно дышать.
Тесс, родная, прости.
Уильям сказал, что если немедленно провести интубацию новорожденного, сделать так, чтобы он задышал самостоятельно, то все будет хорошо. Ребенок выживет.
Он заставил меня лечь на пол. Сырость бетона холодила левый бок, забираясь все выше. Я попыталась шевельнуться, но руки и ноги налились тяжестью. Наверное, Уильям подсыпал мне в чай снотворное. Не молчать, говорить — только так я могла продлить себе жизнь.
— Но ты ничего не сделал, чтобы они начали дышать, так? И Ксавье, и ребенок Хэтти…
— Я тут ни при чем. Это редкая патология легких, у кого-нибудь из врачей непременно возникли бы вопросы. В отсутствие посторонних я легко решил бы проблему. Мне мешали люди, те, что постоянно толпились вокруг.
— Значит, ты скрыл истинную причину смерти новорожденных?
— Я не мог рисковать.
— А как же я? Ты же не собираешься инсценировать мое самоубийство, как поступил с Тесс? Во второй раз полиция обязательно почует неладное.
— Инсценировать? Можно подумать, я — режиссер. Еще раз повторяю, я не собирался никого убивать. Сама видишь, сколько допущено ошибок. Да, я тщательно планировал свою исследовательскую работу и окончательные испытания, но не чью-то смерть. Мне пришлось на это пойти. Господи, я ведь даже давал им деньги, не задумываясь о том, что выплаты могут вызвать подозрение. К тому же я не предполагал, что пациентки станут общаться между собой.
— Так зачем платил?
— Исключительно из добрых побуждений. Чтобы будущие матери как следует питались, чтобы плод развивался в благоприятных условиях. Я давал деньги на еду, а не на чертовы пеленки!
Я не осмелилась спросить, сколько всего было жертв. Не хотела знать об этом, умирая. Но кое-что мне еще предстояло выяснить.
— Почему ты выбрал Тесс? Из-за того, что у нее не было мужа? Или из-за бедности?
— Плюс ко всему она была католичкой. Католички гораздо реже прочих женщин делают аборт, когда узнают, что будущий ребенок болен.
— Хэтти — тоже католичка?
— Миллионы филиппинцев исповедуют католицизм. Обрати внимание, в анкете Хэтти Сим указала не имя отца ребенка, а свою религию.
— Ее ребенок был болен муковисцидозом?
— Да. По возможности я совмещал лечение муковисцидоза с испытанием моего гена. Правда, младенцев, удовлетворяющих всем критериям, не хватало.
— Как в случае с Ксавье?
Уильям молчал.
— Тесс узнала о подставном эксперименте? Ты поэтому ее убил?
Он поколебался, а затем почти жалобно произнес:
— Возникло еще одно последствие, которого я не мог предвидеть. Выяснилось, что мой ген попадает в яичники матери, то есть все ее яйцеклетки уже генетически изменены. Сколько бы детей ни рожала женщина, у каждого будет та же проблема с дыханием. Вряд ли я мог бы присутствовать при рождении каждого последующего ребенка. Люди меняют место жительства, уезжают из страны, да мало ли чего. Когда-нибудь правда все равно всплыла бы на поверхность. Вот почему Хэтти пришлось удалить матку. Однако роды Тесс проходили слишком стремительно. Когда она добралась до больницы, уже показалась головка ребенка. Делать кесарево сечение было поздно, не говоря уже об экстренной гистерэктомии.
Ты ни о чем не знала. Даже не догадывалась.
Он убил тебя, потому что твое тело стало живой уликой против него.
Люди понемногу покидают парк; трава из зеленой превращается в серую, воздух становится прохладнее. Меня знобит, от холода ломит кости, и я стараюсь сосредоточиться на тепле, которое исходит от ладони мистера Райта.
— Я спросила, что заставило его совершить преступление — деньги или что-то иное. Уильям пришел в ярость и резко ответил, что его мотивы нельзя назвать низкими или корыстными. Он все равно не сумел бы продать ген, который не прошел положенных испытаний. Уильяма не прельщала и слава, ведь у него не было возможности опубликовать результаты исследования.
— Он назвал истинную причину?
— Да.
Я воспроизведу его слова здесь, на серовато-зеленой траве, в окружении вечерней прохлады. Чтобы услышать их, нам с тобой не нужно возвращаться в этот ужасный туалет.
— Уильям сказал, что современная наука обладает той властью, на какую некогда претендовала религия, только власть науки зиждется не на предрассудках и лицемерии, а реальна и доказуема. Он сказал, что чудеса происходят не в средневековых церквях, а в исследовательских лабораториях и клиниках; что реанимация возвращает мертвых к жизни, увечные перестают хромать, получив протезы, а слепые прозревают при помощи лазерной хирургии. Он говорил, что в новом тысячелетии правят новые боги, наделенные подлинными силами, и эти боги — ученые, которые способны улучшить человеческую природу. Уильям еще сказал, что однажды его ген станет неотъемлемой частью генофонда, и это будет означать бесповоротное изменение природы человека в лучшую сторону.
Его неприкрытая спесь поражала своим чудовищным размахом.
Уильям светил фонариком мне в лицо, а сам оставался в тени. Я не оставляла попыток пошевелиться, но руки и ноги, отяжелевшие под воздействием снотворного, не подчинялись отчаянным командам мозга.
— В тот день в парке ты пошел следом за ней?
Я боялась того, что услышу, и все же должна была знать, как ты умерла.
— Когда мальчишка убрался, она села на скамейку и принялась писать письмо. Даже не расчистила снег там, где сидела. Странно, не находишь?
Он смотрел на меня, ожидая ответа, как будто мы по-приятельски болтали о пустяках. Мне вдруг стало ясно, что я первая и последняя, кому Уильям рассказывает эту историю. Нашу с тобой историю.
— Я немного подождал, на случай если мальчишка вернется, минут десять. Тесс обрадовалась, увидев меня, я ведь говорил, помнишь? Улыбнулась мне. У нас сложились очень хорошие отношения. У меня был термос с горячим шоколадом, я угостил ее.
На парк опускается вечер. Его оттенки напоминают анютины глазки — нежно-сиреневые, лиловые, бархатно-черные.
— Он сказал, что растворил в шоколаде сильную дозу снотворного и, опоив Тесс, завел ее в туалет.
На меня навалилась страшная усталость, язык еле ворочается во рту. Я представляю, как они медленно выползают из меня — гадкие, уродливые слова.
— А потом… зарезал.
Я расскажу тебе все, что услышала от него. Ты имеешь право знать, хотя тебе будет больно. Впрочем, нет, «больно» — неверное выражение. Стоит только вспомнить его голос, и мне становится страшно, словно я — пятилетний ребенок, который в ужасе прячется под кроватью от убийцы, пытающегося выбить дверь.
Врачу несложно резать. Трудно только поначалу. Когда врач делает свой первый надрез, ему кажется, будто он совершает насилие. Кожа, самый большой человеческий орган, покрывает и защищает все тело, а ты умышленно нарушаешь целостность этого покрова. Но потом становится легче, ведь ты понимаешь, что разрез — первый шаг хирургической операции, необходимый этап процедуры излечения больного.
Мистер Райт крепче сжимает мою ладонь теплыми пальцами. Ноги совсем онемели.
Лежа на бетонном полу, я слышала частый глухой стук своего сердца — единственного органа, оставшегося начеку. А затем я с изумлением увидела, как Уильям прячет нож во внутренний карман куртки. Внутри у меня разлилась горячая волна надежды.
Он помог мне сесть. Сказал, что не будет убивать меня, потому что передозировка снотворного вызовет меньше подозрений, чем ножевые раны. Я не могу воспроизвести его точные слова, просто не могу.
Он сказал, что достаточно накачал меня снотворным, что сопротивляться или сбежать я уже не смогу. А теперь он даст мне смертельную дозу. Он заверил, что я уйду тихо, без боли, и эта фальшивая доброта была отвратительнее всего, потому что он успокаивал не меня, а самого себя. Он сказал, что запасся собственными таблетками, хотя в них уже нет нужды.
Он вытащил из кармана пузырек со снотворными пилюлями, выписанными мне еще в Нью-Йорке. В Лондон их привез Тодд, а Уильям, должно быть, нашел на полке в ванной. Как и все остальное — цепь, фонарик и нож, — пузырек с таблетками доказывал, что преступник скрупулезно планировал свои действия. Это преднамеренное убийство в моих глазах выглядело гораздо страшнее убийства спонтанного. Чтобы физически устранить меня, требовалось совсем немного времени, а Уильям творил зло гораздо дольше.
Сумерки принесли с собой холод. Сторожа закрывают ворота, задержавшиеся подростки сбиваются в стайки и уходят из парка. Дети уже давно дома, их ждет ванна и сказка на ночь. Остались только мы с мистером Райтом, ведь мой рассказ не окончен. Нас почему-то не прогоняют — может, просто не видят. Это хорошо, потому что я должна взять себя в руки и дойти до конца.
Ноги совсем потеряли чувствительность. Боюсь, мистеру Райту придется выносить меня из парка, перекинув через плечо, на манер пожарного. А может быть, он вызовет карету «скорой помощи», и меня отвезут в больницу. Но сперва я обязана закончить.
Я умоляла его о пощаде. Ты тоже? Наверное, да. Думаю, ты, как и я, очень хотела жить. Разумеется, мольбы не помогли, а только еще больше разозлили Уильяма. Пока он откручивал крышку с пузырька, я собрала остатки сил и попыталась прибегнуть к доводам рассудка:
— Если меня найдут здесь, на том же месте, где погибла моя сестра, у полиции возникнут подозрения. Они вновь поднимут дело Тесс. Это же нелепо — устраивать вторую смерть тут.
На миг раздраженное выражение исчезло с лица Уильяма, рука, откручивающая колпачок, замерла, а я получила короткую передышку в извращенном варианте игры «Кто важнее на воздушном шаре».
А затем он расплылся в улыбке и, опять же ободряя не столько меня, сколько себя, заявил, что мне не следует беспокоиться.
— Я думал об этом. Полицейские видели, в каком состоянии ты пребывала после смерти Тесс; они уже знают, что ты немножко «того», правда? И даже если до них не дойдет, любой психиатр скажет, что ты специально выбрала это место. Ты хотела совершить самоубийство там же, где погибла твоя младшая сестренка.
Он наконец открутил крышку с пузырька.
— Если уж рассуждать логически, какой преступник в здравом уме пойдет на то, чтобы прервать жизнь двух человек на одном и том же месте?
«Прервать жизнь». Уильям пытался подвести жестокое убийство под некую пассивную категорию, будто речь шла об эвтаназии.
Он подставил ладонь и высыпал из пузырька горсть таблеток, а я подумала: кто усомнится в моем самоубийстве, кто подтвердит, что я была психически здорова? Доктор Николс, которому я, вне себя от гнева, пела колыбельную? Даже если в момент нашей последней встречи он и не отметил у меня суицидальных наклонностей, то позже сам оспорит свой диагноз, как произошло в случае с тобой, а потом будет винить себя в том, что опять упустил симптомы. Инспектор Хейнз? Он и так считает меня истеричкой. Вряд ли сержант Финборо сумеет переубедить своего начальника, даже если захочет. Тодд уверен, что я «не способна трезво воспринимать факты», и многие с ним согласны, хотя из жалости не говорили мне этого в лицо. Все решат, что тяжелая депрессия, в которую я погрузилась после твоей гибели, заставила меня свести счеты с жизнью. Рассудительная и выдержанная Беатрис, которой я была несколько месяцев назад, никак не могла принять смертельную дозу снотворного, да еще в таком отвратительном месте. Ее самоубийство вызвало бы много вопросов, а мое — нет.
Мама? Я обещала ей, что скоро выясню обстоятельства твоей смерти, и она, конечно, скажет об этом полицейским, хотя они все равно не поверят ей, точнее, моим словам. А через некоторое время мама и сама перестанет верить, так как предпочтет нести бремя вины за мое самоубийство, нежели допустить мысль о том, что старшей дочери пришлось пережить тот же страх, что и младшей. Когда я представила, что мама останется наедине со своим горем, у меня сжалось сердце.
Уильям засунул пустой пузырек в карман моего пальто, а потом сказал, дескать, в протоколе о вскрытии должно быть отмечено, что я проглотила все пилюли разом — так будет правдоподобнее. Я пытаюсь заглушить его голос у себя в голове, однако он упорно прорывается.
— Едва ли полиция решит, что кто-то заставил тебя наесться таблеток против воли, правда?
Уильям приставил нож к моему горлу; в темноте металл холодил кожу.
— На самом деле я совсем не такой. Из-за этого кошмара сам себя не узнаю.
Ожидал, что я его пожалею?
Он поднес ладонь с пилюлями к моему рту. Дома я не приняла ни одной таблетки из пузырька, значит, там оставалось не меньше двенадцати штук. Я читала на ярлыке, что их следует принимать раз в сутки по одной и что увеличивать дозировку опасно. Дюжины таблеток с лихвой хватит, чтобы меня умертвить. Помню, Тодд советовал мне принять снотворное, но я отказывалась, потому что не имела права даже на короткое забытье, как бы ни мечтала о нем. Избегать заслуженной боли, которая не должна была прекращаться ни на секунду, значило бы проявить трусость. Вот о чем я размышляла, когда Уильям запихивал таблетки мне в рот, а я безуспешно пыталась вытолкнуть их языком. Потом он влил мне в рот немного минеральной воды и велел глотать.
Стемнело. Вокруг черным-черно, как в глухом лесу. С уходом людей в парке начинается особая, ночная жизнь. Я вспомнила детскую сказку про плюшевых медвежат, которые по ночам приходили поиграть в парк. «Эй, мишутки, айда кататься с горки!»
— Беатрис?..
Мистер Райт осторожно пытается растормошить меня, чтобы я закончила свой рассказ. Он все еще держит меня за руку, но его лица я уже почти не вижу.
— Мне как-то удалось спрятать пилюли за щеками, и с водой я проглотила лишь одну — максимум две, хотя и понимала, что остальные скоро растворятся в слюне. Я хотела сплюнуть, но Уильям все еще светил фонариком мне в лицо.
— А потом?
— Он вытащил из внутреннего кармана письмо Тесс, адресованное мне, — очевидно, то самое, что она писала на заснеженной скамейке перед самой смертью.
Мой голос прерывается. Слезы капают на траву или, может быть, на рукав мистера Райта — в темноте мне не видно.
— Он направил луч фонарика на письмо, чтобы прочесть его вслух, то есть убрал свет с моего лица. Я воспользовалась шансом: опустила голову к груди и выплюнула таблетки. Они бесшумно упали мне на пальто и затерялись в складках.
Ты знаешь, о чем писала мне, но я слышала не твой голос, а его. Уильям читал мне о твоем отчаянии, страхе, горе. Голосом своего убийцы ты рассказывала о том, как бродила по улицам и паркам, боясь вернуться домой; о том, как, подняв голову к темному зимнему небу, гневно кричала на Бога, в которого перестала верить, и требовала вернуть твоего малыша. О том, что считала себя сумасшедшей. Убийца поведал мне о твоей растерянности — ты не понимала, почему я не приехала, не позвонила, не отвечала на звонки. Да, ты была уверена: моему отсутствию есть веская причина, однако голос, что озвучивал строчки, написанные тобой, разрушил твою веру в меня. И все-таки в конце письма я услышала твой тихий зов: «Сестричка, ты так нужна мне, прямо сейчас, в эту самую минуту. Пожалуйста, Би, прошу тебя».
И тогда, и сейчас при этих словах из моих глаз градом катятся слезы.
Он спрятал письмо обратно в карман — видимо, позже собирался уничтожить. Не знаю, зачем он вообще оставил его, зачем прочел мне. Предполагаю, что Уильям испытывал острое желание с кем-то разделить свою вину — так же как я с мистером Райтом. «Сестричка, ты так нужна мне, прямо сейчас, в эту самую минуту. Пожалуйста, Би, прошу тебя». Он хотел, чтобы я признала себя косвенно виновной в твоей смерти.
— А затем? — спрашивает мистер Райт. Теперь ему приходится настаивать, чтобы я вспоминала дальше, но конец уже близок.
— Он отключил мой мобильный и положил его у двери, чтобы я не дотянулась. Потом вытащил из куртки мой шарфик — наверное, прихватил его из квартиры — и завязал мне рот.
Пока Уильям возился с шарфиком, меня переполняли панические мысли. Возникнув одновременно, они хаотично метались, сталкивались друг с дружкой и, не имея выхода, образовывали заторы и пробки — целое шестиполосное шоссе мыслей. Часть из них можно было выпустить при помощи крика, другие — со слезами, от третьих меня избавили бы объятия. В подавляющем большинстве эти мысли носили примитивный, спонтанный характер. Раньше я не подозревала, что человеческое тело способно посылать столь мощные сигналы, и только теперь поняла, какая жестокая пытка — кляп во рту. И даже не потому, что я не могла позвать на помощь — все равно в обезлюдевшем парке никто не услышал бы мои слабые крики, — а по той причине, что у меня не было возможности издать стон или всхлип, вообще хоть какой-нибудь звук.
— Потом зажужжал пейджер. Уильям перезвонил по мобильному и сказал, что выезжает. Видимо, он не мог не появиться на работе — это вызвало бы подозрения.
Я умолкаю и тяжело дышу.
— Беатрис? — слышится в темноте голос мистера Райта.
— Я испугалась, что его срочно вызвали в больницу, потому что у Каси начались роды.
Пальцы мистера Райта крепкие и сильные. Мне нравится ощущать их твердые костяшки в моей ослабевшей ладони.
— Уильям проверил, хорошо ли держится кляп и надежно ли связаны руки и ноги. Он пообещал вернуться и снять веревки, чтобы все выглядело естественным образом, когда меня найдут. Он не догадывался, что я выплюнула почти все таблетки, однако я понимала: если по возвращении Уильям застанет меня в живых, то зарежет, так же как зарезал Тесс.
— Если застанет в живых?
— Я ведь точно не ориентировалась, сколько пилюль проглотила и сколько успело раствориться в слюне. Возможно, и этой дозы хватило бы, чтобы меня умертвить.
Я изо всех сил пытаюсь сосредоточиться на том, что мистер Райт держит меня за руку.
— Он ушел, а через несколько минут запищал пейджер. Уильям отключил мой мобильник, а про пейджер не знал. Я старалась убедить себя, что Кася написала что-нибудь пустяковое. В конце концов, до родов оставалось еще три недели.
Да, как и у тебя.
Мистер Райт гладит мои пальцы, и от его нежных прикосновений к горлу подкатывает комок.
— А потом? — спрашивает он.
— Уильям забрал с собой фонарик. Я очутилась в непроглядной темноте.
Я осталась одна в полном мраке. Тьма была кромешной, черной как смоль. Чернота пахла гнилью и тлетворным страхом. Она ощупывала мое лицо, проникала в рот, топила меня. Я вспомнила наши с тобой каникулы на Скае: ты выныриваешь из моря, счастливая, раскрасневшаяся, и, отплевываясь, радостно кричишь: «Все в порядке, просто наглоталась соленой воды!» Я сделала вдох, и тьма хлынула в мои легкие.
Она двигалась — отвратительное живое существо, что заполонило собой все помещение и, переваливаясь через порог, медленно расползалось снаружи. Ничто не могло сдержать этот зловещий мрак, никакие границы. Тьма утаскивала меня за собой в мертвую пустоту, наполненную лишь беспредельным страхом, — прочь от света, жизни, любви и надежды.
Я думала о маме — о том, как она в шуршащем пеньюаре подходит к нашим кроваткам и я чувствую запах ее крема, — однако воспоминание, накрепко запертое в детстве, не могло рассеять тьму.
Я жду, когда мистер Райт попросит меня продолжить, но продолжения нет. Мы дошли до финала. Всё.
Я пытаюсь пошевелить руками, однако руки связаны веревкой за спиной. Пальцы правой руки сжимают левую. Интересно, почему роль утешителя взяла на себя именно правая рука — из-за того, что я правша?
Вокруг непроглядный мрак. Я лежу на бетонном полу. Во рту пересохло. Сырость и холод проникли в каждую клеточку моего тела, оно совсем потеряло чувствительность.
Я начинаю писать мысленное письмо тебе, любимой младшей сестренке. Воображаю, будто сейчас вечер воскресенья, самое мирное время. Перед домом столпилась пресса, репортеры жаждут услышать от меня всю историю.
Милая моя Тесс!
Я отдала бы все на свете, лишь бы оказаться рядом с тобой прямо сейчас, в эту минуту, лишь бы держать тебя за руку, смотреть в глаза, слышать твой голос. Разве можно сравнивать чувственные ощущения — работу зрительных нервов и осязательных рецепторов, вибрацию звуковых волн в ухе — с перепиской? Но мы привыкли общаться на бумаге, верно? Еще с того времени, когда меня отправили в частную школу и нам пришлось заменить игры, смех и доверительный шепот письмами друг к другу. Не помню, о чем писала тебе в первом письме; помню только, что сделала из него пазл, дабы оно не попалось на глаза старшей воспитательнице. (Кстати, я угадала правильно: детская любовь к складыванию картинок давно умерла в ее сердце.) Зато я слово в слово помню ответ семилетней сестренки на мою тоску, разрезанную зигзагами. Невидимые чернила из лимонного сока, которыми ты воспользовалась, проступили на бумаге только при свете фонарика. С тех пор доброта навсегда связана для меня с запахом лимона.
Пока я думаю о тебе, говорю с тобой, у меня есть силы дышать.
Прошло уже много времени. Без сомнения, Уильям скоро вернется. Не знаю, какое количество снотворного я проглотила, но тяжкое оцепенение всю ночь высасывало тепло моего тела и ясность рассудка. Допускаю, что я периодически впадала в забытье, хотя точно утверждать не берусь, ведь вокруг тьма. Если это и так, я не прекращала разговаривать с тобой даже во сне, и, видимо, от этого образы в моем воображении приобрели необычайную яркость.
Сейчас сна не осталось ни в одном глазу, все чувства обострились, нервы напряжены до предела. Должно быть, это все адреналин, гормон «борьбы или бегства». Он действует настолько мощно, что способен вновь запустить человеческое сердце после остановки. Вернуть меня в сознание.
Я пробую пошевелиться, однако голова все еще в тяжком дурмане, онемелые руки и ноги налиты тяжестью, а веревки впиваются в кожу. Темнота сгустилась и стала почти твердой — не шелковистой или бархатной, как в сказках, но утыканной шипами страха. Стоит чуть-чуть двинуться, и наткнешься на острые, как лезвия, зубы притаившегося во мраке зла. Совсем рядом, в нескольких сантиметрах от моего лица, что-то шуршит. Мышь? Насекомое? Я утратила способность определять направление источника звука. Щека, прижатая к полу, саднит — кажется, я оцарапала ее о шероховатый выступ в бетоне.
Что, если я бодрствую вовсе не из-за адреналина, а просто пришла в себя? Возможно, я приняла меньше таблеток, чем опасалась, или, наоборот, организм каким-то чудесным образом справился с передозировкой, и я выжила. Впрочем, это не имеет значения. Даже если доза не смертельна, я связана по рукам и ногам, во рту кляп, а Уильям обязательно вернется. Увидев, что я не умерла, он достанет нож.
Стало быть, пока его нет, я должна объясниться. Все произошло именно так, как я тебе рассказала, начиная с телефонного звонка, в котором мама сообщила о твоем исчезновении, и до того момента, как Уильям оставил меня умирать в грязном туалете. Моя история, как и твоя, закончится здесь же и останется недосказанной. У меня не хватает мужества признать близость смерти, а может, я просто слишком сильно люблю жизнь, чтобы тихо отпустить ее. Конец, что я придумала, не назовешь счастливым, но по крайней мере преступник получил по заслугам. Я очень старалась, чтобы окончание истории производило впечатление реального. Я обезопасила будущее для себя, Каси и ее дочурки, пускай хотя бы в фантазиях, и описала все в правдоподобных деталях.
Боюсь, ты ожидала услышать, что в последнюю минуту меня спас детектив Финборо, и все же наверняка уловила легкую «рябь изображения», когда я рассказывала о нашей встрече в «Карлуччо». Увы, это была лишь греза, попытка постелить мягкий коврик на ледяной бетонный пол. Гордиться тут нечем, но я уверена, ты меня поймешь.
Вдобавок думаю, ты уже догадалась, что никакого мистера Райта не существует. Я придумала образ юриста не только для того, чтобы мой рассказ завершился справедливым возмездием — судом и обвинительным приговором. Самое главное, при помощи мистера Райта я сумела изложить события, придерживаясь объективных фактов и правильной хронологии. Я нуждалась в слушателе, который помог бы мне разобраться, как все произошло на самом деле, и одновременно удержал бы от безумия. Не знаю, почему для меня так важно умереть в здравом уме и трезвой памяти, но, поверь, это имеет первостепенное значение. В отсутствие мистера Райта мое письмо к тебе превратилось бы в поток сознания, бурный и неуправляемый, в водовороте которого я бы просто захлебнулась.
Я наделила мистера Райта добротой и бесконечным терпением, а еще сделала вдовцом, понимающим, что такое горечь утраты. Возможно, во мне больше католической веры, нежели я сама предполагала, ведь я превратила выдуманного юриста в своего духовника, но такого, который, даже зная обо мне все до мельчайших подробностей, в неком прекрасном будущем был бы способен меня полюбить.
За эти долгие часы мистер Райт стал более реален, чем окружающая тьма; он не просто игра воображения. Я вылепила почти настоящую личность, человека, с чьим расписанием приходилось считаться. Мистер Райт не всегда поступал так, как мне того хотелось, и порой его образ не совсем отвечал той цели, что я поставила изначально. Я надеялась написать пуантилистскую картину, а вместо этого создала зеркало, в котором впервые увидела свое истинное отражение.
За компанию с мистером Райтом я придумала секретаршу — влюбленную в него матрону с накрашенными ногтями; выдумала нарциссы, кофе-машину, прочие несущественные подробности и сплела из них прочный трос, удерживающий меня от падения в пропасть безумия. Должна же была я за что-то держаться на краю этой пропасти, когда тело перестало подчиняться командам мозга, когда меня трясло от ужаса и рвало.
Если ты обратила внимание, я специально сделала так, чтобы в офисе мистера Райта всегда было много света и тепла.
Опять пищит пейджер. Я бы очень хотела заткнуть уши, но со связанными за спиной руками это невозможно. Он пищал всю ночь, примерно каждые двадцать минут, хотя опять же не знаю, как долго я пребывала в сознании. Мысль о том, что я ничем не могу помочь Касе, невыносимо терзает душу.
Снаружи доносится шелест листьев, поскрипывание ветвей. Никогда не думала, что деревья издают столько шума. А вот шагов пока не слышно.
Почему Уильям не возвращается? Если Кася рожает, все это время он находился рядом с ней, и сейчас тоже. Я просто сойду с ума, если буду думать об этом, поэтому стараюсь убедить себя, что Уильяма вызвали в больницу по другой причине. Он врач и должен постоянно быть на связи. В больнице Святой Анны ежегодно появляется на свет пять тысяч младенцев. Вполне вероятно, он поехал к другой пациентке.
А может быть, детектив Финборо занялся расследованием тех вопросов, которые, как он говорил, возникли у него по поводу твоей смерти? Может, он уже арестовал Уильяма и сейчас едет сюда? Это не просто самый желанный для меня вариант; сержант действительно отличный полицейский и порядочный человек.
Можно еще предположить, что профессор Розен решил поступить должным образом сейчас, в настоящем, и рискнуть славой в грядущих веках. Не побоялся поставить под угрозу свой эксперимент, громкое имя, репутацию ученого и пошел в полицию. Он на самом деле стремится нести людям добро, исцелять болезни; даже его амбиции — слава и богатство — выглядят вполне по-человечески в сравнении с отталкивающей жаждой высшей власти, которая обуяла Уильяма. Профессор не счел за труд прийти на твои похороны, где пообещал выяснить, в чем дело, и выполнил свое обещание, разве что побоялся публично озвучить результаты. Таким образом, я предпочитаю верить, что в глубине души профессор Розен — неплохой человек, хотя и безмерно тщеславный. Буду думать о нем хорошо.
Итак, вполне допускаю, что кто-то из этих двоих запустил механизм, действие которого приведет к поимке Уильяма и моему освобождению. Что это? Не слабое ли эхо полицейской сирены слышится в ночной тишине? Я слышу, как перешептываются листья и скрипят сучья. Звук сирены мне лишь пригрезился.
И все же отчаиваться рано. Я позволю себе последнюю фантазию, последнюю надежду. Представлю, что роды у Каси не начались. Что она, как обычно, вернулась домой и готовится к очередному уроку английского, расширяя свой оптимистический словарный запас. Уильям не знает, что Кася живет со мной, как не знает и о том, что, обязуясь стать внимательной и чуткой, я предусмотрела все до последней мелочи. Кася, безусловно, поймет, что если меня нет дома, я не отвечаю на звонки и не реагирую на сообщения пейджера, значит, со мной что-то случилось. Согласна, мои эгоистичные надежды можно назвать воздушными замками, но я просто обязана сообщить Касе, что ее малышке будет нужна искусственная вентиляция легких. Итак, вообразим, что она отправилась в полицию и потребовала начать мои поиски. Один раз Кася уже заступалась за меня, хоть и знала, что дорого за это заплатит, так что, уверена, перед инспектором Хейнзом она не оробеет.
Опять пищит пейджер. Мои фантазии разбиваются на тысячи острых осколков.
Я слышу пение птиц. На мгновение кажется, что это «рассветный хор» и наступило утро, но вокруг по-прежнему темно. Наверное, птицы что-то перепутали, а скорее всего их трели мне лишь почудились под воздействием снотворного — что-то вроде звона в ушах. Я запомнила последовательность, о которой говорил Эмиас: черные дрозды, потом малиновки, крапивники, за ними зяблики, славки и певчие дрозды. Помню, ты рассказывала, что городские птицы утратили способность слышать пение друг друга, и проводила аналогию со мной и Тоддом. Надеюсь, я не забыла упомянуть об этом в моем письме к тебе. Знаешь, а я ведь изучила вопрос глубже и узнала очень интересный факт: оказывается, ни темнота, ни густая растительность — не помехи для поющей птицы, потому что звук песни способен огибать и преодолевать препятствия и слышен даже на значительном расстоянии.
Я никогда не умела летать так, как ты, сестренка. Моя первая и единственная попытка — по крайней мере я считала свои действия попыткой — закончилась здесь, на бетонном полу. Если ее можно назвать полетом, то я эффектно разбилась при посадке, хотя, как ни странно, меня это не сломало. Я не раздавлена. Напугана до полусмерти, трясусь и стучу зубами от страха, да. Но больше не мучаюсь неуверенностью в себе. Расследуя обстоятельства твоей гибели, я обнаружила перемены в себе самой и словно по волшебству ощутила свободу. Теперь я могу дать волю своей фантазии: Уильяма арестовали, мы с Касей и ее новорожденной дочкой едем в Польшу, и крутой склон, по которому я так долго карабкалась, становится все более пологим, пока не превращается в ровную поверхность… Отпала нужда искать точки опоры, цепляться за выступы, больше не нужны кошки и страховочные тросы, потому что я хожу по твердой земле, бегаю, прыгаю и танцую. Живу полной жизнью. А вершиной горы стала моя… нет, не тоска, а любовь.
Я слышу слабый голос, зовущий меня по имени. Тоненький девичий голосок. Наверное, опять слуховые галлюцинации, порожденные мыслями о тебе.
Знаешь ли ты, что в открытом космосе тоже есть свой «птичий хор»? Высокоскоростные электроны попадают в радиационный пояс Земли и, притягиваясь к нашей планете, превращаются в акустические волны, схожие по звуку с птичьими трелями. Как по-твоему, не их ли поэты семнадцатого века назвали «музыкой сфер»? Тебе ее тоже слышно — там, где ты сейчас?
Откуда-то издалека опять доносится мое имя, совсем слабо, на границе слуха, вместе с пением птиц. Кажется, мрак понемногу бледнеет. А птицы по-прежнему поют, да, уже громче. Раздаются мужские голоса, они тоже зовут меня. По всей вероятности, мне опять все мерещится. Но если нет, я должна отозваться. К несчастью, у меня крепко завязан рот, а кроме того, я все равно не могу издать ни звука, так как старательно сплевывала слюну, опасаясь, что в ней успело раствориться некоторое количество снотворного. Теперь во рту страшная сухость, и я воображаю, что секретарша мистера Райта одну за одной приносит мне бутылки с минеральной водой.
— Беата!
Среди мужских голосов я четко различаю голос Каси. Да, точно, ошибки быть не может. Значит, она не в больнице, и Уильяма вызвали к кому-то другому. От радости и облегчения мне хочется громко смеяться, но с завязанным ртом это невозможно. Я чувствую, как по замерзшим щекам струятся горячие слезы.
Уильям был прав: полиция охотно поверит в мои суицидальные намерения. Кася, наверное, тоже испугалась, что я могу навредить себе, и поэтому незамедлительно сообщила о моем исчезновении. Уильям предсказал и другое: полицейские выйдут на это место, предположив, что именно здесь я предпочту расстаться с жизнью. Или же их привело сюда коротенькое сообщение, которое я отправила Касе, «odcisk palca»?
Я уже могу различить на бетонном полу отдельные пятна. Вокруг действительно становится светлее. Должно быть, утро.
— Беата! — Голос гораздо ближе.
Снова пищит пейджер. Мне не нужно отвечать, ведь этот маленький прибор играет роль радиомаяка, который приведет спасителей ко мне. Значит, Кася всю ночь вызывала меня не потому, что ей требовалась помощь, а потому, что волновалась за меня. Вот и последний кусочек зеркального отражения. Ты уже, конечно, поняла, что все это время она заботилась обо мне, а не я о ней. Той ночью она позвонила в дверь твоей квартиры, так как нуждалась в убежище, но осталась рядом, чтобы утешить меня в моей тоске и одиночестве. Это ее руки, покрытые кровоподтеками, обнимали меня тогда, и именно в ту ночь я впервые смогла заснуть после твоей смерти. Вопреки моему желанию Кася заставляла меня танцевать и улыбаться, побуждала хотя бы на краткие мгновения испытывать иные чувства помимо скорби и гнева.
Так же как ты. Всякий раз, вдыхая запах лимона, я вспоминала о том, что ты рядом со мной. На похоронах Лео я держала тебя за руку, но и ты в ответ крепко сжимала мои пальцы. Ты поддержала меня этой кошмарной ночью, Тесс, помогла дождаться утра. Я разговаривала с тобой, думала про тебя. Если я еще дышу, то только благодаря тебе.
Я отчетливо слышу приближающийся вой сирен. Ты права, это звуки цивилизованного общества, которое заботится о своих гражданах.
Я жду, пока придет помощь, и размышляю о том, что, потеряв тебя, лишилась самого дорогого в жизни, однако эта утрата не сделала меня слабее. Ты — моя сестра, и я ощущаю это всеми фибрами души. Нашу связь можно даже увидеть: двойная спираль ДНК в каждой клеточке моего тела визуально подтверждает, что мы сестры. Однако помимо этого нас объединяют другие узы, невидимые даже под самым сильным электронным микроскопом. Нас связала и смерть Лео, и уход отца, и тетрадка с домашним заданием, потерявшаяся перед самым выходом в школу; каникулы на острове Скай и рождественские традиции (без десяти пять утра разрешается ощупать чулок с подарками, в десять минут шестого — открыть самую верхнюю коробку, а раньше и уж тем более до полуночи — ни-ни, даже подглядывать нельзя). Мы связаны сотнями тысяч воспоминаний, которые впечатываются в нас и становятся нашей неотъемлемой частью. Внутри меня живет девочка с волосами цвета карамели; она гоняет на велосипеде, хоронит кролика, пишет картины — настоящие взрывы света и цвета, любит всех своих друзей, звонит мне посреди ночи, поддразнивает, учит полной грудью ощущать ценность настоящего момента, радоваться жизни. Ты — моя сестра, и потому все это часть меня. Я бы отдала что угодно, лишь бы вернуть время на два месяца назад и поменяться с тобой местами. Лучше бы я сейчас шла по парку и окликала тебя, Тесс.
Тебе, наверное, было гораздо холоднее, чем мне, а снежный покров приглушал шум деревьев, да? Было холодно и тихо? Согревало ли тебя хоть немного мое пальто? Остается лишь надеяться, что, умирая, ты чувствовала мою любовь.
Снаружи раздаются чьи-то шаги. Дверь открывается.
Я провела долгие часы в кошмарном мраке, использовала бессчетное множество слов, и вот все закончилось. Так просто.
Прости, сестричка. Я люблю тебя. И буду вечно любить.
Би.
Не уверена, что кто-то читает благодарности, и все же надеюсь на это, ведь без тех, о ком я скажу ниже, эта книга не увидела бы свет.
Прежде всего хочу поблагодарить моего чудесного редактора, Эмму Бесвезерик, за поддержку, творческий подход и смелость не просто иметь собственные убеждения, но и превращать людей в единомышленников. Кроме того, мне фантастически повезло с агентом: Фелисити Блант из «Кертис Браун» невероятно умна, инициативна и, представьте, всегда отвечает на звонки!
Выражаю благодарность Кейт Купер и Нику Марстону из агентства «Кертис Браун», а также всем сотрудникам издательств «Пьяткус» и «Литтл, Браун».
Огромное спасибо Мишель Мэттьюз, Келли Мартин, Сандре Леонард, Трикси Роулинсон, Элисон Клементс, Аманде Джоббинс и Ливии Джиуджиолли, оказавшим мне неоценимую помощь.
Космо и Джо, спасибо вам за понимание и за то, что гордитесь мной.
Наконец, выражаю самую искреннюю и горячую благодарность моей младшей сестре, Торе Орд-Полетт, — той, что вдохновила меня на написание этого романа и неустанно поддерживала от начала до конца.
1
Пер. М. Канн.
2
Пер. А. Кузнецова.
3
Пер. И. Бродского.
4
Аббревиатура L.O.L. (англ.) может расшифровываться как «laughing out loud» — «умираю со смеху» или «lots of love» — «с любовью», «море любви».
5
Строчки из стихотворения Кристины Россетти (1830–1894), английской поэтессы, сестры живописца и поэта Данте Габриеля Россетти.
6
У. Шекспир, «Король Лир», пер. Б. Пастернака.
7
«Алая буква» — роман американского писателя Натаниеля Готорна. Главную героиню, родившую внебрачного ребенка, в знак позора заставляют вышить на одежде алую букву «А».
8
Р. Киплинг, «Баллада о женском первоначале», пер. Е. Фельдмана.
9
У.Х. Оден, пер. Д. Кузьмина.
10
У. Шекспир, «Король Лир», пер. Б. Пастернака.
11
Селлафилд — атомный комплекс, открытый 17 октября 1956 г. в Великобритании. Через год на реакторе по производству плутония произошел пожар, который привел к радиоактивному выбросу.
12
Внутриутробно (лат.).