Книга: Это мое

Это мое
Я помню тот Ванинский порт
И вид парохода угрюмый,
Как шли мы по трапу на борт
В холодные мрачные трюмы.
Я подсчитал, что в жизни я, пожалуй, голодал примерно одиннадцать лет подряд.
Сейчас их остались единицы, тех, кто на собственной шкуре прочувствовал мудрость вождя всех народов, кто пережил ночные допросы, этапы, кто стоял на ледяном ветру на разводах, кто не умер от истощения на лесоповалах великих строек. Их были сотни тысяч, миллионы граждан, ставших вдруг шпионами всех разведок, троцкистами, правыми и левыми уклонистами, диверсантами, вредителями и вообще врагами народа, как будто они сами не есть народ. Магадан, Воркута, Дальлаг, Экибастуз, Беломоро-Балтийск — это горные вершины, это миллионники, крупнейшие центры по превращению людей в лагерную пыль. Были и сотни других, не столь знаменитых и даже совсем секретных, но не менее эффективных и зловещих. Ни одна труба не дымила без участия зэков, ни один канал, ни один завод, ни один котлован, ни одна шпала не обходились без их рабского труда. Представьте себе, что в гигантском бюджете Министерства внутренних дел отдельной строкой были выделены расходы на производство сотен километров колючей проволоки — «Специнвентаря для охраны объектов внутреннего подчинения», и сотни цехов по всей стране в три смены гнали эту продукцию, а спрос каждый год превышал технологические возможности. «От Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей… Всюду жизнь привольно и широко, точно Волга полная, течет, молодым везде у нас дорога…»
Вот и выпала третьего ноября 1948 года эта дорога семнадцатилетнему ленинградскому мальчику Жене Ухналеву. В тот вечер он возвращался домой к маме и бабушке на трамвае с Выборгской стороны от родственницы. Но Аннушка уже пролила масло, уже был написан, отправлен (куда следует) и прочитан (кем надо) донос. Машина заработала. Последовало распоряжение, появилась папка, были выделены люди, знаменитая 58-я статья готовилась проглотить еще одну человеческую жизнь. В общем, возникло «дело». На углу улицы Марата и Кузнечного переулка Женя вышел из трамвая. До дома рукой подать, и тут он заметил военный патруль. Патрули в городе тогда были делом обычным, но этот ждал именно его. Подошли, попросили представиться, офицер удовлетворенно щелкнул пальцем, и в ту же минуту сдвинулась с места припаркованная неподалеку «эмка». В ней уже сидели настоящие чекисты. В этот вечер Женя Ухналев домой не попал, а оказался в Большом доме, во внутренней тюрьме НКВД, куда его завезли с улицы Каляева (ныне Захарьевской). Железные ворота открылись и закрылись, прежняя жизнь закончилась.
Можно только представить, что пережила в ту ночь его мать. И таких матерей, отцов, братьев и сестер по всей стране было не перечесть. Очень скоро Женя узнал, что занимался антисоветской пропагандой, пытался готовить теракт, планировал совершить диверсии, хранил оружие — и не один, а в сговоре с целой бандой преступников. За такое полагалась высшая мера! Но ему повезло: в связи с отменой смертной казни (нужны были руки, страна была обескровлена) он получил 25 (!) лет лагерей. Тоже, конечно, смерть, но растянутая на годы.
И вот первый этап. Не «этапы большого пути», а сталинские лагерные этапы с конвоем и беснующимися овчарками, с матом и ночной погрузкой в товарняк, с дикой теснотой и вшами, с оправкой в туалетах, от которых может вырвать уже на подходе. И так, медленно, по неделям, но неуклонно на север, в глубь страны, в прекрасную Воркуту.
Но жизнь, конечно, богаче наших представлений о ней. Была она и там, в лагерях и на зонах. И везение, и счастливые дни тоже бывали, как у Ивана Денисовича, например. Спасителем юного зэка оказался земляк из Ленинграда, как говорил сам Ухналев, «громадного роста дядька, начальник механических мастерских 6-й шахты Иван Шпак, тоже заключенный, но с возможностями». В забой Ухналева уже не посылали, и началась его лагерная «карьера» на поверхности. Дневальный в клубе, ассенизатор, кочегар в котельной, художник, чертежник. Потом тяжелейший плеврит, почти чахотка и лагерная больница. Его скромные, маленькие, на пожелтевшей бумаге рисунки того времени сохранились и очень хороши. На них деревянные технические строения с наклонными галереями, как над любой шахтой, вполне обычные, нестрашные, но почему они вызывают такую тоску? И смотреть тяжело, и не смотреть невозможно. Ничего нет, а время читается мгновенно. Страшное время.
В 1953-м умер Отец Народов. В 1954-м расстреляли Берию и еще полсотни его генералов. В воздухе запахло другими порядками, но миллионы продолжали сидеть. И опять повезло. Женя Ухналев вышел одним из первых. Под пересмотр попали дела несовершеннолетних, отбывших больше половины срока (до этого срок скостили до десяти лет). Прошло шесть лет, и он вернулся живым в Ленинград к маме, а не на сто первый километр. Так что по звериным меркам этой страны ничего страшного не произошло. Шесть лет украденной жизни — ерунда, пустяк. Дальше была другая, долгая жизнь, и она, слава Богу, продолжается. О ней спокойно, уже исчезающим человеческим языком, с точными деталями, от которых появляется почти стереоскопическое изображение, рассказывают он сам и его работы.
Мы живем в другой стране. Даже тысячелетие и то новое. Но кажется, что снова становится душновато. Чем-то потянуло почти забытым, нашим, советским, неискоренимым. Я вот не могу отделаться от мысли, что недавно принятый закон «о государственной измене» что-то мне очень напоминает… Но я, наверное, не прав, надо будет у Ухналева спросить, он из последних настоящих знатоков. Жизнь научила.
Анатолий Белкин юн год, Санкт-Петербург
Я родился в Ленинграде 4 сентября очень далекого 1931 года…
Раньше были такие времена, когда мне было как-то стыдно говорить о возрасте, потому что я был моложе всех и все снисходительно улыбались: «Ха-ха». А теперь, получается, все наоборот…
Короче говоря, 1931 год. Родился я на Кузнечном, в доме, который и сейчас еще существует, напротив рынка, — красивый особнячок в стиле ампир, вот там как раз и был роддом. И меня, естественно, очень быстро перенесли на улицу Марата, дом 31, где мы жили все довоенное время, да и после войны тоже. Это была дедовская квартира, и дед еще был жив, и бабушка. Моя любимая бабушка вообще прожила очень-очень долго, и всю жизнь она была рядом со мной. Ее звали Мария Ерофеевна. А дед, Алексей Васильевич, умер перед самой войной, в 1939 году. Я очень хорошо помню деда. Он всю жизнь был бухгалтером, много работал дома. До революции не было главных бухгалтеров, старших и так далее, так что он ни много ни мало был бухгалтером губернской земской управы, довольно приличная чиновничья должность. Губернская земская управа помещалась в том доме, где сейчас находится 37-я поликлиника, на улице, которая сейчас называется улицей Правды, а раньше была Кабинетской.
Дед с бабушкой сначала жили в селе Медведь, это было такое большое село на Псковщине, оно и сейчас есть. Мой сын Андрюшка некоторое время назад заезжал туда и рассказывал, что там многое сохранилось. Конечно, многое изменилось, потому что было разрушено войной и временем, но облик сохранился почти без изменений. В этом селе раньше, до революции, жило очень много евреев, такое было своеобразное местечко, где жила бабушка. И вот дед с ней однажды познакомился. Там была настоящая драма: он уже был женат, у него уже была дочь, он их бросил, сошелся с бабушкой, был практически проклят своими родителями, потому что они были ортодоксальные православные, а бабушка, естественно, была отвергнута своей еврейской родней.
В 1911 году, когда начались все эти семейные перипетии, они приехали в Петербург и поселились на Боровой улице. Но, к сожалению, мы все немножко идиоты и не обращаем внимания, не запоминаем, даже не интересуемся такими вот деталями. До недавних пор можно было многое выяснить, просто задав бабушке вопрос, но я его не задал. Так и не знаю, где именно на Боровой они жили. Зато я знаю одну забавную деталь. Бабушка с дедушкой сдавали одну из комнат своей квартиры на Боровой некоему студенту по фамилии Скрябин и по имени Вячеслав. Он жил в этой комнате со своей сестрой… Я не могу ручаться за абсолютную точность, но вспоминаю именно так. Точно знаю только, что он играл много на скрипке, и моя мама, будучи еще совсем маленькой девочкой, приходила, садилась в открытых дверях, на пороге, и слушала. А потом этот студент съехал, сменил фамилию и через пару десятилетий стал главой советского правительства Вячеславом Михайловичем Молотовым. А еще раньше мои бабушка с дедушкой переехали на Марата, 31.
Могу сказать, что дед никогда не любил Советскую власть, но не был ее врагом, он просто ее не воспринимал и не скрывал этого. Бабушка была мудрее всех — она молчала, когда было нужно. Но она тоже не принимала большевиков, потому что прекрасно помнила старые времена. А мама была а-ля коммунистка. Она была из тех натур… такая отрыжка старых времен. Очень доверчивая, наивная. Если напечатано — значит, это истина.
Довольно сложно вспоминать свое детство, особенно хронологически, когда тебе за восемьдесят. Я почти ничего не помню, даже зрительно… Я был болезненным ребенком, к тому же время было очень тяжелое, голодное. Помню, что до войны было голодно, да и после всегда было довольно голодно. Однажды я очень тяжело заболел, и меня отнесли к очень известному по тем временам доктору Гржебовскому. Мне рассказывали, как меня положили на стол, развернули, и доктор, не дотрагиваясь, брезгливо осмотрел меня и сказал: «Кормите овсянкой». И, судя по всему, это были верные меры.
Меня начали кормить овсянкой. Для того чтобы ее достать, из дома приходилось выносить очень многое и нести в Торгсин. Очевидно, благодаря должностям, которые занимал дед, в доме что-то было. У нас была средняя семья, но по-хорошему средняя, без всяких пролетарских заморочек, так что было что выносить. И я выжил.
Одно из первых моих детских воспоминаний относится к 1934 году, мне тогда было три. Я зрительно помню, что отец нес меня на руках через Аничков мост, как всегда, вокруг была серо-черная толпа. И со стороны Невы на фоне серого неба вдруг стали видны красные всполохи — прожектора. Я спросил — папа, что это? Он сказал — это Кирова убили. Или, например, в ноябре 1937 года мы шли с отцом через Дворцовую площадь, было так же серо и холодно, в этом городе всегда холодно. На здании Главного штаба висели большие, в полтора этажа, портреты. Я спросил — кто это? Отец ответил — это товарищ Ежов.
Помню, мне было года четыре, и меня повели фотографироваться. На Невском проспекте, где сейчас находится фешенебельный «Невский Палас». А раньше не было никаких офисов, в каждом окне, в каждом полуокне жили люди, и в подвалах, и на чердаках. Так вот, в том доме справа были вход и лестница на второй этаж, где располагалась «Фотография». Сейчас этой двери уже нет. И меня привели туда фотографироваться. Родители о чем-то договаривались с фотографом, потом хватились — а меня нет! Куда делся? Открыли дверь и видят: по этой длинной лестнице, которая идет между первым и вторым этажом одним пролетом, я на четвереньках, попкой вперед спускаюсь, сбегаю, весь в слезах. Так не хотел фотографироваться. Но меня вернули, конечно, и сфотографировали. Стою, какой-то совочек держу в руке.
А одно из самых ранних разочарований в моей жизни было таким. Когда-то на Стремянной был дом, в котором располагалась международная телефонная станция, единственная в городе. А на первом этаже была булочная. Когда бабушка ходила по магазинам, она всегда брала меня с собой — гулять. И мы почему-то всегда заходили в эту булочную, где бабушка покупала мне меренги. И еще мы там покупали хлеб — или кирпичик, или круглый, от которого бабушка всегда отщипывала вкуснейшую хрустящую корочку и отдавала мне. И вот в один прекрасный день она оторвала мне эту корку, и я почувствовал, что вкус не тот — зачем-то они там изменили рецептуру. Глупость, конечно, но это было одним из моих главных детских разочарований.
В 1937 году, когда мне исполнилось шесть, мама была мобилизована, и ее отправили в штаб Республиканской армии Испании. Мама к этому времени окончила множество всяческих учебных заведений — и музыкальное, и Академию художеств, которая называлась ВХУТЕИН (Высший художественно-технический институт), — и успела поработать по специальности, то есть художницей, на фабрике Урицкого, даже принимала участие в разработке какого-то рисунка для пачки сигарет, кажется, для «Казбека». Но в результате взяли не ее рисунок, а Бенуа — тот самый черный всадник на фоне горы. С Бенуа было сложно соперничать — авторитет, профессионал.
Мама, кроме всего прочего, окончила курсы иностранных языков в институте имени Герцена. И ее вместе с еще одиннадцатью знающими испанский язык девушками послали в Испанию. Маме тогда было 30 лет. И вот примерно с этого момента я себя более или менее помню. Я помню, как мы с бабушкой провожали маму на Московском вокзале — она отправлялась через Москву. Я даже помню погоду в тот день. Для меня вообще это очень важно, всю жизнь, всегда я запоминал не только зрительные образы, но и погоду. Был, как сейчас помню, какой-то сизый, морозный вечерний полусумрак. Из-за этого сизого мороза у меня осталось ощущение, что на платформе мы находились одни, хотя, конечно, этого не могло быть. Вообще в те времена события типа отъезда моей мамы воспринимались со знаком «наоборот» — это скрывалось, причем скрывалось от всех. И я даже не уверен, что сам знал об Испании, — во всяком случае, я этого не помню. Сначала я знал, что мама поехала в Москву, и на вокзале мы провожали ее как раз в Москву. Думаю, что про Испанию я узнал где-то через год и совершенно никак не отреагировал на эту новость — ну и что? Я был еще слишком маленький, и мы тогда, если говорить о детях, были другими — более зелеными, мы были травой. А взрослые стремились о таких вещах разговаривать очень сдержанно и только в кругу семьи. Фоном жизни тогда был страх, вернее, не страх, а дисциплина мышления. Зато я помню, что мама приехала, когда я пошел в первый класс — а мы тогда ходили в школу с восьми, а не с семи лет, — и на мне появились свитера «оттуда». Что-то удивительное, невиданное, невообразимое! И учительница Марья Ивановна, спросив, откуда у меня такой свитер, и услышав ответ, что его мне привезла мама, с полусмехом сказала: «Ой, я тоже такой хочу».
У меня остались странные воспоминания о детстве и о Ленинграде того времени. У меня осталось ощущение, что город в те годы как бы делился на две части. Вот нормальный город, где жили и работали нормальные люди. И другой город, наличие которого всеми ощущалось на подсознательном уровне. Он начинался от Лиговки, где жила всякая чернь. Сейчас этого разделения нет, сейчас все перемешалось, влилось одно в другое. Сейчас многие из тех, которые, по логике вещей, должны бы быть приличными, наполовину стали чернью. Чернь и нищие на улице сейчас одеты приличнее средних, обычных людей. А тогда все было иначе…
Мы жили в коммуналке, отдельных квартир тогда были единицы. Те, кто жил в отдельных квартирах, по должности были как бы кандидатами на расстрел. То есть у деда с бабушкой имелась небольшая старая трехкомнатная квартира с кухней и коридором, которую они первоначально наняли у домовладельца, но потом, после революции, когда началась вся эта чехарда с подселениями, квартира отошла им. И так получилось, что наших комнат в ней осталось только две, зато большие, 24 и 26 метров. Была еще одна, 12-метровая, мамина, и туда стали все время кого-то подселять. Помню, в ней жил какой-то чекист, один, без семьи. Потом пропал куда-то. Потом там жила какая-то Евгения Григорьевна. Такая невысокая, очень немолодая женщина, не помню, кем она работала. Я ее по-детски звал Виготка. Кажется, она умерла во время блокады. В общем, наша квартира была не совсем коммунальной, но там все время кто-то жил, кроме нас. При этом мы, словно по инерции, оставались ее хозяевами. И еще я помню, что бабушка никогда не работала, а всегда занималась домом и была абсолютной хозяйкой кухни.
Еще мы снимали дачу в Прибытково, но про нашу дачную жизнь я совсем ничего не помню.
Зато я помню двор. Я очень много времени проводил во дворе. Тогда никто не боялся за своих чад — во дворе все бегали, целыми днями там пропадали, пока из окна, из форточки не позовут, например, ужинать. Двор был спокойный, а самой популярной игрой была, естественно, игра в войну. Все всегда жили в каком-то ожидании войны, ведь со всех сторон наступал империализм.
У нас во дворе были два брата, прирожденные уголовники. Они или все время сидели, или к ним приходила милиция. С самого раннего детства и дальше, по мере их взросления. Нас они не обижали, мы вообще их не интересовали, у них были какие-то свои дела. Но вообще уголовники были в каждом дворе, обязательно. И при этом парадоксальным образом было спокойно. Своих не трогали.
Наверное, стоит сказать несколько слов о моем отце. Это был очень странный человек… Я не очень люблю о нем вспоминать. Насколько все вокруг говорили, он был не лишен каких-то конструкторских талантов. Он был инженер, но инженер, конечно, не в старом понимании, а уже в советском, такой рабфаковец. Он был сельского происхождения, страшно закомплексованный. Он часто говорил о том, его жена выше его, красивее, талантливее и так далее, все время обращал на это внимание.
Однажды, когда мама уже была в Испании, он увез меня в Смоленск. У Даниила Гранина в книге «Зубр» о генетике Николае Тимофееве-Ресовском есть описание этих мест, и оно слово в слово совпадает с моими воспоминаниями. Мы приехали в деревню, которая когда-то была имением тех самых Ресовских. Я помню речушку на некотором расстоянии от деревни, парк со школой, которая когда-то была дворянским домом. Мы жили в небольшой пристройке, а рядом был дом родителей отца, но я их не помню, даже зрительно. Помню, как отец стрелял грачей и мы их потом ели, это было очень распространенное лакомство. Время-то было голодное.
Еще я помню, как мы должны были лететь в Анапу, но не полетели. Отцу, видимо, по работе полагались какие-то льготы, но нужно было доплатить, на что он сказал, что денег не кует. Это было очень типичным его свойством. И, в общем, мы никуда не полетели.
А потом, в 1939-м, вернулась мама, и они с отцом развелись, потому что он, конечно, был такой мелкий пакостник. И после этого нужно было как-то менять жилищные условия. Одного из бабушкиных братьев, Кивушку, поселили у нас. Разделили кухню, сделали еще одну крошечную комнатенку с окном, метров десять, и его там поселили. Он был с женой, и жена его была странным инертным существом, ее звали Дарья Семеновна, я называл ее Писенна. Она была из той породы людей, которые ничего не умеют, ничего не могут, они всегда больны. И она тоже всегда была больна… А отцу отдали комнату, в которой до того жил этот брат, где-то на Выборгской стороне, и я не знаю, где именно. В то время я его не навещал. Да и позднее я к нему приезжал только за алиментами. Он к тому времени переехал на Гороховую, и я к нему приезжал два раза в месяц.
Мы стали жить большой семьей. Бабушкин брат прожил долго, а Писенна умерла во время блокады.
Кивушка, который у нас жил, был странный, у него руки росли из задницы, он ничего не мог, кроме своего закройного, лампочку не мог вкрутить. Инертный был, как и его жена. Но уж свое закройное дело знал — будь здоров! А Гаврюшенька — это была ртуть. Еще во времена НЭПа он сразу завел дело, магазин в Гостином дворе — «Ярославское полотно». Он был безумно предприимчивый делец. Кроме этого, он еще и постоянно влезал в разные толковые авантюры. После НЭПа он, конечно, сидел в Большом доме. Тогда чекисты из всех выпаривали золото. Помню одну Гаврюшину реплику, уже после его освобождения: «Ну что это за хлеб? Вот когда я сидел там, вот это был хлеб. Не хлеб, а пряник!» Очевидно, их там неплохо кормили, чтобы сохранить им жизнь и выпарить как можно больше золота. И, думаю, выпарили, потому что у Гаврюшеньки явно что-то было. А в Большом доме ведь неважно, стойкий ты или нет, — все равно выпарят… Гаврюша вообще был удивительный человек. Однажды, через много лет после войны, сидели перед телевизором. И Гаврюша, Гавриил Ерофеевич, говорит моей маме: «Валечка, не пойму, они по-итальянски или по-испански?» Я ему: «Много ты, Гаврюша, понимаешь!» И тогда он повернулся и начал говорить — сначала по-итальянски, потом по-испански.
Он долго жил в Париже, у него был парижский диплом. И он был очень предприимчивым человеком. Уже когда Хрущев проводил какие-то очередные реформы и заморозил облигации, все орали, шумели, бурлили на своих кухнях, что будут этими облигациями оклеивать стены в сортирах. И может быть, даже оклеивали. А Гаврюшенька спокойно ходил по улицам, останавливался у каждого пивного ларька, которых тогда было много и к которым всегда стояли очереди, и по рублю скупал эти облигации. Их у него скопился, наверное, кубометр. И он дожил до тех времен, когда начали выплачивать. Интересный был человек. Его внучка, поэтесса Светлана Розенфельд, — моя троюродная сестра, в семье которой мы жили в эвакуации.
В 1939 году я пошел в школу в Коломенском переулке. Здание сохранилось и поныне, только теперь это не школа. Там есть большой сквер, в глубине выстроена музыкальная школа, а за ней — трех— или четырехэтажное здание силикатного кирпича, вот в нем как раз и располагалась школа. В те времена в школу начинали ходить не с семи, а с восьми лет, и я туда ходил 1939-й и 1940-й годы. Меня отводила и встречала та самая Писенна — кажется, это было единственным, что она была способна делать.
К тому времени я уже рисовал, и рисовал, насколько я теперь разумом понимаю, весьма неплохо. То есть это был не детский уровень, не уровень нынешних выставок детских рисунков. На какой бы выставке детского рисунка я сейчас ни был, где бы я их ни видел — это какая-то профанация, какое-то безумие! Я ни разу не видел ни одного талантливого штриха, это поразительно! Казалось бы, их сейчас миллионы, и они все рисуют и выставляются, должен быть хоть один какой-то рисунок или акварелька, в которой бы что-то я увидел! Но нет. То есть мне иногда кажется, что нужно вообще законодательно запретить детям рисовать и выставляться.
Но я отвлекся. В общем, какими-то судьбами я попал на курсы рисования. Шел 1941-й год, полгода до войны. Бабушка водила к профессору Эйснеру, это было на Невском проспекте. Есть дом, где сейчас кинотеатр «Художественный», а в следующем доме в сторону Адмиралтейства наверху был эркер. В нем располагалась какая-то громадная трех— или четырехоконная комната, гигантская, забитая старой мебелью, драпировками, предметами прикладного искусства — тем, что сейчас назвали бы хламом и вынесли бы на помойку во дворе. Профессор был немного сгорбленным одиноким старичком, как мне тогда казалось, да он, очевидно, старичком и был. И он мне давал уроки. С тех времен у меня даже остался альбом рисунков. Мне кажется, именно тогда я начал совершенствоваться в искусстве рисования.
А потом, 23 июня 1941 года, мы пришли к нему, а он открыл нам дверь и сказал: «Как вам это нравится?» Я его слова на всю жизнь запомнил.
После возвращения мама стала работать в «Интуристе», и ее назначили директором испанского детского дома в Пушкине, под Ленинградом. В то время из Испании вывозили детей, оставшихся без родителей, так вот, именно эти дети и жили в том детском доме. Он расположился на Колпинской улице, теперь она зовется Пушкинской. А Пушкин тогда назывался Детским селом, называть его по-старому, Царским селом, было нельзя. Рядом была маленькая служебная постройка для сотрудников, и мы в течение нескольких лет проводили там довольно много времени.
Сначала мы жили в том домике на Колпинской, он даже выстоял в войну, и я, приехав туда в конце 1940-х, видел его. Сейчас-то его уже нет, остался пустырек, трава зеленая. А потом, в 1941-м, мы жили уже на территории детского дома. Я помню, что все время была прекрасная солнечная погода и мы много общались с испанскими детьми на совершенно непонятном языке. Мы выучивали какие-то их словечки, они — какие-то наши, так и общались. Но они все были старше нашей детской компании, так что им было не очень интересно с нами. Но никто не запрещал — общайтесь сколько хотите.
Там были и мальчишки, и девчонки, и они были другими, потому что были без родителей, потому что пережили войну. А война очень взрослит, меняет человека. Помню такую деталь. Белая летняя ночь, я сплю. А уже шла война, но самое начало этой войны в Ленинграде никак не ощущалось. Только карточки появились, и то не сразу. Так что была просто теплая белая ночь, и я вдруг проснулся, оттого что в нашей комнате очень много народу, этих самых испанских детишек. Они прибежали к моей маме, потому что слышалась канонада, приближались немцы. А испанские дети знали, что такое канонада. А мы еще нет.
Еще помню один случай. Когда мы жили в Пушкине на Колпинской, рядом с нами была булочная с полуподвалом. Забавный такой домик с фронтоном. Однажды мама послала меня за каким-то батоном. Этого батона не оказалось, а я был еще настолько мал, что мне кассирша никак не могла объяснить, что она мне выбьет чек на другой, на копейку дороже. Я выскочил из этой булочной ужасно расстроенный, выбросил чек на газон, прибежал домой и говорю — мне ничего не дали. Бабушка говорит: «Как это так не дали?» Пошла со мной обратно. В то время всегда и везде были очереди, много народу. Нельзя было куда-либо прийти и просто взять то, что надо. Мне кажется, это было как-то связано с человеческой психикой. Народ-то вообще жуткий был всегда… Короче говоря, мы пришли, бабушка стала разбираться, что вот, мол, мальчика обидели, деньги взяли, не дали чек. Продавщица говорит: «Да как же это? Вот, дали». Я в слезах. «Тебе же дали чек!» — говорит бабушка. «Да, дали». — «Куда ты его дел?» — «Я его бросил на газон…» Перевел бабушку через дорогу и показал — вот, чек лежит. Такое серьезное детское переживание.
Еще я очень отчетливо помню момент объявления войны. В тот день мы как раз собирались уезжать в Детское село. За мамой тогда ухаживал директор Кировского завода Николай Дмитриевич Пузырев, чудесный дядька. Раньше он был мужем маминой подруги, с которой она была в Испании, но они уже разошлись, и эта подруга, что называется, как бы отдала своего мужа маме. Этот Николай Дмитриевич должен был прислать ЗИС-101. Конечно, все мальчишки во дворе знали от меня, что за нами приедет такая машина. Еще бы, такое событие! Тогда не было паскудной зависти, как теперь. Просто событие, приключение. У нашего двора на Марата до сих пор у ворот есть две приворотные тумбы, только в моем детстве они были выше — или земля тогда была ниже. Стоял прекрасный солнечный день — редчайший случай в этом городе. Я сидел верхом на левой чугунной тумбе, ногами не доставал до земли. От Кузнечного подошла мама и сказала, что мы сегодня никуда не поедем, потому что началась война. Очень плохо, подумал я, что мы не поедем на дачу, но зато так интересно. Рядом с нашим домом был двухэтажный дом Ольги Пушкиной, где умерла Арина Родионовна. На нем висели фанерные квадратные громкоговорители, вокруг которых толпился народ. Очевидно, все они слушали об объявлении войны. Но это было это не в четыре утра, а где-то около одиннадцати или двенадцати дня, насколько я помню. А потом я побежал во двор, и мы сразу начали играть в войну.
Когда я сообщил всем во дворе новости, мальчишки заликовали: «А! Война! Ура-а-а!» Как ни странно, детская реакция была такой. Взрослые тоже восприняли новость очень спокойно. Потому что все были уверены — война не продлится долго и мы скоро победим. Никто не сомневался! Естественно, мы будем воевать на чужой территории, а нашей страны это даже не коснется. И у нас в семье тоже никаких других разговоров не было ни в начале войны, ни до нее. В то время было очень распространено чтение газет и журналов, так вот, в одном из журналов — кажется, это был «СССР на стройке» — помню огромную фотографию, на разворот, олицетворяющую дружбу СССР и Германии: Молотов и Риббентроп, оба в сепии.
Сначала война действительно вообще никак не ощущалась. Потом, через какое-то время, ввели карточки. Помню, 8 сентября мы с мамой по какой-то надобности оказались на углу Марата и Невского. Я бросил взгляд в сторону Московского вокзала и увидел на фоне голубого неба громадный неподвижный белый купол, похожий на кочан цветной капусты. Оказалось, немцы разбомбили Бадаевские склады, и это был дым, но почему-то не черный, а белый. Теперь мы знаем, что на складах был недельный запас растительного масла и сахара и склады эти занимали на карте очень маленькое место, просто, очевидно, происшествием благополучно воспользовались городские власти.
Мы начали получать карточки. И создавалось ощущение, что они не нужны, потому что выкупать приходилось больше, чем было необходимо. Я помню, как бабушка пришла из булочной и принесла хлеб, булку. Она отоварила карточки, а я думал — зачем нам столько? Мы не использовали и четверти того, что получали.
А дальше становилось все хуже и хуже, хуже и хуже. Все холодней погода, все мрачней. Все более голодное время…
Хотя нам, вообще говоря, эвакуироваться не надо было. Оба бабушкиных брата — и Кивушка, который у нас жил, и второй, Гаврюшенька, — были закройщики. Закройщики всегда нужны, при любом голоде, при любых королях и начальствах. Они всегда нейтральные, их никто ни за что не преследует. И, как всякий закройщик, а они были очень хорошими закройщиками, бабушкины братья в то время шили не для всех. Они шили военную форму. А многие офицерики, которые более-менее нормально снабжались, были пижонами. Им надо было подгонять форму, и, главное, им надо было шить форму. И они, естественно, расплачивались хлебом, это была единственная валюта. Интересная деталь: если уговор был на полбуханки, то эту буханку резали не поперек, а вдоль. Почему-то считалось, что, если резать поперек, получится меньше чем полбуханки, а вдоль — точнее. Все считалось на еду.
Рядом с нами по Марата был дом 29. На первом этаже располагалась институтская столовка, студенческая. Я еще был маленький, по городу один не ходил, и вот как-то мы с бабушкой проходили мимо окон этой столовой и увидели, что на асфальте тротуара расплылось большое пятно, не пятно даже, а довольно высокая лепешка каши. Наверное, кто-то нес и выронил. Но еще не пришел настоящий голод. Если бы такое случилось через несколько месяцев, то кто-то бы обязательно упал на колени и вылакал все это прямо с земли. А тут все проходили мимо, смущенно опустив глаза и немножко завидуя тому, что вот, лежит каша. Этот эпизод очень отчетливо врезался мне в память.
Еще помню одну из первых бомб, упавших в нашем районе. Была такая Глазовская улица, сейчас это улица Константина Заслонова, около Лиговки. Там был угловой домик, невысокий, и бомба попала как раз в него. Собралась толпа — смотрели, обсуждали: вон, чего-то там зацепилось, а вон мужик на втором этаже мечется.
Вообще одна из первых бомбежек города, еще до пожара на Бадаевских складах, пришлась на Марата — бомбили дом, в котором располагалась какая-то большая территориальная телефонная станция, окна выходили на Стремянную. Несчастный дом — его разбомбили, потом восстановили, потом он снова разрушился. А рядом с домом по Марата стояли громадные, высотой буквально до третьего или даже четвертого этажа, деревянные столбы с поперечинами, от которых отходили провода. Сплошной лес из столбов. И немцы, видимо, решили, что им необходимо разбомбить эту станцию. Летчики, видимо, были такими асами, да еще и вооруженными такой техникой, что положили все бомбы вдоль Дмитровского переулка, начиная от Колокольни и дальше. Переулок был весь разбомблен. Мы — бабушка, мама и я — пошли смотреть. И весь город пошел смотреть. Толпа непрерывно двигалась в середине переулка, где можно было пройти. Не было ужаса, только удивление. Я как сейчас помню, что в пыли среди камней лежали груды каких-то предметов, но никто ничего не тащил, никто не ждал ночи, чтобы что-то унести. Помню, там валялся большой толстый альбом, кармашки с монетами, и его никто не брал. Такой интеллигентский verboten. Поразительно…
Сейчас много спекулируют на теме артобстрелов и бомбежек Ленинграда. Но я скажу запрещенную вещь — конечно, бомбили, но не в таких масштабах, как любят теперь преподносить. Город уже тогда был громадным, но его бомбили и обстреливали прицельно, а не просто так. И разрушений было не так много, как теперь принято говорить. Вот, например, Невский проспект: была разбита Филармония и дом на углу с Фонтанкой. И, насколько я помню, все. К тому же очень много бомб падало не на дома, а на улицы, в Неву. Немцы очень любили бомбить Неву, потому что там стоял наш флот.
Мы тогда уже спали одетыми, и меня очень раздражало, что как минимум один раз за ночь мы должны были бежать в бомбоубежище. Но потом мы плюнули и перестали туда спускаться. Тогда добрая половина людей не ходила в бомбоубежища. И вот однажды к нам прилетел целый гигантский кагал: Гаврюшенька со своей женой Варваркой, такая приживалка от рождения была, и их сын Юрка, сестра Варвары Елена и ее муж. Они жили на 6-й Советской, на втором этаже, у них была хорошая квартира. Но рядом упала бомба, и у них повыбивало все стекла: «Ужас-ужас! Жить невозможно!» Еще осень стояла, тепло было. И наша квартира превратилась в сплошную лежанку.
Как раз начался голод, пошли первые голодные смерти. И Николай Дмитриевич Пузырев сказал нам, что есть последняя возможность уехать, у них как раз завод эвакуировали. Тогда мы и решились.
Блокада замкнулась, немцы сбивали самолеты. Мы улетали вместе с остатками завода на трех небольших самолетах «Дуглас», у них вместимость была человек сорок. Из города улетали эвакуируемые, а обратно самолеты летели груженные мясом. Перелет был недлинный, куда-то на тот берег Ладожского озера, в Кабон. Очень хорошо помню, как мы летели над Ладогой. Бабушке было плохо, она все время повторяла: «Пожалуйста, выпустите меня! Пожалуйста, выпустите меня!» А в какой-то момент вышел один из пилотов, подошел к висящей от пола до потолка ленте, подвесил на нее что-то — это оказалось сиденье — и уселся в него у пулемета. Но нас не обстреливали, мы спокойно долетели. Это был мой первый полет на самолете.
А когда мы приземлились и вышли из самолета, помню, нас всех поразило: какое-то летное поле, какие-то самолеты, а все пространство вокруг уложено гигантскими штабелями освежеванных замороженных мясных туш.
Нас накормили в каком-то таком очень большом бараке, где располагалась столовая аэродрома. Тогда везде были бараки, никто ничего не строил, только бараки. Мама сказала, что мы сейчас лопнем. Помню до сих пор, что давали по большущему куску жареной печенки. А после того, как мы поели, нас воткнули в вечную теплушку, и мы поехали в Свердловск, все еще с заводом. Они ехали дальше, до Челябинска, а мы вышли в Свердловске. Ехали четверо суток, потому что линия все время была занята поездами, которые шли на фронт, так что никто не роптал. Публика жуткая была — работяги с семьями. И мы с ними. Но не было страшно. Было понятно — такова жизнь, другой нет и не будет.
Я отчетливо запомнил один эпизод. Холодные, пронизываемые ледяным ветром сумерки, когда все вокруг синеет и скоро погрузится в темноту. Неизвестная железнодорожная станция в тылу — сорок рядов рельсов, забитых составами. На одном из путей стоял эшелон с эвакуированными, внутри теплушек было темно, тепло, даже уютно. Вдруг сквозь вой ветра откуда-то донесся срывающийся голос почти безумной женщины. Голос приближался, и стало слышно: «Август! Август!» Замерзшими руками женщина стучала в вагоны и плакала: «У вас нет Августа?» Наконец она добежала до нашего вагона и снова закричала: «Август! Август! У вас нет Августа?» Какой-то работяга с Кировского завода бросил ей: «А сейчас декабрь». И заржал. Женщина на мгновение замерла на пронизывающем ветру, а потом побежала дальше.
Мы ехали долго, мучительно. Однажды, когда поезд в очередной раз остановился, мы вышли на улицу, и из других вагонов тоже вышли люди. А ведь никто не знал, сколько поезд будет стоять — может, полсуток. Рядом какая-то деревня, на сером снегу чернели избы. Были сумерки — кажется, на протяжении всего пути были сумерки. Мы что-то схватили из того, что было, и побежали менять на картошку. Обменяли, назад прибежали, а поезда нет, ушел. Что делать? Побежали за ним по шпалам. Мы рассчитывали, что в поезде хватятся и остановят. Вокруг практически тундра. Россия ведь голая страна. Это только разговоры про березки. Ни черта не растет вокруг. Мы замерзшие, голодные, не знаем, найдем ли. В поезде осталось все — документы, вещи. И с нами бежит какой-то мальчонка маленький, меньше меня. Его, видимо, с нами отпустили. Он все время плачет, ноет: «Я не могу идти, я не могу бежать, я писать хочу». Он канючит не потому, что капризный, а потому что маленький испуганный ребенок, который на самом деле устал и не может больше бежать. Я помню, как мама взяла его на руки, ей было безумно тяжело. А все бабы вокруг, сами со своими детьми, уговаривают: «Да брось ты его. Да мы сдохнем из-за него». До сих пор помню это «брось его». Мы его, конечно, не бросили. И часа через два добежали. Только погрузились, как поезд опять пошел.
Я совершенно не помню, что мы ели эти четверо суток, выдавали ли нам какой-то паек или нет. Очевидно, выдавали что-то типа хлеба, иначе мы бы не выжили.
А потом мы приехали в Свердловск.
В Свердловске все было серо, нище и голодно. Кажется, там всегда так жили, никогда не было иначе. Мне показалось, что с войной там ничего не изменилось — как было, так и осталось. Это можно было понять по каким-то косвенным деталям. Например, та часть Свердловска, в которой мы жили потом, после возвращения, — маленькие деревянные домики. Это была важная часть города, там располагался так называемый ВИЗ — Верх-Исетский металлургический завод. Очень старый завод, еще дореволюционный, демидовских времен. Он занимал гигантскую территорию на каких-то прудах. А вокруг раскинулась деревянная часть города, очень большая, вероятно, она занимала четверть городской площади, а ведь там был еще и гигантский Уралмаш. У каждого домика был свой огородик, и не потому, что война, а потому, что они всегда жили огородиками.
Мама сразу сказала: «Давайте срочно пойдем в аптеку. Нам нужны бинты, йод и так далее. Мы же едем в деревню». Мы пришли в аптеку, а там нет ничего — ни бинтов, ни йода, вообще ничего. Там вообще нигде ничего не было. И мы, кажется, там даже не переночевали — как были сели на какой-то поезд, очевидно, пригородный, местный. Ехали, насколько я помню, очень недолго и вылезли на какой-то станции, названия которой я не помню, кажется, Коркино. И получилось, что нас ждали — почему-то за нами приехала подвода из деревни. Вернее, не телега, а сани-розвальни, мы в них все поместились. Возничим был мальчонка. И мы доехали до деревни. Видимо, эвакуированных распределял сельсовет, и на первую ночь нас распределили в какую-то избу, где мы и переночевали.
Там было не очень много эвакуированных, и они были не только из Ленинграда, а так, отовсюду. И повсеместно в деревне шел постоянный обмен. Уезжая в эвакуацию, люди, конечно, брали с собой самое наиболее ценное, наиболее хорошее, наиболее новое, наиболее крепкое, и теперь все это менялось на картошку. Странный, странный фрукт эта картошка. Если жить только на ней одной, то можно прожить, наверное, до ста лет.
Приехали мы в эту деревню, потому что там уже находилась Евгения Гавриловна Розенфельд, мамина двоюродная сестра, тоже эвакуированная. Она преподавала в школе немецкий язык, который у нее был с малолетства, потому что она оканчивала «Петершуле». Сейчас, когда я ее вспоминаю, почему-то она мне страшно напоминает Илью Эренбурга: она вечно была с «Беломором» или с махоркой, такая немного мужиковатая. И еще там была ее дочка Светлана, та самая Светлана Розенфельд, которая потом стала известной поэтессой. Так что в той избе, в которую нас распределили, мы провели всего сутки. Кстати, для меня это были очень важные сутки, потому что я сразу подхватил корь, как многие детишки в те времена. Но не беда — на следующий день нас поселили в другую избу к какой-то семье. Большая семья, у хозяйки которой муж был на фронте, и через какое-то время она получила похоронку. У нее было двое детишек — мальчишка Петька и девчонка Нюрка. Петька был несколько старше меня — мне тогда было десять лет, а ему лет двенадцать или тринадцать, а Нюрка была года на два младше меня. И еще была старшая дочь, половозрелая, не помню, как ее звали, она потом уехала в город учиться на медсестру.
Они жили в одноэтажном доме, сложенном из крепких больших бревен, недалеко от реки Туры. Там вообще дома были довольно-таки капитальные — вокруг много леса, никто его не считал. В основном это были пятистенки. Одну половину дома занимали мы, а вторую, кухонную, они. Еще был небольшой двор, амбары позади дома, у задней его стены. Возможно, до войны уральская деревня жила более или менее сыто. Но теперь все амбары, конечно, пустовали. Даже коз не было. И еще там был очень большой огород и отдельно стоящая во дворе баня.
Я не могу сказать, что они относились к нам плохо. Скорее… Конечно, мы были им помехой. Ну зачем им еще одна хозяйка, моя бабушка, которая тоже занимала печку и что-то на ней готовила? Я, мальчонка, конечно, с этими детишками был весь день. Так себе к нам относились. Мы для них были «выковыренные», то есть эвакуированные, но они не могли произнести этого слова. В общем, их можно было бы понять, потому что они не знали нашей жизни, они не знали, что такое блокада. Почти в каждой семье кто-то к тому моменту уже погиб на фронте, а мы спасались. А от чего спасались? Про фронт было понятно — там убивают, а вы от чего спасаетесь? Но я всего этого, конечно, еще не понимал.
Но по большому счету мы все для них были жиды, или «вереи» — евреи. Они и не знали, кто такие евреи. Но сказал кто-то, что это жиды, и ладно. Проявлялось это в основном на словах. К тому же никто по внешнему виду «верея» от «неверея» отличить не умел. А я всю жизнь был белобрысеньким.
Хотя бывали и очень неприятные случаи. Помню один из них. Через село проходил ручеек, по дну относительно глубокого оврага с покатыми спусками. Зимой — а зимы там длинные — все катались на каких-то самодельных лыжах, буквально выструганных из чурок, зачастую даже без загнутых мысков. Мальчишка из эвакуированных, наверное, мой сверстник, лет десяти-одиннадцати, совершенно домашний, как и все мы, пошел через этот овраг на другую сторону, к домикам, которые были видны. И один из катающихся местных палкой ткнул ему в лицо и выколол глаз. Потом родители скандалили, выясняли. Потому что власти там как таковой не было. Был какой-то сельсовет, но он не обладал властью.
Я между тем болел корью. Без медикаментов и без антибиотиков. И, отболев, пошел в местную школу. Вообще село, в котором мы поселились, до революции явно было довольно мощным. Я помню, что на въезде стояла кирпичная одноэтажная церковь, правда, уже без колокольни, без всяких куполов, совершенно заброшенная, превращенная в отхожее место для скота, для всей округи — и все равно солидная. И школа, в которую я пошел, тоже была явно не советской постройки, деревянная, двухэтажная. Наверное, ее строил какой-то барин. А рядом располагался бывший барский дом, одноэтажный, длинный, там теперь был детский дом.
Удивительным образом в классе совсем не было агрессии. Хотя сама аура пребывания там была агрессивной, но агрессии не было, драк не было. Мальчишки учились вместе с девчонками, только через год стали разделять, но мы в это время уже вернулись в Свердловск. Единственное… Вместе с нами учились детдомовские, и это была очень неприятная публика. Возможно, с тех самых времен я до сих пор не люблю тех, кто вырос в детдоме. Так что, когда я слышу что-то про детдом, для меня это сразу негатив.
И еще, конечно, детям свойственна какая-то дурь. Допустим, учительница мне говорит: «Пойди к такому-то из ребятишек и возьми у него учебник». Учебников ведь почти не было. Я иду, со мной отправляется целая ватага. И мне все время говорят в один голос: «Он здесь живет!» Я прихожу — нет никого. Шутка. «А-а-а-а! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Вон там он живет!» Я туда, а там, оказывается, колхозная бухгалтерия. И это может продолжаться бесконечно, чисто по-детски. Взрослые могут быть шутниками-идиота-ми, но где-то на третий раз им надоест. А дети могут сто раз повторять одно и то же.
Я помню, что той зимой стояли страшные морозы. А мы ходили черт-те в чем, в страшной рвани. Никто не смеялся, если на каком-то из мальчонок была бабья кофта, лишь бы было тепло. Я помню, что у меня были вязаные перчатки. Мама из Испании привезла очень много хороших, качественных вещей. Но вещи изнашивались. Эти перчатки уже были драненькие, и я носил одну на другую. А потом в школьной раздевалке они пропали. И еще пропал перочинный ножичек, ничего из себя не представлявший. Ножичек еще дедов был, и мне его было очень жалко, я его до сих пор помню. Там же не было гардеробщиц, никого. А потом на краю овражка этого на какой-то кучке дерьма я нашел свои перчатки — ими подтерли зад. Сперли детдомовские, конечно, они вечно по карманам лазили. И я не помню, чтобы с ними местные водили компанию. У них свое было, у местных — свое.
А по весне, когда начинал таять снег, деревня утопала в страшной полуметровой грязи, по которой невозможно было пройти. Помню, как несколько раз я увязал так, что мне приходилось на четвереньках руками щупать, куда можно ступить.
Где-то в полукилометре от того места, где мы жили, деревня уже кончалась, и там, на отшибе, стоял дом. В нем жила одинокая женщина из эвакуированных. Эта женщина к нам иногда заглядывала, то за щепоткой соли, то еще за чем-то. Бабушка рассказывала, что эта женщина однажды подошла и сказала: «А я вас помню!» Бабушка спросила: «Откуда?» — «Из Ленинграда, я вас видела в магазине „Яйцо. Птица“…» Если идти вдоль Кузнечного ранка, то по противоположной стороне будет какая-то больница, потом банк, потом барочный красивый дом. А дальше — затрапезный и достаточно высокий длинный красноватый фасад, в нем сейчас какой-то супермаркет. А до войны там на первом этаже был магазин, который имел название «Яйцо. Птица». Там всегда толпились очереди, это был своеобразный клуб, «клуб по голоду». В общем, женщина оказалась… из своих. У нее был сын, значительно старше меня. Очень хороший мальчонка. Мы с ним много общались. А потом его забрали в армию. Подозреваю, что его забрали не по возрасту, а пораньше, то есть не в восемнадцать, а лет в пятнадцать-шестнадцать. Какой-то командир из военкомата его отправил на фронт вместо своего. И очень скоро пришла похоронка. Помню, как его мать принесла нам какой-то выструганный им кораблик, детскую поделку. И сказала: «Вот, Женя, это тебе, значит…»
Короче говоря, в том доме мы прожили около года, потом почему-то переехали в другой, но там задержались примерно на неделю. И уехали в Свердловск, совершенно не представляю, по какой причине.
Это был самый страшный период нашей эвакуации. Голод был почти такой же, как в блокадном Ленинграде. И ужасно неприятный народ. Для меня, как ни странно, это ощущение осталось на всю жизнь. Урал — это страшные люди, какие-то генетически жестокие. И они сами не понимали этого, им такое в голову не приходило. Они так живут, они такие и есть.
Когда мы еще жили в деревне, у одной школьной учительницы пала корова. И все ее коллеги начали ей твердить: «Ну все, теперь тебе конец! Теперь тебе только в петлю! Что ж без коровы-то? Не-не!» Никто даже не задумался о том, чтобы помочь. Думаю, это была какая-то врожденная жестокость. Они не понимали, где добро, а где зло.
В Свердловске было еще хуже.
Не помню, как перебрались в Свердловск. Только помню, что с нами вместе из деревни ехал дядька, колхозник средних лет. Он сидел, и его освободили из лагеря. Сидел он, по-моему, за то, что то ли избил, то ли просто послал председателя своего колхоза. За это его судили, посадили, и вот он освободился. Сначала он приблудился в тот дом, где мы жили, к хозяйке, как и мы вот. Он там ворота починил ей, одно, другое. И потом уехал с нами в Свердловск. В дороге очень нас поддерживал.
В Свердловске мы поселились в доме в громадной застройке ВИЗа. Типичный российский провинциальный двухэтажный дом, кирпичный полуподвальный низ с небольшими окнами и деревянный верх. Мы жили в полуподвале. И там же, в Свердловске, я пошел в 55-ю школу, недалеко от дома. Удивительно, что это единственная школа из всех, где я учился, номер которой я помню.
Было страшно и голодно, и мы, конечно, не жили, а выживали. Причем выживали мы в громадной степени за счет того, что бабушка всю жизнь была домохозяйкой, настоящей петербургско-ленинградской домохозяйкой. Она никогда нигде не работала, только по дому. И она прекрасно кухарила, в буквальном смысле могла из ничего сделать обед. Помню, единственное, что я не смог есть, — оладушки из картофельных очистков. Почему-то я не мог их есть, несмотря на страшный голод.
Мама устроилась на работу художником в заводской клуб. Завод был гигантский, а клуб — небольшой двухэтажный домик на площади перед воротами этого завода. Там был небольшой зальчик, где крутили какое-то кино. И мама малевала плакаты, один раз даже делала портрет Сталина, растягивая по клеточкам ниточки, чтобы соблюсти пропорции. А однажды сделала какую-то халтурку, и ей дали батон — это была вообще сказка! Не батон — батонище, сантиметров тридцать. За все время эвакуации я такого больше не видел. Это вообще был первый раз за всю войну, когда я видел белый хлеб — белый-белый, пушистый, мягчайший огромный батон. И я подумал, что это и есть счастье. Но оказалось, мама с бабушкой посоветовались и решили, что лучше этот батон не есть, а продать на рынке. Ужасное разочарование, но я к тому времени уже все понимал.
По Свердловску все передвигались или пешком, или на трамваях, которые были забиты так, что люди висели на подножках. Мама рассказывала, что в Испании тоже все висели на подножках, только внутри трамваи были пустые, и все прыгали на ходу, экономили. А тут висели, потому что внутрь было уже не влезть. А недалеко от завода была страшная баня — холодное помещение, грязное, зараженное всякими грибками. Но хотя бы с горячей водой. И туда все ходили.
В этом Свердловске мы перенесли страшную зиму. Были такие плоские алюминиевые миски, в них наливали молоко, оно замерзало, после этого его из миски доставали и продавали белые ледяные лепешки. Или, например, растительное масло. Его продавали в стеклянных бутылках. Так уральский люд приноровился и сначала наливал масло в холодную бутылку по краям, словно лампочки отливали, масло замерзало, а внутрь, в получившуюся полость, лили воду. Так что за маслом на рынок люди ходили со щепочкой и сначала, прокалывая верхний слой, проверяли, есть в бутылке вода или нет…
Некоторое время назад я подсчитал, что в жизни я, пожалуй, голодал примерно одиннадцать лет подряд. Я перестал голодать в 1947-м, когда отменили карточки, а потом опять началось — заключение, Воркута…
В школе я приятельствовал с одним одноклассником, Вовкой Заславским. Он был очень неприятненьким человечком, а вот поди ж ты — приятельствовали. Наверное, он уже не жив. Вообще я в последнее время часто задумываюсь вот о чем: живешь-живешь и о многих начинаешь думать, что они, наверное, уже не живы. Какое-то странное чувство. Думаешь, что они уже неживые, а я еще живой. Я бы не сказал, что я уж такая сволочь, но есть это ощущение — хорошо ли это, плохо ли, не знаю. Хороших людей, конечно, жалко, а вот про всякую сволочь такие мысли даже доставляют некую радость… Но вернемся к школе. Мы учились вместе с девочками, и я помню, что снова не было никакой агрессии, никаких драк. Как-то все было спокойно. И дело не в голоде — у детишек на драку всегда сил хватает. Но я очень хорошо помню, что было спокойно.
Всем эвакуированным детям, которые учились, полагалось какое-то довольствие. И вот я оказываюсь в списке на получение супа. За ним нужно было приходить в школу с бидончиком. И вот однажды — я на всю жизнь запомнил этот свой грех — я получил суп и чуть его пригубил, совсем немножко. Потом еще глоток, и еще, и еще. Я чувствовал, что съел уже половину, но все не мог остановиться. И тогда я долил в бидончик воды и сказал бабушке, что суп дали — одна вода.
Пришло какое-то время, и мы уехали из этого домика и поселились в так называемых северных бараках — страшных двухэтажных трущобах, построенных уже в советское время для рабочих ВИЗа. Там были двухкомнатные коммуналки, в каждой комнате по семье. А кухонь не было, все делали у себя в комнатах на буржуйках. Валютой были дровишки, какие-то щепки. Мне было десять или одиннадцать лет, и я это все зарисовывал. И рисунки сохранились, с подписями. «Это в прошлое поселение — дядя Гаврюша. Он у нас застыл и обогревался, бедняга, у печки. Е S. Это набросок. Женин». Или набросок про бабушку, которая раздувает печку. Но рисовать было не на чем, так что я рисовал на обратных сторонах открыток под надписями типа «Культивация зяби в колхозе „Коммунары“». Но я рисовал не только то, что видел. У нас было несколько книжечек, привезенных мамой из Испании. Там были иллюстрации, и я их перерисовывал. И до сих пор не стыжусь этих своих рисунков.
Я перерисовывал старинную Испанию, а вокруг были северные бараки, жуткие, страшные. Везде были маленькие огородики, которые служили в том числе и отхожими местами. Иногда казалось, что люди вообще гадили где только можно, только бы не было видно голого зада. И все время холод. И все время голод.
Но мы пережили и эту зиму, и наступило лето 1944 года. И для того, чтобы вернуться, нужно было получить своеобразный «вызов» от кого-то, кто оставался там, иначе было нельзя. С моим отцом у нас были очень плохие отношения, их почти не было, но он всю блокаду провел там, в Ленинграде. И он прислал вызов — возможно, в надежде с нами вновь объединиться. И тогда мы снова отправились в путь.
Возвращались мы снова в теплушках, но сравнительно налегке, потому что у нас уже ничего не осталось, все было обменено на еду, на картошку. Ехали долго, голодно, но это было неважно, потому что мы возвращались домой.
Я не могу сказать, что в эвакуации скучал по Ленинграду, — я был ребенком, а ребенок адаптируется ко всему. Но я, конечно, вспоминал город. У меня всегда была очень хорошая зрительная память, так что я многое помнил. И вот мы возвращались, и я как бы проверял свои воспоминания.
На подъездах к Ленинграду все было разворочено — очевидно, это были места боев. Причем разворочено совсем недавно, в этих воронках еще не успела пробиться трава. Мы ехали и ехали вдоль выжженной земли, мимо каких-то сгоревших остовов. Медленно-медленно двигались вперед. Нас было много в вагонах, семьи с детьми, и я снова не помню, что мы ели в пути. И вернулись мы в Ленинград 22 июня, очень символично. Три даты в моей жизни — начало войны, возвращение из эвакуации и возвращение из лагеря, и все они — в двадцатых числах июня.
Мы вернулись и поселились в своей квартире. Она была целая, но занятая. В нашей квартире жил, во-первых, бабушкин брат Кирилл Ерофеич. Не помню, это его настоящее имя или, как было принято в еврейских семьях того времени, ему это имя придумали. Я уже писал, что он в отличие от брата был полный ноль. Настолько, что даже не скажешь, добрым он был человеком или нет. Гаврюшенька был добрым, правда, не со всеми. С кем нужно он мог быть жестоким, вернее, твердым. Про Кивушку такого не скажешь. И вот, значит, Кивушка поселился у нас, когда отцу дали его комнату, и жила Варятка, Варварка, жена Гавриила. Еще ее сестра жила — неприятное существо, даже не верилось в ее существование. И еще посторонняя соседка в одной из комнат. Так что квартира, в общем, была занята. Я не помню, знали ли они о нашем прибытии или нет. Потому что почта работала. Как ни странно, я никогда не слышал каких-либо нареканий на работу почты. Очевидно, почта — это единственное, что у нас работало добропорядочно. Во время войны это было очень важно.
Когда после эвакуации мы вернулись в Ленинград, на Марата, у меня появилось очень странное чувство — мне все казалось маленьким. А минут через пятнадцать все приобрело свои истинные масштабы. Я рассказал об этом отцу, и он ответил: «Погоди, вот подрастешь, и весь мир покажется тебе очень маленьким». Не знаю почему, но я запомнил эти его слова на всю жизнь.
Было лето, и было солнечно. Мама снова пошла в «Интурист», где работала до войны. Почему-то около года она числилась там поваром, но это неважно, все равно она свою переводческую работу делала. А мне нужно было поступать в школу. И откуда-то мама узнала, что в СХШ, Средней художественной школе при Академии художеств, производится набор. Это была школа и с общеобразовательными предметами, и со специальными. Академия тогда была еще в эвакуации, в Самарканде. А небольшое количество учеников СХШ уже вернулись в Ленинград. На основе этих вернувшихся учеников школу и пытались возродить.
Когда кончилась война, было тепло и светило солнце. Все ожидали этого конца войны, никакой неожиданности не было. Каждый понимал, что, наверное, сегодня или завтра объявят. Помню, что почему-то пошел по Невскому. Дошел до Дворца пионеров и зашел в него, просто так, потолкался там. И все. Было спокойно, все шло своим чередом, люди были на работе. Все были к этому готовы. Это не было так же неожиданно, как объявление войны: «Вероломно враг напал».
Первое время очень лояльно относились к союзникам. В каждом киоске продавалась маленькая газетка, один разворот, называлась «Британский союзник». И там, где у нас орден Ленина и написано «Известия», у них были изображены два солдата, черно-белые, с тенями, — американский солдат в каске и британский. Наверное, до середины 1946 года эта газета продавалась, потом исчезла.
И еще помню такой эпизод. Когда с фронта начали возвращаться наши солдаты, зачем-то на Дворцовой площади, которая тогда называлась площадью Урицкого, выстроили несколько полков, лицом к Зимнему дворцу Много-много шеренг в той форме, в которой они вернулись, — обшарпанной, грязной, мятой. Как они пришли с фронта, прямо с оружием, так их и выстроили. И туда пришло очень много народу. А рядом с Зимним дворцом стояли низкие фанерные трибуны — сейчас трибуны выставляют только по праздникам, а тогда они стояли там все время. И я, как и многие, пристроился на этих трибунах. Долго, часа полтора, чего-то ждали. Никаких оркестров, начальства нет, а солдаты все стоят и стоят. А в тот день было очень жарко. И они вдруг начали с себя снимать каски, скидывать гимнастерки. И еще были цветы — им все время несли цветы, букеты ромашек. От жары стал плавиться асфальт. Солдаты каблуками сапог начали прилипать к этому плавящемуся асфальту, и тогда они стали класть на асфальт цветы и вставать на них. Потом уже приехало какое-то начальство, что-то там началось, не важно. А после всего этого несколько дней шли дожди, а на площади работали какие-то бабы, выковыривали из асфальта цветы.
В то время было очень много салютов, еще во время войны это началось. Городок какой-нибудь освободили — салют. И на набережную высыпал весь город, не только молодежь, особенно перед Зимним дворцом. А салютовали с Петропавловки. Но салюты были небольшие, скромные, потому что техника и пиротехника тогда все-таки были примитивными. Но все равно, конечно, радость.
Осенью начали восстанавливать Зимний дворец. Угол, который выходит к Дворцовому мосту, был огорожен фанерой, и крыша была сделана тоже из фанеры. И туда, на этот отгороженный участок, свалили цемент, прямо так, без мешков. И как раз был салют. Люди облепили набережную, заняли проезжую часть, потому что тогда машин не было, только если НКВД кого-то ехал арестовывать. Начался салют, трахнул выстрел, и люди, которые радостно сидели на крыше, повалились в цемент. Почему-то этот ерундовый эпизод мне запомнился.
Не сказать, что город был весь разрушен, нет. Он был не разрушен, а… заброшен. И мы с мальчишками бродили по этому городу, лазили везде. Где мы только не были. И везде видели эту заброшенность, запущенность. На Васильевском острове в районе улицы Кораблестроителей, где в то время еще не было ничего, никакой застройки, никакого мощения и асфальта, а только «плирода», примерно там, где ложная могила декабристов, раскинулся большой, длинный и совершенно пустынный пляж. Светило яркое солнце. На пляже стояла носовая часть огромной деревянной баржи. Мы подошли и увидели, что в ней выпилены два-три окошечка, под каждым окошечком — ящики с цветами, приделана лесенка, рядом территория огорожена, там тоже что-то растет. А внутри живут люди. Как-то устроились, независимо от всяких жилконтор, живут сами по себе. Меня до сих пор не покидает ощущение, что они были счастливы.
Я ходил в СХШ, носил показывать какие-то свои рисунки. Нас тогда действительно смотрели, причем смотрели тщательно, и на самом деле определяли, рисуешь ли ты или говняешь по-детски. Потом были вступительные экзамены — рисунок, живопись, композиция, был очень большой отсев. В результате собрались очень достойные мальчишки и девчонки. Сейчас почему-то отбирают уже не так строго. Я бы даже сказал, что вообще не отбирают. То есть социализм победил. Основа социализма состоит в том, что все имеют право, все имеют равные возможности, никого нельзя дискриминировать, каждый может делать едва ли не все, что хочет и как хочет. Это такой западный социализм, который проникает везде. В том числе и в искусство.
Меня приняли, и с этого момента я как-то вдруг почувствовал, что начал взрослеть независимо от своего фактического возраста… Но, что касается общеобразовательных предметов, учился я плохо. Совершенно непонятно, как меня там терпели. Важно, что, если человек хорошо работал, рисовал, его не исключали. И очень из многих учеников нашего помета, 1944–1945 годов, что-то получилось.
Почти сразу после начала обучения мы утвердились небольшой компанией, человек пять-шесть. В нашу компанию входил, например, Илюшка Глазунов, которого современная интеллигенция воспринимает в штыки. Скажу честно, я его держу получше, хотя он стал, как говорят, неприятным по характеру. Сколько раз я его видел по телевизору за последнее время — у него все время обиженное выражение лица, словно его кто-то постоянно обижает… Еще несколько человек из нашей компании стали архитекторами, позднее сидевшими в Ленпроекте. И так далее.
В СХШ у меня был друг Тийвель, очень хороший, воспитанный парень. Ну, как минимум очень близкий приятель. Он был очень странным человеком, вернее, странным было то, что он оказался в СХШ. Помню, что, когда его принимали, он пришел с матерью. Они принесли много скульптурных работ, миниатюрных скульптурок — целую коробку из-под обуви. В СХШ сказали, что у них пока нет и не предвидится скульптурного отделения, но они видят, что мальчик очень хорошо работает, так что они его возьмут. И это было странно, потому что он великолепно владел пластикой, к тому же очень интересовался техникой, но был совершенно никудышным рисовальщиком. Потом он, как и я, ушел из СХШ, и мы с ним последний раз виделись буквально за пару месяцев до моего ареста. Мы очень много времени проводили с ним, причем все время лепили из пластилина, но не художественные объекты, а, например, пушки, причем не примитивные пушки — ствол и два колеса, а сложные, с мини-механизмами, стреляющие с помощью спичечной серы. Еще мы делали модельки механизмов для кораблей, лепили парусники. Жаль, ничего из этого не сохранилось. Вспоминаю, что, хотя мы с ним и общались очень близко, он не был в нашей компании из СХШ, которой мы бродили по пустынному и холодному городу, он в основном был сам по себе.
Как я сейчас понимаю, у нас были очень хорошие педагоги, в том числе и по общеобразовательным предметам. Хотя учить было сложно, потому что в те времена и программа, и учебники, с одной стороны, были очень сжатыми, а с другой — очень обширными по объему информации. Но сами программы были очень интересными, так что мне теперь совершенно непонятно, как же можно было так плохо учиться, это же так легко!
А по специальным предметам сначала у нас была некая Рысина, не помню ее имя и отчество, а через какое-то время появился Глеб Иванович Орловский. Чудеснейший человек, прекрасный педагог и очень большой умница. Банально звучит, но он понимал каждого из нас, возможности каждого из нас. Он довольно редко кого-то хвалил, но дороже бывало его молчание. И даже мы чувствовали в его молчании то, что он молчит, абсолютно принимая твою работу. Я встречал еще двоих или троих человек, которые у него учились, и все были одного мнения о нем. Например, сейчас в Эрмитаже работает Евгений Герасимов, очень хороший реставратор, настоящий реставратор живописи. Он тоже у Орловского учился.
В СХШ я начал курить. Но это было довольно странное курение, курение некурящего, в день по одной папироске. Тогда сигарет не было, в основном были папироски. Только потом появились сигареты, свидетельствовавшие о видимости благополучия. Были сигареты «Север», «Друг» — красная пачка с собакой. Уже сильно позже, когда я сидел в общей камере, кому-то в передаче принесли сигареты «Аврора», овальные, и мы все их внимательно рассматривали.
Очень хорошо помню свою первую попытку курения. Откуда-то я достал одну беломорину — «Беломор» тогда был самым распространенным видом папирос, хотя были и дешевле. Помню, что стояла зима. И я понял — хочу попробовать. Почему-то я проделал страшно сложную работу — пошел на чердак, с чердака на заснеженную крышу, подошел к одной из труб, прислонился к ней, закурил и почувствовал: «Боже, какой ужас!» Не тошнило, но страшно закружилась голова, я еле спустился по крыше обратно к слуховому окну. Долго отдыхивался, приходил в себя, подальше забросил окурок.
То было время какой-то странной романтики. Мы, ученики СХШ, были такой странной смешанной когортой, удивительный класс — городские дети из хороших советских семей, в которых что-то еще сохранилось из старой жизни. Мы были очень домашними, неагрессивными, хотя общество вокруг было крайне агрессивным. Думаю, виновата война, которая всех перемешала, — если бутылку встряхнуть, со дна поднимается всякая муть. А мы были полны романтики.
Сейчас — вернее, не сейчас, а уже довольно давно — появилась тенденция или перехваливать послевоенное время, или, наоборот, хаять его изо всех сил. У меня немного другие воспоминания о том времени. Время было очень голодное, очень бедное, но безопасное. Конечно, слышался какой-то бандитизм кругом, какие-то разбои, какие-то грабежи, воровство, но лично я ни разу не ощутил этого на своей шкуре. Мы болтались по всему городу и скорее сами к кому-то приставали — естественно, очень мирно и очень безобидно. Тогда было много старушек и старичков, как их называли, из бывших. И несмотря на то, что вокруг висели призывы уступать место и так далее, вокруг царило все советское, так что уважать этих «бывших» никак не получалось. Предположим, мы шли по Невскому и выбирали жертву. Подходили к такой старушке, снимали шапки и с поклоном здоровались с ней. Старушки были в шоке, но, естественно, не обижались.
И еще интересная деталь — нам было по шестнадцать-семнадцать лет, но мы были совершенно равнодушны к девочкам, безразличны к ним. Это удивительно, но у нас была абсолютно мужская компания, и я никак не могу этого объяснить.
Мы тогда получали не только детские карточки, но еще и дополнительные. А я, если говорить словами Льва Гумилева, был тогда в некотором роде пассионарным, таким заводилой. И однажды мы с моим приятелем Юркой Евдокимовым решили бежать из дома. Мы получили все эти карточки и продали их, что в то время было очень распространенным промыслом. Продали мы их в булочной напротив здания «Аэрофлота», там сейчас какие-то кафешки. И буквально в тот же день сели на поезд. Когда мы покупали билеты, мы, естественно, хотели куда-то подальше, но в кассе нам сказали, что есть только до Любани. Ну а для нас что Любань, что Кубань — одно и то же. Мы хотели обязательно куда-то к теплому морю, обязательно матросами на корабль. Дураки, конечно, полные. В результате мы доехали до Любани, которая оказалась очень рядом. Мы вылезли из поезда. Ночь, никакого моря, зал одноэтажного вокзала, больше похожего не на вокзал, а на барак с закругленными торцами. Ну, думаем, надо дожидаться утра и дальше двигаться. Прошло немного времени, в зал набились гопники, тоже примерно нашего возраста. Пришла милиция: «Ты, ты и ты, на выход». И моего Юрку забирают, а меня оставляют. Я говорю: «А-а-а, мы вместе с ним, я тоже пойду». Приводят нас в какое-то помещение, набивают в камеру. Через какое-то время милицейский офицерик заходит, смотрит на меня и на Юрку и говорит: «Выходите». Мы выходим, идем к нему в кабинетик. Офицерик-то оказался очень разумным. Мы сели на казенный деревянный диванчик, а офицерик уселся за свой стол и начал спрашивать: «А ты знаешь, что такое тюрьма?» Юрка ему отвечает: «Дом с решетками». А офицерик говорит: «Глупые! Тюрьма — это конец жизни». В общем, расспросил нас, кто мы и откуда. И понял, что мы из дома убежали, понял, что мы идиоты, ротозеи, и оставил нас в этом кабинетике на всю ночь, только дверь запер. Понятно, что гопники в камере нас бы не убили, но вообще-то все могло плохо закончиться. А офицерик еще сказал: «Утром я приду, вас выпущу, будет поезд на Ленинград. Сядете в такой-то вагон». — «А у нас билетов нет». — «Сядете, и все, и домой!» Так все и произошло, в этом поезде мы доехали до дома. И договорились, что каждый напишет своим по записке и опустит в почтовый ящик — тогда почтовые ящики были на дверях. И снова будем пытаться путешествовать. Юрка отправился к себе на Лиговку, а я — к себе на Марата. А погода стояла серая, грязная, мокрая. И видимо, у каждого из нас одновременно появились одни и те же мысли — не опускать записку, а позвонить в дверь. Я пришел, позвонил — дальше, конечно, бабушкины слезы. И, в общем, все счастливы. Утром пришли в СХШ, рассказали своим. Все, конечно, смеялись: «А, Любань! Я думал, это Кубань! Любань. Тьфу, дураки!» На этом наше путешествие и закончилось.
Учеников набрали немного, человек пятьдесят. Потому что на самом деле одаренных статистически не так уж много, а принимали действительно одаренных. Хотя были, конечно, совершенно непонятные, ненужные девчонки, которые так никем и не стали. А были очень талантливые люди.
В какой-то момент в СХШ я начал очень плохо учиться. Я имею в виду общеобразовательные предметы, по искусству-то у меня все было нормально. Но я совершенно не мог учиться, и отец, с которым мы тогда почти не виделись, посоветовал мне бросать и обещал устроить в судостроительный техникум. Но мать порекомендовала меня в ЛOCX помощником печатника в мастерскую литографии. Я там проработал около года и успокоился, как-то прошел мой переходный возраст. Хотя маму заставил поволноваться. Раза два она пыталась меня воткнуть в какую-то школу рабочей молодежи, но меня хватало на неделю. Хотя хулиганом я не был. Просто не мог учиться. Работать — нормально, учиться — ни в какую.
У Гаврюшеньки был сын Юрка. Он мечтал быть актером, даже работал в Пушкинском театре, который сейчас Александровский. А дело в том, что Гаврюшенька и свою жену Варварку, и сына избаловал. Они еще до войны ходили этакими барчуками и вытворяли что хотели. И однажды Юрке не захотелось идти на экзамены за десятый класс, и он не пошел. Зато пошел в артисты. И даже сам пытался писать какую-то драму, про Спартака. Потом он получил небольшую эпизодическую рольку в «Дворянском гнезде». А потом началась война. И он вместе с театром уехал в эвакуацию, кажется, куда-то в Новосибирск или Челябинск.
Уже после войны, в 1946 году, театр поехал на гастроли в разрушенную, лежащую в руинах Германию. И гастроли были не для немцев, а для наших войск, все еще остававшихся там. В каком-то городке Юрка нашел разрушенный магазинчик типа нашего Военторга, набрал там немецких военных значков и привез их мне в бумажном пакетике. Очень мне это понравилось, интересно же. И мы — ребятишки лет по четырнадцать-пятнадцать, которых жареный петух еще в задницу не клевал, несмотря на войну, — естественно, использовали их в своих играх в войнушку, которые возродились после большого перерыва. Мы играли во время длинного, больше часа, перерыва между общеобразовательными предметами и специальными. У меня как раз были эти значки, так что я всем нашим раздавал их — тем, кто в игре был как бы за фашистов.
Но эти игры продолжались недолго. Играть вдруг надоело, захотелось учиться, даже работать, и мать через каких-то знакомых устроила меня в ЛOCX — Ленинградское отделение Союза советских художников на улице Герцена. Я стал там подрабатывать подручным печатника в литографской мастерской, которая обслуживала не какие-то типографские тиражи, а непосредственно художников. Художники приходили прямо туда и работали на камнях. А дальше уже мы это дело проявляли, обрабатывали, печатали. И все было ничего, но потом мне надоело. «Ну не хочется — черт с тобой! Давай иди в Школу рабочей молодежи», — сказала мама. Но и со школами у меня ничего не вышло — одну бросил, потом вторую, третью. Очевидно, это было какое-то возрастное созревание, протест. И тогда отец, с которым я все-таки иногда общался, сказал: «Слушай, все это чепуха, твое искусство тебя прокормить не сможет. Давай-ка иди в судостроительный, я тебя туда устрою». У него там был своего рода блат, потому что он там читал какие-то лекции, а до того он был начальником кузнечного цеха на Судомехе, на Балтийском заводе. И он меня туда устроил — я как-то формально сдал экзамены и стал студентом судостроительного техникума.
Я проучился месяца два и познакомился с такими же огольцами, как и я, в том числе с Юрой Благовещенским. И со временем, естественно, мы стали выяснять друг про друга, кто где учился, кто чем интересуется. И, очевидно, я ему рассказал, как мы мальчишками играли в войну, и про значки рассказал. А спустя какое-то время он начал специально заводить об этом разговор, наводить на определенные темы, например, что это хорошее дело, что надо бороться с советской властью. Конечно, он не впрямую говорил об этом, а только намекал. Рассказывал, что его отца посадили в 1937-м, что надо мстить. Мне не нравились эти разговоры, я все время пытался уйти от них. Но я не боялся — подумаешь, подростковый треп. По сути, мы еще были детьми, не приспособленными к тому злу, которое царило вокруг, ничего не понимали. А Юра все распалялся. Например, однажды сказал, что нужно обязательно достать оружие. И почти сразу познакомил меня с каким-то то ли Ивановым, то ли Петровым, который коллекционировал оружие. Мы пришли к нему домой, и я увидел, что вся его маленькая комнатушка завалена самым разнообразным старым оружием и книгами об этом оружии. У меня, как у любого мальчишки, естественно, разгорелись глаза. И я решил купить у него пистолет — маленький браунинг с двумя патронами. За 150 рублей — огромные деньги по тем временам. Но денег у меня, естественно, не было, так что мы договорились — я возьму этот пистолетик, а через несколько дней принесу деньги. Пистолет пробыл у меня ровно сутки. Когда стемнело, мы с нашей компанией из СХШ поехали в Парк Победы, который весь был заболочен и зарос кустарником, а другого парка не было. Там выстрелили пару раз в воздух, а на следующий день я вернул пистолет, потому что, естественно, таких денег никогда бы не смог собрать. Да и пистолет мне был не нужен. Помню, что очень долго извинялся, что патронов не осталось. И на этом все закончилось.
А буквально через несколько дней меня арестовали.
Я возвращался от Кирки, Гаврюшенькиной внучки. Уже было довольно поздно. Вышел из трамвая — единственного в то время общественного транспорта. И на круглом углу у института, который сейчас называется ИНЖЭКОН, меня встретили двое мужчин в штатском. А за ними, в сторонке, еще стояли двое автоматчиков в форме. Думаю, автоматчики были тут не специально, просто тогда милиции было не видно, зато по городу ходило много патрулей, и эти, в штатском, устроили «шухер на бану» — остановили этих солдатиков и сказали им: «Постойте здесь».
Меня остановили, спросили имя, фамилию, потом щелкнули пальцами куда-то в сторону Кузнечного, и сразу подъехала «эмка», в которую меня затолкали. Все было так быстро, что я даже не успел осознать, что это арест. А в это время, как я потом понял, у меня дома шел обыск, в процессе которого они, естественно, ничего не нашли. Единственное, после обыска у меня пропала большая коллекция немецких марок, причем практически полная, мне недоставало всего лишь двух марок — одна под названием «Народ встает» из серии «Народное ополчение», а вторая — из вагнеровской серии, дорогая, рублей 25 стоила. Они так никогда и не признались, что пропажа коллекции — их рук дело. Не знаю, может, себе взяли, а может, и в печке сожгли. Но ни в одном протоколе обыска эта коллекция не упоминалась. А вообще они поживились на славу. Мама много общалась с туристами по работе, так что у нее были книги на иностранных языках, и чекисты их забрали, чтобы определить, вредная это литература или не вредная. Потом, кстати, все отдали за ненадобностью.
Короче говоря, ехали мы, ехали и приехали на Литейный, со стороны бывшей улицы Каляева. Меня завели в здание через неприметную служебную дверь, мы поднялись по лестнице на второй этаж в какой-то кабинет к какому-то начальнику, кажется, подполковнику. У него был значок «Почетный чекист» — овальный венок, меч и звезда посередине. И с этим начальником были другие, помладше. Еще бы, сенсация — такого террориста поймали, такое дело можно раскрутить! Они о чем-то разговаривали долго, то выходили из кабинета, то снова входили. Потом меня увели, и ночь я провел на каком-то диване. А на следующий день уже начали допрашивать. Спрашивали меня, с кем я знаком, с кем общаюсь, рутина. При этом, как я потом понял, они уже все знали, ведь я Благовещенскому рассказывал про своих друзей по СХШ. Спрашивали, кто где живет, сверялись со своими бумагами. Потом повели куда-то по коридору, перегороженному стеклянной дверью от стены до стены. За этой дверью стоял столик, за ним сидел дежурный. Они открыли дверь, я прошел, и дежурный спросил: «Что, в последний путь?»
Потом мы шли через переход типа мостика из одного здания в другое, над улицей. Передо мной открыли дверь, и я увидел гигантскую пустоту, но не цех, не ангар, а… как бы черную щель сверху донизу И меня поразил невероятный запах кислого хлеба. Не мочи, не человеческих тел, а именно кислого хлеба. Конечно, потом я очень быстро адаптировался к этому запаху, перестал его чувствовать.
Дальше мы шли по галерейке, вокруг — одинаковые двери, все довольно чистенько. И это была тюрьма, причем совершенно не похожая на ту хронику, которую показывают, где по двадцать-тридцать человек в камере. Сначала меня завели в какое-то помещение метр на метр, закрыли дверь, я сел на пол и, необстрелянный идиот, подумал, что здесь мне и предстоит сидеть, пока не разберутся. Пустое помещение без окон, только дверь с «волчком», через который они все время наблюдали. Я, конечно, испугался. Но довольно скоро, минут через десять, меня оттуда вывели и повели на обыск. Привели в какое-то помещение, стол, на столе — ножики всякие, ножницы: специальное помещение, где шмонают, обрезают пуговицы и так далее. И я — семнадцатилетний романтик, который ничего не понимает. Мелькнула мысль — сейчас будут пытать. Мне говорят: «Раздевайся». Я разделся до пояса, как видел в фильмах. А мне говорят: «Раздевайся совсем». Я разделся, меня осмотрели, переписали приметы, сняли отпечатки пальцев. Потом на всей одежде обрезали пуговицы, забрали ремень и шнурки. И после всего этого отвели в камеру.
В камере я оказался один. Это было плохо освещенное помещение, потому что окно, кажется, никто не мыл с момента постройки при Николае I. На окне решетка, а сверху — металлический козырек под наклоном. Виден кусочек голубого неба, и все. Еще в камере был унитаз со спуском воды, что я смог оценить только потом, когда поднабрался опыта. Вода спускалась с помощью кнопки в стене — естественно, ничего висячего, что можно использовать для повешения. Еще был умывальник с нормальным краном и холодной водой, но тогда вообще мало кто знал о существовании теплой воды в кране. Было спальное место — не кровать, а рама с уголком для подушки, то есть не плоская. И еще был металлический столик типа того, что в поездах, и такое же металлическое сиденье. Я огляделся, и в голове мелькнула мысль: «Сидеть мне тут десять лет». Потому что все знали — сажают на десять лет. Я даже не очень испугался, потому что понимал — бред, ошибка, скоро разберутся.
Тогда со мной случился один забавный эпизод. Принесли обед. Открыли кормушку, выдали мне миску и ложку. Понятно, что никаких вилок, ножей и вторых тарелок не было, только эти вот алюминиевые миски. И вот дают мне миску с тюремным псевдоборщом. Я беру ложку, зачерпываю и вижу, что из ложки на меня смотрит глаз — глаз трески. И понимаю, что из волчка, то есть из окошечка в двери, на меня смотрит вертухай. «Ты что делаешь?» — «Я не могу это есть». — «Не можешь — не ешь». Это был мой первый обед в одиночке. Потом, конечно, привык. Правда, с глазами больше не давали.
В этой камере я просидел несколько часов. Было так холодно, что даже пальто не спасало. А вместо страха — удивительное ощущение облегчения: слава богу, никуда не нужно бежать, не нужно больше делать никаких уроков, никаких домашних заданий, не нужно ходить в техникум, я «свободен».
Я тогда был молодой, мальчишка совсем. И очень наивный — во всяком случае, меня совершенно не покидало ощущение, что сейчас прибежит мать и похлопочет, что за меня все будут хлопотать. Забегая вперед, отмечу, что эта уверенность в том, что все обойдется, не покидала меня еще долго. Помню, как через месяц моего сидения я заявил следователю, что совершенно незачем меня тут держать, а лучше меня отпустить домой и просто возить на допросы. А он посмотрел на меня пристально и ответил: «Ну да, вот еще, тебя возить — бензин только тратить». Сволочи, конечно, какие-то генетические сволочи…
Короче говоря, я совершенно не сомневался в том, что все это полная чепуха. К тому же на первых порах я даже и не знал, в чем вообще дело. Потому что хоть я и был еще ребенком, но я все-таки был разумным человеком и даже не мог себе представить, что, пока я тут сижу, кто-то продумывал разнообразные варианты.
Еще раз перескочу чуть вперед. Когда следствие закончено, подследственного вызывают на подписание так называемой 206-й статьи Уголовно-процессуального кодекса. Именно в этот момент подследственному перед судом дают на ознакомление весь материал, и он потом подписывает документ — да, прочитал, ознакомился. И я узнал, кто на меня настучал, как раз когда знакомился с делом. Потому что мне дали несколько папок с дактилоскопией, с фотографиями — тюремными, идиотскими, тюремные фотографии почему-то всегда получаются особенно идиотскими. Вроде бы нормальный человек, а на этих фотографиях получаешься каким-то уродом, страшным бандитом. И вот сразу за фотографиями располагались три заявления, подписанные тем самым Благовещенским. Это была моя последняя «встреча» с ним, потому что потом я не пытался его искать, что-то там выяснять. Только краем уха слышал, что он вроде бы в Судостроительном институте преподавал. И еще вроде бы, что мое дело — не единственное, инициированное этим ответственным товарищем. Но, насколько я понял, находить людей и стучать на них — это не было его личной инициативой. Он, очевидно, был штатным сотрудником органов. Возможно, просто выполнял план. Вот, например, было такое большое «университетское дело», тогда взяли очень большую группу студентов, уже и не помню, что им там «шили». Так вот, вроде бы он к этому делу руку приложил.
Короче говоря, когда я знакомился с делом, я увидел эти три заявления, причем оригиналы. Сначала какое-то ерундовое, написанное от руки. Потом второе, уже более сложное, с внятной направленностью. Скорее всего, он подавал первое заявление в Василеостровское МГБ, по месту жительства. Там, видимо, заявление сразу переправили в Большой дом. А в Большом доме посмотрели — чушь собачья, но не упускать же живой товар, так что его вызвали, что-то надиктовали, и так появилось второе заявление. Но и второго варианта им, наверное, показалось мало, нужно было что-то более сложное и интересное, так что они надиктовали и третье.
Эти заявления, к слову, — идеальная иллюстрация чиновничьего менталитета, который в России существовал всегда начиная с Николая I, да и до него тоже. Все чепуха, но документ есть документ, порядок, номер к номеру, входящий, исходящий, в этом и заключается чиновничья жизнь. И при всей секретности, при всей скрытности, при всей изобретательности обязательно находилась какая-то прорешка, через которую — вж-ж-жить! — и просачивалась информация. Причем совершенно официальная прорешка. Убрали бы они из дела эти заявления, и я бы никогда не узнал ничего. Но — нельзя, таков порядок. Бред, конечно.
Вспоминаю забавный случай. Уже после суда, летом, в ожидании этапа я сидел в общей камере. Нас там было человек двадцать пять, все — 58-я статья, «политические», интеллигентные люди. Были и, так сказать, простолюдины, но нормальные люди, не агрессивная сволочь. И что-то у нас случилось с краном, кажется, он потек. Мы через дежурного пожаловались, и нам прислали ремонтника. А надо сказать, что там везде — на кухнях, в обслуге, везде — работали заключенные — не 58-я, а какие-то походившие, видимо, по мелким хозяйственным статьям, с небольшими сроками. Так вот, этот ремонтник, водопроводчик, оказался тем самым парнем, который мне продавал пистолет. Видимо, они его держали-держали для провокаторских посадок типа моей, а потом и он им зачем-то тут понадобился. Причем сам он, скорее всего, еще когда был на свободе, даже и не подозревал ни о чем. Я его спрашиваю — как, за что, кто тебя? И снова прозвучала фамилия Благовещенского, такие дела.
Сейчас, когда я изредка начинаю кому-то рассказывать о следствии, мне сразу задают вопрос: «Били?» Нет, меня не били. «Ну так а что тогда?» В этом тоже очень много нашего… Но меня не били, я был наивным мальчишкой — за что бить-то? Я мог сколько угодно спорить, говорить, что здесь написано так-то, а на самом деле было так-то, но мне отвечали: «Ты не понимаешь, просто одно из другого вытекает». Как у Пушкина, когда Лжедмитрия ловили на польской границе: «Не всяко слово в строку пишется». В общем, следствие шло гладко, следователь доброжелательно клепал свое дело.
По их мнению, мы собирались рыть подкоп из Ленинграда в Москву под Кремль, под Мавзолей. Ну как же, возмущался я, это же невозможно! «Почему невозможно, — доброжелательно отвечал следователь, — сейчас существуют специальные машины». Да, говорил я, но у нас же не было такой машины. «Но ты же понимаешь, что такая машина есть, — отвечал следователь, — а раз она есть — значит, ее можно приобрести». Ну, отвечал я, теоретически, конечно, можно. И вот так вырисовывалось дело. А подкоп мы рыли, естественно, чтобы взорвать товарища Сталина — или во время майских праздников, или во время ноябрьских, зависело от того, как бы мы успели дорыть. А оружие нам нужно было, чтобы стрелять по солидным автомобилям большого начальства здесь, в Ленинграде. Например, чтобы совершить террористическое нападение на маршала Говорова… И вот меня уговаривают, что это сделать легко, потому что известно же, где живет маршал — в таком-то доме на Петроградской. И мне приходится отвечать, что в принципе, по логике, да, возможно. Я не влезал ни в какие споры.
И вот так вот следствие шло своим чередом. Я не знал, о чем следователь разговаривал с четырьмя моими друзьями-огольцами, которых тоже забрали. Даже когда знакомишься со своим делом — ну кому охота читать все это, две толстенные папки, отношение было такое. И в какой-то момент следствие было закончено.
Я к тому моменту сменил множество камер. Сначала сидел в одиночках, и это было самое блаженное время. Существует очень много пугающих свидетельств того, что одиночки угнетают. Но мне по складу моего характера было комфортно одному — и в тюрьме, и на свободе, везде. Но в один прекрасный день, если эти дни вообще можно назвать прекрасными, меня забрали из камеры со всеми вещами, а раз с вещами, значит, из этой камеры забирают совсем. И ведут в другую. Заводят, я попадаю в какое-то полутемное пространство, ничего не видно, вижу лишь перед собой какой-то большой темный силуэт. А сзади за мной закрывается дверь. Но никакого испуга не было — я понимал, что это, видимо, тоже заключенный. И он говорит: «Многое пережили — и это переживем. Заходи, товарищ». Но заходить мне не нужно было, потому что меня уже втолкнули. И так я познакомился с очень хорошим человеком, фронтовиком, неглупым, еще относительно молодым, по фамилии Кучумов. Сейчас он, конечно, уже не жив. Вообще с возрастом приходит очень странное состояние: все время знаешь, что уже не жив, уже не жив, о ком ни подумаешь — уже не жив… Я уже не помню, за что сидел этот Кучумов, что ему «шили», — наверное, какая-нибудь измена родине, враг народа, любое дело можно было приклепать. Этот Кучумов много рассказывал о фронте. Он был разведчиком, но не шпионом, не Штирлицем, а армейским разведчиком, ходил языка брать. Лежали долгими ночными часами в снегу, не шевелясь… Потом его выдернули от меня, и я снова остался один. А уже после суда мы с ним встретились еще раз в общей камере… Сейчас я не скажу, что мне было скучно в одиночке, — мне и правда хорошо с самим собой. И всегда так было.
Помню, еще шло следствие. Я сидел в одиночке, и мне страшно хотелось курить, причем спички были, а курева не было. И мне пришло в голову надергать из матраса какой-то ваты или, не знаю, какой-то морской травы, завернуть все это в обрывок бумаги и поджечь. Жуткая вещь, дыхание перехватывало. Кажется, я сразу погасил, но чудовищный запах через вентиляцию проник в коридор. А в этот день дежурил маленький, толстенький, крепенький, немолодой забавный вертухай, которого все почему-то называли генералом. И вот я сижу в этом отвратительном дыму, и тут открывается кормушка — в дверях под глазками были еще специальные форточки, через которые передавали пищу, — и: «Сейчас же прекратите!» Требовательный, грозный охранник. Я отвечаю: «Все, уже погасил». Форточка закрывается, он уходит, я слышу по шагам. И тут важно отметить, что в коридорах иногда стелили очень мягкие ковры, и были такие вертухаи, которые старались ходить неслышно, буквально подкрадывались. Бродишь туда-сюда по камере и вдруг видишь, что глазок-то открыт и кто-то за тобой наблюдает. А были и другие, которые ходили совершенно спокойно, обязательно скрипели сапогами и громко открывали глазок. Все, как всегда, зависит от человеческой натуры. И в общем, вертухай ушел, установилась тишина. И вдруг на мгновение открылась форточка, как щелчок фотоаппарата, и в камеру влетел какой-то сверток. И форточка сразу закрылась. Я опасливо подошел к свертку, развернул газету — всегда все заворачивали в газету, — а там махорка, несколько спичек и кусочек чиркалки, чтобы эти спички зажигать. Сейчас от коробка эту чиркалку не отломать, потому что она картонная, а тогда их делали из очень тонкой фанеры. То есть вот такой случай — этот «генерал», которого все считали очень строгим, сделал для меня такое. То есть в любых условиях можно сохранить в себе что-то человеческое. Мне очень запал в душу этот эпизод. Я совершенно не суеверный человек, но мне кажется, что если «генерал» совершал в жизни какие-то грешки, то этот его человеческий жест станет ему одним из прощений.
И вот какую маленькую деталь я вспоминаю. Еще на Шпалерке со мной сидел мужчина, русский, но привезенный из Финляндии. Наверное, шпион, как и многие. Нас всех поражала его обувь и рубашки — ни у кого из наших таких не было. Он предлагал меняться на паек, но никто, кажется, не менялся: считалось, что это будет неэквивалентное обирание человека, еще сохранялись какие-то человеческие устои, которых теперь нет.
Вообще во время моего сидения у меня бывали разные соседи. Однажды ко мне воткнули совершенно безумного человека, даже не сумасшедшего, а находящегося на нижайшем уровне интеллектуального развития. Зачем его посадили? Я не мог этого выяснить, потому что он почти не говорил, только все время ныл, плакал. Он был очень маленького роста, почти без головы, если смотреть сзади, то почти совсем не было черепа. И весь серый — серая одежда, серое лицо, серые руки. Общаться с ним было невозможно, он был с самим собой, я — с самим собой. И его все время таскали на допросы. А как-то я вернулся с прогулки — у нас ежедневно была двадцатиминутная прогулка — и увидел, что он сидит в дальнем углу камеры и бьется головой о стену. Причем по-настоящему бьется, сильно. Вертухай тоже это увидел и, видимо, сразу куда-то сообщил, потому что парня тут же куда-то забрали.
Или, например, был паренек примерно того же возраста, что и я. Как-то так получилось, что он практически ничем не запомнился, потому что был совершенно неинтересен. Единственное, он ужасно раздражал, потому что все время подвывал: «Соколовская гитара. До сих пор в ушах звенит». А дальше он слов не знал. Мы с ним, конечно, о чем-то разговаривали, он был довольно доброжелательный. Потом куда-то исчез, и больше мы с ним никогда не встречались.
Короче говоря, следствие закончилось, меня уже не дергают на допросы, я могу спать по ночам. Потому что во время следствия они дергали на допросы по ночам, с этого они начинали. Если кто-то, с их точки зрения, достаточно покладист, то они ночью могут и не вызывать, дня достаточно. А для ко-го-то это, так сказать, метод дополнительной пытки — только человек ляжет, а его вызывают. Причем могут даже не вести никакого допроса, просто сидит человек всю ночь, потом его где-то часам к восьми отправят назад в камеру, он ляжет, а тут уже подъем, а днем спать нельзя. Такое тихое злодейство.
Сейчас сложно объяснить, потому что считается — подумаешь, не спать, я целую ночь провалялся, заснуть не мог, вот если бы били… И объяснить-то уже некому, сейчас мало осталось сидельцев типа меня, а когда-то было много. Страна в какой-то момент раскололась на тех, кто говорил: «Ну не били, и ладно», и на других, сидельцев, которые не могли объяснить. Может, именно этим можно объяснить некий антагонизм, который есть в нашем обществе. Мы были разделены, причем, мне кажется, это разделение специально провоцировалось властями, специально насаждалось. Так легче управлять.
В общем, по прошествии какого-то времени днем мне говорят: выходи без вещей, то есть я понимаю, что вернусь. Приводят в самый обычный, невзрачный, голый кабинетик со столом и одинокой табуреткой — для меня. За столом сидит судебный исполнитель — какой-то маленький щупленький лейтенантик, совершенно спокойный, нормальный, не злодей. Он протягивает определение суда, с которым я должен ознакомиться: когда будет суд, каков состав суда и так далее. Очередная дикость, ведь дело — полный бред, чушь, но с соблюдением всех формальностей. И я спрашиваю этого лейтенантика: «Скажите по вашему опыту, как думаете, сколько дадут?» Ну, я не сомневался, что дадут, я ведь уже был сидельцем, с людьми общался. Он говорит: «Десять лет». И вот эти его слова меня совершенно подкосили. Я вернулся в камеру совершенно убитым. В камере кроме меня было еще человека три, и я им обо всем рассказываю. И совершенно пропадает аппетит, на баланду даже смотреть не мог, сутки не мог в себя прийти. Десять лет! Но к моменту начала суда успел привыкнуть.
Суд был недели через две. Меня определили в военный трибунал. Потому что Юрка Евдокимов из нашей компании, который тоже проходил по этому делу, был курсантом Артиллерийского училища. А военный трибунал в те времена осуществлялся в двух местах — один областной, второй окружной. Один был в здании Главного штаба: если по Герцена прямо подходить от Центрального телеграфа к арке Главного штаба, но не выходить на площадь, то у самой арки слева были подворотня и дверь. Туда привозили на «воронках». А второе место было на Песочной набережной одной из Невок, в самом конце Каменноостровского. Очень отчетливо помню подвальное помещение, решетку от стены до стены, в решетке — дверь. Нас посадили, вокруг охрана, вертухаи. Все довольно спокойно, вертухаи — ко всему привычные, они на нас, кажется, вообще внимания не обращали. На меня почему-то нацепили наручники и повели на второй этаж, в коридор, в котором очень много людей, собрались все наши родственники. А у Володьки Воробьева, еще одного из наших, родителей не было, он с теткой жил. И, когда мы появились в этом коридоре, заполненном родней, все молчали, а она сказала: «У, мерзавец!» Мне эта ее фраза показалась очень незаслуженной, возможно, поэтому я ее и запомнил.
В зале суда уже были собраны какие-то свидетели из СХШ и следователь Ковалев, то ли капитан, то ли старший лейтенант, тщедушное существо, как и все эти службисты, из породы харкающих — у каждого из них в кабинете около стола обязательно стоял таз с водой, и они туда харкали. Наше дело было настолько жидким, настолько на коленке сляпанным, что они все явно беспокоились, пройдет или не пройдет. Хотя, конечно, не пройти не могло, потому что это их суд. И все равно в них сидел этот страх. К тому же кроме звездочек за каждого «врага» к собственному окладу они получали по 70 рублей, то есть им это все было выгодно. И еще оценивалось, что тот следователь провел за месяц столько-то дел, а этот — столько-то. Чудовищная, порочная система.
Тогда еще не было клеток, зверинцев, как сейчас, мы просто сидели за загородкой. И перед каждым из нас сидел адвокат, и это был совершеннейший фарс. Речь каждого адвоката начиналась с того, что «мозг холодеет от преступлений этого человека», и так далее, и так далее. «Но я считаю, что… Прошу суд учесть… его возраст, его идиотизм…» Но мозг у них холодел все равно.
Еще помню судью. Какой-то подполковник или полковник, очень матерый. Он выглядел как солидный, стареющий театральный актер, этакий Станиславский-и-Немирович-Данченко. У него не было на правой руке одного пальца, то ли указательного, то ли большого.
И началась рутина. Встаньте, ответьте, встаньте, ответьте. Прокурор, как и всякий прокурор, даже в этих игровых условиях выливал на нас ушаты грязи. Даже в этих искусственно созданных обстоятельствах они не могли играть по-человечески. Вернее, особенно в этих обстоятельствах. То есть, по словам прокурора, наше преступление было достойно Нюрнбергского процесса и по последствиям, и по подготовке.
И в общем, в связи с отменой смертной казни нам всем дали по 25 лет. Очень странное ощущение — насколько ужасно на меня подействовало предположение того лейтенантика по поводу десятилетнего срока, настолько спокойно я воспринял реальный приговор. Потому что мы все понимали, что все наше дело — чушь собачья. Я еще, помню, прикинул — когда выйду, мне будет сорок два года.
Дальше, когда все закончилось, нас привезли назад в Большой дом и распихали по разным общим камерам. В Большом доме с трех сторон квадрата двора расположены камеры, и есть еще четвертая грань, которая выходила в другой двор, не в прогулочный, и как раз в эту часть сажали людей, которые после суда ожидали приговора и должны были отправляться по местам отбывания срока. На Шпалерке, в Большом доме и еще много где сидели только политические, с уголовниками нас не смешивали, и за это я очень благодарен системе. Забегу немного вперед — когда я приехал в Воркуту, в лагерь системы спецлагерей Речлаг, там тоже была только 58-я статья с разными подпунктами. Например, нам приписали много всего: 58–10 — антисоветская агитация и пропаганда, часть 1-я — это в мирное время, часть 2-я — в военное; 58–11 — это когда действует не один человек, а группа; 58-8, пункт 17 — что-то вроде попытки осуществления террора; 58-9, пункт 19 — подготовка к диверсии; еще 182-я, кажется, причем я не помню, какой пункт, — хранение и приобретение оружия. А вокруг — такие же «враги народа».
Удивительно, но я практически не сталкивался с агрессией, какой-то ангел-хранитель меня защищал, не иначе. Помню, на Шпалерке произошел один случай. Естественно, нас постоянно обыскивали, шмон бывал едва ли не ежедневно. Хотя у нас ничего не было — в камерах сидели кто в чем был, кого в чем забрали: кто-то, кого забрали прямо из дома, сидел в рваных носках и кальсонах. Но эти обыски — они были постоянным напоминанием о бессмысленной жестокости, которая повсеместно царила в Совдепии. Каждое утро нам выдавали хлеб — 400 граммов одним куском на весь день. Но, естественно, ровно разрезать не удавалось, так что к кускам, которые были меньше 400 граммов, пришпиливали маленькие кусочки, и делалось это деревянными щепочками. И как-то раз мне попалась очень ровненькая, прямоугольная, хорошая щепка, потом вторая. Я какой-то ниткой их связал, и получился крестик… Важная штука — я бы назвал себя верующим человеком, но у меня есть своя концепция Бога, выдуманная, фантастическая, но своя. Моя вера не построена по какому-то поповскому принципу, она своя. И эту концепцию веры я пронес с собой через всю жизнью. Хотя у нас семья была совершенно нерелигиозной и я до сего дня не крещен. У нас была небольшая репродукция в рамке — Моление о Чаше. И, очевидно, что-то дедовское было спрятано. Нам сделали водяное отопление только к середине 1960-х, до этого мы топили дровами, которыми были забиты двор, сарай и подвал. Я помню, как однажды бабушка топила печку, сжигала в ней что-то ненужное и вытащила кочергой почерневший окладик. Это все, что я помню о религии в нашей семье… Так вот, сделанный мною крестик был спрятан где-то под подушкой. И как-то пришли с обыском два вертухая. И один из них нашел крестик. Он его взял в руки и, ерничая, ткнул мне в лицо: «Целуй крест». А я взял и поцеловал. Это его очень смутило, он замялся, отложил крестик и закончил обыск.
Отправляли внезапно. «Собирайтесь с вещами» — и все. И, как у Солженицина, перед любым таким действом, перед любой твоей отправкой из тюрьмы обязательно баня. Условная баня — душ, теплая вода и так далее. Потом, после помывки, вывели во двор корпуса с общими камерами, там уже стоял «воронок» — он стоял задом к торцевой двери, и в него всех заталкивали. Погрузили нас в «воронок» и повезли через Неву, к Крестам, но там не высадили. «Воронок» устроен следующим образом — шоферская кабина, а сам фургон чуть выше кабины, и сверху, над кабиной, крошечное зарешеченное окошечко. На тот момент нас в фургоне было двое — я и Юрка Евдокимов, хороший парень. И вот мы с Юркой сели вперед и стали смотреть в это окошечко — все-таки виден город, тепло, солнышко, светлый августовский день. А вертухаи, которые сидели у задней двери, сказали нам: «Садитесь сюда, рядом с нами». И мы, естественно с неохотой, туда пересели. Но потом поняли, в чем дело. Дело в том, что в Крестах весь «воронок» забили всяким ворьем, гопниками, сволочами. И вертухаи не хотели, чтобы мы остались в глубине фургона вообще без охраны — нас бы там, конечно, не убили, но ограбили бы точно. Фургон забили не людьми, а совершеннейшими животными. Это как попасть в клетку со львами: что бы ты о них ни думал, они остаются львами и тебя совершенно не понимают. Так что эти вертухаи нас, в общем-то, спасли.
Дальше у меня почему-то какой-то провал в памяти, воспоминания начинаются уже вечером, в сумерках. Или, может быть, погода переменилась, не знаю. Но вдруг мы оказались на Московском вокзале, наверное, после того как объехали еще несколько тюрем, кого-то высаживая, а кого-то, наоборот, забирая с собой. На каких-то дальних путях Московского вокзала, в районе Обводного канала, стоял большой состав, теплушки, товарняк. Не столыпинские вагоны, которые как обычные, заранее сделанные под тюремные, а обычные пульмановские коротенькие товарные вагончики, деревянные. Людей загружали порциями — сначала в одну теплушку, потом в другую, потом в третью. У них был такой метод: они не хотели большой толпы в одном месте, потому что охраны было не очень много. Помню, что полвагона занимали западники-украинцы, так называемые бендеровцы. Не уверен, что все они были бендеровцами, в основном просто крестьяне, такие чернявенькие. И еще в нашем вагоне почему-то были пленные немцы — военнопленные, которые для числа, для увеличения количества рабочих рук были осуждены как военные преступники, хотя в большинстве своем они, как и мы, никакими преступниками не были. И меня поразила странная деталь — от немцев все время исходил какой-то странный запах, и мы никак не могли понять, чем это пахнет. Потом выяснили: они так боялись всяких насекомых — вшей, клопов и прочей гадости, — что делали какие-то средства из подручной дряни и этим противным составом мазались.
Мы с Юркой улеглись на нары, и поезд тронулся. И никто не знал, куда мы едем. Не спалось — новая обстановка, незнакомая, все неожиданно. Ехали так полночи, и вдруг поезд остановился, немного постоял и поехал в другую сторону. И всеми овладело какое-то идиотское чувство: «О, назад, назад повезли, назад!» Странно — совершенно не было страха и агрессии, все очень спокойно. И вот все везут и везут назад, уже Ленинград должны были проехать — и дальше в Финляндию. Но это, конечно, просто были какие-то другие пути. На следующий день нас привезли в Вологду. Помню, что весь этап, очень много людей, вели пешком через Вологду, и люди, местные жители, вообще никак не реагировали. Очевидно, они каждый день все это видели и уже привыкли к тысячным этапам. В общем, привезли нас на вологодскую пересылку — в Вологде была очень большая пересыльная тюрьма, в которой комплектовались этапы. Я помню вологодскую камеру с двухэтажными нарами. Вокруг — сплошная 58-я статья, всех стригут под машинку. Помню огромную очередь на стрижку, причем под ноль стригли не только головы, но и лобки.
Ночами было холодно, мы натягивали на себя что могли, то есть буквально все, что было. А у немцев — видимо, есть у них какая-то национальная жилка, — у каждого было одеяло, сложенное пополам и зашитое со стороны ног, то есть такие подобия спальных мешков. Ночью немцы в этих мешках спали, а днем просто лежали на них. Еще с нами сидело много прибалтов.
Мне очень понравилось на вологодской пересылке, особенно понравилась кормежка — я же долго ничего путного не ел, а там давали чудесные наваристые щи, конечно, без мяса, но явно на мясе. Но все довольно быстро закончилось — дня через три нас снова собрали, и мы опять пешком через город пошли на станцию, к теплушкам. И опять мы не знали, куда нас повезут.
Естественно, среди нас находились и те, кто уже бывал в лагере, ветераны. Они авторитетно делились с нами опытом, давали рекомендации — как себя вести в лагере, что отвечать на вопрос о том, в чем ты специалист, какую заявлять должность. И они по направлению движения поезда могли более или менее точно предсказать, куда нас везут. И вот тогда прозвучало это слово — Воркута. Единственное, что я знал из школьных уроков географии, — что Воркута — это уголь, почему-то зацепилась во мне эта информация. Вот и все.
Причем этап формируется очень интересно. На пересылке есть обязательная процедура — неважно, днем или ночью, всю камеру вызывают в коридор, выстраивают, и тогда входит кто-то, какой-нибудь мордоворот в гражданском костюмчике, — «покупатель». Он ходит и всех внимательно осматривает и «закупает» себе рабов — на шахты или еще куда. Совершеннейший рабовладельческий рынок. Конечно, мышцы не щупали, но обращали пристальное внимание на возраст, в цене были мальчишки. Но ты сам не знаешь, отобрали тебя или нет, это уже только потом выясняется, на этапе.
Нас везли очень долго, наверное, около четырех суток. Давали какой-то хлеб и обязательно кипяток — такой, что его невозможно пить. И две кружки. То есть наливают две алюминиевые кружки и передают — пейте, их выпивают, передают обратно, снова наполняют и так далее. Но это только во время стоянок. Все торопятся — давай скорее пей, а кружки раскалены от кипятка. Такая своеобразная маленькая разновидность пытки — всегда в России этот вечный кипяток в алюминиевых кружках. Только хлеб и кипяток, но ощущения голода при этом почему-то не было.
И вот мы куда-то едем, через зарешеченное окно ничего не видно, только какие-то елки все время мелькают. Кипяток. С противоположной от двери вагона стороны туалет — небольшая дырка, обитая жестью, притом как следует обитая, гвоздей пятьдесят, чтобы, не дай бог, не сорвали и не выпрыгнули через нее.
Потом я осознал: великое счастье, что на Воркуте нет леса, а то был бы лесоповал. Но пока я этого не знал. Пока мы только приехали. Август, очень тепло, зеленая трава, а больше там ничего не росло. Интересно, что, когда я оказался на Воркуте в 2008 году, я увидел заросшие заброшенные поселения, там вырос кустарник, высокий. Но тогда, когда я там был первый раз, никакого кустарника не было, только трава.
Нас высадили из поезда и велели сесть на землю. Почему-то так принято, чтобы люди не стояли. Наверное, потому что, когда ты сидишь, ты обездвижен. Мы сидели на насыпи, под уклоном, рельсы были примерно на уровне наших глаз. И мы не видим, что находится там, за рельсами. Видна только водонапорная башня, водокачка красного кирпича и какие-то дымы. Совершенно ровная территория, почти никакого рельефа, какие-то заборы, какие-то будки и трава.
Немцев сразу отделили, посадили в какие-то вагончики и увезли. Осталось немного прибалтов, очень много «бендеровцев» и, кажется, я — единственный горожанин, ленинградец. Нас снова затолкали по вагончикам, очень плотно. До сих пор помню, что неудобно встал, у меня вывернулась нога, и я все никак не мог поставить ее на пол.
Везли нас не очень долго, стояла светлая ночь, практически солнечная, то есть почти день. Вернее, ласковые светлые сумерки. Нас куда-то привезли, высадили и выстроили в колонну, каждого — с вещами. Но вещей у всех было мало, так, мешки какие-то. И мы пошли мимо домишек, полумазанок, вросших в землю по окошки, — там жили вольные. А нас вели в лагерь. Помню, как какому-то большому сильному парню из западников конвой велел взять огромный сундук — у щупленького еврейчика, тоже с Западной Украины, как потом выяснилось, зубного врача, был этот сундук, но он его не мог нести, сил не хватало. А лагерю нужен был свой зубной врач, тогда вообще любого врача сразу брали за задницу. Сундук, очевидно, был тяжелый, потому что здоровенный детина, такой же зэк, нес его с трудом, пока наконец просто не бросил на землю. А в сундуке была вся зубоврачебная мастерская, такое бросать было нельзя. Так что конвой заставил нести уже двоих.
Куда-то пришли, увидели шахту и что-то еще. Сначала мы не знали, что это породные отвалы. Они горели, шел сизый дым, тянулся неразрываемой полосой. Потом мы узнали, что это самовозгорания, так как в породе остаются частицы угля, они и горят. Вся Воркута была пропитана этим сизым дымом, угаром, к которому пришлось долго привыкать.
Что еще? Будки, охрана, над воротами — плакат «Труд в СССР есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».. Мы подошли к воротам, забора нет, только столбы с колючкой, так что видно насквозь. Видны какие-то бараки. Нас стали бесконечно пересчитывать, перестраивать, перетасовывать, а потом ввели внутрь. С той стороны полно народу, все смотрят на нас, новеньких. Там всегда смотрят, потому что — а вдруг кто знакомый? Особенно это землячество сильно развито у прибалтов и западников. Нас разместили в так называемом БУРе — бараке усиленного режима, по сути, в карцере. Но не за какую-то провинность, а по необходимости, потому что нас еще пока не отсортировали. Бараки тоже были одноэтажные, каркасно-насыпные, но это потом. А пока мы оказались в БУРе, в котором нас продержали 21 день. Нас тогда еще не гоняли на работу, можно было спокойно гулять по лагерю. Это был карантин. Как бы ни пытали потом трудом, карантин — это закон…
Еще в Ленинграде, еще когда забирали, я ничего не знал про существование лагерей. Так что это было своеобразным открытием, но почему-то не было какого-то взрыва эмоций. Возможно, потому что успел привыкнуть, на вологодской пересылке, как и на всех прочих пересылках, собирается всякий народ — кого-то везут на доследование, ко-го-то — на пересмотр дела, еще куда-то. Так что старожилы успели рассказать, что будут ла-ге-ря.
Находясь на карантине, мы почти свободно передвигались по лагерю. И поражались — все вокруг было построено руками зэков. Там даже был достаточно большой клуб. Несколько раз нам там читали какие-то лекции — что такое шахта, как устроены ее слои, что-то о разных специальностях. И еще нас водили на некое подобие экскурсий в шахту, чтобы мы воочию все это увидели.
В первый раз, когда нас повезли на шахту и мы ходили по штрекам с фонарями, у меня возникло очень странное ощущение. Там было очень слабое освещение, но к этому быстро привыкаешь. Нам сказали: «А теперь давайте вот в эту дырку!» Нормальный большой тоннель, и в нем дырка небольшая от пола. И вот тогда у меня возникло ощущение, что мы сейчас юркнем туда ногами вперед и снова сможем нормально стоять. То есть я думал — там совсем не глубоко. Но мы все ползли по этой дырке, по этому низкому проходу, и все было не встать, и во мне зародился странный испуг — с тех пор я панически боюсь низких помещений, в которых не могу подняться, не могу стоять в полный рост. Нам объяснили, что мы попали в саму лаву, в саму угольную разработку. Самый маленький слой этой разработки — 6о см. То есть лежишь на спине, над тобой потолок, и все это под уклоном градусов тридцать. Очень неприятное ощущение. Еще нам показали проходческую машину, которая роет уголь. Меня всегда интересовала механика, так что, когда показывали машину, мне было любопытно. А потом мы снова юркнули в какую-то дыру и встали нормально. Это был так называемый откаточный штрек.
Когда мы только приехали в лагерь, никаких уркаганов уже не осталось, никакой сволочи, только, может быть, человека три-четыре. Их должны были перевести в уголовный лагерь, но не все этого хотели. Они прекрасно понимали, что, живя среди нас, они сохраняют свою жизнь — спокойно живи, и врагов не будет. А в уголовном лагере резня и прочее. Поэтому очень многие держались, зарывшись среди нас. И один из них заметил, что у меня есть зимнее пальто, потому что я тогда еще был одет как вольный. И он меня стал уламывать, чтобы произвести обмен: вот, тебе среди людей жить, тебе что, нужно портить отношения?.. Взамен он мне принес телогрейку, в которой я бы стал совсем лагерной внешности. И я ему отдал пальто, потому что очень не хотел выглядеть белой вороной. То есть он меня обчистил совершенно легальным способом. Я же сам и виноват.
Через какое-то время кончился карантин, и сразу изменилась погода. Там вообще погода меняется почти мгновенно — когда приходит весна, начинается очень бурное таяние. А осенью резко становится холодно. И к моменту окончания нашего карантина наступила мерзкая погода, пошел снег, стало холодно. И охрана — в основном почему-то «комики», из Коми. Они бегали, суетились, пересчитывали нас, строили по трое или по четверо. Это все происходило на территории лагеря — нас строили, чтобы вести в шахту. Потому что у некоторых шахт были сделаны специальные коридоры, огороженные колючей проволокой. А у нас расстояние между 6-й шахтой и нашим лагерем было небольшое, метров восемьсот, но по пути нужно было преодолеть несколько дорог и несколько железнодорожных путей, так что коридор было не построить. Так что мы просто там шагали под конвоем. И всегда обязательно звучало напутствие: «Шаг вправо, шаг влево считается побегом, стреляем без предупреждения». Стандартный набор, который отнюдь не является литературной выдумкой — мы эти слова частенько слышали.
Я получил назначение — лесогон. Есть вагонетка, как обычные вагонетки, но без кузова, зато у нее торчат металлические стержни. На нее кладут стойки, дерево, доски и так далее. И я должен был это развозить все это по определенным местам. Тяжелая, неприятная работа, особенно для меня — городского мальчонки, не самого физически сильного. К тому же было довольно голодно. Но я там проработал недолго, всего четыре или пять дней.
Метрах в тридцати от вахты был домик, небольшая постройка — столовая. Перед сменами мы там ели и пили, и тут же, напротив столовой, нас строили в колонну. Мы стояли там и жались от холода. А у самой столовой была пристроена как бы открытая веранда — кровля на стоечках, перильца. Несильная, но все же хоть какая-то защита от пурги, от лютого ветра. И туда набивалось очень много народу, человек по триста. Стояли, жались друг к другу, так теплее. И рядом со мной кто-то спросил: «А ты откуда, малец?» Я поднял на спрашивавшего глаза — стоит большой мужик, здоровый, рыжеволосый. Я говорю: «Из Ленинграда». «А где ты там жил?» Я говорю: «На Марата». «Я тоже оттуда. Земляки! Я с Моховой…» То есть если бы он сказал, что он, например, с Невского, я бы, конечно, не поверил. Потому что в лагере есть неписаный закон — почти никто сразу не говорит правду. Это как будто в лагерной крови. Но когда у меня Марата, а у него Моховая, это уже как бы пароль друг для друга, что не врем. Потому что неленинградец этих улиц не знает. Вот про Москву я знаю, что есть Тверской бульвар и улица Горького, которая теперь Тверская, и все. Ну еще Садовое кольцо. Я бы не мог сочинить какое-то другое название. Так что разговор продолжился. «Слушай, а где ты работаешь?» Я говорю: «В бригаде у такого-то, допустим, Иванова-Сидорова-Петрова, лесогоном». — «Ага. Знаешь что, давай-ка иди в такой-то барак, спросишь у дневального, где живет Иван Шпак. Иди туда, ложись на койку и отдыхай». Я ему: «Как же, а вот…» — «Не волнуйся, я скажу твоему этому Сидорову-Иванову, и все будет в порядке. Иди». Ну я и пошел. Потом оказалось, что он — начальник шахтного мехцеха, большое дело, фигура, хоть и зэк. Конечно, не главный инженер шахты, но тоже авторитет. И в общем, мне показали, где живет Иван Шпак. Это было немного похоже на купе поезда — две койки, между ними тумбочка, окошко какое-то. Я лег и мгновенно провалился в сон, потому что страшно хотел спать. Очнулся я только тогда, когда сам Шпак пришел с работы после смены. Мы с ним поговорили, и он сказал: «Вот что, ты на шахту больше не пойдешь…» А я как раз делал халтурку для заведующего клубом, начальника КВЧ — культурно-воспитательной части. Это был вольный, офицер. И на следующий день меня действительно взяли работать дневальным в этот клуб. То есть мыть полы, топить печи и так далее. Вот таким образом он меня выдернул из шахты и, возможно, спас от смерти. И какое-то время мы с ним общались. Он сидел за что-то военное, кажется, за то, что был в плену.
В клубе к тому времени был еще один дневальный — Толик Гришин. Он был старше меня, так что считалось, что он бригадир, а я единственный член его бригады. И мы с ним довольно долго работали вместе. Не сказать, что было легко, хотя, конечно, значительно легче, чем на шахте. Оказалось, что там все отапливалось углем, но никакого угля с шахты на эти нужды не поступало — совершенно по-советски. Значит, уголь нужно было добывать самим. Так что, если у тебя заканчивались запасы угля, в определенный час ты присоединялся к колонне дневальных с самодельными санками, на которых были установлены бочки, какие-то ящики или коробки от посылок, и эту колонну под конвоем отводили на шахту. И там нам разрешали брать уголь, оставшийся в терриконике — в природном отвале. Его было очень мало, все ползали по породе и выискивали крошечные кусочки. Редко везло и удавалось найти большой кусок, к углю относились как к золоту на приисках. Мне приходилось довольно часто ходить за углем, потому что излюбленной фразой Толика было: «Запас в жопу не ебет». Но надо отдать должное Толику — он не посылал меня за углем, мы с ним ходили вместе. А стояла страшно холодная зима, гора обдувалась жутким ледяным ветром, а уголь мы собирали руками. А еще предстояла дорога назад, тяжелая дорога, в гору, потому что лагерь был расположен выше шахты.
Там происходило разное. По терриконику были проложены рельсики, по которым ходили вагонетки с отработанной породой. Они доходили до опрокида, сыпали породу и катили назад. Терриконик все время разрастался и в высоту, и по площади и частенько засыпался за ограждение шахты. И когда вертухаям на вышках казалось, что кто-то зашел слишком далеко, уже за территорию шахты, где как раз было самое большое количество угля, потому что там никто не собирал, раздавался крик: «Ложись на снег!» И все ложились на снег, кто на спину, кто на живот. По полчаса держали на снегу в наказание.
Через какое-то время я, уже не помню, каким образом, прослышал, что бригада ассенизаторов — это синекура. И через какое-то время туда попал. Оказалось, что это действительно лагерная синекура. Поскольку на Воркуте почти все время зима и холод, то, мягко выражаясь, говно в общественных сортирах смерзалось в твердую коричневую массу без запаха. Были определенные приемы, как очищать ямы. О брезгливости никто не думал — какая брезгливость может быть в лагере? За каждым ассенизатором был закреплен сортир на три-четыре очка, под которыми все это вырастало замерзшей пирамидой. А мы не дожидались, чтобы пирамида вырастала до такой степени, когда ее уже нужно вынимать, мы периодически обсыпали ее соломой. Получался как бы слоеный пирог, с помощью ломика эти пласты очень легко отделялись друг от друга, и их можно было вручную выбрасывать наверх, грузить на специальный короб и вывозить на лошади.
Это, конечно, в сравнении со всем остальным была синекура. Во-первых, не такой физически страшный труд, как на шахте. Ассенизаторы, три-четыре человека, жили отдельно, им давалась какая-то крошечная добавка к пайку — якобы за вредность. А во-вторых, они без охраны на лошади могли выезжать за зону. Конечно, все проверяли — кто, что, какая статья, что везешь. Но там ведь куда бежать? Вокруг на сотни километров простиралась тундра. Хотя и беглецы, конечно, тоже попадались, но о них позже. Еще была баня без ограничений. Так что, в общем, было хорошее место — настолько хорошее, что меня довольно быстро «съели», выпихнули ради кого-то другого. И я попал в котельную — там вообще была красота. Тепло, физически тоже ничего особенно уж страшного: периодически забрасывать уголь в топку, шуровать длинной кочергой. Два высоких шуховских котла, которые обогревали весь лагерь — не один барак, а всю территорию, включая больницу, кухню и так далее. Только к начальству это тепло не шло — у начальников были свои зэки, которые топили печи.
Проработал я там какое-то время, и все было ничего, вполне себе жизнь. Единственная настоящая проблема — я там весьма голодал, жрать мне хотелось постоянно. Очевидно, я был в том возрасте, когда организм постоянно требовал подпитки, а еду давали в очень ограниченном количестве. И вот в один прекрасный день, месяца через три-четыре после того, как я попал в котельную, дежурю я дневальным в клубе, и вдруг меня вызывают в штаб к оперуполномоченному. А в лагере этого очень не любили — сразу могло пасть подозрение, что ты стукач. Хотя это глупость, конечно, потому что стукачи имели свои ходы, не нужно было их громко зазывать: «Такой-то, давай в штаб!»
Короче говоря, вызывают в штаб. А я думаю — зачем, почему? Это могло плохо закончиться, потому что они любили заставлять тебя стучать, соблазняли чем-то, потом угрожали. Я поплелся в штаб. Пришел, передо мной какой-то офицерик: «Вы почему домой не пишете?» — «Как это не пишу? Я пишу домой, раз в месяц открыточку посылаю». Такие старые открытки, желтоватые, на полукартоне. «Я пишу», — говорю. И понимаю, что они, очевидно, не доходят, не проходят цензуру. Цензорами тогда работали всякие девки, бабы — дочки и жены того же начальства. Им не хотелось все это читать, так что они могли получить пачку писем на прочтение и просто выбросить. И это тоже отлично характеризует наш народ-богоносец… Ну да ладно. Я говорю: «Наверное, цензура, мало ли что». «Ну хорошо, — отвечает мне офицерик. — Нате вам открытку, напишите буквально пару слов и свой адрес. А я сам открытку отправлю». Я написал, отдал ему. Очевидно, он ее отправил своей почтой, бесцензурной, обычной. И через пару недель я получил посылку. То есть мама и бабушка узнали мой адрес, а до того они вообще ничего не знали о том, где я. Думаю, мама куда-то писала о том, что ее сын пропал, и обязанностью всяких больших начальников было предоставить ей информацию. Но они ничего не предоставляли. А этот офицерик мне помог, спасибо ему за это.
И я стал получать посылки: еду, табак, теплые вещи. Хотя с теплыми вещами было сложнее, потому что они не должны были быть верхней одеждой, только что-то типа свитерка, жилеточки какой-нибудь. И никаких носков — они до обидного быстро бы стерлись, так что обмотки, портянки — лучшее, что можно себе представить, еще со времен царя Гороха.
После того как я начал получать посылки, у меня сразу появились своего рода друзья. Например, я в клубе последний человек, дневальный, а первые человеки — два художника. Причем один из них, так сказать, главный, — он и художником-то не был. И это тоже чисто по-лагерному, так полагается. Лагерь не рассуждает, можешь ты или не можешь, есть у тебя талант или нет. Цепляйся! Если получится, сразу называй себя скрипачом. Ты можешь даже не представлять, что такое скрипка, — неважно. Главное — зацепиться хотя бы на день, а на следующий день ты будешь знать, что такое скрипка и как водить по ней смычком. Такой своеобразный неплохой адаптационный инстинкт. Или, например, ты узнаешь, что есть вакансия пилорамщика. Ты никогда не знал, что такое пилорама, что это за рама и что она пилит, — неважно, говоришь: я пилорамщик. Потом приходишь и не знаешь, где она стоит, что надо делать. И на следующий день учишься.
Так и этот старший художник, Артюхов… Вообще странно, я многих фамилий не помню, а этого запомнил, хотя ничего он из себя не представлял. А вторым был очень хороший парень Коля Касьянов из Севастополя, постарше меня. Мне тогда было восемнадцать лет, а ему, наверное, года двадцать два — двадцать три. Очень хороший, очень добрый человек. Наверное, уже не живой, хотя кто его знает? Все лагерники, сидевшие почему-то очень долго живут. Медицина и статистика на это не обращают внимания, а стоило бы… Короче говоря, Артюхов и Касьянов стали меня привлекать к написанию всяческих плакатов. И я начал писать за них плакаты, рисовал всяких шахтеров с отбойным молотком на деревянных щитах, сколоченных из неструганых досок. Было похоже на творчество плывущего на корабле Остапа Бендера. И еще какие-то стенгазеты, потому что общественная жизнь обязана была продолжаться.
Вспоминаю, что в лагере было абсолютно спокойно. Конечно, какие-то эксцессы случались, но значительно позднее, где-то году в 1954-м, в весну моего освобождения, в другом лагере. Это были эксцессы скорее не личного характера, не личной заносчивости, а всякие политические мести, которыми занимались западники, псевдобендеровцы. А сначала было спокойно. Хотя посылки в бараке держать было невозможно — воровали. Это, очевидно, в крови. Не украсть было нельзя. Те же дневальные, когда все уходят работать на шахту, могли шерстить по тумбочкам. Так что посылки приходилось хранить в клубе.
В общем, моя жизнь проходила на 6-й шахте, на окраине мульды. Мульда — это география залегания каменного угля. Очень большая многослойная воронка и еще громадная площадь вокруг порядка 30 км в диаметре. Я появился в лагере в августе, скоро началась зима — там очень быстро наступает зима, сразу после лета, — и где-то до весны, до мая-июня, я был на 6-й шахте. И в результате нашего лазания по терриконикам за углем началась страшная простуда. Хотя должен отметить, что в лагере я почти не болел. Болеть я прекратил сразу после ареста. До ареста, дома, у меня все время были то ангина, то грипп, я постоянно болел, пропускал очень много занятий. А потом меня арестовали, и как рукой сняло. Очевидно, громадную роль сыграл какой-то психологический фактор.
Но очень сильная простуда все-таки началась, плеврит. Предполагаю, что это была начальная стадия чахотки. А надо сказать, что в клуб к Артюхову и Касьянову часто захаживали всякие офицерики и заказывали им «ковры». Эти засранцы приносили клеенку или кусок ткани, и нужно было на этом материале изображать пруды, белых лебедей, поля цветов. И чем примитивнее был рисунок, тем выше он ценился. Потому что обо всем остальном нужно было думать, размышлять, а тут все просто. Эти «ковры» было модно развешивать над кроватями. И благодаря этим «коврам» у нас появился некий блат, так что меня с моим плевритом положили в барак, где расположился легочно-чахоточный стационар. Коля Касьянов постоянно приносил мне туда еду в котелке, порой что-то совершенно невиданное, что доставал через вольных, — например, пол-литровую бутылку рыбьего жира. Так что я лежал в окружении чахоточных и чувствовал себя немножко избранным.
И вот примерно тогда прошел слух, что на 1-й шахте, которая называлась Капитальной, начальству надоели коррупция и жульничество лагерных придурков — нарядчиков, работников столовой и всяких хозяйственных служб. Короче говоря, начальству этой шахты надоела их собственная придурня, и они якобы захотели заменить ее на другую. И несколько нарядчиков нашей 6-й шахты как-то вызвались, заявили о себе. Я, непонятно как, тоже оказался в этом списке, хотя все еще лежал в туберкулезном диспансере. Наверное, пролез через знакомство с «коврами-лебедями». И в один прекрасный день я отправился на Капитальную.
День действительно стоял прекрасный, солнечный — редкость для Воркуты, даже летней. Артюхов и Касьянов были очень против того, чтобы я уезжал, вообще наш отъезд держался в каком-то странном полусекрете. Так что я быстро со всеми попрощался, и в теплушке нас вывезли за территорию зоны в сторону Капитальной.
Я ничего не знал об этом месте, только слышал, что фактически эта шахта находилась в городе. То есть, конечно, не в самом городе, а на его окраине. Мы очень быстро туда приехали. И меня сразу заворожил пейзаж, река Воркута. Даже есть фотография этого места — не моя, другие люди сделали, в 1956-м, мне много лет спустя в «Мемориале» сделали ее копию.
Когда мы приехали на Капитальную, нас, естественно, сразу же отправили на карантин, так что мы просто валялись на нарах в каком-то бараке и отдыхали. А в это время на шахте началась буча — местные хотели остаться на своих местах, а тут прибыла целая толпа конкурентов. Но открытых конфликтов не было, просто каждый пытался подсидеть ближнего. Но меня это не касалось, я вообще никто, художник. А художник, как и дневальный, — говно. Так что я просто бездельничал, сидел на завалинке на солнышке, никого не знаю, сам никто и звать никак.
И вдруг словно из-под земли появляется мой ангел-хранитель Иван Шпак. «О, а ты чего тут?» — «Да вот как-то так…» — «Хорошо, слушай, а тебя куда-то уже определили?» — «Не знаю!» И опять повторяется старая история, и я делаю какую-то халтуру для начальника проектной конторы. А потом: «Ты же рисуешь?» — «Рисую». — «Чертить умеешь?» — «Конечно, нет, но зачерчу!» — «Нужен копировальщик…» А тогда все чертежи копировались на кальку с помощью туши, чтобы потом синьковать. «Давай, — сказал мне Шпак, — я тебя устрою копировальщиком в проектную контору. Я поговорю с Рахмелем…» Рахмель — такая была фамилия у начальника проектной конторы, вольного.
Буквально через полтора дня ко мне пришел какой-то зэк, который был в той конторе инженером, — пришел познакомиться и понять, что я за человек. Потому что проектная контора была, конечно, синекурой — мое любимое слово. Так что они не очень хотели, чтобы среди них появился кто-то новенький. Но инженер понял, что я не представляю никакой опасности. И я оказался в проектной конторе.
Сначала вокруг меня царила несколько настороженная обстановка, но меня спасла непосредственность, которая с детства была у меня в крови. Видимо, я не очень-то обращал внимание на эту настороженность и вел себя как всегда, естественно. Начал работать — перо, тушь. И мне сразу кто-то сказал: «Женя, так не делай». — «А как?» — «Это надо делать рейсфедером». — «У меня нет». Я даже не знал, что это такое. «Ладно, я тебе дам. Но учти, это мой рейсфедер». В результате у меня этот рейсфедер остался до конца, потому что ему, моему соседу, он был не нужен — он был инженером, чертил карандашом. То был Бруно Майснер, очень хороший инженер, из петербургских немцев, такой же зэк, как и я. В конторе он сидел рядом со мной.
Я работал очень медленно, у меня не было опыта, да, честно говоря, никто и не гнал — никому это все было не нужно. Каждое утро я вставал со всеми и шел в контору по расширяющемуся коридору из колючей проволоки. Называлось наше место работы «контора комбината „Воркутауголь“», находилось оно на территории шахты, и работали там в основном зэки. И еще несколько вольных, которые приходили часа на полтора позже из города. Главная контора находилась в городе, а у нас был как бы филиал.
На следующий день я пришел на работу и увидел, что почти треть моей работы уже сделана. Потом оказалось, что Юрка Шеплетто мне помог, потому что видел, как я не справляюсь поначалу. Юрий Иванович Шеплетто, мы с ним то дружили, то портили отношения. Он потом в Москву перебрался, но после освобождения мы не общались… Я в этом отношении какой-то очень самодостаточный человек, мне хорошо с самим собой. Поэтому я никого не разыскивал, не звонил ни по каким телефонам. Но не потому, что сторонился, нет. В жизни бывает: не звонишь какому-то человеку, не звонишь, год прошел, потом еще один, и еще, а ты все не звонишь и каждый раз думаешь: какая же скотина я, конечно. Так и я… В конторе Юрка, оставшись после смены, сделал часть моей работы, спасибо ему. Вообще как-то так было принято, что после смены большая часть проектной конторы уходила назад, в лагерь, а несколько человек оставались еще поработать. На вахте отмечали, что такой-то и такой-то остались, и все, в этом смысле довольно свободно было. К тому же мы жили отдельно. То есть сначала мы, служащие конторы, жили кто где, потом нас поселили в хирургический барак, бывший стационар. Там были комнатки на шесть — восемь человек, бывшие больничные палаты.
Вообще меня в большинстве своем окружали замечательные, чудесные люди. На 6-й шахте был Коля Касьянов, а здесь появился Жорка Рожковский, копировальщик, чудеснейший парень. В основном, естественно, все были старше меня, я много лет был самым молодым в любом коллективе, куда бы ни попадал… Короче говоря, началась более или менее нормальная жизнь. И благодаря тому, что вокруг была только 58-я статья, у нас практически не было никаких эксцессов и совсем не было зверств, известных по воспоминаниям других лагерников.
Я слышал легенды о том, что во время недавней войны, например, кормили лучше, но умирало больше. У нас, конечно, процент умерших был больше, чем в нормальных условиях, потому что медицина застряла на каком-то очень низком, примитивном уровне, хотя врачи-зэки были очень хорошие. К тому же медчастями руководили вольные, смотрели на происходящее вокруг как на нечто постороннее. Вот, предположим, есть хороший хирург, который готов сделать операцию, но очень беспокоится о том, как эта операция пройдет, потому что нет условий, нет медикаментов. С медикаментами и на воле-то было не ахти, а в лагере совсем плохо, основным средством лечения был йод. Так вот, хирург волнуется, приходит к начальству, а начальство отвечает: «А ты не обращай внимания. Ну помрет и помрет, спишем. Сактируем». Рутина. Так что мор в любом случае был обширнее, чем обычно.
Еще был некий процент — грешно так говорить, но я все же скажу — бросовых людей, которые ошивались около кухни, рылись в бачках, куда повара выбрасывали отходы. Эти доходяги там крутились целыми днями, что-то находили, этим и питались. Они не получали пайку, потому что были списанными, неработающими, не годными к труду. Старичье, не имевшее никаких специальностей, — из деревень или даже из городов, где тоже полно таких. Они незаметно жили около кухни и так же незаметно умирали там. И никто не обращал на них внимания, был человек — и нету.
Правда, на Капитальной было больше порядка, чем на той же 6-й. Это была самая крупная по добыче угля и по значимости, самая фешенебельная шахта. К тому же там был очень хороший начальник лагеря. Я не помню его фамилию, он был полковником или подполковником, а может, майором. Очень хороший хозяйственник, крепко держал все это хозяйство, практически прекратил воровство. Он предпринял две очень интересные меры. Во-первых, раньше ежедневно от каждой бригады кто-то уходил в хлеборезку, чтобы получить на всех хлеб. И в один прекрасный день пришедшим сказали, что хлеба здесь нет, что он на столах в столовой. Это было равносильно извержению вулкана — как нет?! Все побежали в столовую и увидели, что нарезанный толстыми кусками хлеб лежит в алюминиевых мисках, расставленных по столам. Буханки были нарезаны целиком, от горбушки до горбушки. В тот день хлеба израсходовали раза в два с половиной больше, чем всегда. Какой идиот приказал? А вон тот подполковник, начальник лагеря. На следующий день пришли — хлеб опять лежит. И его снова израсходовали больше, чем всегда, но все же меньше, чем вчера. А на третий день все поняли, что не надо хватать, потому что если вдруг понадобится хлеб — вот он лежит, пожалуйста. Дело в том, что на шахте работали в три смены по восемь часов, непрерывно. Так что столовая была открыта 24 часа в сутки. И таким образом начальнику удалось сэкономить, потому что никто не брал лишнего. И второе его нововведение. Каждый зэк в лагере имел свою ложку, а то и не одну. Их специально заказывали в мехцехе, мех-цех торговал ими, что называется, за полпайки. Их отливали из какого-то твердого псевдоалюминиевого сплава. И каждый носил свою ложку с собой, за голенищем, некоторые даже аккуратно заворачивали ее в тряпочку. И вот однажды мы заходим в столовую, а дверей стоят дежурные, тоже зэки, отбирают у всех ложки и бросают их в огромный алюминиевый столовский кухонный бак. А потом мы проходим дальше, и там стоит другой бак с раскаленными от кипятка ложками. Гигиена! Естественно, каждый все равно заказал себе еще ложки для барака — пожалуйста, это твое дело. А в столовую со своей грязью не придешь. Такой реформатор был.
Но я не все время был в Воркуте. Однажды, не по моей воле, у меня случился многомесячный перерыв. Я уже работал в проектной конторе, и меня однажды вывозили — то ли на пересмотр дела, то ли еще по какому-то бредовому поводу.
К тому времени я уже довольно долго работал в проектной конторе, из меня даже начал получаться какой-никакой профессионал. Это было важно, потому что в лагере сложилась обстановка постоянной неуверенности — буквально каждый чувствовал себя неуверенно на том месте, где он работал, где он морально обживался, то есть везде. В лагере все время была какая-то конкуренция, такой микровольный социализм: ты постоянно был не слишком уверен, удержишься ты на этом месте, не съедят ли тебя. И в этом отношении наша проектная контора была своеобразным островком безопасности. Мы были отрезаны от какой-либо конкуренции, наш коллектив очень настороженно относился к пришлым специалистам, которые появлялись у нас крайне редко. Почти предоставленные сами себе, мы были отгорожены от остальных забором тщательного отбора, и если кто-то чужой все-таки задерживался у нас, он вживался в коллектив, становился своим. Но каждый из нас на подсознательном уровне все равно сознавал: «Сегодня мне хорошо, но под воздействием внешних причин все может измениться».
И вот в один прекрасный день меня снова выдернули, и я опять оказался на этапе. Естественно, мне никто ничего не говорил, я не знал, куда и зачем меня везут. Но это незнание не тревожило: для многих занятых на общих работах такой этап был спасением, они были рады любым способом хотя бы на время избавиться от этого непосильного труда. Если сначала мы все начинали нервничать от одного слова «тюрьма», или «пересылка», или «следственный изолятор», то потом, в лагере, все это на самом деле воспринималось как какое-то спасение — спасение от общих работ, от неустройства, от холода и голода. Потому что, если сравнивать с лагерем, тюрьма — это довольно неплохие условия.
Бывали случаи, о которых рассказывали уголовники и политические, когда кого-то вызывали, спрашивали: «Такого-то вы знали?» Или показывали чью-то фотографию: «Знаете его?» И человек, абсолютно не ведая об этих людях, отвечал утвердительно, просто чтобы его взяли свидетелем по делу этих людей, чтобы ему вырваться. Страха, что добавят срок, не было — почти всем уже дали по 25 лет, чего еще бояться? Хотя в первые пару лет после войны была странная мера пресечения — 15 лет каторги. Все это ничем не отличалось от нашего режима, каторжане работали с нами, сидели с нами, у них был такой же паек. Но им максимально давали 15 лет, а нам — 25. Какая-то нелепость… Короче говоря, приезжал такой человек в следственную тюрьму и признавался: «Нет, я его не знаю». А что тебе сделают? Даже какое-то злорадство охватывало: вот, лишнюю работу придумал этому следственному офицерью, лишнюю клизму. Потому что, получается, им снова надо ко-го-то искать. При этом офицерье тоже почти всегда знало, что их обманывают. А что делать? Рутина — она рутина и есть, они за это деньги получали, а ответственности никакой. Результативность-то им была не нужна. А если вдруг нужны были новые лица для посадок — пожалуйста, целая страна, брали прямо на тротуаре. Так что все были довольны друг другом.
Короче говоря, повезли меня обратно в Ленинград. И опять началась канитель — Шпалерка, Большой дом. Прекрасно — катаюсь за государственный счет, тепло, хоть как-то кормят, работать не надо. Снова Большой дом — привычные места. Не те же камеры, конечно, — самой первой моей камерой была 230-я, потом меня перевели в 232-ю, а теперь я оказался в какой-то из соседних. Некоторое время я сидел один, потом то ли меня подселили к кому-то, то ли его ко мне, не помню. Ему было под шестьдесят, и я, к сожалению, не помню его фамилию, хотя стоило бы — добрый был человек. Он был из породы тщедушных крючков, и я на собственном опыте убедился, что внешний вид человека не имеет значения, ни о чем не говорит. Вообще за долгое время сидения в тюрьме и в лагере я очень сильно стал сомневаться в латинской поговорке «в здоровом теле — здоровый дух». Наоборот, я убедился, что очень многие, казалось бы, тщедушные людишки оказывались более крепкими и более живучими, чем здоровяки. Они как будто двужильные. Вот он был из таких, внешне тщедушный, но сильный. И очень добрый, очень бесконфликтный, очень разговорчивый. Мы с ним много болтали обо всем. Очевидно, всю жизнь он был ворчуном. Все было не по нему, «сейчас плохо, а раньше было хорошо».
И вот у него дома была одна калоша, которую он хранил, словно какой-то важнейший артефакт. Эта калоша была очень качественная, производства еще дореволюционного завода «Треугольник», который потом называли «Красным треугольником». И он всегда всем гостям, знакомым и незнакомым, демонстрировал эту калошу и говорил: вот какое качество было раньше. И кто-то на него настучал. Естественно, было пришито черт-те что: японский шпион, абиссинский шпион, новозеландский шпион, но это неважно, на это никто не обращал внимания, даже сами следователи. Потом меня от него выдернули и повезли в Кресты на сохранение — там сидели уже не нужные для следствия люди и ждали отправки. У нас было плохо с куревом, и от этого мы очень страдали. В первый день я сунул руку в телогрейку — я все еще был в лагерном — и обнаружил, что он запихнул мне в карман целую пачку сигарет «Аврора». В тех обстоятельствах оторвать от себя целую пачку сигарет — это был почти подвиг.
Зачем же меня привозили? Дело в том, что моя мать, естественно, все время писала и хлопотала, притом совершенно напрасно, потому что это абсолютно бессмысленно. Но она-то этого не знала, она вообще была очень правоверной: таков порядок, нужно использовать все что есть, они обратят внимание, они пересмотрят дело, они поймут, они разберутся. Такая доверчивая натура дореволюционного склада. Она платила какие-то деньги адвокату, а он, конечно, ничего не делал. Все эти адвокаты имели по сто наших дел и сами осознавали, что рыпаться бессмысленно. Это были жулики, которые с родственников каждого из этих своих подопечных брали деньги, потому что им, дескать, нужно ехать в Москву, подавать какие-то документы. Но они никуда не ездили и ничего не подавали, это было чистое жульничество.
Пока я сидел на Шпалерке во время пересмотра дела, меня и вызвали-то всего один раз. То ли майор, то ли подполковник, то ли полковник Маляров… Шпалерка — старинная тюрьма, которая расположена со стороны заднего фасада Большого дома, она существует с дореволюционных времен. Во время революции там, где был Большой дом, был губернский суд, его сожгли, а тюрьму, конечно, нет. Забавно, кстати, что тюрьмы почти везде не тронули — знали большевики-засранцы, что понадобятся. Сожгли только одну, так называемый Литовский замок, который был напротив Мариинского театра, остальное оставили. А еще очевидцы рассказывали, что во время войны немцы бомбили все, но не трогали тюрьмы… Но это так, лирическое отступление.
Короче говоря, кабинет полковника Малярова представлял собой маленькую клетушку-комнатушку с зарешеченным окном. Все такого рода кабинетики располагались в той части тюрьмы, что и общие камеры. Маляров и какой-то подполковник, такой тщедушный, сидели и что-то записывали. Мне начали задавать какие-то вопросы по моему делу, я отвечал то, что и так было записано в документах. Причем я уже был практически прожженным лагерником, грамотным, я уже знал, что говорить, как говорить, в какой момент и каким тоном. Судя по всему, я вел себя очень независимо, они не могли меня ни в чем убедить. Причем я сидел, а этот подполковник ходил вокруг. Потом он наклонился к Малярову, они о чем-то пошептались, потом он опять начал ходить. А потом сказал: «Ну что вы говорите! Он же лагерник!» — «Ну, я же велел припугнуть…» И все, больше меня не трогали. Притом что на Шпалерке я тогда провел месяца два.
В этот период меня еще раз выдергивали и совершенно неожиданно возили в Москву. Страна росла и развивалась, и меня везли уже не в теплушке, а в так называемом столыпинском вагоне, пульмановском. В Москве меня пересадили в «воронок»: фургон, в нем дверь, у двери сидит вертухай, а в глубине я, как бы за загородкой. Возможно, потому что все остальное пространство занимали уголовники или, наоборот, только что арестованные, новенькие. Причем, когда меня еще везли в вагоне, я тоже был отделен от остальных. Там были «купе», куда набивали толпы, потом шли «купе» начальника и вохры, потом опять общие «купе», а в самом конце было узенькое помещение, где мог сидеть только один человек, и я ехал там один. А потом меня вдруг сунули в общее «купе», где вперемешку ехали уголовники и 58-я статья. Был там один уголовник, паскуда. Как у Горького в «Челкаше», такой тип — они разные бывали, и воры, и убийцы, а внешне — как Григорий Мелехов из «Тихого Дона», по нему сразу все было видно. Почему-то я его запомнил, почему-то он мне запал в душу. Интересно, что последние пару десятилетий я почти не встречал таких людей — очевидно, определенные типажи вымирают, не давая потомства. А в те времена их было очень много. И вот он подошел ко мне, стал рыться в моих вещах, нашел кусочек сала. Сразу раскромсал его и начал всем раздавать — у них было принято играть в Робин Гуда. Но, насколько я помню, многие не брали.
Потом я оказался в Бутырке, которая меня поразила. У Солженицына все совершенно правильно описано — громадное, гигантское пространство, бесконечный, почти вокзальный зал, высоченный сводчатый потолок. Сначала был шмон, потом баня, некоторое количество сидящих за столами зэков, и ты, голый, под окрики «Быстрей! Быстрей! Шевелись там!» бегаешь от одного стола к другому, к третьему. Они не могут иначе, не могут молча, у них работа такая.
В общем, тут тебя обыскивают, а там нужно подписать, и ты бежишь, тогда ведь никаких наркотиков не подкладывали, не надо было. При этом специально тебя никто не унижал, но при этом все происходящее было каким-то изощренным злодейством. Его специально не придумывали, не творили, оно получалось само. Эта безразличная система была выстроена так, что не могла не причинить тебе зла.
В этих своих воспоминаниях я все время пытаюсь избегать выдуманных ужасов, которыми наполнена всевозможная литература. Так что я не верю литературе. Но только по ней я знаю, что в немецких концлагерях процветала изощренная жестокость, специально творимая, я же с этим не сталкивался. Вокруг меня зло, казалось, творилось не специально, просто иначе и быть не могло.
После всех шмонов меня отправили куда-то наверх, в какой-то темный коридор. Удивительно, но у нас всегда все по мелочи экономили — ив быту жгли маленькую лампочку, хотя киловатт стоил четыре копейки или меньше, и жили все время с этой подслеповатой желтенькой лампочкой; так и по всей Бутырке горели желтые подслеповатые лампы, которые ничего не освещали, только их и было видно. Воткнули меня в общую камеру, которых там было великое множество. Хочу еще отметить, что Бутырка строилась как замок, в котором размещались большие казармы. Но предполагалось, что в казарме будут жить, к примеру, 25 солдат, а тут зэков было понапихано по семь десятков и даже больше. Причем в камере была только 58-я статья, только нормальные люди.
Камеры были заполнены низкими одноэтажными нарами. Они располагались буквой П вдоль стен, а у входа была параша — металлическая емкость с крышкой. И когда тебя, новенького, вталкивали в камеру, вопроса о том, где тебе ложиться, не возникало — ты ложился или у параши, или напротив, а остальные немного сдвигались, таков был порядок. Проходило несколько дней, появлялся еще кто-то, и ты сдвигался вглубь камеры, все логично. Что там еще? Два крошечных окна, не мытых с момента постройки Бутырки, с козырьками — все это очень хорошо описано у Солженицына в главе «Улыбка Будды» из «В круге первом», очень достоверно, очень документально.
А в проходе всегда стоял длинный, во всю длину камеры, стол. За ним ели, сидя на нарах, играли в шахматы. А в карты 58-я почти не играла. К тому же карты были запрещены. Уголовники их, конечно, рисовали, но при шмонах все колоды конфисковали, так что приходилось рисовать новые. Причем изготовление карт — отдельная наука. Во-первых, нужны были папиросная бумага и клейстер. Клейстер делали из хлеба. Допустим, у кого-то был носовой платок, один на всю камеру, он ценился на вес золота. Двое держали платок за углы, а третий тер о него хлеб, и на обратной стороне платка капельками выступала белая субстанция — тот самый клейстер. Этим клейстером склеивали три-четыре слоя папиросной бумаги, аккуратно обрезанной. Потом какой-нибудь специалист изготовлял трафареты. Чернила зэкам выдавали, чтобы они могли писать всякие заявления или заявки на посещение тюремного ларька, если были деньги. Писать было нечем, так что рисовали очень схематические символы, причем все масти рисовались одним цветом. Но карты невозможно было сдвинуть одну с другой, так что приходилось ждать, пока кому-нибудь в передаче пришлют чеснок — этим чесноком натирали карты с обеих сторон, чтобы они скользили. И только тогда этими картами можно было играть — до первого шмона. Но это были развлечения уголовников, 58-я играла в шахматы. Были свои чемпионы, были хорошие игроки, и вся камера, сгрудившись вокруг игроков, болела за того или другого, обязательно давая советы.
В каждой камере, насколько я могу судить, обязательно был какой-то хороший рассказчик, который рассказывал были и небылицы. Зачастую это были величайшие литературные таланты! Порой выдуманные ими тут же, в процессе разговора, истории, бесконечно долгие, словно сказки Шахерезады, заканчивались, чтобы на следующий день начаться с того же места и уйти в непонятные дали. Такая своеобразная особенность тюремного быта.
Какое-то время я пробыл в Бутырке, без передач, без всего, потому что мои не знали, где меня искать. На допросы меня не тягали, так что я до сих пор не знаю, зачем меня возили. И вдруг вызывают с вещами, опять в «воронок», везут по всей Москве, которой я не вижу. Долго ли, коротко ли, не знаю — там время изменяется какими-то другими психологическими отметками, не часами и не минутами. Потом чувствую, «воронок» куда-то подъезжает, задницей, как всегда. Слышу, как открываются ворота, меня выпускают, и я оказываюсь в каком-то учреждении. Я смотрю — очень отличается от тюрьмы, и все вокруг в белых халатах. Снова прохожу через душ, это обязательная процедура, мою одежду забирают, выдают мне какую-то казенную, только без трусов — трусов тогда не было, были кальсоны с завязками, но нам выдавали без завязок, чтобы мы не повесились. Кальсоны и нижняя рубаха. Потом меня ведут куда-то вверх. На окнах, как обычно, сетки, чтобы никто не сбежал и не выбросился, в лестничных пролетах тоже сетки.
Заводят меня в небольшое помещение с окном без решеток, что меня очень поразило. Светлая приятная комната, высокие потолки, человеческая кровать, мягкая, одеяло, чистое белье. И какой-то кубик типа табуретки, но сплошной, без ножек и с закругленными углами, очень тяжелый — я потом пытался его сдвинуть, ничего не получилось. Все вокруг белое. Под потолком горит достаточно яркая, но не очень назойливая лампа. В двери не глазок, а небольшая форточка с небьющимся стеклом, и в торцевой стене тоже сделано застекленное окошечко. Стены толстые, кирпичные. На двери изнутри нет ручки, то есть ее не открыть, — ни ручки, ни замочной скважины…
В общем, это был медицинский институт, который сейчас называется Институтом судебно-медицинской экспертизы им. Сербского. Как потом выяснилось, моя мама все время куда-то писала по поводу того, что у меня в связи с переходным возрастом могли быть психические сдвиги — это к вопросу о подкопе под Кремль. И меня решили обследовать. Причем, как я потом понял, если бы вдруг результат обследования оказался положительным, все было бы еще хуже — меня бы бессрочно поместили в сумасшедший дом.
Но пока шло обследование, я отсыпался, отъедался. Мне давали читать какие-то книжки — помню одну, про «барсуков», то есть про каких-то антисоветских партизан времен раскулачивания. И еще помню книжку «Великое противостояние», про самое начало Великой Отечественной войны. При этом я все время ощущал, что за мной через форточку в двери кто-то подглядывает, какая-то врачиха. У нас же всегда везде бабы — врачи, медсестры, уборщицы, мужиков почти не было.
Ко мне периодически кто-то приходил, о чем-то со мной разговаривал, потом уходил. Потом приходил кто-то еще. Меня вызвали в какие-то кабинеты, осматривали, делали рентгеновские снимки, кто-то маститый со мной разговаривал. Наверное, именно после этой беседы и выяснилось, что я нормальный, а не сумасшедший.
И еще одна важная штука: попав в проектную контору на шахту Капитальную, я молчал о состоянии своего здоровья и о том, что я был в туберкулезном диспансере. Так что у меня был чудовищный плеврит, мне даже больно было глубоко дышать. И я все это терпел, пока был в конторе. Но в Институте Сербского они, естественно, все проверили и все обнаружили. Так что меня там еще и вылечили. Выяснив, что я нормальный, меня перевели в палату человек на восемь, все сплошь — 58-я. Чистенько, две уборщицы, никакой заметной охраны, ни одного вертухая! Я выглядывал в окно через толстенные стекла, которые и бомбой не прошибешь, — какой-то московский переулок, зима.
Но главное, уборщицы стали меня подкармливать. Они отрывали не от себя. Например, в нашем изоляторе, то есть в нескольких палатах, было несколько москвичей, которые или косили, или на самом деле были с приветом. Родственники носили им передачи. А уже времена настали более или менее сытные, несколько лет назад отменили карточки. Так что носили хорошие продукты — яблоки, масло, сыр, какие-то копченые колбасы. И эти чокнутые не ели, но, например, мазали маслом стены. Так что ночами, когда уходили врачи, уборщицы все эти продукты несли мне: «Женя, ешь! Женя, ешь!» И в общем, я вышел оттуда сытым, отдохнувшим и здоровым человеком. Когда я узнал, что лечение закончено, я очень расстроился. А врачиха, с которой я пришел прощаться, сказал: «Это великое счастье, иначе бы ты попал в сумасшедший дом. Так что давай-ка дуй отсюда со спокойной совестью». Удивительно, громадное количество людей, даже в больших городах, даже в Москве, оставались не зараженными вирусом «враг народа». Это были нормальные люди, которые прекрасно понимали, что происходит вокруг. Но все молчали, никто не подавал виду.
И меня увезли. Опять Бутырка, опять поезд, опять столыпинский вагон, опять вокруг 58-я. Рутина. В Ленинграде меня сначала поместили в Большой дом, но ненадолго, потому что я уже никому там не был нужен. Так что я довольно скоро попал в Кресты, сначала в общую камеру, где был один, потом через нее стали проходить разные люди. Я там долго сидел, уже весна наступила, солнце стало проглядывать. К тому же можно было открыть окошко. При этом — полная неизвестность: я не знаю, что будет дальше, меня могли вернуть в Воркуту, могли отправить на Колыму, еще куда-то. Но вообще-то, как правило, возвращали — я знал это по рассказам старых лагерников. Но я мог попасть в Воркуту, но на другую шахту. Короче говоря, терялся в догадках.
Последнее время со мной сидели четверо парней, нормальных, покладистых, один из них — курсант Нахимовского училища. И мы все время болтали, потому что делать было больше нечего. Книг в Крестах не давали, это на Шпалерке можно было получить очень хорошие книги, которых на воле было днем с огнем не сыскать, классика, старорежимные издания. И можно было заказывать книги. Приходила библиотекарша, тоже из зэков, выдавала клочок бумаги, на котором можно было накарябать два-три названия. И тебе их на неделю выдавали. А в Крестах книг не было, так что оставалось лишь болтать.
Как я понял из рассказа нахимовского курсанта, они жили не в общей казарме, а в небольших комнатках, по несколько человек в каждой. Была хорошая погода, он лежал в одежде на своей койке. А над входом висел портрет Сталина — единственная продукция, производимая в Советском Союзе, которая была обязательной, непременной и качественной. И вот этот мой курсант лежал, смотрел на портрет, а потом сказал, ни к кому конкретно не обращаясь: «Что-то страшно преступное есть в его лице». Рядом находился его сосед, закадычный друг, так что этих слов было вполне достаточно. Потому что везде были стукачи, причем далеко не всегда добровольные, а настоящие, штатные. Ты мог в трамвае бросить какую-то ничего не значащую, ничтожную реплику, и тебя сразу дергали за рукав. Три четверти страны ничего не производили, а только стучали. Правда, и отдача была, ведь зэки — бесплатная рабочая сила.
Еще помню, как одного из моих соседей, а нас всего четверо в камере было, как-то ночью вызвали — это было довольно странно, потому что в Крестах уже особо не вызывали. Он вернулся черный как туча. Что такое? Что случилось? «Вот, — говорит, — мне объявили, что со мной разошлась жена». Мы его, конечно, начали уговаривать, что такая жена не стоит того, чтобы по ней убиваться, но наши слова, естественно, не очень хорошо утешали.
Прошло время, и меня снова отправили в столыпинском вагоне в Воркуту. Уже было лето, наверное, начало июня 1951 года, но все время стояла какая-то серая погода. Помню, что на пересылке никто ничего не делал, все слонялись — и блатные, и 58-я. Какие-то девки были, тоже зэчки, в своем женском бараке. С одной я разговорился, она сказала, что идет на освобождение «по мамочкам». Она родила в лагере, и ее освобождали вместе с ребенком, выбрасывали на волю.
На этой пересылке в моем формуляре написали, что я чертежник или художник, и направили писать черной краской таблички: «Предзона», «Запретзона» и так далее. На этой пересылке я провел дня два. Там была страшная столовая. Которую блатные брали штурмом. Но вообще
было довольно мирно: дело в том, что на пересылке всегда много тех, кто идет на освобождение, так что им не нужны были лишние неприятности.
Там же, на пересылке, я встретил одного из нарядчиков с Капитальной… Вообще тогда у многих еще сохранился какой-то другой, отличный от сегодняшнего образ мысли, какая-то общая порядочность, обязательность, оставшаяся от свободной жизни, еще с конца XIX века. Я того нарядчика попросил связаться с проектной конторой — вдруг у них есть какие-то ходы, чтобы меня вернуть обратно, а за это дал ему брюки. У меня как раз были хорошие брюки, которые мне прислали с воли в одной из передач. И в результате он с кем-то поговорил, и меня вернули на Капитальную в проектную контору.
Когда я вернулся на шахту, первым делом снова началась вся эта рутина — баня, карантин и так далее. Такое ощущение, что они очень заботились о гигиене. Вот, предположим, еще в Ленинграде привозят меня из Большого дома в Кресты — в Большом доме была помывка, в Крестах тоже помывка. Обязательно все начиналось с бани. Так и тут — баня, карантин, работать не надо, все прекрасно. Лето, благодать. Конторские ко мне в гости приходят, потому что мне же через вахту пока нельзя. В общем, началась обычная жизнь.
Я уже писал о том, что у нас в конторе подобралась очень разношерстная и приятная компания. Было много прибалтов, русских, были украинцы, но не западники, а восточные, советские, было много евреев, но они есть всегда и везде. Жаль, я не помню многих фамилий. Но было очень много «добрых людей», как их называл Булгаков устами Христа в «Мастере и Маргарите». Для меня с некоторых пор этот критерий — доброта — приобрел огромное значение. Я чувствую, что человек добрый или недобрый, и для меня этого достаточно. При этом у него, как и у каждого из нас, могут быть свои тараканы — неважно.
Ну вот, например, был такой Гарасев — здоровый, крепкий, чем-то напоминал огромного хряка, причем не объемами, просто такое впечатление производил. У него было такое крепкое туловище — его невозможно было ущипнуть. Он варил компот из сухофруктов на свином сале, такой мясной компот, — это блюдо составляло большую часть его рациона. Без воды, только сухофрукты и растопленное сало.
Был Антонайтис, очень славный человек, прибалт. Или Вальтер Кальдмяэ, эстонец, — рыжий, очень некрасивый молодой парень. Конечно, относительно молодой — он был старше меня, но там все были старше. У него было необычайное свойство краснеть от смущения. Он становился совершенно красным, почти пунцовым. Мы сначала пугались: «Вальтер, что с тобой?» — «Ничего…» Однажды был забавный случай, когда он покраснел настолько, что мы думали — все, с ним очень плохо. Ничего, просто покраснел.
Я уже писал про начальника лагеря, который навел порядок на шахте. Именно при нем у нас открылся ларек — магазинчик, где можно было покупать продукты за свой счет. Дело в том, что за работы мы получали символические деньги — скажем, в то время советский инженер получал около полутора тысяч рублей, наши вольные из-за северных надбавок имели в два раза больше, а нам платили, скажем, рублей сто. А, например, «Беломор» стоил два двадцать, хлеб был копеек по семьдесят. То есть на эти сто рублей мы могли немного подкормиться, купить какого-то курева. Потому что курева вечно не хватало, даже того, что присылали в передачах. Все стреляли. «Дай беломоринку…» Дающему всегда было жалко, он корчил скорбное лицо, но всегда угощали, потому что люди-то были нормальные.
И вот однажды с Кальдмяэ произошел забавный случай. Однажды в ларек завезли огромные трехлитровые жестяные банки сгущенного молока. И началась пытка — как купить? Если на одного, получалось и дорого, и слишком много — как расходовать? Начали объединяться. Мы с Вальтером скинулись и купили эту банку на двоих. Разлили поровну… Немного отвлекусь. Мы тогда работали в новом помещении, построенном по нашему проекту, — одноэтажном каркасно-насыпном здании. И был у нас такой Михаил Иванович Сироткин, который руководил нашей группой. Очень интересная личность — до конца 1930-х он служил советским военным атташе в Японии, знал японский. И был он немного ироничным — бросался колючими, язвительными репликами. Язвительный, но добрый человек, в этих его репликах не было ничего оскорбительного. И вот он узнает, что мы с Вальтером на двоих купили сгущенку, и говорит: «Ну Женька-то, понятно, все слопал. А Вальтер-то небось приличный человек, ему надолго хватит…» Мы смотрим на Вальтера и видим, что он медленно краснеет. Оказалось, что он не удержался и все уже съел.
Еще у нас был Иван Сергеевич Шарков, мужчина в летах, невысокий. После освобождения я как-то заходил к нему. Он жил в Москве в маленькой клетушке, метров семь. Они там жили с женой, которая его дождалась из лагеря, и он этому очень радовался, на его радости даже был легкий налет хвастовства. Он мне рассказывал, что после реабилитации все знакомые и коллеги сразу стали ему говорить, как они его ждали, как верили, как надеялись… А у нас на шахте он был проектировщиком, занимался макетами. С ним тоже однажды была забавная история. Однажды он ушел куда-то на шахту. Мы ведь там довольно свободно себя чувствовали, никто не скажет: «Женька, почему ты отсутствовал на работе полчаса?» Отходили на некоторое время — не проблема, никому до этого дела не было. И вот Шарков отошел, потом вернулся, сел за свой стол, работает, все как всегда. И вдруг мы слышим какой-то странный запах — невероятный, давно всеми забытый аромат свежего огурца, зеленого, только что сорванного. Но этого не может быть! Все молчали, никто ничего понять не мог. Но в конце концов этот одурманивающий запах стал просто невыносимым. И Иван Сергеевич не выдержал: «Ребята, простите, это от меня». Достал из кармана какой-то тряпичный сверток, развернул все эти чистенькие беленькие тряпочки и достал огурец. Свежий! Дело в том, что на шахте была теплица начальника шахты капитана Прискоки. Шарков рассказал, что делал этому капитану — четыре говенные звездочки — какую-то халтурку, и тот дал ему огурец. Конечно, он хотел оставить этот огурец себе, но он даже не подозревал, какой будет от него исходить аромат и как мы все от него с ума посходим. Он решил нас угостить. Но мы-то все люди деликатные: «По тоненькой пластиночке, по миллиметровой, только чтобы вкус почувствовать, не больше…» Фантастические были ощущения.
К слову, о капитане Прискоке. Какой бы большой ни была шахта — а Капитальная была очень большой, — там все равно везде, в том числе и в бухгалтерии, работали зэки. И все обо всем знали. Однажды сорока на хвосте принесла новость: «Прискока уходит в отпуск. Знаете, сколько ему насчитали? 74 тысячи…» 74 тысячи рублей! Притом что автомобиль «Победа» тогда стоил 16 тысяч. Откуда? А вот насчитали — отпускные, премиальные, перевыполнения планов, то-се. Он и на шахте жил как царь и бог. Однажды он из отпуска, во время которого был в Москве, привез игрушечную немецкую железную дорогу, очень качественную и очень дорогую. В столярке, которая, естественно, тоже имелась на шахте, капитану сделали специальный деревянный стол, очень большой и высокий, на котором он установил эту штуку. И он там играл в железную дорогу, но не один, а с офицерьем. При этом они страшно напивались и баловались — например, подкладывали под рельсы окурки, чтобы посмотреть, как поезд будет падать. Сорокалетние мужики вели себя как малые дети, которым все позволено. Мы это все знали по слухам. Мы вообще капитана видели редко — он заходил на шахту на полчаса, да и то не каждый день. Но это было и не нужно — среди зэков существовала какая-то порядочность в том, что касалось труда. Не косили люди. Никто не перечитывал твои еженедельные отчеты, никто не проверял, но к труду относились по-человечески. К тому же каждый дорожил своим местом.
Если продолжать вспоминать хороших людей, то обязательно нужно упомянуть Мишу — его все звали по имени, хотя ему было, наверное, под шестьдесят. Миша Евтихин — добрейший, наивнейший человек, инженер. У него была язва желудка, он не все мог есть, а рядом с такими людьми обязательно крутился какой-нибудь прилипала, как у рыбы, — человек, который за ним подъедал. У Мишы был Сашка Любимов, неприятненький человечишка, с паскудинкой. Он как-то просочился в проектную контору еще до меня, хотя на воле работал тапером в кинотеатрах.
Еще был хороший человек по фамилии Румбешт — шахматист, который на воле принимал участие в сеансах одновременной игры, выигрывал. И в лагере тоже играл, если была возможность.
Жизнь на нашей шахте было обустроена более или менее — мы не жаловались. Только одна штука была никудышна я — маленькая халабуда, которая называлась КВЧ, культурно-воспитательная часть. Нужды в этой КВЧ никакой не было — даже кино и всякую самодеятельность показывали в большой столовой. А КВЧ — это был такой клуб по интересам, в который по вечерам набивались толпы. Надо заметить, что среди зэков было очень много профессиональных артистов. Например, среди наших был князь Ухтомский — известная в свое время фамилия. Когда в 1946 году кончилась советско-японская война, в Шанхае взяли много русских эмигрантов и отправили в лагеря, и среди них — князя Ухтомского. Это был солидный человек, хороший, невеликого ума, как и положено князю. И он в этом КВЧ сидел и рассказывал, целые лекции устраивал.
Ухтомский умер на моих глазах в стационаре — присутствовали я, Борода и врач Ионов — старик, очень хороший врач. А Борода — Николай Дмитриевич Сабуров, бородатый, старше меня, на тот момент ему было уже под пятьдесят. Он был архитектором с огромным тараканом в голове. В любой нормальной компании обязательно есть свой чудак, так вот, он был таким чудаком. Ему в голову постоянно приходили сумасшедшие идеи, дурацкие, неосуществимые. Одно время он носился с идеей постройки в Воркуте огромного Дворца культуры. Его потом построили, но по другому проекту и после хрущевскоо указа о борьбе с излишествами, то есть без задуманных колонн, капителей и так далее. А Борода замыслил безумное здание, в половину города и вышиной до небес, с поднимающимся потолком, с зимними садами, с пальмами… Его идеи никому не вредили, над ними просто посмеивались, а сам он над тем, что придумывал, трудился упорно. Потом он свои труды переплетал и отправлял в Москву на экспертизу. У него была прекрасная память, он помнил очень много стихов, и я их записывал в тетрадь — эта тетрадь долго хранилась у меня, потом я ее, кажется, отдал в «Мемориал». А когда меня освободили, он был последним зэком, которого я видел. После освобождения мы с ним общались, ходили друг к другу в гости.
Еще был москвич Гольдштейн, архитектор. У него был странный архитектурный почерк. До ареста он долго работал на Украине и подцепил там свойственную украинцам щирость, стремление к аляповатости — вот как на Крещатике. Говорят, после освобождения он вернулся в Москву и покончил с собой. То ли от него жена ушла, то ли еще что-то. И еще нельзя не вспомнить Юрку Шеплето, тоже архитектора. Очень пронырливый парень.
Правда были замечательные люди. Федя Жадкин — чудесный человечек, очень длинный и очень худой. Потом, много лет спустя, уже после Воркуты, он вдруг появился у нас на пороге совершенно не изменившимся. Или вот Курбатов и Шибаев — они все время ходили вдвоем, мы их по отдельности и не воспринимали. Они были сыновьями владельцев нескольких шахт Донбасса, очень талантливые горные инженеры. Они сидели с дела Промпартии, с 1930-х.
Или вольные — Ганцкевич, Лунев, Райкин — архитекторы, которые занимали какие-то руководящие должности. Позднее появились выпускница какого-то московского института Рубина, Ленька Блох и Борис Вайсбейн. Они были забавные, в них жил революционный идеализм, они были как мальчиши-кибальчиши из повести Гайдара. После революции была популярна повесть «О Рыжем Мотеле и о Комиссаре Блохе». Так вот, рыжий Борис Вайсбейн и Ленька Блох были словно сошедшими со страниц той повести.
Им очень много платили — Ленька Блох, например, служил главным архитектором в городе. И он купил себе ЗИМ. В Воркуте автомобиль и так редкость, вокруг один грузовой транспорт, только у Прискоки была «Победа». А тут ЗИМ! Ленька по воскресеньям ездил на нем по городу, потому что там особо ездить было некуда. Он медленно ездил по городу и через окно раскланивался со знакомыми. Это было его любимым занятием.
Но, конечно, не все было так солнечно и радостно. Как-то один из вольных, очень хороший, добрый, трогательный человек, пришел на работу весь избитый, с синяками и ранами, заклеенными лейкопластырем. «Что такое? Что с вами случилось?» — «Да упал…» А потом, через несколько дней, выяснилось, что они с другим вольным так напились, что он уже не мог ходить. И второй волочил его домой по лестнице, но держал при этом за ноги. Вообще вольные в Воркуте страшно пили. На работу приходили нормально, как-то все-таки соблюдали меру, но потом, после работы, пили страшно. А чем там еще заниматься?
Или, например, был среди нас немец с Поволжья по фамилии Миллер, вольный, чудесный дядька, большой, здоровый. Как-то все засиделись на какой-то завалинке допоздна, такое часто бывало, — болтали, играли в шахматы. Тепло, солнце закатное. И на фоне этого закатного солнца проходит железнодорожная линия, блестят уходящие за горизонт рельсы. И вот сначала появляется какая-то точка, потом она очень-очень медленно увеличивается, а потом становится видно, что это по одной рельсе идет Миллер. Балансирует, в одной руке кожаная сумка. Это он на работу шел, вечером. И никто никуда не торопится.
Еще один чудесный человек из вольных — Кононов. С ним однажды приключилась история, которая как-то умерла, сошла на нет, а если бы не умерла — его бы, конечно, посадили. Короче говоря, почему-то надзирателями в основном служили «комики», из Коми. И было среди них полное ничтожество, черная дыра, к тому же страшно говнючий то ли рядовой, то ли ефрейтор. Как-то он пошел по кабинетам, дверь распахивает: «Бе-бе-бе-бе!» Дошел до сметчиков, а там сидит Кононов. Ефрейтор завалился в комнату, стал ворчать, а потом как заорет: «Что, советская власть не нравится?!» — это у них был извечный аргумент. Абстрактный вопрос: сказать «нравится» — прозвучит фальшиво, сказать «не нравится» вообще нельзя. А Кононов ни слова не произнес, просто взял этого ефрейтора за шиворот, за шинель, донес до выхода и выбросил в снег. А рядом располагалась дозорная служба. Ефрейтор вскочил, отряхнулся, побежал туда. И мы сразу поняли, что дело дрянь, Кононова просто посадят сейчас, и все. Мы его сразу отправили через другой выход на вахту и в город. И он мгновенно исчез, дня два-три на работу вообще не приходил, то есть в городскую проектную контору ходил, а к нам нет. Вертухаи, конечно, набежали: «Где он? Кто? Ты это сделал? Ты? Ты?» Но все не те. И как-то все сошло на нет, к счастью.
Хотя бывали разные люди, конечно. Был один интересный вольный, Крылов. Еще недавно он был зэком, но освободился и остался работать в проектной конторе. Он очень хорошо играл в шахматы, причем только на деньги и никогда на интерес. А рядом с собой он ставил две банки, в одной — сырые макароны, в другой, например, какая-то крупа. Он играл в шахматы, к нему подходили разные люди и дотрагивались до той или иной банки, а он называл цену. Он все продавал, у него все было за деньги, он ни одного шага не делал без денег. Или сидел он за столом, подзывал какую-нибудь женщину, открывал перед ней ящик стола, а там — кучка маленьких яблок. Женщина ему: «Ой, ну что вы, что вы, нет. Ну что вы, спасибо большое!» А он ей в ответ: «Не стесняйтесь — вот по рублю, по полтора, по два». Рядом с нашей шахтой было очень много железнодорожных путей, там часто стояли составы с вагонами-ресторанами. Вольные туда ходили посидеть, поесть, выпить, готовили там нормально. Крылов приходил, ел-пил и уходил, никогда не платил. Но его там уже все знали, так что звонили начальнику конторы и говорили: «Вот, мол, ваш был». — «Сколько он должен?» — «Столько-то». — «Я с него возьму». И начальник расплачивался, а потом получал с Крылова. Крылов сам не платил — не могу объяснить почему. Естественно, он был одинок, не женат — какая жена такое выдержит? Да и какую жену он выдержит? Он всегда был один и очень много пил, но весь город страшно пил. Город был одноэтажный, два этажа редко где встречалось, и в одном из домиков было заведение «Гайка» — оно процветало. Мы там, конечно, не бывали, нам рассказывали вольные.
А какие врачи у нас были! Например, совершенно потрясающий хирург Каплопс, прибалт, — солидный, в летах, гений хирургии, зэк. Там все были зэки, только начальник санчасти Валечка была вольной. Валечка, блондинка пышных форм и среднего возраста. Как сейчас в поликлиниках всех беспокоит только то, чтобы были надеты бахилы, так ее беспокоило лишь, чтобы были бриты лобки и, как она говорила, «все пушистые места». Она, возможно, и имела медицинский диплом, но была совершеннейшей пустотой. Впрочем, ей медицинское образование было не нужно, потому что все остальные работали хорошо и добросовестно. Вот Солженицын несколько идеалистично писал, что инженер не может работать плохо. Так и врачи у нас работали. Помню, однажды ребенок какого-то офицерика проглотил булавку, которая у него внутри раскрылась. А Каплопс каким-то образом умудрился залезть внутрь этого ребенка и там, внутри, застегнуть булавку. Так что зачем Валечке медицинское образование? Она просто «руководила».
Были среди вольных и прекрасные наши дамочки — Галька Рубина и Мирка Уборевич. Уборевич была совершенно чудная, она сначала сидела, еще когда лагеря были совместные, мужские и женские, но потом родила дочку от какого-то уркагана. Она родила, и ее освободили «по мамочкам». Сейчас в «Мемориале» работает.
Рядом с нами жило довольно много женщин, и отношения с ними складывались… товарищеские. Никаких пар — это было под страшным запретом, это было опасно, это было почти невозможно! Вокруг сновало дикое количество стукачей, к тому же их стук в большой мере был спекулятивным — вроде ничего не сказал или сказал какую-то чепуху, а кончиться все могло очень плохо. Так что всякая любовь пресекалась на корню, у нас были просто дружеские отношения.
Что касается стукачей, то никто, конечно, ни о ком доподлинно ничего не знал — так, слухи, фольклор, изустные предания. Но никто никому особо не доверял, особенно если человек был незнакомым. Больше всего опасались людей, про которых было непонятно, наш он или нет. Было у нас двое друзей, прямо не разлей вода. Как-то они разговаривали, и один начал рассказывать, как его вызвал опер и начал склонять к стуку, но он выдержал. А второй ответил: «Счастливый человек! Ты крепкий! А я вот немного дал маху…» Но ничего, все равно был нашим — он как бы дал нам гарантию, что своих не сдаст.
Или вот был у нас один в проектной конторе — не помню его фамилии и имени, помню только, что его прозвали Колчаком, потому что он был очень на Колчака похож, как говорили. Про него ходила нехорошая молва, так что все его избегали, общались только по делу. Он был очень талантливым инженером, но всегда один. Он был совершенно убежден, что все сидят за дело, а его единственного осудили по ошибке, что скоро ТАМ разберутся и его выпустят. Он бесконечно писал какие-то письма, это уже походило на психическое отклонение, на бзик.
Кстати, этому некоторые были подвержены — куда-то все время писать в надежде, что разберутся. Мой друг Колька Сабуров, Николай Дмитриевич, тоже все писал куда-то в Москву. А я никогда не писал — как-то сразу понял бессмысленность этого занятия…
В лагере мы вообще не видели вертухаев. Только знали, что они на вышках сидят с пулеметами и стреляют, если подошел слишком близко к границе зоны, к забору или колючей проволоке. Там все устроено так — зона обнесена забором или колючкой, а с обеих сторон — невысокие заграждения, тоже с колючкой, называются предзонник. И если ты подходил к нему близко, они окликали или стреляли в воздух.
Сейчас я задумался, что, судя по моим воспоминаниям, выходит, что ничего страшного в этих лагерях не было, хотя вся имеющаяся литература свидетельствует об обратном. Но я могу точно сказать: все, что писал Солженицын в «Архипелаге…», «В круге первом», «Раковом корпусе», — совершенно достоверно, абсолютно. Нужно заметить, что и он о шарашках пишет довольно спокойно. Но все, конечно, зависело от начальства. Нам повезло — у нас в Воркуте, в этой моей проектной конторе, которую потом назвали проектным институтом, не было сволочей. Повезло, если можно так сказать о лагерной жизни. Вот, например, у нас в лагере были две футбольные команды… Странно звучит: все в воспоминаниях пишут про всякие ужасы, что били, пытали, сталинизм, Берия, убийства… А у нас были две футбольные команды, которые друг с другом все время соперничали. И футбольное поле у нас тоже было, его сделали сами заключенные, без приказов сверху. И начальство там почти не появлялось. Такие вещи сложно объяснить, они не передают дурного или, наоборот, приятного запаха атмосферы, царившей в лагере. Просто картинка из жизни, которая продолжалась, несмотря ни на что. Были футбольные матчи, привозили кино, свои спектакли показывал состоящий из зэков Воркутинский театр. В КВЧ были свои артисты, свои музыканты, им даже разрешалось иметь волосы на голове. Выездные гастроли по лагерям, естественно, собирали очень много зрителей…
Кончено, было тяжело, в основном потому, что свобода была безумно ограниченна — километр туда, километр сюда. Долгими белыми ночами мы с Бородой бродили по лагерю. Весь лагерь спит, а мы бродим, беседуем. Но — не били, не пытали, не истязали, так что настоящих ужасов все-таки не было.
Кажется, мне никогда не было скучно — честно скажу, здесь мне скучнее, хотя это, возможно, возрастное, не знаю. Здесь мы более замкнуты на себе. Здесь я могу пойти куда угодно, но не хочу. А там хотели, но не могли.
И еще очень угнетали долгие, бесконечные, девятимесячные холодные зимы. А запомнились больше короткие летние дни, теплые, освещенные незаходящим солнцем откуда-то с северо-востока, из-за Уральских гор. В хорошую погоду был виден Северный Урал… В 2008 году режиссер-документалист Александр Гутман снимал обо мне фильм. И мы с ним и очень хорошим оператором по имени Зяма поехали в Воркуту. Мы, конечно, не подъехали к самим горам — у нас был джип, но там совсем кончилась дорога.
Но мы подъехали довольно близко. После долгой зимы вставало солнце, и я увидел то, что видел пятьдесят лет назад, — золотистые вершины гор… В лагере, когда погода была хорошей, мы сразу начинали смотреть туда, на горы — если вершины были золотистыми, значит, через день-два солнце появится и у нас.
Как ни странно, в Воркуте было неожиданно красиво, кроме обилия бездарного серого цвета. Но солнце с облаками делали небо необычайно красивым, на севере вообще очень выразительные краски и формы. Такое часто бывало коротким летом, которое в Воркуте длится месяца два с половиной. Потом выпадал снег, который не сходил до следующего лета. А летом там были какие-то растения, которых нет здесь, — буйно цвели очень большие ромашки типа садовых. Может, это такой закон природы — лето короткое, так что надо как-то проявить себя. Еще там были по-своему красивые высокие растения с большими страшными колючками, но колючки были не сухие, а как пух — они не кололись, а лишь создавали видимость. А вместо газонов там высевали овес.
Обывательски считается, что полярная ночь — это когда все время темно. Да ничего подобного! Днем светлее, чем ночью, просто очень тускло. И многое зависит от облаков. Полярной ночью солнце не выходит из-за горизонта, а полярным днем — не заходит за горизонт, но, конечно, как-то немного опускается. И самое страшное зимой — не темнота, а лютые морозы.
Я пережил один такой мороз — было 54 градуса ниже нуля, причем это не просто тихий мороз, а жуткий, с пургой. Людей гнали работать на шахту и в такую погоду — в самой шахте все равно было плюс пять. Однако до шахты нужно было дойти. Но тут уж ничего не поделаешь — не надо было совершать перед родиной «преступления». К тому же на лесоповале было значительно хуже, а у нас — грех жаловаться. Охране тоже было очень холодно, но вертухаи разводили себе костры, а зэкам делать это было запрещено. Но все равно жгли, конечно, — у костра сидел какой-нибудь доходяга и поддерживал огонь, а остальные подходили иногда греться. И вот в этот мороз по какой-то надобности именно я бежал из проектной конторы в надшахтное здание — кажется, никто не пошел на обед, а в здании был ларек, и мы решили затеять себе чай. Я был самым молодым, так что мне выпало бежать. Мне выдали денег, сказали, что надо купить, я напялил на себя все что было, кто-то выделил мне свой бушлат — не морской, а просто длинную телогрейку.
Интересная деталь — как только выдавали телогрейки, надо было сразу же на спине сделать дырку, а лучше еще и на рукаве. Потом на это место пришить заплату, на которой написать номер. Когда я получал свой бушлат, я еще был фраером, — повесил его на гвоздик на общую вешалку, через считаные мгновения вернулся, моего нет, а вместо него другой, плохонький. Почему поперли? Вроде не уркаганы. Не уркаганы, а выживать надо. Бушлат-то не только теплый, не только длинный, но еще и, грубо говоря, многофункциональный. Так что его владелец сразу бежал к знакомому портному (а у нас в лагере была даже своя портновская мастерская), тот распарывал, распускал стежки и шил из получившегося материала все что угодно, хоть рубашки. А если у твоего бушлата спина порезана, из него уже ничего не сшить. И обувь, и телогрейки выдавали надолго — года на два, так что все это надо было беречь. И еще одна интересная деталь из лагерной моды — было особым шиком вшивать клинья в брюки, чтобы казенные «дудочки» превращались в клеш. Такие местные стиляги. И в лагере постоянно шел обмен — одну одежду меняли на другую, кипела какая-то жизнь, вернее, карикатура на нормальную жизнь, но все равно приходилось устраивать быт, ничего не поделаешь..
Короче говоря, я завернулся в этот бушлат и побежал. Свои ощущения я помню до сего дня. У меня были рукавицы, в которые я заправлял рукава, одну рукавицу я снял, чтобы руку засунуть куда-то поглубже под одежду. Но глаза-то открыты, и создавалось совершенно реальное ощущение, что глазное яблоко замерзает. Я это чувствовал на физическом уровне. Но магазинчик, к счастью, был недалеко. Так что добежал и туда и обратно, потом горячим чаем отпаивали.
Я в то время уже много рисовал. У меня был свой стол, карандаши, бумага. Наши смотрели на это нормально, я же ничей хлеб не отъедал. Сначала я скрывал от вольных свои рисунки, но потом они все это, конечно, увидели. Но рисунки надо было где-то прятать, потому что все время проходили обыски. За рисунки могли посадить в карцер. Не скажу, что в карцере было очень плохо, — как минимум не нужно было работать. Но мне не нравилось. Я один раз сидел в карцере за то, что оскорбил на вахте какого-то вертухая, обозвал его. Он чего-то заартачился — всех выпустил, а меня нет, потому что я опоздал на полсекунды. И меня в карцер, но не сразу, а после работы — я должен был прийти к начальству и заявить, что меня нужно отвести в карцер, потому что у них там уже все было отмечено. Меня там заперли на двое суток с выводами на работу, но перед этим обыскали и в ватных штанах нашли заначку махорки. Вертухаи были очень недовольны и отправили меня не в обычный карцер, а в холодный. А была зима, стены и пол покрыты инеем, печка зашита в железо и почти не греет, параша страшно воняет. Утром меня вывели в проектную контору. Там была кладовка, в которой я завалился спать. А на следующую ночь снова отправился в карцер, уже сам. Только теперь меня поместили в другой, где были нары и потеплее. Но больше в карцер мне не хотелось.
В общем, рисунки нужно было прятать. И я, шальной оголец, догадался — у нас в конторе на стене висел большой плотный лист картона, на который вешали разные объявления. И я засовывал свои рисунки между этим листом и стеной. А уже потом, когда вернулся с пересмотра дела и из Института Сербского, мне говорят: «Слушай, Женька, тут обалденная история произошла! Мы что-то там решили поменять, оторвали лист, а оттуда посыпались твои шедевры!» Но тогда никто не считал, что я великий художник, и я себя таковым не считал (как, кстати, не считаю и сейчас). Короче, все рисунки уничтожили, ничего не сохранилось. А я, помню, рисовал бабушку в интерьере кухни нашей квартиры на Марата. Еще у меня там было большое рисованное распятие, еще что-то. Но из тех рисунков ничего не сохранилось.
Впервые услышал о побегах на 6-й шахте. На 6-й шахте среди общего контингента был большой процент прибалтов, особенно много было латышей. И вдруг появился слух, моментально пронесся по всему лагерю, — слух, будто Соодла бежал. Я не знал его, но я почему-то запомнил эту фамилию — Соодла. Сразу выяснилось, что он был довольно пожилым человеком, и, очевидно, у него случился какой-то порыв отчаяния или просто своего рода попытка скорее закончить это все: убьют, так убьют как на войне. Не выдержал человек. Потом мы узнали, что его застрелили где-то за вахтой, пошли смотреть — да, правда, метрах в десяти — пятнадцати от колючки лежит человек, плешивая голова видна. А так называемые разводы — когда на шахту и с шахты ведут людей — проходят мимо этого трупа. И еще мы знали, что застрелили его не местные вертухаи, а своеобразный спецназ, который занимается тем, что догоняет, ищет и стреляет — или не стреляет, по собственному усмотрению.
И еще помню Гельмана, его почему-то все звали Гельман фон Поц. Такой был немножко малахольный парень.
И однажды тоже попробовал бежать. Его почему-то не убили, а привели обратно, и он долго, несколько часов, стоял около вахты, побитый, привязанный к столбу. А потом снова вернулся в лагерь.
Третий побег случился уже незадолго до моего освобождения. Бежали двое, Доброштан и Саблин. Они готовились, с умом бежали. Доброштан был чуть ли не шеф-поваром на кухне, а про Саблина я не помню, кем он был. Они взяли с собой какое-то количество воды, они взяли с собой кусковой сахар, а больше ничего не взяли. На шахту приходила железная дорога, по которой возили уголь. И некоторые вагоны грузили так называемой клепкой, дощечками для ящиков, грязь грязью. Эту клепку почему-то заготавливала столярная мастерская шахты, в Воркуте, где даже нет леса, абсурд. И вот один вагон был загружен этой клепкой, а внутри его, на дне, теми, кто грузил, было организовано пустое пространство. Беглецы туда залезли и поехали. Причем они успели уехать довольно далеко, чуть ли не до Котласа. Но в лагере сразу поняли, что случился побег, потому что двоих нет и их нигде не могут найти. Вдоль дорог подняли шухер, пошли с собаками, собаки взяли след и обнаружили этот вагон. Вагон отцепили, отвезли в сторону, весь окружили солдатней с собаками и начали его разгружать. Разгрузили, беглецов вытащили, потравили собаками, потом побили. Но ничего, живые остались. И вдруг слушок по лагерю — их везут обратно. Я до сих пор не могу понять, почему их вернули в тот же лагерь. Возможно, в качестве психологического давления — чтобы все видели, что не вранье, что их поймали. Их провели через весь лагерь, чтобы все видели их побитые морды… А недавно, пару лет назад, кто-то мне сказал, что этот Доброштан жив и здоров, чуть ли не какой-то руководитель «Мемориала». А про Саблина ничего не знаю.
И был еще один случай — не побег даже, а скорее желание побега. С нами сидел Игорь Решетников, невысокий, очень коренастый рыжеволосый мужик. Он своего решения бежать не скрывал, тем более я не был стукачом, меня можно было не бояться. Он мне много рассказывал о себе. Что был сыном лужского бургомистра при немцах и даже сам был в каких-то немецких зондеркомандах, участвовал в расстрелах. То есть про расстрелы он не говорил, это я потом узнал. По телевизору была какая-то передача, и там о нем шла речь. Мне важно сказать, что я все равно не могу его судить — его и других, которые однозначно были виновны. Они жили тихо, скрывались и никому ничего не говорили, так же как этот Решетников, который никому ничего не говорил и только мне решился немного рассказать о своей жизни. И нам всем давали по 25 лет — и мне, и ему, и какому-то мужичку-крестьянину, который лошадь запряг задом наперед. Мы сидели вместе, и я не мог никого судить, да и не хотел. А Решетников так и не сбежал.
Почти сразу после того, как я оказался на Шпалерке, я понял, что брали все время, каждый день. Но особенные «наборы» всегда происходили перед праздниками, перед самым маем или ноябрем. Меня, например, взяли 3 ноября. Правда, срок у меня считался с 5 ноября — с момента предъявления обвинения, так работала их бухгалтерия. И люди, с которыми я первое время сидел, тоже были арестованы в начале ноября независимо друг от друга.
И вот, находясь в одиночке, я от скуки ходил по асфальтовому полу, ходил, бродил целый день, а потом интересно стало, и я залез на батарею, чтобы выглянуть в окошко, — подоконники там были дурацкие, покатые, не удержаться. А за окном козырек, так что почти ничего не видно. В общем, я забрался, выглянул, смотрю — прогулочный дворик, и по нему мой отец ходит. Мне его лица было не видно, только шапка какая-то и очень короткое полупальто с медвежьим мехом, очень пушистым — по пальто я его и узнал. В это время в дверь затарабанили, потом голос раздался: «Эй, сейчас же слезай!» Но я уже все увидел.
Еще одно интересное наблюдение — когда охранники кого-то куда-то вели, они всегда стучали ключом по пряжке, чтобы те, кто кого-то ведет к ним навстречу, слышали. И вот однажды меня куда-то вели, а навстречу из-за угла вдруг вынырнул другой охранник — наверное, оба недостаточно громко стучали и не услышали друг друга. И я увидел, что он вел совсем какую-то маленькую девчушку, лет двенадцати, школьницу, в коричневом фартучке. Охранники растерялись — кого куда? А надо заметить, что двери в камеры располагались в нишах, так что меня в этой нише лицом к стене прижали, пока ее проводили, и больше я ее, конечно, не видел.
А уже потом, когда я сидел в Крестах, мне в камеру закинули двух огольцов, малявок лет по тринадцать. Я с ними просидел недели полторы. Спросил их — за что посадили? И они рассказали удивительную, но совершенно обычную историю. Они раньше уже сидели по малолетке, потому что были какими-то воришками. Их готовились отправить в колонию, где было школьное обучение. Отправки они ожидали в том корпусе Крестов, который окнами выходит на улицу Комсомола. Причем улица не очень далеко от корпуса, за стеной с колючей проволокой. И однажды по улице перла какая-то демонстрация — ликующая толпа с лозунгами и плакатами. А у мальчишек в камере окно было приоткрыто. Они повисли на решетке и закричали: «Дяденька Трумэн, приди и освободи нас!» А надо понимать, что под каждым окном снаружи написан номер камеры, так что вертухаи, которые были во дворе, мгновенно определили, откуда кричали. Было следствие, суд, все как полагается, и мальчишки схлопотали 58-ю, по-взрослому. Я, уже опытный сиделец, помню, их все время чему-то учил. Я им рассказывал о лагерях — як тому времени уже посидел, это во время пересмотра дела было. У них глаза округлились — они же, естественно, ничего не знали. К тому же я уже понимал, как разговаривать со следователями: не разводить никакой романтики, сухо отвечать на вопросы и не говорить ничего лишнего. Эта наука приходит сама по себе к каждому человеку, когда он пройдет обязательный этап ротозейства. Как писал Солженицын — когда человека только взяли, еще тепленького, буквально из постели, он начинает блеять по-овечьи. И неважно, хороший ты или плохой, ты этим блеяньем себя унижаешь. И по большому счету невозможно тебя научить — сам должен учиться.
Шел последний год моего пребывания на Воркуте. Однажды прибегает посыльный, курьер, — там это было распространено, с телефонами был напряг, один телефон на всю проектную контору, и то у начальника, только по делу, и связывали только с городом. Посыльный говорит, что меня вызывают к оперуполномоченному. А в лагере это не очень хорошая новость — зачем, с какой стати тебя вызывают? Может, будут вербовать в стукачи. Сразу начинаются слухи: «Женьку вызвали? А чего?..»
Короче говоря, явился я к оперу. «Ухналев?» — «Ухналев». — «Вы посылали свой проект, — и разворачивает передо мной какие-то синьки. — Его вернули, потому что вы адресовали не туда, нужно в другое место адресовать». Я ничего понять не могу — какой проект? Смотрю на синьки, а там проект пистолета-пулемета. Подробнейшая разработка, чертежи. Я говорю: «Вы знаете, это не мое, не моя работа!» — «Как это не ваша? Ухналев?» — «Ухналев. Но давайте все-таки имя, отчество, год рождения проверим, какие-нибудь данные». Посмотрели — Илья Акимович. А Илья Акимович — это мой отец.
В общем, потом меня вызвал начальник нашей конторы Рахмель, нормальный человек, и объяснил, что на 40-й шахте — относительно недавно выстроенной, причем еще большей, чем Капитальная, — работает мой отец. Его тоже по 58-й арестовали. Я вернулся в контору, стал рассказывать, а мне сначала никто не верил, потому что история-то фантастическая.
А 40-я шахта до сих пор существует и дает уголь. И там до сих пор те же постройки.
Еще надо заметить, что связи между зонами у зэков не было. Но мы знали, что где-то в низине, в морозной синеве, скрывается у-яшахта, в хорошую погоду ее даже было видно. И вот однажды поползли слухи, что там сидит Кампесино — один из больших испанских республиканских деятелей. После того как в Испании все накрылось, он уехал в Москву и через некоторое время, естественно, был посажен. То ли на суде, то ли где-то еще он заявил, что на воле был шахтером и шахтером считает себя до сих пор, так что теперь совершенно логично работал на шахте. И там же, на 7-й, как говорили, сидел один украинец, шофер немецких концлагерных душегубок, который возил и включал газ.
Дикая пестрота. И было не принято что-то выяснять, о чем-то спрашивать. Вот, например, у нас в проектной конторе работал хороший инженер Славка Муравьев, нормальный, относительно молодой, здоровый, сильный человек. И мне даже в голову не приходило что-то про него выяснять. И еще был Иван Щербина, тоже инженер, с которым мы довольно близко сошлись. Они с этим Славкой очень сдружились. И уже потом, в Ленинграде, он заходил к нам со своей женой Тоней, тоже бывшей зэчкой, тоже по 58-й. Мы тогда жили на Фонтанке. И он мне рассказал интересную штуку про то, как Славка один раз проговорился. Во время войны у них был разговор про то, кто за что сидит. И Славка ему сказал: «Да ты-то — чепуха, ты-то что!» Дело в том, что Щербина был угнан в Германию на работу. «Ты-то что, — говорит Славка. — А вот за мной-то дела водятся». — «А как? А что?» Короче говоря, у него даже был какой-то немецкий чин. Сначала он был военнопленным в Германии, почему-то согласился на всякую грязь. Возможно, это было единственным способом выжить. И он стал карателем, уничтожал партизан. Потом, через многие годы, я прочитал в какой-то газете огромный материал про карателей с указанием фамилий людей, которых судили и расстреляли. И среди них был Славка Муравьев, совсем не рядовой. Вот такая история.
При этом важно знать, что независимо от статьи и вообще от человека в лагере почти все понимали все и про Сталина, и про Советскую власть. Были ничтожнейшие единицы, которые говорили иначе, но я абсолютно не ручаюсь, что они говорили откровенно. Скорее всего, то была маска, маска приспособленчества: «Вот я какой лояльный. Вы все сидите, потому что вы сволочи, изменники родины, предатели, враги народа, а я честный человек, и посадили меня ошибочно. И даже те, кто сажал, не виноваты. Просто ошибка, с кем не бывает…» Более того, эти люди писали очень много разных жалоб всяким генеральным прокурорам: «Вот все сидят сволочи, один я невинный. Прошу разобраться». Но в основном, конечно, все понимали.
Одним из самых праздничных дней во всех лагерях Воркуты, да, думаю, и не только Воркуты — весь Союз же был покрыт лагерями, — так вот, главным праздником была даже не смерть Сталина. Официально он умер 5 марта, когда объявили, но слушок пошел уже 3-го. В газетах еще ничего не было! Откуда, как? Непонятно. А потом уже вольные газеты принесли. Многие вольные, кстати, так же были настроены, как и мы. Здравые же люди были, хотя и среди них попадались те, кто играл в лояльность. Мы вообще от вольных многое узнавали, потому что газеты у нас, конечно, были запрещены. А они что-то рассказывали, приносили книги, которые невозможно было найти, типа «Необычайных похождений Хулио Хуренито» Эренбурга — где ее найдешь, кто может знать, что была такая книжка?..
И вот наконец умирает Сталин! Нужно понимать, прочувствовать подкоркой, что он был божеством, он был равен божеству, между ним и божеством не было различия, поэтому в человеческом мозгу существовал некий тормоз, некое табу. Грешно просто ликовать: «А-А-А-А!» Плохое, страшное, жуткое, но божество! Можно знать и помнить все его злодейства, но от этого он не перестает быть божеством. И все затихли. Каждый на долгие часы ушел в себя — и зэки, и вольные.
Потом уже, когда официально объявили о смерти вождя, всю неделю играла потрясающая музыка. Какие вещи они вытащили из своих архивов! Где они их нашли? Почему мы сейчас всего этого не слышим? Какие-то совершенно неведомые, порой даже неизвестные композиторы, хотя были и известные, которых не передавали. Мы впервые услышали Сибелиуса! Всю неделю по радио почти не было никаких передач, только эта великолепная, роскошная музыка, словно отдушина, играла и играла непрерывно. Потом, через неделю, все очень жалели, что она закончилась. Потому что пришла пора похорон.
Я вспоминаю одну интересную деталь. Он умер, его еще не похоронили, но уже объявили всеобщий траур. И вот мы сидим в комнате в новом одноэтажном доме, выстроенном специально для проектной конторы. В нашей комнате нас было человек пять, и комната была очень хорошей, угловой, солнечной, потому что окна выходили на юг. Был яркий солнечный день, даже постоянного ветра не было. До горизонта и даже дальше сверкал белейший снег, который пересекала железная дорога — она, кстати, и сейчас там. В лучах солнца стоял черный паровоз, который, видимо, шел откуда-то со стороны 9-й или 10-й шахты. Такое черное пятно на белоснежном фоне, очень красиво. И вот этот паровоз и все паровозы вокруг начали гудеть. Я помню этот протяжный гудок и дым, белым султаном поднимающийся в голубое небо, в бесконечность.
И надо было стоять. Всем надо было стоять. А ведь, как говорилось в одном фильме, «вставать-то и не хочется».. В каких-то ситуациях в жизни постоянно приходится наступать на самого себя, очень обидно. Я должен встать для них, как бы мне ни было от этого мерзко. И вот я мял, мял «беломорку», потом поднялся, продолжая ее мять, словно я собираюсь пойти покурить — мы курили в углу комнаты, у печки, и там же готовили чаи. И каждый стоящий прекрасно понимал это ощущение. Потом я вышел вон из комнаты, открыл дверь и увидел, что дальше по коридору, по диагонали от нашей комнаты, левее, тоже приоткрылась дверь, и оттуда боязливо выглянул Антонайтис, прибалт. И тишина, на белом свете все замерло. Везде тишина — в небе, в воде, на земле, все молчит вокруг. И вот он выглядывает, видит меня и машет мне рукой. И я ему помахал в ответ.
Это был всеобщий ступор. Очень сложный с психологической точки зрения момент. Уверен, что все, кто еще жив, помнят этот момент. В городах, конечно, творился полный бардак, слезы, люди галоши теряли: «Как же мы теперь?» Хотя я помню, что еще до его смерти происходило разное, разговоры все равно какие-то шли. «А вот если помрет?» — «О, плохо будет!» — «Да как это? Почему плохо будет? Хорошо будет!» Я тогда настаивал на том, что будет плохо, потому что никто, ни один человек на земле не знает, что мы сидим, что нас так много. Я думал, что в этот день нас перестанут кормить, потому что никто не знает, что мы есть.
Уже на следующий день на работу пришли вольные и стали рассказывать. В ближайшем к шахте городе на площади стоял памятник Сталину, и к нему стихийно стал стекаться народ. Собралась большая толпа. И мимо проходил какой-то человек, остановился напротив памятника и внятно, громко, чтобы все слышали, сказал: «Стоишь, сволочь? Скоро тебя скинут!» И его никто не остановил, никто не схватил его за рукав, не выяснил его фамилию. Вот такие вещи нам рассказывали вольные. А я думал: «Да, правильно, скинут…»
Была всеобщая растерянность — непонятно, что будет дальше. На следующий день вольные с ужасом, как о каком-то богохульстве, рассказывали про то, что ночью кто-то отпилил голову у памятника Сталину — был такой памятник: скамейка, на ней сидят Ленин и Сталин и о чем-то беседуют. И вот Сталин остался без головы. Потом этот памятник накрыли брезентом, но все равно было видно, что голова там всего одна.
Но все же настоящий праздник был, когда арестовали Берию. Стихийный, никем не управляемый народный праздник. Как и в день смерти Сталина, стоял хороший солнечный день, только уже летний. Сначала пошел слух, что с Берией что-то не так. Я, помню, спорил: «Ладно, что не так, ничего подобного. Он в ГДР сейчас!» — «Нет, не в ГДР, а что-то не так…» А потом, когда уже объявили, тогда и началось. Люди не вышли на работу. Потому что в отличие от Сталина Берия не был божеством, он был человеком, это была реальная сволочь из плоти и крови. И все прекрасно знали, что за реальным осуществлением всех зверств стоит именно он. Тот только приказы отдавал, а этот непосредственно делал. Помню, как вся наша компания, все проектно-конторские, начала петь под гитару «Сулико»: «Я могилу милой искал, но ее найти нелегко… Где же ты, моя Сулико?» Со смертью Берии с нашей стороны началась полнейшая бессовестная, жестокая травля всех вот этих сволочей. И они притихли, их не видно было вообще! Помню, как под общее улюлюканье выносили портрет Берии… Все люди братья! Чудесный день какого-то всеобщего примирения. Замечательное время, более бурное, чем перестройка 1980-х.
Шел 1954 год. Вызвали меня как-то в штаб, с папиросной бумаги зачитали, что мой 25-летний срок скостили до десяти лет. То есть мне оставалось сидеть еще четыре года, и было совершенно наплевать — что скостили до десяти, что дали еще пятьдесят. На моей памяти был только один человек, фамилии которого я не помню, но звали его Измаил Музафарович, из Баку, азербайджанец, очень хороший дядька, — ему дали пять лет, он эти пять лет отсидел и освободился. А тут было двадцать пять, стало десять, да и на здоровье.
А через какое-то время прошел слушок, что начальство составляет некие списки. Оказалось — списки тех, кто был посажен в несовершеннолетнем возрасте. И в один прекрасный день — как раз светило яркое солнце, были первые дни июня или самый конец мая, не помню — вызывают меня в штаб. Новый штаб стоял на невысоком косогоре, и из-за рельефа к нему пристроили большое крыльцо со ступеньками. Я подхожу, смотрю — у крыльца трется небольшая группа зэков примерно моего возраста. Стоим, курим, ждем.
Оказывается — суд, потому что все должно быть через суд, иначе никак. Все очень спокойны, никто не рвется вперед без очереди, сидят, греются на солнце. Через какое-то время из здания вышел тщедушный — они все были тщедушными — лейтенантик: «Ну, кто первый пойдет?» Никто не хочет. «Давай ты!» Наконец подошла моя очередь. Я зашел в какую-то комнатку, сидят офицеры — погоны зеленые. Фамилия, имя, отчество, статья, срок, начало срока, день рождения и так далее. Я на все вопросы ответил. Причем все эти данные у них, естественно, были, но таков порядок, куда денешься. «Ладно, идите». Вышел я опять на крыльцо, сижу вместе со всеми. Никто не понимает, что дальше. Какой суд? Зачем суд? Уже потом стало ясно, что, оказывается, вышло постановление Верховного Совета о том, что те, кто сел в несовершеннолетнем возрасте и просидел более половины срока, по решению суда могут быть свободны. Снова это решение суда! Короче говоря, снова выходит этот щуплый лейтенантик, в руках бумажка. И нас всех освободили. А когда, а что? «Вам объявят». Все еще покурили и разошлись.
Проходит время — неделя, другая, третья, никто ничего не объявляет. Потом я по каким-то делам снова оказался в штабе. И мне говорят: «Вы не 1931 года, а 1930-го, то есть в момент ареста вам уже было 18 лет, вы были совершеннолетним». — «Как так?» — «А вот, в документах написано». Оказывается, уже упоминавшийся капитан Ковалев, сволочь, подстраховался. При этом я вижу, что им самим неудобно от того, что они творят, а остановиться не могут. Но я начал возмущаться, мы вместе перекопали документы и нашли тот, где было написано, что я 1931 года рождения. Меня обуял страшный мандраж — ведь могли и не отпустить.
А дальше — снова тишина. Я продолжаю работать, хотя все уже знают, что я как бы вольный. И потом наступает день, когда мы с Бородой зашли перекусить в коммерческую столовую — одно из нескольких очень полезных нововведений начальника лагеря. Там, в отгороженной части одного из бараков, за свои деньги можно было поесть каких-то супов, макарон, котлет, пирожков, выпить чаю. Мы зашли, сели, взяли котлет с макаронами. Сейчас это смешно звучит, но все было очень простым, очень качественным и очень вкусным. Хотя, может быть, мы просто отвыкли от настоящей еды. Короче говоря, сидим, едим. И вдруг в маленький зальчик, где мы сидим, врывается один из нарядчиков. «А-а-а, Ухналев, мать твою так-перетак! Чего ты здесь сидишь? Надо бежать! Беги на вахту!» — «Куда, чего?» — «Тебя освободили, давай, давай!» Я срываюсь, бегу, за мной бежит Борода и кричит: «Женька, я сказал, чтобы наши котлеты там не трогали!» — «А, мать твою туды-растуды!» Добегаю до вахты, там импровизированные прозрачные ворота — затянутый колючей проволокой каркас. Ворота распахнуты, стоит группа каких-то людей. И я через эти ворота выбегаю — на свободу. Именно так я и освободился — без документов, без ничего. И я ни с кем не успел попрощаться, только Борода остановился у самых ворот, я ему махнул рукой и вскочил в грузовик. И все.
И это было бы красивым завершением лагерных мытарств, но тут надо понимать, что освобождение освобождению рознь. Привезли нас на пересылку. Вертухаи с нами уже не собачатся — мы уже освобожденные. «А чего, ребята, с вами делать, мы не знаем. Куда вас девать? Куда вас на ночь поместить?» Потом оказалось, что у них только что случилась страшная резня, пересылка-то уголовная. Мы говорим: «Нет, резни нам не надо, давайте нас в БУР». — «А не будете обижаться?» — «Не будем, давайте в БУР». — «Ладно, в БУР так в БУР, только смотрите не обижайтесь».
В БУРе мы пробыли около двух часов, валялись на нарах, спали, разговаривали. Потом решили — надо бы что-то поесть. У меня денег не было вообще, а у остальных деньги были — они освобождались в более спокойной обстановке, им успели выдать то, что у них лежало на счету. Они наскребли чего-то, и мы пошли на вахту: «Ребята, помогите, нам бы пожрать чего-то надо». Нам досталась бутылка водки, колбаса и хлеб. Колбаса в то время была типа современной докторской, но какая-то очень сырая, как будто только что с мясокомбината, причем создавалось ощущение, что она немного недоделана, что какие-то операции над ней еще не совершили. Но съедобная, ничего. Еще честнее нашей — в нашу всякую красную марганцовку добавляют, а эта была серой.
Мы поели, выпили, сидим дальше. После полуночи пришли вертухаи, вывели нас фотографироваться для документов. Ночь светлая, нас фотографировали прямо на фоне беленой стены БУРа. Потом говорят, что до утра мы можем спать. А к утру, когда нас подняли, каждому была заготовлена справка с фотографией.
Но еще до освобождения я знал какие-то подробности своей предстоящей свободной жизни. Например, Вальтер Кальдмяэ мне однажды сказал: «Слушай, если тебе нельзя будет в Ленинград, то давай в Тарту к моей матери». У него в Тарту жила пожилая мать. Так что я знал, что, скорее всего, отправляюсь в Тарту. И, когда мне на пересылке заполняли документы, меня спросили: «Куда билет?» — «До Ленинграда». — «Нельзя!» Я говорю: «А до Тарту можно?» — «До Тарту можно». У меня до сих пор хранится эта справка — там в графе «Место назначения» написано «Тарту» и штамп — «Билет выдан».
Нам выдали билеты — и все, надо было уезжать. В разные стороны, по отдельности. У меня на тот момент вообще не было денег — все те копейки, которые я заработал в лагере, я проел. Так что у меня ничего не было, только странное ощущение — я могу идти куда угодно, прямо по глобусу. Куда угодно, кроме Ленинграда. Я отвык от этого.
Первым делом я пошел в проектную контору Воркуты. Я знал, что в этот день там должна быть, например, Галька Рубина. Удивительно — я никогда не был там, но знал каждый колышек на этом огромном пространстве тундры. Пришел, встретил Гальку, сказал ей, что меня освободили. Она сразу: «О, подожди, сейчас-сейчас!» Убежала снова на второй этаж, потом прибежала обратно, собрав там каких-то денег, рублей сто пятьдесят — копейки по тем временам, но все же лучше, чем ничего. И мы вместе пошли на вокзал. Я ей говорю: «Я бы с удовольствием остался еще ненадолго». — «Нет! Раз должен сегодня уехать — значит, сегодня и уедешь!» И как раз через полчаса отходил поезд. В вагоне уже сидели освободившиеся, несколько человек. И мы поехали — без вещей, без всего. Помню, мне только кусок сахара дали в дорогу, и все.
Под вечер погода испортилась. Небо стало серым. Я, как всегда, вышел в тамбур курить, посмотрел в окошко и увидел потрясающей красоты картину, которую запомнил на всю оставшуюся жизнь: бескрайняя тундра, какая-то трава, кусты торчат темными колючками, а на горизонте — низкие серые тучи. В этих тучах — маленький разрыв, сквозь который прорывается очень яркое солнце… Я думал потом как-то изобразить это, но пока не изобразил.
В общем, ехал я, ехал, причем уже не нахлебником — все-таки хоть какие-то деньги были, так что я мог на станциях что-то покупать. И таким образом я добрался до Вологды, где у меня была пересадка и где мне нужно было компостировать билет. А потом я как-то решил, что все равно должен так или иначе оказаться в Ленинграде — во-первых, у меня там была очередная пересадка, а во-вторых, ну не мог я не приехать туда.
Но пока я был в Вологде, уже один. Помню затрепанный город, затрапезные деревянные домишки, еще дореволюционные. Я ходил, ходил, и ноги сами занесли меня на кладбище. Хотя, возможно, мне подсознательно хотелось оказаться в том месте, где никого нет. Не скажу, что мне не хотелось видеть людей, просто я отвык от них. Я чувствовал, что эти люди — другие, не мои, не такие, как те, среди которых я долго прожил. Мне казалось, что мы говорим на разных языках, что между нами не может быть никакого контакта. Я для них был пришельцем из космоса, а они — для меня. И вот я с городских улиц ушел на кладбище. Стоял очень хороший солнечный день. Я присел на лавочке около местной церквушки и просидел там довольно долго. Немного отдышался, подумал и снова вернулся на вокзал.
В те времена на всех вокзалах всегда стояли дикие очереди в билетные кассы. Когда я пришел на вокзал, там тоже стояла страшная очередь — серая толпа каких-то неприятных людей, которых я потом встречал всю свою жизнь. Есть такой термин — одноразовые люди. Я с ним совершенно не согласен, мне категорически не нравится это слово — «одноразовые», потому что оно обозначает, что они хотя бы один раз могут быть использованными для чего-то, хоть какая-то минимальная польза от них есть. А тут — совершенно серая толпа, нулевая. Таких людей очень много, они везде, просто в больших городах это не так заметно. И в общем, я почувствовал, что не могу стоять в этой очереди, просто на физическом уровне не могу. Но ведь я уже был прожженным зэком, 58-я статья. Так что я пошел прямо к уполномоченному — на каждом вокзале обязательно был свой уполномоченный. Пришел к нему в кабинет, там сидел он и еще какие-то офицерики. Я говорю: «Мне нужно прокомпостировать билет, а там я не могу пробиться, очередь очень большая. А вы же не заинтересованы, чтобы я тут у вас надолго оставался?» — «Нет». — «Тогда помогите мне». И он мне все сделал в обход кассы, в обход очереди. Так что я почти сразу загрузился в какой-то поезд и поехал. И приехал в Ленинград вечером 22 июня.
Я сообщал телеграммой, что приезжаю, но меня никто не встречал. Так что я отправился один на Марата, пешком — там же близко. Как был, в телогрейке, только номер спорол. Я потом еще долго в этой телогрейке ходил, дрова таскал из подвала — у нас дома на Марата было дровяное отопление. Шел я, шел, ничего странного по пути не увидел — так, бессмысленная толкотня. Пришел домой, а соседка наша, Варятка, руками всплеснула: «Ой, а твои-то, бабушка с матерью, пошли тебя встречать на вокзал!» Значит, разминулись. А тут и они возвращаются: «Ой, а мы думали, что, раз заключенные, хоть и бывшие, то не могут же они ехать в первых вагонах, так что ты, наверное, где-то в конце поезда». А я в первом или во втором вагоне ехал. И вот таким образом я вернулся в Ленинград.
Перед тем как начать писать о моей жизни после лагерей, мне бы хотелось вспомнить некоторых хороших людей, назвать некоторые фамилии, чтобы о них осталась память.
Например, из времен СХШ — ныне здравствующий художник Прошкин. Он делает хорошие, свежие акварели, пейзажи — не сказал бы, что я приемлю такую живопись, но неважно. Я помню, что он был совсем невысокого роста человеком с огромной, мощной черной шевелюрой. Хороший человек. Или Гвалевич, не помню его имени, — тот почему-то всегда ходил с громадным портфелем. Он был очень трогательным, застенчивым человеком. Над ним посмеивались, но по-доброму. Или Гудзенко — он уже умер, у него в те далекие времена были интересные работы. Мальчишкой он коллекционировал иллюстрации. В СХШ была приличная библиотека по искусству, и он очищал книги этих библиотек от иллюстраций. Все об этом знали, но никто не выдавал. У нас была прекрасная библиотекарша, которая очень терпеливо к этому всему относилась, не поднимала этого вопроса, хотя наверняка понимала, что в конце концов ей придется отвечать. Или, например, Лео Тийвель — мы с ним дружили до самого моего ареста. Он был очень талантливым парнем, интересным скульптором, но с ним произошла беда. В СХШ не было скульптурного направления, а рисовальщиком Лео был слабым — объемы ему удавались прекрасно, а вот плоскости нет. Так что он ушел, а куда — не помню. Очень жаль. Или Илюшка Глазунов — в то время у него была английская военная форма, он в ней ходил, на голове какая-то офицерская пилотка. Причем это не было пижонством, просто не было другой одежды. А форму, думаю, по ленд-лизу прислали…
В общем, было очень много хороших, интересных мальчишек. Причем среди нас совсем не было никакой агрессии, все происходило абсолютно по-человечески. Конечно, как и всегда, среди людей существовала зависть и всякая другая мерзость, но она существовала за стенами, за стеклами, где-то там. Хотя, естественно, безобразия случались — количество дряни во все времена сохраняется, плюс-минус процент. Но, к счастью, до поры до времени мы с этим почти не соприкасались.
Теперь что касается Воркуты. Понимаю, что уже оскомину набило мое выражение «все были чудесные, добрые люди», но это действительно так. И некоторых воркутинцев тоже обязательно нужно вспомнить.
С нами сидели самые разные люди. Например, были власовцы. И к ним никто не относился как к предателям, потому что все сидели вместе, у нас была общая жизнь. Хотя все, конечно, как-то кооперировались — свои старались держаться вместе друг с другом — по интересам, по специальности, по месту рождения. Например, прибалты группировались с прибалтами, власовцы — с власовцами и так далее. При этом почему-то над прибалтами довлел… комплекс неполноценности малых народов — тот комплекс, которого я никогда не наблюдал, скажем, у грузин. Не знаю, из-за чего это происходило.
Но не было никакого предубеждения, никто никого не тыкал. Так, был громадный процент тех, кто попал в лагерь, побывав в немецком плену, — их автоматически называли власовцами, никто не разбирался в тонкостях. Но все понимали, что вокруг просто люди, попавшие в жернова немецких и наших лагерей.
Был, например, мужик откуда-то из Средней Азии, не помню, как его звали. Про него я знал, что он был летчиком, асом, очень много немцев сбил. А потом сам был подбит. Попал в плен к немцам и, опасаясь расстрела, назвался другим, каким-то солдатом. Интересно, что, когда немцы, гестапо, пытали пленных, им нужна была правда, истина, а наши, когда пытали и били, преследовали совершенно другую цель — чтобы человек подписал. Ну да ладно. Короче говоря, немцы его слушали, слушали, а потом говорят: «Ладно, парень, бросай это дело, мы же все знаем». И достают вырезки из газет с его портретами — о том, что он едва ли не Герой Советского Союза. Они не просто допрашивали невиновного — они все знали, просто хотели добиться истины.
Или, например, был человек, фамилию которого я не помню — кажется, Абрамов. Чудесный человек. А фамилию я забыл, потому что мы ее никогда не употребляли, мы все называли его Милочка. И все, кто остался жив, помнят его именно как Милочку. Это был человечек карикатурной внешности — маленький, плешивый, с типично еврейским носом. Очень остроумный, добрейшая душа, милейший, и Милочкой его звали заслуженно. Помню один связанный с ним случай. Мы стояли на вахте, и кто-то спросил Милочку, куда он поедет, если его вдруг освободят. И он сразу, не задумываясь, ответил: «Или Хуйнарыльск, или Сукапозорск». Замечу, что у нас в лагере мата было не очень много — так, кто-то ругнется порой. Но были два характерных выражения — «хуй на рыло» и «сука позорная». Отсюда и ответ Милочки.
Что касается проектной конторы, то помню, например, двух друзей, сметчиков, которые все время были вместе, — один был Гельгафт, а фамилии второго я не помню, мы его звали Тигра, чудесные мужики. Тигра сам про себя рассказывал, как на какой-то пересылке во время осмотра стоит он голый, никто на него внимания не обращает. А одна баба из надзирательниц — там всегда было очень много бабья — взглянула на него — худенький, маленький — и сказала: «Господи, ну и тигра…» Так и прицепилось.
Или еще был сантехник Иван Степанович, не помню его фамилии, но мы все звали его Клизмой — не знаю почему, других сантехников так не звали. Клизма был очень странным человеком, совершенно беззащитным. Когда я узнал о том, что меня освобождают, я раздал окружающим какие-то свои вещи, в основном книги, которые мне прислали с воли. Ему я отдал два тома «Всемирной истории» по его просьбе.
Моим непосредственным начальником в проектной конторе был Михаил Иванович Сироткин. Уже потом, после освобождения, ходили слухи, что он в Москве записывал какие-то свои воспоминания. Но я их не читал и ничего про них не знаю. И еще одного человека из проектной конторы я хочу вспомнить — Бруно Майснер, из поволжских немцев. Он был очень нервозным, все время подносил ладонь к лицу и дышал в нее. Говорят, он тоже писал какие-то воспоминания, встречался с людьми. Некоторые говорили: «Дурак этот Бруно, записывает что-то. Кому это нужно?» Но и его воспоминаний я тоже не встречал, ни в самиздате, нигде. Вообще удивительно, что в самиздате почти не было воспоминаний — Солженицын, Шаламов, Гинзбург и, кажется, все. Как будто целая эпоха вылетела. А с другой стороны, кому они нужны? История — предмет, который никогда никого ничему не учит.
Сложно вспомнить всех — в нашей проектной конторе было человек пятьдесят. Всплывают в памяти какие-то люди. Виктор Михайлович, опять без фамилии, — уже потом, после освобождения, до меня дошли слухи, что он покончил с собой в Москве.
Борька, Боб Узбекский — не знаю, почему его прозвали Узбекским, он был совершенно русским парнем. В то время он казался очень интересным, как и большинство окружающих, — возможно, в силу моей молодости. А потом, на воле, этот интерес пропал. Помню, мы жили на Витебском проспекте, как-то созвонились с Бобом, договорились о встрече. Посидели вечером, разговаривали о какой-то чепухе. Меня освободили раньше многих, остальные досидели до 1956-го, до того момента, как по всем шандарахнула речь Хрущева. Борька, Ваня Щербина и другие поступили в филиал Горного института…
Интересно, что после моего возвращения у меня абсолютно сменился круг общения. То есть не осталось никого, кто был до лагерей. Только об одном человеке я случайно узнал — о Сашке Кемнице. Я уже работал в Эрмитаже, бывал у подрядчиков и однажды увидел на стене Доску почета, где висела фотография Сашки. Я его сразу узнал — у него было очень запоминающееся лицо. Я смотрю — он, а имя при этом совершенно другое. И в общем, мы так с ним и не встретились.
Удивительно, но я не держу зла на человека, который написал донос. Просто слишком ничтожно все, что было связано с той системой. И он слишком ничтожен, чтобы держать его в памяти. С таким же успехом можно было бы думать о следователях, о судьях. Тот человек, который кинул мне в камеру курево, — вот о нем хочется помнить, пускай о нем останется память.
Когда мы вышли оттуда, и я в том числе, мы стали другими. Мы были лучше там, когда сидели. Не из-за того, что там «страдание», — чушь это все собачья, не особо мы там и страдали. Но там мы были личностями, каждый из нас. А потом мы вышли, и, наверное, произошла адаптация под тех, кто был здесь, кто не сидел, подстройка — я такой же, как вы. Стерлось то, что было у каждого, стерлась индивидуальность. Мимикрия — страшная черта, жуткая. Но никуда от нее не деться.
Мама была очень наивным, очень доверчивым человеком. Верноподданным, как и миллионы остальных. К тому же она работала в «Интуристе», а ее сын сидел в лагере — это важное обстоятельство. Когда они с бабушкой вернулись с вокзала, где встречали меня, я уже был дома, мылся в ванной. Хотя ванной тогда еще не было, был просто кран с холодной водой. Мама зашла в ванную, и одними из первых ее слов были: «Ну, я надеюсь, ты теперь стал другим человеком, ты осознал свои ошибки…» Мне было очень нелегко уверить ее, что я стал еще хуже. И это ее, конечно, огорчило.
Между тем мне нельзя было оставаться в Ленинграде дольше 24 часов. С точки зрения сегодняшнего человека было бы интересно проследить, откуда брались все эти советские регламенты, кто их придумывал и, главное, зачем, потому что они совершенно никем не соблюдались, никто на них не обращал внимания. Так что мама у себя на работе моментально начала по поводу меня хлопотать, чтобы мне разрешили остаться в городе хотя бы на месяц. И этот месяц я прожил, нигде не работая, — отсыпался, отъедался, хотя, в общем-то, голодным не был. Отъедался и осматривался.
Я, конечно, отвык от свободы, но довольно быстро адаптировался. Очевидно, скорость адаптации зависит от степени разумности. Ни у кого из наших, с которыми я потом встречался, я не видел страха перед свободой, перед большим городом. Возможно, потому что в проектной конторе мы много общались с вольными. Некоторые даже помогали. Вот, например, был у нас такой Дулов, нормальный, порядочный человек, в Ленинграде работал в Гипрошахте. Я пришел к нему, он меня узнал, устроил на работу — меня приняли техником-архитектором.
Я, надо заметить, всю жизнь по сю пору жутко страдаю по поводу отсутствия у меня высшего образования. Его и не могло быть — меня же посадили прямо со школьной скамьи. Хотя потом я совершал какие-то попытки. Но у меня не было справки даже об окончании средней школы. К тому же, когда я учился в СХШ, аттестатов зрелости не выдавали, могла быть только какая-то справка — столько-то классов пройдено. В дальнейшем мне пришлось поволноваться, когда я без высшего образования устраивался главным архитектором в Эрмитаж. Но это было потом, а пока я начал работать техником в Гипрошахте. И впервые ощутил к себе странное отношение со стороны тех, кто не сидел. Потому что все знали — 58-я статья, политический, «враг народа». Хотя мне, честно говоря, на их отношение было наплевать.
Ничего не могу сказать про людей, которые со мной там работали. Все какая-то серятина, серятина без интересов, без книг, без увлечений. Нормальным людям свойственно что-то коллекционировать, откладывать, что-то делать, чем-то увлекаться. А тут ничего! Очевидно, это было свойственно всем слоям нашего населения. Хотя если вспомнить эти времена — боже мой, это же было золотое дно! Комиссионные набиты уникальнейшими вещами, причем все стоит совсем недорого. Потому что сейчас берут в комиссионный за пять копеек, а продают за полмиллиона, а тогда наценка была у%, и все. А сколько было книг! В перестройку нас ошарашило, когда в один день появились книги, о которых мы и не мечтали, и тогда случилось примерно то же самое. Это были уникальные книги, старых — «Сытинских» — и прочих изданий. И все это за копейки. «Беломор» стоил ггкопейки, хлеб — 14–18 копеек, а томик Брокгауза — рубль! Люди собирали библиотеки и выбирали, чтобы книжки были чистенькими, странички — не желтенькими… Странная была жизнь — кто хотел, избито выражаясь, «жить духовно», у того были абсолютно все возможности, кроме политического строя. Сейчас принято жалеть о том времени, говорить, как было хорошо, но те, кто так говорит, просто не понимают, что на самом деле было мало хорошего. Их устраивало, что «Докторская» или даже «Отдельная» колбаса стоила два двадцать, и их совершенно не смущает, что, кроме этих двух сортов, другой колбасы не было вообще, не существовало.
Недавно зашел с женой в одну из подворотен на Загородном проспекте и вдруг отчетливо вспомнил картину — во двор с улицы заходит тетка, везет на тележке какой-то ящик, собирается чем-то торговать. А за ней бежит хвост, человек сто, если не больше, и каждый держится за другого, чтобы очередь не распалась. Еще даже никто не знает, чем будут торговать. Оказалось — сосиски. Хотя обычно, в магазинах, сосиски продавали две продавщицы — одна ворочала кульки из твердой, как крафт, желтой бумаги, а вторая отвешивала по килограмму. А комиссионные ломились от потрясающих вещей. И при этом все ходили серые, какие-то грязные, потому что мытье в бане было только по субботам. В домах — клопы и тараканы. Хотя у нас на Марата почему-то тараканов не было — наверное, вымерли в блокаду, потому что есть было нечего, и холод еще.
И вот в таком сером состоянии жила большая часть населения. И, естественно, работники Гипрошахты. Ни у кого даже мысли не возникало подойти в каком-нибудь закутке и спросить: «Послушай, расскажи, как там?» Наверное, боялись. Но что это за жизнь, когда все вокруг боятся?!
Потом я сорвался. В то время было очень модно сокращать штаты. Чисто по-нашему — их всегда сокращали, но они никак не сокращались. В лучшем случае были перестановки, царил какой-то сюр. На самом деле все это нужно очень серьезно изучать. Да, конечно, об этом писали Кафка, Оруэлл, Замятин, хотя Замятин мне не очень нравится — он настолько все заострил, что его текст стал походить на карикатуру, стал несколько чрезмерным. Но дело не в этом, а в том, что я сорвался. Мне говорили: «Зачем тебе это?» И правда, я мог бы там работать и работать, все было бы нормально. Но сорвался и пошел устраиваться в другое место, не понимая, что общество-то еще не успело измениться — оно по большому счету до сих пор не особо изменилось. В какой бы отдел кадров я ни совался, везде меня встречал одинаковый текст: «Сидел? Нет, нам не нужно».
Меня нигде не было нужно, я скитался по разным учреждениям, пока ни попал в проектный институт «Гипроспецнеефтестрой», теперь он называется Гипроспецгаз. Такое же вонючее учреждение, как и все остальные, только люди чуть поинтереснее. Поработал там немного и снова сорвался с места в очередной раз. При этом я совсем не рисовал — бросил после лагеря. Только, может быть, какие-то маленькие набросочки, какие-то открыточки кому-то, карикатурки — вообще ничто.
И в общем, я метался, нигде не удерживаясь подолгу, пока не оказался в ГСПИ — Государственном специализированном проектном институте. Там я окончательно притерся к этой жизни, адаптировался, привык, стал совершенно нормальным ее участником. Но это было уже после XX съезда, после речи Хрущева. Помню, как мы слушали эту речь. В ГСПИ устроили какое-то засекреченное слушание только для партийных, всем запретили делать какие-либо записи, но при этом никого не гнали, и мне удалось поприсутствовать. Насколько я помню, эта речь произвела огромное впечатление, притом что с позиций сегодняшнего дня в ней не было ничего особенного.
Только вдруг подумалось, что вот в Древнем Риме, например, существовал постулат — за одно преступление полагается одно наказание, два раза за одно и то же не судят. А у нас это правило было перечеркнуто. Я вспоминаю случай моего приятеля Славки Муравьева, которому дали десять лет, а потом снова засудили за то же самое. Они вдруг поняли, что повели себя как идиоты, не расстреляли, а дали десять лет, которые он отсидел. И они исправили свою ошибку — снова осудили его, потом еще — он отсидел более четверти века, а потом его все равно расстреляли.
В те времена существовал совершенно реальный термин — «повторник». То есть он отсидел, вышел, а потом сел вторично по тому же обвинению, может быть, несколько видоизмененному… Сейчас исследуют мозги маньяков, находят там какие-то отличия от мозгов нормальных людей, так вот, неплохо бы изучить мозги всех этих советских деятелей — там тоже, думаю, не все в порядке было. Но вряд ли мы дождемся такого исследования.
Короче говоря, я оказался в ГСПИ, притерся, жизнь стала походить на жизнь. Институт был секретный — у нас все секретное, это же прибавка к жалованию начальства. Был там такой Иванов, завкадрами, — чудесный человек, настоящий фронтовик, «копченый». Он меня спрашивает: «Сидел?» — «Сидел». — «Образования нет?» — «Нет». — «Да, у нас с образованием бестолковая ситуация». И взял меня на работу, спасибо ему большое.
Во время мытарств по проектным институтам я пытался кому-то показывать свои маленькие рисунки — несколько штук на одном паспарту, но они совершенно ни у кого никакого интереса не вызывали.
А потом я познакомился со своей будущей женой Натальей..
Наташа — киевлянка, родилась в совершенно нормальной, спокойной, хорошей, положительной трудящейся семье — мать, отец, бабушка. И еще у нее есть младший брат, он сейчас в Германии живет и часто приезжает в Киев. Точная дата рождения Наташи неизвестна, то есть дата известна, а год — нет. Она говорит, что помнит — война началась, когда она только собиралась в школу, то есть ей было лет семь. В документах записан 1933 год, но это неправда. Когда началась война, все пошло наперекосяк. Они жили в Киеве, а в деревне жила тетя Наташи, Маня, сестра ее матери, и она потом сыграла очень важную роль в жизни Наташи.
Отец Наташи был инженером на маленьком заводике, и его почти сразу немцы забрали, хотя он не служил в армии. Администрация заводика сбежала, а ему было поручено заниматься эвакуацией. Немцы наступали, все пытались бежать через Днепр, в результате он оказался в плену с огромным количеством советских солдат, попавших в окружение.
Надо заметить, что он был очень рукастый, талантливый, весь был в механике. Так что его определили в гараж гестапо чинить машины. Хотя он был совершеннейший еврей. Возможно, он был непохожим на еврея. А возможно, мы не учитываем одно очень важное обстоятельство — возможно. Он не был обрезан, потому что все-таки в советские времена сделать обрезание было не так уж просто. В общем, проработав недолго в гестапо, он с друзьями, такими же пленными, решил организовать побег на гестаповских машинах. Они захватили два автомобиля, и один даже проскочил, а второй, на котором как раз был Наташин отец, нет, и беглецов схватили. Я думаю, их кто-то выдал, потому что на Украине при немцах всегда находился кто-то, кто выдаст. И Наташина мама, Марина Борисовна, украинка, долго пыталась разыскать его — стояла у колючей проволоки, у лагерного забора, и высматривала, потому что кто-то сказал, что видел в этом лагере Сашу, ее мужа. Хотя на самом деле его звали Шмуль, Шмуль Копман, но в те времена было принято менять еврейские имена на славянские. В общем, она его высматривала сквозь проволоку, но потом выяснилось, что его не было в лагере — всех, кого схватили при том побеге, замучили и закопали где-то на склонах Днепра.
Насколько можно судить, мать Наташи к этому времени уже была в подполье — не знаю, официальном или неофициальном. Но сейчас уже известно, что в Киеве было официальное подполье, сформированное сотрудниками НКВД, которых оставили, чтобы они организовали знаменитые взрывы Крещатика — совершенно бессмысленные взрывы, из-за которых немцы погубили столько людей. И было подполье, состоящее из патриотов, которые не ставили перед собой никаких партийных задач, которых не снабжали оружием, — просто по собственной инициативе собирались небольшие группы людей, ненавидящих фашистов. Наташина мама была в подполье, изготавливала фальшивые документы, пропуска. А Наташа с младшим братом и бабушкой в это время каким-то образом перебрались в деревню, за 6о км от Киева, к тете. Бабушка жила с Наташиным братом, а Наташа — у тети Мани. Но кто-то, естественно, настучал, что в деревне есть жидовские дети, и их сразу схватили. Довольно быстро они оказались в камере в подвале киевского гестапо — такое красивое, до сих пор сохранившееся здание с колоннами, там до войны располагалось НКВД. Наташа рассказывала, что с ними была еще большая группа безумно испуганных цыган, и их всех расстреляли, очевидно, в том же Бабьем Яре. Бабушка, пытаясь спасти детей, тоже перебралась в Киев — в коммунальную квартиру на первом этаже, где они жили до войны, — и хлопотала как могла. Но выхлопотать удалось тете Мане, которая заявила, что это не еврейские дети, а украинские. И Наташу с братом удалось выкупить — немцы почему-то иногда давали такую возможность. Насколько я понимаю, примерно в это время погибла Наташина мать — немцы ее повесили.
Дети довольно долго прожили в деревне, до конца войны, а когда в 1947 году умерла бабушка, их забрали родственники отца Копманы: брата усыновили, а Наташу просто взяли к себе. Потом она окончила архитектурный техникум, по распределению отработала некоторое время в Орле, а после этого приехала в Ленинград, где мы с ней и познакомились в 1960 году. В Киеве она больше не жила. Мы часто приезжаем туда, много раз подходили к дому, где жила семья Наташи, смотрели в окна первого этажа — дом сохранился, но во дворе, по словам Наташи, теперь все иначе. И в доме, наверное, теперь все иначе, перепланировки всякие, мы туда не заходили.
Во времена хрущевского и послехрущевского прощения всех сидевших на самом деле никакого шума не было. Как будто ничего связанного с репрессиями не существовало. Причем не потому, что было под запретом. Просто у людей словно была вырезана часть мозга, в которой содержались эти воспоминания. Никаких разговоров, никаких вопросов, никакого интереса. Молчали все — и сидевшие, и несидевшие. Самое простое объяснение этому — страх. Сначала было так: бухгалтерия, сидят пять человек за столами, потом один пропадает — все молчат, как будто так и должно быть. Все прекрасно понимают, что его забрали, что он больше не вернется, — и тишина. Две гениальные книги написаны об этом — «Архипелаг ГУЛАГ» и «1984», так вот, у Оруэлла очень точно написано: «Смит пропал, Смита никогда не существовало». Этим предложением описана вся ситуация — каждый пропавший просто никогда не существовал, его мгновенно вычеркивали отовсюду. И почему-то считалось, что у нас ни за что не берут, если кто-то пропал — значит, так должно быть, он заслужил. Такое было общество.
А потом, когда я вышел, я вдруг обнаружил, что ни у кого, даже у родных, не было никакого любопытства относительно того, что происходило там, как это было. А я никому не рассказывал, потому что практически никто не хотел слушать. Своего рода самозащита, не страх — психологический ступор. Даже после того, как началась хрущевская реабилитация, ничего не изменилось, люди остались прежними.
Меня реабилитировали в начале 1960-х, где-то даже валяется справка. У меня и, думаю, у многих никаких чувств по этому поводу не было. Но я, конечно, не могу утверждать за других, потому что эту тему не обсуждали даже реабилитированные между собой. Знаю, что многие даже не подавали на реабилитацию — они считали себя настолько невинными, что даже реабилитацию воспринимали как признание того, что, пусть ошибочно, содержались в заключении. А об этом не хотелось даже думать.
Для меня сам факт реабилитации не имел особого значение — скорее, было ощущение, что справка потом может пригодиться. И мать заставила меня написать прошение о реабилитации. Но реабилитировали меня не самым легким путем. Сначала с меня сняли судимость и только потом выписали реабилитацию. И тогда я осознал самую главную нелепость ситуации: в анкетах теперь были пункты «сидел / не сидел» и «был реабилитирован». А дальше был еще один пункт — снята ли судимость. То есть я мог не писать, что сидел, а потом все равно должен был указывать про судимость.
В самом же процессе реабилитации не было никакой торжественности. Пришла повестка в жилконтору или в милицию, уже не помню, там выдали справку — и все. Но ведь и арест, и расстрел — все это тоже производилось совершенно буднично. Так что ничего удивительного. Просто такая удивительная страна.
Когда мы познакомились, все было сложно — я был женат на Люсе, у меня уже родился Андрюшка. А с Натальей мы очень долго не расписывались — наверное, лет десять, потому что мне все никак было не развестись с Люсей. Хотя мы все это время жили с Натусиком вместе.
Мы долго работали в одном проектном институте, в 5-м, работали в разных частях города — на Обводном канале, потом на Фонтанке, 41, где Ленконцерт, потом перебрались на Кантемировскую набережную — там построили большое здание, где работали многие из нашего института, то есть более или менее наши люди, нормальные, без всякой «вони».
Примерно в то время мы познакомились с одним из сотрудников 5-го института из другого отдела. Маленький, тщедушный, перекошенный человек. Однажды ветром унесло его шляпу — старую, ей было лет сорок, из нее уже борщ можно было варить, — и его жена возликовала: «Наконец-то можно будет купить новую!» Такой странный человек, но очень интересный, талантливый, светлая голова. И при этом, как часто бывало в те времена, он никому не доверял. Только совсем близким людям типа нас с Наташей — мы с ним сошлись. Евгений Николаевич Жидейкин, причем его фамилия не имела никакого отношения к национальности — он ею гордился и рассказывал, что происходит от некоего литовского Яна Мотейко. Они с женой жили на Фонтанке, и мы довольно часто общались. С ним можно было говорить на любые темы — он очень много знал, безумно много читал, и, более того, у него было собственное изобретение — картотека. На все случаи жизни у него были выписаны карточки: книги, источники и так далее. Его было легко завести — вечером ты кидал ему какую-то тему, а наутро он уже бежал в Публичку, рылся в архивах и приходил с кучей новых знаний. Он собирал интересные газетные и журнальные вырезки. У него был громадный архив вырезок, касающихся войны. Он умер году в 1975-м, причем как-то загадочно. У него начало что-то болеть в паху, он почти перестал двигаться. Но он всю жизнь не обращался к врачам, потому что ненавидел их. И в этот раз он долго противился, а потом, когда вызвали врача, было поздно. Хоронили его всем институтом. К нему всегда относились несколько насмешливо, немного издевательски. Но любили, потому что он был по-настоящему умным человеком.
В то время мы жили на Марата, 31 — в квартире, в которой раньше жили мои дедушка с бабушкой: бабушка тогда еще была жива, она прожила долго — 94 года, а дед умер в августе 1939-го. Конечно, это была коммуналка, но небольшая — нам принадлежали две большие комнаты, а в третьей, маленькой, жила соседка. Как-то я собирался на работу, одевался, за спиной что-то говорило радио — у нас телевизора тогда еще не было, зато в каждой квартире обязательно имелась радиоточка. И по утрам передавали множество разных объявлений, в том числе и о приеме на работу: прядильно-ткацкому цеху нужны ровничницы, государственному предприятию «Красный чайник» нужны такие-то, такому-то заводу нужны тростильщицы, прядильщицы и колондровщицы. И в том числе сказали, что Государственному ордена Ленина Эрмитажу требуются столяр, краснодеревщик и главный архитектор. Почему-то я запомнил это объявление. И через какое-то время, будучи на больничном, подозреваю, фиктивном, я проходил мимо Эрмитажа и решил зайти и проверить. «Здравствуйте, я слышал по радио объявление…» — «О, прекрасно, заходите». Взяли меня под белы ручки и отвели в отдел кадров: «Правда, архитектор у нас уже есть, а вот главного архитектора нет». Я говорю: «Подождите, я совершенно не претендую на должность главного архитектора, куда мне, ну что вы…» А мне отвечают: «А почему нет?» И ведут к заместителю директора по административно-хозяйственной и финансовой части — громадный роскошный кабинет. Посидели, поговорили. Я сказал, что у меня есть два не очень приятных обстоятельства. Во-первых, я сидел. Но уже был 1967 год, так что по давности лет почти никто не обращал на это внимания. А во-вторых, я рассказал, что у меня нет высшего образования. А он в ответ губами шлепает — артист, впоследствии оказался страшно неприятным типом, бывшим начальником каких-то лагерей, у меня с ним было множество конфликтов все три года, что мы вместе работали, — так вот, он отвечает: «Знаете, у нас тут был один перед вами, как раз с высшим образованием, но с ним ничего не получилось, он оказался совершенно никудышным человеком…» Впоследствии я познакомился с ним — такой Бабенко, — и он оказался очень приятным человеком. Его съели в результате какой-то некрасивой свары, уволили совершенно незаслуженно…
В общем, мне сказали: «Давайте-ка мы попробуем теперь без высшего образования». Я продиктовал телефон своих непосредственных начальников, чтобы он туда позвонил. Потом сам предупредил их, но оказалось, что он никому не звонил. Потом я пришел в Эрмитаж в назначенное время, и началась обычная рутина — идите туда, напишите заявление, то-се, все как обычно. И уже во время моей работы там, когда я проходил испытательный срок, мне позвонили из отдела кадров и попросили принести справку об образовании. У меня была какая-то отвратительная желтая бумажка, напечатанная на разбитой печатной машинке еще дореволюционным шрифтом, я ее принес, а мне сказали: «А, оставьте ее у себя!» И вот таким образом я оказался в Эрмитаже, даже не подозревая, что буду связан с ним долгие десятилетия.
Так получилось, что моя жизнь делилась на этапы, на до и после, и дай Бог, чтобы больше не делилась. Как детство, которое до войны было одним, а во время и после войны стало совершенно другим. До эвакуации и после возвращения в Ленинград. До СХШ и после СХШ. До и после лагеря. И есть один этап, который для меня, возможно, важнее Воркуты, — работа в Эрмитаже, которая так или иначе продолжается и поныне. Хотя мне пришлось сделать большой перерыв — в 1975 году я был вынужден уйти из Эрмитажа и не работал там до 1992 года. Причем я не хотел уходить. И вообще, все было нормально — и работа прекрасная, и поганца этого, который губами шлепал, убрали. На его место пришел чудесный человек, Малышев, до Эрмитажа он работал в Театре Ленинского комсомола. Чудесный, нормальный, спокойный, добрый. При нем я проработал пять лет, а в общей сложности — все восемь. К этому времени я уже стал профессионалом, приобрел все необходимые навыки, для меня эта работа была как семечки. При этом, даже работая в Эрмитаже, я все еще не рисовал. Зато нашел приработок — халтурил в издательстве «Машиностроение», которое располагалось на Гороховой. Вообще я там начал халтурить задолго до работы в Эрмитаже, года с 1955-го, рисовал для них иллюстрации к техническим книгам, никаких мук творчества не испытывал.
У меня как у главного архитектора был маленький отдельчик — три человека. Самой весомой и нужной фигурой был Виктор Павлов — человек очень интересный, очень грамотный. Он занимался только устройством выставок, как постоянных, так и временных. Мы были с ним в прекрасных отношениях, и у меня хватало ума не влезать в его епархию. То есть сначала, конечно, все отнеслись ко мне настороженно — еще бы, новый человек. Но ничего, мы быстро нашли общий язык.
Еще один человек в отделе — мерзотная девка, которая до моего появления рассчитывала занять пост главного архитектора — а тут я. Но она совершенно не умела работать и, главное, не желала учиться. Она подавала чаи с печеньицами, моталась по всему Эрмитажу и была страшной сплетницей. И я очень долго не мог от нее избавиться, хотя часто обращался в дирекцию, объясняя, что она полный ноль. Но, как это было свойственно тем временам, мне говорили: «Как же, так нельзя, она женщина, у нее двое детей…» Уже потом, когда я ушел, а Виктор Павлов стал главным художником, она оказалась в его отделе, и ему как-то удалось от нее избавиться — она стала работать переплетчицей в одной из реставрационных мастерских. Хотя, еще когда мы работали вместе, он неоднократно говорил мне: «Брось, не обращай внимания, подумаешь, баба-дура. Плевать, пускай числится тем, кем хочет». И была в моем отделе еще одна женщина, странная, она у нас считалась садовником — инженером по зеленому строительству, хотя все эти должности были в общем-то выдуманными, фиктивными, чтобы получить еще пятерку к зарплате. Она была склочной, постоянно провоцировала конфликты и в результате уволилась.
Отдельчик тихонько работал, но мне нужен был человек, который бы чертил, так что года через полтора я принял на работу Натусика. И сразу пошли разговоры — вот, жену взял. А я всегда отвечал: это вас не касается. И Наталья делала всю проектную, чертежную работу.
Мы в то время делали очень много интересных вещей. Например, дерево, кость и бумага требуют герметичности, так что мы делали герметичное оборудование для музейных экспонатов, для архивов и для выставок. Делали очень сложную штуку с выдвигающимися щитами для картино-хранилища.
В какой-то момент в Эрмитаже мы познакомились и стали общаться с Бобом Зерновым — замечательным человеком, настоящим корифеем, единственным в своем роде специалистом по немецкому искусству, в основном по графике. Но он в принципе был блистательным знатоком западного искусства. Я благодарен судьбе за знакомство с этим удивительным человеком.
Тут стоит остановиться и отметить, что атмосфера в тогдашнем Эрмитаже была странная. Народу меньше, чем сейчас, — около двух тысяч человек, причем в это число входили и бабушки, которые сидели в залах, и очень много рабочих разных специальностей — рабочий класс, гегемон, тогда был очень в цене. Гегемон все время утверждал, что не может сделать то-то и то-то. И с этим было довольно трудно бороться, потому что на дворе стояли годы процветания самой махровой гегемонии — с 1967-го по 1975-й. Гегемон вытворял что хотел, гегемону платили премии, гегемон ничего не делал: у нас не получится, потому что они напридумывали, а сделать этого нельзя, невозможно. Хотя мы понимали, что они просто ленивые сволочи. Из-за этих разногласий в столярной мастерской царили постоянные склоки и беспредметные споры, потому что именно в столярной мастерской, так получилось, сосредоточилось самое главное быдло — в столярной и механической. При этом в механической мастерской был, например, такой забавный человек Коля Калинин — рядовой токарь, который мог делать невероятные вещи. Но он был страшным пьяницей — он работал где-то с 9:00 до 11:00, может, подольше, до часу дня, и в это время он был настоящим виртуозом металла, потрясающий изобретательный работяга с прекрасной головой. Но потом, когда механическая мастерская начала расширяться, когда стали появляться новые люди, когда пришел новый начальник, его съели. Говорили — за то, что пьет, но на самом деле он просто был конкурентом остальным, потому что действительно работал по-настоящему.
Я попал в Эрмитаж не в самое удачное время — в начале февраля 1967 года, то есть года 50-летия Октября. Все стояли на ушах. В реставрации находились тринадцать объектов, причем некоторые были совершенно грандиозные — например, Иорданская лестница. И я попал в самую вакханалию. Сама должность предполагала, что постоянно находились идиоты, которые говорили: «Архитектор в Эрмитаже? А что там делать? Там же уже все построено!» Но мой отдел занимался не строительством, а в основном именно реставрационными работами — в большей степени по интерьеру и в меньшей — по фасаду. Но фасадные работы, естественно, тоже были. Наша работа была связана с подрядчиками, с заказом материалов, с процентовками, которые ежемесячно оплачивались в зависимости от сметы. С некоторыми было очень сложно работать, особенно с Фасадремстроем. Там прорабом числился некий Матвеев — хороший человек, но невероятный жулик. Он был очень добрым, но просто не мог не жульничать — такой представитель породы добрых жуликов. С ним я и вел основные бои. Однажды я от него даже получил взятку — 25 рублей! Все было очень смешно устроено — он долго водил меня по каким-то подвалам, а потом вручил деньги. Уверен, сам он на этом деле нагрелся будь здоров. При этом я до сих пор не знаю, за что он мне дал эту взятку.
Короче говоря, мы занимались реставрацией. С той же Иорданской лестницей, например, было очень много хлопот. Дело в том, что реставрация началась еще до моего прихода, и мне было довольно сложно выяснить, как там все было до того, как они разобрали старый декор. Потому что, разбирая его, они не подумали, что придется собирать обратно, так что не делали никаких фотофиксаций и так далее. Например, гигантский плафон итальянца Джованни Тьеполо — после реставрации было совершенно непонятно, как его поднимать наверх и крепить там. Так что в процессе работы постоянно приходилось что-то придумывать, что-то изобретать. Для плафона мы заказали на Кировском заводе болты гигантской длины, порядка двух метров, причем резьба у них была не обычная, а такая, как на специальных стульчиках, которые стоят перед роялями. Именно с их помощью гигантский плафон был закреплен на металлическом потолке Эрмитажа. А потолок там стал металлическим после пожара 1837 года, когда из конструкции здания практически исключили горючие материалы: были сделаны металлические стропила, к ним крепились металлические же потолки — совершенно гениальная конструкция. В этих потолках проделали отверстия, прикрепленные к подрамнику плафона болты пропустили на чердак, где их синхронно, по команде, подвинчивали. Порядка шестидесяти болтов — и порядка шестидесяти человек.
Или, например, двери второго этажа — белые двери с золоченым резаным декором из липы. Когда после реставрации начали собирать, опять столкнулись с тем, что не была сделана фотофиксация. И у меня до сих пор нет уверенности в подлинности этих дверей, то есть в том, что в настоящее время все так, как было в оригинале, — в процессе реставрации что-то подрезалось, вырезались новые детали.
Было и много забавного — того, что скрыто от глаз посетителей музея. Например, специально к 50-летию Октября реставрировали Малахитовый зал, где было арестовано Временное правительство. Мы туда сунулись и обнаружили, что поверхность стен, сделанная из искусственного оселкового мрамора, бухтит, то есть отстает, — значит, нужно ее снимать и делать новую. Мастера у нас были очень хорошие, но, когда все сделали, оказалось, что гипс, из которого делали поверхности стен, не такой белый, как был, и достичь той самой белизны невозможно — и качество материала стало хуже, и, главное, секрет утерян. Вот и получается — зал белый, но в тех местах, где сохранились какие-то непотревоженные, подлинные участки, видно, что новый чуть серее. Но с этим ничего не сделать, и, главное, кроме специалистов на это все равно никто не обратит внимания. Это действительно незаметно — видно, только если знать, где искать.
Мне все это было дико интересно, но и дико сложно — ведь я пришел из проектного института, где у меня была доска, а тут совершенно новая работа, которой приходилось учиться в буквальном смысле каждый день. Но мне повезло — я учился у очень хороших реставраторов, настоящих трудяг. Многие из них, всю жизнь проработав по этой специальности, были грамотнее ученых, изучавших то, что они реставрировали. У нас были прекрасные отношения, так что я никогда не стеснялся задавать вопросы, даже глупые.
Например, по сей день паркетами занимается специальная паркетная мастерская — уникальная бригада, с которой у нашего отдела всегда были очень хорошие отношения. Они держатся обособленно, им доверяют, к ним прислушиваются. У них всегда было много работы, и тогда, и сейчас, хотя в настоящее время паркет изнашивается слабее, чем раньше, потому что изобретено много синтетических материалов, которых не было сорок лет назад. Сейчас эти лаки, которыми покрывают исторические паркеты, совершенно незаметны и при этом прекрасно защищают, а раньше все было иначе. А еще у паркетчиков есть уникальный собственный архив — кальки со всех паркетов, так что они по сей день при реставрации восстанавливают именно так, как это было раньше, причем используют те же самые породы дерева. Причем породы дерева сплошь ценные, на покупку которых за рубежом в мои времена Министерство культуры еле-еле выделяло средства. В общем, паркетчики — настоящие виртуозы, их бригада основана на наследственном принципе, дети в инженеры не лезут, идут в паркетчики.
При этом ко многим мастерским я отношения вообще не имел — например, к мастерским по реставрации живописи, ткани, металла и так далее. Это были научные мастерские — мы дружили, но вместе не работали.
С каждым годом работы становилось все больше. Например, уже в начале 1970-х мы делали золотой Гербовый зал. Еще во время войны там упал снаряд — ерундовый, четыре дюйма. Он упал и взорвался на полу, разворотил паркет, но, к счастью, не разрушил никаких конструкций…
Сделаю небольшое лирическое отступление и еще раз повторю свое криминальное мнение — город был разрушен не настолько сильно, как об этом принято говорить. Создается впечатление, что немцы обстреливали город не прицельно, то есть им порой было все равно, куда упадет снаряд. В какой-то давней телевизионной передаче рассказывалось о Нюрнбергском процессе, и там говорилось, что во время войны было разрушено очень много исторических памятников. Это правда, но есть нюанс: часть из них была разрушена при нашем наступлении. Наши лупили как хотели, не считаясь ни с какими памятниками. Так был разрушен Петергофский дворец — у него все разрушения были со стороны Кронштадта, то есть били прямой наводкой. Екатерининский дворец был подожжен при нашем наступлении и сгорел. Так вот, в той телевизионной передаче академик Орбели свидетельствовал на Нюрнбергском процессе о том, сколько в Зимнем дворце было произведено разрушений. Какой-то адвокат ему ответил в том смысле, что он же не специалист в артиллерии и не может об этом говорить. И академик ответил: «В этом отношении можете считать меня специалистом-артиллеристом». Но для того, чтобы увидеть правду, нужно посмотреть на карту местности. И увидеть, что Зимний дворец со всех сторон окружен стратегически важными объектами. С одной стороны — Нева, где стояли военные корабли. Напротив — Петропавловская крепость с воинскими частями. С третьей стороны — Адмиралтейство, где были сплошные казармы, воинские части и военное начальство. С четвертой — здание Гвардейского штаба, которое и до сих пор занято военными. В стороне Зимней канавки, сразу за Новым Эрмитажем, был так называемый конвойный полк, то есть тоже казармы. Наконец, подкова Главного штаба. И вдобавок — Дворцовый мост, тоже военный объект. Так что при любой бомбежке немцы стремились разбомбить что-то из этих объектов, то есть окрестности Эрмитажа, так получилось, были едва ли не самым стратегически важным ядром города. И немцы хотели разрушить именно его, а совсем не уничтожить произведения искусства.
И вот, возвращаясь к нашим баранам, при одной из бомбежек маленький снарядик попадает в Гербовый зал. И разрушает паркет и деревянные конструкции, его подстилавшие. Где-то буквально два квадратных метра, остальное все цело. Но при взрыве, естественно, были выбиты оконные стекла. А так как тогда не было ни рабочих, ни стекла, ни фанеры — все-таки война, — зал простоял открытый и продуваемый всеми ветрами два или три сезона. Дождь, снег и так далее. Так что вся позолота лежала скорлупками на паркете. В 1947 году была предпринята гигантская реставрационная работа, но не было специалистов-реставраторов, не было материалов, все делалось из суррогатов. В том числе не выделялось и золото, вместо него использовали паталь, то есть тончайшую прокатную медь, которая, естественно, была в несколько раз толще сусального золота. Кстати, для сусального золота используется золото высочайшей пробы, а то, что сусалыцина барахло, — это фольклор. А когда мы начали очередную реставрацию, на Гербовый зал ушло 64 кг золота — около 64 тысяч книжек, каждая книжка — по одному грамму с четвертью, часть из которых были отходами. Дело осложнялось еще и тем, что паталь ради защиты от окисления была покрыта олифой. Олифа предохраняла медь какое-то время, но в дальнейшем делала только хуже, делая поверхность черно-коричневой. И наши позолотчики поставили леса, залезли и поняли, что совершенно нечем растворить олифовую корку. И тогда кто-то из позолотчиков вспомнил, что, возможно, жив один старик, очень старый позолотчик, который все знает. Его с трудом нашли, и он раскрыл нам простой, как все гениальное, секрет. Он сказал: возьмите лузгу подсолнечных семечек, сожгите ее, из золы сделайте компрессы на воде, наложите эти компрессы на олифовую корку, и она снимется. Мы кинулись на маслобойный заводик, которых тогда было полно. Там от радости подскочили аж до потолка, потому что у них были громадные завалы ненужных семечек, которые они сжигали в котельных и вообще уничтожали из последних сил. И компрессы действительно решили проблему. А тот старик спустя несколько месяцев умер.
Было забавно, что при реставрации Гербового зала к нам хлынула волна людей из всяких ведомств, от налоговиков до уголовного розыска, — еще бы, столько золота. Они были уверены, что все это золото разворуют. И позолотчики очень умно поступили — они положили кому-то из комиссии тот самый золотой листик на руку, а потом предложили спрятать его в карман. После того как один из проверяющих, которому дали золотой листик, вынул из кармана руку, никакого золота там не оказалось: оно было такое тонкое, что распадалось от дыхания. И все претензии исчезли, нас больше не тревожили. Хотя, думаю, позолотчики все-таки подхалтуривали — можно было сэкономить несколько листиков и пустить их, скажем, на кладбищенские памятники. Но по большому счету все было честно — не так, как сейчас. Возможно, то была последняя отрыжка порядочности родом из XIX века.
С этими реставрационными работами я от месяца к месяцу учился, приобретал профессиональные навыки. Но на первых порах у меня было очень много проблем. Например, у меня есть какая-то генетическая проблема — я совершенно не способен заниматься сочинительством. До сих пор мне сложно, практически невозможно написать заявление на отпуск, я всегда готовлюсь несколько дней перед тем, как сесть и написать уже наконец это заявление. Так что для меня было огромной пыткой писать бесконечные письма в разнообразные организации. Потом мне удалось все это упорядочить, а сначала я выписывал документы на каждые двести граммов ваты, еще не соображая, что эту работу можно переложить на плечи тех реставрационных мастерских, которым нужна была вата. Так что они стали просто приносить мне списки необходимых им материалов, и я этого не проверял, а просто подписывал.
В это время я окончательно забросил рисование и даже не делал халтуру в «Машиностроении» — просто не было времени. Только иногда делал какие-то дерьмовые открыточки на дни рождения. Эрмитаж забирал у меня очень много энергии, и не только физической, но и моральной. Было много проблем и забот, странные и нелепые контакты с научными сотрудниками, многие из которых — старушки. Например, раздавался звонок: «Ухналев! Чем вы там занимаетесь? Я сейчас проходила по Павильонному залу, и там разбито зеркало! Наверное, ваши что-то неаккуратно таскали…» Я, естественно, все бросал и бежал в Павильонный зал. И обнаруживал, что зеркало действительно треснуло, но двадцать лет назад. И на такую белиберду тратилось очень много времени. Или вдруг, когда я еще только начинал работать в Эрмитаже, откуда-то пошел слух, что я наркоман. Откуда? Оказывается, они заметили, что после обеда у меня меняется настроение. А я просто поел!
В начале 1970-х состав моего отдела немного изменился. Например, пришла чудная Женька Баженова, очень активная девочка. У нее были связи в академии художеств, в ГИОПе, еще где-то, полно знакомых, и она начала снабжать нас самиздатом. Она большую часть своего времени тратила на то, что перепечатывала всякие книжки типа «Архипелага ГУЛАГ». А мы читали. Причем, и это очень важно, в Эрмитаже не было стукачей, кроме одной поганки, с которой никто не общался. Так что у нас всегда были самиздатовские книжки, которые мы читали и распространяли — возили в Киев, в Крым, куда-то еще. Помню, что среди самиздата были «Архипелаг…», «Происхождение партократии» Авторханова, «Ленин в Цюрихе», Оруэлл и так далее. Мы тогда прочитали очень много того, чего не было в широком доступе. А Женька очень нелепо умерла. В самом конце 1990-х был какой-то очень морозный декабрь, эрмитажники отметили наступление Нового года и разбежались по домам. А она замерзла по дороге, в подворотне одного из домов на набережной.
Интересно заметить, что в большинстве случаев самиздат попадал не случайным людям, а именно в те руки, где он был необходим. На Востоке есть пословица: учитель придет, когда будет готов ученик. Так и с книгами.
То есть в основном, конечно, работа и компания были прекрасными. Однако 1975-й — это был не просто застой, как сейчас говорят, это была жуткая, махровая советчина. В любом учреждении основную роль играло партбюро. В том числе и в Эрмитаже, в котором партбюро как-то особенно размахровилось. Целая когорта баб, все приятельницы, все свои — мерзотные бабы, одна из которых протащила на вакантную должность главного инженера своего мужа, такого же, как она, мерзкого, скользкого серого типа.
Надо понимать, что Эрмитаж — это музей, то есть он охраняется государством, его структура очень отличается от структуры обычного советского учреждения, так что главный инженер там отвечает за сантехнику, вентиляцию, отопление и так далее. А этот тип, новый главный инженер, решил стать чуть ли не выше директора. То есть ставил себя на место главного инженера какого-нибудь завода. У меня сразу возник с ним конфликт, и у Малышева возник с ним конфликт, и вообще у многих то и дело возникали с ним конфликтные ситуации. Мой конфликт с ним длился примерно год — и с ним, и, естественно, с партбюро. А глава Эрмитажа Борис Борисович Пиотровский в силу разных причин очень зависел от партбюро и старался не вступать с этими бабами в противостояние. Хотя странно — он был академик, член Верховного Совета. Но, когда какой-нибудь инструктор из райкома приводил к нему своих детишек, он бросал все и сам водил их по Эрмитажу — такое время. И когда ему принесли состряпанное в партбюро и адресованное в Министерство культуры письмо, он его подписал. А в письме говорилось обо мне, причем в вопросительной форме: может ли занимать такую должность человек, не только не имеющий высшего образования, но и не состоящий в партии? А мне, кстати, никогда не предлагали вступить в партию, даже разговоров таких не велось. В общем, Москва довольно быстро ответила — нет. Сразу после этого состоялось инициированное партбюро собрание, на котором присутствовал Борис Борисович, все замы, а также, как и положено на партсобрании, представители рабочего класса. Цель собрания — заслушать мой отчет о проделанной работе. Забавная ситуация: я сказал, что мне для моего отчета понадобится не больше 10–15 минут, а они страшно удивились, потому что, по традиции того времени, я должен был читать, читать и читать, пока все не заснут и снова не проснутся. А я встал и просто перечислил все реставрационные работы, которые вел, по объектам. Они сразу закопошились: «Вот, есть мнение…» Они нервничали, и создавалось впечатление, что они сами себя боятся. В результате они так разволновались, что даже забыли дать оценку моему докладу. Собрание, как и все прочие собрания, было абсолютной липой.
Но они меня не уволили. Они предложили меня понизить, то есть убрать с той должности, которую я занимал. Я, естественно, встал на дыбы. Пришел в издательство, где халтурил, а они мне сказали: «Слушай, Женька, на кой черт тебе вся эта волынка? Иди к нам внештатным сотрудником. Во-первых, ты будешь получать больше, чем получаешь сейчас, а во-вторых, будешь работать дома, и никаких забот». И я согласился. Пришел к Борису Борисовичу, он только спросил: «Уходите, да?» И я ушел.
Я давно пришел к выводу, что человек посещает музей трижды, в трех разных ипостасях: сначала, когда он достаточно молод и глуп, он просто смотрит на то, что нарисовано на картинах; вторая стадия, более совершенная, скорее относится к художникам, которые в определенном возрасте начинают посещать музей, чтобы посмотреть и понять, как это сделано; и третья стадия, которой я достиг, проработав в Эрмитаже несколько лет, — человек приходит в музей, чтобы ощутить всю его ауру. И достижение третьей стадии — огромное мое удовлетворение, мне мало что нужно кроме этого. Короче говоря, уход из Эрмитажа был для меня серьезной душевной травмой — тихой внутренней трагедией, никак не проявлявшейся внешне. Опять приходилось привыкать к новой жизни.
Эрмитаж научил меня жизни, сделал из меня художника, он научил меня любить настоящее. Потому что каждый день я видел в Эрмитаже настоящие вещи. Куда бы я ни бросал взгляд, все, от дверной ручки до узора на потолке, было настоящим, подлинным. Не театральная декорация — настоящее. И полюбил это настоящее, понял цену настоящего, и с этого меня уже не сдвинуть. Оказавшись в Эрмитаже, зайдя в него со служебного входа, я увидел вещи, которых никогда не видел ни один простой смертный. Допустим, гардеробную царствующей фамилии. Небольшая комнатка, довольно скромная, со шкафами — сейчас в этих шкафах хранилище фарфора. Обычные дубовые шкафы с двигающимися дверками. Самое удивительное, что эти дверки, сделанные без особых технических ухищрений, легко двигаются уже не одно столетие. И главное — сквозь них не проникает пыль! Или то, что теперь называется совмещенным санузлом, то есть ванная и туалет, — большое помещение, метров двадцать пять, отделанное красным деревом, и вся отделка цела, все в прекрасном состоянии, потому что сделано было идеально. И так далее. Работая в Эрмитаже, я даже немного проникся монархическими идеями, хотя мне это совершенно не свойственно.
Сейчас, конечно, многое изменилось. Вот, например, раньше экспозиция была устроена так: стоял диванчик, а над ним висела фотография царских особ, которые на этом диванчике сидят, очень интересно. Теперь такого почему-то нет. Но это естественно — приходят новые люди, более молодые, что-то меняют. А людей появляется действительно очень много — я прихожу в Эрмитаж и все меньше вижу знакомых лиц. А те, кто остался, сильно постарели. Зато очень много иностранцев, которые чему-то учатся. Я не знаю, хорошо это или плохо, я ведь человек старой закалки и привык к Эрмитажу как к некоей замкнутой корпорации. Раньше считалось, что человек, который там работает, будет работать там до смерти, его повезут хоронить через Октябрьский подъезд — этим даже немного кичились. Теперь, конечно, все иначе — теперь это просто офисная работа, все сидят и нажимают кнопки компьютеров. Более или менее закрытой корпорацией остается только дирекция — человек десять. А остальное все на виду, все шевелится — естественный процесс.
Для начала надо сказать, что в лагере я довольно много рисовал. Но это было запрещено, так что рисунки приходилось скрывать. У меня было два томика «Всеобщей истории архитектуры» Шуази. Я отпарил обложку и вложил рисунки туда, а потом опять заклеил. Но, так как меня освободили спонтанно, все осталось там, в лагере. И вольные, которые знали о моих рисунках, вынули их и переправили мне на свободу. А книжки оставили себе. Но это так, вступление.
После того как я ушел из Эрмитажа и стал внештатным сотрудником издательства «Машиностроение», я начал работать дома. Это, возможно, был самый спокойный период моей жизни. От меня по большому счету не требовалось никакого профессионализма, никакого морального напряжения. Мне давали материал, и я знал, что нужно делать. Тем более что у меня уже был опыт такой работы. К тому же я стал значительно больше зарабатывать.
Никакого творчества от меня не требовали. Нужно было только аккуратная, четкая, хорошая графика, которая далась мне сразу, ведь у меня еще с Воркуты остался большой опыт копирования, черчения и так далее. К этому времени Наталья получила комнату в двухкомнатной коммуналке, но дом поставили на капремонт, так что мы еще долго жили на Марата, только потом уже перебрались туда, на Фонтанку, ближе к Калинкиному мосту. Тихие, очень красивые места. Очень малонаселенный район, а машин тогда вообще почти не было. Причем примерно там, где располагался наш дом, кончалась псевдоинтеллигентская территория города. Дальше, за Витебской дорогой, жили уже совсем другие люди, и такое положение дел сохраняется до сих пор. Мы, конечно, редко бывали и бываем в тех районах, но атмосфера все равно чувствуется. Зато к нам стали приходить гости, в основном эрмитажники, постоянная толкотня, накурено, самиздат.
Соседями по коммуналке оказались мужчина и женщина, детдомовцы, причем мужчина числился работником по двору на заводе шампанских вин, говоря проще — был дворником. Он оттуда все время таскал целые сетки бутылок и всегда говорил: «Это небалованное». И действительно, вино было настоящее, невероятно вкусное — такого, как с его завода, я больше нигде никогда не пил.
В издательстве царила довольно спокойная и свободная атмосфера, и с начальством у меня были прекрасные отношения. Сначала начальник вообще был идеальный, Громов, — с виду грубиян, а на самом деле добрейший человек. Потом появился другой, со своими тараканами, язвенник, моложе Громова, тоже нормальный мужик. И все шло нормально, пока с соседями-детдомовцами не возник совершенно ничтожный конфликт. Причем по глупости — кажется, из-за уборки. В России все постоянно случается из-за глупости. И примерно в это же время у нас дома поставили телефон, так что обмен стало совершить легче. Мы довольно быстро поменялись, переехали в двухкомнатную квартиру на Витебский проспект, и я стал появляться на работе еще реже, чем раньше.
Несмотря на то что я перестал работать в Эрмитаже, я не перестал туда ходить. Благо Геннадий Дмитриевич Малышев снабдил меня годовым пропуском — сколько успел, его через год после меня тоже съели. Так что я приходил в бывший свой отдел каждый вторник — две-три сотрудницы, оставшиеся там с моих времен, называли это «родительскими днями».
Наташа ушла из Эрмитажа значительно раньше меня — она проработала там года три и ушла в какую-то проектно-институтскую рутину, в институт «Гипроторг». И никакого удовольствия от работы не получала.
Я же сидел дома и работал, причем работы было много: вскоре издательство открыло отдельное подразделение «Катера и яхты», в котором я тоже иногда брал халтурку. И стал зарабатывать сильно больше, чем раньше. Скажем, на должности главного архитектора Эрмитажа я зарабатывал 150 рублей в месяц, а тут редко выходило меньше 240. Плюс свобода. И плюс я работал дома. Хотя на работу, конечно, уходило много времени, все-таки и свободного времени стало больше. Мы очень много гуляли по городу, по воскресеньям с сыном Андрюшкой исколесили его вдоль и поперек, с Наташей едва ли не каждый день встречались с Жидейкиным. Иногда за работой засиживался допоздна, но мне это давалось легко. До сих пор вспоминаю это блаженное время.
Я блаженствовал в этом покое примерно год и, отдохнув душой, неожиданно для себя стал малевать. К сожалению, мои первые работы не сохранились — я их продал за копейки за границу. Хотя первые вещи были, конечно, несколько ограниченными. Я считаю, что ограниченность художника, даже приличного, даже профессионала, проявляется в том, что он замусоривает свои работы излишним символизмом.
Начав рисовать, я начал и общаться с художниками. Особенно с теми, кто в начале 1980-х входил в ТЭИИ — Товарищество экспериментальных изобразительных искусств. Там я познакомился с многими. Это было что-то типа официального ленинградского профсоюза. Хотя нас не от кого было защищать — на нас никто не нападал, платили сдельно, то есть сколько сделал — столько получил. Среди членов ТЭИИ в основном были книжные графики, которые могли делать иллюстрации, но не были художниками. Но были и те, кто пытался делать что-то самостоятельное. Нам выделили первый этаж в одном здании на Васильевском острове, полуподвальный, мы его отделали и превратили в некое подобие клуба. Там мы начали устраивать выставки наших работ, и среди выставлявшихся были Овчинников, Петраченко, Белкин, Богомолов и другие. На эти выставки стали заходить какие-то люди, в городе о нас начали говорить, то есть мы получили какую-то хоть и небольшую, но известность. При этом между нами не было совершенно никакой конкуренции, у нас были совершенно нормальные отношения, потому что мы были абсолютно разными, с разным количеством любительства, как сказали бы в Одессе.
Настало время, когда теплый ветерок стал ощутимым. Уже начались какие-то полуразрешенные выставки, на которые ходило очень много заинтересованных людей, причем заинтересованных не с покупательской точки зрения, а с точки зрения интереса к нам. А мы к тому же придумали серию выставок, которые называли «Выставки тринадцати» — так сложилось, что на них выставлялось по тринадцать художников. Раз в год выставлялись во Дворце молодежи и еще иногда на каких-то других площадках. В нашу группу входили Овчинников, Белкин, Петраченко, Герасименко, Фигурина, Иофин, пару раз с нами выставлялся Новиков. Начиналось интересное время.
Не могу сказать, что у нас было какое-то серьезное противостояние с властями. У нас даже произошел раскол: одни постоянно пытались заявить о своих правах на наш общий творческий союз, а другие, более разумные и поэтому, как всегда, находившиеся в меньшинстве, утверждали, что никакой это не творческий союз, а всего лишь профсоюз, созданный для защиты наших прав.
Именно тогда у некоторых началось налаживание отношений с иноземными консульствами, и именно тогда мы стали продавать свои работы. Сейчас мне кажется, что этот консульский интерес был некоей фикцией — просто у них была некая благотворительная шкала, возможно, им выделялась какая-то сумма, которой они оперировали. То есть интерес был не настоящим, а наигранным, «рабочим». Потому что, как только грянула перестройка, этот интерес закончился в момент. Хотя в то время многим этот интерес, конечно, помог. В основном благотворительностью занимались немецкое и американское консульства. И как только пропал этот интерес, моментально схлынул и интерес к нонконформистам вообще. Но многие смогли уехать, в том числе и благодаря помощи консульств. Мы с Наташей, естественно, тоже размышляли об отъезде. У нас было несколько вызовов из Израиля, мы даже начали что-то делать. Но для нас заграница была, как для Остапа Бендера, словно загробная жизнь, и кто туда попал, уже не возвращается. Возможно, причиной нашего неотъезда был мой Андрюшка — мне хотелось быть здесь, когда он окончит институт. К тому же мы с Наташей — очень странная семья. Мы очень чтим вещи, уважаем память, связанную с этими вещами, а при отъезде со всеми этими вещами пришлось бы распрощаться. Тогда ведь нельзя было оставить кому-то квартиру, а это значило, что все вещи, грубо говоря, отправлялись на свалку. Вещи, которыми мы приросли. А еще мы, честно говоря, никогда не любили гоношиться, мы в какой-то степени интровертны, и это, конечно, тоже сыграло свою роль.
Особой активности никто не проявлял. Все художественные компании существовали неофициально, вне Союза художников. Нас называли молодыми ленинградскими художниками, хотя, по сути, нам уже было по полтиннику. Среди нас было очень много хороших, интересных художников — из тех, что потом получили название андеграундных, левацких. И большинство жили мечтой что-нибудь продать. Меня же это не очень занимало, и я делал свои вещи без расчета на продажу, на повышение стоимости, без стремления кому-то что-то всучить. Во мне крепло ощущение, что я хочу сохранить все свои картины при себе.
Так что картины я особо не продавал — никогда не жил с этого, кроме, может быть, последних лет трех. Всю жизнь у меня была установка, священная формула: на «Докторскую» колбасу я заработаю, а большего мне в принципе не нужно. Хотя я, конечно, продавал картины, несколько раз даже за какие-то приличные суммы, но в основном друзьям-приятелям. Приходят, говорят: «Слушай, а мне вот очень нравится эта твоя штука!» Так что и суммы выходили приятельские. Несколько вещей я подарил. Но вообще-то я берег свои работы, я предпочитал побольше выставляться, а не куда-то отдавать картины.
Потом, через какое-то время, ленинградские художники-нонконформисты начали выставляться в ДК им. Газа. Я в этих выставках еще участия не принимал, зато помню, что на них стояли дикие очереди даже в мороз. А еще чуть позже нам разрешили сделать выставку во Дворце молодежи. Это была большущая выставка, причем лишь несколько выставлявшихся художников на самом деле что-то из себя представляли, в основном это был заумный мусор. Например, пришел один человек, безобидный, принес громадный триптих, метров шесть-семь в длину, и долго объяснял, что на нем, и как, и зачем: вот изображен какой-то объект, свой взгляд, вот тут у меня идет пунктир, он что-то поджигает… Мы ему сказали, что не можем его выставить не потому, что он плох, просто площадь ограниченна, и мы физически не можем выделить семь метров. Очень неприятная история.
Естественно, все картины обязательно просматривались комиссией из КГБ, из Управления культуры. Они ходили и говорили: «Это убрать, это убрать…» И, как обычно, никогда не объясняли причин — святое правило советских времен. У них была обязанность — ничего не объяснять. У меня с ними был только один конфликт. Есть у меня работа, называется «Присутствие», которая сейчас принадлежит Музею Ахматовой, они у меня ее купили в 1988 году, — коридор, лампа, скамейка, дверь. Так комиссия придралась к названию, велела название сменить. И я тогда вообще снял эту вещь. И все, к кому придирались, тоже сняли свои работы. Власти, естественно, испугались — у них должна состояться дополнительная выставка, а выставки нет. Скандал! И тогда они набрали других художников — из обиженных, ревнивцев — и из этих изгоев быстренько сколотили совсем другую выставку. В какой-то из ленинградских газетенок сразу появилась большая статья «Свет в конце туннеля» — про то, что наконец состоялась выставка независимых художников. Это было очень смешно.
А однажды во Дворце молодежи я повесил свою работу вверх ногами, потому что иначе бы ее не пропустили — опасная была работа. Называлась «Призрак бродит по Европе». Некий предмет, шар, как бы глобус, на нем дома, дворцы, церкви, знаменитые памятники, а если смотреть издалека, получается, что это череп с глазницами. А если повесить вверх ногами — все то же самое, дворцы и памятники, но не видно, что это череп. То есть пытались обходить запреты как могли.
В общей сложности во Дворце молодежи у нас состоялось, кажется, четыре выставки. Но каждый из нас был ограничен очень небольшим количеством вещей — три небольшие, а то и две. Люди приходили, смотрели, спорили. В результате у нас возникла своеобразная группа — тринадцать художников. И мы таким постоянным составом провели несколько выставок. Например, была «Выставка тринадцати» в том же Дворце молодежи. То есть не сказать, что у нас были какие-то по-настоящему серьезные проблемы с Советской властью — во всяком случае, бульдозерами нас не давили. Но «Бульдозерную выставку», естественно, все обсуждали — все знали, что мерзавцы давили бульдозерами картины, хотя никто ничего другого не ожидал. Но в Ленинграде таких скандалов не было. Периодически кто-то предлагал устроить выставку в парке, в какой-нибудь подворотне или еще где-то, но я всегда отказывался. И не из гордыни, просто я чувствовал, что те, кто понесет свои работы на такую выставку, проявят неуважение к своим работам, потому что негоже выставляться под дождем. Кроме того, меня, честно говоря, не устраивал уровень соседства. Хотя, может быть, это и есть гордыня. Но я очень бережно отношусь к своим работам и предпочитаю или совсем не выставляться, или выставляться там, где все получится достойно. При этом не могу объяснить, почему у меня не было никаких отношений с Пушкинской, io, — это же была наша компания, и меня туда пару раз звали, но как-то не сложилось. Хотя отношения у нас были совершенно нормальные, приятельские.
Меня довольно часто звали и зовут куда-то выставляться, но вот еще какая штука: есть неписаный закон, по которому ты после выставки должен какую-то работу оставить. А мне не стыдно признаться в том, что жалко, потому что я в прямом смысле отношусь к своим работам как к детям.
Где-то в середине 1980-х был у меня интересный случай с Русским музеем, который взял у меня восемь работ на закупку. А по тем временам мои картины находились или у меня, или по знакомым. Я прекрасно понимал, что цены, которые предложит Русский музей, будут чисто символическими, но все же Русский музей. В результате они взяли картины и, невзирая ни на какие звонки и увещевания, продержали их у себя четыре года и четыре месяца, не заплатив мне ни копейки. И говорили: «Многие художники за честь почитают попасть к нам безо всяких денег!» И это правда, многие художники приносили свои работы в дар, то есть писали дарственную, и музею ничего не оставалось, потому что дарственная — она дарственная и есть. Но у меня-то они сами попросили.
Когда в 2001 году в Эрмитаже сделали мою выставку, 16 работ, я взял те работы из Русского музея. «Но вы же нам их принесете?» — «Да, конечно…» И не отдал. Так что в Русском музее моих работ нет, ни одной. Ну и ладно, зато в Эрмитаже есть. Пиотровский деликатно попросил: «Евгений Ильич, ну вы же знаете про эту неписаную традицию, к тому же все-таки Эрмитаж…» И я завертелся, как уж на сковородке. Выставка-то была хорошая, юбилейная, к моему 70-летию. И все равно жалко. Я думаю — ту дать, или ту, или ту. Эрмитажники говорят: «Эту давай». А я дал другую, но такую, чтобы нельзя было придраться, — на ней изображен один из сумрачных эрмитажных дворов. К тому же Михаил Борисович выдвинул важный аргумент: «Вы же не хотите уподобляться Шемякину. Вот мы выставку Шемякина сделали и по таким же неписаным правилам к нему обратились, а он ничего не дал». А я, конечно, не хотел уподобляться.
Но еще раньше, в 1988 году, на меня вышел Музей Достоевского, незадолго до этого появившийся. Директором там была Белла Нуриевна Рыбалко, через несколько лет она была вынуждена уйти из-за какого-то внутреннего музейного конфликта и стала хозяйкой музея Смольного собора. А тогда, в 1988-м, они предложили мне сделать мою первую персональную выставку. И потом говорили, что с моей легкой руки у них пошли выставки, что я проложил дорогу. Получилась очень хорошая, многолюдная выставка, я до сих пор благодарен музею и лично Белле Нуриевне.
А несколько лет назад прошел слушок: есть некая женщина, которая хочет организовать в Санкт-Петербурге частный музей современного искусства, и будто бы она хорошо платит. Называли суммы, большие. Потом я встретился с ее представителями. Они меня долго уламывали, потом приезжали мои знакомые, которые начинали работать в этом музее, тоже уламывали. А я отвечал: «Не хочу, и все!» Наконец приехала сама хозяйка, и я понял, что у нее действительно есть настоящий вкус, что это не просто так. Потом вынула лист бумаги, написала на нем что-то и сказала: «Позже посмотрите». И ушла. Я посмотрел — цены раза в четыре выше тех, о которых я думал. Я ей сразу позвонил и согласился. И правильно сделал — дело не в деньгах, просто у них нет запасников, у них все висит. И вообще, музей получился великолепным, идеальное освещение и так далее. Он правильно устроен, там хорошая коллекция, и даже то замечательно, что в нем отсутствуют лишние помещения, которые можно было бы использовать как запасники, — очень хорошо, что там все висит на стенах. И все это благодаря вкусу владелицы. Теперь я думаю про картины, которые у меня стоят дома, прислоненные к стенке, — лучше бы они висели там. Потому что большинство наших музеев — это кладбища, гробницы, а у нее все не так, у нее все правильно сделано.
Один из первых критиков моих работ всегда Наташа. Она всегда выступает честно и при этом часто хвалит, что приятно. Но я, конечно, все равно все делаю по-своему. Честно говоря, никогда особо не прислушивался к критике. Единственное — был в Эрмитаже гениальнейший человек Борька Зернов, Борис Алексеевич, один из ведущих, настоящих знатоков искусства. В основном он специализировался по немецкой и французской графике, но его кругозор был значительно шире. Он никогда не наводил никакой критики, но я всегда ясно видел, нравится ему моя работа или нет. Я всегда смеялся над ним: «Ты хвалишь мою картину, потому что на столе лежит хорошая ветчина и стоит бутылка коньяка». Но всегда с трепетом относился к его мнению. И второй для меня авторитет — Николай Иннокентьевич Благодатов. По образованию он инженер, никак не связан с искусством, но его знает весь петербургский художественный мир, и он знает этот мир. Уникальный человек с большим вкусом, со своим видением, с которым я во многом не соглашаюсь, но это неважно. Замечательный человек, уважаемый — почти на каждой выставке встречаются его портреты. Его мнение мне очень важно — другое дело, что по-настоящему я его послушался, может быть, только раз в жизни. Это касается моего висящего в «Эрарте» паровозика — картины «Зона (по Тарковскому)». А дело было так. Когда-то мы с Благодатовым жили недалеко друг от друга, он часто ходил в булочную и молочный магазин, проходил мимо моих окон, я его видел и звал к себе на сигаретку, так что он наблюдал процесс создания многих моих работ. Однажды он зашел, когда я как раз начинал делать тот самый паровозик. Картина предполагалась темной, мрачной, дождливой, и у меня было очень хорошо проработано небо, по которому я хотел еще пройтись цветом. А зашедший на сигаретку Благодатов воскликнул: «О, что ж это, Евгений Ильич! Умоляю, оставьте как есть, пускай будет монохромная вещь». Я послушался и не жалею. А больше никогда не слушался, хотя он довольно много делал умных замечаний — не едких, без злости и без ехидства. Но не могу, знаю, что прав, но не могу переделывать свои вещи, не умею. Как только я подписал работу — значит, все, конец работе. И еще одна важная штука — Благодатову принадлежит коротенькая фраза, которую я когда-то взял себе на вооружение. Он как-то зашел, посмотрел на какую-то мою вещь и сказал: «Да, нерв есть». И я с тех пор сам стал себя оценивать на наличие этого нерва. Если нерва нет — значит, не получается работа. Я ее откладываю — или на время, или навсегда. Но если нерва нет — значит, ничего не получается.
А вот из чего рождается картина, с чего она начинается, я едва ли смогу определить. Зачастую она начинается с настроения, причем я одно время пытался себя контролировать, чтобы понять, как оно появляется, — бесполезно. Точно так же, как ты не можешь заказывать себе сны, ты не можешь и заказывать настроение. Иногда бывает, что все возникает из-за какой-то вспышки, а иногда ты носишь образ картины, ее название годами, но не можешь воплотить в реальный, зримый образ. Например, у меня есть две давно вынашиваемые задумки. Первая — «Белая гвардия», но что сделать, какой момент? Я много думал о том, чтобы сделать их первый «ледяной» поход — это когда они уходили на Дон, на Новочеркасск. Но нет символа, никак не могу его найти. А вторая задумка, думаю, так и останется на уровне задумки, потому что для нее нужно изобразить слишком много людей, а я не люблю людей, они не стоят моей любви. А задумка состоит в следующем: это триптих «Мастер и Маргарита», три графических полотна — «Белые», «Красные» и «Серые» или «Черные». Это можно и нужно сделать интересно, но я все время опасаюсь того, что определяю для себя как «глазуновщина»: когда хрестоматийные портретики повторены так, как в хрестоматиях, и получается, что один освещен с этой стороны, а другой — с той. Но сомневаюсь, что смогу воплотить этот триптих в жизнь.
Или, например, у меня есть цикл «Путешествие из Петербурга в Гатчину», название которого перефразирует название книги Радищева. Мы часто ездим в Гатчину в гости к нашему другу Носкину, и однажды я придумал изобразить памятники, которые встречаются по пути. Или другая картина — «У барона Штиглица». Мы где-то гуляли, и я увидел во дворе потрясающую лепную панельку. Я моментально решил ее сделать, на следующий день прибежал с фотоаппаратом, но там оказалась такая дурацкая перспектива, что я на картине все переломал по-своему — то есть фактически я ее сохранил, но немного развернул.
Начиная работать, я всегда точно знаю, как будет выглядеть картина. Но мое видение не всегда совпадает с конечным результатом, я это называю «вещь ушла в сторону» и очень раздражаюсь. К счастью, так случается редко. Странная черта — я никогда не делаю никаких набросков, никаких маленьких эскизиков. Другое дело, что я подолгу таскаю замысел в голове, не приступая, но, когда наконец приступаю, я точно знаю, какой у меня будет формат и все остальное. И пишу сразу на холсте.
Я часто бросаю то, что начал малевать. И довольно сложно объяснить, из-за чего это происходит. Например, я хотел сделать что-то технически определенным образом, не таким, как обычно. Но не получается, чужое, не мое, а заставить себя довольно сложно: «Напишу, пожалуй, не своим почерком». Все равно скатываюсь к своему. И я думаю — зачем? Чтобы у меня получилась еще одна облупленная дверь. А у меня этих дверей уже полно.
Или, например, другая история. Много лет, приезжая в Гатчину, маленький городок под Ленинградом, я видел вдалеке башню. Однажды даже рисовал ее, но маленькую, как видел, — вдалеке. И наконец весной, год назад, меня на машине довезли до этой башни. Я ее всю обфотографировал и потерял к ней интерес. Она оказалась не такой, как я ее себе представлял. С большого расстояния она казалась мне какой-то живописной руиной, романтической. Но она оказалась в практически идеальном состоянии, кроме выбоин, оставленных снарядами во время войны. Раньше внутри у нее был гигантский металлический бак для воды.
Есть такие Орловские ключи, от них шел Орловский водовоз. А башня была накопителем, откуда вода шла в Пушкин и так далее. Сам бак, понятное дело, местные растащили на металлолом, обчистили что только можно. Остались только два гигантских железных перекрытия, даже не слишком ржавых, потому что железо очень хорошее. Предполагаю, что башню построили в 1870-1880-е. И вот мы приехали туда с режиссером Гутманом, и я обнаружил, что эта башня очень хорошо сохранилась. Потом, вернувшись домой, я стал ее рисовать обшарпанной, как руину. И почувствовал внутреннюю фальшь. Я, наверное, ее закончу, и все барышни будут ходить вокруг и стонать: «Ай-яй-яй, как хорошо!» Но я-то знаю, что это не так, что в ней нет настроения. В этой башне нет нерва. А если нет нерва, то зачем тогда?
Естественно, к началу 1990-х мы с Наташей были более или менее политически активны. То есть активны в массе. В то время я мог себя назвать ельцинцем — я вообще был всей душой за любого, кто был против коммунистов, но не нынешних коммунистов, а тех, большевиков. Для меня слова «коммунизм» и «социализм» — это синонимы, и я оба этих слова ненавижу. Так что мне неинтересно слушать критику Ельцина, я всегда был за него. Уверен, что все проблемы современного мира возникли от того, что он стал слишком социально направленным. Нас на планете семь миллиардов, при этом одаренных людей, людей с отдачей, что-то производящих головой или руками, страшно мало, остальные только жрут. Так что я, конечно, был в ужасе от того, что начало происходить в августе 1991 года, когда у большевиков появился шанс вернуться.
В 1991-м я ушел на пенсию, хотя с удовольствием остался бы в издательстве. Но с перестройкой многие издательства начали умирать. Издательство «Машиностроение» потеряло государственные заказы и довольно быстро превратилось в страшную жвачку, даже издало несколько порнографических книжек.
К тому же мы собирались ехать за границу, и я, чтобы не отпрашиваться у начальства, просто написал заявление. Но еще раньше, в 1990-м, когда запахло началом чего-то нормального, к нам на Витебский проспект, где мы тогда жили в отвратительной пятиэтажной двухкомнатной хрущевке с потолком на затылке, пришли двое каких-то диссидентствующих людей из Москвы. Они предложили мне съездить в Польшу на десятилетие «Солидарности», но не со своими вещами, а поработать — там что-то сотворить. Нас было пятеро, двоих я знал, они были из Питера, и еще были двое из Москвы, в том числе бард Женя Бачурин — он не только певец, но еще и очень хороший художник.
Это, кстати, была не первая моя зарубежная поездка. Самый первый раз я ездил в 1972-м — около пятнадцати сотрудников Эрмитажа по профсоюзной линии катались в Венгрию и Чехословакию. Та поездка, конечно, была совершеннейшим откровением для всех нас. За четыре года до нашего приезда в Чехословакию были введены советские войска. Так что мы постоянно сталкивались с проявлениями антагонизма, тебе в буквальном смысле могли не продать мороженое, если ты говорил по-русски. Это, конечно, было оскорбительно, но я понимал чехов. Я вообще все понимал про Советскую власть — лагерь мне на многое открыл глаза.
После этой поездки я как-то решил для себя, что нужно обязательно ездить дальше. Я подал заявление на поездку в Египет и тут же получил отлуп — почему-то после Чехословакии и Венгрии я стал невыездным. Скорее всего, как обычно, в самый неподходящий момент, всплыла информация о том, что я сидел, — она постоянно то и дело всплывала, хотя все остальное время это никого не интересовало.
А теперь вот поехали в Польшу, в Гданьск. К сожалению, я поехал без Наташи — мне сказали, что нет возможности взять с собой жену, хотя надо было, конечно, настаивать. Очевидно, у них было не слишком много средств — в Польше нас держали почти на голодном пайке, выделяя только какие-то крошечные деньги на еду. А поселили нас в общежитии Академии художеств Гданьска. Потом нас перевезли в Сопот, и вот там было все замечательно. Именно там мы что-то начали растерянно малевать, потому что не очень понимали, что нужно делать. Где-то в глубине сидело отвратительное ощущение: надо понравиться хозяину. Но через какое-то время мы почувствовали, что средства подошли к концу и надо уезжать. Так что на самих торжествах по случаю десятилетия «Солидарности» мы не присутствовали, но наши работы там остались.
А потом наступил 1991-й год, август и путч. Хочу сказать, что к этому времени мы уже очень часто посещали всевозможные консульства — и американцев, и немцев. Нас приглашали как творческую интеллигенцию — показывали кино, подкармливали. Интересное наблюдение — сразу после того, как, условно говоря, стало можно, в консульства набилось дикое количество людей. Раньше эти самые консульства пустовали, потому что граждане Советского Союза боялись туда ходить, а потом все изменилось в один день.
Ходил туда то вместе с Натальей, то один. Новый год вообще встречали у немцев — там, так получилось, были только свои. Причем, мне кажется, к тому моменту уже почти не было стучавших. Возможно, потому что никакой перспективы для «стука» уже не было. К тому же, думаю, у них там было огромное количество всяких «жучков». Хотя они, конечно, в основном неразумные — они могут все слышать, видеть, фотографировать, и все равно им нужно еще ко-го-то внедрять, а для чего — неизвестно.
К лету 1991-го всеми владело странное настроение — смесь тревоги и ожидания чего-то. Мы оказались в американском консульстве как раз в дни путча. А на следующий день поехали на дачу к Толе Белкину. Там же был Овчинников — они снимали домик на двоих. Приехали туда несколько удрученные, потому что понимали — над всеми нами нависло что-то не очень хорошее. Горбачев под арестом, никто ничего не знает, «Лебединое озеро». И вот мы приезжаем то ли в Рощино, то ли в Репино, а нам навстречу выскакивает Белкин и кричит: «Все! Они уже бегут!» То есть история ГКЧП завершилась. Радость, конечно, была необычайная — я очень хорошо запомнил эти дни.
Потом наступила осень, разговоры шли только про Ельцина. И так продолжалось довольно долго. А в 1993-м мы поехали в США к нашему приятелю Мишке Иофину, тоже художнику. Сначала Мишка заслал ко мне человека, которого называл другом, но он назовет другом любого, кто ему нужен. Друга звали Сэм, он посмотрел мои вещи и сказал, что кое-какие хочет купить. Я ему отдал, кажется, четыре работы, он мне выдал часть суммы, потому что денег с собой не было. И почти сразу он пригласил нас в Америку, чтобы там сделать мою выставку. И мы поехали.
Сначала мы некоторое время пожили в Нью-Йорке у друзей, а потом перебрались в Сан-Франциско, Сэм нам купил самые дорогие билеты, снял для нас студию. И в результате оказалось, что мы влипли в авантюру. Потому что тратили свои деньги на еду. Насколько я понимаю, Сэм рассчитывал, что на выставке мои работы станут продаваться, они будут пользоваться бешеной популярностью, и он вернет себе потраченное с процентами. И кстати, так оно и получилось — думаю, он неплохо заработал, потому что мне он выдал 63 доллара 15 центов. В результате знакомые эмигранты говорили, что сами могли бы мне такую выставку организовать на значительно более выгодных условиях.
При этом Америка мне показалась грандиозной страной, и не из-за бесконечных дорог, хотя и из-за этого тоже. И небоскребы, и города — все было грандиозным. Огромный залив Сан-Франциско — казалось, что туда можно поместить все корабли всех стран и еще останется место. И даже в одноэтажную застройку, прославленную Ильфом и Петровым, была заложена какая-то грандиозная идея. Мне очень понравилась эта страна, хотя мне показалось, что живут там не очень радостно. Но я был поражен до глубины души. Ты читаешь книгу и пытаешься найти фразу, ради которой все это было задумано и потом написано; и точно так же я в Америке, да и везде за границей, наблюдал за жизнью, пытаясь поймать, ухватить что-то.
Однажды мы ехали из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, за окном наступал сизый рассвет. И вдруг я увидел, как наш автобус обгоняет маленький фургончик, а внутри у него словно всполохи живого огня. Оказалось, что весь объем этого фургончика занимает мини-пекарня, они едут и одновременно пекут хлеб. И, когда доезжают до места назначения, у них есть свежайший, мягчайший горячий хлеб, который они должны кому-то там доставить. Меня это совершенно поразило — поразило то, какое в Америке все настоящее. Там все сделано по-настоящему, на какой-то значительный промежуток жизни человека, — каждая ручка, каждый выключатель. Причем эстетика этого штепселя такова, что через десять лет никто не скажет: «А, это старый штепсель».
Потом мы поехали в Бостон, где к тому времени жил Костя Симун, с которым я учился в СХШ, — замечательный скульптор, автор «Разорванного кольца», посвященного блокаде Ленинграда. В Бостоне у него была огромная машина, страшная развалюха, в которой все было укреплено проволочками, чтобы не развалилось. И она вся была завалена окурками, потому что он ее никогда не чистил. Страшно воняло табаком — я, курящий, еле выдерживал. Костя возил нас в прекрасные места — взморье, берег пахнет морем, йодом, полуразложившимися водорослями, красивейшие виды. И еще мы были на его выставке — выставке в американском понимании этого слова: какая-то непонятная забегаловка, куда никто не ходит.
В общем, в Россию уже приехали наученные и впредь таких ошибок не совершали.
Главой страны был Ельцин, с коммуняками было покончено, воцарилось какое-то подобие спокойствия. Мы сидели на кухне с Георгием Вилинбаховым — он тогда был завсектора русского отдела Эрмитажа, хранителем флагов, — и у нас в разговоре родилась интересная мысль: надо бы сменить государственные символы. Строго говоря, такие разговоры ходили уже давно, но какие-то несерьезные. А мы об этом неожиданно глубоко задумались. Идея созревала дня три, у нас появлялись какие-то довольно нелепые соображения на тему того, что государственные награды, ордена и медали нужно поменять, при этом оставляя подобие старого, то есть сделать другую их редакцию. Вилинбахов сказал, что надо, наверное, обратиться за помощью к Рудольфу Пихоя — профессору, главному государственному архивисту России. Они поговорили, и в результате мы встретились у него в Архивном управлении. К тому же как раз тогда начали открываться архивы, люди стали читать про себя, своих родственников, то есть Архивное управление было на слуху. Мы решили, что Пихоя будет продвигать нашу идею в верхах. И как-то все завертелось.
Через какое-то время в Москве объявили конкурс на новую символику То есть было ясно, что орел таки будет двуглавым, но каким именно он будет — это и предстояло решить. Решение принималось на уровне Министерства культуры. Был создан ученый совет при Минкульте, я на нем присутствовал, и он был ужасен, как любой ученый совет при чем-то. Обязательные пожилые дураки, и каждый считает своим долгом высказаться, причем каждый следующий не соглашается с предыдущим. Некоторые представляли свои изображения, в том числе и я. Причем я свое менял — сначала оно было предварительное, не совсем верное, неинтересное, некрасивое, этакий цыпленок табака. Только потом я уже представил что-то более разумное.
Я довольно долго над ним работал — сидел дома за столом и работал. Мне были хорошо известны старые, дореволюционные образцы, так что не нужно было на них все время смотреть. К тому же всякое смотрение настраивает на то, чтобы сделать нечто подобное. Так что в этом отношении я был свободен. И вот результат своих трудов я и представил на ученом совете. Сидели какие-то маститые седовласые мужи, я никого из них не знал. Обсуждали какие-то странные вещи, вплоть до того что во время обсуждения трехцветного флага они, глядя на образец, выложенный Вилинбаховым, сказали: белая полоса превалирует над остальными, нехорошо. Совершеннейшая глупость, потому что флаги ведь делаются не по чьему-то вкусу и не потому, что они должны смотреться так-то или так-то, — создатели должны придерживаться четких математических соотношений. По моему эскизу тоже были совершенно сюрреалистические замечания. Например, мы сразу определили, что мой герб вписывается в круг, потому что мы решили — нужно сделать государственную печать. Так что я несколько своих вариантов вписал в круг. А они говорили: круг сейчас уже не моден, сейчас в моду входит треугольник. И многие эскизы москвичей действительно были вписаны в треугольники. Но потом все-таки решили работать с кругом. А военные, с которыми тоже обязательно нужно было все обсудить и согласовать, заявили, что не имеют ничего против растянутых крыльев. А в это время Центробанк, ни с кем не советуясь, сделал своего орла, которого мы сейчас видим на всех монетах, — красивый, кстати, орел.
Естественно, за основу был взят билибинский орел времен Керенского, решено было лишь убрать маленькое изображение Думы под ним. В конечном итоге был принят мой вариант, но мы приняли одно очень важное решение — дать подробное описание орла со всеми его причиндалами, но не давать никакого стандартного изображения. Потому что подумали: пусть в каждом отдельном случае художник, делая орла, имеет возможность менять композицию. Но сам государственный символ, то есть двуглавый орел, остается неизменным, как в описании.
Отдали наш проект в Госдуму на обсуждение, на котором присутствовал Вилинбахов. Я предоставил им одиннадцать вариантов и очень надеялся, что они выберут последний, который был мне наиболее симпатичен. Но они выбрали девятый, самый колючий вариант, какой-то даже немного немецкий. И почему-то они решили, что нужно снабдить его коронами, скипетром и державой, хотя это старые символы монархической власти. Они посчитали, что скипетр — это символ государственной власти, держава — это наша держава. «А короны зачем?» — «Потом разберемся…» И произошел интересный эпизод — во время обсуждения гимна коммунисты сказали: «мы-де согласны на вашего орла и на ваш флаг, но с одним условием — пусть будет принят наш гимн». Так и приняли.
Самое удивительное, что меня ни секунды не распирало от гордости за то, что я сделал государственный герб, не было никаких переживаний, стрессов и так далее. Я к этому отнесся просто как к работе. Мне только было приятно, что с помощью моего герба отвергались все эти серпасто-молоткастые штуки. И злорадства не было: дескать, вы меня сажали, а я вам вот так ответил. Я по складу характера человек немстительный и незлопамятный. То есть не скажу, что забываю всякую дрянь, но все-таки я не очень злопамятный.
Короче говоря, был принят мой вариант. Хотя Центробанк оставил свой, а военный — свой, с распростертыми крыльями. А я не получил ничего, кроме удовлетворения, — ни денег, ни званий. Более того, я в то время выполнял еще довольно много странных заказов. Например, для Дьяченко, дочери Ельцина, делал гравировку на столовом серебре, рисовал эскиз гарнитурчика — запонки и заколка для галстука. Еще делал два варианта экслибриса президентской библиотеки, еще что-то. Считалось, что мне заплатят за эту работу, я даже раз сорок напоминал Вилинбахову, который ездил в Москву, отвозил все это, а обратно привозил замечания и пожелания. То есть была нормальная, интересная работа, за которую в результате я так ничего и не получил.
Удивительно, конечно, но я не только ничего не получил, но и не пообщался с представителями власти, причем о последнем ни минуты не жалею. Хотя для петербургских властей тоже выполнял некоторые работы. Например, Вилинбахову как-то пришла в голову мысль, что для петербургского мэра, то есть для Собчака, нужно сделать цепь — не только инаугурационную, но и ту, которую мэр надевает по случаю каких-либо торжеств. Я ходил по Невскому проспекту и, когда в миллиардный раз шел по Аничкову мосту, обратил внимание на его перила и понял: «Вот же элемент для звеньев цепи!» Так как это была наша идея, мы работали спокойно, без спешки. В результате получился интересный эскиз, его показали Собчаку, он его подписал: «Согласен». И после этого началась обычная для нашей страны тягомотина: «Нет подрядчика… Непонятно, кто будет делать… Непонятно, где брать деньги…» Так ничего и не сделали. В результате Собчак перестал быть мэром, а про Яковлева решили, что не будем ему показывать эскизы. Прошло время, был конец 1990-х. Стояла поздняя осень, Нева выходила из берегов. Как обычно случается при угрозе наводнения, Пиотровский и Вилинбахов приехали в Эрмитаж. И к ним приехал Яковлев, который объезжал город. Они разговорились, растрогались и показали ему эскизы цепи. «О, — воскликнул Яковлев, — это надо сделать!» Снова началась тягомотина, и в результате Яковлев тоже ушел с этой должности и с цепью снова ничего не получилось. Хотя я для Яковлева к его юбилею делал медаль с его профилем — кстати, неплохо получилось. Появилась Матвиенко. Ей показали эскизы. Она сказала: «О, это надо сделать!» И сразу же нашлись подрядчики, сразу договорились о цене, в результате чего сделали цепь, причем сделали очень хорошо. Не прошло, как говорится, и десяти лет.
Если вернуться назад, то нужно отметить, что в результате нашей активности Ельцин с подачи Вилинбахова образовал Государственную герольдию, в которой числилось всего несколько человек, в том числе и я. Мы располагались в Санкт-Петербурге, заседания проходили в Эрмитаже, в кабинете Вилинбахова. А потом нам выделили помещение в так называемом Федеральном доме, рядом со Смольным. Вернее, два помещения — два кабинета. У нас были ксероксы, компьютеры, мы стали серьезной организацией, хоть и маленькой. И в этой маленькой организации закипела работа: мы разрабатывали новые ордена — всевозможные кресты и только кресты. Это от меня не зависело, это у нас такая страна: в зависимости от того, откуда и куда дует ветер, у нас или только звезды, или только кресты, другого не дано. Первый орден, который я разработал, был высшим орденом нового государства — орденом Золотого Орла, то есть орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Разрабатывать там было нечего — крест известен, цвет фона известен, просто автоматически накладывается на все это золотой орел, и делу конец. Мы разработали ордена всех четырех степеней и цепь к главному ордену. И так получилось, что все уже было, а специальной президентской цепи не было. Более того, о ней почему-то даже разговоров никаких не шло, просто решили, что ордену первой степени хватит ленты, а цепь пойдет президенту. Конечно, не совсем разумное решение, но именно оно и было принято. И, когда состоялась инаугурация Ельцина, на него надели как раз эту цепь.
Надо заметить, что Ельцин был очень высокий, и я проектировал цепь исходя из его роста. Таким образом, Ельцин оказался единственным президентом нашей страны, на которого эту цепь надевали. После него всем ее выдают в специальной коробочке.
Кстати, как только была образована Герольдия, мы сразу начали получать зарплату как штатные сотрудники. Более того, мы числились сотрудниками Администрации президента, у меня даже сохранилась ксива, по которой я несколько раз ходил в Кремль. Даже иногда тешил самолюбие — шел по Красной площади как все нормальные люди, а потом сворачивал к Спасской башне, где стоят вертухаи, — и пожалуйста, заходил внутрь.
Потом как-то все стало сникать, нас начали понижать, в результате Герольдия превратилась просто в общественную организацию «Геральдический совет». Кто-то наверху решил, что общественной организации вполне достаточно.
Я до сих пор состою в этой организации, мы продолжаем собираться, но довольно редко. Зато в Совете теперь значительно больше народу, люди приезжают из Москвы или мы, наоборот, ездим на выездные сессии, которые чаще всего не заседания вовсе, а просто торжественные посиделки, с женами.
Интересно, что все это время мы делали всевозможные заказы только для Москвы и Санкт-Петербурга, из других городов никаких заявок нам не поступало, они как-то сами справлялись. Например, в Рязани работает очень хороший мастер Михаил Константинович Шелковенко — очень активный, деятельный, он сделал прекрасный знак для мэра Рязани. И, когда мы приехали в этот город, Вилинбахов этот знак вручал — красивая серебряная, немного славянофильская цепь.
Зато я, кроме всего прочего, выполнял один очень интересный заказ — орден Андрея Первозванного. Мне было интересно разрабатывать этот образ, искать материалы и так далее. Вообще работа в Герольдии была интересна мне как художнику. Просто я был специалистом в этой области. Очевидно, все родилось оттого, что я никогда не был модернистом — модернистом в нынешнем понимании этого слова. На меня очень глубокое впечатление произвел Эрмитаж, у меня случилось своего рода потрясение души, когда я влюбился в настоящее, подлинное искусство. А настоящее Эрмитажа — это классика, барокко. Так получилось, что судьба направила меня именно в эту сторону, в сторону классики. Возможно, в том числе именно поэтому Вилинбахов и выбрал меня, когда мы только начинали говорить о геральдике. К тому же я всегда этим интересовался. Мне всегда была интересна нумизматика, глиптика, я никогда не прохожу мимо этих вещей, всегда присматриваюсь.
Было решено, что нужно сделать высший орден, выше высшего. Выбор пал на него, потому что и в царской России он был высшим. Его давали довольно скупо, зато первым награжденным был не кто-нибудь, а Дмитрий Сергеевич Лихачев, и он довольно долго оставался единственным кавалером этого ордена. Потом уже стали давать его разным другим людям — например, дали Назарбаеву зачем-то.
А у меня вплоть до 1997 года никаких наград не было. Только потом меня сделали народным художником. И совершенно ничего не изменилось.
Когда меня «приговорили», начальником главка по наградам была Нина Алексеевна Сивова, очень славная, уютная женщина. Раньше, когда по телевизору транслировали награждения, ее всегда показывали — всегда в белом платье, никогда в брюках. Она зачитывала приказ о награждении. Так вот, Вилинбахов меня спросил, что я хочу — звание или орден. Я сказал, что орден. Но потом подумал и решил, что все-таки хочу звание. Вилинбахов согласился. А потом пришло правительственное письмо от Сивовой. И дальше воцарилась тишина. Прошло месяца два, я напомнил Вилинбахову: «Слушайте, я не тщеславен, но коли дано, так дайте». «Подождите, — отвечает. — Я не знаю, что там у них за кухня». И думаю, он спрашивал Сивову, причем не раз. А мы с ней уже были знакомы, во время московских командировок с ней общались. И она бросила в сердцах: «Ну что он гоношится? Если хочет поскорее, может пойти в жилконтору и там получить свое звание. А я хочу, чтобы все было торжественно. Так что пусть ждет». Я ничего не имел против торжественности и стал ждать.
Наконец пришло приглашение на награждение. Мы поехали с Пиотровским и Вилинбаховым, потому что их тоже награждали. Собралась куча народу, сидят барышни, всех регистрируют. Мне говорят: «Ну, образование-то у вас, конечно, высшее». Я говорю: «Да…»
Мы собрались в зале, стоим. Вышел специальный человек, провел инструктаж: «Когда вас будут вызывать, персонально каждого, вы должны подойти вот сюда, встать на это место, потом рукопожатие, потом вам подарят цветы, потом награжденные могут подходить к трибуне и что-то говорить. Потом вы должны вернуться к президенту, он стоит тут. Вы возвращаетесь к президенту, вас фотографируют. А после этого еще будет общая фотография, вас для нее расставят». Довольно волнительный момент, особенно учитывая то, что я всегда начинаю волноваться, когда мне нужно самому произвести какие-то действия, я с большим удовольствием лучше вообще не буду совершать никаких действий.
Дальше нас рассадили в определенном порядке. С минутным опозданием появился президент. И началось чтение всех указов по очереди, каждому награждаемому — персональный указ. И почти каждый, получая награду, под общие улыбки совершал какой-то маленький ляп: кто-то не в то время подходил, кто-то не в то время начинал пожимать руки. Настала моя очередь. Я взял букет, указ, коробочку. А подходить к трибуне и говорить о том, что мы будем и дальше, и больше, и сильнее, не обязательно, и я решил не подходить и ничего не говорить. Так что я все свое взял и пошел обратно, забыв пожать руку президенту. Ельцин меня за рукав схватил и притянул к себе, так что на нашей фотографии мы оба смеемся и я еще сквозь смех перед ним извиняюсь. Потом мы все выпили по бокальчику, и все.
Мы вышли и со знакомыми поехали в ресторан обмывать награды. Всем известно, что рюмка имеет определенный размер, определенный диаметр, и ордена не помещались, лишь самым краешком, а мой значок только булькнул. Все выпили, я быстрее всех. И чувствую, что мне уже ни есть, ни пить не хочется, притом что все с виду было очень вкусным. Какое-то неприятное состояние внутри. Досидел до конца празднества, не стал ждать машину, тем более, гостиница была рядом и погода хорошая — лето, тепло. Пришел в гостиницу и чувствую — сил совсем нет, даже снять с себя ничего не могу. Свалился в чем был на постель, и начались мучения. На следующее утро, когда я пришел в себя, я узнал, что всем тоже было погано, но не так, как мне. И мы поняли, что все ордена были обработаны каким-то антисептиком, потому что президент берет их в руки. И в мою рюмку попало наибольшее количество этой химии, так как мой значок провалился целиком, а их ордена — только краешками.
Именно тогда, после награждения, я намекнул, что для полного счастья мне не хватает только выставки в Эрмитаже. «Мы обязательно придумаем что-нибудь», — ответил Пиотровский. Потом долго решали, чья будет выставка — моя или Виктора Павлова, который тогда был главным художником. И он меня пропустил. И так состоялась моя персональная выставка, юбилейная, через четыре года после награждения, потому что у любого крупного музея, каким является и Эрмитаж, естественно, есть длинный план всевозможных выставок и экспозиций. А потом, вскоре после моей, прошла персональная выставка Павлова. И довольно быстро после нее он умер.
Итак, я проработал в Герольдии до 1998 года, то есть почти семь лет. Когда мы входили в Администрацию президента, нам даже платили приличную зарплату. Но потом Герольдия кончилась, несколько человек потеряли рабочие места, в том числе и я. Кого-то Вилинбахов ввел в штат геральдического совета, а некоторые остались на вольных хлебах, и я в их числе. Была пенсия, еще что-то, так что затруднений мы с Наташей не испытывали. При этом Вилинбахов давал мне то одно, то другое поручение. А потом мне словно вожжа под хвост попала — на кой черт мне это нужно?! И в один прекрасный день мы с ним разговаривали по телефону, и я отказался от очередного его задания. Потом, через день, раздался телефонный звонок, и Вилинбахов голосом, исключающим любые возражения, сказал: «Приходите завтра в Эрмитаж». — «Зачем?» — «Приходите, никаких разговоров. Заявление напишете». — «Какое?» Я пришел, написал заявление и был принят на должность ведущего художника Эрмитажа. На этой должности я стал выполнять задания его или, в редчайших случаях, Пиотровского. Например, характерный случай — должен был приехать Ельцин. Естественно, Эрмитаж закрывают, бегает охрана, выясняются все маршруты, изучаются все закоулки. И к этому приезду нужно было сделать письмо о том, что он, Борис Ельцин, берет шефство над Эрмитажем. И как раз я делал это письмо. То есть работа довольно-таки непыльная. К тому же я все рисовал дома, в Эрмитаже только писал текст каллиграфическим почерком.
Тут важно понимать: моя философия заключается в том, что художник должен мочь все, что касается изображения, скульптуры, ювелирщины и так далее. Художник не может быть только маринистом, только портретистом, только натюрмортики писать или делать этих современных сикарах. Так что, конечно, я владел и каллиграфией тоже, а как же иначе. Потом, когда Ельцину вручили это письмо, он сидел и долго выводил свою подпись.
Я все время повторяю, что за свою жизнь мало с кем дружил. Я вообще к слову «дружба» отношусь очень требовательно, очень жестоко. У меня, пожалуй, никогда не было друга. Единственный — Борька Рабинович, который уехал в Австрию.
Однажды, когда я еще работал в Эрмитаже, он позвонил мне — перед этим, так получилось, мы несколько лет не виделись. Он позвонил и начал рассказывать, что теперь рисует. Я удивился, потому что раньше не замечал за ним этого греха. А он продолжает: «Я начал работать из-за тебя! Лежал в больнице, было очень скучно, делать было нечего, так я начал шариковой ручкой рисовать одежду, висящую на вешалках. И знаешь, хорошо получилось, я потом даже участвовал в двух выставках — на Невском и в ДК Газа». Я говорю, что как раз на этих выставках не был — не получилось по каким-то причинам. А он отвечает: «Приходи ко мне в мастерскую на Васильевский». Мне, конечно, было неохота — я вообще не самый легкий на подъем человек. Но согласился, пришел — типичная мастерская художника. И вдруг я увидел замечательные работы, чудеснейшие, красивые, очень трогательные. И вдруг задумался о себе — стал вспоминать какие-то свои воркутинские почеркушки и так далее. Получилось, что он подтолкнул меня снова начать работать, писать. Кроме того, у нас возобновились отношения, что было очень приятно.
После того как он умер, мы ездили к его жене Нинке — в Союзе она преподавала детям рисунок, была большим специалистом по Сомову. Очень интересный и симпатичный человек.
С этим Борькой произошла очень интересная история. Он долго не мог уехать, ему все время отказывали по каким-то нелепым причинам или вообще без причин, как это обычно бывало в Советском Союзе. Потому что нельзя же было допустить, чтобы человек взял и уехал просто так. Пускай еще помурыжится пару лет. Если кто-то может проявить какую-то микровласть, он это обязательно использует. И по сей день так. Очевидно, это пройдет только с исчезновением всех советских людей независимо от их национальности. А пока они все не вымрут, это не исчезнет. Но Борька все-таки уехал в 1977 году, и в 1988-м, уже при Горбачеве, он смог приехать сюда с туристской группой. А до того его не пускали, даже на похороны матери не пустили. И вот он приехал туристом, пробыл тут три дня и умер. Вернулся… Его похоронили с родителями, на еврейском кладбище. Может, он по-своему и счастлив.
Пусть это прозвучит нескромно, но я люблю все свои работы. Не все из них шедевры. Более того, есть вещи, которые я сейчас, спустя годы, не стал бы делать. Но они для меня не менее важны, чем остальные.
Вот, допустим, «Банальная дорога» — в ней, по словам уже упоминавшегося в этой книге Коли Благодатова, есть нерв. В «Дороге» он есть. Пусть это снова прозвучит нескромно, но мне хочется верить, что нерв есть в каждой моей работе. Возможно, меньше всего его в «Башне» — я ее рисовал уже после того, как видел ее вживую и она меня разочаровала. Она настолько хорошо сохранилась, хоть и была побита снарядами и разграблена жителями, что в ней нет того, что я для себя определяю словом «ухнализм». Начав ее делать, я почувствовал это и прервал работу, потому что личная неудовлетворенность перевешивала все остальное. А «Банальная дорога» получилась, хотя мне, честно говоря, сейчас в ней нравятся только елки. В ней не совсем тот характер, которого мне хотелось. Дело в том, что в душе я документалист, и все свои вещи я пытаюсь основывать на документальности. Потому что она не просто узнаваема, она еще и хорошо убеждает.
Картина «Где-то по рельсам, по рельсам, по рельсам — колеса, колеса, колеса» существует в двух экземплярах. Первым экземпляром был этюд, и я не представляю, где он может находиться. Этюд был куплен в самом начале перестройки одной фирмой, которая была первой ласточкой российского коллекционирования, хотя ничего не коллекционировала, а сразу перепродавала куда-то. А потом я сделал повтор той картины, большего размера, немного изменив. Картина родилась очень странно, как и большинство моих вещей, — мгновенно, словно пот прошиб. Мы ехали из Севастополя, сели на поезд под вечер и проехали совсем чуть-чуть, минут десять. Потом поезд замедлил ход, проезжая между какими-то составами: грязные вагоны, на которых мелом и краской был нанесен миллион надписей. И в этот момент в моей памяти возникла одна деталь: фильм Анджея Вайды «Пейзаж после битвы» про лагерь, который освободили и в котором бывшие заключенные продолжают жить под охраной американцев. Потрясающий фильм, который я видел на каком-то просмотре, поэтому перед показом выступали киноведы. И один из них, поляк, сказал: «Не уходите, как только кончится фильм, досмотрите титры». И вот, когда фильм закончился и пошли титры, на экране возникла вереница вагонов, и на каждом вагоне была написана фамилия актера из фильма. Именно эти вагоны возникли у меня в памяти в поезде из Севастополя. И сразу началось какое-то развитие — должен быть ритм, то есть не одно полотно, а три: первая война, вторая война, лагеря. Появилась некая концепция, хотя я очень не люблю это слово. А название я взял из Галича, во-первых, в благодарность за то, что этот человек жил, и за его творчество.
А во-вторых, эта фраза написана в том же ритме, в ней есть то же тройственное повторение.
Солнечное голубое небо, на фоне которого развивается трагический сюжет, появилось из-за того, что я не люблю пугать зрителя, кроме тех случаев, когда это логично. Более того, я практически никогда не думаю о реакции зрителя, не рассчитываю на нее. Возможно, это прозвучит выспренно, но я работаю только для себя. И практически никогда не отвечаю на вопросы типа «что вы хотели этим сказать?». Что хотел — то и сказал. А выставки мне нужны только для того, чтобы заявить — я есть, я существую. Однажды произошел интересный случай — на какую-то из первых выставок ТЭИИ не пришли зрители. Мы собрались небольшой группой, в которой многие не знали друг друга, и началась страшно заумная критика. В частности, про мои работы сказали, что это «задники для какого-то скетча». И больше я этих людей никогда не видел. Конечно, было немного обидно, хотя сидящие рядом тыкали меня локтями: «Да брось, плюнь, не обращай внимания на этого мудака». Да я, в общем-то, и не обращал.
Я никогда не завидовал. Если мне что-то нравилось, я вставал на расстоянии в десять сантиметров и рассматривал, как это сделано. Я вычитывал свое — то, что мне нужно. Пусть это прозвучит смешно, но я продолжаю учиться и сегодня. И сейчас, бывая на выставках и встречая работы, которые мне нравятся, останавливаюсь и начинаю в них всматриваться сантиметр за сантиметром: какой он кистью это сделал, каким цветом, какой химией красок. И то же самое происходит со старыми мастерами.
Еще одна важная картина, «Знак беды», тоже родилась мгновенно. Когда мы бывали в Киеве, мы обязательно ездили в село, где жила Наташина тетя и где Наташа провела детство. Мы всегда доезжали до Березани на электричке, а там садились на автобус. В эти дикие автобусы набивался народ с мешками, причем все друг друга знали. Шум, гам, едва удавалось протиснуться. И недалеко от станции Березань стоял этот знак. Там уже не было ни дороги, ничего, только трава и этот печальный знак, оставленный здесь зачем-то на века десятилетия назад. Моя картина — попытка вспомнить. Я долго думал над названием, размышлял. Этот знак стоит на переезде и предупреждает об опасности, но он находится в таком состоянии, что уже ни о чем не способен предупредить. Картина о бессмысленности существования этого знака. А потом я читал чудесного белорусского писателя Василя Быкова и случайно наткнулся на эти слова — «знак беды». Нечто полезное, предупреждающее, приходя в такое состояние, становится как раз тем самым знаком беды.
А вот «Дорога в никуда» не возникла спонтанно — это один из тех редких случаев, когда сначала родился определенный замысел. Естественно, и у этой работы есть история. Вот жил я, жил и, как многие, чувствовал какую-то неловкость от ауры нашего существования. И мне захотелось сделать триптих под названием «Россия». Одна вещь — «Тупик», и я ее даже сделал, это вообще была одна из первых моих картин после ухода из Эрмитажа. Я не пишу с натуры, просто однажды увидел и запомнил настроение, это для меня главное: со второго этажа я смотрю на дом напротив, старый дом красного кирпича, здание какой-то уже не существующей фабрики, причем здание разбито, стены скреплены какими-то скобами и крюками, при этом оно опутано проводами и новыми трубами, которые пытаются оправдать его сегодняшнее существование. Очень хорошая была картина. Я ее отдал прекрасному мастеру Зальцмонду, который делал камеи и который однажды предложил меняться — я ему картину, а он мне, вернее Наташе, камею. А потом он забрал картину, уехал в Англию, и я ничего не получил и остался без картины.
Средней частью триптиха была «Дорога в никуда». А замысел третьей появился, когда я увидел очень интересный объект по пути в Сибирь на Телецкое озеро. Мы ехали на поезде, стояла жуткая жара, вокруг расстилались Барабанинские степи, в небе висело выбеливающее солнце. В степи стоят элеваторы. И я придумал элеватор, к которому с разных сторон что-то пристроено. И название — «Это тоже тупик». Но первая картина уехала в Англию, третью я так и не сделал, а вторая осталась самостоятельной работой и, что называется, моей визитной карточкой, как считают мои друзья-приятели. И правда, это как бы мой алтарь. Тот объект, который изображен на картине, находится на набережной Пряжки, дом 30, но я его, конечно, очень перелопатил, лапу на него наложил, превратил его в руину. В основном я рисую какие-то реальные объекты, только очень сильно измененные, потому что мне нужно с их помощью передать собственные эмоции, собственное настроение. Так что на той картине примерно соблюдены габариты подворотни старого ампирного дома, немного осевшего. И более или менее реален странный лев. Меня в свое время поразил этот лев — такой обиженный, такой печальный, такой плаксивый. Когда я его увидел, я буквально задрожал, выхватил из кармана пачку «Шипки» и попытался его себе зарисовать для памяти. Мне важны эти детали, которые мы, даже замечая, словно не видим.
Почему дорога ведет в никуда? Возможно, это было прекрасное уютное здание, но постепенно, переходя от одних хозяев к другим, оно облупилось и превратилось фактически в ничто. И подворотня у этого здания совершенно глухая, без перспективы.
И есть еще одна картина, которую тоже можно считать моей визитной карточкой и которая мне очень дорога. Это арка Новой Голландии, а картина называется «Мой алтарь». Это на самом деле святое для меня место. Раньше, когда бывало тошно, я приходил туда, стоял у перил, курил. Наташка, если ходила со мной, молчала.
Пожалуй, одна из немногих вещей с перспективой — это «Присутствие». Хотя у меня там, если говорить, используя термины из учебника, не одна точка схода, а три, потому что мне нужно было определенное ощущение. Как родилось «Присутствие»? Я много раз видел одну интересную деталь присутственных мест — грязные, обтертые стены на уровне между плечами и локтями. Люди приходят, ждут, прислоняются к стенам. Я долго вынашивал эту вещь, и вот что получилось.
Часто картина рождается из какого-то мимолетно увиденного образа, который в другой момент, возможно, ничего бы и не значил. Вот, например, «Надежда». До нее я долго работал акварелью с карандашом, мне это надоело, я решил — надо что-то менять. А потом мы как-то шли по Витебскому проспекту мимо огромного дома, в котором есть несколько проходов во двор, и в каком-то из них я увидел телефонную будку. И у меня родилась мысль — не что-то глобальное, боже упаси, а маленькая, и мне захотелось снова сделать акварель с карандашом, в последний раз. С этой будкой, кстати, произошел интересный случай. Примерно в 1990 году в Кировском театре был устроен телемарафон, на котором разным коллективам и отдельным людям было предложено отдать какую-то одну работу в коллекцию будущего Музея современных изобразительных искусств.
И я выставил «Надежду». Собранные работы были повешены в какой-то галерее, названия которой я не помню. А оттуда должны были пойти в запасники Музея истории города в Петропавловской крепости и ждать там, пока будет создан Музей современного искусства. Прошло время, в Музее Ахматовой решили делать мою персональную выставку. И я захотел выставить «Надежду». Стал звонить: «Дайте картину на выставку». Они мне: «Да-да-да…» И только после того, как моя выставка открылась, они признались, что не смогли ее найти. А незадолго до выставки мы куда-то ездили с картинами, и нужно было получать разрешение на вывоз работ. Контора, выдававшая эти разрешения, располагалась на улице Гоголя. И вот звонят мне оттуда и говорят: «Женя, слушай, тут два каких-то мужика приносили что-то твое. Мы уже не помним что. Мы им не дали разрешение на вывоз». Я им ответил — что за глупость, вы должны были дать разрешение, потому что мужики, может, купили эту картину у меня и она теперь их собственность. Потом прошло еще какое-то время, и один из эрмитажников на совещании подходит ко мне и говорит: «Слушайте, Евгений Ильич, я был в командировке в Кемерово и там в музее видел вот вашу телефонную будку…» И я до сих пор не знаю, как она там оказалась. А съездить в Кемерово я как-то не собрался.
А вот картина «Это мое» — сборная солянка, то есть совершенно нереальный буфет. Такого несимметричного буфета просто не может быть. Хотя какие-то детальки в нем есть и от моего собственного буфета. Но дело в том, что я вообще не люблю симметрию, так что я старался брать элементы самых разных стилей. А уже на нем, на нарисованном буфете, располагается натюрморт, составленный из вещей, принадлежащих нам. Это мир моих вещей, в котором я живу. Это некое мещанство, в котором я не вижу ничего обидного — пусть страдают те, у кого всего этого нет. По складу ума, по духовному складу я викторианец. Сейчас я особенно чувствую свою несовременность, причем у меня это ощущение появилось еще тогда, когда у других его не было. Я очень люблю вещи, я к ним страшно привыкаю. Расставаться с какой-то вещью — для меня это физическое страдание, как будто я отдаю свою руку или ногу. И «Это мое» — оно как раз об этом. Сейчас эта работа находится в Сан-Франциско у одного чудесного человека.
А «Зона (по Тарковскому)» появилась совсем по-другому. Меня совершенно потряс фильм Тарковского «Сталкер» — я его, как говорят в Одессе, держу за гениальный. И у меня было подспудное ощущение, что я должен что-то сделать, чтобы выразить… даже не благодарность, а свой взгляд. А в названии в скобках написано имя Тарковского, чтобы не было ассоциаций с лагерями. Тут есть свалка типа той, мимо которой на дрезине проезжали герои картины, — котлы, рельсы. Стуканье колес дрезины на стыках рельсов. Но это не моя зона и не зона Чернобыля, это зона Тарковского, по Тарковскому. Я начинал ее рисовать пастелью на грунтовом фоне, а поскольку объект очень темный, насыщенный, я решил прописать его одним цветом. И как-то пришел ко мне уже сто раз упоминавшийся Коля Благодатов, посмотрел и сказал: «Евгений Ильич, слушайте, я вас умоляю, я знаю, что вы все равно все сделаете по-своему, но я вас очень прошу, сделайте эту картину только черным!» И я решил — а почему бы и нет. Я не всегда соглашаюсь с чужими мнениями, но тут… И я сделал ее черным маслом с белилами. Паровозика, который нарисован на картине, я никогда не видел, это плод моей фантазии. Я попытался поискать фотографии паровозов и взял от каждого по чуть-чуть. Кабина, например, немного похожа на череп, но это уже умствования, которые я в какой-то мере допускаю в свои работы. Хотя не очень люблю умствования — вещь должна говорить сама за себя.
А суть картины «Восход луны» выражена в названии. На ней не по-настоящему большая луна восходит над каким-то чертополохом, над сорняками, снытью, какими-то зонтичными травами, которые я очень люблю и раньше постоянно рисовал. После них я много рисовал камыши, а теперь рисую крапиву. На луне я нарисовал кратеры, но не настоящие, а мои собственные, придуманные. При этом мне важно, что это именно луна. Я очень люблю луну, у меня даже часто в полнолуние настроение улучшается. И когда в Ленинграде серое небо и я только по календарю могу судить, что послезавтра, например, будет полная луна, которую я не увижу, я чувствую себя неуютно. Эту картину я подарил моим друзьям, братьям Саше и Валику Носкиным, она сейчас в их коллекции.
Носкины живут в Гатчине, мы к ним часто ездим. И в какой-то из поездок у меня родился хулиганский замысел серии «Путешествие из Петербурга в Гатчину». А как-то в одном кафе была выставка работ одного хорошего мальчика, Андрюши Алешина, сына наших эрмитажных друзей. Осмотрев работы, я вышел курить на крыльцо и поразился нереальному освещению Казанского собора, который был похож на призрак. И я решил сделать такую картину — «Призрак». Я сделал эту вещь, а потом как раз пришел замысел «Путешествия», и «Призрак» стал первой работой серии. Следующая, «Фонтан Грот», сначала существовала в другом виде — она была меньше и более светлая, но не очень мне нравилась, так что я сделал другую. Еще в серии есть картина с самым длинным для меня названием: «Эта та башня, до которой никак не могу добраться и о которой никто ничего не знает». В результате я доехал до нее, и получилась «Башня», о которой я уже писал.
Я все рисую и рисую объекты, потому что люди мне не особо интересны. Объекты более вечные. А люди слишком набиты тряпками, мусором, какой-то мелочью — я их не трогаю, и пускай они меня тоже не трогают. Но однажды я решил написать автопортрет. Надо сказать, что году в 1976-м я нарисовал большую картину, на которой изобразил Калинкину пожарную часть, которая раньше была около Калинкина моста в самом конце Фонтанки, — очень живописное здание красного кирпича с башней. Рядом с ней были высокие выдвинутые камни, на один из которых я посадил себя блаженствовать на солнышке в уединении. И назвал работу «Теплый камень». Честно говоря, не представляю, где сейчас эта работа. А спустя почти 30 лет я решил повторить идею, только понял, что мне надоели красные кирпичи. И меня, по выражению Овчинникова, потянуло на антику. Так что я посадил себя, очень маленького, около колонны Казанского собора. Причем картина нарисована в очень сложной технике — тут есть масло, темпера, акварель, обычная и масляная пастель.
Одна из последних моих работ — «Летний сад». Перед ней я целый год ничего не делал, только начал «Башню» и бросил ее, усомнившись в наличии нерва. Я сидел на диване и ломал голову, что бы еще такого придумать. Но это все заумь, которую я не люблю. И однажды, в самом начале бесснежного января, мы шли куда-то, вокруг была теплая уютная мрачность. И я увидел край Летнего сада — это был тот самый миг, которого я ждал целый год. А на следующий день пошел снег.
А «Дверь в стене», например, — это ответ на одноименный рассказ Герберта Уэллса. Мое отношение к моей будущей двери, которая меня, может быть, ожидает. Довольно светлое, если не сказать радостное отношение — а почему бы и нет? Что в этом трагичного? Это дверь туда, куда мы все уйдем, а что там — я не знаю. Мне бы хотелось покоя. Вот когда Воланд у Булгакова сидел на крыше и из круглой башни вышел Матвей, просить за Мастера, Воланд ему довольно грубо сказал: «А почему же вы его не возьмете к себе, к свету?» И Матвей грустно ответил: «Он не заслужил света, он заслужил покой». Вот мне бы хотелось этого покоя. И хотя я не верю в Петра с ключами, мне очень претит предположение доброй половины человечества о том, что там только прах и тление. Мне это кажется очень обидным. Однажды замечательный Михаил Казаков по телевизору сказал: «Я верующий, но не воцерковленный. Мне никто не нужен, я верую в Бога непосредственно, без посредников». Меня это просто потрясло. Потому что я отношусь к этому так же. Так что я совсем не знаю, что там, за той дверью.
Мне сложно рассуждать о Ленинграде, потому что я жил только здесь. Я, конечно, много ездил, путешествовал, но по большому счету жил только в этом городе. Поэтому мои впечатления от города ограниченны. Но здесь я родился, и я помню Ленинград от самого моего рождения до сегодняшнего дня.
Ленинград всегда был для меня… немного странным. В этом городе есть какая-то маленькая тайна, какой-то сглаз. Город как город, но его очень давно сглазили, что, очевидно, связано с его трагическим рождением. Стало модным рассказывать про Великого Петра, его преобразования и про то, как он своей волей создал этот город, но еще ни разу не говорили, сколько для этого было принесено жертв. И вся наша страна в целом, и этот город в частности — пространства безвестных жертв.
Я помню Ленинград почти всегда серым, почти всегда мокрым. За эту серость мы должны быть благодарны нашему Петруше, который захотел его возвести именно здесь, а не южнее, в районе Усть-Нарвы, где было бы лучше с точки зрения климата.
Я не могу сказать, что люблю его, и не могу сказать, что не люблю. Я его очень хорошо знаю, потому что много по нему ходил и сейчас хожу по мере сил и возможностей. Для меня вообще жизнь — это в том числе движение по тому месту, в котором я нахожусь, движение и смотрение. Так что я ходил по этому городу, и смотрел, и учил его. Мне кажется, я зрительно помню треть его домов. А ведь для меня зрительное восприятие играет огромную роль. А особенно город был хорош для меня в далекие 1940-е, когда мы вернулись из эвакуации.
Что бы ни говорили мне другие, город был безопасный — во всяком случае, сейчас для меня фон опасности ощутим значительно сильнее, чем тогда, возможно, в силу возраста. Сейчас город для меня стал конечным — я уже слишком хорошо его знаю, я знаю, что находится за каждым углом, и углов этих с каждым днем становится все меньше. Но город остается очень красивым, и я стараюсь сохранить эту красоту в моих «шедеврах», как я их называю. Для меня Ленинград — неиссякаемый источник, и, как ни стыдно в этом признаться, даже когда мне нужно сделать какие-то декоративно-прикладные вещи, которые приносят мне хлеб, я особенно сильно не задумываюсь, а просто выхожу на улицу, чтобы посмотреть на некоторые дома, на их декор, и мне этого достаточно, я ничего не выдумываю. Я вижу то, чего не видят другие, но не потому, что они дурные, а я умный. Просто, чтобы увидеть некоторые вещи, некоторые элементы, нужно захотеть их увидеть, приложить к этому некоторое усилие. Например, все знают Елисеевский магазин. Но ведь мало кто по-настоящему обращал внимание на его декор. А у него на трех углах (четвертый — во дворе) на карнизах под самой крышей есть пирамидки типа обелисков — как бы светильники, на которые никто не обращает внимание А какие в их основаниях потрясающие львиные морды! Эти львиные морды для художника, работающего в декоративном, оформительском искусстве, настоящая находка. Совершенно сказочные по своей красоте элементы. Или, например, по всему городу разбросаны замечательные фризы. Ну и так далее. Не могу сказать, что по декору Ленинград богаче какого-нибудь Парижа, в который я точно так же всматривался, такова уж моя натура. Он просто другой.
А в 1940-е город был пустым, его еще не заселили, словно муравьи, новые люди, которые его не знали, для которых он был просто очередным местом проживания. В то время среди выживших было еще очень много настоящих интеллигентных людей, старорежимных. Я скучаю по ним.
Сейчас в силу возраста мне все время хочется покоя. Я стал опасаться возмущения, беспокойства, которое становится враждебным. Поэтому я, все еще любя этот город, довольно редко стал выходить на улицу. Теперь город стал для меня источником странного ощущения, мне уже не хочется его видеть на уровне своих глаз, только выше. Хотя сейчас он стал чище. Сейчас принято ругать предыдущего губернатора города, Валентину Матвиенко, а мне-то как раз она всегда казалась хваткой бабой и в связи с этим великолепным губернатором, каким бы непопулярным ни было это мнение. Она была властной, немного истеричной, она, возможно, слишком многого требовала, но при ней город стал чище, и лучше, и даже зеленее, мне так кажется.
Конечно, капитализм сильно изменил лицо города, в том числе и рекламой, которая меня никак не раздражает, кроме тех случаев, когда перегораживает тротуар, стоя поперек и чуть скошенно. Зато появились красивые витрины, от которых можно получать эстетическое удовольствие. Хотя, конечно, много осталось и барахла.
Очень любил бродить по городу в одиночестве. Мне вообще всю жизнь было хорошо с самим собой. Никогда, за исключением редчайших бытовых случаев, не нужна была компания, к составу которой я отношусь довольно жестко. Но мне лучше одному, потому что я сам себя понимаю, я сам с собой не спорю, я совершенно соглашаюсь со всеми собственными ощущениями и мыслями, и мне этого достаточно. Люблю любую погоду, особенно, как ни странно, дожди. Серые мелкие дожди. Вот все говорят про туманный Лондон — когда я там был, город оказался замечательно солнечным, ярким, да и вообще говорят, что там больше нет туманов. А я люблю туманы, мглы, рождающие персонажей и ощущения, которые я пытаюсь оставлять на листах. Бывают времена, когда я долго, по году, ничего не малюю, но я не тороплюсь — все время жду, что вдруг увижу что-то, и так часто случается. Я еду в троллейбусе, гляжу в окно — а я, как дети, люблю смотреть в окошко, когда меня куда-то везут, — и через это грязное окно я вижу замечательнейшие моменты, многие из которых остаются в памяти. И эти образы, которые мне являются, совершенно устраивают меня духовно. На моих картинах отсутствуют люди, и не потому, что я их не люблю, просто они мне не очень нужны. Город, его дома, его деревья говорят о большем.
Мне нравится, что у этого города нет пригородов — в том смысле, когда от центра к окраине домики все уменьшаются и в результате превращаются в какой-то хлам, доходя до избушек. Так, меня поразили ужасные пригороды Парижа, я имею в виду жалкие, худенькие, грязные бытовые пригороды, а не такие парадные, как Версаль. И я имею в виду не наши Павловск или Гатчину, а то, что у нас до сих пор, возможно, существует, скажем, в районе Ржевки — Пороховых. Туда из центра никто не заходит, там за всю жизнь можно побывать единожды, а можно и вовсе не побывать.
Я не выношу ленинградские новостройки, пяти— и девятиэтажки, потому что они — не этого города, а всех городов России. По моим ощущениям, с точки зрения архитектуры город закончился примерно в 1917 году, потом началось уже не то.
Я люблю Пушкин, Гатчину — в них все еще сохраняется старорежимное обаяние. Гатчину люблю меньше, потому что хуже ее знаю. Гатчина — это забавный городок и парки. Пушкин — другое. Интересно, я помню его довоенным, потому что в детстве мы жили там летом. Так что и улицы для меня все еще носят те названия — Колпинская, а не Пушкинская, при всем уважении к Александру Сергеевичу. Мы жили на этой улице, и я прекрасно помню день, когда вдруг не стало собора, который стоял на площади. Я не помню ночного гула от взрыва, но утром, когда я проснулся и обнаружил его отсутствие, я побежал к бабушке: «Бабушка, бабушка, церкви нету!»
Вообще Пушкин очень хорошо сохранился, и после войны, и сейчас, я его прекрасно помню. Хотя очень многие места, которые там, да и везде, были старыми, сейчас привели в порядок, вычистили, покрасили, и они в чем-то потеряли свое обаяние. Но я вообще очень люблю руины, люблю следы времени. Даже во многих своих вещах я пытаюсь изобразить не предметы, а время, которое бросило на них тень. И даже порой состариваю предметы, которые изображаю, как ту же гатчинскую башню.
Но я люблю не только сам жилой город, парадный и заезженный, я люблю и промышленные районы, волею судеб влезшие на городскую территорию. Если говорить о Ленинграде, то я очень люблю судостроительные заводы, которым буквально заставлен Васильевский остров. Когда-то это были непосещаемые окраины, а теперь заводы оказались чуть ли не в центре, настолько город распух. Очень люблю эту мятежную абстракцию городских цехов и кранов.
И еще очень люблю Неву, правда, до Литейного моста, если смотреть со стороны Петропавловки. Хотя и дальше есть красивые пятна — например, район Смольного или Кресты.
Мне вообще важно, чтобы было красиво. Я люблю пейзаж, но редко его изображаю, потому что в нем нет главного моего бзика — времени. Время не оставляет своей печати на пейзаже. Но это не мешает мне любить пейзаж. Или небо — очень люблю небо и очень тоскую, когда оно серое. Серое в городе, серое в предметах — хорошо, но серое небо угнетает. Я люблю облака.
В мире нет города, похожего на Ленинград. Есть города, похожие друг на друга, но они абсолютно живые: Париж, Лондон, Берлин, Прага. А Ленинград — он как будто немного неживой. Я не очень хорошо знаю европейские города, хотя бывал в них. Например, Париж — хороший город, но почему-то он меня не принял, и я это чувствую. Он меня подпустил лишь на расстояние вытянутой руки. Словно я попал в чужой мир, хоть и не враждебный. Или Рим — очень красивый город, но это все-таки город памятников, а не город улиц. Потрясающий Нью-Йорк, в котором есть осязаемое ощущение новизны, но нет ощущения истории. А вот Сан-Франциско — сказочный город, совершенно живой, хотя в нем огромные офисные здания соседствуют с маленькими деревянными домиками, словно город состоит из крошечных уютных городков типа Гатчины или Пушкина. А в России… Я не люблю Москву, хотя у меня нет никаких оснований ее не любить, мы с ней просто не сошлись характерами. Только вокруг Кремля еще более или менее, а дальше — там Лужков, конечно, наделал всякой дряни. К тому же я не люблю сутолоку.
А Ленинград всегда остается своим городом, своим домом.
Несколько лет назад мы с режиссером Гутманом поехали в Воркуту. То, что я там увидел, до сегодняшнего дня не складывается для меня в единый образ. Потому что во мне теперь живут два воспоминания — то, что было, когда я сидел в лагере, и то, что я увидел теперь. Словно два снимка, наложенных один на другой. Через полвека во мне появилась странная, неожиданная идеализация того, что было тогда, — того времени, тех отношений, собственных переживаний.
Мы приехали, когда везде лежал снег, и это оправдывает стереотип: Воркута, север, снег. Там на самом деле девять месяцев в году лежит снег, но в моей памяти почему-то осталось лето.
Я помню замечательных людей, чудесные отношения с ними, которых, как ни странно, здесь, на большой земле, на воле, я уже почти не встречал. Что это за сюрреалистический мир, в котором мы живем?
В шестидесятые я, как и все, собирал журналы «Техника — молодежи», «Наука и жизнь» и так далее, других-то не было. И в одном из номеров «Техники…» была небольшая заметка, в которой присутствовал график. С помощью этого графика автор иллюстрировал периоды «дыхания» Земли: Земля при «дыхании» выпускает из себя какие-то газы, и график совершенно наглядно показывал, что всевозможные катаклизмы человеческой истории совпадают с выпуском этих газов. Конечно, все это было сильно притянуто за уши, едва ли не изобретено автором, но почему-то я запомнил. И мне действительно кажется, что мы живем в какой-то странный период странного всплеска, учащенного «дыхания» Земли. А в те годы, когда я сидел, возможно, был спад этого «дыхания». Конечно, я был молод, но ведь и те, кто оставался здесь, тоже были молоды, и они все равно пели про комсомольцев. В лагеря попадали лучшие, гибли лучшие. При этом мое пребывание там, в лагерях, было самым спокойным в моей жизни, и я уверен, что многие сидевшие по 58-й статье со «своими», то есть без уголовки, скажут то же самое.
Когда я приехал в Воркуту, я совершенно не боялся призраков прошлого. Наоборот, для меня каким-то стрессом было отсутствие памятников прошлого. При этом я видел там дома, которые помню. Они, конечно, в плачевном состоянии, многие заброшены, без крыш, но некоторые до сих пор эксплуатируются.
Не могу сказать, что я узнавал места, — я узнал пейзаж. Даже дороги уже пролегают в других местах, но пейзаж остался совершенно узнаваемым. Странно — в 1954 году, едва оказавшись на свободе, я написал письмо с просьбой принять меня на работу обратно в проектную контору. Каждую ночь во сне мне являлись какие-то картинки оттуда, видения, пейзажи. И после моей недавней поездки в Воркуту все повторяется.
Оказавшись на воле, я окунулся в совершенно другую среду, обстановку, в другой мир, который казался мне чуждым, непонятным и, самое главное, бессмысленным. Я уже писал, что никто ни о чем не спрашивал, никто ничем не интересовался, и для меня это было совершенно необъяснимо. Словно бы все надели на головы какие-то шлемы. Туман, который когда-то давно сошел на головы и осел. И мне кажется, что этот туман до сих пор никуда не делся. К нему привыкли, он оказался абсолютно комфортным, и этого я никогда не смогу понять.
Во время работы над этой книгой я долгими вечерами сидел и копался в событиях и ощущениях давно минувших дней. И пришел к одному странному и неожиданному выводу. Для меня загадка, как так получилось, что длинная жизнь оказалась насыщенной всевозможными мелкими событиями, чаще всего — путаными, сумбурными, бесполезными. Когда Троцкого спросили, как бы он хотел прожить свою жизнь, если бы мог начать ее сначала, он ответил — точно так же, каждую секунду он бы хотел прожить так, как прожил. А мне сейчас кажется, что за все восемьдесят лет моей жизни нет ни одного мгновения, которое я бы хотел прожить так, как прожил.
Я ни в коем случае не мистик, не герой — я бы назвал себя просто нормальным человеком, но каждую букву в этом слове сделал бы большой, заглавной. Как-то я ухитрился остаться нормальным человеком, без тараканов. Это, может быть, выглядит скучно, может быть, редко встречается, но это так. Возможно, благодаря этому я до сих пор жив и здоров. Нормальный здоровый человек, которым владеет какая-то горечь.
Я очень серьезно отношусь к семье, но считаю ее нормой. В семье нет ничего особенного, она просто должна быть, как иначе? Я смотрю телевизор, все эти ужасные бездарные передачи, и коллекционирую сюжеты и характеры. Я поражаюсь тому, как живут люди, чем они живут, как они думают. Хотя большинство, конечно, не думает. Смотрю и думаю: «Боже мой, как же бессмысленно люди живут!» Потому что они ничего не творят.
Для меня очень важно, интеллигентный человек или нет. Хотя мне довольно сложно объяснить, что я подразумеваю под этим словом. Просто есть некое внутреннее ощущение. Оно зависит от того, как человек воспринимает окружающий мир, оно зависит от того, как человек воспринимает тебя.
Мне очень за многое стыдно. У меня есть странное свойство — что-то сказав или что-то совершив, я буквально через минуту начинаю думать: «Боже, почему я это сделал?» Что называется, крепок задним умом, и меня всю жизнь это раздражало. Возможно, в последнее время я, осознав это свое качество, стал более инертным, неподвижным — из страха совершить ошибку. Хотя, скорее всего, это просто возраст.
Более того, те редчайшие случаи, когда я действительно вел себя как порядочный человек, все равно меня смущают. Потому что, если ты делаешь добро, ты должен забывать об этом, а я помню.
Я ненавижу социализм — пожалуй, это единственное, что я на самом деле ненавижу. Социализм с его изначальной ложью про свободу, равенство и братство и нацизм как его порождение.
Я всю жизнь работал. Это началось в Воркуте и продолжалось до недавних пор. Хотя я бы, конечно, с удовольствием лодырничал, но приходилось работать, и я делал это честно. Сейчас я бездельничаю в открытую, нагло, потому что я уже старый и ничего не хочу делать. Хотя я лукавлю — конечно, и сейчас приходится постоянно чем-то заниматься.
Единственное, к чему я отношусь серьезно, — это творчество. Творчество для меня бесспорно. Я не сомневаюсь ни в одной вещи, которую сделал. После того как я вернулся из Воркуты, у меня был более чем двадцатилетний период, когда я не рисовал, — очень большой перерыв для художника. Странный период, когда я занимался непонятно чем, пока не начал понимать, что же на самом деле мое. Конечно, нужно было содержать семью, кормить сына, и это единственное, чем я оправдываю тогдашнее свое существование. Но я счастлив, что все-таки понял, что мое, а что нет, потому что большинство людей так до конца жизни и не понимают. Когда ты куда-то там поднимешься или, наоборот, опустишься, у тебя будет спрошено: для чего ты жил, что ты делал, что от тебя осталось? И я уверен, что каждый человек должен оставить после себя какой-то материальный или духовный памятник — рисунки, тексты, неважно. Потому что очень сложно будет ответить на вопрос: «Что вы сделали в своей жизни, будучи обеспеченными едой и жильем?» А отвечать придется.
Меня всегда мучает досада: когда человек умирает, с ним умирают все его эмоции, воспоминания, реакции. Возможно, эта книга — попытка сохранить эмоции. Во всяком случае, насколько это возможно.

Это я. Июль 1933 года.
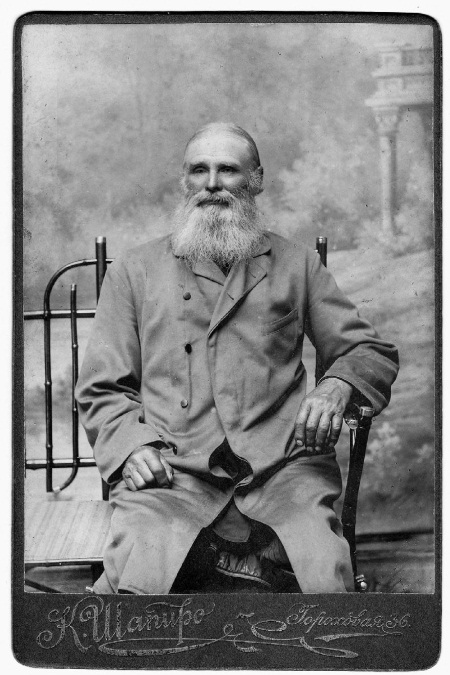
Мой прадед Василий. Начало XX века.

Дедушка. 1938 год.

Бабушка с мамой. 1912 год.

Мама. 1925 год.

Мы с мамой. 1939 год.
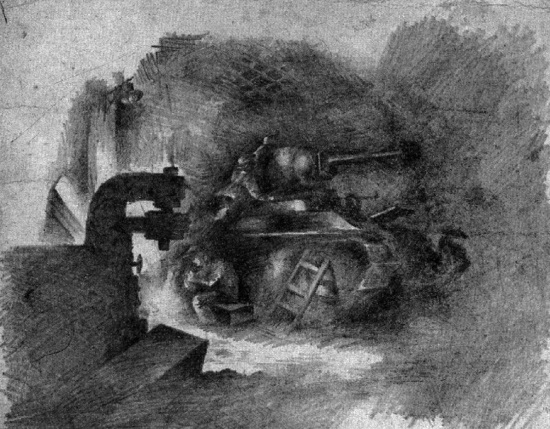
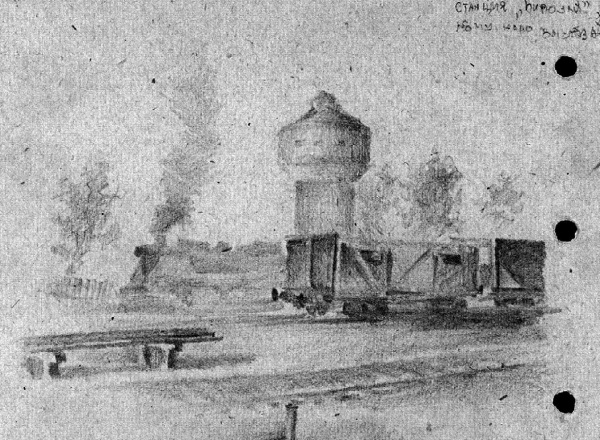

Незадолго до ареста.
Слева:
Мои детские рисунки

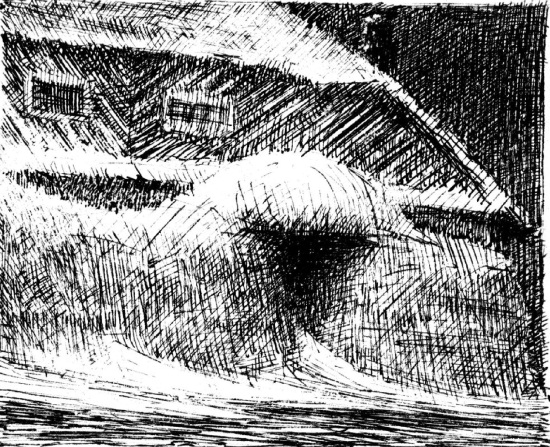

Здесь и на следующем развороте:
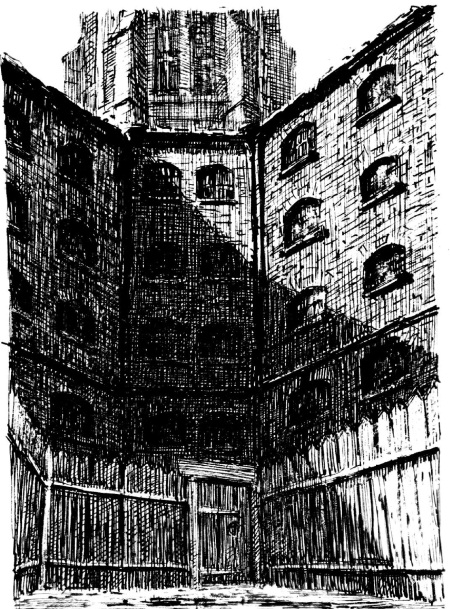


Лагерные рисунки. 1951–54 годы.

Справка об освобождении.
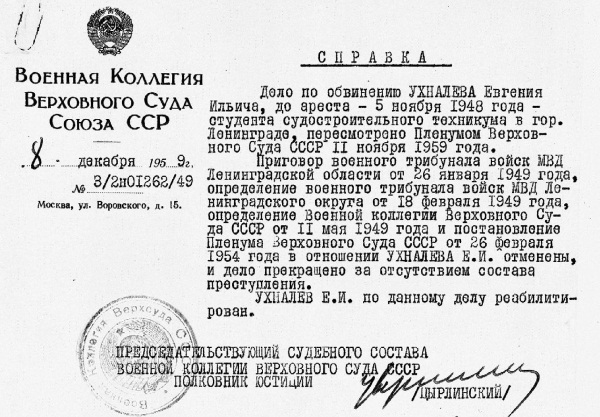
Справка о снятии судимости.
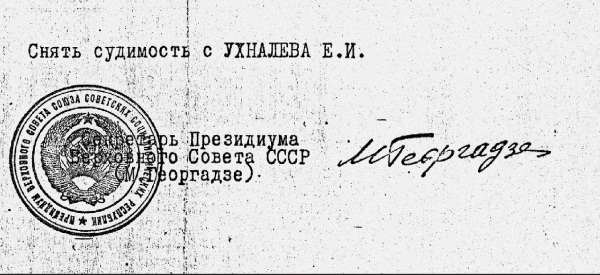
Задняя сторона справки о снятии судимости.

Натусик. 1950 год.

Это я. Примерно 1957 год.

1960 год.

Мы с Наташей. 1964 год.

Мои сын и внук, оба Андрюшки. 1988 год.

Справа:
Мы с Наташей на митинге. Начало 1990-х годов.

Мы с Наташей, 1996 год.

С Борисом Ельциным на вручении мне звания Народного художника России. 1997 год.
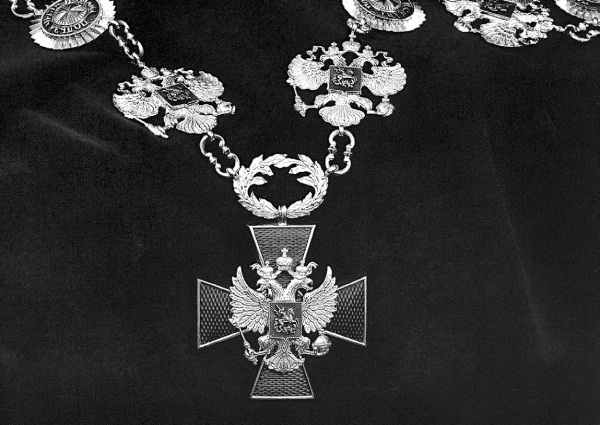
Знак Президента Российской Федерации.

Знак ордена Св. Андрея Первозванного.

2011 год.
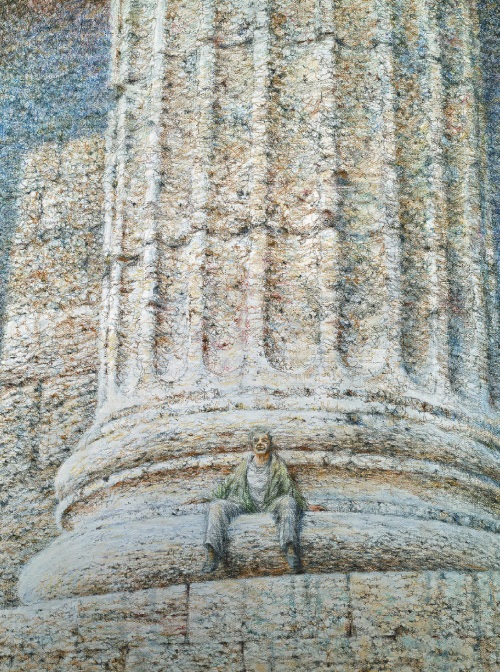
«Автопортрет», 2005 год. Из коллекции Музея современного искусства «Эрарта», Санкт-Петербург.
Из цикла «Путешествие из Петербурга в Гатчину»:

«Это та башня, до которой я никак не могу добраться и о которой никто ничего не знает». 2004 год.

«Круглая рига». 2004 год.

«Фонтан-грот». 2003 год.
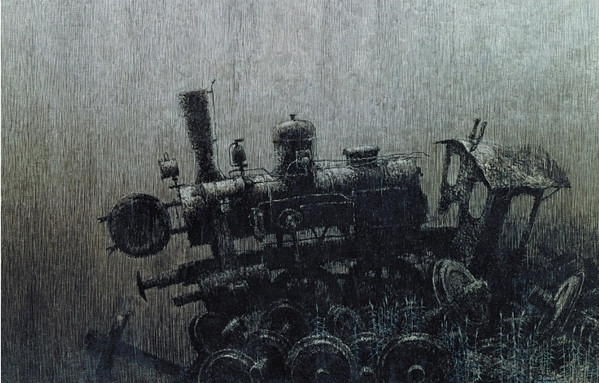
«Зона (по Тарковскому)». 1990 год. Из коллекции Музея современного искусства «Эрарта», Санкт-Петербург.

«Знак беды». 1982 год. Из частной коллекции, Швеция.

«Надежда». 1987 год. Из коллекции Музея изобразительного искусства Кемерово.
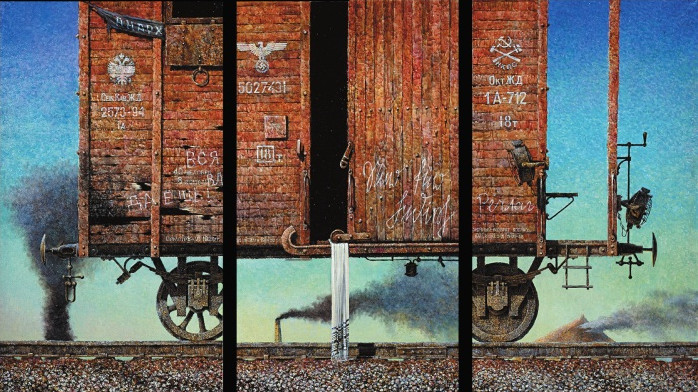
«А где-то по рельсам, по рельсам, по рельсам колеса, колеса, колеса…»
А. Галич. 2007 год. Из частной коллекции, США.



Серия из трех листов «Трубы, крыши». 1995 год.
Из частной коллекции, Великобритания.

«Дорога в никуда». 1978 год. Из коллекции Музея современного искусства «Эрарта», Санкт-Петербург.

«Банальная дорога». 2005 год.

«Восход Луны». 1998 год. Из частной коллекции, Санкт-Петербург.

Слева:
«Присутствие». 1986 год. Из коллекции музея Анны Ахматовой, Санкт-Петербург.
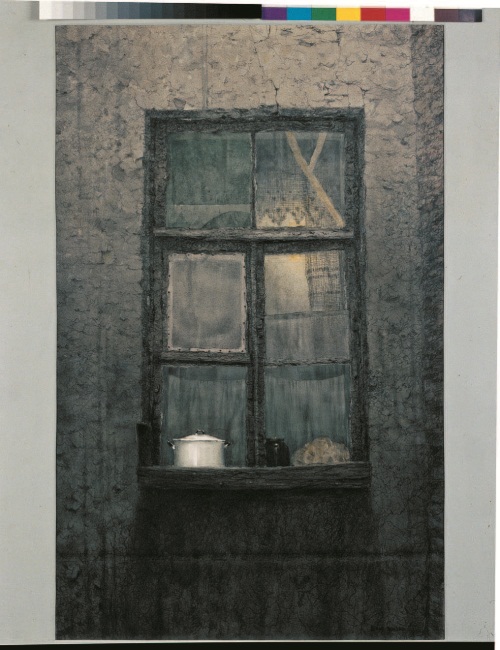
«Всю жизнь», 1978 год. Из частной коллекции, США.

«Это мое». 1988-89 годы. Из частной коллекции, США.