Книга: Далекие часы
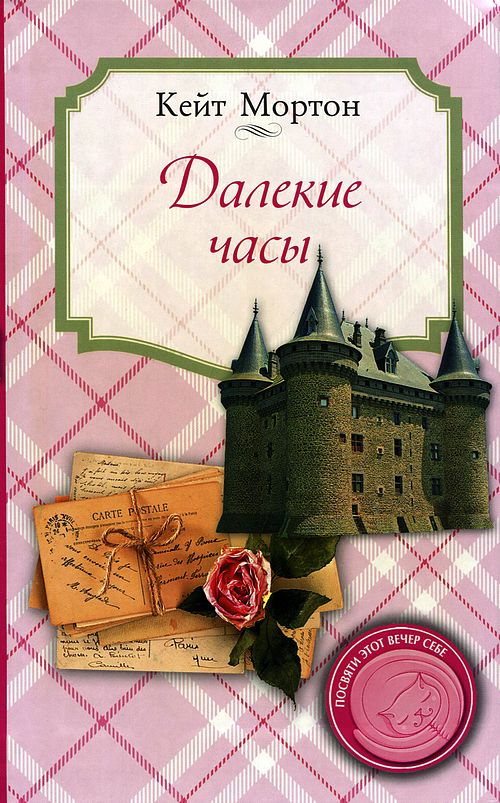
Далекие часы
Ким Уилкинс, побудившей меня начать, и Дэвину Паттерсону, который был со мной до самого конца
Тсс… Слышите?
Деревья слышат. Они первыми узнают о его приближении.
Прислушайтесь! Деревья темного, дремучего леса дрожат и шуршат листвой, словно невесомой шелухой из чеканного серебра; лукавый ветер рыщет в их верхушках и шепчет, что скоро начнется.
Деревья знают, ведь они старые и все уже видели.
Луны нет.
Луны нет, когда приходит Слякотник. Ночь натянула пару тонких кожаных перчаток; укрыла землю черной простыней — уловкой, личиной, сонным заклятием, под которым все сладко дремлет.
Темнота, но не полная, ведь у всего есть фактура, нюансы и оттенки. Глядите: грубая шерсть сгрудившихся лесов, лоскутное одеяло полей, гладкая черная патока рвов. И все же… Если вы не законченный неудачник, то не заметите странное движение в неожиданном месте. И вам определенно повезло. Тот, кто увидит, как поднимается Слякотник, уже никогда не расскажет об этом.
Вон там… Видите? Черный глянцевый ров, полный ила, перестал быть неподвижным. В его самом широком месте вспучился пузырь, побежала едва заметная рябь, всего лишь намек…
Но вы отвернулись! Весьма мудро. Подобные зрелища не для таких, как вы. Обратите лучше внимание на замок, там тоже кое-что движется.
На вершине башни.
Смотрите — и сами увидите.
Юная девушка сбрасывает покрывало.
Ее отправили спать; в соседней комнате тихо похрапывает няня, ей снится мыло, лилии и высокие стаканы теплого молока. Но девушку что-то разбудило; она украдкой садится, перекатывается по чистой белой простыне и спускает ноги, одну за другой; две бледных узких стопы на деревянных половицах.
Луны нет, не на что смотреть, сплошной мрак, и все же ее тянет к окну. Рябое стекло заледенело; она забирается на шкаф, усаживается над строем детских книг, в прошлом ее фаворитов, ныне — жертв ее стремления поскорее вырасти; вокруг мерцает морозный ночной воздух. Она подтыкает ночную сорочку под бледные бедра и прижимается щекой к сомкнутым белым коленям.
Мир — снаружи, люди движутся в нем, как заводные куклы.
Однажды она непременно увидит его собственными глазами, ведь замки на дверях и решетки на окнах — для того, чтобы не впустить его, но вовсе не для того, чтобы не выпустить ее. Не впустить мир.
Она слышала истории о нем. Он и сам стал историей. Давней-предавней легендой. А замки и решетки сохранились с тех пор, когда люди верили в подобные вещи. В сказки о чудовищах, которые прячутся во рвах и подстерегают прекрасных дев. В сказки о мужчине, которому в старину причинили зло, и теперь он вновь и вновь мстит за свою утрату.
Юную девушку — которая нахмурилась бы при слове «юная» — больше не тревожат детские монстры и небылицы. Она лишилась покоя, она современная, взрослая и отчаянно мечтает сбежать. Ей осточертело это окно и этот замок, однако целую вечность у нее нет ничего другого, и потому она хмуро глядит сквозь стекло.
Там, в складке между холмами, деревня погружается в апатичный сон. Последний ночной поезд вдали уныло оповещает о своем приближении — одинокий зов, остающийся без ответа, и носильщик в жесткой форменной фуражке выходит наружу и подает сигнал. В соседних лесах браконьер выслеживает добычу, и ему не терпится вернуться домой в кровать, а на окраине деревни, в домике с облупившейся краской, плачет новорожденный ребенок.
Совершенно обычные события в мире, где все рационально. Где видишь то, что происходит, и тоскуешь по тому, чего не происходит. В мире, столь отличном от того, в котором пробудилась девушка.
Ведь внизу, ближе, чем она думала, что-то происходит.
Ров начинает дышать. Глубоко-глубоко, завязнув в иле, влажно бьется сердце мертвеца. Тихий звук, подобный стону ветра, исходит из недр и напряженно парит над поверхностью. Девушка слышит его, то есть ощущает, ведь фундамент замка сливается с илом, и стон сочится сквозь камни, поднимается по стенам, этаж за этажом, неуловимо проникает в книжный шкаф, на котором она сидит. Прежде любимая книга срывается на пол, и девушка в башне ахает.
Слякотник открывает один глаз. Резко, внезапно водит им по сторонам. Возможно, даже тогда он вспоминает о своей утраченной семье? Хорошенькой маленькой женушке и паре пухлых нежных крошек, которых он бросил? Или его мысли уносятся дальше, в детство, когда он с братом бегал по полям среди высоких бледных стеблей; а может, он думает о другой женщине, той, что любила его перед смертью? Лесть и знаки внимания которой, а главное — нежелание смириться с отказом лишили Слякотника всего.
Что-то меняется. Девушка чувствует это и ежится. Прижимает ладонь к ледяному запотевшему стеклу и оставляет отпечаток-звездочку. Она в плену колдовского часа, хоть и не знает, что он так называется. Теперь ей никто не поможет. Поезд ушел, носильщик лежит рядом с женой, и даже ребенок задремал, устав от попыток поведать миру все, чему научился. Не спит только девушка в замке у окна; ее няня перестала храпеть и дышит так тихо, что кажется замерзшей до смерти; птицы в замковом лесу тоже умолкли, спрятали головки под дрожащие крылышки, зажмурили веки тонкими серыми черточками, чтобы не видеть того, что грядет.
Не спит только девушка; и еще мужчина, пробуждающийся в иле. Его сердце бьется быстрее, ведь его время настало и продлится недолго. Он вращает запястьями и лодыжками, он поднимается с илистого ложа.
Не смотрите. Умоляю вас, отвернитесь, когда он прорвет поверхность, когда выберется из рва, когда встанет на черном сыром берегу, поднимет руки и вдохнет. Вспомнит, каково дышать, любить, страдать.
Лучше взгляните на грозовые облака. Даже во тьме видно их приближение. Рокот злобных, сжатых в кулаки облаков. Они катятся, борются, пока не оказываются над самой башней. Это Слякотник призвал грозу, или гроза призвала Слякотника? Никому не ведомо.
В своем укрытии девушка склоняет голову, когда первые капли как бы нехотя разбиваются о стекло и встречаются с ее ладонью. День был ясным, не слишком жарким, вечер прохладным. Ни единого намека на полуночный дождь. Наутро люди с удивлением посмотрят на сырую землю, почешут в затылках и улыбнутся друг другу со словами: «Надо же! Подумать только, мы все проспали!»
Но подождите! Что это? Неясный силуэт, тень взбирается по стене башни. Взбирается невероятно проворно и ловко. Разве человек способен на такое?
Он достигает окна девушки. Они смотрят друг на друга. Сквозь залитое потеками воды стекло, сквозь дождь, зарядивший не на шутку, она видит покрытое грязью чудовищное существо. Она открывает рот, чтобы закричать, позвать на помощь, но вдруг все меняется.
Он меняется у нее на глазах. Сквозь слои грязи, сквозь гнет тьмы, ярости и горя проглядывает человеческое лицо. Лицо молодого мужчины. Забытое лицо. Лицо, полное такой тоски, печали и красоты, что она, не раздумывая, отворяет окно и впускает его из-под дождя.
1992 год
Все началось с письма. Письма, которое давно пропало и полвека ждало в забытой сумке почтальона на мрачном чердаке ничем не примечательного дома в Берменси.[1] Иногда я думаю о ней, этой сумке; о сотнях любовных писем, счетов из бакалейной лавки, открыток на дни рождения, детских записок родителям, которые лежат все вместе, разбухают и вздыхают, упрямо нашептывая в темноте свои послания. Ждут, ждут того, кто догадается, что они здесь. Знаете, ведь говорят, что письмо обязательно отыщет адресата; что рано или поздно, вопреки всему, слова найдут способ выйти на свет и открыть свои секреты.
Простите, что я впала в романтическое настроение — привычка, приобретенная за годы, когда я с фонариком читала романы девятнадцатого века, пока родители были уверены, что я сплю. Просто так странно осознавать, что, если бы Артур Тайрелл был чуточку более ответственным, если бы не переборщил с ромовым пуншем в канун Рождества 1941 года, не вернулся бы домой и не завалился спать, вместо того чтобы разнести оставшиеся письма, если бы сумку не спрятали на чердаке, где она пролежала полвека до самой его смерти, после чего ее нашла одна из его дочерей и обратилась в «Дейли мейл», все могло бы повернуться иначе. Для мамы, для меня и особенно для Юнипер Блайт.
Наверное, вы читали об этом; новость попала во все газеты и на телевидение. Четвертый канал даже снял специальную передачу, пригласив нескольких адресатов, чтобы поговорить об их письмах — неожиданно зазвучавших голосах из прошлого. Там была женщина, любимый которой служил в ВВС, и мужчина, которому сын прислал из эвакуации открытку на день рождения. Через неделю малыша убило осколком шрапнели. Передача мне очень понравилась; ее смонтировали из отдельных частей, счастливые и печальные истории перемежались старыми военными съемками. Пару раз я всплакнула, однако это ничего не значит; у меня часто глаза на мокром месте.
Но мама не пошла на шоу. Продюсеры связались с ней и спросили, не было ли в ее письме чего-то особенного, чем она хотела бы поделиться с нацией, и мама ответила; нет, это был банальный старый счет из магазина одежды, давно прекратившего существование. Она солгала. Мне это известно, потому что я была рядом, когда принесли конверт. Реакцию матери на пропавшее письмо можно назвать какой угодно, только не обычной.
Было утро, конец февраля, зима по-прежнему держала нас за горло, клумбы покрылись льдом. Я зашла помочь с воскресным жарким. Я иногда это делаю, потому что родители его любят, хотя сама я вегетарианка и знаю наперед: во время еды рано или поздно мать начнет беспокоиться, затем страдать и наконец не выдержит и засыплет меня статистикой о протеинах и анемии.
Я чистила в раковине картошку, когда в дверную щель упало письмо. Обычно по воскресеньям нет почты, и это послание должно было насторожить нас, но не насторожило. Что до меня, я слишком беспокоилась о том, как сообщить родителям о нашем расставании с Джейми. Минуло уже два месяца после разрыва; рано или поздно пришлось бы признаться, но чем дольше я пыталась выдавить слова, тем тверже они становились. И у меня были причины для молчания: родителям с самого начала не нравился Джейми, они с трудом переносят неудачи, а мама будет волноваться еще сильнее, чем обычно, если выяснится, что я живу в квартире одна. Но больше всего я боялась неизбежной неловкой беседы, которая последует за моим объявлением. Увидеть на лице мамы сначала замешательство, затем тревогу и наконец смирение, когда она поймет, что материнский долг требует от нее каких-то утешений… Но вернемся к письму. Что-то тихо упало в щель.
— Эди, сходи, — попросила мать.
(Эди — это я. Надо было раньше представиться.) Она кивнула в сторону коридора и взмахнула той рукой, на которую не был насажен цыпленок.
Оставив картошку, я вытерла руки кухонным полотенцем и отправилась в прихожую. На дверном коврике лежало письмо: официальный почтовый конверт, извещающий, что внутри — «переадресованная почта». Я отнесла письмо на кухню и прочла надпись маме.
Она уже закончила фаршировать цыпленка и вытирала руки. Слегка нахмурившись, скорее по привычке, чем от дурных предчувствий, она схватила письмо и взяла очки для чтения, нацепленные на ананас в миске с фруктами. Пробежала глазами почтовое уведомление, вздернула брови и приступила к конверту.
Я уже вернулась к картошке, рассудив, что это интереснее, чем наблюдать, как мама вскрывает письмо. Увы, я не видела ее лица, когда она выудила изнутри конверт меньшего размера, оценила хрупкую дешевую бумагу и старую марку, перевернула письмо и прочла имя на обороте. С тех пор я много раз вспоминала, как краска мгновенно схлынула с ее щек, а пальцы задрожали, так что потребовалось несколько минут, чтобы вскрыть конверт.
Особенно мне запомнился звук. За жутким гортанным всхлипом последовали резкие рыдания, заполнившие воздух, и я нечаянно порезала палец картофелечисткой.
— Мама? — Я метнулась к ней и обняла за плечи, стараясь не запачкать кровью платье.
Однако она ничего не сказала. Позже она объяснила, что лишилась дара речи. Она неподвижно стояла, заливалась слезами и крепко прижимала к груди странный маленький конверт из такой тонкой бумаги, что я различила внутри краешек сложенного письма. Затем она бросилась наверх в спальню, оставляя за спиной угасающий шлейф инструкций насчет курицы, духовки и картофеля.
После ее бегства кухня погрузилась в болезненную тишину; я вела себя очень тихо, двигалась очень медленно, стараясь не потревожить ее еще больше. Моя мама не плакса, но этот миг… ее срыв, столь поразивший меня… казался странно знакомым, как будто мы уже проходили через это. Пятнадцать минут я чистила картошку и гадала, от кого могло быть письмо и что теперь делать, затем постучала в дверь спальни и спросила, как насчет чашки чая. Мама уже собралась с силами, и мы сели друг напротив друга за маленьким кухонным столом с пластмассовым покрытием. Пока я притворялась, будто не замечаю, что она плакала, мать поведала о содержимом конверта.
— Письмо, — произнесла она, — от человека, которого я знала очень давно. Когда была еще девочкой двенадцати-тринадцати лет.
В моей голове вспыхнула смутная картинка: фотография, которая стояла у кровати умиравшей от старости бабушки. Три ребенка, на переднем плане самый младший — моя мать, девочка с короткими темными волосами, на что-то присевшая. Странно, я ухаживала за бабушкой сотню раз или даже больше, но сейчас черты лица той девочки ускользали от меня. Возможно, детей по-настоящему не интересует, как жили родители до их рождения; если только не случится нечто особенное и не прольет свет на прошлое. Я потягивала чай и ждала завершения истории.
— Не помню, я рассказывала тебе о том времени? Шла война, Вторая мировая война. Это была ужасная пора, полная неразбериха, все рухнуло. Казалось… — Мать вздохнула. — Казалось, мир никогда не станет прежним. Будто он слетел с оси и ничто не способно вернуть его на место. — Она обхватила ладонями исходящую паром кружку и заглянула внутрь. — Моя семья — мама, папа, Рита, Эд и я — жила в маленьком домике на Барлоу-стрит рядом с площадью Слон и Замок. На следующий день после начала войны нас, детей, собрали в школе, отвели на вокзал и посадили в поезд. Я никогда этого не забуду… у всех были таблички с именами, маски и ранцы. Матери, успевшие передумать, бежали к вокзалу и умоляли проводника выпустить их детей, а после кричали старшим братьям и сестрам, чтобы те позаботились о младших, следили за ними в оба глаза.
Мгновение мать сидела, покусывая губу, пока эта сцена воскресала в ее памяти.
— Наверное, ты была напугана, — тихо промолвила я.
Среди моих домашних не принято держаться за руки, не то бы я непременно сжала ее ладонь.
— Сначала — да.
Она сняла очки и протерла глаза. Без оправы ее лицо казалось уязвимым, незаконченным, как у маленького ночного животного, сбитого с толку дневным светом. Я обрадовалась, когда она снова надела очки и продолжила:
— Я никогда еще не уезжала из дома, никогда не ночевала врозь с матерью. Но со мной были старшие брат и сестра, и по мере того как поезд удалялся, а одна из учительниц раздала плитки шоколада, мы начали оживать и воспринимать происходящее почти как приключение. Представляешь? Объявили войну, а мы распевали песни, ели консервированные груши и смотрели в окно, играя в «Угадай, что я вижу?». Знаешь, дети — неунывающий народ, порой даже черствый. Наконец мы прибыли в город Крэнбрук, где нас разбили на группы и посадили в разные экипажи. Тот, в который попали мы с Эдом и Ритой, отправился в деревню Майлдерхерст; там нас организованно отвели в большую комнату, к группе местных женщин с застывшими улыбками и списками в руках. Нас построили рядами и заставили стоять, пока местные бродили вокруг, выбирая себе подопечных. Самых маленьких разобрали первыми, особенно хорошеньких. Наверное, считали, что с ними будет меньше возни, раз они меньше пропитаны духом Лондона. — Мать усмехнулась. — Вскоре они поняли, как ошиблись. Моего брата выбрали быстро. Он был крепким мальчиком, высоким для своего возраста, а фермеры отчаянно нуждались в подмоге. Потом взяли и Риту с ее школьной подругой.
Вот оно, начинается. Я положила ладонь на руку матери.
— Ах, мама.
— Ерунда. — Она высвободилась и щелкнула меня по пальцам. — Я была не последней. Оставалось еще несколько ребят… маленький мальчик с отвратительным кожным заболеванием. Не знаю, что с ним случилось, он по-прежнему находился в комнате, когда меня забрали. После я долгие годы заставляла себя покупать подгнившие фрукты, если они попадались под руку в лавке зеленщика. Не вертела и не клала их обратно на полку, если что-то не нравилось.
— Но в конце концов тебя выбрали.
— Да, в конце концов меня выбрали. — Мать понизила голос, теребя что-то на коленях, и мне пришлось наклониться ближе. — Она опоздала. Комната почти опустела, большинство детей разобрали, и дамы из Женской добровольной службы убирали чайную посуду. Я украдкой начала хныкать. И тут внезапно возникла она, и изменился сам воздух комнаты.
— Изменился?
Я сморщила нос, подумав о сцене из «Кэрри»,[2] в которой взрывается лампочка.
— Это трудно объяснить. Тебе когда-нибудь встречались люди, которые словно приносят свою собственную атмосферу, где бы ни появлялись?
Возможно. Я неуверенно пожала плечами. На мою подругу Сару все сворачивают головы; не совсем атмосферное явление, но все же…
— Да нет, конечно, не встречались. Это так глупо звучит. Я имела в виду, что она отличалась от других людей, была более… Сложно описать. Просто более. Странная красота, длинные волосы, большие глаза, довольно дикий вид, но не только это выделяло ее из толпы. В сентябре тридцать девятого ей было всего семнадцать, однако когда она вошла, остальные женщины словно погрузились в себя.
— От почтительности?
— Вот именно, от почтительности. Удивились при ее появлении и не знали, как себя вести. Наконец одна из них обрела дар речи и поинтересовалась, чем может помочь. Девушка только взмахнула длинными пальцами и заявила, что хочет забрать своего эвакуированного. Так и сказала: не просто эвакуированного, а своего эвакуированного. А потом направилась прямо ко мне, сидевшей на полу. «Как тебя зовут?» — спросила она и, когда я ответила, улыбнулась и предположила, что я, наверное, устала после дальней дороги. «Поживешь у меня?» Вероятно, я кивнула, потому что она повернулась к главной распорядительнице, той, со списком, и сообщила, что берет меня к себе.
— Как ее звали?
— Блайт, — отозвалась мать, подавив едва заметную дрожь. — Юнипер Блайт.
— И это она прислала письмо.
Мама кивнула.
— Она подвела меня к самой роскошной машине, какую я встречала в жизни, и отвезла в дом, где жила со своими старшими сестрами-близнецами. Мы проехали сквозь железные ворота по извилистой дорожке и оказались у огромного каменного здания, окруженного густыми лесами. Замка Майлдерхерст.
Название прямо из готического романа; я поежилась, вспомнив мамин всхлип, когда она увидела имя женщины и адрес на обороте конверта. Я читала истории об эвакуированных, о том, что порой происходило, и в ужасе пролепетала:
— Там было кошмарно?
— О нет, ничего подобного. Вовсе не кошмарно. Совсем напротив.
— Но письмо… Оно заставило тебя…
— Письмо стало неожиданностью, вот и все. Просто давнее воспоминание.
Мать умолкла, и я задумалась о чудовищности эвакуации. Как же, наверное, страшно и странно очутиться ребенком в незнакомом месте, где все совершенно иначе. Я еще не забыла собственных детских переживаний, ужаса новой, пугающей обстановки, цепких привязанностей, порожденных жаждой выживания, — к зданиям, симпатичным взрослым, особым друзьям. При воспоминании об этих нерасторжимых связях меня осенила внезапная мысль:
— Ты вернулась туда после войны, мама? В Майлдерхерст?
Она вскинула глаза.
— Разумеется, нет. Зачем?
— Не знаю. Чтобы наверстать упущенное; чтобы поздороваться. Чтобы повидаться с подругой.
— Нет, — отрезала она. — У меня была собственная семья в Лондоне, мать не могла без меня обойтись, к тому же было много работы, предстояло навести порядок после войны. Реальная жизнь продолжалась.
С этими словами между нами опустился привычный занавес, и я поняла, что беседа окончена.
Мы так и не поели жаркого. Мама пожаловалась, что у нее нет аппетита, и спросила, не слишком ли я расстроюсь, если мы пропустим этот раз. Казалось жестоким напоминать ей, что я в любом случае не ем мяса и прихожу скорее выполнить дочерний долг. Поэтому я просто заверила, что ничего страшного, и предложила ей прилечь. Она согласилась и, пока я собирала вещи, проглотила две таблетки парацетамола и велела мне закрывать уши от ветра.
Папа, как выяснилось, все проспал. Он старше мамы и несколько месяцев назад стал пенсионером. Это не пошло ему на пользу; в будни он рыщет по дому в поисках чего бы починить или отдраить, сводя маму с ума, а по воскресеньям дремлет в кресле. «Дарованное самим Господом право хозяина дома», — объясняет он любому, кто согласится слушать.
Я поцеловала его в щеку и переступила родительский порог, бросив вызов морозному воздуху. Спустилась в метро, усталая, встревоженная и несколько подавленная перспективой возвращения в чертовски дорогую квартиру, в которой до недавнего времени мы жили с Джейми вдвоем. Только между Хай-стрит-Кенсингтон и Ноттинг-Хилл-гейт до меня дошло, что мама так и не сказала, о чем говорилось в письме.
Записывая все это, я слегка разочаровываюсь в себе. Но задним умом все крепки, и теперь, когда я знаю, что мне было что искать, легко недоумевать, отчего я не отправилась на поиски. Но я не полная идиотка. Мы с мамой встретились за чаем несколько дней спустя, и хотя я снова не решилась сообщить о своих изменившихся обстоятельствах, я все же поинтересовалась содержимым письма. Она отмахнулась: мол, так, ерунда, немногим больше, чем простой привет, а ее реакция дома была вызвана лишь удивлением. Тогда я не догадывалась, что моя мама — умелая лгунья, иначе у меня был бы повод усомниться в ее словах, продолжить расспросы или обратить особое внимание на язык ее тела. Ведь обычно этого не делаешь. Людям инстинктивно веришь, особенно тем, кого хорошо знаешь. Родным я доверяю слепо. Или доверяла.
И потому я на время забыла о замке Майлдерхерст и маминой эвакуации и даже о том странном факте, что она никогда раньше о них не упоминала. Это было довольно легко объяснить, как и большинство вещей, если хорошенько постараться. Мы с мамой неплохо ладили, но никогда не были особо близки и уж точно не вели долгие задушевные беседы о прошлом. Как, впрочем, и о настоящем. Судя по всему, ее эвакуация была приятным, но незапоминающимся опытом, и у нее не было причин делиться им со мной. Одному богу известно, как много я утаивала от нее.
Сложнее объяснить то странное сильное чувство, которое охватило меня, когда я наблюдала за ее реакцией на письмо, — необъяснимую уверенность, что существует некое важное воспоминание, которое я никак не могу ухватить. Нечто, что я видела или слышала, но забыла, трепетало в темных уголках памяти, отказываясь замереть и позволить себя разглядеть. Нечто трепетало, и я гадала, изо всех сил стараясь припомнить, не пришло ли много лет назад другое письмо, которое тоже заставило маму плакать. Однако ничего не получалось: обрывки детских впечатлений не желали принимать четкие очертания, и я решила, что, наверное, меня подводит слишком живое воображение, которое, по словам родителей, неминуемо доведет меня до беды, если я не буду осторожна.
В то время у меня были более важные заботы. А именно: где я буду жить, когда оплаченная аренда квартиры истечет. Деньги были внесены за полгода вперед — прощальный подарок Джейми, своего рода извинение, компенсация за недостойное поведение, — но к июню заканчивались. Я прочесывала газеты и витрины агентов по недвижимости в поисках квартир-студий, однако с моей скромной зарплатой найти жилье не слишком далеко от работы оказалось непросто.
Я работаю редактором в «Биллинг энд Браун бук паблишерс». Это небольшое семейное издательство здесь, в Ноттинг-Хилле; основано в конце сороковых Гербертом Биллингом и Майклом Брауном, первоначально — с целью публикации собственных пьес и стихотворений. Когда-то, полагаю, оно было вполне уважаемым, но с течением десятилетий, по мере того как более крупные издательства занимали большую долю рынка, а интерес читателей к авторской литературе падал, нам пришлось ограничиться литературой, которую мы в добродушном настроении называем жанровой, а в менее добродушном — пустой. Мистер Герберт Биллинг — мой начальник, а также наставник, защитник и лучший друг. У меня не так много друзей, по крайней мере, из плоти и крови. Я вовсе не страдаю от одиночества; просто я не из тех, кто притягивает друзей или любит находиться в толпе. Я умею обращаться со словами, но только в мыслях, и часто думаю, как чудесно было бы заводить отношения лишь на бумаге. Полагаю, в известном смысле я так и делаю, ведь у меня сотни друзей иного рода, живущих в переплетах, на бесчисленных великолепных печатных страницах, среди историй, которые каждый раз разворачиваются одинаково, но не утрачивают своей прелести, берут за руку и проводят сквозь врата в миры панического ужаса и восторженной радости. Восхитительных, верных, достойных спутников… некоторые из них — настоящий кладезь мудрых советов… однако, к сожалению, к ним нельзя попроситься пожить на месяц-другой.
Дело в том, что, несмотря на скромный опыт расставаний (Джейми мой первый настоящий парень, о будущем с которым я мечтала), я подозревала, что пришла пора обратиться за поддержкой к друзьям. Вот почему я вспомнила о Саре. Мы выросли по соседству, и наш дом стал ее вторым домом, когда ее младшие сестры и братья превратились в сущих дикарей и ей понадобилось убежище. Мне льстило, что такая штучка, как Сара, не стала воротить нос от довольно степенного пригородного дома моих родителей, и мы дружили всю среднюю школу, пока Сару в очередной раз не застукали с сигаретой за туалетами и не перевели из математического класса в колледж визажистов. Сейчас она внештатно работает в журналах и кино. Ее успех замечателен, но, к сожалению, означает, что в час нужды подруга находится в Голливуде, превращая актеров в зомби, а ее квартира сдана в поднаем австрийскому архитектору.
Я успела поволноваться, представляя в самых пикантных подробностях, какого рода жизнь мне придется вести без крыши над головой, прежде чем Герберт совершил поистине рыцарский поступок и предложил мне диван в своей маленькой квартирке под нашим офисом.
— После всего, что ты сделала для меня? — возмутился он, когда я уточнила, уверен ли он. — Ты вытащила меня с самого дна! Спасла меня.
Он преувеличивал. Он вовсе не опускался на дно, но я понимала, что он имеет в виду. Я провела в издательстве всего пару лет и как раз начала присматривать работу поинтереснее, когда мистер Браун скончался. Герберт воспринял смерть партнера так тяжело, что я просто не смогла его бросить. Казалось, у него никого не осталось, кроме пухленькой, похожей на поросенка собачки, и хотя он никогда об этом не говорил, но по характеру и глубине его горя стало ясно, что они с мистером Брауном были не просто деловыми партнерами. Он перестал есть, перестал мыться, а однажды утром до беспамятства упился джином, хотя был трезвенником.
Особого выбора у меня не было: я начала готовить ему еду, конфисковала джин, а когда финансовые дела пошли совсем плохо и я не смогла пробудить его интерес, прочесала всю округу и нашла новые заказы. Тогда мы и переключились на печать рекламных листовок для местных компаний. Герберт был так благодарен, что значительно переоценил мою мотивацию. Он начал отзываться обо мне как о своей протеже и заметно оживлялся, ведя беседы о будущем «Биллинг энд Браун»: как мы с ним перестроим компанию в честь мистера Брауна. Его глаза вновь загорелись, и я еще ненадолго отложила поиски работы.
И вот что я имею. Через восемь лет. К большому изумлению Сары. Такому творческому, умному человеку, как она, который всегда и везде ставит собственные условия, нелегко объяснить, что у остальных людей другие критерии довольства жизнью. Я работаю с людьми, которых обожаю, зарабатываю достаточно денег на пропитание (хотя на трехкомнатную квартиру в Ноттинг-Хилле все же не хватает) и целыми днями играю со словами и предложениями, помогая людям выразить свои мысли и реализовать мечты о публикации. Кроме того, у меня не самые плохие перспективы. Не далее как в прошлом году Герберт повысил меня до должности вице-председателя; и неважно, что, кроме нас с ним, никто не работает в компании полный день. Мы устроили небольшую церемонию и все, что полагается. Сьюзен, младший сотрудник на полставки, испекла фунтовый кекс[3] и пришла в свой выходной, так что мы втроем пили безалкогольное вино из чайных чашек.
Столкнувшись с угрозой выселения, я с благодарностью приняла предложение Герберта; это правда было очень мило с его стороны, особенно в свете крохотных размеров его квартиры. К тому же ничего другого мне не оставалось. Герберт был чрезвычайно доволен.
— Великолепно! Джесс будет вне себя от радости, она обожает гостей.
Стало быть, в мае я готовилась навсегда выехать из нашей с Джейми квартиры, перевернуть последнюю, чистую страницу нашей истории и начать новую, свою собственную. У меня была работа, здоровье и куча книг; оставалось только не падать духом, быть готовой встретить серые одинокие будни, которые тянулись бесконечной вереницей.
Учитывая все обстоятельства, полагаю, я справлялась неплохо и лишь изредка позволяла себе нырнуть в омут сентиментальных грез. В таких случаях я находила тихий темный уголок… самое подходящее место, чтобы отдаться на волю фантазий… и в мельчайших подробностях воображала те банальные будущие дни, когда я пройду по нашей улице, остановлюсь у нашего дома, взгляну на подоконник, на котором выращивала пряные травы, и замечу чей-то силуэт в окне. В уголке глаза мелькнет завеса между прошлым и настоящим, и я доподлинно познаю физическую боль невозможности вернуться…
В детстве я была мечтательницей и источником постоянного разочарования для своей бедной матери. Она приходила в отчаяние, когда я забредала в грязную лужу или громыхающий автобус окатывал меня водой, и говорила что-нибудь вроде: «Смотри не заблудись у себя в голове» или «Если не видеть дальше своего носа, недалеко до беды. Будь внимательнее, Эди».
Для нее это было легко: свет не видывал более здравомыслящей и прагматичной женщины. Но не так легко для девочки, которая жила в своих собственных грезах с тех пор, как впервые задалась вопросом: «А что, если?..» Разумеется, с годами я не перестала мечтать, просто лучше научилась это скрывать. Но мать отчасти была права, ведь именно из-за навязчивых мыслей об унылом и безрадостном будущем без Джейми я оказалась настолько не готова к тому, что случилось.
В конце мая в офис позвонил самозваный медиум, который хотел опубликовать рукопись о своих потусторонних встречах на Ромни-Марш.[4] Когда к нам обращается новый перспективный клиент, мы всеми силами стараемся ему угодить, вот почему я отправилась в Кент на довольно древнем хетчбэке «Пежо», принадлежащем Герберту, чтобы прийти, увидеть и, при должном везении, победить. Я редко вожу машину и терпеть не могу запруженные автострады и потому тронулась в путь на рассвете, рассудив, что так дорога будет свободнее и я смогу выбраться из Лондона невредимой.
Я приехала к девяти; встреча прошла очень успешно — победа была одержана, контракты подписаны, — и к середине дня вернулась на шоссе. К тому времени движение заметно оживилось, чему решительно не соответствовала машина Герберта, неспособная выжать более пятидесяти миль в час без риска лишиться колес. Я перебралась в левый ряд, но все равно вызывала слишком много гневных гудков и качаний головой. Неприятно, когда тебя считают помехой, особенно если ничего не исправить, и потому в Эшфорде я свернула с автострады на проселочные дороги. У меня совершенно нет чувства направления, но в бардачке лежала карта, и я была полна решимости регулярно съезжать на обочину и сверяться с ней.
Мне понадобилось добрых полчаса, чтобы окончательно заблудиться. До сих пор не понимаю, как так получилось, подозреваю, что отчасти дело в устаревшей карте, а также в том, что я наслаждалась видами — полями, усыпанными первоцветами, и дикими цветами вдоль канав, — когда надо было следить за дорогой. В общем, я потерялась, колесила по узкой дороге, над которой смыкались огромные искривленные деревья, и наконец призналась себе, что понятия не имею, в какую сторону веду автомобиль — на север, юг, восток или запад.
Но тогда я не встревожилась. Я рассудила, что нужно просто двигаться дальше и рано или поздно я наткнусь на перекресток, ориентир или даже придорожный киоск, в котором добрая душа нарисует мне большой красный крест на карте. Возвращаться на работу было не надо; дороги не бывают бесконечными; достаточно смотреть в оба.
Вот как я обнаружила его. Он торчал из довольно обширных зарослей плюща. Один из старых белых столбиков с названиями местных деревушек, которые вырезаны на заостренных кусках дерева, указывающих в нужную сторону. «Майлдерхерст, — было написано на нем. — Три мили».
Остановив машину, я еще раз прочла надпись. У меня волосы зашевелились на затылке. Мной овладело странное шестое чувство, снова возникло туманное воспоминание, которое я пыталась поймать с февраля, когда доставили мамино пропавшее письмо. Я вылезла из машины как во сне и поспешила по указателю. Я словно наблюдала за собой со стороны, словно знала, что мне предстоит найти. И возможно, я действительно знала.
Они находились именно там, где я предполагала, в полумиле дальше по дороге. Из колючек вырастали высокие железные ворота, некогда величественные, но теперь кренящиеся под опасным углом. Створки опирались друг на друга, как будто вместе несли тяжкий груз. На небольшой каменной сторожке висела заржавленная табличка с надписью: «Замок Майлдерхерст».
Сердце быстрее и сильнее забилось в груди, когда я перешла через дорогу и приблизилась к воротам. Я схватилась за решетку обеими руками… ладони коснулись холодного, грубого, ржавого железа… и я медленно прижалась к ней лбом. Я проследила взглядом изгибы гравийной подъездной дорожки, которая поднималась по холму, вела по мосту и исчезала за пышной рощей.
Пейзаж был прекрасным, заросшим и меланхоличным, но не от него у меня перехватило дыхание. Внезапно я с абсолютной уверенностью поняла, что уже была здесь. Уже стояла у этих ворот, смотрела сквозь прутья решетки и следила, как птицы, будто клочья ночного неба, парят над ершистым лесом.
Детали с шелестом обретали плоть; я словно попала в ткань сна, словно вновь заняла то же место во времени и пространстве, что и прежде. Мои пальцы крепче сжали прутья, и я нутром узнала этот жест. Я уже делала это. Кожа моих ладоней помнила. Я помнила Солнечный день, теплый ветерок, играющий подолом моего платья… моего лучшего платья… где-то рядом маячит длинная тень матери.
Я покосилась на мать, наблюдая за ней, пока она наблюдала за замком — темным и далеким силуэтом на горизонте. Я страдала от жары и жажды, мне хотелось искупаться в покрытом рябью озере, которое я видела сквозь ворота, поплавать с утками, камышницами[5] и стрекозами, то и дело внезапно нырявшими в заросли тростника на берегу.
«Мама, — помнится, позвала я; она не ответила, и я повторила: — Мама?» Она повернулась ко мне; лишь через долю секунды искра узнавания осветила ее черты. А до того они хранили выражение, которого я не понимала. Она была для меня незнакомкой, взрослой женщиной, в глазах которой таились секреты. Теперь я нахожу слова описать тот странный сплав чувств: сожаление, нежность, горе, ностальгия, но тогда растерялась. И растерялась еще больше, когда она сказала: «Я совершила ошибку. Мне не следовало возвращаться. Слишком поздно».
Вроде бы я ничего не ответила. Я понятия не имела, о чем речь, и, прежде чем успела спросить, она схватила меня за руку, дернула так сильно, что у меня заболело плечо, и потащила обратно через дорогу к припаркованной машине. Я уловила незнакомые сельские запахи и аромат ее духов, ставший резче, кислинку там, где он смешался с раскаленным воздухом. Мать завела машину, и мы поехали. Я следила за парой ласточек через окно, когда услышала его: такой же жуткий всхлип, как тот, что издала мама при виде письма от Юнипер Блайт.
Ворота замка были заперты и слишком высоки, чтобы перелезть, хотя я не стала бы примериваться, даже будь они пониже. Я никогда не любила спорт и физические упражнения, а с возвращением пропавшего воспоминания у меня подкосились ноги, что никак не способствовало лазанию по заборам. Я испытывала странную отрешенность и неуверенность. Через некоторое время мне пришлось вернуться в машину и обдумать свои дальнейшие действия. Вариантов оказалось немного. В расстроенных чувствах нельзя водить машину, а Лондон слишком далеко, так что я завела мотор и на черепашьей скорости вползла в деревню Майлдерхерст.
На первый взгляд она показалась такой же, как и другие деревушки, через которые я проезжала в тот день: единственная центральная улица с лужайкой и церковью в конце и школой посередине. Я припарковалась перед местным клубом и живо представила ряды усталых лондонских школьников, грязных и растерянных после бесконечной дороги. Вообразила давний образ своей мамы, до того как она стала моей мамой, тогда она еще никем не успела стать, а только беспомощно шагала в неизвестность.
Я брела по Хай-стрит, без особого успеха стараясь попридержать разогнавшиеся мысли. Итак, мама вернулась в Майлдерхерст и взяла меня с собой. Мы стояли у тех ворот, и она расстроилась. Я это помнила. Это было. Но как только нашелся один ответ, на волю вырвалась целая туча новых вопросов и запорхала в голове, будто стая серых мотыльков, летящих на свет. Почему мы приехали и почему она плакала? Что она имела в виду, говоря, что совершила ошибку и уже слишком поздно? И почему всего три месяца назад она солгала, что письмо Юнипер Блайт ничего не значит?
Вопросы все кружились и кружились, пока я не очутилась у открытой двери книжного магазина. На мой взгляд, в пору душевного смятения вполне естественно искать знакомую обстановку, и высокие шкафы и длинные ряды аккуратно составленных корешков заметно меня успокоили. Среди запаха чернил и переплетов, среди пылинок, танцующих в лучах струящегося солнечного света, в объятиях теплой, безмятежной атмосферы мне словно стало легче дышать. Я ощутила, как пульс нормализовался, а мысли сложили крылья. В магазине было сумеречно — тем лучше; я высматривала любимые заголовки и авторов, как учитель, проводящий перекличку. Бронте — в наличии все три; Диккенс — присутствует; Шелли — несколько чудесных изданий. Ни к чему выдвигать книги с полок, достаточно знать, что они здесь, легонько гладить корешки кончиками пальцев.
Я бродила меж полок, про себя делала пометки, иногда задвигала торчащие книги на место и наконец вышла на свободное пространство в конце магазина. Посередине стоял стол с особой выкладкой, озаглавленной «Наши книги». На столе теснились исторические очерки, роскошные альбомы и произведения местных авторов: «Загадочные, мокрые и грязные дела», «Контрабандисты из Хокхерста», «Все о хмеле». В центре на деревянной подставке я увидела знакомую книгу: «Подлинная история Слякотника».
Ахнув, я схватила ее.
— Она вам нравится? — вдруг раздался голос.
Продавщица словно с неба свалилась и осталась маячить поблизости, складывая тряпку для вытирания пыли.
— О да, конечно, — благоговейно отозвалась я. — А кому она не нравится?
С «Подлинной историей Слякотника» я познакомилась в десять лет, когда пропускала школу из-за болезни. Кажется, я подхватила свинку, одну из тех детских болезней, из-за которых неделями сидишь взаперти, и, видимо, я становилась все более плаксивой и невыносимой, потому что сочувственная улыбка мамы сменилась стоически поджатыми губами. Как-то раз после недолгой вылазки на Хай-стрит она вернулась с обновленным оптимизмом и сунула мне в руки потрепанную библиотечную книгу.
— Возможно, это тебя подбодрит, — осторожно сказала она. — Пожалуй, это книга для ребят постарше, но ты умная девочка и справишься, если постараешься. Она довольно длинная по сравнению с тем, к чему ты привыкла, но терпение и труд все перетрут.
Наверное, я жалобно закашляла в ответ, отчасти сознавая, что мне предстоит переступить удивительный порог и возврат невозможен; что в моих руках — вещь, за скромным видом которой скрывается великая сила. У всех настоящих читателей есть подобная книга и подобный миг, и, когда мама протянула мне зачитанный библиотечный томик, мой миг наступил. Тогда я не знала этого, но после погружения в мир Слякотника реальная жизнь навсегда утратила способность конкурировать с вымыслом. Я глубоко благодарна мисс Перри за то, что она положила на стойку этот роман и уговорила мою раздраженную мать передать его мне, то ли перепутав меня с намного более взрослым ребенком, то ли заглянув мне в душу и увидев прореху, которая нуждалась в штопке. Я всегда предпочитала верить в последнее. В конце концов, священный долг библиотекарей — сводить книги с их настоящими читателями.
Открыв пожелтевшую обложку, я попала под чары с первой же главы, где описывалось пробуждение Слякотника в глянцевом черном рву и ужасный миг, когда забилось его сердце. Мои нервы натянулись до предела, кожа раскраснелась, пальцы тряслись от нетерпения, перелистывая одну за другой страницы с истончившимися уголками, за которые хватались бесчисленные читатели, предпринимавшие это путешествие до меня. Я посетила множество прекрасных и ужасных мест, и все это — не покидая застеленного дивана в комнате для завтрака пригородного дома моей семьи. Слякотник держал меня в плену много дней: мать снова начала улыбаться, мое распухшее лицо приняло прежние очертания, и мое будущее определилось.
Еще раз взглянув на написанную от руки табличку — «Наши книги», — я повернулась к сияющей продавщице.
— Раймонд Блайт — местный уроженец?
— О да. — Она заправила тонкие волосы за уши. — Самый что ни на есть. Жил и писал в замке Майлдерхерст, там же и умер. Это грандиозное поместье в нескольких милях от деревни. — В ее голосе появилась едва заметная грустная нотка. — По крайней мере, прежде грандиозное.
Раймонд Блайт. Замок Майлдерхерст. Мое сердце забилось что есть сил.
— А не было ли у него дочери?
— Целых три.
— Одну из них звали Юнипер?
— Да, самую младшую.
Я подумала о маме — ее из шеренги эвакуированных вытащила семнадцатилетняя девушка, которая вошла в церковный клуб, словно заряжая воздух электричеством, и которая послала в 1941 году письмо, заставившее маму полвека спустя рыдать при его получении. И внезапно мне захотелось на что-нибудь опереться.
— Все три до сих пор живы, — сообщила продавщица. — Мать говорит, не иначе как в замковую воду что-то подмешано. Старушки на зависть крепкие и бодрые. Не считая вашей Юнипер, конечно.
— А что случилось с ней?
— Сошла с ума. Полагаю, это семейное. Печальная история; по слухам, она была очень красива и к тому же умна, подавала большие надежды как писательница, но во время войны ее бросил жених, и она так и не оправилась. Повредилась в рассудке; ждала его возвращения, но он не вернулся.
Я открыла рот, чтобы выяснить, куда подевался ее жених, но продавщица уже оседлала конька и вряд ли собиралась отвечать на вопросы из зала.
— Хорошо, что сестры смогли за ней присматривать… вымирающая порода, эти двое; вечно участвовали в самой разной благотворительности… иначе бы ее отправили в известное заведение. — Она оглянулась, убедилась, что мы одни, и наклонилась ближе. — Помню, когда я была девочкой, Юнипер рыскала по деревне и полям; никому не досаждала, ничего такого, просто бесцельно бродила. Пугала местных детишек; но детям во все времена нравится пугаться, согласны?
Я энергично кивнула, и продавщица подвела итог:
— В общем, она была довольно безобидна и ни разу не нарвалась на серьезные неприятности. В конце концов, каждой порядочной деревне нужен местный чудак. — На ее губах задрожала улыбка. — Компания для призраков. Обо всем этом написано здесь.
И она показала мне книгу под названием «Майлдерхерст Раймонда Блайта».
— Хорошо, я возьму ее. — Я протянула десятифунтовую банкноту. — И еще экземпляр «Слякотника».
Я уже почти покинула магазин со свертком в коричневой оберточной бумаге, когда продавщица крикнула вслед:
— Знаете, если вам правда интересно, можете сходить на экскурсию!
— По замку? — обернулась я, вглядываясь в темные углы магазина.
— Вам нужна миссис Кенар. Частная гостиница в фермерском доме дальше по Тентерден-роуд.
Фермерский дом стоял в паре миль обратно по дороге: каменный коттедж, отделанный плиткой, в окружении обильно цветущих садов, из зелени робко выглядывают подсобные помещения. Линию крыши нарушали два маленьких слуховых окна; вокруг колпака высокой кирпичной трубы носилась стая белых голубей. Окна в свинцовых переплетах были распахнуты, впуская теплый день; ромбические стекла подслеповато щурились на полуденном солнце.
Я оставила машину под высоченным ясенем, под раскинутыми ветвями которого укрывался край коттеджа, и прошла сквозь согретые солнцем заросли: пьянящий жасмин, живокость и колокольчики, выплеснувшиеся на кирпичную тропинку. Мимо самодовольно проковыляла пара белых гусей, не удостоив меня даже взглядом, и я переступила порог тускло освещенной комнаты, оставив яркое солнце за спиной. Ближние стены были украшены черно-белыми фотографиями замка и его угодий, снятых, согласно подписям, в 1910 году для журнала «Кантри лайф». У дальней стены за стойкой с золотой табличкой «Администрация» ждала невысокая пухлая женщина в синем льняном костюме.
— Так-так, надо полагать, вы моя юная гостья из Лондона? — Она моргнула сквозь круглые очки в черепаховой оправе и улыбнулась моему замешательству. — Мне позвонила Элис из книжного и предупредила о вашем возможном визите. Смотрю, вы не тратили времени даром; Кенар думал, что вы приедете только через полчаса, не раньше.
Я взглянула на желтого кенара в роскошной клетке у нее за спиной.
— Ему пора обедать, но я сказала, что вы наверняка появитесь, едва я запру дверь и повешу табличку «Закрыто».
Она засмеялась, хриплый смешок поднялся из самых глубин ее горла. На вид ей было около шестидесяти, но этот смех принадлежал намного более молодой и озорной женщине, не той, какой она казалась с первого взгляда.
— Элис говорила, вас интересует замок.
— Так и есть. Я хотела сходить на экскурсию, и она послала меня сюда. Мне нужно где-нибудь записаться?
— Ну что вы, дорогуша, никаких формальностей. Я сама провожу экскурсии. — Ее облаченная в лен грудь горделиво выпятилась и снова опала. — То есть проводила.
— Проводили?
— О да, такое приятное занятие! Разумеется, сначала мисс Блайт проводили их сами; начиная с пятидесятых годов, чтобы собрать средства на содержание замка и обойтись без Национального треста…[6] мисс Перси не потерпела бы подобного, уверяю вас… но несколько лет назад это стало слишком утомительно. У каждого есть предел возможностей, и когда мисс Перси достигла своего предела, я с радостью приняла эстафету. Когда-то я проводила по пять экскурсий в неделю, но сейчас к нам редко заглядывают. Судя по всему, люди забыли старый замок.
Она с недоумением на меня уставилась, как будто я могла объяснить причуды человеческой натуры.
— Что ж, я бы охотно его осмотрела, — заметила я с радостью, надеждой и, возможно, капелькой отчаяния.
Миссис Кенар моргнула.
— Ну конечно, моя дорогая, и я бы не менее охотно показала его вам, но, боюсь, экскурсии больше не проводятся.
Разочарование было сокрушительным, на мгновение я лишилась дара речи, после чего с трудом выдавила:
— Вот как.
— Увы, но мисс Перси заявила, что передумала. Якобы она устала открывать свой дом невежественным туристам, которые только и умеют, что мусорить. Мне жаль, что Элис вас дезинформировала.
Она беспомощно пожала плечами, и между нами повисла напряженная тишина.
Я собралась было вежливо откланяться, но внезапно мне больше всего на свете захотелось побывать в замке Майлдерхерст, тем более что это стало запретным плодом.
— Просто… я обожаю Раймонда Блайта, — услышала я собственный голос. — Вряд ли я занялась бы издательским делом, если бы не прочла в детстве «Слякотника». Может быть… Может, вы замолвите за меня словечко, заверите владелиц, что я не из тех, кто станет мусорить в их доме?
— Ну… — Она задумчиво нахмурилась. — Замок действительно очень красив, и никто не гордится своим положением больше мисс Перси… Вы говорите, издательское дело?
Нечаянно я попала в самую точку: миссис Кенар принадлежала к поколению, для которого эти слова обладали очарованием в духе Флит-стрит,[7] несмотря на мой тесный, заваленный бумагами закуток и весьма отрезвляющие балансовые отчеты. Я уцепилась за эту возможность, как утопающий за спасательный плот.
— «Биллинг энд Браун бук паблишерс», Ноттинг-Хилл.
Я вспомнила о визитных карточках, которые Герберт подарил мне на скромной вечеринке в честь моего повышения. Мне и в голову не приходило носить их с собой, по крайней мере в деловых целях, но из них получались весьма удобные закладки, так что я обнаружила одну в «Джейн Эйр» — книге, которую я носила в сумке на случай, если придется стоять в очереди. Я протянула карточку, словно выигрышный лотерейный билет.
— Вице-председатель, — прочла миссис Кенар, разглядывая меня поверх очков. — Вот как.
В ее голосе появилась благоговейная нотка, и вряд ли у меня разыгралось воображение.
Она ковырнула уголок визитной карточки, поджала губы и решительно кивнула.
— Хорошо. Подождите минутку, пока я позвоню старушенциям. Возможно, мне удастся выбить у них разрешение на экскурсию сегодня днем.
Пока миссис Кенар тихонько ворковала в старомодную телефонную трубку, я уселась в обитое ситцем кресло и развернула бумажный сверток со своими новыми книгами. Я вынула роскошный экземпляр «Слякотника» и перевернула его. Мои слова о том, что знакомство с историей Раймонда Блайта так или иначе определило мою судьбу, были чистой правдой. Даже когда я просто держала книгу в руках, меня переполняло всеобъемлющее чувство точного понимания своего места в жизни.
Обложка нового издания ничем не отличалась от обложки той книги, которую мама взяла в библиотеке «Уэст-Барнс лайбрари» двадцать лет назад, и я улыбнулась своим мыслям, поклявшись купить бумажный пакет и отправить «Слякотника» в библиотеку, как только окажусь дома. Наконец-то я отдам долг двадцатилетней давности.
Дело в том, что когда моя свинка прошла и настала пора вернуть «Слякотника» мисс Перри, книга бесследно исчезла. Несмотря на все мамины старания и обвинения в мистификации, «Слякотник» так и не нашелся, даже на складе потерянных вещей у меня под кроватью. Когда все варианты были исчерпаны, меня отвели в библиотеку, чтобы честно признаться в содеянном. Бедная мама чуть не умерла от стыда, когда мисс Перри бросила на нее один из своих знаменитых испепеляющих взглядов, однако меня слишком грела восхитительная радость обладания, и мне было не до чувства вины. Первый и последний раз в жизни я совершила кражу, но это было неизбежно; просто мы с книгой принадлежали друг другу.
Трубка телефона миссис Кенар с пластмассовым щелчком упала на рычаг, и я подскочила в кресле. По напряженному лицу женщины стало ясно, что новости плохие. Я встала и захромала к стойке; затекшую левую ногу покалывало.
— К сожалению, одна из сестер Блайт сегодня нездорова, — сообщила миссис Кенар.
— Неужели?
— У младшей случился припадок, врач уже в пути.
Я постаралась скрыть разочарование. Совершенно неприлично переживать из-за сорвавшейся экскурсии, когда заболела пожилая дама.
— О боже! Надеюсь, ничего страшного?
Миссис Кенар отмахнулась от моего сочувствия, как от безобидного, но надоедливого насекомого.
— Уверена, она скоро поправится. Это не впервые. Она с детства страдает от приступов.
— Приступов?
— Они называют их «провалами в памяти». Она напрочь забывает, что случилось, обычно вследствие перевозбуждения. Как-то связано с необычным сердечным ритмом… не то слишком быстрым, не то слишком медленным, не знаю, но она часто отключается, а после пробуждения не помнит, что творила. — Миссис Кенар поджала губы, решив оставить прочие подробности при себе. — У старших сестер сегодня довольно хлопот и без вас, но им очень не хотелось отказывать. Они считают, что дому нужны гости. Забавные старушенции… если честно, я изрядно удивлена, ведь обычно они не слишком гостеприимны. Вероятно, им становится одиноко. Дом слишком велик для троих. Они предложили вам прийти завтра утром. Что скажете?
В моей груди встрепенулась тревога. Я не собиралась оставаться, и все же при мысли о том, чтобы уехать, не взглянув на замок изнутри, испытала внезапный прилив огорчения. Мир окутала пелена разочарования.
— Если угодно, у нас есть свободный номер — отменили заказ, — добавила миссис Кенар. — Ужин входит в стоимость.
У меня накопилась работа на выходные, Герберту нужна была машина для поездки в Виндзор завтра днем, и я не из тех, кто способен заночевать в незнакомом месте, повинуясь порыву.
— Хорошо, — согласилась я, — договорились.
Пока миссис Кенар заполняла бумаги, переписывая сведения с моей визитной карточки, я попросила разрешения удалиться, несколько раз вежливо хмыкнув, и направилась к открытой задней двери. Внутренний двор был образован стенами дома и других фермерских построек: амбара, голубятни и загадочного сооружения с конической крышей, как позже выяснилось — хмелесушильни. Посередине дремал круглый пруд; его согретую солнцем поверхность пересекала, царственно покачиваясь, пара толстых гусей. Поднятая птицами рябь набегала на выложенные плиткой берега. Позади пруда павлин изучал краешек подстриженной лужайки, отделявшей ухоженный внутренний двор от зарослей полевых цветов, уходивших к далекому парку. Я стояла в темной раме дверного проема, и залитый солнечным светом сад казался мне моментальным снимком с давно забытого и чудесным образом возрожденного весеннего дня.
— Великолепно, не правда ли? — произнесла миссис Кенар, внезапно очутившись у меня за спиной, хотя я не заметила ее приближения. — Вы слышали об Оливере Сайксе?
Я покачала головой, и она кивнула, радуясь возможности меня просветить:
— Он был архитектором, довольно известным в свое время. Ужасно эксцентричным. У него был собственный дом в Суссексе, Пембрук-Фарм. В начале двадцатого века, вскоре после того как Раймонд Блайт впервые женился и привез жену из Лондона, Оливер Сайкс работал в замке. Это была одна из последних работ Сайкса до того, как он исчез, отправившись в свой вариант гранд-турне. Он следил за созданием большой версии нашего круглого пруда, а также изрядно потрудился над рвом вокруг замка, превратив его в роскошную кольцевую купальню для миссис Блайт. Говорят, она была превосходной пловчихой, настоящей спортсменкой. Они сыпали туда… — Моя собеседница приставила палец к щеке и наморщила лоб. — Какой-то химикат… о господи, как бишь его? — Она убрала палец и крикнула: — Кенар?
— Медный купорос, — раздался бесплотный мужской голос.
Я снова взглянула на кенара, который искал на полу клетки семена, и обвела глазами увешанные фотографиями стены.
— Да-да, конечно, — ничуть не смутившись, продолжила миссис Кенар, — медный купорос, чтобы вода была лазурно-голубой. — Вздох. — Впрочем, с тех пор прошло немало времени. К сожалению, несколько десятков лет назад ров Сайкса засыпали, в его грандиозном кольцевом пруду плавают только гуси, в нем полно грязи и гусиного помета. — Она протянула тяжелый латунный ключ и сомкнула на нем мои пальцы. — Завтра мы прогуляемся к замку. Прогноз погоды хороший, со второго моста откроется чудесный вид. Давайте встретимся здесь в десять.
— У тебя завтра утром встреча со священником, дорогая, — вновь поплыл к нам терпеливый, словно обшитый деревянными панелями, голос.
На этот раз я определила его источник: небольшая дверца, спрятанная в стене за стойкой.
Миссис Кенар покусала губы, словно обдумывая это загадочное уточнение.
— Кенар прав. Ну надо же, какая жалость. — Вдруг она просияла. — Ерунда. Я оставлю вам инструкции, как можно скорее закончу дела в деревне и встречу вас у замка. Мы проведем там около часа. Не хочу обременять владелиц дольше, ведь все мисс Блайт очень старые.
— Часа вполне достаточно, — заверила я.
А к обеду я уже отправлюсь в Лондон.
Моя комната оказалась крошечной; посередине жадно раскинулась кровать под балдахином, под окном со свинцовым переплетом ютился узкий письменный стол — вот, собственно, и все. Зато вид оказался превосходным; комната располагалась в глубине дома, и окно выходило на тот самый луг, который я разглядывала через дверь внизу. С третьего этажа, однако, открывался лучший вид на холм, взбирающийся к замку, и на лес, над которым торчал шпиль башни, указующий в небо.
На столе кто-то оставил аккуратно сложенное клетчатое одеяло для пикника и приветственную корзинку с фруктами. День был теплым, пейзажи вокруг — очаровательными, так что я взяла банан, прихватила одеяло под мышку и спустилась в холл со своей новой книгой «Майлдерхерст Раймонда Блайта».
Воздух во дворе был пропитан сладким ароматом жасмина, крышу деревянной беседки на краю лужайки усеивали пышные белые цветы. Крупные золотые рыбки медленно плавали у поверхности пруда, подставляя пухлые бока полуденному солнцу. И все же я не стала задерживаться в этом раю — меня манила далекая полоска деревьев, и я побрела к ней по лугу, усыпанному лютиками, стихийно выросшими средь высокой травы. Хотя лето еще не наступило, день был теплым, а воздух сухим, и пока я добралась до деревьев, на лбу у меня выступили бисеринки пота.
Расстелив одеяло в кружевной тени, я сбросила туфли. Где-то неподалеку по камням журчал мелкий ручеек, бабочки парили на ветру. Одеяло умиротворяюще пахло мыльными хлопьями и раздавленными листьями. Когда я села, высокие луговые травы закрыли меня с головой, и я словно очутилась в полном одиночестве.
Прислонив «Майлдерхерст Раймонда Блайта» к согнутым коленям, я провела ладонью по обложке. На ней под разными углами были разбросаны черно-белые фотоснимки, словно выпавшие из чьей-то руки. Красивые дети в старомодных платьицах, давние пикники у сверкающего пруда, шеренга пловцов, позирующих у рва; серьезные взгляды людей, для которых возможность перенести жизнь на фотобумагу была сродни волшебству.
Я открыла первую страницу и погрузилась в чтение.
Глава 1
ЧЕЛОВЕК ИЗ КЕНТА
«Иные говорили, что Слякотник никогда не рождался, что он существовал всегда, подобно ветру, деревьям и земле, но они ошибались. Все живые существа рождаются, у всех живых существ есть дом, и Слякотник не был исключением».
Некоторым авторам художественная литература дает шанс покорить неведомые горы и выплеснуть на бумагу великие просторы фантазии. Для Раймонда Блайта, однако, в отличие от большинства романистов его времени надежным, плодотворным и фундаментальным источником вдохновения как в жизни, так и в работе стал родной дом. Письма и статьи, написанные им за семьдесят пять лет, отражают одну и ту же тему. Да, Раймонд Блайт определенно был домоседом. Участок земли, который его предки веками называли своим, стал для него местом отдохновения, убежищем и в конечном счете религией. Редко когда дом писателя служил литературным целям столь недвусмысленно, как в готическом романе для юношества «Подлинная история Слякотника». Но еще до этой эпохальной работы замок, гордо высящийся на плодородном холме среди зеленого Уилда[8] Кента, пахотные земли, дремучие говорливые леса и прелестные сады, на которые по-прежнему выходят окна замка, сумели сделать Раймонда Блайта тем, кем он стал.
В жаркий летний день 1866 года в замке Майлдерхерст в комнате на третьем этаже родился Раймонд Блайт. Первенец Роберта и Афины Блайт, он был назван в честь дедушки по отцовской линии, сколотившего состояние на канадских золотых приисках. Раймонд был старшим из четырех братьев, младший из которых, Тимоти, трагически погиб во время ужасной грозы в 1876 году. Афина Блайт, довольно известная поэтесса, не вынесла смерти младшего сына и, по слухам, вскоре после похорон погрузилась в тяжелую депрессию, из которой не было возврата. Она покончила с собой, бросившись с башни Майлдерхерста, оставив мужа, поэзию и трех маленьких сыновей.
На соседней странице была помещена фотография красивой женщины с замысловато уложенными темными волосами, которая смотрела из открытого окна со средником[9] на головки четырех маленьких мальчиков, построенных по росту. Датированный 1875 годом снимок был белесым, что характерно для ранних любительских фотографий. Младший мальчик, Тимоти, должно быть, пошевелился во время съемки, потому что его улыбающееся лицо было размыто. Бедняжка, он понятия не имел, что ему оставалось жить всего несколько месяцев.
Я пролистала еще несколько абзацев… замкнутый викторианский отец, отъезд в Итон, учеба в Оксфорде… и наконец Раймонд Блайт повзрослел.
Закончив Оксфорд в 1887 году, Раймонд Блайт перебрался в Лондон и приступил к литературной деятельности в качестве сотрудника журнала «Панч». За следующие десять лет он опубликовал десять пьес, два романа и подборку детских стихотворений, хотя из его писем становится ясно, что, несмотря на профессиональные достижения, он не был счастлив в Лондоне и тосковал по плодородной сельской местности своего детства.
Не исключено, что городская жизнь стала для Раймонда Блайта относительно сносной лишь в 1895 году, после его брака с мисс Мюриель Палмерстон — «самой прелестной дебютанткой года», окруженной множеством поклонников. Несомненно, в тот период его письма выдают значительный подъем духа. Раймонда Блайта и мисс Палмерстон свел вместе общий знакомый, и все были единогласны: они замечательно подходят друг другу. Оба любили свежий воздух, словесные игры и фотографию и составляли очаровательную пару, не раз украшавшую страницы светской хроники.
После смерти отца в 1898 году Раймонд Блайт унаследовал замок Майлдерхерст и вернулся в него с Мюриель, чтобы зажить собственным домом. Многочисленные очевидцы свидетельствуют, что пара давно мечтала о детях, и к моменту переезда в Майлдерхерст Раймонд Блайт вполне открыто выражал в своих письмах тревогу относительно того, что до сих пор не стал отцом. Однако это счастье сторонилось супругов еще несколько лет; в 1905 году Мюриель Блайт призналась в письме матери, что испытывает мучительный страх — неужели им с Раймондом будет отказано в «завершающем благословении детьми»? А через четыре месяца она вновь написала матери и с огромной радостью и, вероятно, немалым облегчением сообщила, что ждет ребенка. Как позже оказалось — детей, поскольку после тяжелой беременности, включающей продолжительный период вынужденного постельного режима, в январе 1906 года Мюриель успешно разрешилась от бремени девочками-двойняшками. Письма Раймонда Блайта к его братьям позволяют предположить, что это было самое счастливое время в его жизни, и семейные альбомы полны фотографических подтверждений его отцовской гордости.
На следующем развороте я увидела множество фотографий двух маленьких девочек. Хотя они явно были очень похожи, одна была ниже и тоньше и улыбалась чуть менее уверенно, чем ее сестра. На последнем снимке мужчина с волнистыми волосами и добрым лицом сидел в мягком кресле и держал на коленях двух малышек в кружевах. Нечто в его облике — возможно, сияние глаз или ласковое прикосновение рук к плечам девочек — выдавало глубокое чувство к двойняшкам, и, приглядевшись как следует, я поняла, какая редкость — фотография той эпохи, на которой отец запечатлен с дочерьми так просто и по-домашнему. Мое сердце согрела симпатия к Раймонду Блайту, и я продолжила чтение.
Однако счастью не суждено было длиться долго. Мюриель Блайт погибла зимним вечером 1910 года, когда раскаленный уголек из камина, у которого она сидела, перелетел через экран и упал на колени. Шифон платья мгновенно вспыхнул, ее охватило пламя прежде, чем подоспела помощь; пожар поглотил восточную башню замка Майлдерхерст и обширную библиотеку семьи Блайт. Все тело миссис Блайт было покрыто ожогами, и хотя ее заворачивали в мокрые бинты и лечили лучшие врачи, через месяц она скончалась от ужасных ран.
Горе Раймонда Блайта из-за смерти жены было таким безбрежным, что за несколько последующих лет он не напечатал ни слова. В одних источниках утверждается, что он стал жертвой творческого кризиса, в других — что он замуровал свой кабинет и отказывался писать, вскрыв его только для работы над своим прославленным ныне романом «Подлинная история Слякотника», рожденным в порыве вдохновения в 1917 году. Несмотря на популярность «Слякотника» прежде всего у юных читателей, многие критики усматривают в романе аллегорию Первой мировой войны, во время которой множество солдат полегло на глинистых полях Франции; в частности, проводятся параллели между главным героем и демобилизованными солдатами, пытающимися вернуться домой к своим семьям после кошмарной резни. Сам Раймонд Блайт был ранен во Фландрии в 1916 году, после чего вернулся в Майлдерхерст, где его поставили на ноги частные сиделки. Попытки выведать настоящее имя Слякотника, этого забытого существа, его должность и место в истории также считаются данью бесчисленным неизвестным солдатам Первой мировой, а бесплотность этих попыток объясняется тем, что после возвращения с войны Раймонд Блайт будто бы выпал из жизни.
Несмотря на огромный объем исследований, посвященных данному вопросу, подлинный источник вдохновения автора «Слякотника» остается неизвестным; Раймонд Блайт проявлял удивительную скрытность насчет происхождения романа, утверждая лишь, что его «посетила муза», что книга была «подарком» и возникла сразу целиком. Возможно, именно поэтому «Подлинная история Слякотника» — один из крайне немногочисленных романов, которые сумели привлечь и удержать интерес читателей и достигли почти легендарной значимости. Литературоведы множества национальностей продолжают яростно спорить о том, что именно вдохновило автора «Слякотника» и оказало на него влияние, но это по-прежнему остается одной из самых неподдающихся литературных загадок двадцатого века.
«Литературная загадка». Я тихо повторила эти слова, и по моей спине пробежал холодок. Я любила «Слякотника» за оригинальный сюжет и чувства, которые пробуждала во мне вязь повествования, а узнав, что сочинение романа окружено тайной, полюбила его еще больше.
Хотя Раймонд Блайт был состоявшимся писателем, невероятный успех «Подлинной истории Слякотника» у критиков и читателей затмил его предыдущие произведения, и он навсегда стал создателем любимого романа нации. В 1924 году по «Слякотнику» была поставлена пьеса в одном из театров лондонского Уэст-Энда, после чего его популярность еще возросла, однако, несмотря на постоянные просьбы читателей, Раймонд Блайт отказывался писать продолжение. Первое издание романа было посвящено его дочерям-двойняшкам, Персефоне и Серафине, в дальнейших изданиях была добавлена еще одна строчка с инициалами двух его жен: М. Б. и О. С.
Дело в том, что одновременно с профессиональным триумфом расцвела и личная жизнь Раймонда Блайта. В 1919 году он женился на Одетте Сильверман, которую встретил на приеме в Блумсбери, устроенном леди Лондондерри. Несмотря на скромное происхождение, талант арфистки стал для мисс Сильверман пропуском на светские мероприятия, которые иначе наверняка остались бы для нее недоступными. Помолвка была недолгой, и брак вызвал небольшой светский скандал в связи с возрастом жениха и юностью невесты — ему перевалило за пятьдесят, а ей было восемнадцать, всего на пять лет больше, чем его дочерям от первого брака, — а также в связи с разницей их происхождения. Ходили слухи, что Раймонда Блайта приворожили — красотой и юностью Одетты Сильверман. Пара обвенчалась в часовне Майлдерхерст, открытой впервые после похорон Мюриель Блайт.
В 1922 году Одетта родила дочь. Малышку окрестили Юнипер; на множестве фотографий, сохранившихся с того времени, ее красота несомненна. Несмотря на шутливые замечания о затянувшемся отсутствии сына и наследника, из писем Раймонда Блайта ясно, что он был рад прибавлению в семействе. Увы, его счастье оказалось недолгим; грозовые тучи уже сгущались на горизонте. В декабре 1924 года Одетта умерла от осложнений в самом начале второй беременности.
Я поспешно перевернула страницу и увидела два снимка. На первом Юнипер Блайт, вероятно, было годика четыре. Она сидела, вытянув перед собой босые ноги и скрестив лодыжки. По лицу было ясно, что ее застали врасплох в момент одиноких раздумий, чему она вовсе не рада. Она смотрела прямо в камеру миндалевидными глазами, расставленными чуть широковато. На фоне чудесных светлых волос, россыпи веснушек вокруг курносого носа и раздраженно надутых губок казалось, что в глазах ее таятся недетские познания.
На следующем снимке Юнипер была уже девушкой. Годы, казалось, пролетели незаметно, и те же самые кошачьи глаза смотрели в камеру со взрослого лица. Лица удивительной, но странной красоты. Я вспомнила рассказ матери о том, как деревенские женщины расступились при появлении Юнипер, словно она принесла с собой особую атмосферу. Глядя на фотографию, я без труда могла вообразить эту сцену. Юнипер была пытливой и замкнутой, отрешенной и сведущей одновременно. Отдельные черты, намеки и проблески эмоций и интеллекта складывались в неотразимое целое. В поисках даты я прочла сопутствующий текст — апрель 1939 года. В том самом году с ней познакомилась моя двенадцатилетняя мать.
После смерти второй жены Раймонд Блайт, по свидетельству очевидцев, заперся в своем кабинете. Однако он больше не опубликовал ничего примечательного, не считая пары-тройки коротеньких отзывов в «Таймс». Хотя перед смертью Блайт работал над неким проектом, это был, вопреки общим надеждам, не новый «Слякотник», а многословный научный трактат о нелинейной природе времени, развивающий собственные теории автора, знакомые читателям «Слякотника», о способности прошлого проникать в будущее. Работа так и не была завершена.
В последние годы жизни здоровье Раймонда Блайта неуклонно ухудшалось, и он решил, что это Слякотник из его знаменитого романа стал призраком и теперь преследует и мучает его — вполне естественный, хоть и необычный страх, учитывая вереницу трагических событий, погубивших множество дорогих его сердцу людей, который охотно разделяют гости замка. Принято считать, что старинный замок изобилует леденящими кровь историями. И неудивительно, что всеми любимая книга, такая как «Подлинная история Слякотника», события которой разыгрываются в этих самых стенах, породила подобные теории.
В конце тридцатых Раймонд Блайт обратился в католицизм и в последние годы отказывался кого-либо видеть, кроме своего священника. Писатель умер в пятницу четвертого апреля 1941 года, упав с башни Майлдерхерст — та же участь постигла его мать на шестьдесят пять лет раньше.
В конце главы имелась еще одна фотография Раймонда Блайта. Она разительно отличалась от первой — улыбающегося молодого отца с парой пухлых двойняшек на коленях, — и пока я изучала ее, мне живо припомнился разговор с Элис в книжном магазине. В особенности ее предположение, что психическая неустойчивость, поразившая Юнипер Блайт, коренилась у нее в крови. Ведь в этом человеке, этой версии Раймонда Блайта, не было ни капли простоты и довольства, которые так бросались в глаза на первом снимке. Напротив, казалось, его терзает беспокойство: глаза насторожены, губы поджаты, подбородок напряжен. Фотография датирована 1939 годом, Раймонду было семьдесят три, но чем дольше я смотрела, тем больше укреплялась в мысли, что не только возраст прочертил глубокие морщины на его лице. Во время чтения я решила, что биограф упомянула о призраках в переносном смысле, однако теперь поняла — это не так. Лицо человека на снимке было маской застарелой душевной муки, полной страха.
Вокруг сгустились сумерки, заполнив низины и леса поместья Майлдерхерст, прокравшись на поля и поглотив свет. Фотография Раймонда Блайта растворилась в темноте, и я закрыла книгу. Но не ушла. Еще не время. Вместо этого я обернулась и вгляделась в прореху меж деревьев, где на вершине холма стоял замок, черная громада на фоне темно-синего неба. Я трепетала при мысли, что завтра утром переступлю его порог.
В тот день обитатели замка обрели для меня плоть; они просочились мне под кожу, пока я читала книгу, и теперь мне казалось, что я знаю их целую вечность и нахожусь в деревне Майлдерхерст по праву, хотя попала сюда случайно. То же самое я испытывала, когда впервые читала «Грозовой перевал», «Джейн Эйр» и «Холодный дом». Как будто история уже была мне знакома, будто подтверждала мои давние подозрения о мире, будто ждала меня всегда.
Путешествие сквозь скелет сада
До сих пор, закрывая глаза, я вижу сверкающее утреннее небо начала лета: солнце кипит под прозрачной синей пленкой. Наверное, оно запечатлелось в моей памяти, поскольку в следующий раз я увидела Майлдерхерст только через несколько месяцев, когда сады, леса и поля облачились в металлические цвета осени. Однако в тот в день все было иначе. Я отправилась в Майлдерхерст, помахивая подробными инструкциями миссис Кенар; в груди трепетало давно подавленное желание. Мир возродился к жизни: пение птиц окрасило воздух, гудение пчел сгустило его, а теплое-теплое солнце тянуло вверх по холму прямо к замку.
Дорога все не кончалась, и я уже начала опасаться, что совсем заблудилась в бесконечной роще, когда прошла через заржавленные ворота и оказалась перед заброшенным прудом для купания, большим и круглым, по меньшей мере тридцати футов в диаметре. Я сразу поняла, что это тот самый пруд, о котором упоминала миссис Кенар, — пруд, сконструированный Оливером Сайксом в то время, когда Раймонд Блайт привез в замок свою первую жену. Разумеется, водоем во многом походил на своего меньшого брата рядом с фермерским домом, однако отличия так и бросались в глаза. Пруд миссис Кенар весело блестел на солнце, ухоженная лужайка вокруг ластилась к его выложенным песчаником берегам, а этот пруд давно был заброшен. Его каменная оправа покрылась мхом и растрескалась, и теперь пруд окаймляли калужница и поповник, желтые личики которых соперничали за пятна света. Вода густо заросла кувшинками, листья которых накладывались друг на друга; теплый ветерок волновал всю поверхность, словно шкуру огромной чешуйчатой рыбы, экзотического чудовища из тех, чей рост ничто не сдерживает.
Дна пруда видно не было, но я догадывалась о его глубине. На дальней стороне имелся трамплин для прыжков; деревянная доска выцвела и растрескалась, пружины проржавели; казалось, все сооружение держится лишь на честном слове. К ветке огромного дерева двойными веревками были привязаны качели, ныне усмиренные множеством колючих побегов, которые оплели их снизу доверху.
Колючки, кстати, не ограничились веревками, они немало повеселились, необузданно разрастаясь на странной заброшенной поляне. За путаницей жадной зелени я разглядела небольшое кирпичное здание, вероятно кабинку для переодевания, заостренная крыша которой едва пробивалась сквозь заросли. Дверь была заперта на висячий замок, механизм совершенно проржавел, а окна, когда я обнаружила их, оказались покрыты толстым слоем грязи, которую не получалось стереть. Однако с задней стороны стекло было разбито, на самом остром осколке торчал серый клок шерсти, так что можно было заглянуть внутрь. Конечно, я не упустила этой возможности.
Пыль, такая густая, что я ощущала ее запах, десятилетия пыли, одеялом укутавшей пол и все остальное. Солнце неравномерно струилось сквозь застекленную крышу, часть деревянных ставней исчезла, часть еще висела на петлях, часть валялась на полу. Пылинки проникали сквозь щели и вились по спирали в лучах стреноженного света. Ряд полок был забит сложенными полотенцами, чей изначальный цвет невозможно было угадать; на элегантной двери в задней стене висела табличка: «Кабинка для переодевания». Завеса из паутины взволнованно трепетала рядом со штабелем шезлонгов, хотя ее трепета давным-давно никто не замечал.
Внезапно устыдившись шороха палой листвы под ногами, я отступила. Поляну пронизывал необъяснимый покой, хотя кувшинки все же тихо шелестели. На долю секунды я представила это место новым, накинула тонкое покрывало жизни на нынешнее небрежение: смеющиеся люди в старомодных купальных костюмах, расстилающие полотенца, потягивающие напитки, ныряющие с трамплина, раскачивающиеся над самой поверхностью прохладной, ах, такой прохладной воды…
Затем видение исчезло. Я моргнула и вновь очутилась одна рядом с заросшим зданием. И неясным ощущением безымянного горя. Почему этот пруд заброшен? Почему его давнишние обитатели отказались от него, заперли на замок, исчезли и больше не вернулись? Три мисс Блайт не всегда были старыми леди. За столько лет, проведенных в замке, наверняка выдавались жаркие летние деньки, идеальные для купания в подобном пруду.
Я узнаю ответы на свои вопросы, хотя и не сразу. Узнаю и другие секреты, и ответы на те вопросы, которые пока даже не пришли мне в голову. Но тогда все это было впереди. Стоя в дальнем саду замка Майлдерхерст в то утро, я с легкостью отринула раздумья и сосредоточилась на насущной задаче. Исследование пруда не только не приблизило меня к встрече с мисс Блайт — меня преследовало чувство, что мне вообще не следует находиться на этой поляне.
Я внимательно перечитала инструкции миссис Кенар. Как я и предполагала, ни слова о пруде. Согласно указаниям, я сейчас должна была приближаться к южному фасаду, проходя между парой величественных колонн.
На дно желудка медленно опустился камешек страха.
Передо мной не южная лужайка. Здесь нет никаких колонн.
Это открытие сильно беспокоило меня, хотя я ничуть не удивилась, что заблудилась, — я способна заблудиться даже в Гайд-парке. Время поджимало, и мне оставалось только два варианта: вернуться по своим следам и начать заново или идти дальше и надеяться на лучшее. На противоположной стороне пруда имелись ворота, за ними — крутая каменная лестница, врезанная в заросший склон холма. Минимум сто продавленных ступеней, от каждого шага по которым словно все сооружение издает оглушительный вздох. Направление, однако, показалось мне многообещающим, и я начала подъем. Я решила прибегнуть к логике: замок и сестры Блайт находятся наверху, то есть если все время подниматься, то рано или поздно я найду их.
Сестры Блайт. Наверное, примерно в это время я начала думать о них подобным образом; «сестры» встали перед «Блайт», как «братья» перед «Гримм», и я ничего не сумела поделать. Как забавно устроен мир. До письма Юнипер я никогда не слышала о замке Майлдерхерст, а теперь меня тянуло к нему, словно маленького блеклого мотылька на яркий полыхающий огонь. Разумеется, сначала все вертелось вокруг моей мамы, неожиданного известия о ее эвакуации, загадочного замка с готическим названием. Затем появилась связь с Раймондом Блайтом — ради всего святого, это то самое место, где «Слякотник» появился на свет! Позже, подлетев ближе к пламени, я поняла, что мою кровь будоражит нечто новое. Должно быть, дело в прочитанной книге или в биографических сведениях, которыми меня засыпала миссис Кенар за завтраком в то утро, однако в какой-то момент меня заворожили сестры Блайт сами по себе.
Должна заметить, меня в принципе интересуют братья и сестры. Их близость интригует и отталкивает меня. Общность генетических составляющих, случайное и порой несправедливое распределение наследства, нерушимость связи. Сама я мало смыслю в природе этой связи. Когда-то у меня был брат, но недолго. Он умер прежде, чем я узнала его, и к тому времени, когда я научилась по нему тосковать, оставленные им следы были аккуратно уничтожены. Пара свидетельств — о рождении и смерти — в тонкой папке в шкафу; маленькая фотография в бумажнике отца, еще одна в маминой шкатулке для драгоценностей — вот и все, что продолжало существовать и говорило: «Я был здесь!» Конечно, не считая воспоминаний и сожалений, таившихся в сердцах родителей, но ими они со мной не делились.
Я не пытаюсь пробудить в вас неловкость или жалость; просто хочу объяснить, что, несмотря на почти полное отсутствие сведений или памятных вещиц, способных воскресить образ Дэниела, я всю жизнь ощущала эту связь между нами. Незримая нить соединяла нас так же верно, как день связан с ночью. Так было всегда, даже в детстве. Хотя я была рядом с родителями, а он нет. Невысказанные их слова всякий раз, когда мы были счастливы: «Как жаль, что он не с нами»; всякий раз, когда я разочаровывала их: «Он бы так не поступил»; всякий раз, когда начинался новый школьный год: «Это были бы его одноклассники, те взрослые ребята». Отсутствующие взгляды, которые я ловила порой, когда родители думали, что рядом никого нет.
Не то чтобы мой интерес к сестрам Блайт был связан с Дэниелом. По крайней мере, не напрямую. Но их история была такой красивой: две старшие сестры отказались от личной жизни и посвятили себя заботам о младшей, ее разбитом сердце, потерянной душе, отвергнутой любви. Я задалась вопросом, как могла бы сложиться моя судьба, был бы Дэниел достоин того, чтобы я посвятила жизнь его защите, или нет. Понимаете, я не переставала размышлять об этих сестрах, трех женщинах, связанных вместе. Стареющих, блекнущих, коротающих дни в доме предков, последних живых членах знаменитой и романтической семьи.
Я осторожно карабкалась все выше и выше, мимо повидавших виды солнечных часов, мимо ряда терпеливых урн на безмолвных постаментах, мимо пары каменных оленей, глядящих через заброшенные живые изгороди, пока наконец не достигла вершины. Аллея искривленных фруктовых деревьев, сплетенных ветвями, уходила вдаль и звала меня за собой. Помнится, в то первое утро я подумала, что у сада есть план; словно ему отдали приказ, и он ждет меня, не дает заблудиться, ненавязчиво указывает дорогу к замку.
Сентиментальные глупости, конечно. Могу лишь предположить, что от крутого подъема у меня закружилась голова, и возникли патетические мысли. Как бы то ни было, я испытывала воодушевление. Я была неутомимой путешественницей (хотя изрядно вспотевшей), которая, покинув привычный мир, отправилась в путь с целью завоевать… ну, что-нибудь завоевать. И неважно, что дорога вела меня к трем старым леди и экскурсии по загородному дому, максимум — чашке чая, если повезет.
Как и пруд, эта часть сада долго пребывала в небрежении, и сводчатый тоннель показался мне древним скелетом давно умершего огромного чудовища. Гигантские ребра клеткой возвышались над головой, а длинные прямые тени создавали иллюзию, что эти ребра замыкаются у меня под ногами. Я почти добежала до конца аллеи и застыла как вкопанная.
Передо мной стоял замок Майлдерхерст, окутанный тенью, хотя день был солнечным. Это явно были задворки замка, и я нахмурилась, отмечая хозяйственные постройки, водопроводные трубы и полное отсутствие колонн, лужайки при входе и подъездной дорожки.
Наконец я поняла, как именно заблудилась. Я умудрилась пропустить ранний поворот и в результате обогнула извилистый склон холма, подойдя к замку с севера, а не с юга.
Впрочем, все хорошо, что хорошо кончается; я добралась до замка относительно благополучно, и наверняка еще не слишком опоздала. Более того, вдоль стены, что огораживала сады, виднелась ровная полоса сорной травы. Я пошла по ней и вскоре под звуки победоносных фанфар наткнулась на колонны миссис Кенар. За южной лужайкой, в полном соответствии с инструкцией, тянулся к небу фасад замка Майлдерхерст.
Тихое, размеренное бремя лет, которое я ощутила, поднимаясь по саду, сгустилось здесь еще больше и оплетало замок, подобно паутине. Здание обладало невероятным изяществом и явно не замечало моего вторжения. Пробуравленные подъемные окна смотрели мне за спину, в сторону Ла-Манша, с усталым неизменным выражением, которое обострило мое чувство собственной обыденности и мимолетности; величественное здание явно повидало на своем веку слишком много, чтобы обращать на меня внимание.
Стая скворцов взлетела с дымовых труб, сделала круг и умчалась в долину, приютившую дом миссис Кенар. Шум и движение показались мне странно неуместными.
Я проследила за птицами, которые, едва не касаясь верхушек деревьев, неслись к крошечным крышам, крытым красной черепицей. Фермерский дом казался таким далеким, что меня охватило безумное подозрение, будто во время подъема по лесистому склону я пересекла невидимую черту. Я была там, но теперь я здесь, и случилось нечто более сложное, нежели обычное перемещение в пространстве.
Вновь повернувшись к замку, я обнаружила, что большая черная дверь в нижней арке башни широко распахнута. Странно, что я не заметила этого прежде.
Пройдя через траву, я достигла парадной каменной лестницы и замерла. Рядом с потрепанной мраморной борзой сидел ее потомок из плоти и крови, черный пес, как я позже узнала — лерчер.[10] Похоже, он наблюдал за мной все время, что я провела на лужайке.
Теперь он встал, загородив мне дорогу и пристально изучая меня своими темными глазами. Я была не в силах тронуться с места. У меня участилось дыхание, по спине пробежал холодок. Однако я не боялась. Трудно объяснить, но пес будто был перевозчиком или старомодным дворецким. Я нуждалась в его разрешении на вход.
Он бесшумно двинулся ко мне, не сводя с меня глаз. Легонько коснулся кончиков пальцев, развернулся и умчался прочь. Исчез в открытой двери, даже не оглянувшись.
Словно поманил за собой.
Вы когда-нибудь задумывались, чем пахнет время? Вряд ли это приходило мне в голову до того, как я ступила в замок Майлдерхерст, но теперь я знаю точно. Плесенью и аммиаком, ноткой лаванды и изрядным количеством пыли, массовым распадом очень старых листов бумаги. И под всем этим таится что-то еще, почти гнилое или прокисшее, но не совсем. Я не сразу разобрала, что это за запах, однако теперь как будто поняла. Это прошлое. Медленно зреющие в затхлом воздухе мысли и мечты, надежды и обиды, уваренные вместе и неспособные рассеяться.
— Добрый день, — произнесла я, поднявшись по широкой каменной лестнице и ожидая ответного приветствия.
Через пару минут, когда никто так и не отозвался, я повторила уже громче:
— Добрый день! Есть кто-нибудь дома?
Миссис Кенар велела сразу проходить: мол, сестры Блайт ждут нас и мы встретимся уже в замке. Вообще-то она всеми силами постаралась внушить, что не следует стучать, звонить или иным способом извещать о своем появлении. Я смутилась, поскольку в наших краях входить без стука — почти то же самое, что нарушать границы частной собственности, но выполнила просьбу: прошла по каменной галерее через сводчатый проем в круглую комнату. В комнате не было окон, и царил полумрак, несмотря на высокий купольный потолок. Шум привлек мое внимание к закругленной вершине купола — там сквозь балки пролетела белая птица и теперь парила в пыльном луче света.
— Ну хорошо.
Голос раздался слева; я быстро повернулась и увидела очень старую женщину, стоящую в дверном проеме примерно в десяти футах от меня, с лерчером у ног. Женщина была худой, высокой, одетой в твидовый костюм и рубашку почти мужского покроя. Годы стерли ее женственность, любые изгибы, которые она когда-то имела, давно разгладились. Волосы на лбу поредели, вокруг ушей торчала жесткая седая поросль; овальное лицо было настороженным и умным. Я заметила, что ее брови почти целиком выщипаны, а затем нарисованы снова штрихами цвета запекшейся крови. Эффект получился драматичным, хотя и немного зловещим. Она чуть наклонилась вперед, опираясь на элегантную трость с рукояткой из слоновой кости.
— Полагаю, вы мисс Берчилл.
— Да. — Я подошла ближе и протянула руку; у меня внезапно перехватило дыхание. — Эдит Берчилл. Добрый день.
Холодные пальцы чуть сжали мои; кожаный ремешок часов хозяйки бесшумно скользнул на запястье.
— Мэрилин Кенар из фермерского дома предупредила о вашем визите. Меня зовут Персефона Блайт.
— Огромное спасибо, что согласились встретиться со мной. С тех пор как я услышала о замке Майлдерхерст, мне не терпелось заглянуть в него.
— Неужели? — Резкий изгиб губ; улыбка, кривая, как шпилька для волос. — Любопытно, почему?
Конечно, это было самое подходящее время, чтобы рассказать о маме, о письме, о маминой эвакуации в детстве. Увидеть, как лицо Перси Блайт загорится узнаванием; во время прогулки обменяться новостями и историями о былом. Ничто не могло быть более естественным, и потому я несколько удивилась словам, вылетевшим из моих уст;
— Я прочла о нем в книге.
Она издала звук, нечто вроде «А!», но менее заинтересованно.
— Я много читаю, — быстро добавила я, будто правдивое уточнение могло смягчить мою ложь. — Просто обожаю книги. Работаю с ними. Книги — моя жизнь.
От такого беззубого ответа ее морщинистое лицо поникло окончательно, и неудивительно. Даже главная ложь была весьма унылой, а дополнительные подробности биографии — и вовсе бессодержательными. Понятия не имею, почему я просто не поведала правду: она была бы намного занимательней, не говоря уже о том, что честнее. Возможно, дело в безрассудном ребяческом желании сохранить независимость, чтобы приезд моей матери сюда полвека назад никак не связывали с моим визитом. Как бы то ни было, я открыла рот, собираясь пойти на попятный, но было уже поздно: Перси Блайт поманила меня за собой и вместе с лерчером скрылась в темном коридоре. Ее походка была размеренной, шаги легкими, а трость казалась всего лишь данью немалому возрасту.
— Во всяком случае, мне нравится ваша пунктуальность, — донесся до меня ее голос. — Терпеть не могу опозданий.
Мы продолжили путь в тишине, становившейся все более и более глубокой. С каждым шагом звуки внешнего мира бесповоротно оставались позади: деревья, птицы, далекое журчание неведомого ручья. Звуки, которых я прежде не замечала, исчезнув, оставили странное разреженное пространство, настолько невыносимое, что пустоту заполнил звон в ушах, словно шипение детей, играющих в змей.
Впоследствии я ближе познакомлюсь с этой странной обособленностью замка, с тем, как звуки, запахи и образы, кристально чистые снаружи, словно застревают в старом камне, не в силах пробурить дорогу внутрь. Как будто за столетия пористый песчаник переполнился, пленив былые впечатления, словно цветы, забытые в страницах книг девятнадцатого века, воздвигнув преграду между внешним и внутренним миром, ныне нерушимую. Свежий воздух приносил шепотки лютиков и свежескошенной травы, но внутри замка пахло только копящимся временем, землистым затаенным дыханием столетий.
Мы прошли мимо множества дразнящих закрытых дверей, пока наконец не встретили открытую в дальнем конце коридора, который дальше заворачивал за угол и исчезал во мраке. Из-за двери протянулась полоска света, напоминавшая улыбку. Улыбка превратилась в оскал, когда Перси Блайт толкнула дверь тростью.
Она отступила назад и резко кивнула, давая понять, что я должна войти первой.
За дверью скрывалась гостиная, составлявшая разительный приятный контраст с сумеречным, обшитым дубовыми панелями коридором. Желтые обои комнаты, прежде, по-видимому, ослепительно яркие, со временем выцвели, узор завитков застыл в безразличной апатии, а огромный ковер розового, голубого и белого цветов, не то потертый, не то изначально блеклый, простирался почти до самых плинтусов. Напротив камина, украшенного замысловатой резьбой, находился обитый тканью диван, необычайно длинный и низкий, хранивший отпечатки тысяч тел и оттого казавшийся еще более удобным. Рядом стояла швейная машинка «Зингер» с недошитым отрезом синей ткани.
Лерчер прошлепал мимо меня и элегантно улегся на овечьей шкуре у подножия огромной расписной ширмы, которой, казалось, лет двести, не меньше. На ширме была изображена сценка с собаками и молодыми петушками; оливковые и коричневые краски переднего плана выцвели и приобрели единый блеклый оттенок, небо на заднем плане навеки погрузилось в сумерки. Часть росписи за лерчером почти стерлась.
Рядом за круглым столиком сидела женщина одного возраста с Перси, низко склонив голову над листом бумаги — островком в море разбросанных фишек «Скрабла». На ней были большие очки для чтения. При виде меня она смущенно сняла очки, убрала в потайной карман длинного шелкового платья и поднялась. Ее глаза оказались серо-голубыми, а брови самыми обыкновенными, ни изогнутыми, ни прямыми, ни короткими, ни длинными. Ее ногти, однако, были выкрашены в ярко-розовый цвет, в тон помаде и крупным цветам на платье. Она была одета иначе, чем Перси, но так же аккуратно, с подчеркнутым вниманием к своей внешности, которое почему-то казалось старомодным, хотя о самой одежде этого нельзя было сказать.
— Это моя сестра Серафина, — представила ее Перси; она встала рядом с сестрой и нарочито громко произнесла: — Саффи, это Эдит.
Саффи побарабанила пальцами по уху и мягко пропела:
— Не надо так кричать, Перси, дорогая, мой слуховой аппарат на месте.
Она робко улыбнулась мне, моргая, поскольку нуждалась в очках, которые сняла из тщеславия. Она была такой же высокой, как ее сестра-близнец, но казалась ниже из-за платья, игры света или позы.
— Старые привычки умирают с трудом, — добавила она. — Перси всегда любила командовать… Я Саффи Блайт, и я правда очень рада с вами познакомиться.
Я подошла ближе и пожала ее руку. Она была копией своей сестры, по крайней мере, прежде. Минувшие восемьдесят лет нарисовали разные узоры на их лицах, и в результате Саффи казалась мягче и милее. Она выглядела точь-в-точь как положено пожилой владелице поместья, и я сразу же прониклась к ней симпатией. В то время как Перси была устрашающей, Саффи напоминала об овсяном печенье и превосходной бумаге, небрежно и прелестно исписанной чернилами. Забавно, как с годами характер выплывает на свет и оставляет на людях отпечаток.
— Нам позвонила миссис Кенар, — сообщила Саффи. — К сожалению, дела задержали ее в деревне.
— Вот как.
— Она ужасно расстроилась, — равнодушно подхватила Перси. — Но я заверила, что сама охотно проведу для вас экскурсию.
— Более чем охотно, — улыбнулась Саффи. — Моя сестра любит этот дом, как другие люди любят своих супругов. Ей не терпится похвастаться им. И она имеет на это полное право. Старый дом обязан ей всем: только годы ее неустанного труда уберегли его от разрушения.
— Я лишь постаралась, чтобы стены не рухнули нам на голову. Не более.
— Моя сестра скромничает.
— А моя упрямится.
Эта перебранка, очевидно, была обычной частью их остроумных бесед; дамы умолкли и улыбнулись мне. На мгновение я застыла на месте, вспоминая фотографию в «Майлдерхерсте Раймонда Блайта» и гадая, какая из этих старых леди — та малышка на снимке. Саффи потянулась через узкую брешь, взяла Перси за руку и промолвила:
— Сестра заботилась о нас всю нашу долгую жизнь.
Она повернулась к профилю сестры с таким восхищением, что я поняла: она была той низенькой и худенькой девочкой, улыбка которой неуверенно колыхалась под взором камеры.
Эта новая похвала явно не польстила Перси, которая внимательно изучила ремешок часов, прежде чем пробормотать:
— Ничего. Уже недолго осталось.
Всегда не знаешь, как реагировать, когда очень старый человек затрагивает тему смерти и ее неотвратимости, а потому я поступила так, как поступаю, когда Герберт намекает на то, что «Биллинг энд Браун» «однажды» перейдет в мои руки: улыбнулась, будто неверно расслышала, и пристально уставилась на залитый солнцем эркер.
Только тогда я заметила третью сестру, по-видимому Юнипер. Она неподвижно сидела в кресле, обитом выцветшим зеленым бархатом, и смотрела через открытое окно на парк, уходящий вдаль. Из хрустальной пепельницы поднималась тонкая струйка сигаретного дыма, размывая и смягчая черты женщины. В отличие от сестер, в ее манере одеваться не было ничего утонченного. Она была облачена в интернациональный наряд инвалидов: мешковатую блузу, тщательно заправленную в бесформенные брюки с высокой талией; на коленях виднелись жирные пятна от пролитой еды.
Возможно, Юнипер ощутила мой взгляд, потому что повернулась — едва уловимо — в мою сторону. Ее взгляд был стеклянным и несфокусированным, что означало прием сильных лекарственных препаратов, и, когда я улыбнулась, она ничем не выдала, что заметила это, а только продолжила смотреть, словно пыталась просверлить во мне дырку.
Наблюдая за ней, я услышала тихое гудение, которого прежде не замечала. На деревянном журнальном столике у окна располагался небольшой телевизор. Показывали американский комедийный сериал; неумолчный гул бойкого диалога с периодическими атмосферными помехами перемежался закадровым смехом. Меня охватило знакомое чувство: телевизор, теплый солнечный день снаружи, неподвижный затхлый воздух внутри… ностальгическое воспоминание о визитах к бабушке в школьные выходные, когда мне позволяли смотреть телевизор днем.
— Что ты здесь делаешь?
Приятные воспоминания о бабушке унесло внезапным порывом ледяного ветра. Юнипер Блайт по-прежнему не сводила с меня глаз, но ее лицо перестало быть безучастным. Она явно была мне не рада.
— Я… э… добрый день, я…
— Какого черта ты здесь делаешь?
Лерчер придушенно взвизгнул.
— Юнипер! Милая! — Саффи бросилась к сестре. — Эдит — наша гостья. — Она ласково обхватила лицо сестры ладонями. — Я же говорила, Джун, помнишь? Я все объяснила: Эдит пришла на экскурсию по дому. Перси немного прогуляется с ней. Не надо волноваться, дорогая, все в полном порядке.
Пока я отчаянно мечтала провалиться сквозь землю, близнецы обменялись взглядами, которые настолько соответствовали разным линиям их одинаковых лиц, что стало ясно: это далеко не впервые. Перси кивнула Саффи, поджав губы, после чего выражение ее лица изменилось, и я не успела разобраться, что именно в ее глазах пробудило во мне такое необычное чувство.
— Ну хорошо, — отозвалась она с притворным весельем, от которого я вздрогнула. — Не будем терять время. Идемте, мисс Берчилл.
Я охотно последовала за ней прочь из комнаты, за угол и по очередному прохладному темному коридору.
— Сперва я проведу вас мимо задних комнат, — предупредила она, — но задерживаться мы не станем. Нет смысла. Они давно зачехлены.
— Почему?
— Выходят на север.
У Перси была рубленая манера речи, немного похожая на манеру радиокомментаторов тех времен, когда Би-би-си принадлежало решающее слово во всех вопросах, достойных обнародования. Короткие предложения, безупречная дикция, в каждой точке — намек на особое значение.
— Зимой невозможно топить, — посетовала она. — Нас всего трое, поэтому места много не нужно. Проще запереть некоторые двери навсегда. Мы с сестрами выбрали комнаты в маленьком западном крыле рядом с желтой гостиной.
— Весьма разумно, — поспешно ответила я. — Должно быть, в таком огромном доме не меньше ста комнат. Все на разных уровнях… я бы наверняка заблудилась.
Я понимала, что несу чушь, но ничего не могла поделать. Природная неспособность поддерживать светскую беседу, возбуждение от того, что я наконец попала в замок, затянувшийся дискомфорт от сцены с Юнипер… так или иначе, смесь оказалась гремучей. Я глубоко вдохнула и, к своему ужасу, продолжила:
— Хотя вы, разумеется, провели здесь всю жизнь, так что, уверена, для вас это не проблема…
— Прошу прощения, — резко оборвала она, повернувшись ко мне.
Даже в полумраке было заметно, что ее кожа побелела. «Сейчас она меня выгонит, — подумала я. — Мой визит ее тяготит; она старая, усталая женщина; ее сестра болеет».
— Наша сестра нездорова, — сказала она, и мое сердце упало. — Вы здесь ни при чем. Она порой бывает грубой, но это не ее вина. Она перенесла тяжелое разочарование… просто ужасное. Много лет назад.
— Вам незачем объяснять.
«Пожалуйста, не выгоняйте меня».
— Спасибо, но я все же должна. Хотя бы отчасти. Подобная грубость… Она плохо ладит с незнакомцами. Это было нелегкое испытание. Наш семейный врач умер десять лет назад, и мы до сих пор не можем найти нового, мало-мальски сносного. Ее мысли путаются. Надеюсь, вы не чувствуете себя незваной гостьей?
— Вовсе нет, я все прекрасно понимаю.
— Дай бог. Потому что мы очень рады вашему визиту. — Снова мимолетная улыбка в форме шпильки. — Замок любит гостей, ему нужны гости.
Утром моего десятого дня рождения мама и папа отвели меня взглянуть на кукольные домики в Музее детства в Бетнал-Грин. Не знаю, почему мы отправились смотреть именно домики, то ли я сама выразила к ним интерес, то ли родители прочли в газете статью о коллекции, но я очень четко помню тот день. Одно из тех блистательных воспоминаний, которые собираешь по пути; идеальной формы, непроницаемое, как мыльный пузырь, который забыл лопнуть. Мы поехали в такси — кажется, я сочла это особым шиком, — а после музея пили чай в модном заведении в квартале Мейфэр. Я даже помню, во что была одета; коротенькое платье с ромбами, о котором мечтала много месяцев и в то утро наконец обрела.
Еще я с ослепительной ясностью помню, как мы потеряли маму. Возможно, именно это событие, а не сами кукольные домики, не дало тому дню смешаться с другими в мясорубке детских воспоминаний. Все перевернулось вверх дном. Взрослые люди не теряются, по крайней мере, в моем мире; это привилегия детей, маленьких девочек вроде меня, которые вечно витают в облаках, еле тащатся и не поспевают за мамой.
Но не на этот раз. На этот раз необъяснимым и сокрушительным образом куда-то подевалась сама мама. Когда это случилось, мы с папой стояли в очереди, чтобы купить сувенирную брошюру. Мы медленно продвигались вперед, погруженные в раздумья, и обнаружили, что лишились своего привычного семейного рупора, только когда добрались до стойки и молча уставились сперва на продавщицу, а затем друг на друга.
Я отыскала маму первой; она опустилась на колени перед кукольным домиком, который мы уже видели. Помнится, он был высоким и темным, с множеством лестниц и чердаком наверху. Мать не объяснила, зачем вернулась, только произнесла: «На свете действительно есть такие места, Эди. Настоящие дома, в которых живут настоящие люди. Представляешь? Столько комнат!» Краешек ее губ дернулся, и она тихо и напевно продекламировала: «Седые стены, что поют далекими часами».
Кажется, я не ответила. Во-первых, не было времени — в этот момент на нас наткнулся отец с отчего-то обиженным и встревоженным видом, — а во-вторых, я не знала, что сказать. Хотя мы никогда больше не обсуждали тот эпизод, прошло много времени, прежде чем я окончательно перестала верить, что где-то в большом, огромном мире есть настоящие дома с настоящими людьми и поющими стенами.
Музей в Бетнал-Грин я упомянула только потому, что пока Перси Блайт вела меня сквозь сгущающийся мрак коридоров, я вспоминала мамину фразу все яснее и яснее; наконец я увидела ее лицо, услышала ее слова так отчетливо, будто она находилась совсем рядом. Это было связано со странным чувством, которое давило на меня, пока мы исследовали огромный дом; ощущением, словно меня колдовским образом уменьшили и перенесли в кукольный домик, хотя и весьма потрепанный. Ребенок перерос его, ему купили другие игрушки, а комнаты с выцветшими обоями и шелками, полы, покрытые циновками, урны и чучела птиц, тяжелая мебель безмолвно надеялись обрести новых обитателей.
А может, все это пришло мне в голову после. Возможно, сначала я вспомнила мамину фразу, потому что, разумеется, она имела в виду Майлдерхерст, когда говорила мне о настоящих людях в настоящих домах с множеством комнат. Что еще могло пробудить в ней подобные мысли? Непостижимое выражение ее лица явно было связано с этим местом. Она думала о Перси, Саффи и Юнипер Блайт, таинственных и странных событиях, которые, должно быть, приключились с ней в детстве, когда ее вырвали из Южного Лондона и поселили в замке Майлдерхерст. Тайны, которые протянулись через полвека и схватили ее так цепко, что потерянное письмо заставило ее плакать.
Как бы то ни было, на экскурсии с Перси в то утро я была вместе с мамой. Я не могла бы ей противостоять, да и не пыталась. Неважно, что я испытывала необъяснимую ревность и хотела исследовать замок самостоятельно. Крошечная частица жизни матери, частица, которую я никогда не знала и уж точно не замечала, была связана с этим домом. И хотя я не привыкла иметь с матерью что-то общее, хотя при одной лишь мысли об этом земля ушла из-под ног, я вдруг поняла, что мне все равно. Если честно, я даже обрадовалась, что странная фраза в музее кукольных домиков перестала быть загадкой, кусочком мозаики, не находящим места. Это был фрагмент маминой судьбы, почему-то более яркий и интересный, чем остальные.
Так и получилось, что пока Перси вела экскурсию, а я слушала, разглядывала и кивала, рядом со мной шагала маленькая призрачная девочка из Лондона: наивная, робкая, осматривающая дом впервые, как и я. И мне даже понравилось, что она рядом; жаль, я не могла взять ее за руку сквозь десятилетия. Интересно, каким был дом в 1939 году, насколько он изменился за последние пятьдесят лет? Неужели и тогда замок Майлдерхерст казался спящим и все было тусклым, пыльным и сумрачным? Старый дом, выжидающий случая. Смогу ли я пообщаться с той маленькой девочкой, если она еще существует? Если мне повезет ее найти.
Невозможно изложить все, что было сказано и увидено в тот день в Майлдерхерсте, да и не нужно для целей моего повествования. С тех пор произошло много событий, которые наложились друг на друга и перемешались у меня в голове, так что сложно выделить первые впечатления о доме и его обитателях. И потому я ограничусь наиболее яркими образами и звуками, деталями, имеющими отношение к тому, что случилось позже… и раньше. Событиями, которые никогда не поблекнут в моей памяти.
Во время экскурсии стали ясны две важные вещи: во-первых, миссис Кенар смягчила краски, когда обмолвилась, что Майлдерхерст немного обветшал. Замок устарел морально и физически, очарованием старины здесь и не пахло. Во-вторых, что более существенно, Перси Блайт не замечала этого факта. Неважно, что тяжелая деревянная мебель покрылась слоем пыли, что затхлый воздух был густым от бесчисленных пылинок, что поколения моли пировали на занавесках… она продолжала рассуждать о комнатах, словно те пребывали в самом расцвете, как будто члены королевской семьи вращались в обществе литераторов и незримая армия слуг носилась по коридорам, выполняя поручения семьи Блайт. Я бы пожалела старую даму, оказавшуюся в плену фантазий, но она была не из тех, кто пробуждает жалость. Она определенно не была рождена на свет жертвой, и моя жалость превратилась в восхищение. Ее упрямый отказ признавать, что старый дом разваливается на части у них на глазах, был достоин уважения.
Еще следует отметить, что для восьмидесятилетней старухи с тростью Перси передвигалась с невероятной скоростью. Мы заглянули в бильярдную, бальный зал, оранжерею, затем спустились по лестнице в столовую для слуг, промаршировали через буфетную, кладовую, посудомоечную и наконец переступили порог кухни. Медные кастрюли и сковородки висели на крюках на стенах, приземистая плита ржавела под просевшей вытяжкой, на кафеле бок о бок стояло семейство пустых глиняных горшков. В центре на отекших лодыжках балансировал огромный сосновый стол. Его поверхность была изрезана ножами; мука веками въедалась в раны. Воздух был прохладным и затхлым; мне показалось, что комнаты слуг отмечены печатью запустения даже больше, чем комнаты наверху. Пришедшие в негодность детали грандиозного викторианского механизма, который пал жертвой перемен и со скрежетом остановился.
Не только я заметила сгустившийся мрак, бремя увядания.
— Трудно поверить, но когда-то здесь кипела жизнь. — Перси Блайт провела пальцем по зубчатому краю стола. — У моей бабушки было сорок слуг. Сорок. Никто уже не помнит, как сверкал этот дом.
Пол был усыпан маленькими коричневыми катышками, которые я сначала приняла за грязь, но по характерному хрусту под ногами поняла, что это мышиный помет. Надо не забыть отказаться от пирога к чаю, если предложат.
— Даже когда мы были детьми, здесь еще работали около двадцати слуг и команда из пятнадцати садовников, которые поддерживали порядок в угодьях. Первая мировая положила этому конец: все ушли на фронт. Большинство молодых мужчин погибли.
— И никто не вернулся?
— Двое. Двое вернулись, но они уже были не те. Никто не вернулся прежним. Конечно, мы оставили их… поступить иначе было немыслимо… однако они долго не протянули.
Я не поняла, имеет ли она в виду продолжительность их службы или жизни в целом, но уточнить не успела.
— После этого мы плыли по течению, набирали временных работников по мере возможности, однако к началу Второй мировой найти садовника нельзя было ни по любви, ни за деньги. Какой молодой мужчина станет довольствоваться уходом за садом, когда грядет война? Уж точно не тот, в котором мы нуждались. Помощь по хозяйству была не менее скудной. Все мы были заняты другими делами.
Она замерла, опершись на рукоятку трости; ее мысли унеслись прочь, кожа щек обвисла.
Кашлянув, я осторожно спросила:
— А теперь? Вам кто-нибудь помогает?
— О да. — Она небрежно махнула рукой, вернувшись из неведомых далей. — Правда, совсем немного. Раз в неделю приходит служанка, чтобы помочь с готовкой и уборкой, и один из местных фермеров чинит изгороди по мере необходимости. Еще есть молодой паренек из деревни, племянник миссис Кенар, он подстригает лужайку и пытается держать сорняки в узде. Он неплохо справляется, хотя серьезное отношение к труду, по-видимому, осталось в прошлом. — Перси Блайт мимолетно улыбнулась. — Остальное время мы предоставлены сами себе.
Я улыбнулась в ответ. Затем она указала на узкую служебную лестницу и заметила:
— Кажется, вы говорили о своей любви к книгам?
— Мать утверждает, что я родилась с книгой в руках.
— В таком случае, полагаю, вы не прочь посетить нашу библиотеку.
В книге упоминался пожар, который поглотил библиотеку замка Майлдерхерст, тот самый, который убил мать близнецов, так что не знаю, что именно я ожидала увидеть за черной дверью в конце темного коридора, но явно не обширную библиотеку. Тем не менее передо мной открылась именно она, когда я переступила порог вслед за Перси Блайт. Полки громоздились вдоль всех четырех стен, от пола до потолка, и хотя в комнате было темно — окна были закутаны тяжелыми ниспадающими занавесями, которые касались пола, — я видела, что шкафы заставлены очень старыми книгами с форзацами из мраморной бумаги, позолоченными обрезами и ткаными переплетами. Мои пальцы буквально чесались от желания как следует пробежаться по их корешкам, отыскать экземпляр, перед которым я не смогу устоять, выудить его, медленно открыть, сомкнуть веки и вдохнуть освежающий душу аромат старой книжной пыли.
Перси Блайт проследила за моим взглядом и словно прочла мои мысли.
— Разумеется, это замены, — призналась она. — Большая часть оригинальной библиотеки семьи Блайт погибла в пламени. Восстановить удалось немногое; где не справился огонь, там поработали дым и вода.
— Столько книг, — выдохнула я; при мысли о такой потери меня пронзила острая боль.
— Да уж, немало. Конечно, отец воспринял это крайне тяжело. Большую часть оставшейся жизни он посвятил возрождению коллекции. Письма летели во все стороны. Торговцы редкими книгами были завсегдатаями в нашем доме; другие гости не поощрялись. Тем не менее папа не заходил в эту комнату после смерти матери.
Наверное, у меня разыгралось воображение, но пока она говорила, я определенно почуяла застарелый запах гари, сочащийся из-под новых стен и свежей краски, исходящий из глубин старого известкового раствора. И еще шум, источник которого я не могла определить: легкий стук, незаметный при обычных обстоятельствах, но весьма примечательный в этом странном и тихом доме. Я взглянула на Перси, подошедшую к кожаному креслу с глубоко вдавленными пуговицами, но если она и услышала звук, то не подала виду.
— Мой отец был большим любителем писем, — сообщила она, пристально глядя на письменный стол в закутке у окна, — и моя сестра Саффи тоже.
— А вы нет?
Скупая улыбка.
— За свою жизнь я написала крайне мало писем, только самые необходимые.
Ее ответ показался мне необычным, и, должно быть, это отразилось на моем лице, потому что она пояснила:
— Письменная речь всегда давалась мне с трудом. В семье писателей это стало непростительным изъяном. Жалкие попытки не приветствовались. Отец и два его оставшихся в живых брата обменивались превосходными эссе, когда мы были маленькими, и по вечерам отец зачитывал их вслух. Он ожидал восторгов и не скупился на критику тех, кто не соответствовал его стандартам. Изобретение телефона стало для него катастрофой. Он винил его за многие язвы мира.
Стук возобновился, на этот раз громче, свидетельствуя о движении. Немного похоже на то, как ветер задувает в щели, сметает гравий, только сильнее. И я была уверена, что звук доносится сверху.
Я осмотрела потолок, тусклую электрическую лампу, свисающую с посеревшей розетки, трещину в штукатурке, напоминавшую молнию. В голове мелькнула мысль, что шум, который я слышу, может оказаться единственным предупреждением, что потолок вот-вот обрушится.
— Этот шум…
— О, не обращайте внимания. — Перси Блайт махнула рукой. — Это всего лишь смотрители играют в венах.
Вероятно, изумление, которое я испытала, отразилось на моем лице.
— Это самый страшный секрет таких старых домов, как наш.
— Смотрители?
— Вены.
Она нахмурилась, проследив глазами за линией карниза, как будто отмечая продвижение чего-то, незаметного мне. Когда она снова заговорила, ее голос слегка изменился. В ее самообладании появилась едва заметная брешь, и на мгновение мне показалось, что я вижу и слышу ее более отчетливо.
— В шкафу в комнате на самом верху замка спрятана секретная дверь. За дверью начинается целый лабиринт потайных ходов. По ним можно красться от комнаты к комнате, от чердака к подвалу, словно мышка-малютка. Если не шуметь, можно услышать множество самых разных шепотков. Надо быть осторожным, там легко заблудиться. Это и есть вены дома.
Я поежилась от внезапного гнетущего образа дома в виде гигантского, припавшего к земле существа. Темного и безымянного чудовища, затаившего дыхание; большой старой жабы из волшебной сказки, которая надеется обманом выманить поцелуй у девицы. И конечно, я вспомнила о Слякотнике, стигийской скользкой фигуре, выходящей из озера, чтобы предъявить права на девушку у чердачного окна.
— В детстве мы с Саффи любили притворяться. Мы воображали, что семья предыдущих владельцев поселилась в ходах и отказывается уезжать. Мы называли их смотрителями и всякий раз, когда слышали необъяснимый шум, знали, что это они.
— Неужели? — еле прошептала я.
При виде моего лица она засмеялась странным безрадостным смехом, который оборвался так же резко, как и начался.
— О, но они не были настоящими. Вовсе нет. Шум, который вы слышите, издают мыши. Одному богу известно, сколько их здесь. — Она смерила меня взглядом, и уголок ее глаза дернулся. — Я вот думаю. Не желаете взглянуть на шкаф в детской, в котором скрывается потайная дверь?
Кажется, я даже пискнула.
— С удовольствием.
— Тогда идемте. Подъем предстоит долгий.
Она не преувеличивала. Лестница карабкалась ввысь виток за витком, с каждым пролетом становясь все уже и темнее. Как только мне показалось, что я вот-вот перестану различать окружающее, Перси Блайт щелкнула выключателем тусклой электрической лампочки без абажура, которая свисала на проводе с высокого потолка. После этого я разобрала, что к стене примыкают перила, помогавшие осилить последний крутой пролет; приделаны они в пятидесятых годах двадцатого века — предположила я по скучной практичности металлической трубы. Кто бы и когда бы это ни сделал, я мысленно поблагодарила его. Ступеньки были опасно истерты, что особенно пугало теперь, когда они были видны, и я испытала немалое обличение, поскольку было за что ухватиться. Куда меньше радовало то, что при свете я разглядела и паутину. Этой лестницей давно никто не пользовался, и местные пауки об этом знали.
— Няня брала с собой сальную свечу, когда отводила нас спать, — поведала Перси, приступая к последнему пролету. — Мы поднимались по лестнице, огонек мерцал на камнях, и няня напевала песенку об «апельсинчиках как мед». Уверена, вам она известна: «Вот зажгу я пару свеч — ты в постельку можешь лечь».
«Вот возьму я острый меч — и головка твоя с плеч».[11] Да, известная песня. Седая борода мазнула меня по плечу, выбив искру любви к своей простой крохотной комнатке в доме родителей. Никакой паутины, только протирка пыли два раза в неделю и успокаивающий запах дезинфицирующего средства.
— Тогда в доме не было электричества. Его провели только в середине тридцатых, да и то лишь с половинным напряжением. Отец терпеть не мог проводов. Боялся пожара. Вполне естественно, учитывая, что случилось с матерью. После несчастья он устроил серию учебных тревог. Звонил в колокольчик на лужайке и следил за временем по старому секундомеру. Все время орал, что дом вот-вот вспыхнет, как огромный погребальный костер.
Хозяйка снова резко хохотнула, внезапно остановилась, когда мы поднялись на самый верх, и вставила ключ в замок.
— Что ж… — Она немного помедлила, прежде чем повернуть ключ. — Вперед?
Она толкнула дверь, и я чуть не упала, сметенная хлынувшим потоком света. Я моргала и жмурилась, привыкая, и расплывшиеся формы комнаты постепенно приобретали все более четкие очертания.
После такого сложного подъема чердак казался разочарованием. Он был совсем простым и очень мало напоминал викторианскую детскую. Более того, в отличие от остального дома, в котором комнаты сохранились в неизменном виде, как если бы возвращение их обитателей было делом времени, детская казалась сверхъестественно пустой. Она словно была вычищена и даже побелена. Ни ковра, ни покрывал на парных железных кроватях, выступающих из дальней стены по бокам от неиспользуемого камина. Занавесок тоже не было, чем и объяснялся яркий свет, и на единственном шкафу под одним из чердачных окон не было ни книг, ни игрушек.
На единственном шкафу под одним из чердачных окон.
Этого хватило, чтобы моя кровь вскипела. Я почти увидела юную девушку из пролога «Слякотника». которая проснулась ночью, подошла к окну, тихонько забралась на шкаф и смотрит на земли семейного поместья, мечтая о будущих приключениях, понятия не имея об ужасе, который ей предстоит.
— На этом чердаке поколение за поколением росли дети семьи Блайт, — сообщила Перси Блайт, медленно обводя комнату взглядом. — Столетия горошинок в стручке.
Она не упомянула о жалком состоянии комнаты или ее месте в истории литературы, а я не стала настаивать. С тех пор как она повернула ключ в замке и впустила меня, она словно пала духом. Не то ее лишила мужества сама детская, не то яркий свет пустой комнаты позволил мне наконец разглядеть ее возраст, отчетливо написанный в морщинах на лице. Как бы то ни было, мне казалось важным следовать за ней.
— Простите, — наконец сказала она. — Я давно не была наверху. Все кажется… более маленьким, чем помнилось.
Знакомое чувство. Довольно странно лежать на своей детской кровати и чувствовать, что ступни свисают за край, коситься на невыцветший прямоугольник обоев, на котором когда-то висел плакат группы «Blondie», и вспоминать свое еженощное поклонение Дебби Харри. Я могла лишь вообразить, какую дисгармонию испытывает человек в спальне, из которой вырос восемьдесят лет назад.
— В детстве вы спали здесь все трое?
— Нет, не все. Юнипер перебралась сюда позже. — Перси чуть скривила губы, как будто отведала что-то кислое. — Ее мать переделала в детскую одну из своих комнат. Она была молодой и не знала, как положено поступать. Это не ее вина.
Выбор слов показался мне странным, и я засомневалась, правильно ли поняла.
— В доме существует традиция, согласно которой детям позволяют перебраться вниз в отдельные комнаты по достижении тринадцати лет, и хотя мы с Саффи ужасно гордились, когда наше время наконец наступило, должна признаться, что скучала по чердачной комнате, которую мы делили с сестрой.
— Полагаю, это обычное дело для близнецов.
— Несомненно. — Она почти улыбнулась. — Идемте. Я покажу вам дверь смотрителей.
Шкаф из красного дерева тихо стоял напротив дальней стены, в крошечной комнатке, которая пряталась за парными кроватями. Потолок нависал так низко, что мне пришлось наклониться, чтобы войти; фруктовый запах, застоявшийся между стенами, был почти удушающим.
Перси словно ничего не заметила. Она сложилась пополам, потянула за низкую ручку шкафа и приоткрыла зеркальную дверь.
— Она здесь. В задней стенке. — Хозяйка уставилась на меня, не отходя от двери; ее брови-лезвия опустились. — Но вам наверняка отсюда не видно?
Этикет не позволял мне зажать нос, так что я глубоко вдохнула, задержала дыхание и шагнула к Перси. Та отступила в сторону, давая понять, что я должна подойти еще ближе.
Отогнав образ Гретель у печки ведьмы, я по пояс забралась в шкаф и разглядела сквозь зловещий полумрак маленькую дверцу в задней стенке.
— Ух ты, — на последнем дыхании произнесла я. — Вот она.
— Вот она, — подтвердил голос из-за спины.
Запах уже не казался таким ужасным теперь, когда им приходилось дышать, и я сумела оценить привкус Нарнии при виде потайной двери в глубине шкафа.
— Так вот как смотрители входят и выходят, — гулко заметила я.
— Смотрители — возможно, — криво усмехнулась Перси. — Что до мышей, это другое дело. Маленькие негодники заполонили весь дом; им не нужна такая роскошная дверца.
Я вылезла из шкафа, стряхнула пыль и тут заметила картину в рамке на передней стене. Приблизившись, я выяснила, что это не картина, а страница с религиозным текстом. Она все время находилась у меня за спиной, и только сейчас я увидела ее.
— Что это за комната?
— Здесь жила наша няня, — ответила Перси. — Когда мы были совсем маленькими, эта комната казалась лучшим местом на земле. — На мгновение на ее лице мелькнула улыбка и увяла. — Это почти чулан, как по-вашему?
— Чулан с прелестным видом.
Я подошла к ближайшему окну, единственному, на котором сохранились выцветшие занавески. Отдернув занавески, я с удивлением уставилась на множество прочных запоров, приделанных к раме. Должно быть, от Перси не укрылось мое удивление, поскольку она пояснила:
— У отца был пунктик в вопросах безопасности. Он так и не забыл один несчастный случай в своем детстве.
Кивнув, я выглянула в окно и испытала трепет узнавания; и поняла, что узнала не то, что видела, но то, о чем читала и воображала. Прямо внизу, вдоль подножия замка тянулась полоса травы шириной футов двадцать, густая и сочная, совсем другого оттенка, чем остальная зелень.
— Здесь был ров, — догадалась я.
— Да. — Перси встала рядом, придерживая занавески. — Одно из моих первых воспоминаний — бессонная ночь и голоса внизу. Стояло полнолуние. Я выглянула в окно и увидела, как наша мать плавает на спине и смеется в серебристом свете.
— Она была заядлой пловчихой, — вспомнила я прочитанное в «Майлдерхерсте Раймонда Блайта».
Перси кивнула.
— Папа подарил ей на свадьбу круглый пруд, но она всегда предпочитала ров. Им занялся специальный человек. Когда она умерла, папа засыпал ров.
— Видимо, он напоминал ему о ней.
— Да.
Ее губы дернулись, и я осознала, что довольно неосторожно расспрашиваю ее о семейной трагедии. Я указала на каменный выступ, наряженный в нижнюю юбку рва, и сменила тему.
— Что это за комната? Не помню, чтобы видела балкон.
— Библиотека.
— А там? Что за огороженный сад?
— Это не сад. — Она отпустила занавеску, и та упала на место. — И нам пора двигаться дальше.
Ее тон стал ледяным, тело окаменело. Очевидно, я оскорбила ее, но не понимала как. Быстро прокрутив в голове наши последние реплики, я решила, что, скорее всего, она просто пала духом под бременем старых воспоминаний.
— Наверное, потрясающе жить в замке, который столько лет принадлежал вашей семье, — тихо промолвила я.
— Да, — отозвалась она. — Это не всегда было просто. Приходилось идти на жертвы. Мы были вынуждены продать большую часть поместья, последним — фермерский дом, но сумели сохранить замок.
Она демонстративно осмотрела оконную раму и смахнула кусочек отслоившейся краски. Когда она заговорила, ее голос был деревянным от старательно сдерживаемых чувств:
— Сестра была права. Я люблю этот дом, как другие любят людей. Всегда любила. — Перси покосилась на меня. — Наверное, вам это кажется эксцентричным.
Я покачала головой.
— Нет, вовсе нет.
Брови-шрамы с сомнением выгнулись, но я не обманывала, я вовсе не считала это эксцентричным. Сердце моего отца разбилось, когда ему пришлось расстаться с домом, где протекло его детство. Довольно незамысловатая история: маленький мальчик, вскормленный на баснях о знаменитом прошлом своей семьи, и обожаемый богатый дядюшка, щедрый на обещания, который неожиданно передумал на смертном одре.
— Старые здания и старые семьи принадлежат друг другу, — изрекла Перси. — Так было всегда. Моя семья живет среди камней замка Майлдерхерст, и мой долг — хранить их. Чужакам такое не под силу.
Ее пылкая тирада явно нуждалась в одобрении.
— Наверное, вам кажется, что они до сих пор рядом. — Слова слетели с моих губ, и внезапно я представила, как моя мама стоит на коленях у кукольных домиков. — Поют в стенах.
Брови подпрыгнули на полдюйма.
— Что вы сказали?
Сама не заметила, как произнесла это вслух.
— Насчет стен, — напирала она. — Вы что-то сказали о поющих стенах. Что именно?
— Просто моя мать как-то раз упомянула о седых стенах, что поют далекими часами, — кротко ответила я.
Лицо Перси засияло от удовольствия, что составило резкий и ослепительный контраст с ее обычной суровостью.
— Мой отец написал эти строки. Наверное, ваша мать читала его стихи.
Я искренне сомневалась в этом. Мама никогда не любила читать и уж точно не увлекалась поэзией.
— Возможно.
— Когда мы были маленькими, он рассказывал нам истории, предания о прошлом. Говорил, что, если ходить по замку неосторожно, далекие часы порой забывают спрятаться.
С этой фразой левая рука Перси выгнулась наподобие паруса. Забавный театральный жест, совершенно несвойственный этой резкой и практичной женщине. Ее манера речи также изменилась: короткие предложения удлинились, резкий тон смягчился.
— Он натыкался на них, играя в темных и пустынных коридорах. «Подумайте о бесчисленных людях, которые жили в этих стенах, — говорил он, — которые шептали свои секреты, совершали предательства…»
— Вы тоже их слышите? Далекие часы?
Наши взгляды встретились, и мгновение она пристально смотрела мне в глаза.
— Полная бессмыслица. — Ее губы изогнулись в улыбке-шпильке. — Наши камни старые, однако это всего лишь камни. Несомненно, они многое повидали, но умеют хранить тайны.
На ее лице мелькнула тень боли. Я решила, что она думает об отце и матери, тоннеле времени и голосах, которые доносятся до нее сквозь годы.
— Неважно, — добавила она скорее для себя, чем для меня. — Что толку рассуждать о прошлом? Если подсчитывать мертвецов, недолго оказаться в полном одиночестве.
— Наверное, вы рады, что у вас есть сестры.
— Конечно.
— Я всегда считала, что братья и сестры — подлинное утешение друг для друга.
Снова пауза.
— У вас их нет?
— Нет. — Я улыбнулась и слегка пожала плечами. — Я единственный ребенок в семье.
— Вам одиноко? — Она разглядывала меня, как редкий вид насекомого, достойный изучения. — Мне всегда было интересно, каково это.
Мне вспомнились невосполнимая пустота в своей жизни, те редкие ночи, проведенные в обществе моих спящих, храпящих, бормочущих двоюродных сестер, и свои недостойные фантазии, будто я одна из них, будто я кому-то принадлежу.
— Иногда, — призналась я. — Иногда одиноко.
— Но это и освобождает, надо полагать.
Впервые я заметила, что у нее на шее дрожит крошечная жилка.
— Освобождает?
— Кто лучше сестры помнит ваши старинные грехи?
Она улыбнулась, но тепло улыбки не смогло превратить признание в шутку. Вероятно, она об этом догадывалась, поскольку позволила улыбке погаснуть, кивнула в сторону лестницы и произнесла:
— Идемте. Пора спускаться. Осторожнее. Держитесь за перила. Мой дядя свернул себе шею на этих ступеньках, когда был совсем мальчиком.
— О боже! — На редкость беспомощно, но как еще реагировать? — Какой ужас.
— Однажды вечером разразилась ужасная гроза, и он испугался, по крайней мере, так рассказывают. Молния вспорола небо и ударила у самого озера. Мальчик закричал от страха и прежде, чем няня успела его поймать, соскочил с кровати и выбежал из комнаты. Глупыш споткнулся, упал и приземлился у подножия лестницы, как тряпичная кукла. Иногда мы воображали, будто слышим по ночам его плач, когда погода была особенно дрянной. Знаете, он прячется под третьей ступенькой. Ждет, когда кто-нибудь оступится. Надеется обрести товарища. — Она повернулась ко мне на четвертой ступеньке. — Вы верите в призраков, мисс Берчилл?
— Не знаю. Наверное.
Моя бабушка видела призраков. По крайней мере одного: моего дядю Эда, после того как тот свалился с мотоцикла в Австралии. «Он так и не понял, что умер, — вздыхала бабушка. — Бедный мой ягненочек. Я протянула ему руку со словами, что все хорошо, он добрался до дома, и мы любим его». Воспоминание заставило меня поежиться, и перед тем как Перси Блайт повернулась обратно, на ее лице мелькнуло мрачное удовлетворение.
Слякотник, архивная комната и запертая дверь
Я следовала за Перси Блайт по лестничным пролетам, мрачным коридорам и снова вниз. Вероятно, глубже, чем уровень, с которого мы начали подъем? Как и все здания, развивающиеся с течением времени, Майлдерхерст был подобен лоскутному одеялу. Крылья пристраивались и перестраивались, разрушались и возрождались. В результате в нем было легко заблудиться, особенно человеку без врожденного чувства направления. Казалось, замок складывается внутрь, как один из рисунков Эшера, на которых можно вечность бродить по лестницам, круг за кругом, но так и не найти конца. Окон не было — ни единого, с тех пор как мы покинули чердак, — и мрак сгустился окончательно. На одном этаже я определенно услышала плывущую, катящуюся по камням мелодию, романтичную, задумчивую, смутно знакомую, но когда мы завернули за очередной угол, она растаяла, если вообще существовала. Что мне точно не почудилось, так это едкий запах, который становился все сильнее по мере того, как мы спускались, и не был неприятным только благодаря своей землистости.
Хотя Перси отмахнулась от отцовской идеи о далеких часах, по пути я невольно прикасалась к прохладным камням. Какие следы могла оставить мама, когда жила в Майлдерхерсте? Маленькая девочка по-прежнему шагала рядом со мной, пусть и все время молчала. Я хотела было спросить о ней Перси, но зашла слишком далеко, не объявив о своей связи с домом, и теперь все мысли в голове попахивали двуличием. В конце концов я остановилась на классической пассивно-агрессивной уловке:
— Замок был реквизирован во время войны?
— Нет. Боже праведный. Я бы этого не вынесла. Урон, который был нанесен некоторым прекраснейшим домам нации… Нет. — Перси яростно затрясла головой. — Слава богу. Это как руку отрезать. Но мы делали все возможное. Я работала в службе скорой помощи в Фолкстоне; Саффи шила одежду и бинты, связала тысячу шарфов. Еще мы взяли к себе эвакуированного ребенка в самом начале войны.
— Вот как?
Мой голос чуть заметно задрожал. Малышка рядом со мной подскочила.
— По настоянию Юнипер. Маленькую девочку из Лондона. О господи, я забыла, как ее звали. Как глупо с моей стороны… Прошу прощения за запах.
Мое сердце сжалось от сочувствия к той забытой девочке.
— Это грязь, — продолжила Перси. — Пахнет от засыпанного рва. Летом подземные воды поднимаются, просачиваются сквозь подвал и приносят запах гниющей рыбы. Хорошо, что здесь внизу нет ничего ценного. Ничего, кроме архивной комнаты, а она защищена от воды. Стены и пол обшиты медью, дверь свинцовая. Ничто не может проникнуть внутрь или покинуть ее стены.
— Архивная. — По моей шее пробежал озноб. — Прямо как в «Слякотнике».
Особая комната, глубоко в доме дяди, где хранятся семейные документы, где он находит заплесневелый старый дневник, в котором содержится разгадка прошлого Слякотника. Тайная комната в сердце дома.
Перси остановилась, оперлась на трость и уставилась на меня.
— Так вы читали его.
Это был не вопрос, но я все равно ответила:
— Я обожала его в детстве.
Когда слова слетели с губ, в душе шевельнулось давнее разочарование. Я по-прежнему не могла адекватно выразить свое отношение к этой книге.
— Это была моя любимая книга, — добавила я, и фраза с надеждой повисла в воздухе, прежде чем незаметно растаять в тенях облачком пыли.
— Она была очень популярна. — Перси пошла дальше по коридору; несомненно, она много раз это слышала. — И популярна до сих пор. В следующем году исполнится семьдесят пять лет с первого издания.
— Неужели?
— Семьдесят пять лет, — повторила она, потянула дверь на себя и повела меня вверх по очередному лестничному пролету. — А кажется, это было вчера.
— Наверняка публикация вызвала большой переполох.
— Мы были рады видеть папу счастливым.
Мне действительно показалось, что она немного замешкалась, или это я сейчас фантазирую, уже с учетом того, что узнала позже?
Невидимые часы начали усталый перезвон, и я с уколом сожаления поняла: отпущенный мне час истек. Это казалось невозможным; я бы голову отдала на отсечение, что только пришла, но кто способен постичь время? Час между завтраком и выходом в Майлдерхерст тянулся целую вечность, однако шестьдесят коротких минут, которые были мне дарованы внутри замка, пролетели стайкой испуганных птиц.
Перси Блайт взглянула на наручные часы и заметила с легким удивлением:
— Я задержалась. Прошу прощения. Напольные часы спешат на десять минут, но нам все равно пора закругляться. Миссис Кенар придет за вами в назначенное время, а путь до вестибюля неблизкий. Боюсь, вы не успеете осмотреть башню.
Я ахнула от удивления и почти физической боли, однако быстро взяла себя в руки.
— Уверена, что миссис Кенар не огорчится, если я немного опоздаю.
— Помнится, вы собирались вернуться в Лондон.
— Да, точно. — Невероятно, но на мгновение я действительно забыла: Герберт, его машина, назначенная встреча в Виндзоре. — Собиралась.
— Не переживайте. — Перси Блайт зашагала следом за тростью. — Осмотрите башню в следующий раз. Когда навестите нас снова.
Она просто успокаивает меня? Я решила не уточнять. К чему? По правде говоря, я отмахнулась от этих слов как от довольно забавных и бессмысленных, поскольку, когда мы покинули лестничный колодец, раздалось загадочное шуршание.
Шуршание, как и в случае смотрителей, было совсем тихим, и сначала я подумала, что мне почудилось из-за всех этих историй о далеких часах и людях, пойманных в стенах… но когда Перси Блайт тоже огляделась по сторонам, я поняла, что не ошиблась.
Из соседнего коридора неуклюже вывернул пес.
— Бруно! — удивленно воскликнула Перси. — Что ты здесь делаешь, дружище?
Пес остановился рядом со мной и посмотрел из-под нависших век.
Хозяйка наклонилась и почесала его за ушами.
— Знаете, что означает слово «лерчер»? Это «воришка» по-цыгански. Верно, малыш? Ужасно бессердечное название для такого славного старичка, как ты. — Она медленно выпрямилась, держась рукой за поясницу. — Изначально их вывели цыгане-браконьеры для охоты на зайцев, кроликов и других мелких зверей. Чистые породы позволялось разводить только аристократам, и наказание было суровым; вся соль была в том, чтобы сохранить охотничьи навыки, поддерживая видимость изменчивости и тем самым отводя подозрения. Это пес моей сестры Юнипер. С самого детства она обожала животных; и они, похоже, отвечали взаимностью. Мы всегда держали для нее собаку, тем более после травмы. Говорят, всем нужно кого-то любить.
Бруно продолжил путь, как будто знал, что мы обсуждаем его, и был этим недоволен. Еле слышное шуршание возобновилось, но его заглушил звонок телефона неподалеку.
Перси замерла, прислушиваясь, как будто ждала, что трубку возьмет кто-то другой.
Телефон продолжал звонить, пока безутешная тишина не сомкнулась вокруг его последнего отзвука.
— Идемте. — В голосе хозяйки прорезалась нотка волнения. — Здесь можно срезать.
Коридор был темным, но не более, чем другие; теперь, когда мы выбрались из подвала, несколько размытых ручейков света просочились сквозь узлы замка и разлились по каменному полу. Мы прошли две трети пути, когда телефон зазвонил опять.
На этот раз Перси не стала медлить и с явным беспокойством сказала:
— Прошу прощения. Понятия не имею, куда запропастилась Саффи. Я ожидаю важный телефонный звонок. Вы не могли бы подождать? Я мигом.
— Конечно.
Она кивнула и скрылась за углом коридора, оставив меня в затруднительном положении.
В том, что случилось дальше, я виню дверь. Ту, что находилась прямо напротив меня, всего в трех футах. Я люблю двери. Все на свете, без исключения. Двери обязательно куда-то ведут, и я ни разу не встречала дверь, которую мне бы не хотелось открыть. Тем не менее, если бы дверь не была такой старинной и узорчатой, такой демонстративно закрытой, если бы лучик света таким отчаянным соблазном не падал на ее середину, подсвечивая замочную скважину и интригующий ключ, возможно, я сумела бы устоять; изнывала бы от безделья, пока за мной не вернулась бы Перси. Но все сложилось так, что я не устояла; поверьте, я просто не могла. Иногда достаточно лишь взглянуть на дверь, и понятно: за ней скрывается нечто интересное.
Ручка двери в форме берцовой кости была черной, гладкой и прохладной. Более того, холод словно сочился с той стороны, хотя я не понимала, каким образом.
Мои пальцы сжали ручку, я начала ее поворачивать и…
— Мы туда не заходим.
Вряд ли стоит говорить, что мой желудок чуть не выскочил через рот.
Я крутанулась на каблуках и изучила темное пространство за спиной. Я ничего не видела и все же определенно была не одна. Кто-то, владелица голоса, стоял в коридоре со мной. Я ощутила бы это, даже если бы она молчала: я чувствовала чужое присутствие, что-то двигалось и пряталось в искаженных тенях. Шуршание тоже вернулось: громче, ближе, определенно не у меня в голове, определенно не мыши.
— Простите, — пробормотала я окутанному мраком коридору, — я…
— Мы туда не заходим.
Я подавила приступ паники.
— Я не знала…
— Это хорошая гостиная.
И тогда я увидела ее. Юнипер Блайт выделилась из промозглого мрака и медленно направилась по коридору ко мне.
Пообещай, что придешь танцевать
Ее платье было невероятным, таким самое место в фильмах о довоенных богатых дебютантках или на вешалках первоклассных благотворительных магазинов. Сшитое из органзы, оно было нежнейшего оттенка розового, по крайней мере прежде, покуда время и грязь не запятнали его. Слои тюля поддерживали пышную юбку, стекавшую с тонкой талии, и распирали ее так широко, что сетчатый подол задевал стены, когда Юнипер двигалась.
Казалось, мы целую вечность стояли друг напротив друга в тускло освещенном коридоре. Наконец она пошевелилась. Чуть-чуть. Ее руки висели по бокам, касаясь юбки; она приподняла одну руку, начиная с ладони, грациозным движением — словно кукловод у меня за спиной потянул невидимую нить, привязанную к ее запястью.
— Привет. — Я постаралась вложить в свои слова побольше тепла. — Я Эди. Эди Берчилл. Мы уже встречались, в желтой гостиной.
Она моргнула и склонила голову набок. Серебристые волосы, длинные и прямые, падали ей на плечи; передние пряди были довольно неаккуратно заколоты парой вычурных гребней. Неожиданная полупрозрачность ее кожи, худая фигура и роскошное платье создавали иллюзию подростка, юной девушки с длинными руками и ногами, которая не знает, куда их девать. Но не робкой, определенно не робкой: когда она шагнула чуть ближе, ступив в лужицу света, ее лицо было насмешливым и любопытным.
Теперь любопытство разгорелось и во мне, потому что, несмотря на преклонный возраст Юнипер, ее лицо казалось поразительно гладким. Разумеется, это невозможно, у семидесятилетних дам не бывает гладких лиц, и она не была исключением — во время наших последующих встреч я в этом убедилась, — но в том свете, в том платье, благодаря некоему обману зрения, странному заклятию, ее лицо казалось именно таким. Бледным и гладким, перламутровым, как изнанка жемчужной раковины, словно минувшие годы, оставившие неизгладимые следы на лицах ее сестер, ее решили пощадить. И все же она не парила в безвременье; в ней было нечто безошибочно старомодное, ее образ безнадежно застыл в прошлом, как давняя фотография, на которую смотришь сквозь папиросную бумагу, в альбоме с затуманенными сепией страницами. Мне вновь вспомнились первоцветы, спрятанные викторианскими леди в альбомах для вырезок. Прекрасные создания, умерщвленные самым милосердным образом, увлеченные в более не принадлежащее им место и время, в чужую весну.
Химера заговорила, и мои чувства окончательно смешались.
— Я собираюсь ужинать. — Высокий бесплотный голос, от которого у меня волоски на шее встали дыбом. — Хочешь со мной?
— Нет, — покачала я головой и откашлялась. — Нет, спасибо. Мне пора домой.
Это был не мой голос; я застыла как вкопанная, словно боялась. Полагаю, так оно и было, хотя вроде причин для страха не было.
Кажется, Юнипер не заметила, что мне не по себе.
— У меня новое платье. — Она присобрала юбки, отчего верхний слой органзы приподнялся по бокам, словно крылья мотылька, белые и бархатистые от пыльцы. — Ну, не совсем новое. Перешитое. Раньше оно принадлежало моей матери.
— Очень красивое.
— Полагаю, ты не знакома с ней.
— С вашей матерью? Нет.
— О, она была прелестной, просто прелестной. Совсем девочкой, когда умерла, совсем девочкой. Это было ее нарядное платье.
Юнипер жеманно покрутилась в разные стороны, поглядывая на меня из-под ресниц. Прежний стеклянный взгляд исчез, в ее небесно-голубых глазах, глазах сметливого ребенка с фотографии, которого потревожили во время одинокой игры на ступенях сада, плескалось тайное знание.
— Оно нравится тебе?
— Да. Очень.
— Саффи перешила его для меня. Она творит чудеса на швейной машинке. Если показать ей красивую картинку, она сразу разберется, как это сделано, даже новейшие парижские фасоны из «Вог». Она много недель трудилась над моим платьем, но это секрет. Перси бы не одобрила — из-за войны и из-за того, что она Перси; но ты точно меня не выдашь.
Она улыбнулась так загадочно, что у меня перехватило дыхание.
— Я буду нема как рыба.
Мгновение мы стояли, уставившись друг на друга. Мой первоначальный страх растаял, и я была этому рада. Теперь меня смущала подобная реакция, для которой не было никаких оснований, только инстинкт. В конце концов, чего мне бояться? Эта заблудшая душа в пустынном коридоре — та самая Юнипер Блайт, которая много лет назад выдернула мою мать из кучки перепуганных детишек, которая обеспечила ей крышу над головой, когда бомбы падали на Лондон, которая не переставала ждать давно пропавшего милого, надеяться на его возвращение.
Пока я наблюдала за ней, она вздернула подбородок и задумчиво выдохнула. Очевидно, я делала выводы о ней, а она делала выводы обо мне. Я улыбнулась, и, кажется, это помогло ей определиться. Она выпрямилась и снова шагнула ко мне, медленно, но решительно. В ней было что-то кошачье. В каждом ее движении читалась та же гибкая смесь осторожности и уверенности, томности, маскирующей тайный умысел.
Она остановилась, только когда подошла достаточно близко, так что я уловила затхлый сигаретный душок и запах нафталина. Ее глаза искательно взглянули в мои, и она прошептала:
— Ты умеешь хранить тайны?
Я кивнула, и она улыбнулась; из-за щели между передними зубами она казалась совсем девочкой. Она взяла меня за руки, как будто подружку на школьном дворе; ее ладони были гладкими и прохладными.
— У меня есть тайна, о которой лучше не болтать.
— Ладно.
Она сложила ладонь лодочкой, как ребенок, наклонилась ближе и прижала ее к моему уху. Ее дыхание щекотало мне шею.
— У меня есть любовник. — Она отстранилась, ее старческие губы растянулись в юной улыбке, полной чувственного возбуждения, гротескной и прекрасной одновременно. — Его зовут Том. Томас Кэвилл, и он попросил моей руки.
Меня затопила почти невыносимая жалость к ней, когда я поняла, что она застряла в мгновении своего ужасного разочарования. Скорей бы вернулась Перси и положила конец нашей беседе!
— Обещай, что ничего не расскажешь!
— Обещаю.
— Я ответила ему согласием, но тссс… — Она прижала палец к улыбающимся губам. — Мои сестры еще ничего не знают. Скоро он придет на ужин. — Юнипер усмехнулась; зубы старухи на бархатисто-гладком лице. — Мы объявим о нашей помолвке.
Я заметила, что у нее на пальце что-то надето. Не кольцо, не настоящее кольцо. Грубая подделка, серебристая, но тусклая и комковатая, наподобие куска алюминиевой фольги, свернутого в трубочку.
— И мы будем танцевать, танцевать, танцевать…
Она стала покачиваться, напевая мелодию, которая, вероятно, звучала у нее в голове. Именно эту мелодию я слышала раньше; она плыла по холодному лабиринту коридоров. Название ускользало от меня, как бы старательно я ни пыталась его припомнить. По-видимому, пластинка давно остановилась, однако Юнипер продолжала крениться в разные стороны, ее глаза были закрыты, щеки горели, как у юной женщины в ожидании любви.
Однажды я работала над книгой, в которой пожилая пара рассказывает историю своей совместной жизни. У женщины нашли болезнь Альцгеймера, но мучительное угасание еще не началось, и они решили записать свои воспоминания, пока те не разлетелись, словно поблекшие листья с осеннего дерева.
Проект занял шесть месяцев, в течение которых я наблюдала, как она беспомощно погружается сквозь забвение в пустоту.
Ее муж стал «тем мужчиной», и яркая, забавная женщина с сочным языком, которая спорила, усмехалась и перебивала, навеки затихла.
Я была знакома со слабоумием, но это явно не тот случай. Юнипер была какой угодно, только не пустой, и она почти ничего не забыла. И все же что-то случилось; она определенно была не в себе. Все мои знакомые пожилые женщины рано или поздно признавались, с разной степенью тоски, что в душе им по-прежнему восемнадцать. Однако это неправда. Мне всего тридцать, и я сужу по себе. Прожитые годы оставляют свой след: блаженное чувство юной неуязвимости тает, и ответственность ложится на плечи тяжким бременем.
Но с Юнипер все было иначе. Она искренне не понимала, что состарилась. В ее сознании по-прежнему бушевала война и, судя по тому, как она раскачивалась, гормоны. Она была совершенно невероятным гибридом, старая и юная, красивая и гротескная, здесь и там. Эффект был потрясающим и жутким, и я испытала внезапный приступ отвращения, который немедленно сменился глубоким стыдом за то, что я поддалась столь недоброму чувству…
Юнипер схватила меня за запястья; глаза ее широко распахнулись.
— Ну конечно! — воскликнула она и поймала смешок сетью длинных бледных пальцев. — Тебе ведь уже известно о Томе. Если бы не ты, мы никогда бы не встретились!
Что бы я ни собиралась ответить, меня перебил звон часов, которые начали отбивать время по всему замку. Что за жуткая симфония! Часы комната за комнатой отмечали прошедшее время, перекликаясь друг с другом. Они загудели в самой глубине моего тела, отчего кожа мгновенно покрылась холодным потом, и я совершенно лишилась присутствия духа.
— Мне правда пора, Юнипер, — хрипло выдавила я, когда часы наконец умолкли.
За спиной раздался легкий шорох, и я обернулась в надежде увидеть Перси.
— Пора? — Лицо Юнипер опечалилось. — Но ты только что пришла. Куда ты собралась?
— Обратно в Лондон.
— В Лондон?
— Я там живу.
— Лондон.
В этот миг с ней случилась перемена, стремительная, как грозовая туча, и такая же зловещая. Она с неожиданной силой схватила меня за руку, и я увидела то, чего раньше не замечала: небрежную паутину шрамов, посеребренных временем, на ее бледных запястьях.
— Возьми меня с собой.
— Я… я не могу.
— Но это единственный способ. Мы поедем и найдем Тома. Он, наверное, там, в своей маленькой квартирке, сидит у окна…
— Юнипер…
— Ты обещала, что поможешь мне. — Ее голос был напряженным, полным ненависти. — Почему ты не помогаешь мне?
— Простите? Я не…
— Ты же моя подруга; ты обещала, что поможешь. Почему ты не пришла?
— Юнипер, кажется, вы меня с кем-то путаете…
— Ах, Мередит, — прошептала она, дыша табаком и старостью. — Я совершила ужасный, ужасный поступок.
Мередит. Мой желудок свело спазмом, как будто резиновую перчатку слишком быстро вывернули наизнанку.
Торопливые шаги, и появилась собака, а следом за ней — Саффи.
— Юнипер! Ах, Джун, вот ты где.
Когда она подошла к сестре, на ее лице отразилось облегчение. Она осторожно обняла Юнипер и тут же отстранилась, изучая ее лицо.
— Тебе не следует так убегать. Я очень волновалась; искала повсюду. Не знала, куда ты запропастилась, мое солнышко.
Юнипер дрожала; я, вероятно, тоже. Мередит… Имя матери звенело у меня в ушах, резкое и назойливое, как гудение москитов. Я уверяла себя, что это ерунда, совпадение, бессмысленные бредни печальной сумасшедшей старухи, но я плохая лгунья и не имела ни малейшего шанса себя обмануть.
Когда Саффи убрала упавшие пряди со лба Юнипер, появилась Перси. Она резко остановилась, опираясь на трость и озирая представшую сцену. Близнецы обменялись взглядами — точно такие же взгляды озадачили меня часом раньше в желтой гостиной, но на этот раз Саффи первой отвела глаза. Она чудом сумела расплести узел рук Юнипер и крепко сжала ладонь младшей сестры.
— Спасибо, что побыли с ней. — Ее голос дрожал. — Весьма любезно с вашей стороны, Эдит…
— Э-дит, — эхом отозвалась Юнипер, не глядя в мою сторону.
— …иногда у нее в уме все путается, она убегает и бродит по замку. Мы пристально следим за ней, но…
Саффи осеклась и качнула головой, ее жест означал невозможность прожить жизнь за другого.
Не найдя подходящего ответа, я кивнула. Мередит. Имя моей матери. Мои мысли, сотни мыслей разом бросились против течения времени, выискивая разгадку в последних нескольких месяцах, пока не прибыли en masse[12] в родительский дом. Морозный февральский день, неприготовленный цыпленок, доставка письма, которое заставило маму плакать.
— Э-дит, — повторила Юнипер, — Э-дит, Э-дит…
— Да, милая, — подтвердила Саффи, — это Эдит. Она пришла в гости.
И меня наконец осенило: мама лгала, утверждая, что письмо Юнипер ничего не значит, точно так же, как лгала о нашем визите в Майлдерхерст. Но почему? Что произошло между мамой и Юнипер Блайт? Если верить Юнипер, мама дала обещание, которое не сдержала; что-то связанное с женихом Юнипер, Томасом Кэвиллом. Если дело в этом и правда действительно так ужасна, как предполагает Юнипер, в письме могли содержаться обвинения. Проблема в этом? Мама плакала из-за подавленного чувства вины?
Впервые с тех пор, как я приехала в Майлдерхерст, мне захотелось поскорее избавиться от дома и его застарелого горя, увидеть солнце, почувствовать ветер на лице и вдохнуть что-то отличное от запаха прогорклой грязи и нафталиновых шариков. Остаться наедине с этой новой загадкой и попытаться ее распутать.
— Надеюсь, она не обидела вас… — Саффи продолжала оправдываться; сквозь вихрь моих мыслей ее голос доносился как бы издали, с другой стороны тяжелой, массивной двери. — Она ничего такого не имела в виду. Иногда она говорит забавные вещи, чепуху, бессмыслицу…
Ее голос стих, и повисла напряженная пауза. Саффи наблюдала за мной, в ее глазах крылись невысказанные чувства, и я догадалась, что ее тяготит не только забота о сестре. На ее лице было написано что-то еще, особенно когда она вновь взглянула на Перси. Страх — осознала я. Они были напуганы, обе.
Тогда я посмотрела на Юнипер, которая пряталась за скрещенными руками. Мне показалось, или она стояла особенно тихо, внимательно слушая, ожидая, как я отреагирую, что им отвечу?
Я мужественно улыбнулась, наивно надеясь, что улыбка сойдет за небрежную, и пожала плечами.
— Да мы особо не общались. Я просто восхищалась ее прелестным платьем.
Окружающий воздух словно сдвинулся от облегчения, испытанного близнецами. Профиль Юнипер ничуть не изменился, и в мою душу закралось смутное, странное подозрение, что я совершила ошибку. Возможно, мне следовало быть честной, пересказать близнецам признание Юнипер, причину ее расстройства. Но я до сих пор не упомянула о своей маме и ее эвакуации и сомневалась, что смогу подобрать нужные слова…
— Мэрилин Кенар приехала, — резко сообщила Перси.
— Ну почему все вечно происходит одновременно? — посетовала Саффи.
— Она отвезет вас обратно в фермерский дом. Говорит, вам пора в Лондон.
— Да, — подтвердила я.
«Слава богу».
— Очень жаль, — заметила Саффи; благодаря неподдельным усилиям и, полагаю, годам практики ее голос прозвучал совершенно обыденно. — Мы собирались предложить вам чашечку чая. У нас так мало гостей.
— В следующий раз, — пообещала Перси.
— Да, — добавила Саффи. — В следующий раз.
«Маловероятно, что пригласят».
— Спасибо за экскурсию…
Перси повела меня назад по таинственному пути, к миссис Кенар и нормальной жизни, а Саффи и Юнипер удалились в противоположном направлении, их голоса катились вдоль каменных стен.
— Прости, Саффи, прости, прости, прости. Я просто… я забыла…
Слова перешли в рыдания. Плач был таким горьким, что мне захотелось зажать уши ладонями.
— Дорогая, ни к чему так расстраиваться.
— Но я совершила ужасный поступок, Саффи. Ужасный, ужасный поступок.
— Чепуха, милочка, выкинь это из головы. Пойдем выпьем чаю?
От терпения и доброты в голосе Саффи у меня сжалось сердце. Пожалуй, именно тогда я впервые осознала, как бесконечно долго они с Перси рассыпались в подобных заверениях, стирали беспокойство со стареющего лба своей младшей сестры с той же самой рассудительной заботой, какую родители выказывают детям, но без надежды, что с годами бремя станет легче.
— Мы переоденем тебя во что-нибудь удобное, и все вместе выпьем чаю. Ты, я и Перси. После чашечки хорошего крепкого чая все выглядит намного проще, не правда ли?
Миссис Кенар ждала под куполообразным потолком у входа в замок, изнемогая от груза вины. Она рассыпалась в извинениях перед Перси Блайт, страдальчески гримасничая и понося несчастных, ничего не подозревающих деревенских жителей, которые ее задержали.
— Успокойтесь, миссис Кенар, — произнесла Перси повелительным тоном, словно викторианская няня обратилась к надоедливому подопечному. — Я с удовольствием провела экскурсию сама.
— Ну конечно, не сомневаюсь. В память о былых временах. Полагаю, вам понравилось…
— Именно.
— Такая жалость, что экскурсии закончились. Конечно, это вполне естественно, и вы с мисс Саффи молодцы, что проводили их так долго, особенно учитывая, что вам приходится столько…
— Да-да. — Перси Блайт выпрямилась, и я внезапно поняла, что она не любит миссис Кенар. — А теперь прошу меня простить.
Она кивнула в сторону открытой двери, мир за которой казался более ярким, шумным и стремительным, чем когда я покинула его.
— Спасибо, — успела вставить я, — что показали мне свой прекрасный дом.
Перси разглядывала меня на мгновение дольше, чем требовалось, затем пошла прочь по коридору, тихо постукивая тростью. Через несколько шагов она остановилась и обернулась, почти скрытая завесой полумрака.
— Знаете, он был прекрасен. Давным-давно. Прежде.
29 октября 1941 года
Одно было ясно: луны сегодня ночью не будет. Небо, словно вышедшее из-под мастихина художника, катилось густой лавиной серого, белого и желтого. Перси лизнула папиросную бумагу и утрамбовала самокрутку, покатав ее меж пальцев, чтобы не развалилась. Над головой прогудел аэроплан, чужой патрульный самолет, направляющийся вдоль побережья на юг. Разумеется, им надо было кого-то послать, но ему нечего будет докладывать, не в такую ночь, не сейчас.
Прислонившись к фургону, Перси стояла и следила за полетом аэроплана, щурясь по мере того, как коричневое насекомое становилось все меньше и меньше. Она зевнула от напряжения и потерла глаза, пока они приятно не заныли. Когда она снова их открыла, самолета уже не было.
— Эй! Нечего опираться на мой полированный капот и крылья, ты их попортишь.
Перси повернулась и облокотилась о крышу фургона. Дот, усмехаясь, выскочила из станции.
— Скажи спасибо, — крикнула Перси. — Если бы не я, ты бы изнывала от безделья в следующую смену.
— Это точно. Командир заставил бы меня стирать кухонные полотенца.
— Или устроил очередную демонстрацию носилок для старост. — Перси вздернула бровь. — Что может быть лучше?
— Например, штопать шторы затемнения.
— Ужас какой, — поморщилась Перси.
— Поторчишь здесь еще немного — и станешь настоящей рукодельницей, — предостерегла Дот, подходя к Перси. — Все равно больше нечего делать.
— Значит, есть новости?
— Ребята из ВВС только что прислали сообщение. На горизонте чисто, сегодня ничего не будет.
— Как я и подозревала.
— Дело не только в погоде. По словам командира, вонючие боши слишком увлечены походом на Москву, чтобы возиться с нами.
— Ну и глупо. — Перси осмотрела свою сигарету. — Зима наступает быстрее, чем они.
— Полагаю, ты все равно собираешься болтаться поблизости и путаться у нас под ногами — мало ли, фрицы неожиданно скинут рядом бомбу!
— Была такая мысль. — Перси засунула сигарету в карман и перекинула сумку через плечо. — Но я передумала. Сегодня даже вторжение не заставит меня остаться.
Дот широко распахнула глаза.
— Что так? Какой-нибудь красавчик пригласил тебя на танцы?
— Увы, нет; но событие все равно хорошее.
— Какое же?
Подъехал автобус, и Перси пришлось перекрикивать рев мотора, забираясь в салон.
— Сегодня вечером приезжает моя младшая сестра.
Перси не больше других любила войну — тем более, что у нее было множество возможностей лицезреть ее ужасы, — и потому никогда и ни за что не говорила вслух о странном зернышке разочарования, которое зрело у нее глубоко внутри с тех пор, как ночные налеты прекратились. Она понимала совершенную нелепость ностальгии по временам смертельной опасности и разрушений; любые чувства, кроме осторожного оптимизма, были чертовски близки к кощунству, и все же нездоровая ярость мешала ей уснуть в последние месяцы, а уши настороженно прислушивались к тихим ночным небесам.
Если Перси чем и гордилась, так это своей способностью проявлять прагматизм во всем… Господу известно, кто-то ведь должен… вот почему она решила Докопаться До Сути Происходящего. Найти способ остановить маленькие часы, которые угрожающе тикали в ее груди, не имея возможности пробить время. Несколько недель, старательно скрывая признаки внутреннего беспокойства, Перси оценивала ситуацию, наблюдая за своими ощущениями с разных углов, пока наконец не пришла к выводу, что, вне всяких сомнений, отчасти лишилась рассудка.
Этого следовало ожидать; безумие было чем-то вроде фамильного наследия, наравне с художественными способностями и длинными руками и ногами. Перси надеялась его избежать, но не удалось. Гены взяли свое. И если честно, разве она не подозревала, что ее собственное помешательство — вопрос времени?
Конечно, это папа во всем виноват, в особенности страшные истории, которые он рассказывал в ту пору, когда они были такими маленькими, что он легко подхватывал их на руки, такими доверчивыми, что охотно сворачивались в клубочек на его широких теплых коленях. Истории из прошлого семьи, о клочке земли, который стал Майлдерхерстом, который голодал и процветал, взлетал и падал в течение столетий, страдал от наводнений, возделывался и служил притчей во языцех. О зданиях, которые сгорели и были восстановлены заново, сгнили и были разграблены, вызывали трепет и были забыты. О людях, которые еще до их рождения называли замок домом, о периодах завоеваний и очищений, которые слоями застелили почву Англии и полы их собственного любимого дома.
История в устах искусного рассказчика — несомненно, могущественная сила, и все лето после отъезда папы на Первую мировую, когда Перси было восемь или девять лет, ей снились яркие сны о захватчиках, лавиной катящихся к их дому. Она заставляла Саффи, и та помогала ей строить форты на деревьях Кардаркерского леса, запасать оружие и отсекать головы молодым деревцам, которые вызывали ее недовольство. Тренироваться, чтобы быть готовыми, когда настанет их время исполнить свой долг, защитить замок и его земли от нахлынувших орд…
Автобус, громыхая, завернул за угол, и Перси закатила глаза, глядя на свое отражение. Конечно, это глупо. Девические фантазии — одно, но настроение взрослой женщины не должно подчиняться их отголоскам. Это действительно очень печально. Она с раздражением фыркнула и повернулась спиной к отражению.
Поездка заняла немало времени, намного больше обычного, такими темпами хорошо бы поспеть домой к десерту, что бы он собой ни представлял. Грозовые облака копились, темнота угрожала обрушиться в любое мгновение, и автобус, лишенный мало-мальски порядочных фар, жался к обочине и был наготове. Она взглянула на часы: уже половина пятого. Юнипер должна приехать в половине седьмого, молодой человек — в семь, а Перси обещала вернуться к четырем. Несомненно, парень из мер противовоздушной обороны был в своем праве, когда остановил автобус для случайной проверки, но именно сегодня вечером у нее были дела поважнее. Например, обеспечить трезвый подход к приготовлениям в Майлдерхерсте.
Какими только трудами не нагрузила себя Саффи в течение дня! Добра не жди — решила Перси. Добра не жди, это точно. Никто не хлопочет по дому так охотно, как Саффи, и когда Юнипер сообщила, что пригласила загадочного гостя, не осталось ни малейшего шанса, что Событие, как его позже назовут, избегнет пристального внимания Серафины Блайт. В какой-то момент даже предлагалось распаковать оставшиеся от бабушки канцелярские принадлежности «Корокейшн» и надписать карточки для рассадки за столом, однако Перси возразила, что для компании из четырех человек, трое из которых — сестры, подобные старания совершенно излишни.
По ее плечу постучали, и Перси осознала, что маленькая старушка рядом с ней протягивает открытую жестянку и предлагает запустить руку внутрь.
— Мой личный рецепт, — промолвила старушка чистым, пронзительным голосом. — Почти без масла, но в целом очень даже неплохо, хотя нахваливать саму себя неприлично.
— О! — откликнулась Перси. — Нет. Спасибо. Я не могу. Оставьте себе.
— Не стесняйтесь.
Леди погремела жестянкой под носом у Перси, одобрительно кивая при виде ее формы.
— Ну хорошо.
Перси выбрала печенье и откусила кусочек.
— Очень вкусно, — подтвердила она, молча оплакивая старые добрые деньки, когда масло было в изобилии.
— Так вы работаете в корпусе медсестер?
— Вожу машину скорой помощи. Во время бомбежек, естественно. В последнее время — все больше намываю.
— Уверена, что вы найдете, куда приложить усилия. Вас, молодежь, не остановишь. — В глазах старушки забрезжила идея, отчего они широко распахнулись. — Ну конечно, вы должны войти в один из швейных кружков! Моя внучка трудится в «Строчащих Сьюзен» у нас в Крэнбруке, и эти девочки делают большое дело, уж поверьте.
Перси была вынуждена согласиться, что идея неплоха, если отбросить вздор насчет иголки и нитки. Возможно, ей следует направить энергию в новое русло: поступить шофером к правительственному чиновнику, научиться обезвреживать бомбы или водить самолет, стать советником по сбору утильсырья. Что угодно. Возможно, тогда она немного успокоится. Перси против воли начала подозревать, что Саффи была права все эти годы: она ремонтник. Лишенная инстинкта созидания, но склонная чинить, она была счастлива лишь тогда, когда искусно латала дыры. Какая невыносимо унылая мысль!
Автобус с грохотом завернул за очередной угол; наконец впереди показалась деревня. Когда они подъехали ближе, Перси заметила свой велосипед, прислоненный к старому дубу у почты, где она оставила его сегодня утром.
Еще раз поблагодарив за печенье и торжественно пообещав заглянуть в местный швейный кружок, она высадилась и помахала вслед общительной старушке и автобусу, покатившему в Крэнбрук.
После того как автобус выехал из Фолкстона, поднялся ветер, и Перси засунула руки в карманы брюк, улыбнувшись суровым мисс Блетем, которые хором затаили дыхание и прижали к сердцу пакеты, прежде чем кивнуть в ответ и поспешить домой. Война началась два года назад, но для некоторых вид женщины в брюках все еще возвещал зарю апокалипсиса, не говоря уже о злодеяниях в краях ближних и дальних. Перси воспряла духом и задумалась, хорошо ли обожать свою форму еще больше за тот эффект, который она оказывает на всех мисс блетем мира.
Время было позднее, но оставались все шансы, что мистер Поттс еще не заезжал в замок. Перси не сомневалась, что в деревне да и во всей стране мало мужчин, кто служил бы в войсках местной обороны с таким усердием, как мистер Поттс. Он так старательно защищал нацию, что всякий, кого он не останавливал хотя бы раз в месяц для проверки документов, считал, что им пренебрегают. То, что подобное рвение оставило деревню без надежной почтовой службы, мистер Поттс, по-видимому, рассматривал как печальную, но необходимую жертву.
Когда Перси вошла, над дверью звякнул колокольчик, и миссис Поттс вскинула глаза из-за груды бумаг и конвертов. Своим поведением она напоминала кролика, застигнутого врасплох на грядках, и еще больше усилила это впечатление, шмыгнув носом. Перси постаралась скрыть веселье за напускной суровостью, которая, в конце концов, была ее фирменным блюдом.
— Ну-ну, — произнесла почтмейстерша, приходя в себя со скоростью, которая свидетельствовала о богатом опыте мелкого жульничества. — Никак мисс Блайт.
— Доброе утро, миссис Поттс. Есть что-нибудь для нас?
— Сейчас посмотрю, если вы не возражаете.
Сама мысль о том, что миссис Поттс не досконально знакома со всей дневной перепиской, казалась смехотворной, но Перси подыграла.
— Конечно, спасибо, — поблагодарила она, когда почтмейстерша отправилась рыться в коробках на заднем столе.
Громко пошуршав бумагами, миссис Поттс выудила небольшую стопку разнообразных конвертов и воздела над головой.
— Вот они где. — Она триумфально вернулась за стойку. — Пакет для мисс Юнипер… от вашей подопечной из Лондона, судя по виду; наверное, малышка Мередит рада-радехонька вернуться домой?
Перси нетерпеливо кивнула, и миссис Поттс продолжила:
— …письмо для вас, надписанное от руки, и письмо для мисс Саффи, напечатанное на машинке.
— Превосходно. Можно уже не читать.
Миссис Поттс аккуратно выложила письма на стойку, но не отпустила.
— Надеюсь, в замке все хорошо, — сказала она с чувством, которого совершенно не требовал столь безобидный вопрос.
— Прекрасно, благодарю вас. А теперь, если позволите…
— Более того, судя по слухам, вас скоро можно будет поздравить.
Перси раздраженно вздохнула.
— Поздравить?
— Свадебные колокола, — пояснила миссис Поттс в своей отточенной назойливой манере, сумев одновременно похвастаться неправедно приобретенным знанием и жадно потребовать большего. — В замке.
— Сердечно благодарю, миссис Поттс, но, увы, сегодня я помолвлена не больше, чем вчера.
Почтмейстерша немного постояла, размышляя, и звонко рассмеялась.
— О! Ну вы и штучка, мисс Блайт! Помолвлена не больше, чем вчера, — это надо запомнить. — Изрядно повеселившись, она успокоилась, достала из кармана юбки небольшой, обшитый кружевом платочек и промокнула глаза. — Однако я имела в виду не вас.
— Не меня? — притворно удивилась Перси.
— О нет, боже упаси, не вас и не мисс Саффи. Я знаю, что вы обе не намерены покидать нас, благослови вас Господь. — Она еще раз вытерла щеки. — Я говорю о мисс Юнипер.
Невольно Перси заметила, как имя ее младшей сестры заискрило на устах сплетницы. В самих его звуках таилось электричество, и миссис Поттс была его природным проводником. Люди всегда любили обсудить Юнипер, даже когда она была девочкой. Сестра лишь разжигала сплетниц; ребенок с привычкой терять сознание от возбуждения заставлял окружающих понижать голоса и рассуждать о дарах и проклятиях. Поэтому все ее детство любое странное или необъяснимое событие в деревне — загадочное исчезновение постиранного белья миссис Флеминг, последующее щеголяние пугала фермера Джейкоба в женских панталонах, вспышку свинки — досужие языки рано или поздно приписывали Юнипер так же верно, как мухи летят на мед.
— Мисс Юнипер и некий молодой человек? — не унималась миссис Поттс. — Я слышала, в замке ведутся большие приготовления? Парень, с которым она познакомилась в Лондоне?
Сама идея была абсурдной. Юнипер не создана для брака; сердце младшей сестры принадлежало поэзии. Перси хотела было посмеяться над жадным вниманием миссис Поттс, однако взглянула на часы и передумала. Разумное решение; не хватало только увязнуть в дискуссии о переезде Юнипер в Лондон. Тем более что Перси могла невольно проболтаться, какое беспокойство вызвала в замке эскапада Юнипер. Гордость не позволит ей подобного.
— Мы действительно ждем к ужину гостя, миссис Поттс, но хотя он действительно гость, а не гостья, никакой он не поклонник. Просто знакомый из Лондона.
— Знакомый?
— Всего лишь.
Миссис Поттс сощурилась.
— Так значит, свадьбы не будет?
— Нет.
— А то мне известно из верного источника, что предложение было сделано и принято.
Все прекрасно знали, что «верный источник» миссис Поттс заключался в тщательном отслеживании писем и телефонных звонков, подробности которых она бурно обсуждала со множеством местных сплетниц. Хотя Перси не заходила так далеко и не осмелилась бы подозревать почтенную женщину в том, что та вскрывает конверты над паром, прежде чем отправить по назначению, некоторые жители деревни именно так и считали. Однако в данном случае писем было крайне мало (и они не могли распалить любопытство миссис Поттс, поскольку Мередит оставалась единственной корреспонденткой Юнипер), равно как и оснований для слухов.
— Полагаю, я бы знала, миссис Поттс, — отрезала Перси. — Будьте уверены, это всего лишь ужин.
— Особенный ужин?
— О, в наши времена каждый ужин — особенный, — отшутилась Перси. — Никогда не угадаешь, вдруг это в последний раз.
Она выхватила письма из рук почтмейстерши и в этот миг углядела стеклянные банки, которые раньше стояли на стойке. Кислые леденцы и ириски закончились, но на дне одной из банок лежал довольно жалкий кусочек окаменевшей помадки «Эдинбургская скала». Перси терпеть не могла «Эдинбургскую скалу», зато Юнипер ее обожала.
— Можно, я заберу у вас остатки помадки?
Миссис Поттс с кислым выражением лица выковыряла помадку из банки и запихала в пакет из оберточной бумаги.
— Шесть пенсов.
— Да что вы, миссис Поттс! — Перси осмотрела маленький липкий пакетик. — Не будь мы такими добрыми друзьями, я бы решила, что вы пытаетесь на мне нажиться.
Лицо почтмейстерши вспыхнуло от негодования, и она принялась все отрицать.
— Конечно, я шучу, миссис Поттс. — Перси протянула деньги, засунула письма и помадку в сумку и небрежно улыбнулась почтмейстерше. — До свидания. Специально для вас я осведомлюсь у Юнипер о ее планах, но, подозреваю, вы узнаете раньше меня, если будет о чем узнавать.
Разумеется, лук очень важен, но это никак не меняло того факта, что его листья совершенно не годятся для цветочной композиции. Саффи осмотрела хилые зеленые перья, которые только что срезала, повертела так и сяк, сощурилась, на случай если это поможет, и призвала на помощь фантазию, представляя их на столе. В бабушкиной фамильной французской хрустальной вазе они смотрелись на редкость убого; возможно, следует добавить капельку чего-нибудь цветного, чтобы скрыть их происхождение? Или… ее мысли понеслись вскачь, и она пожевала губу, как всегда, когда впереди брезжила грандиозная идея… что, если развить тему, добавить немного листьев фенхеля и цветов кабачка и объявить это шуткой на тему дефицита?
Она со вздохом уронила руку, крепко сжимая никнущие перья, и печально покачала головой. Какие только бредовые мысли не придут на ум отчаявшемуся человеку! Ростки лука ни на что не пригодны, они не только безнадежно унылы, но и чем дальше, тем больше источают гнусный запах, подозрительно похожий на запах старых носков. Запах, с которым Саффи близко познакомилась благодаря войне и в особенности благодаря одержимости войной своей сестры-близнеца. Нет уж. После четырех месяцев жизни в Лондоне, вращения в умнейших кругах Блумсбери, воздушных тревог и ночевок в убежище Юнипер заслуживает большего, чем аромат грязного белья.
Не говоря уже о госте, которого она пригласила самым загадочным образом. Юнипер не привлекала сердца — юная Мередит оказалась единственным неожиданным исключением, — но Саффи умела читать между строк, и хотя строки Юнипер были корявыми даже в лучшие времена, она поняла, что молодой человек проявил доблесть и тем заслужил расположение Юнипер. Следовательно, приглашение было демонстрацией благодарности семьи Блайт, и все должно пройти идеально. Саффи еще раз оценила ростки лука и убедилась, что они определенно далеки от идеала. Но выбрасывать их нельзя — это поистине кощунство! Лорд Вултон[13] пришел бы в ужас. Она положит их в какое-нибудь блюдо, но не сегодня. Лук и его последствия годятся только для бедняков.
Саффи безутешно вздохнула, потом еще раз, потому что ощущение ей понравилось, и пошла обратно к дому, как обычно радуясь тому, что тропинка не ведет через парадные сады. Она бы этого не вынесла; когда-то сады были великолепны. Настоящая трагедия, что столько цветочных садов нации заброшено или отдано под выращивание овощей. Если верить последнему письму Юнипер, не только цветы аллеи Роттен-роу в Гайд-парке расплющены под огромными грудами дерева, железа и кирпича — обломками бог знает какого несметного количества домов, — но и вся южная сторона парка теперь нарезана под огороды. Необходимость, признавала Саффи, но оттого не менее трагическая. Нехватка картофеля вызывает бурчание в животе, а отсутствие красоты ожесточает душу.
Впереди порхала поздняя бабочка, складывая и раскрывая крылья, как зеркальные половинки каминных мехов. То, что подобное совершенство и подобный покой существует и тогда, когда человечество стремится обрушить небо себе на голову… что ж, это поистине чудо. Лицо Саффи просветлело; она протянула палец, но бабочка не обращала внимания, то взмывала, то опускалась, изучая коричневые плоды мушмулы. Вне всяких сомнений — настоящее чудо! Саффи с улыбкой побрела дальше к замку и нырнула в сучковатую беседку из глицинии, стараясь не зацепиться волосами.
Мистеру Черчиллю следовало бы вспомнить, что войны выигрываются не пулями едиными, и наградить тех, кто сумел сберечь красоту, когда мир вокруг разлетался на уродливые осколки. «Медаль Черчилля за сохранение красоты в Англии — неплохо звучит», — подумала Саффи. Когда она упомянула об этом недавно за завтраком, Перси ухмыльнулась с неизбежным самодовольством человека, который много месяцев спускался в воронки от бомб, зарабатывая свою собственную медаль за отвагу, но Саффи не считала это глупостью. Более того, она сочиняла письмо в «Таймс» на данную тему. Суть письма: красота очень важна, точно так же, как живопись, литература и музыка; особенно теперь, когда цивилизованные нации вынуждают друг друга совершать все более варварские поступки.
Саффи всегда обожала Лондон. Ее планы на будущее зависели от его сохранности, и каждую сброшенную бомбу она воспринимала как личное оскорбление. Когда налеты были в полном разгаре и рокот зениток, вой сирен и непростительные взрывы были верными ночными спутниками, она яростно грызла ногти — отвратительная привычка, в которой она винила лично Гитлера, — гадая, возможно ли страдать еще больше, оттого что отсутствовал в городе, когда разразилось несчастье, точно так же, как тревога матери за раненого сына усиливается с расстоянием. С самого детства Саффи казалось, что ее жизненный путь пролегает не через топкие поля или древние камни Майлдерхерста, а вьется среди парков и кафе, ученых бесед Лондона. Когда они с Перси были маленькими, после того как их мать сгорела, но до рождения Юнипер… когда их еще было трое… папа каждый год брал их в Лондон пожить в доме в Челси. Они были совсем малышками; время еще не обточило их, отполировав различия и заострив мнения, и с ними обращались как с копиями друг друга… да и сами они считали себя таковыми. И все же в Лондоне Саффи ощутила в душе самые начатки разделения, скрытые, но мощные. В то время как Перси, подобно отцу, вздыхала по широким зеленым лесам родины, Саффи оживала в городе.
За спиной раздался грубый грохот, и Саффи застонала, не желая оборачиваться и видеть тяжелые тучи, которые, как она знала, злорадствовали у нее за плечом. Из всех персональных лишений войны особенно жестоким ударом было исчезновение регулярного прогноза погоды по радио. Саффи хладнокровно встретила сокращение времени, отведенного на чтение, согласившись, что Перси будет приносить из абонементного отдела библиотеки одну книгу в неделю вместо прежних четырех. Она смиренно отказалась от шелковых платьев в пользу практичных сарафанов. Она приняла как должное потерю слуг, которые разбежались, словно крысы с тонущего корабля, и свое последующее вступление в должность главного повара, уборщицы, прачки и садовника. Но попытки Саффи овладеть премудростями английской погоды встретили достойное сопротивление. Несмотря на целую жизнь, проведенную в Кенте, она не обладала инстинктами сельской женщины; хуже того, в ней обнаружилось противоположное умение — развешивать белье и бродить по полям в те самые дни, когда собирался дождь.
Саффи зашагала быстрее, почти побежала, стараясь не обращать внимания на луковый запах, который, казалось, становился тем сильнее, чем быстрее она шла. Одно было ясно: когда война закончится, Саффи навсегда оставит деревенскую жизнь. Перси об этом еще не знала — для подобной новости нужно правильно выбрать время, — но Саффи переедет в Лондон. Там она найдет себе квартирку на одного. У нее не было личной мебели, хотя это небольшая беда; в подобных вопросах Саффи полагалась на провидение. Одно было ясно: она ничего не возьмет с собой из Майлдерхерста. Все ее вещи будут новыми; она начнет жизнь заново, почти на два десятилетия позже, чем собиралась, но тут уж ничего не поделаешь. Она стала старше, сильнее, и на этот раз ее не остановит никакое давление.
Хотя ее намерения оставались тайной, Саффи просматривала страницы с объявлениями о сдаче жилья в субботней «Таймс», чтобы быть во всеоружии, когда представится возможность. Она подумывала о Челси и Кенсингтоне, но предпочла бы одну из площадей эпохи короля Георга в Блумсбери, на расстоянии пешей прогулки от Британского музея и магазинов Оксфорд-стрит. Она надеялась, что Юнипер тоже обоснуется в Лондоне и поселится по соседству; конечно, Перси сможет заглядывать в гости. Впрочем, она будет оставаться не больше чем на ночь, потому что не выносит спать в чужой постели и к тому же считает своим долгом находиться рядом с замком и подпирать его, пусть даже собственным телом, если он начнет рушиться.
В мыслях Саффи часто навещала свою квартирку, особенно когда Перси разгуливала по коридорам замка, бранясь по поводу облупившейся краски и просевших балок, проклиная каждую новую трещину в стенах. Саффи закрывала глаза и распахивала дверь в свой собственный дом. Он будет маленьким, простым и очень чистым — об этом она лично позаботится, — и в нем будут царить запахи восковой полировки и уксуса. Саффи сжала перья лука в кулаке и еще прибавила шаг.
Стол у окна, пишущая машинка «Оливетти», в углу — миниатюрная стеклянная ваза — в крайнем случае, подойдет старая, но симпатичная бутылка — с единственным цветком в самом блеске его красоты, который она будет менять каждый день. Радио станет ее единственным товарищем, и в течение дня она будет отрываться от пишущей машинки, чтобы послушать прогнозы погоды, ненадолго покидая мир, который станет создавать страница за страницей, и выглянуть в окно на бездымное лондонское небо. Солнце погладит ее по руке, прольется в ее крошечный дом, засверкает на полированной мебели. По вечерам она будет читать библиотечные книги, еще немного работать над своим текущим проектом и слушать Грейси Филдс[14] по радио, и никто не станет бормотать из соседнего кресла, что это сплошь сентиментальная чепуха.
Саффи остановилась, прижала ладони к разгоряченным щекам и вздохнула от удовольствия. Мечты о Лондоне, о будущем привели ее прямо на задворки замка; более того, она поспела раньше дождя.
Взгляд на курятник немного приглушил ее радость. Как ей жить без своих девочек? Может, получится забрать их с собой? Несомненно, в ее будущем садике найдется место для небольшого выводка… надо просто добавить этот обязательный пункт к своему списку. Саффи отворила калитку и протянула руки:
— Здравствуйте, мои дорогие. Как поживаете?
Хелен-Мелон взъерошила перья, но не сдвинулась с насеста, а Мадам даже не стала отрывать глаз от грязи.
— Выше нос, девочки. Я пока никуда не уехала. Сначала надо выиграть целую войну.
Этот призыв к сплочению не оказал подбадривающего эффекта, на который надеялась Саффи, и ее улыбка увяла. Хелен уже третий день ходила как в воду опушенная, а Мадам обычно молчала как рыба. Молоденькие курочки во всем подражали старшим, так что настроение в курятнике было определенно мрачным. Саффи привыкла к такому унынию во время налетов; куры чувствительны не меньше людей и так же подвержены беспокойству, а бомбы падали без остановки. В итоге она стала брать всех восьмерых с собой в убежище на ночь. Конечно, они не слишком благоухали, но результат всех устроил; куры снова начали нестись, а Саффи была рада компании, поскольку Перси редко ночевала дома.
— Иди ко мне, — заворковала Саффи, хватая Мадам в объятия. — Не будь злюкой, милая. Это просто гроза собирается, ничего более.
Теплое пернатое тельце расслабилось лишь на мгновение, прежде чем курица захлопала крыльями и неуклюже вырвалась на свободу, где снова принялась копошиться в грязи.
Саффи отряхнула руки и подбоченилась.
— Все настолько плохо? Что ж, тогда остается только одно.
Покормить. Единственный метод в ее арсенале, который гарантированно поднимет им настроение. Ее девочки — настоящие обжоры, и в этом нет ничего плохого. Вот бы все проблемы мира решались при помощи вкусного блюда. Обычно они ужинали позже, но сейчас настал критический момент: стол в гостиной еще не накрыт, сервировочная ложка пропала без вести, Юнипер и ее гость нагрянут с минуты на минуту… а еще нужно наставить Перси на путь истинный, так что кучка сердитых кур ей совершенно ни к чему. Вот. Это практичное решение. Куры должны вести себя прилично. А то, что Саффи безнадежно мягкотела, здесь совершенно ни при чем.
По углам кухни скопился жар дня, проведенного за чудесным сотворением ужина из того, что нашлось в кладовой или удалось выпросить на соседних фермах, и Саффи оттянула ворот блузки, чтобы немного остыть.
— Так, — разволновалась она, — на чем я остановилась?
Она подняла крышку кастрюли, дабы убедиться, что заварной крем не исчез за время ее отсутствия; по пыхтению плиты предположила, что пирог еще печется; затем заметила старый деревянный ящик, который не годился для своего первоначального предназначения, но прекрасно подходил для нового.
Саффи оттащила его в дальний угол кладовой и забралась наверх, стоя на цыпочках на самом краю. Она шарила по полке, пока в самом темном месте ее пальцы не наткнулись на маленькую жестянку. Ухватив жестянку, Саффи улыбнулась себе под нос и слезла. Пыль оседала на банке месяцами, сажа и пар превратились в клей, и ей пришлось вытереть верх банки большим пальцем, чтобы прочесть этикетку; «Сардины». Превосходно! Она крепко держала консервы, наслаждаясь ощущением недозволенного.
— Не беспокойся, папочка, — пропела Саффи, доставая консервный нож из ящика с тяжеловесными кухонными принадлежностями и закрывая ящик бедром. — Это не для меня.
Одним из руководящих принципов отца было то, что консервированная пища — это заговор, и лучше умереть от голода, чем проглотить хоть ложечку. Саффи особо не выясняла, чей именно заговор и какую цель он преследует, но папа был непреклонен, и этого хватало. Он не терпел возражений, и долгое время она не стремилась ему возражать. В детстве он был для Саффи солнцем днем и луной ночью; мысль о том, чтобы разочаровать отца, принадлежала потусторонней реальности вампиров и кошмаров.
Саффи размяла сардины в фарфоровой миске, заметив трещину, волосинкой протянувшуюся в ее боку, только после того, как рыба совершенно утратила форму. Напуганные куры — еще полбеды, но вкупе с обоями, которые, как обнаружила Саффи, отклеились от трубы в хорошей гостиной, миска стала вторым признаком упадка за два часа. Она мысленно отметила, что следует внимательно проверить тарелки, которые они отложили для сегодняшнего вечера, и спрятать те, что схожим образом испорчены; именно подобные неприятности выводят Перси из себя, и хотя Саффи восхищалась преданностью своей сестры-близнеца Майлдерхерсту и уходу за ним, дурное настроение Перси никак не поспособствовало бы праздничной атмосфере, которую она надеялась создать.
Затем события посыпались одно за другим. Дверь приоткрылась, Саффи подпрыгнула, и остаток сардины шлепнулся с вилки на каменный пол.
— Мисс Саффи!
— А, Люси, слава богу, это вы! — Саффи прижала вилку к сердцу, бьющемуся в ритме стаккато. — Я чуть не поседела!
— Простите. Я думала, вы собираете цветы для гостиной… Я только хотела… Я хотела проверить…
Остаток фразы экономки повис в воздухе, когда она подошла ближе, обнаружила рыбное месиво и открытую банку и окончательно сделала неверный вывод, встретившись взглядом с Саффи. Ее прелестные лиловые глаза широко распахнулись.
— Мисс Саффи! — воскликнула она. — Неужели…
— О, нет-нет-нет… — Саффи замахала рукой, требуя тишины, улыбнулась и прижала палец к губам. — Тсс, Люси, дорогая. Это не для меня, конечно, нет. Я берегу их для девочек.
— Вот как. — Люси заметно расслабилась. — Ну, это совсем другое дело. Мне бы не хотелось, чтобы он, — она благоговейно воздела глаза к потолку, — расстроился, даже сейчас.
— Да уж, не хватало только, чтобы папа сегодня вечером вертелся в гробу, — согласилась Саффи и кивнула на аптечку. — Передайте аспирин, пожалуйста.
Люси тревожно наморщила лоб.
— Вы нездоровы?
— Не я, а девочки. Они волнуются, бедняжки, а ничто так не лечит издерганные нервы, как аспирин, за исключением разве что доброго глотка джина, но это было бы довольно безответственно. — Саффи растерла таблетку черенком ложки. — Знаете, в последний раз они так волновались перед налетом десятого мая.
Экономка побледнела.
— Вы же не думаете, что они чуют новую волну бомбардировщиков?
— Сомневаюсь. Мистер Гитлер слишком занят тем, что марширует в зиму, ему не до нас. По крайней мере, так утверждает Перси. По ее словам, нас оставят в покое как минимум до Рождества; она ужасно разочарована.
Саффи продолжала помешивать рыбу и с облегчением выдохнула, когда заметила, что Люси отвернулась к плите. Поза экономки свидетельствовала о том, что та перестала слушать, и внезапно Саффи ощутила себя глупой наседкой, которой захотелось покудахтать, и садовая калитка сгодилась как собеседница. Смущенно кашлянув, она произнесла:
— Что-то я заболталась. Вы пришли на кухню не для разговоров о девочках, и я отвлекаю вас от дел.
— Вовсе нет.
Люси закрыла дверцу духовки и выпрямилась, но ее щеки были краснее, чем мог вызвать один лишь жар плиты, и Саффи поняла: возникшая неловкость существует не только в ее воображении; что-то она сказала или сделала не так, и это испортило Люси настроение. Саффи стало стыдно.
— Я хотела поглядеть, как там кроличий пирог, — пояснила экономка, — что, собственно, и сделала, и сообщить вам, что так и не нашла серебряную сервировочную ложку, которую вы искали, и положила на стол другую, ничуть не хуже. Я также отнесла вниз несколько пластинок, которые мисс Юнипер прислала из Лондона.
— В голубую гостиную?
— Конечно.
— Прекрасно.
Это была хорошая гостиная, а значит, они будут развлекать мистера Кэвилла именно в ней. Перси была против, однако этого следовало ожидать. Она злилась уже много недель, топая по коридорам, пророча конец света в грядущую зиму, ворча насчет нехватки топлива и неуместности отопления еще одной комнаты, поскольку в желтой гостиной и без того топят каждый день. Но Перси сменит гнев на милость, как всегда. Саффи решительно постучала вилкой по краю миски.
— Вы прекрасно справились с заварным кремом, — похвалила ее Люси, заглянув под крышку кастрюли. — Он густой и чудесный, даже без молока.
— Ах, Люси, вы прелесть. В итоге я приготовила его на воде, подсластив капелькой меда, чтобы сберечь сахар для варенья. Никогда бы не подумала, что буду благодарна войне, но ведь я могла прожить целую жизнь и не испытать радости приготовления идеального заварного крема без молока!
— В Лондоне многие бы поблагодарили за рецепт. Моя кузина жалуется, что их ограничили двумя пинтами молока в неделю. Можете себе представить? Вы должны записать пошаговый рецепт своего заварного крема и послать в «Дейли телеграф». Они ведь публикуют рецепты.
— А я и не знала, — задумчиво протянула Саффи.
Это будет еще одна публикация в ее скромной коллекции. Не самое полезное дополнение, и все же полноценная вырезка. Она окажется нелишней, когда придет время посылать рукопись, и мало ли что из этого выйдет? Саффи весьма понравилась идея небольшой регулярной колонки «Советы записной швеи Саффи для леди» или что-нибудь в этом роде, и небольшая нарисованная эмблема в углу: ее «Зингер 201К» или даже одна из ее кур! Она улыбнулась, умиленная и позабавленная своей фантазией, как если бы это было решенное дело.
Тем временем Люси продолжала рассказывать о своей лондонской кузине из района Пимлико и единственном яйце, которое им выдавали раз в две недели.
— На той неделе ей досталось тухлое яйцо. И только представьте: они отказались его заменить!
— Какая гнусная мелочность!
Саффи пришла в ужас. Она предположила, что Записная швея Саффи нашлась бы с ответом и не замедлила бы сделать великодушный жест в качестве компенсации.
— Вот что, пошлите ей немного моих яиц. И себе возьмите полдюжины.
Экономка просияла не меньше, чем если бы Саффи начала раздавать слитки чистого золота, и Саффи внезапно испытала смущение и заставила призрак своего газетного двойника растаять. Она немного виновато добавила:
— У нас больше яиц, чем мы можем съесть, и я как раз искала способ выразить вам свою благодарность… вы так часто помогали мне после начала войны.
— Ну что вы, мисс Саффи.
— Не забывайте, если бы не вы, я бы до сих пор стирала сахарной пудрой.
Люси засмеялась.
— Что ж, огромное спасибо. Я с радостью принимаю ваше предложение.
Они вместе стали заворачивать яйца, отрывая небольшие квадратики от старых газет, сложенных у плиты, и Саффи в сотый раз за день подумала, как приятно общество их бывшей экономки, и как печально, что они потеряли ее. Саффи решила, что, когда она переедет в собственную квартирку, Люси получит ее адрес и приглашение заходить на чай всякий раз, когда будет в Лондоне. Перси, несомненно, не одобрит… у нее довольно традиционные представления насчет классов и их общения… но Саффи виднее. Друзей надо ценить вне зависимости от их происхождения.
Снаружи донесся грозный раскат грома; Люси наклонила голову и выглянула в закопченное окошко над маленькой раковиной. Она изучила темнеющее небо и нахмурилась.
— Если это все, мисс Саффи, я бы закончила в гостиной и пошла домой. Погода портится, а у меня сегодня вечером встреча.
— Женская добровольная служба?
— Сегодня — столовая. Надо накормить наших бравых солдат.
— Непременно. Кстати, я сшила несколько детских кукол для вашего благотворительного аукциона. Заберите их сегодня, если сможете; они наверху, как и… — театральная пауза. — То Самое Платье.
Люси ахнула, и ее голос упал до шепота, хотя они были одни.
— Вы закончили его.
— Как раз вовремя, Юнипер наденет его сегодня вечером. Я повесила его на чердаке, чтобы она первым делом его увидела.
— Тогда я обязательно заскочу наверх перед уходом. Скажите… оно прекрасно?
— Божественно.
— Я так рада.
Едва заметная пауза, и Люси ласково взяла Саффи за руки.
— Все будет идеально, не сомневайтесь. Такой особенный вечер — мисс Юнипер наконец-то вернется из Лондона.
— Остается надеяться, что непогода не слишком задержит поезда.
Экономка улыбнулась.
— Вы перестанете тревожиться, когда она появится дома целая и невредимая.
— Я просыпалась каждую ночь с тех пор, как она уехала.
— Это все от беспокойства. — Люси сочувственно покачала головой. — Вы были для нее матерью, а мать не может безмятежно спать, когда беспокоится о своем малыше.
— Ах, Люси. — Взгляд Саффи остекленел. — Я и правда беспокоилась. Так беспокоилась. Я словно затаила дыхание на много месяцев.
— Но ведь ничего не случилось?
— К счастью, нет. Уверена, она поделилась бы с нами. Даже Юнипер не стала бы скрывать что-то серьезное…
Дверь распахнулась, и женщины резко выпрямились. Люси взвизгнула, а Саффи еле удержалась от визга, но на этот раз не забыла схватить банку и спрятать за спину. За дверью никого не было, кроме ветра, поднимающегося на улице, однако его вторжения хватило, чтобы унести прочь приятную атмосферу, а вместе с ней и улыбку Люси. И тогда Саффи наконец догадалась, что так мучает Люси.
Она хотела было промолчать — день почти закончился, и иногда чем меньше говоришь, тем лучше, — но день прошел за приятной беседой, они работали бок о бок на кухне и в гостиной, и Саффи отчаянно желала все уладить. Она вправе иметь друзей… ей нужны друзья… что бы Перси об этом ни думала. Она осторожно прокашлялась.
— Люси, сколько вам было лет, когда вы поступили к нам на службу?
Ответ прозвучал еле слышно, как будто экономка ожидала вопроса:
— Шестнадцать.
— Двадцать два года назад, верно?
— Двадцать четыре. В тысяча девятьсот семнадцатом.
— Знаете, отец всегда вас любил.
Начинка пирога в духовке начала кипеть внутри оболочки из теста. Бывшая экономка выпрямилась и вздохнула, медленно и взвешенно.
— Он был добр ко мне.
— И вам, конечно, известно, что мы с Перси прекрасно к вам относимся.
Люси упаковала все яйца и больше не знала, чем заняться на дальней стойке. Она скрестила руки на груди и тихо промолвила:
— Спасибо за теплые слова, мисс Саффи, но это лишнее.
— Просто если вы когда-нибудь передумаете, когда жизнь наладится, если у вас будет желание вернуться более официальным…
— Нет, — отрезала Люси. — Нет. Спасибо.
— Из-за меня вы ощутили неловкость, — заметила Саффи. — Простите меня, Люси, дорогая. Я бы не проронила ни слова, но мне не хочется, чтобы вы неправильно поняли. Поверьте, Перси ничего такого не имела в виду. Просто это Перси.
— Я серьезно, не стоит…
— Она не любит перемен. Никогда не любила. Чуть не умерла от тоски, когда в детстве ее положили в больницу со скарлатиной. — Саффи сделала слабую попытку поднять настроение: — Иногда мне кажется, что она была бы счастлива, если бы мы все трое навсегда остались в Майлдерхерсте. Можете себе представить? Три старые дамы с седыми волосами, такими длинными, что на них можно сидеть.
— Полагаю, у мисс Юнипер нашлись бы возражения на этот счет.
— Несомненно.
Как и у Саффи. Внезапно ей захотелось рассказать Люси о квартирке в Лондоне, письменном столе у окна, радио на полке, но она подавила порыв откровенности. Еще не время. Вместо этого она добавила:
— В любом случае, нам обеим очень жаль, что вы покидаете нас после стольких лет.
— Это все война, мисс Саффи, я должна была что-то делать; а потом мама скончалась, и Гарри…
Саффи взмахнула рукой.
— Можете не объяснять; я прекрасно все понимаю. Дела сердечные и так далее. Каждый должен жить своей жизнью, Люси, особенно в подобные времена. Не правда ли, война помогает увидеть, что важно, а что нет?
— Мне пора.
— Да. Хорошо. Скоро увидимся. Может, на следующей неделе приготовим овощи в маринаде для аукциона? Мои кабачки…
— Нет. — В голосе Люси зазвенела незнакомая нота. — Нет. Больше нет. Я бы и сегодня не пришла, если бы вы не были так взволнованы.
— Но, Люси…
— Пожалуйста, не просите меня больше, Саффи. Это неправильно.
Саффи лишилась дара речи. Еще один яростный порыв ветра и далекий раскат грома. Люси взяла кухонное полотенце с яйцами.
— Мне пора, — повторила она уже мягче, что почему-то было еще хуже и едва не заставило Саффи заплакать. — Я заберу кукол, взгляну на платье Юнипер и пойду.
И она ушла.
Дверь захлопнулась. Саффи снова осталась в натопленной кухне, сжимая миску с рыбным месивом и ломая голову. Что же заставило подругу покинуть ее?
Перси скатилась по наклонной Тентерден-роуд, прогромыхала по россыпи камней у начала подъездной дорожки и спрыгнула с велосипеда. «Джиггети-джиг, и снова домой», — промурлыкала она себе под нос. Гравий хрустел под ботинками. Няня научила их этому стишку несколько десятилетий назад, когда они были маленькими, однако эти строки до сих пор приходили на ум, когда она сворачивала с шоссе на подъездную дорожку. С некоторыми мелодиями, некоторыми цепочками слов всегда так: они застревают в памяти, и от них не избавиться, сколько ни старайся. Впрочем, Перси и не стремилась избавиться от «Джиггети-джиг». Ах, милая няня с маленькими розовыми ручками, неколебимой уверенностью, звонкими спицами, которые так и щелкали, когда она вязала у чердачного камина, ожидая, пока девочки заснут! Как они плакали, когда на девяностый день рождения она уволилась и поселилась у внучатой племянницы в Корнуолле! Саффи даже угрожала выброситься из чердачного окна в знак протеста, но, увы, уже не раз прибегала к этой угрозе, и няня осталась непреклонна.
Несмотря на опоздание, Перси не ехала по дорожке, а шагала, чтобы знакомые поля по обе стороны успели ее поприветствовать. Ферма с хмелесушильнями слева, мельница за ними, вдалеке справа — лес. Воспоминания о тысячах дней, проведенных в детстве на деревьях Кардаркерского леса, смотрели на нее из прохладных теней. Веселый ужас пряток от торговцев живым товаром; охота за драконьими костями; походы с папой в поисках старинных римских дорог…
Дорожка была не слишком крутой, и Перси шла пешком не потому, что не могла ехать, а скорее потому, что наслаждалась прогулкой. Папа тоже был заядлым пешеходом, особенно после Первой мировой. До того, как издал книгу, и до того, как оставил их и уехал в Лондон; до того, как встретил Одетту, женился во второй раз и навсегда перестал по-настоящему принадлежать дочерям. Врач считал, что ежедневные прогулки пойдут на пользу его ноге, и он принялся бродить по полям с тростью, которую мистер Моррис забыл после очередных бабушкиных выходных.
— Видишь, как конец трости взлетает передо мной с каждым шагом? — спросил отец как-то раз осенним днем, когда они шли вдоль ручья Роувинг. — Так и должно быть. Добротно и крепко. Это напоминание.
— О чем, папа?
Он нахмурился, глядя на скользкий берег, как будто правильные слова скрывались где-то в камыше.
— Ну… наверное, о том, что я тоже крепкий.
Тогда она не поняла его ответа, только предположила, что отец в восторге от веса трости. Разумеется, уточнять она не стала: положение Перси как спутницы для прогулок было весьма шатким, а правила — твердыми. Согласно теории Раймонда Блайта, прогулки предназначались для размышлений; изредка, когда обе стороны были к тому склонны, для бесед об истории, поэзии или природе. Болтунам на них места не было, и единожды навешенный ярлык оставался навсегда, к большому огорчению бедняжки Саффи. Не раз Перси оглядывалась на замок, когда они с папой отправлялись на прогулку, и замечала в окне детской хмурую Саффи. Перси всегда сочувствовала сестре, но недостаточно сильно, чтобы остаться дома. Она решила, что данная привилегия — всего лишь компенсация, ведь Саффи постоянно завладевала вниманием папы, читая вслух свои талантливые рассказики, которым тот внимал с радостной улыбкой; а в последнее время они стали возмещением за месяцы, которые Саффи с отцом провели наедине сразу после его возвращения с войны, когда Перси положили в больницу со скарлатиной.
У первого моста Перси остановилась и прислонила велосипед к перилам. Отсюда еще не было видно дома; он прятался в лесах и открывался во всей красе лишь от второго моста, поменьше. Она перегнулась через перила и вгляделась в мелкий ручей внизу. Вода кружилась и шептала у расширяющихся берегов и чуть медлила, прежде чем продолжить путь к лесам. Отражение Перси, темное на фоне белого неба, колыхалось на более гладкой и глубокой середине.
За ручьем лежало поле хмеля, где она выкурила свою первую сигарету. Они с Саффи вместе хихикали над пачкой, которую стащили у одного из напыщенных папиных друзей, пока тот грел свои ветчинные лодыжки у озера в жаркий летний день.
Сигарету…
Перси похлопала по нагрудному карману формы и нащупала твердый цилиндрик. Скрутить проклятую штуковину — все равно что выкурить ее, разве нет? Она подозревала, что когда ступит на территорию замка, спокойно покурить не удастся.
Она повернулась, прислонилась к перилам, чиркнула спичкой и затянулась, на мгновение задержав дыхание, прежде чем выдохнуть. Боже, как же она любит табак! Ей иногда казалось, что она бы охотно согласилась жить одна и никогда ни с кем не общаться, если ей предложат делать это в Майлдерхерсте, снабдив пожизненным запасом сигарет вместо компании.
Перси не всегда была такой затворницей. И даже сейчас она сознавала, что фантазия — пусть даже не лишенная приятности — остается всего лишь фантазией. Она не сможет жить без Саффи, разве что недолго. И без Юнипер. Прошло четыре месяца с тех пор, как их младшая сестра сбежала в Лондон, и все это время они с Саффи вели себя как пара старушек, нервно сжимающих платочки в руках: обсуждали, хватает ли сестре теплых носков, посылали в Лондон свежие яйца с оказией, читали вслух ее письма за завтраком в попытке угадать ее настроение, здорова ли она, что у нее на уме. Между прочим, в этих письмах не было даже завуалированного упоминания о возможности брака, благодарю покорно, миссис Поттс! Подобное допущение просто смехотворно для любого, кто знаком с Юнипер. Да, некоторые женщины созданы для брака и детских колясок в прихожей, но некоторые, совершенно точно, нет. Папа знал это, вот почему он все так устроил — чтобы о Юнипер позаботились после того, как его не станет.
Фыркнув от неприязни, Перси раздавила окурок ботинком. Мысли о почтмейстерше напомнили ей о письмах, и она достала их из сумки, чтобы дать себе повод еще немного побыть в безмятежном одиночестве.
Всего писем было три, как и сообщила миссис Поттс: пакет от Мередит для Юнипер, машинописный конверт для Саффи и еще одно письмо, на котором стояло ее собственное имя. Почерк с головокружительными петлями, несомненно, принадлежал кузине Эмили. Перси нетерпеливо разорвала конверт, наклоняя верхнюю страницу и пытаясь поймать остатки света и разобрать фразы.
За исключением того безобразного случая, когда Эмили выкрасила волосы Саффи в синий цвет, Эмили носила почетный титул любимой кузины на протяжении всего детства близнецов Блайт. То, что ее единственными соперницами были напыщенные кузины Кембридж — странные тощие кузины с севера — и ее собственная младшая сестра Пиппа, чья прискорбная склонность плакать по поводу и без привела к незамедлительной дисквалификации, ничуть не умаляло значимости этого титула. Визит Эмили в Майлдерхерст всегда был большим праздником, без нее детство близнецов оказалось бы намного более унылым. Перси и Саффи были очень близки, что и понятно, но не из тех близнецов, чья связь исключает любые другие. Более того, их дружба лишь упрочилась от появления третьей подруги. В растущей деревне хватало детей, с которыми они могли бы играть, однако вмешалась папина подозрительность по отношению к посторонним. Милый папа, он был ужасным снобом в своем роде, хотя испытал бы потрясение, назови его кто таковым. Он восхищался не деньгами, а умом; талант был той валютой, которой он стремился себя окружить.
Эмили, не обделенная ни тем ни другим, получила печать одобрения Раймонда Блайта и потому приглашалась в Майлдерхерст каждое лето. Она даже завоевала приглашение на вечера семьи Блайт — полурегулярные турниры, учрежденные бабушкой, когда папа был маленьким. Однажды утром раздавался клич: «Вечер семьи Блайт!», после чего домочадцы изнемогали от предвкушения весь день. Искали словари, оттачивали карандаши и остроумие и наконец после ужина все собирались в хорошей гостиной. Соперники занимали места за столом или в излюбленных креслах, затем входил папа. В день турнира он всегда устранялся от суеты, запирался в башне и составлял список испытаний, объявление которых было чем-то вроде ритуала. Правила игры менялись, но обычно назывались место, тип персонажа и слово; затем переворачивался самый большой таймер для варки яиц, и начиналась гонка сочинителей.
Перси была сметливой, но не остроумной, любила слушать, но не говорить, писала медленно и скрупулезно, когда нервничала, отчего все звучало ужасно чопорно, а потому страшилась этих вечеров и презирала их, пока в двенадцать лет по чистой случайности не обнаружила, что официальному протоколисту положена амнистия. Эмили и Саффи, привязанность которых друг к другу лишь подогревала дух соперничества, потели над своими рассказами, хмурили лбы, кусали губы и водили карандашами по страницам, отчаянно соревнуясь за папину похвалу, а Перси безмятежно ожидала развлечения. Обе девочки умели выражать свои мысли; у Саффи, возможно, словарный запас был чуть богаче; однако озорной юмор Эмили предоставлял ей заметное преимущество, и одно время было ясно: папа подозревает, что семейный дар расцвел именно в ней. Конечно, это было до рождения Юнипер, рано развившийся талант которой не оставил места для иных притязаний.
Если Эмили и страдала от охлаждения, когда папа переключился на новый объект, она быстро взяла себя в руки. Ее визиты счастливо и регулярно продолжались много лет и после детства, вплоть до того последнего лета 1925 года, когда она вышла замуж и все закончилось. Перси всегда подозревала, что Эмили на редкость повезло: несмотря на свои таланты, она не обладала артистическим темпераментом. Она была слишком уравновешенной, слишком хорошей спортсменкой, слишком жизнерадостной и слишком любимой окружающими, чтобы следовать писательской стезей. Ни малейшего намека на неврозы. Эмили намного больше подходила судьба, которая выпала ей после того, как папа перестал обращать на нее внимание: удачный брак, выводок сыновей с веснушчатыми носами, огромный дом с видом на море, а теперь, если верить ее письмам, еще и пара влюбленных свинок. Письмо оказалось всего лишь сборником баек о девонширской деревне Эмили — новостей о муже и сыновьях, приключений местных офицеров мер ПВО, одержимости пожилой соседки ручным противопожарным насосом, — и все же Перси получила массу удовольствия. Не переставая улыбаться, она дочитала письмо до конца, аккуратно сложила и убрала обратно в конверт.
Затем порвала его пополам и еще раз пополам, затолкала глубже в карман и отправилась дальше по дорожке. Она мысленно отметила, что надо выбросить обрывки в мусорную корзину, прежде чем форма окажется в стирке. Нет, лучше она сожжет их сегодня же, оставив Саффи ни с чем.
То, что Юнипер, единственная Блайт в истории, не жившая в положенном возрасте в детской, проснулась утром своего тринадцатого дня рождения, побросала самое ценное в наволочку, поднялась наверх и заявила права на сонный чердак, никого не удивило. Подобное непростительное своеволие было настолько в духе Юнипер, которую они знали и любили, что в последующие годы, вспоминая об этом событии, они находили его совершенно естественным и спорили лишь о том, было оно спонтанным или планировалось заранее. Сама Юнипер в основном отмалчивалась как тогда, так и потом: вчера она спала в своей маленькой пристройке на третьем этаже, сегодня завладела чердаком. Что тут еще обсуждать?
Невидимый шлейф загадочного очарования, плывущий за Юнипер, впечатлял Саффи еще больше, чем переезд сестры в детскую. Казалось, чердак внезапно запел, этот аванпост замка, место, куда традиционно ссылали детей по достижении ими возраста или статуса, достойного расположения взрослых, комната с низкими потолками и сварливыми мышами, стылыми зимними ночами и раскаленными летними днями, отдушина, сквозь которую проходили все трубы на пути к свободе. Людей тянуло на чердак, хотя У них не было ни малейших оснований карабкаться по лестнице. «Схожу взгляну, как там дела», — говорили они, прежде чем исчезнуть на лестнице и с некоторой робостью вернуться примерно через час. Саффи и Перси обменивались веселыми взглядами и развлекали друг друга догадками, как именно бедный несведущий гость поведет себя наверху, когда поймет: Юнипер вовсе не намерена изображать гостеприимную хозяйку. Их младшая сестра вовсе не была грубой, но ее нельзя было назвать и особо приветливой; ничье общество не радовало ее больше своего собственного. И слава богу, учитывая, что у нее почти не было возможностей с кем-то видеться. Не было ни кузин подходящего возраста, ни друзей семьи, и папа настоял, чтобы она получила домашнее образование. Единственное, что пришло в голову Саффи и Перси, — что Юнипер вообще не обращает внимания на гостей, позволяя им свободно разгуливать по захламленной комнате, пока те окончательно не устанут и не уйдут. Одним из самых странных и необъяснимых даров Юнипер, которым она обладала всю жизнь, был сильнейший магнетизм, достойный изучения и медицинской классификации. Даже те, кто не любил Юнипер, искали ее любви.
Однако Саффи меньше всего думала о разгадке тайны очарования своей младшей сестры, когда во второй раз за день поднималась по самой верхней лестнице. Гроза собиралась быстрее, чем патруль местной обороны мистера Поттса, а окна чердака были широко открыты. Она заметила это, когда сидела в курятнике, гладила Хелен-Мелон по перьям и переживала из-за внезапной суровости Люси. Ее внимание привлекла вспышка света, она подняла глаза и увидела, что Люси забирает больничных кукол из швейной комнаты. Саффи наблюдала за продвижением экономки: тень в окне третьего этажа, лужица последнего дневного света, дверь в коридор отворилась, затем, примерно через минуту, замерцал огонек на верхней лестнице, которая вела на чердак. И тогда Саффи вспомнила об окнах. Она сама распахнула их утром в надежде, что свежий воздух прогонит многомесячную затхлость. Надежда была слабой, и Саффи сомневалась в ее осуществлении, но разве не лучше попытаться и потерпеть неудачу, чем опустить руки и сдаться? Однако теперь, когда ветер принес запах дождя, окна нужно закрыть. Она проследила за тем, как огонек скрылся в лестничном колодце, подождала еще пять минут и направилась в дом, рассудив, что уже можно подняться, не опасаясь наткнуться на Люси.
Старательно перешагнув третью сверху ступеньку — не хватало только, чтобы призрак маленького дяди натворил сегодня бед, — Саффи толкнула дверь детской и включила свет. Загорелась тусклая, как и во всем Майлдерхерсте, лампа, и Саффи немного постояла в дверях. Дело не только в скудном освещении — она всегда так поступала перед тем, как вторгнуться во владения Юнипер. Саффи предполагала, что в мире не много других комнат, перед порогом которых полезно обдумать план действий. Сказать о ней «мерзость запустения» — пожалуй, уже перебор, но совсем незначительный.
Она заметила, что вонь сохранилась; смесь затхлого табачного дыма и чернил, мокрой псины и мышей оказалась слишком въедливой для простого проветривания. Запах псины объяснялся очень просто — собачонка Юнипер, По, тосковала в ее отсутствие, деля свои бдения между началом подъездной дорожки и изножьем кровати хозяйки. Что касается мышей — то ли Юнипер подкармливала их нарочно, то ли мелкие приспособленцы попросту извлекали выгоду из неряшливости обитательницы чердака. Кто знает? К тому же Саффи нравился мышиный запах, хотя она не слишком об этом распространялась; он напоминал о Клементине, которую она купила в зоологическом отделе универмага «Харродз» утром своего восьмого дня рождения. Тина была ее милой маленькой спутницей, пока, на свою беду, не поссорилась со Сайресом, змеей Перси. Крыс напрасно очерняют, они намного чище, чем думают люди, и очень общительны — настоящие аристократы мира грызунов.
Заметив расчищенный проход к дальнему окну — наследие предыдущей вылазки, — Саффи стала осторожно пробираться через кавардак. Хорошо, что няня не видит, во что превратилась детская! Где вы, чистые, светлые деньки няниного владычества, молока на ужин под бдительным присмотром, метелки, которую доставали по вечерам, чтобы вымести крошки, парных столов у стены, непременного запаха пчелиного воска и мыла «Перз»? Увы, эпоха няни навсегда осталась в прошлом, сменившись, по мнению Саффи, анархией. Бумага, повсюду бумага, исчерканная разрозненными наставлениями, рисунками, вопросами, которые Юнипер записала, чтобы не забыть; комки пыли, которые охотно сбивались и выстраивались вдоль плинтусов, словно компаньонки на балу. На стенах висели портреты и пейзажи, а также странно составленные слова, которые по необъяснимой причине пленяли воображение Юнипер; пол был морем книг, предметов одежды, подозрительно грязных чашек, импровизированных пепельниц, любимых кукол с закрывающимися глазами, старых автобусных билетов с каракулями на полях. От всего этого Саффи испытывала головокружение и заметную тошноту. Что там под покрывалом? Хлебная корка? Если так, она зачерствела настолько, что превратилась в музейный экспонат.
Хотя уборка за Юнипер была скверной привычкой, над которой Саффи давным-давно одержала победу, на сей раз она не смогла устоять. Одно дело — беспорядок, и совсем другое — остатки еды. Содрогнувшись, она присела, завернула окаменелую корку в покрывало, поспешила к ближайшему окну, выбросила корку и прислушалась к глухому стуку, с которым та упала в заросший травой старый ров. Она еще раз содрогнулась, встряхнула покрывало, закрыла окно и задернула шторы затемнения.
Грязное покрывало нуждалось в стирке и штопке, но это в другой раз, а пока Саффи просто тщательно его сложила. Разумеется, не слишком аккуратно, ровно настолько, чтобы вернуть ему видимость приличия; хотя Юнипер, вне всяких сомнений, ничего не заметит и не скажет. Саффи вытянула руки, зажав в них уголки покрывала, и с нежностью подумала, что оно заслуживает большего, нежели четырехмесячная увольнительная на полу в роли савана для черствой корки хлеба. Когда-то оно было подарком — много лет назад жена одного из фермеров поместья сшила его для Юнипер, которая часто вызывала в людях подобную непрошеную приязнь. Хотя большинство людей тронул бы такой жест и заставил относиться к подарку с особым вниманием, Юнипер не принадлежала большинству. К чужим творениям она относилась с таким же неуважением, как и к своим собственным. Подобную склонность младшей сестры Саффи полагала особенно трудной для понимания и вздыхала, озирая листопад разбросанных на полу бумаг.
Она поискала, где оставить сложенное покрывало, и выбрала соседнее кресло. На стопке книг лежал раскрытый томик, и Саффи, патологическая читательница, не утерпела и взглянула на титульную страницу. «Практическое котоведение»[15] с автографом Томаса Элиота — поэт подарил его Юнипер, когда приезжал в гости, и папа показал ему кое-какие стихотворения Джун. Саффи не имела определенного мнения насчет Томаса Элиота; конечно, она восторгалась им как мастером пера, но пессимизм в его душе и мрачность в его облике всегда заставляли ее острее чувствовать несовершенство мира. Дело было не столько в котах, весьма своеобразных, сколько в других его стихотворениях. Его одержимость тикающими часами и утекающим временем казалась Саффи рецептом депрессии, без которого она вполне могла обойтись.
Чувства Юнипер на данный счет оставались неясными. Этого следовало ожидать. Саффи часто думала, что будь Юнипер персонажем книги, ее образ был бы ограничен реакциями других персонажей, а ее точку зрения было бы невозможно принять, не рискуя превратить двойственность в абсолют. Автор счел бы бесценными такие эпитеты, как «обезоруживающая», «неземная» и «притягательная», а также «пылкая» и «безрассудная» и в редких случаях даже «жестокая», хотя Саффи знала, что не должна говорить об этом вслух. Из-под пера Элиота вышла бы Юнипер по кличке Наперекор. Саффи улыбнулась забавной идее и вытерла пыльные пальцы о колени; в конце концов, Юнипер действительно очень похожа на кошку: неподвижный взгляд широко расставленных глаз, бесшумная походка, сопротивление излишнему вниманию.
Саффи побрела через море бумаг к дальним окнам, позволив себе вильнуть в сторону шкафа, где висело платье. Она отнесла его наверх утром, как только Перси ушла на работу; вытащила из тайника и набросила на руки, словно спящая принцесса из сказки. Ей пришлось согнуть вешалку, чтобы шелк платья струился по шкафу лицом к двери, но это было необходимо. Платье — первое, что должна увидеть Юнипер, когда распахнет вечером дверь и включит свет.
Итак, платье: вот прекрасный пример непостижимости Юнипер. Прибывшее из Лондона письмо оказалось таким сюрпризом, что, если бы Саффи всю жизнь не наблюдала за непредсказуемыми выходками сестры, она бы решила, что это розыгрыш. Единственное, в чем она была совершенно уверена, так это в том, что Юнипер Блайт нет ни малейшего дела, во что она одета. Все детство она провела босиком в обычном белом муслине и обладала таинственным умением превращать любое новое платье, сколь угодно изысканное, в бесформенный мешок всего за два часа. Взросление не изменило сестру, хотя Саффи питала на это некоторую надежду. В то время как другие семнадцатилетние девушки мечтали отправиться в Лондон на свой первый сезон, Юнипер даже не заикалась об этом, бросив на Саффи такой испепеляющий взгляд при одном лишь намеке, что ожог болел неделями. Впрочем, тем лучше, ведь папа ни за что бы этого не позволил. Он часто называл ее «созданием замка», которому нет нужды покидать его стеньг. Да и зачем такой девушке круговерть балов для дебютанток?
Однако поспешный постскриптум, в котором Юнипер просила Саффи сшить платье для танцев — кажется, где-то лежит старый наряд ее матери, который та носила в Лондоне перед самой смертью; возможно, получится его переделать? — был совершенно невероятным. Юнипер специально адресовала письмо только Саффи, так что та смогла поразмыслить над просьбой в одиночестве, хотя обычно они с Перси делили все, что касается Юнипер. После долгих раздумий Саффи решила, что городская жизнь изменила ее младшую сестру; она гадала, не изменилась ли Юнипер и в других отношениях, не намерена ли после войны навсегда перебраться в Лондон. Прочь из Майлдерхерста, и неважно, что готовил ей папа.
В чем бы ни состояла подоплека просьбы Юнипер, Саффи охотно ее выполнила. Пишущая машинка и «Зингер 201К» — несомненно, лучшая модель на свете — были ее радостью и гордостью, и хотя она усердно шила с самого начала войны, все ее изделия были ужасно практичными. Возможность отложить на время кипы одеял и больничных пижам и поработать над модным нарядом захватывала дух, в особенности над нарядом, предложенным Юнипер. Ведь Саффи сразу поняла, о каком платье идет речь, она восхищалась им даже в тот незабываемый вечер 1924 года, когда мачеха надела его на лондонскую премьеру папиной пьесы. После премьеры его убрали на хранение в герметичную архивную комнату, единственное место в замке, где его не могли отыскать моль и гниль.
Саффи легонько провела пальцами по шелковой юбке. Ее цвет был по-настоящему изысканным: ярким, почти розовым, как изнанка диких грибов, что росли у мельницы. Небрежный взгляд посчитал бы его кремовым, однако более пристальный был бы вознагражден. Саффи трудилась над платьем несколько недель, держа это в секрете, но платье стоило ее двуличия и стараний. Она приподняла подол, еще раз проверила аккуратность ручных стежков и удовлетворенно разгладила его. Затем чуть отступила, чтобы как следует восхититься общим впечатлением. Да, платье было великолепным; она взяла красивый, но старомодный наряд и, вооружившись любимыми выпусками из своей коллекции журналов «Вог», превратила его в произведение искусства. Если это звучит нескромно — так тому и быть. Саффи прекрасно сознавала, что это, возможно, ее последний шанс полюбоваться платьем во всей красе (увы, но когда Юнипер завладеет платьем, неизвестно, насколько ужасная судьба его ждет), и не собиралась упускать момент, придерживаясь унылых рамок притворной скромности.
Бросив взгляд за спину, Саффи сняла платье с вешалки и взвесила на руках; самые лучшие платья не бывают невесомыми. Она засунула пальцы под бретельки и приложила платье к себе, кусая нижнюю губу и разглядывая свое отражение в зеркале. Она замерла, наклонив голову, — детская манерность, от которой ей так и не удалось избавиться. В полумраке с этого расстояния казалось, что минувших лет словно не бывало. Сощурившись и улыбнувшись пошире, она снова становилась той девятнадцатилетней девушкой, которая стояла рядом с мачехой на лондонской премьере папиной пьесы, мечтала о бледно-розовом платье и обещала себе, что однажды тоже наденет подобное чудо, может, даже на собственную свадьбу.
Саффи вернула платье на вешалку, споткнувшись о стеклянный бокал из набора, который Асквиты подарили папе и маме на свадьбу. Она вздохнула; непочтительность Юнипер поистине не знала границ. Это нисколько не волновало саму Юнипер, но Саффи увидела бокал, а значит, не могла его игнорировать. Она наклонилась поднять бокал и уже наполовину выпрямилась, когда заметила под старой газетой чашку из лиможского фарфора; не успела она опомниться, как переступила через свое золотое правило, опустилась на четвереньки и занялась уборкой. Гора посуды, которую она собрала всего за минуту, не проделала ни малейшей бреши в окружающем беспорядке. Столько бумаги, столько нацарапанных слов!
Беспорядок, невозможность когда-либо расставить все по местам, вернуть утраченную мысль — Саффи было почти физически больно от этого. Ведь хотя они с Юнипер обе стали писательницами, их методы были совершенно противоположными. Саффи имела привычку каждый день выделять драгоценные часы, во время которых тихо сидела в компании одной лишь тетради, авторучки, подаренной папой на шестнадцатый день рождения, и свежезаваренного чайника крепкого чая. Устроившись подобным образом, она медленно и осторожно расставляла слова в приятном порядке, писала и переписывала, редактировала и совершенствовала, читала вслух и смаковала удовольствие переноса на бумагу истории своей героини Адель. Лишь полностью удовлетворившись результатом, она садилась за «Оливетти» и печатала новый абзац.
Юнипер, напротив, работала так, будто пыталась выбраться из паутины. Она писала, когда на нее находило вдохновение, писала на бегу, разбрасывая за собой обрывки стихотворений, кусочки рисунков, неуместные, но оттого еще более выразительные наречия; все они замусоривали замок, сыпались, как хлебные крошки, указывали дорогу в пряничную детскую наверху. Саффи иногда находила их во время уборки — забрызганные чернилами страницы на полу, за диваном, под ковром — и невольно представляла античную римскую трирему с поднятыми парусами, полными ветра, на палубе выкрикивают приказы, а на носу прячутся тайные любовники на грани разоблачения. Вот только продолжения у истории, жертвы мимолетного, изменчивого интереса Юнипер, не было.
Случалось и так, что целые истории начинались и завершались в диких приступах сочинительства — маниях, как казалось Саффи, хотя Блайты старались не употреблять это слово, особенно в отношении Юнипер. Младшая сестра не являлась к ужину, и сквозь половицы детской пробивался свет, раскаленная полоска под дверью. Папа приказывал не беспокоить Джун, уверял, что потребности тела вторичны по сравнению с потребностями духа, однако Саффи украдкой относила наверх еду, когда отец отвлекался. Впрочем, к тарелке никогда не прикасались; Юнипер черкала бумагу ночь напролет. Внезапно, жарко, как тропические лихорадки, которые вечно кто-нибудь подцепляет, и недолго, так что уже на следующий день воцарялось спокойствие. Она спускалась с чердака, усталая, оцепенелая и опустошенная. Зевала и потягивалась в своей кошачьей манере. Демон был изгнан и прочно забыт.
И это было самым странным для Саффи, которая хранила свои творения — черновики и чистовики — в одинаковых коробках с крышками, аккуратно сложенных в архивной для потомства; которая всегда трудилась ради того, чтобы однажды с трепетом вручить свою переплетенную работу читателю. Юнипер было абсолютно без разницы, прочтут ее сочинения или нет. В том, что она не показывала свои работы, не было притворной скромности; просто ей было все равно. Как только вещь была написана, Юнипер охладевала к ней. Перси, когда Саффи упомянула об этом, пришла в замешательство, и неудивительно. Бедняжка Перси, лишенная искры божьей…
Так, так! Саффи замерла на четвереньках; из-под бумажных завалов показалось не что иное, как бабушкина серебряная сервировочная ложка! Та самая, которую она проискала полдня. Она села на корточки и прижала ладони к бедрам, снимая напряжение с поясницы. Подумать только, все это время, пока они с Люси выворачивали ящики, ложка была погребена под залежами в комнате Юнипер. Саффи хотела было вытащить ложку — на ее ручке виднелось загадочное пятно, которое нуждалось во внимании, но вовремя заметила, что та служит чем-то вроде закладки. Она раскрыла тетрадь: снова неразборчивый почерк Юнипер, на странице стояла дата. Глаза Саффи, натренированные за годы ненасытного чтения, оказались проворнее ее воспитания, она и моргнуть не успела, как выяснила, что это дневник и запись совсем свежая. Май 1941 года, перед самым отъездом Юнипер в Лондон.
Читать дневник другого человека поистине непростительно, и Саффи была бы смертельно унижена, если бы так нагло вторглись в ее личное пространство, но Юнипер никогда не стремилась соблюдать правила, и неким образом, который Саффи понимала, но не могла облечь в слова, это давало ей право заглянуть в тетрадь. Более того, привычка Юнипер разбрасывать личные бумаги у всех на виду, несомненно, была приглашением для ее старшей сестры, практически заменившей ей мать, убедиться, что все в полном порядке. Юнипер почти девятнадцать лет, однако она — особый случай и не отвечает за себя, как большинство взрослых. Чтобы опекать Юнипер, Саффи и Перси просто обязаны совать нос в ее дела. Няня не преминула бы пролистать дневники и письма, оставленные на виду ее подопечными, вот почему близнецы так старательно меняли свои тайники. То, что Юнипер не удосужилась спрятать дневник, послужило для Саффи достаточным доказательством: ее юная сестра не против материнского интереса к своим проблемам. И вот Саффи здесь, и тетрадь Юнипер лежит перед ней, открытая на довольно свежей записи. Не заглянуть в нее хотя бы краешком глаза — разве это не означает проявить равнодушие?
К переднему крыльцу был прислонен чужой велосипед — на том же месте, где Перси оставляла свой собственный, когда слишком уставала, чтобы дойти до конюшни, ленилась или просто спешила. А это случалось нередко. Странно… Саффи не упоминала о других гостях, кроме Юнипер и того парня, Томаса Кэвилла, но они должны были приехать на автобусах, а вовсе не на велосипедах.
Перси поднялась по лестнице, роясь в сумке в поисках ключа. После начала войны у Саффи появился пунктик насчет запертых дверей — она была уверена, что Майлдерхерст обведен красным кружком на гитлеровской карте вторжения, а сестер Блайт ждет неминуемый арест. Перси было все равно, не считая того, что ключ от передней двери, казалось, вечно от нее прятался.
Утки галдели на пруду за спиной; темная масса Кардаркерского леса колыхалась; гром гремел уже ближе; время словно растянулось, подобно резине. Перси как раз собиралась сдаться и замолотить в дверь, когда та распахнулась и на пороге появилась Люси Миддлтон в шарфе на волосах и с тусклым велосипедным фонарем в руке.
— О господи! — Рука бывшей экономки метнулась к груди. — Вы напугали меня.
Перси открыла рот, но не нашлась с ответом и закрыла. Она перестала копошиться в сумке и перебросила ее через плечо. Ответа по-прежнему не было.
— Я… я помогала по дому. — Лицо Люси было пунцовым. — Мисс Саффи позвонила мне. По телефону. Все приходящие помощницы были заняты.
Громко кашлянув, Перси тут же пожалела об этом. Хриплое карканье выдавало нервозность, а перед Люси Миддлтон она меньше всего желала показаться неуверенной в себе.
— Значит, все готово? Для сегодняшнего вечера.
— Кроличий пирог в духовке, и я оставила мисс Саффи инструкции.
— Понятно.
— Ужин будет готов не скоро. Боюсь, мисс Саффи вскипит первой.
Это была шутка, и довольно забавная, однако Перси чересчур промедлила со смехом. Она хотела еще что-нибудь сказать, но слов было слишком много и в то же время слишком мало, и Люси Миддлтон, которая стояла и ждала продолжения разговора, по-видимому, поняла, что такового не последует, поскольку принялась довольно неловко огибать Перси, чтобы забрать велосипед.
Нет, уже не Миддлтон. Люси Роджерс. Минуло больше года с тех пор, как они с Гарри поженились. Почти восемнадцать месяцев.
— До свидания, мисс Блайт, — попрощалась Люси, взбираясь на велосипед.
— Как поживает ваш муж? — быстро спросила Перси и тут же запрезирала себя за это. — Надеюсь, неплохо?
Люси не смотрела ей в глаза.
— Вполне.
— Как и вы, надо думать?
— Да.
— И малыш.
Почти шепотом:
— Да.
Поза Люси напоминала позу ребенка, ожидающего выволочки или даже хуже — побоев, и Перси затопило внезапное страстное желание оправдать ее ожидания. Разумеется, ничего подобного она не сделала, а только приняла небрежный тон, менее опрометчивый, чем раньше, почти легкомысленный, и заметила:
— Можете передать вашему мужу, что напольные часы в вестибюле по-прежнему спешат. Они бьют на десять минут раньше, чем положено.
— Хорошо, мэм.
— Полагаю, мне не показалось, что он нежно привязан к нашим старым часам?
Люси так и не взглянула ей в глаза, только пробормотала нечто невразумительное и покатила по подъездной дорожке. Фонарь выписывал перед ней корявые строчки послания.
Внизу хлопнула передняя дверь, и Саффи поспешно закрыла дневник. Кровь жарко гудела в висках, щеках и груди. Сердце билось чаще, чем у крошечной птички. Вот как. Пошатываясь, она заставила себя встать. Часть догадок развеялась как дым: тайна предстоящего вечера, переделки платья, молодого гостя. Никакой он не отважный незнакомец. Нет. Не незнакомец.
— Саффи? — Резкий злой голос Перси пробился сквозь слои половиц.
Саффи прижала руку ко лбу, набираясь решимости для предстоящей задачи. Она знала, что делать: одеться и спуститься вниз, оценить, как долго придется умасливать Перси, обеспечить вечеру небывалый успех. Напольные часы пробили шесть, а значит, все это придется делать одновременно. Юнипер и ее молодой человек — она не сомневалась, что подсмотрела в дневнике именно его имя — прибудут в течение часа; сила, с которой Перси шарахнула дверью, выдает дурное настроение; а сама Саффи до сих пор одета как женщина, которая весь день копалась в огороде на благо победы.
Забыв о куче спасенной посуды, она поспешно перебралась через завалы бумаги, закрыла оставшиеся окна и задернула шторы затемнения. Саффи заметила движение на подъездной дорожке — Люси пересекала на велосипеде первый мост — и отвернулась. Над далекими полями хмеля в небе парила стая птиц, и она проследила за их полетом. Есть выражение «свободен как птица», но птицы вовсе не свободны, насколько Саффи может судить: они связаны друг с другом привычками, сезонными потребностями, биологией, природой, самим своим происхождением на свет. Не более свободны, чем другие. И все же им ведома радость полета. Чего бы только Саффи порой не отдала, чтобы раскинуть крылья и полететь, прямо сейчас выплыть из окна и воспарить над полями, над лесами, вслед за самолетами ринуться в Лондон.
Однажды она попыталась, когда была маленькой. Вылезла из окна чердака, прошла по коньку крыши и сползла на уступ под папиной башней. Но сначала она смастерила пару крыльев, самых прекрасных шелковых крыльев на свете, и привязала их бечевкой к тонким легким палочкам, набранным в лесу; она даже пришила к изнанке резиновые петли, чтобы надевать крылья. Они были такими красивыми… не розовые и не красные, киноварные, сверкающие на солнце, как перья настоящих птиц… и несколько секунд она действительно летела, после того, как бросилась в воздух. Ветер подкидывал ее снизу, хлестал через всю долину, заставляя заложить руки за спину, и на краткое, но чудесное мгновение все замедлилось, замедлилось, замедлилось… и она самым краешком сознания поняла, какое это блаженство — полег. А потом все снова начало ускоряться; ее спуск был недолгим, и когда она ударилась о землю, ее крылья и руки сломались.
— Саффи? — Новый оклик. — Ты что, прячешься?
Птицы растворились в набухшем небе; Саффи закрыла окно и задернула шторы затемнения, чтобы не было видно ни лучика света. Грозовые облака снаружи громыхали, как набитый желудок, ненасытная прорва джентльмена, счастливо избежавшего тягот военного продовольственного рациона. Саффи улыбнулась собственной метафоре и мысленно отметила, что надо записать ее в дневник.
В доме было тихо, слишком тихо, и Перси поджала губы от знакомого волнения; Саффи всегда предпочитала прятаться, когда дело шло к ссоре. Перси боролась со своим близнецом с самого рождения, весьма поднаторела в этих битвах и немало ими наслаждалась, и все бывало хорошо, пока между сестрами не возникали разногласия, с которыми Саффи, страдающая от прискорбного недостатка практики, не могла справиться. Не в силах сражаться, она выбирала из двух зол: бегства или малодушного отрицания. В данном случае, судя по выразительной тишине, которая послужила ответом на попытки Перси разыскать сестру, Саффи выбрала первое. Чем очень, очень разочаровала Перси, в груди которой зрел и стремился вырваться на волю колючий раскаленный шар. А поскольку бранить и отчитывать некого, Перси придется и дальше лелеять этот шар, притом что раскаленные колючие шары — не из тех недугов, которые исчезают сами по себе. Если его не в кого будет кинуть, ей придется искать утешения в другом месте. Виски, возможно, поможет; по крайней мере, не навредит.
Каждый день наступал момент, когда солнце опускалось достаточно низко над горизонтом, и свет мгновенно и решительно покидал замок. Этот момент настал, когда Перси шла по коридору, ведущему из вестибюля. Когда она вынырнула в желтой гостиной, было уже так темно, что почти не видно дорогу — идти было бы опасно, не будь Перси способна разгуливать по замку с завязанными глазами. Она обогнула диван, приблизилась к эркеру, задернула шторы затемнения и включила настольную лампу. Как обычно, лампа почти не разогнала мрак. Перси достала спичку, чтобы поджечь фитиль керосиновой лампы, и с легким удивлением и сильным раздражением обнаружила, что после встречи с Люси ее рука дрожит слишком сильно.
Неизменно беспринципные каминные часы выбрали именно эту минуту для ускорения хода. Перси никогда не любила эти чертовы часы. Они принадлежали матери, и папа уверял, что они дороги ему, а потому часы были неприкосновенны. Но в природе их тиканья имелось нечто, резавшее Перси слух — злобный намек на то, что им куда приятнее отмерять минувшие секунды, чем положено фарфоровой безделушке. Сегодня ее неприязнь балансировала на грани ненависти.
— Да заткнитесь вы, тупые часы! — крикнула Перси и швырнула нетронутую спичку в корзину, позабыв о лампе.
Она налила себе выпить, свернула сигарету и вышла на улицу, пока не начался дождь, чтобы убедиться, довольно ли дров в поленнице; возможно, это поможет ей избавиться от колючего шара.
Несмотря на суматоху дня, Саффи освободила небольшой участок сознания для изучения гардероба; она мысленно перебирала варианты, чтобы, когда настанет вечер, не поддаться сомнениям и не сделать опрометчивый выбор. Если честно, это было одним из ее любимых развлечений, даже когда она не готовилась к особенному ужину: сначала она представляла это платье с теми туфлями и тем ожерельем, затем повторяла снова и снова, блаженно перебирая бесчисленные комбинации. Сегодня она отбрасывала вариант за вариантом, поскольку они не отвечали главному, центральному критерию. Наверное, с него следовало начать, но ей так не хотелось ограничивать свою фантазию! Наряд-победитель неизменно оказывался тем, который подходил к ее лучшим нейлоновым чулкам, а именно единственной паре, шесть заштопанных дыр которой, к счастью, можно было спрятать тщательным подбором правильных туфель и платья нужной длины и фасона. Намек: мятно-зеленое шелковое платье «Либерти».
Вернувшись в порядок и чистоту своей спальни, Саффи стянула сарафан, одержала победу над нижним бельем и порадовалась тому, что уже приняла все сложные решения, ведь сейчас у нее не было на них ни времени, ни сил. Мало того что ей пришлось читать между строк дневник Юнипер — теперь еще и Перси явилась вне себя от ярости. Как обычно, весь дом сердился вместе с ней; грохот передней двери пропутешествовал по венам замка, поднялся на четыре этажа и проник в тело Саффи. Даже свет — вечно тусклый — казалось, сочувственно дулся, и тени застоялись в полостях. Саффи сунула руку в дальний угол верхнего ящика и выудила свои лучшие чулки. Они были спрятаны в бумажную упаковку и обматывали лоскут посыпанной тальком ткани; она осторожно развернула их, легонько проведя большим пальцем по самой свежей штопке.
Проблема с точки зрения Саффи заключалась в том, что оттенки человеческой привязанности ускользали от Перси, которую намного больше волновали нужды стен и полов Майлдерхерста, нежели ее соседей по замку. В конце концов, их обеих расстроил уход Люси; и именно Саффи страдала от пустоты, проводя в изоляции целые дни, моя, скребя и стряпая в обществе одной лишь Клары или слабоумной Милли. Но тогда как Саффи понимала, что женщина, столкнувшись с выбором между работой и сердцем, всегда выберет сердце, Перси отказывалась вежливо смириться с переменой в домашнем укладе. Она восприняла замужество Люси как личное оскорбление, и никто не умел дуться, как Перси. Вот почему запись в дневнике Юнипер и ее возможные последствия были настолько тревожащими.
Саффи приостановила инспекцию чулок. Она не была наивной и не была ханжой; она читала «Третий акт в Венеции» Сильвии Томпсон, «Неуютную ферму» Стеллы Гиббонс и «Мыслящий тростник» Ребекки Уэст и знала о сексе. Однако ничто из прочитанного не подготовило ее к мыслям Юнипер о данном предмете. Типично откровенным, грубым, но и лиричным, прекрасным, разнузданным и пугающим. Глаза Саффи скользнули по странице, вбирая все сразу, как будто в лицо ей выплеснули огромный стакан воды. Учитывая скорость, с которой она читает, и смятение при встрече со столь яркими чувствами, неудивительно, что теперь ей не идет на ум ни строчки; лишь фрагменты ощущений, непрошеные образы, случайные запретные слова и жаркое потрясение при встрече с ними.
Возможно, Саффи поразили не столько слова, сколько то, кому они принадлежали. Юнипер не просто была ее малюткой-сестрой, она всегда казалась абсолютно асексуальной; ее палящий талант, презрение ко всему женскому, несомненная эксцентричность — все это словно поднимало Юнипер над такими примитивными человеческими желаниями. Более того, и, возможно, это самое обидное, Юнипер никогда даже не намекала Саффи, что завела роман. Сегодняшний молодой гость — тот самый мужчина? Запись в дневнике была оставлена шесть месяцев назад, до отъезда Джун в Лондон, и все же в ней стояло имя Томас. Возможно ли, что Юнипер познакомилась с ним раньше, еще в Майлдерхерсте, и за ее отъездом скрывалось нечто большее? И если так, любят ли они друг друга до сих пор? Столь яркое и волнующее событие в жизни ее младшей сестры, о котором та не обмолвилась ни словом! Разумеется, Саффи знала почему: папа, доживи он до сегодняшнего дня, был бы в ярости… секс слишком часто приводит к появлению детей, а папины теории о несовместимости искусства и взращивания детей ни для кого не были секретом. Перси, самозваный эмиссар отца, проявила бы не большую мудрость; в этом Юнипер была права. Но не поделиться с Саффи? Как же так, ведь они были близки и, несмотря на скрытность Юнипер, часто говорили по душам, Этот случай не должен был стать исключением. Она скатала чулки с руки, решив исправить положение дел, как только Юнипер приедет и они смогут выкроить пару минут наедине. Саффи улыбнулась; вечер будет не просто вечером встречи или знаком благодарности. У Юнипер появился особенный друг.
Удостоверившись, что чулки в хорошем состоянии, Саффи повесила их на спинку кровати и приготовилась к атаке на гардероб. Господь всемогущий! Она застыла на месте, затем повертелась в нижнем белье в разные стороны, оглядываясь через плечо на свой зад. Или с зеркалом приключилось что-то неладное, или она набрала еще пару фунтов. Нет, правда, ей придется завещать свое тело науке: набрать вес, несмотря на прискорбное состояние английских кладовых! Что это: антибританская деятельность или хитроумная победа над гитлеровскими субмаринами? Возможно, она и не достойна медали Черчилля «За сохранение красоты в Англии», но тем не менее это триумф. Саффи скорчила гримасу, втянула живот и открыла дверь шкафа.
За передним рядом скучных сарафанов и кардиганов скрывалась волшебная страна позабытых ярких шелков. Саффи прижала руки к щекам; это все равно что навестить старых друзей. Гардероб был ее радостью и гордостью, каждое платье — членом уважаемого клуба. А также каталогом ее прошлого, как однажды подумалось в приступе слезливой жалости к себе: платья, которые она носила дебютанткой, шелковое платье, надетое в 1923 году на бал в честь середины лета в Майлдерхерсте, и даже синее платье, сшитое ради премьеры папиной пьесы на следующий год. Папа утверждал, что его дочери должны быть прекрасны, и они неизменно переодевались к ужину, пока он был жив; они старались порадовать его, даже когда он оказался прикован к своему креслу в башне. После его смерти, однако, это стало бессмысленным, ведь началась война. Саффи некоторое время придерживалась заведенного порядка, но как только Перси поступила в службу скорой помощи и стала дежурить по ночам, сестры безмолвно согласились покончить с традицией.
Саффи сдвигала платья в сторону одно за другим, пока наконец не углядела мятно-зеленый шелк. Она еще мгновение подержала остальные платья в стороне, оценивая его блистательный зеленый перед: вышивка бисером по линии декольте, пояс-лента, диагональная юбка. Она не надевала его уже много лет, не помнила, когда это случилось в последний раз, но помнила, что Люси помогала его ремонтировать. Это все Перси виновата, она настоящая угроза для тонких тканей с ее сигаретами и небрежной манерой курить. Люси починила платье очень аккуратно; Саффи пришлось внимательно изучить корсаж, чтобы найти подпалину. Да, платье прекрасно подойдет; иначе и быть не может. Саффи вытащила его из гардероба, разложила на постели и взялась за чулки.
«Самая большая загадка, — подумала она, осторожно собирая чулок и вставляя в него левую ногу, — состоит в том, как такая женщина, как Люси, вообще смогла влюбиться в часовщика Гарри?» Самый обычный человечек, ничуть не романтический герой, вечно шастал по коридорам, сгорбившись, и волосы его всегда были чуть более длинными, чуть более редкими, чуть менее ухоженными, чем следовало…
— О боже… только не это!
Саффи зацепилась большим пальцем ноги и начала валиться набок. За долю секунды она могла бы выпрямиться, но ноготь зацепился за волокно, и она не рискнула поставить ногу на пол, иначе бы спустила очередную петлю. Поэтому она мужественно смирилась с падением, больно ударившись бедром об угол туалетного столика.
— О боже, — выдохнула она. — О боже, боже, боже.
Она села на обитый тканью стул и поспешила осмотреть драгоценный чулок; ну почему, почему она не сосредоточилась как следует на насущной задаче? Когда эти чулки окончательно порвутся, взять новые будет негде. Дрожащими пальцами она вновь и вновь вертела чулки, легонько гладя их поверхность.
Кажется, все в порядке, хотя чулки были на волосок от гибели. Саффи наконец расслабилась, но полного облегчения не испытала. Она задержалась взглядом на своем розовощеком отражении в зеркале: на кону стояло больше, чем последняя пара чулок. В детстве у них с Перси было множество возможностей наблюдать за взрослыми, и это зрелище приводило их в замешательство. Древние карикатуры вели себя так, как будто понятия не имели о собственной старости. Это озадачивало близнецов, которые сходились на том, что самое непристойное на свете — старик или старуха, который не желает держаться в рамках возраста, и сестры заключили соглашение никогда не допустить подобного. Они поклялись, что, когда состарятся, с достоинством сыграют отведенную роль. «Но как мы узнаем? — спросила Саффи, озадаченная экзистенциальной загвоздкой в самом сердце вопроса. — Вдруг это как солнечный ожог: не почувствуешь, пока не будет слишком поздно что-либо менять?» Перси согласилась, что проблема весьма коварна, обхватила колени руками и умолкла, погрузившись в раздумья. Неизменно прагматичная, она первой пришла к решению и медленно произнесла: «Давай составим список того, что делают старые люди; трех пунктов довольно. И когда мы обнаружим, что делаем это, то все поймем».
Отобрать варианты привычек было несложно, в конце концов, девочки всю жизнь наблюдали за папой и няней; труднее оказалось ограничить их количество тремя. После долгих споров они выбрали те, которые оставляли минимум места для колебаний: во-первых, постоянно и бескомпромиссно превозносить Англию времен королевы Виктории; во-вторых, заводить разговоры о здоровье в чьем-либо обществе, за исключением общества профессионального медика; в-третьих, не уметь надевать нижнее белье стоя.
Саффи застонала, вспомнив, как утром застилала кровать в гостевой комнате и поймала себя на том, что жалуется Люси на боли в пояснице. Тема беседы подразумевала подобную откровенность, и она собиралась спустить дело на тормозах, но упасть из-за пары чулок? Прогноз был поистине неблагоприятным.
Когда Перси уже почти добралась до задней двери, наконец появилась Саффи, плывя вниз по лестнице, будто совершенно ни в чем не провинилась.
— Привет, сестрица, — пропела она, — ну как, спасла сегодня кого-нибудь?
Перси втянула воздух. Ей было нужно время, место и острый топор, чтобы прочистить мысли и избавиться от ярости. Иначе кому-то серьезно не поздоровится.
— Четырех котят из канавы и комок «Эдинбургской скалы».
— Замечательно! Сплошные победы. Превосходная работа! Может, выпьем чаю?
— Я собираюсь нарубить немного дров.
— Дорогая. — Саффи шагнула чуть ближе. — По-моему, это лишнее.
— Лучше сейчас, чем потом. Скоро хлынет дождь.
— Конечно, — с преувеличенным спокойствием согласилась Саффи, — но я уверена, что дров вполне достаточно. Более того, в результате твоих стараний в этом месяце, по моим оценкам, нам хватит дров примерно до шестидесятого года. Может, лучше поднимешься наверх, переоденешься к ужину… — Саффи помолчала, когда грохот ливня прокатился от одной стороны крыши замка до другой. — А вот и спасительный дождь!
Бывают дни, когда даже погода против тебя. Перси достала табак и стала скручивать сигарету. Не поднимая глаза, она спросила:
— Зачем ты позвала ее?
— Кого?
Жесткий взгляд.
— А, ты об этом. — Саффи неопределенно махнула рукой. — У Клары заболела мать. Милли, как обычно, ничего не соображает, а ты всегда ужасно занята; мне просто было не справиться одной. Кроме того, кто лучше Люси способен подольститься к Агате?
— В прошлом ты прекрасно справлялась.
— Это очень мило с твоей стороны, Перси, дорогая, но ты же знаешь Агги. Я бы не удивилась, если бы она вышла сегодня из строя, просто чтобы насолить мне. Она затаила обиду с тех пор, как у меня убежало молоко.
— Она… Это всего лишь плита, Серафина.
— А я о чем! Кто бы мог подумать, что она обладает таким дьявольским темпераментом?
Перси чувствовала, что ею манипулируют. Притворная веселость в голосе сестры; то, как она перехватила ее по пути к задней двери и заманивает наверх, где наверняка уже приготовлено платье… что-нибудь до отвращения вычурное… как будто Саффи подозревала, что Перси не способна прилично вести себя в обществе. От этой мысли Перси захотелось зарычать, но подобная реакция только подтвердила бы опасения сестры, и потому она сдержалась. Проглотив раздражение, она смочила бумагу и запечатала самокрутку.
— Как бы то ни было, — продолжила Саффи, — Люси оказалась просто душкой, и поскольку жарить было нечего, я решила, что грешно отказываться от помощи.
— Нечего жарить? — беззаботно отозвалась Перси. — В последний раз, когда я проверяла, целых восемь кандидаток благополучно набирали жирок в курятнике.
Саффи задержала дыхание.
— Ты, верно, шутишь.
— Я мечтаю о куриных ножках.
Праведная дрожь прокралась в голос Саффи и перебралась в ее указующий перст.
— Мои девочки — наша надежда и опора, а не ужин. Не смей смотреть на них и думать о подливке. Это… это варварство.
У Перси много фраз вертелось на языке, но она стояла в темном коридоре, дождь барабанил по земле по ту сторону каменной стены, ее сестра-близнец неловко переминалась с ноги на ногу на лестнице… бедра и живот растягивали ее старое зеленое платье в самых неподходящих местах и… Перси мельком увидела нить времен и нанизанные на нее бесчисленные разочарования. Они образовали стену, о которую ударилась и сплющилась ее нынешняя неудовлетворенность. В их паре близнецов Перси была лидером с самого детства, и, как бы Саффи ни злила ее, ссора разрушила бы некий основополагающий принцип их вселенной.
— Перси? — Голос Саффи до сих пор дрожал. — Мне что, поставить охрану вокруг моих девочек?
— Ты должна была предупредить, — заявила Перси, выхватывая спички из кармана. — Вот и все. Ты должна была сказать мне про Люси.
— Выкинь это из головы, Перси. Ради себя же самой. Уйти от хозяина — не худшее, что может сделать слуга. Вот если бы она запустила руку в ящик со столовым серебром…
— Ты должна была предупредить меня.
Слова раздирали Перси горло. Она выудила спичку из коробка.
— Если это так важно, я не стану больше ее звать. В любом случае, вряд ли она расстроится; мне показалось, что она избегает твоего общества. По-моему, ты пугаешь ее.
Спичка с треском сломалась в пальцах Перси.
— Ах, Перси… у тебя идет кровь.
— Ерунда, — отмахнулась она, вытирая пальцы о брюки.
— Нет, только не об одежду, только не кровь, ее же невозможно отмыть! — Саффи протянула сестре скомканный предмет одежды, который принесла с собой сверху. — На случай, если ты не заметила, прачки давно нас покинули. Осталась только я, и это мне приходится кипятить, помешивать и скоблить.
Перси потерла пятно крови на ноге, размазав его еще больше.
Саффи вздохнула.
— Оставь брюки в покое, потом разберусь. Поднимись, дорогая, и приведи себя в порядок.
— Хорошо, — ответила Перси, с легким удивлением разглядывая свой палец.
— Ты наденешь красивое вечернее платье, а я поставлю чайник. Выпьем чая. А может, лучше приготовить по коктейлю? В конце концов, у нас праздник.
Праздник — слишком сильно сказано, но Перси уже лишилась задора.
— Хорошо, — повторила она. — Отличная мысль.
— Отнеси брюки вниз на кухню, когда закончишь; я сразу же их замочу.
Перси стала медленно подниматься по лестнице, сжимая и разжимая ладонь, затем остановилась и повернулась.
— Чуть не забыла. — Она достала из сумки машинописный конверт. — Тебе письмо.
Саффи спряталась в буфетной и собиралась прочесть послание. Она сразу же поняла, что в нем содержится, и приложила все усилия, скрывая волнение от Перси. Она взяла конверт и немного постояла у подножия лестницы, чтобы убедиться, что сестра не передумает и в последний момент не отправится рубить дрова. Лишь когда за Перси захлопнулась дверь спальни, Саффи наконец позволила себе расслабиться. Она едва не потеряла надежду, что ответ когда-нибудь доставят, а теперь, когда он пришел, отчасти жалела об этом. Предвкушение, власть неведомого были почти невыносимы.
Оказавшись на кухне, она поспешила в лишенную окон буфетную, которая некогда раздувалась от необузданного нрава мистера Брода; сейчас из свидетельств его деспотического правления остались лишь стол и деревянный шкаф, набитый старыми, невероятно нудными записями. Саффи дернула за шнурок, включив лампочку, и облокотилась о стол. Ее пальцы одеревенели, пока она теребила конверт.
Без ножа для вскрытия писем, который красовался наверху на подставке на ее письменном столе, Саффи пришлось попросту разорвать конверт. Она не любила этого делать, и потому разорвала его как можно аккуратнее, почти наслаждаясь затянувшейся агонией, которую породила столь безмерная осторожность. Затем она вынула из конверта сложенный листок… оценила прекрасную бумагу: чистый хлопок, тиснение, теплый белый цвет… и, глубоко вдохнув, развернула ее. Быстро окинув строки взглядом, она впитала содержимое письма, затем вновь вернулась к началу, заставляя себя не торопиться, поверить собственным глазам; тем временем невероятная, радостная легкость поднималась из глубины ее тела, отчего даже самые кончики пальцев взрывались фейерверком.
Она заметила объявление в «Таймс», когда просматривала страницы о сдаче жилья. «Требуется компаньонка и гувернантка для сопровождения леди Дартингтон и трех ее детей в Америку на время войны, — гласило оно. — Образованная, незамужняя, культурная, имеющая опыт воспитания детей». Казалось, объявление было составлено с мыслью о Саффи. Хотя у нее не было собственных детей, виной тому определенно не недостаток желания. В свое время ее мысли о будущем были полны детьми… как и мысли большинства женщин, надо полагать. Однако заводить детей без мужа не положено, и в этом крылась загвоздка. Что касается других критериев, Саффи ничуть не сомневалась, что может без ложной скромности объявить себя и образованной, и культурной. Она немедленно приступила к делу, сочинила рекомендательное письмо, включила в него пару восторженных отзывов и составила приложение, выставлявшее Серафину Блайт в наилучшем свете. А затем принялась ждать, изо всех сил стараясь держать мечты о Нью-Йорке при себе. Давным-давно сообразив, что ни к чему лишний раз гладить Перси против шерсти, она не упоминала при сестре о вакансии, втайне уносясь в мир ярких фантазий. Она воображала путешествие в довольно деликатных подробностях, полагая себя кем-то вроде современной Молли Браун,[16] которая ободряет детей Дартингтонов, пока те отважно смотрят в лицо гитлеровским субмаринам на пути в великий американский порт…
Рассказать Перси будет самым сложным; она явно не обрадуется, а уж во что она превратится, в одиночестве шатаясь по коридорам, ремонтируя стены и рубя дрова, забывая мыться, стирать или печь… об этом лучше не думать. Но это письмо, это предложение места, которое Саффи держит в руке, — ее шанс, и она не откажется от него из-за застарелой сентиментальности. Подобно Адели, героине своего романа, она «схватит жизнь за горло и заставит посмотреть себе в глаза»… Саффи очень гордилась этой строчкой.
Она тихонько затворила за собой дверь буфетной и сразу заметила, что плита дымится. За всеми треволнениями она совсем забыла про пирог. Какой ужас! Ей повезло, если пирог не превратился в угольки.
Надев кухонные рукавицы, Саффи заглянула в духовку и издала глубокий вздох облегчения при виде золотистой, а не коричневой корочки пирога. Она переставила его в нижнее отделение, где температура была менее высокой и пирогу ничто не угрожало, и выпрямилась, собираясь уйти.
Тут она обнаружила, что испачканные форменные брюки Перси присоединились на кухонном столе к ее сарафану. По-видимому, они появились здесь, пока Саффи пряталась в буфетной. Какое счастье, что Перси не застукала ее за чтением письма!
Официальный день стирки — понедельник, но хорошо бы ненадолго замочить одежду, особенно форму Перси; количество и разнообразие пятен, которые Перси умудрялась посадить, поражало воображение; вот бы еще их не было так сложно отстирать! И все же Саффи любила трудные задачи. Она встряхнула брюки, засунула руку сначала в один карман, затем в другой в поисках забытых мелочей, которые испортят всю стирку. И очень хорошо, что засунула!
Саффи достала обрывки бумаги — о боже, целую кучу! — и выложила перед собой на стойку. Она устало покачала головой; она давно потеряла счет тому, сколько раз пыталась научить Перси проверять карманы, прежде чем отправлять одежду в стирку.
Хм, странно… Саффи поворошила обрывки пальцем и обнаружила один с почтовой маркой. Итак, это письмо, разорванное в клочья. Но почему Перси разорвала его и от кого оно?
Наверху раздался стук, и взгляд Саффи метнулся к потолку. Шаги, снопа стук.
Передняя дверь! Юнипер приехала. Или это он, тот парень из Лондона?
Саффи еще раз взглянула на обрывки бумаги и пожевала внутреннюю сторону щеки. Здесь таилась загадка, и она непременно ее разгадает. Но не сейчас; на это просто нет времени. Она должна подняться к Юнипер и поприветствовать их гостя; одному богу известно, в каком состоянии Перси. Возможно, разорванное письмо прольет свет на дурное настроение сестры в последнее время?
Решительно кивнув, Саффи аккуратно укрыла свое собственное письмо под корсажем и спрятала обрывки из кармана Перси под крышкой кастрюли. Позже она разберется, в чем дело.
В последний раз проверив кроличий пирог, она поправила платье на груди, чтобы поменьше обтягивало талию, и отправилась наверх.
Возможно, Перси просто вообразила запах гнили? Прискорбная иллюзия преследовала ее в последнее время; оказывается, от некоторых запахов невозможно избавиться, единожды почуяв. В хорошую гостиную не заходили больше шести месяцев, с тех пор как похоронили отца, но, несмотря на все усилия сестры, в комнате витал затхлый душок. Стол был выдвинут на середину, водружен на бессарабский ковер и накрыт лучшим бабушкиным обеденным сервизом — по четыре бокала на персону. У каждого прибора лежало старательно напечатанное меню. Перси взяла его для более пристального изучения, отметила, что в расписании присутствуют салонные игры, и вернула на место.
Она мысленно перенеслась в убежище, в котором оказалась в первые недели блицкрига, когда бомбардировщики Гитлера помешали запланированному визиту к папиному стряпчему в Фолкстоне. Натужное веселье, песни, отвратительный едкий запах страха…
Перси закрыла глаза и увидела его. Человека в черном, который явился незамеченным во время бомбежки и прислонился к стене, ни с кем не общаясь. Его голова была низко склонена под темной-претемной шляпой. Перси наблюдала за ним, очарованная тем, как странно он выделялся на фоне других. Он поднял взгляд всего раз, прежде чем закутаться в плащ и выйти в пылающую ночь. Их взгляды встретились на единственный краткий миг, и она ничего не увидела в его глазах. Ни жалости, ни страха, ни решимости; только холодную пустоту. И тогда она поняла, что он — Смерть, и с тех пор он часто всплывал в ее памяти. Спускаясь во время своей смены в воронки от бомб, вытаскивая тела, она вспоминала жуткое, потустороннее спокойствие, которое окружало его, когда он вышел из убежища в хаос. Она поступила в службу скорой помощи вскоре после встречи с ним, но ею двигало не мужество, вовсе нет; просто смотреть в глаза Смерти было проще на пылающей поверхности, чем сидеть в ловушке под дрожащей, стонущей землей, в обществе одного лишь отчаянного веселья и беспомощного страха…
На дне графина оставался примерно дюйм янтарной жидкости, и Перси рассеянно задумалась, когда именно он там оказался. Несомненно, не один год назад — сейчас в желтой гостиной используются просто бутылки, — но какая разница, алкоголь с возрастом становится только лучше. Бросив взгляд за спину, Перси плеснула спиртного в бокал; в ее груди вспыхнуло пламя, и она обрадовалась боли — та была яркой и реальной, и она ощущала ее здесь и сейчас.
Шаги. Высокие каблуки. Еще далеко, но быстро приближаются, цокая по каменным плитам. Саффи.
Месяцы тревоги сплелись в животе Перси в свинцовый клубок. Необходимо взять себя в руки. Она ничего не добьется, если испортит Саффи вечер; ей-богу, у ее сестры и так не много возможностей утолить жажду развлечений. И все же у Перси кружилась голова от того, с какой легкостью она может все испортить. Подобное чувство переживаешь на краю высокого обрыва, когда ясно понимаешь, что прыгать нельзя, и оттого испытываешь странную тягу шагнуть вперед.
Господи, она безнадежна. В сердце Перси Блайт что-то непоправимо сломано, в нем таится что-то странное, неполноценное и совершенно отвратительное. Да как она посмела хотя бы на миг помыслить о легкости, с какой может лишить счастья свою собственную обожаемую, хоть и невыносимо раздражающую сестру? Неужели ее стремления всегда были настолько извращенными? Перси глубоко вздохнула. Несомненно, она больна, и это началось не вчера. Всю их жизнь так: чем больше энтузиазма выказывает Саффи насчет человека, предмета или идеи, тем меньше Перси. Как если бы они были единым существом, расщепленным надвое, и существовал предельный совокупный объем чувств, которые они могли выразить одновременно. И почему-то в некий момент Перси назначила себя хранителем равновесия: если Саффи страдала, Перси выбирала беззаботное веселье; если Саффи испытывала возбуждение, Перси изо всех сил старалась притушить его сарказмом. Какой же чертовски унылой она была!
Граммофон открыли и почистили; рядом с ним лежала стоика пластинок. Перси взяла одну из них — новый альбом, присланный Юнипер из Лондона. Приобретенный бог знает где и как; у Юнипер, надо полагать, имелись свои методы. Музыка должна помочь. Перси поставила иглу, зазвучал проникновенный тихий голос Билли Холидей.[17] Перси жарко выдохнула виски. Уже лучше; современная музыка без ассоциаций из прошлого. Много лет и даже десятилетий назад на одном из вечеров семьи Блайт папа задал слово «ностальгия». Он прочел определение: «острая тоска по прошлому», и Перси с бесшабашной уверенностью юности подумала: что за странная концепция! Она не понимала, зачем кому-то искать возвращения в прошлое, когда все интересное скрывается в будущем.
Перси осушила бокал, лениво наклонила его в разные стороны, наблюдая, как оставшиеся капли сливаются воедино. Ее нервы были на пределе из-за встречи с Люси, но мрачное настроение распространилось и на все события дня; Перси вновь и вновь возвращалась мыслями к разговору с миссис Поттс на почте. Ее подозрениям, ее почти уверениям, что Юнипер помолвлена и собирается замуж. Сплетни так и липли к Юнипер, но опыт подсказывал Перси, что дыма без огня не бывает. Хотя, разумеется, не в этом случае.
Дверь за спиной со вздохом отворилась, из коридора пахнуло прохладой.
— Ну? — задыхаясь, спросила сестра. — Где она? Я слышала стук двери.
Если бы Юнипер и стала обсуждать личную жизнь, то только с Саффи. Перси задумчиво постучала по ободку бокала.
— Она уже наверху? — Голос Саффи упал до шепота. — Или это он? Какой он? Где он?
Перси расправила плечи. Необходимо откровенно признать свою вину, если она хочет добиться от Саффи сотрудничества.
— Они еще не пришли. — Она повернулась к сестре и бесхитростно, как она надеялась, улыбнулась. — Они опаздывают.
— Совсем немного.
Точно такой же вид — открытое, взволнованное лицо — бывал у Саффи в детстве, когда они ставили пьесы для папиных друзей, и никто еще не сидел в креслах для зрителей.
— Ты уверена? — уточнила Саффи. — Могла бы поклясться, что слышала стук…
— Поищи под креслами, если угодно, — беззаботно откликнулась Перси. — Здесь никого больше нет. Просто хлопнула ставня, вон та. Она разболталась во время грозы, но я починила.
Она кивнула на гаечный ключ на подоконнике.
Глаза Саффи широко распахнулись, когда она заметила влажные следы на платье сестры.
— Это особенный ужин, Перси. Юнипер…
— Не заметит и не расстроится, — закончила Перси. — Ладно тебе. Не обращай внимания на мое платье. Ты отлично выглядишь за нас обеих. Может, присядешь? Я приготовлю нам что-нибудь выпить, чтобы скрасить ожидание.
На самом деле, учитывая, что ни Юнипер, ни ее знакомый джентльмен еще не приехали, Саффи хотелось поспешить обратно вниз, сложить обрывки разорванного письма и узнать секрет Перси. Однако столь миролюбивое настроение сестры было неожиданным подарком судьбы, который она не могла отвергнуть. Не сегодня, когда Юнипер и особенный гость прибудут с минуты на минуту. Кстати, о Юнипер: лучше оставаться как можно ближе к передней двери, чтобы залучить сестру на беседу наедине, когда та наконец приедет.
— Спасибо, — поблагодарила Саффи, приняв предложенный бокал и сделав солидный глоток в знак доброй воли.
— Итак. — Перси присела на краешек граммофонного столика. — Как прошел день?
Все страньше и страньше,[18] как сказала бы Алиса. Перси обычно не утруждала себя светскими разговорами. Саффи спряталась за очередным глотком, благоразумно решив проявить максимальную осторожность.
— Отлично. — Она помахала рукой. — Не считая того, что я упала, надевая белье.
— Не может быть, — искренне расхохоталась Перси.
— Еще как может; если не веришь, предъявлю синяк в доказательство. Я полюбуюсь всеми цветами радуги, прежде чем он исчезнет. — Саффи осторожно потрогала свой зад, переместив центр тяжести, поскольку сидела на краю кушетки. — Наверное, это означает, что я старею.
— Это невозможно.
— Правда? — Саффи против воли слегка оживилась. — Почему же?
— Все просто. Я родилась первой; технически я всегда буду старше тебя.
— Да, я знаю, но не понимаю…
— И могу тебя заверить, что ни разу даже не покачнулась, одеваясь. Даже во время налета.
— Гм… — Саффи нахмурилась, обдумывая аргумент сестры. — В этом что-то есть. Тогда припишем данное несчастье мгновенному помутнению сознания, не связанному с возрастом.
— Полагаю, иного выхода нет; поступить иначе — все равно, что написать сценарий собственной кончины.
Это было одно из любимых изречений папы, которое он произносил перед лицом многочисленных и разнообразных затруднений, и сестры улыбнулись.
— Прости. — Перси чиркнула спичкой и прикурила. — Я о том, что случилось на лестнице. Я не хотела ссориться.
— Давай во всем винить войну. — Саффи отвернулась подальше от дыма. — Как и все остальные. Расскажи лучше, что нового в большом, широком мире?
— Ничего особенного. Лорд Бивербрук твердит о танках для русских; в деревне невозможно выпросить рыбы, а дочка миссис Каравэй, кажется, на сносях.
— Нет! — с жадностью воскликнула Саффи.
— Да.
— Но ей же лет пятнадцать?
— Четырнадцать.
Саффи наклонилась ближе.
— Выходит, это солдат?
— Летчик.
— Так-так. — Она изумленно покачала головой. — А ведь миссис Каравэй — настоящий столп общества. Какой ужас.
От внимания Саффи не ускользнул тот факт, что Перси самодовольно улыбается с сигаретой в зубах, как будто подозревает, что сестра наслаждается несчастьем миссис Каравэй. Конечно, в этом была доля истины, но только потому, что эта женщина — невыносимая тиранша, которая выискивает недостатки во всех и вся, включая — слухи добрались и до замка — шитье самой Саффи.
— Что? — покраснела она. — Это действительно ужасно.
— Однако неудивительно, — заметила Перси, стряхивая пепел. — Современные девушки совершенно аморальны.
— После начала войны все изменилось, — согласилась Саффи. — Я вижу это в письмах в редакцию. Девушки гуляют, пока их мужей нет рядом, заводят детей вне брака. Такое впечатление, что им достаточно познакомиться с парнем, чтобы пойти под венец.
— Но наша Юнипер не такая.
Саффи похолодела. Вот зацепка, которой она ждала: Перси все известно. Она откуда-то узнала о романе Юнипер. Это объясняет неожиданно веселое настроение; сестра надеется хитростью выведать правду, и Саффи попалась на крючок с наживкой в виде сочной деревенской сплетни. Как унизительно!
— Ну конечно, — как можно более небрежно обронила она, — Юнипер не такая.
— Совсем не такая.
Мгновение они сидели с одинаковыми улыбками на одинаковых лицах, разглядывая друг друга и потягивая напитки. Сердце Саффи тикало громче, чем папины любимые часы, и она боялась, что Перси услышит; теперь она поняла, что испытывает муха в паутине, ожидая приближения огромного паука.
— Хотя сегодня я услышала кое-что забавное. — Перси стряхнула пепел в хрустальную пепельницу. — В деревне.
— Неужели?
— Да.
Между ними повисла неловкая тишина, пока Перси курила, а Саффи сосредоточенно покусывала язык. Какое бесстыдство и вероломство со стороны сестры — использовать ее любовь к местным сплетням в надежде выведать секрет! Но она не пойдет у Перси на поводу, да и к чему ей деревенские слухи? Ей уже известна правда, в конце концов, именно она прочитала дневник Юнипер, но не станет делиться его содержанием с Перси.
Саффи поднялась с максимальным достоинством, оправила платье и проверила сервировку стола, усердно выравнивая ножи и вилки. У нее даже получилось бездумно напевать себе под нос и безмятежно улыбаться, что оказалось в некотором роде утешением, когда сомнения так и лезли изо всех щелей.
То, что у Юнипер появился любовник, стало настоящим сюрпризом, и Саффи огорчило то, что сестра это скрыла, однако сам факт ничего не менял. Или нет? По крайней мере, он не менял того, о чем беспокоилась Перси; не менял ничего важного. Скорее всего, если Саффи оставит новость при себе, ничего плохого не случится. У Юнипер есть любовник, вот и все. Она молодая женщина, это естественно; пустяк, и к тому же, несомненно, преходящий. Как и прочие увлечения Юнипер, этот парень поблекнет, увянет и будет сметен тем же ветром, что принесет новую игрушку.
На улице поднялся ветер, и когти вишни зацарапали по разболтавшейся ставне. Саффи поежилась, но не от холода; зеркало над камином поймало едва заметное движение, и она взглянула на свое отражение. Огромное зеркало в позолоченной оправе висело на цепи на крюке на большой высоте. Вследствие этого оно отклонялось от стены, нависая над полом, и когда Саффи смотрела вверх, зеркало смотрело вниз, превращая ее в приземистую зеленую карлицу. Она невольно коротко вздохнула, внезапно испытав укол одиночества, устав от нагнетания тумана. Она уже собиралась отвернуться и продолжить инспекцию стола, когда заметила Перси, которая скрючилась у самой оправы зеркала, куря и наблюдая за зеленой карлицей в его глубине. Не просто наблюдая — изучая. Выискивая улики, подтверждения своих подозрений.
От осознания, что за ней следят, пульс Саффи участился, и она испытала неожиданное желание услышать собственный голос, наполнить комнату звуками речи и шумом. Она коротко, размеренно вдохнула и приступила:
— Очевидно, Юнипер опаздывает, и, наверное, тут нечему удивляться; несомненно, ее задержала погода; какой-нибудь затор на железной дороге; она должна была прибыть в пять сорок пять, и даже если сделать скидку на автобус из деревни, ей пора бы уже появиться… Надеюсь, она захватила зонтик, но ты же знаешь, как она…
— Юнипер помолвлена, — резко перебила Перси. — Вот что говорят. Что она помолвлена.
Столовый нож громко лязгнул о вилку. Саффи приоткрыла рот и заморгала.
— Что ты сказала, дорогая?
— Собирается замуж. Юнипер помолвлена и собирается замуж.
— Но это же нелепо. Конечно, она ничего подобного не сделает.
Саффи была искренне поражена.
— Юнипер? — Она издала короткий металлический смешок. — Замуж? Да с чего ты взяла?
Струйка дыма.
— Ну? И кто же говорит такую чушь?
Мгновение Перси молчала, поскольку старательно снимала кусочек табачной трухи с нижней губы. Затем нахмурилась, глядя на табачную крошку на кончике пальца. Наконец щелчком стряхнула ее в пепельницу.
— Скорее всего, это чушь. Просто я зашла на почту и…
— Ха! — воскликнула Саффи с не слишком обоснованным ликованием. И облегчением, поскольку сплетня Перси оказалась всего лишь сплетней, деревенской болтовней без каких-либо оснований. — Могла бы и сама догадаться. Эта Поттс! Послушай, да она же настоящая угроза. Хорошо еще, что ее болтливый язык не добрался до дел государственной важности.
— Так ты в это не веришь?
Голос Перси был деревянным, без каких-либо модуляций.
— Ну конечно, я в это не верю.
— Юнипер ничего тебе не говорила?
— Ни слова. — Саффи подошла к Перси и коснулась ее плеча. — Серьезно, Перси, дорогая! Разве можно вообразить Юнипер в роли невесты? С головы до пят в белом кружеве; обещает любить и почитать другого человека, пока смерть не разлучит их!
Скорченный, безжизненный окурок лег в пепельницу, и Перси переплела пальцы под подбородком. Затем она чуть улыбнулась, подняла плечи, вновь опустила и отмахнулась от нелепой мысли.
— Ты права, — согласилась она. — Глупая сплетня, только и всего. Я просто хотела узнать…
Но что именно Перси хотела узнать, Саффи пришлось додумывать самостоятельно.
Хотя музыка давно умолкла, граммофонная игла прилежно продолжала скользить по центру пластинки, и Саффи спасла ее, опустив обратно на рычаг. Она собиралась сходить проверить кроличий пирог, когда Перси добавила:
— Юнипер сказала бы нам. Если это правда, она сказала бы нам.
Щеки Саффи вспыхнули при воспоминании о дневнике на полу, потрясении при чтении последней записи, обиде на то, что ее держали в неведении.
— Саффи?
— Конечно, — быстро ответила та. — Ведь люди так и делают? Рассказывают друг другу подобные вещи?
— Да.
— Особенно сестрам.
— Да.
И это было правдой. Одно дело — держать в секрете любовную связь, и совсем другое — помолвку. Саффи была уверена, что даже Юнипер не может быть настолько слепой по отношению к чувствам других людей и последствиям подобного решения.
— И все же, — заметила Перси, — нам стоит побеседовать с ней. Напомнить, что папа…
— Покинул нас, — мягко закончила Саффи. — Он покинул нас, Перси. Теперь мы можем делать все, что угодно. Например, оставить Майлдерхерст, отплыть в пленительный, волнующий Нью-Йорк и никогда не вспоминать о прошлом.
— Нет, — рявкнула Перси, и на мгновение Саффи испугалась, что невольно озвучила свои намерения. — Не совсем. У каждой из нас есть обязанности по отношению к остальным. Юнипер понимает это; ей известно, что брак…
— Перси…
— Это желание папы. Его условие.
Перси пыталась заглянуть Саффи в глаза, и та подумала, что впервые за много месяцев видит лицо сестры вблизи; она обнаружила на нем новые морщины. Перси много курила и беспокоилась; несомненно, война тоже оказала свое разрушающее влияние, но какова бы ни была причина, женщина, сидящая перед Саффи, больше не была молодой. Впрочем, как и старой; и Саффи внезапно догадалась — хотя, наверное, и раньше это подозревала? — что между юностью и старостью есть кое-что еще. И они обе как раз в этом возрасте. Больше не девушки, но еще далеко не старухи.
— Папа знал, что делает.
— Ну конечно, дорогая, — ласково откликнулась Саффи.
Почему она не замечала их раньше, всех этих женщин промежуточного возраста? Несомненно, они не были невидимками; они просто тихо занимались своими делами, делали то, что делают женщины, когда они больше не молоды, но еще и не стары. Вели дом, вытирали слезы с детских щек, штопали носки мужей. И Саффи поняла, почему Перси так себя ведет — словно завидует тому, что Юнипер, которой всего восемнадцать, может однажды выйти замуж. Тому, что у нее впереди целая взрослая жизнь. Она поняла и то, почему именно сегодня вечером Перси поддалась столь сентиментальным мыслям. Да, ею двигала забота о Юнипер, ее встревожили деревенские слухи, но именно встреча с Люси заставила ее вести себя подобным образом. Саффи затопила волна любви к своей мужественной сестре, такая сокрушительная, что едва не оставила ее бездыханной.
— Не повезло нам, да, Перси?
Та оторвалась от сигареты, которую скручивала.
— Что?
— Не повезло нам с тобой в сердечных делах.
Перси обдумала ее слова.
— По-моему, удача здесь ни при чем. Простая арифметика.
Саффи улыбнулась; именно это сказала им сменившая няню гувернантка перед своим возвращением в Норвегию, где собиралась выйти замуж за овдовевшего родственника. Она устроила урок у озера, как поступала всегда, когда была не в настроении преподавать и стремилась ускользнуть от пристального взора мистера Брода. Продолжая загорать, она немного приподнялась на локтях. Ее голос, как обычно, был тягучим, с акцентом, а в глазах мерцало недоброе удовлетворение. По ее рассуждениям выходило, что они могут смело забыть о замужестве, поскольку Первая мировая война, которая ранила их отца, также уничтожила все их шансы. Тринадцатилетние близнецы тупо смотрели на нее; они в совершенстве отточили это выражение, поскольку знали, что оно выводит взрослых из себя. Какое им было дело? В то время их меньше всего волновало замужество и поклонники.
— Что ж, это тоже в своем роде неудача, — тихо промолвила Саффи. — Когда всех твоих будущих мужей убили на французских полях сражения…
— А сколько ты собиралась их иметь?
— Кого?
— Мужей. Ты говоришь «всех твоих будущих мужей»… — Перси закурила и махнула рукой. — Ладно, забудь.
— Всего одного. — У Саффи внезапно закружилась голова. — Я хотела бы всего одного.
Последовавшая тишина была мучительной, и Перси, по крайней мере, хватило совести испытать неловкость. Но она ничего не ответила, не предложила ни слов утешения или понимания, ни добрых жестов, а только ущипнула кончик сигареты, затушив ее прежде времени, и направилась к двери.
— Куда ты?
— Голова болит. Знаешь, иногда накатывает.
— Сядь, я принесу аспирин.
— Нет… — Перси отвела глаза. — Нет, я сама возьму в аптечке. Прогулка пойдет мне на пользу.
Перси спешила по коридору, недоумевая, как могла быть такой безнадежной дурой. Она собиралась немедленно сжечь обрывки письма Эмили, а вместо этого настолько смутилась из-за встречи с Люси, что забыла их в кармане. Хуже того, она отнесла их прямо Саффи — тому самому человеку, от которого стремилась скрыть переписку. Перси с грохотом сбежала по лестнице и ворвалась в наполненную паром кухню. Интересно, когда бы она вспомнила о письме, если бы Саффи не намекнула на мужа Эмили, Мэтью? Возможно, уже пора оплакивать утрату твердого рассудка; гадать, на какие сделки с дьяволом придется пойти, чтобы вернуть его?
Перед столом Перси резко остановилась. Ее брюки больше не лежали там, где она их оставила. Сердце гулко ударилось о ребра; усилием воли она вернула его на место. Паника не поможет; кроме того, само по себе это еще не ужасно. Перси не сомневалась, что Саффи пока не прочла письмо; ее поведение наверху было слишком сдержанным, слишком спокойным. Господь милосердный, да если бы Саффи узнала, что Перси до сих пор поддерживает отношения с кузиной, она просто не сумела бы скрыть ярость. Выходит, еще не все потеряно. Необходимо найти брюки, спрятать улики, и все будет хорошо.
Она вспомнила, что на столе лежало еще и платье, а значит, где-то есть груда грязного белья. Насколько сложно ее отыскать? Несомненно, намного сложнее, чем если бы она имела хотя бы смутное представление о том, как осуществляется стирка, но, к несчастью, Перси никогда не уделяла особого внимания рутинной работе Саффи по дому — оплошность, которую она молча пообещала исправить, как только письмо благополучно окажется в ее руках. Она начала с корзин на полке под столом, порылась среди кухонных полотенец и противней, кастрюль и скалок, краем уха прислушиваясь, не спускается ли Саффи по лестнице. Хотя это, конечно, маловероятно. Учитывая, что Юнипер уже опаздывает, Саффи не рискнет далеко отойти от передней двери. Перси и самой не терпелось вернуться; как только Юнипер появится, она прямо спросит ее о сплетне миссис Поттс.
Ведь хотя Перси согласилась с сестрой насчет того, что Юнипер рассказала бы о своей помолвке, в действительности она не разделяла подобной уверенности. Люди обычно так и делают, в этом не может быть сомнений, но Юнипер не такая, как другие: она ярко выраженная одиночка, несмотря на то что окружена искренней любовью. И дело не только в провалах в памяти и приступах; в раннем детстве ей нравилось тереть глазное яблоко различными предметами: гладкими камешками, кончиком скалки повара, любимой авторучкой отца; она сводила с ума бесчисленных нянек своим неизлечимым упрямством и отказом покидать воображаемых друзей; а в редких случаях, когда ее принуждали надеть туфли, она непременно надевала их не на ту ногу.
Странности сами по себе не беспокоили Перси, поскольку семья давно сошлась на том, что во всяком значительном человеке должна быть добрая порция чудаковатости. У папы были призраки, у Саффи — приступы паники, и Перси тоже не была заурядна. Нет, странности не имели значения; Перси заботилась лишь о выполнении своего долга: защитить Юнипер от нее самой. Папа дал ей задание. Юнипер особенная, сказал он, и они должны обеспечить ее безопасность. И до сих пор им это удавалось. Они научились распознавать мгновения, когда те самые источники, питавшие талант сестры, угрожали низвергнуть ее в пучину ярости. Папа, когда был еще жив, позволял ей безудержно буйствовать. «Это страсть, — говорил он с восхищением в голосе, — нетронутая, подлинная страсть». Но он не забыл обратиться к адвокатам. Перси удивилась, когда узнала, что он сделал; ее первой реакцией был жар предательства, вечное присловье братьев и сестер: «Это несправедливо!» — но она довольно скоро покорилась неизбежному. Она поняла, что папа был прав, что его предложение пойдет на благо всем троим. И она обожала Юнипер, все они обожали. Ради своей крошки сестры Перси была готова на что угодно.
Раздался шум наверху, и Перси замерла, разглядывая потолок. В замке полно самых разных звуков, так что надо просто перебрать обычных подозреваемых. Для смотрителей слишком громко? Снова шум. Наверное, шаги; но приближаются ли они? Саффи спускается вниз? Перси на бесконечно долгое мгновение затаила дыхание и замерла; она не шевелилась, пока наконец не исполнилась уверенности, что шаги удаляются прочь.
Тогда она осторожно встала и осмотрела кухню намного более отчаянно, чем раньше; по-прежнему ни малейших признаков чертова белья. Метлы и швабра в углу, резиновые сапоги у задней двери, в раковине — только замоченные миски, на плите — кастрюля и котел…
Котел! Ну конечно. Она определенно слышала, как Саффи толковала о котлах и стирке, аккурат перед жалобами на пятна, которые невозможно отстирать, и лекцией о преступной небрежности Перси. Перси поспешила к плите, заглянула в большой стальной бак, и вуаля! Какое облегчение — брюки!
Она с усмешкой выудила мокрую форму, покрутила ее взад и вперед в поисках сморщенных карманов и запустила руку сначала в один, потом во второй… Краски мгновенно схлынули с ее лица: карманы были пустыми. Письмо исчезло.
Снова шум наверху: опять шаги; Саффи расхаживает взад и вперед. Перси тихо выругалась, в очередной раз проклиная себя за глупость, и умолкла, отслеживая местоположение сестры.
Шаги приближались. Стук. Шаги изменили направление. Перси напряглась еще больше. Кто-то у двери?
Тишина. А главное, Саффи не зовет ее. Это значит, что никто не стучал, ведь как только явятся гости, отсутствие Перси перестанет быть терпимым.
Возможно, снова ставня; она всего лишь легонько пристукнула ее на место маленьким ключом — без набора инструментов большего не сделать, — а снаружи по-прежнему завывает ветер. Еще один пункт в списке завтрашнего ремонта.
Перси глубоко вдохнула и разочарованно выдохнула. Она проследила, как брюки снова погрузились в котел. Дело было после восьми, Юнипер уже опаздывала, письмо могло быть где угодно. Что, если… она воспряла духом… что, если Саффи выбросила его в мусорное ведро? В конце концов, оно было порвано; возможно, письмо уже сгорело, от него остался лишь пепел в Агге?
Больше Перси ничего не могла поделать, разве только прочесать весь дом или прямо спросить Саффи, что случилось с письмом… она содрогнулась при одной мысли об этом. А значит, с тем же успехом можно вернуться наверх и ждать Юнипер.
Раздался оглушительный раскат грома, настолько громкий, что Перси поежилась, хотя находилась глубоко в чреве дома. За ним последовал новый звук, тише и ближе. Возможно, снаружи, как будто кто-то скребется в стену и время от времени молотит в нее в поисках задней двери.
Как раз пора приехать гостю Юнипер.
Тут Перси пришло в голову, что человек, незнакомый с замком, прибывший поздним вечером, в пору затемнения, посреди кошмарной грозы, может искать вход не только у парадной двери. Хотя вероятность подобного была невелика, Перси сразу поняла, что обязана проверить. Она не вправе оставлять его бродить снаружи.
Поджав губы, она в последний раз оглядела кухню… сухие продукты на стойке, смятое кухонное полотенце, крышка кастрюли — ничего даже отдаленно напоминающего кучку рваной бумаги… затем вынула фонарик на батарейках из аварийного набора, накинула макинтош поверх платья и отворила заднюю дверь.
Юнипер опаздывала почти на два часа, и Саффи начала всерьез волноваться. Разумеется, она понимала, что все дело в задержке на железной дороге, проколотой шине автобуса, заставе, чем-то совершенно обыденном, и уж точно никакие вражеские самолеты не осложнят все дело в такую дождливую ночь; тем не менее здравый смысл не мог унять тревоги старшей сестры. Пока Юнипер не войдет в переднюю дверь, целая и невредимая, значительная часть разума Саффи будет скована страхом.
Покусывая нижнюю губу, она задумалась, какие новости принесет с собой малышка сестра, когда наконец переступит порог. Саффи верила себе, когда убеждала Перси, что Юнипер не помолвлена и не собирается замуж, действительно верила, но с тех пор, как Перси внезапно исчезла, оставив ее одну в хорошей гостиной, ее уверенность все таяла и таяла. Сомнения закрались, когда она пошутила насчет маловероятного зрелища Юнипер в белом кружеве. Хотя Перси кивнула в знак согласия, пышное платье, возникшее в голове Саффи, претерпело превращение — словно отражение в покрытой рябью воде — и обрело другой, намного более вероятный облик. Облик, который Саффи уже хранила в уме с тех пор, как наверху начала работу над платьем.
После этого кусочки мозаики быстро встали на место. А зачем еще Юнипер просить переделать платье? Не для такого ординарного события, как ужин, а для свадьбы. Ее собственной свадьбы с этим Томасом Кэвиллом, который приедет сегодня, чтобы познакомиться с ними. С мужчиной, о котором они ничего не знали до настоящего времени. Более того, их познания о нем до сих пор ограничивались письмом, в котором Юнипер извещала, что пригласила его на ужин. Они познакомились во время воздушного налета, он был учителем и писателем, у них имеется общий друг. Саффи напрягла мозги, вспоминая остальное: точные слова, которые использовала Юнипер, обороты, которые оставили у них впечатление, что упомянутый джентльмен неведомым образом спас жизнь их сестры. Они сочинили эту подробность? Или это очередная талантливая выдумка Юнипер, завитушка, призванная вызвать их симпатию?
Еще немного подробностей о нем содержалось в дневнике, но эти сведения были не биографическими. На бумаге были запечатлены чувства, желания, томления взрослой женщины. Женщины, которую Саффи не узнавала, перед которой робела; женщины, которая становилась земной. И если даже Саффи было сложно смириться с таким превращением, то Перси тем более придется очень долго убеждать. Для Перси Юнипер навсегда останется крошкой сестрой, появившейся, когда они почти уже выросли, маленькой девочкой, которую нужно баловать и оберегать. Которую легко ободрить и заполучить на свою сторону простым пакетом сластей.
Саффи улыбнулась с печальной нежностью к своей консервативной сестре-близнецу, которая, несомненно, даже в эту минуту собирается с духом, чтобы соблюсти условия отца. Бедная, милая Перси: во многом на редкость смышленая, отважная и добрая, крепкая как сталь, и все же неспособная освободиться от несбыточных папиных пожеланий. Саффи поступила умнее; она давным-давно оставила попытки ублажить Его Величество.
Она поежилась от внезапного холода и потерла ладони друг о друга. Затем скрестила руки на груди в надежде найти в них опору. Саффи должна быть сильной ради Юнипер; теперь ее очередь. Ведь она в отличие от Перси способна понять бремя романтической страсти…
Распахнулась дверь, и вошла Перси; дверь за ее спиной захлопнуло сквозняком.
— Льет как из ведра. — Перси поймала каплю с кончика носа, с подбородка, встряхнула мокрыми волосами. — Я слышала здесь шум. Раньше.
Саффи заморгала, крайне озадаченная, и машинально ответила:
— Это ставня. По-моему, я починила ее, хотя, конечно, я не мастер обращения с инструментами… Перси, где тебя носило?
И что она там делала? Глаза Саффи широко распахнулись, когда она увидела промокшее, грязное платье сестры и… неужели это листья в волосах?
— Значит, головная боль прошла?
— Ты о чем?
Перси собрала бокалы и направилась к столику с напитками, чтобы налить еще виски.
— Твоя головная боль. Ты нашла аспирин?
— А. Да. Спасибо.
— Знаешь, тебя долго не было.
— Правда? — Перси протянула Саффи бокал. — Да, наверное. Мне показалось, я что-то слышала снаружи; возможно, это По испугался грозы. Сначала я подумала, что это может быть друг Юнипер. Как там его зовут?
— Томас. — Саффи сделала глоток. — Томас Кэвилл.
Ей показалось, или Перси отводит глаза?
— Перси, надеюсь…
— Не волнуйся. Я буду добра с ним, когда он придет. — Перси покрутила бокал. — Если он придет.
— Ты не должна корить его за опоздание, Перси.
— Почему бы и нет?
— Это все война виновата. В наши дни опоздания стали нормой. Юнипер тоже еще нет.
Перси взяла сигарету, которую раньше оставила в пепельнице.
— Не вижу ничего удивительного.
— Рано или поздно он появится.
— Если он существует.
Какая странная мысль; Саффи убрала своенравный локон за ухо, смущенная, встревоженная, гадающая, не шутит ли сестра; возможно, это очередная ее фирменная острота, которые Саффи привыкла воспринимать буквально. Хотя в животе начало крутить, Саффи не обратила внимания, решив расценить замечание сестры как шутку.
— Надеюсь на это; я очень расстроюсь, если окажется, что он — всего лишь выдумка. Стол будет выглядеть ужасно негармоничным без четвертой персоны.
Она присела на краешек кушетки, но, сколько ни пыталась вести себя беззаботно, Перси словно заразила ее своей странной нервозностью.
— Ты выглядишь усталой, — заметила Перси.
— Неужели? — Саффи постаралась изобразить любезный тон. — Наверное, это потому, что я и правда устала. Возможно, работа меня подбодрит. Надо только пробраться на кухню и…
— Нет.
Саффи уронила бокал. Виски разлился по ковру, коричневые капли засверкали на синем и красном.
Перси подобрала бокал.
— Извини. Я просто хотела сказать…
— Как глупо. — Саффи суетилась вокруг мокрого пятна на своем платье. — Глупо, глупо…
И в этот миг в дверь постучали. Сестры одновременно поднялись.
— Юнипер, — предположила Перси.
Уловив прозвучавшее утверждение, Саффи сглотнула.
— Или Томас Кэвилл.
— Да. Или Томас Кэвилл.
— Что ж, — напряженно улыбнулась Саффи. — Кто бы это ни был, полагаю, его следует впустить.
Книга волшебных мокрых животных
1992 год
Я не переставала думать о Томасе Кэвилле и Юнипер Блайт. Такая печальная история; я сделала ее своей печальной историей. Я возвратилась в Лондон, продолжила жить своей жизнью, но часть меня осталась в замке. На грани сна, во время дневных грез меня находили шепоты. Глаза закрывались, и я оказывалась в том прохладном темном коридоре, ожидая вместе с Юнипер ее жениха. «Она заблудилась в прошлом, — заметила миссис Кенар, когда мы уезжали, и я следила в зеркало заднего вида, как крылья лесов укрывают замок темной защитной пеленой. — Тот самый октябрьский вечер сорок первого года повторяется вновь и вновь, будто заело пластинку».
Это утверждение было невероятно печальным — целая жизнь погублена за единственный вечер, — и осталось множество вопросов. Что она испытала в тот вечер, когда Томас Кэвилл не пришел на ужин? Все три сестры ждали в комнате, убранной специально для торжественного случая? В какой момент она начала волноваться; возможно, она сначала предположила, что он ранен, пострадал от несчастного случая; а может, сразу поняла, что ее бросили? «Он женился на другой, — ответила миссис Кенар на мое любопытство, — обручился с Юнипер и сбежал с другой. Разорвал их отношения банальным письмом».
Я держала историю в руках, поворачивала так и сяк, изучала под разными углами. Воображала, редактировала, проигрывала вновь и вновь. Полагаю, дело отчасти в том, что меня предали сходным образом, но мою одержимость — а это, признаться, стало одержимостью — питало нечто большее, нежели простое сопереживание. В особенности меня занимали последние мгновения встречи с Юнипер. Перемена, случившаяся прямо при мне, когда я упомянула о своем возвращении в Лондон; то, как юная женщина, нетерпеливо ожидающая своего любовника, превратилась в напряженную и жалкую особу, молящую о помощи, проклинающую меня за нарушенное обещание. Особенно меня тревожил момент, когда она заглянула мне в глаза и мрачно обвинила в том, что я подвела ее; то, как она назвала меня Мередит.
Юнипер Блайт была старой и нездоровой; ее сестры приложили все усилия, предостерегая меня, что она часто говорит вещи, смысла которых не понимает. И все же чем больше я размышляла, тем больше укреплялась в ужасной уверенности, что мама сыграла некую роль в ее судьбе. Иначе во всем этом не было смысла. Это объясняло мамину реакцию на потерянное письмо, ее рыдания — ведь то были рыдания боли, не так ли? — когда она увидела, от кого письмо, те самые рыдания, которые я слышала в детстве, когда мы уезжали от Майлдерхерста. Тот тайный визит десятилетия назад, когда мама взяла меня за руку и потащила от ворот, заставила сесть в машину и обмолвилась только, что совершила ошибку, что уже слишком поздно.
Но слишком поздно для чего? Возможно, чтобы загладить вину, искупить давнишний проступок? Не вина ли заставила ее вернуться в замок, а затем увлекла прочь, прежде чем мы прошли через ворота? Не исключено. И если это так, ее страдания вполне понятны. Еще это может объяснить, почему она вообще хранила все в секрете. Ведь секретность поразила меня не меньше, чем тайна. Я не верила в возможность полностью открываться друг другу и все же в данном случае не могла избавиться от чувства, что мне лгали. Более того: что я лично пострадала от этой лжи. В прошлом моей матери имелось нечто, что она всеми силами пыталась скрыть, а оно стремилось выйти на свет. Поступок, решение, возможно, всего лишь мгновение, когда она была еще девочкой; нечто, отбросившее длинную и темную тень на мамино настоящее, а значит, и на мое тоже. Стало быть, не только потому, что я любопытна, не только потому, что я начинала всей душой сопереживать Юнипер Блайт, а потому, что неким труднообъяснимым образом этот секрет олицетворял глубокую пропасть между мной и матерью, — я должна была узнать, что случилось.
— Непременно должна, — согласился Герберт, когда я все ему рассказала.
Целое утро мы запихивали мои коробки с книгами и другие предметы обихода на его захламленный чердак и только что отправились на прогулку по Кенсингтонским садам. Прогулки были нашей ежедневной традицией, заложенной по указанию ветеринара, они должны были способствовать пищеварению Джесс, метаболизм которой слегка подстегивала регулярная физическая активность, но собака относилась к ним весьма неблагосклонно.
— Идем, Джесси. — Герберт постучал кончиком ботинка по упрямому заду, который явно не желал отрываться от бетона. — Уточки уже скоро, подруга.
— Но как мне это выяснить?
Разумеется, есть тетя Рита, однако мамины сложные отношения со старшей сестрой делали эту идею особенно неблаговидной. Я засунула руки поглубже в карманы, как будто надеялась найти ответ в пушинках и катышках.
— Что мне делать? С чего начать?
— Послушай, Эди. — Герберт протянул мне поводок, нашарил в кармане сигарету и сложил ладонь лодочкой, чтобы прикурить. — По-моему, совершенно очевидно, с чего тебе следует начать.
— Разве?
Он выдохнул эффектную струйку дыма.
— Ты и сама прекрасно знаешь, дорогая, — ты должна спросить у своей матери.
Конечно, вы считаете, что предложение Герберта было совершенно очевидным, и в этом есть доля моей вины. Подозреваю, у вас создалось совершенно превратное впечатление о моей семье, вследствие того что я начала рассказ с давно потерянного письма. Эта история действительно начинается с него, но моя история, история Мередит и Эди, начинается намного раньше. Познакомившись с нашей семьей тем воскресным утром, вы, конечно, считаете, что мы с мамой весьма общительны, часто болтаем друг с другом и делимся секретами. Как бы мило это ни звучало, это неправда. Я могу предъявить множество детских воспоминаний в доказательство того, что наши отношения не отмечены беседами и пониманием: необъяснимое появление глухого закрытого лифчика в ящике моего комода, когда мне исполнилось тринадцать; моя надежда на Сару во всем, что касалось птичек, пчелок и прочего; призрачный брат, которого мы с родителями якобы не замечали.
Но Герберт был прав: это секрет моей матери, и если я хочу выяснить правду, выяснить больше о той маленькой девочке, которая следовала за мной по пятам во время экскурсии по замку Майлдерхерст, начать следует именно отсюда. К счастью, мы договорились выпить кофе на следующей неделе в кондитерской недалеко от «Биллинг энд Браун». Я вышла из офиса в одиннадцать утра, отыскала столик в дальнем углу и сделала заказ, как обычно. Официантка только принесла мне исходящий паром чайник дарджилинга,[19] когда в кондитерскую ворвался залп уличного шума; я подняла глаза и увидела у самой двери маму с сумкой и шляпой в руках. На ее лице застыло выражение оборонительной осторожности, пока она изучала незнакомое, определенно современное кафе, и я отвернулась: лучше буду смотреть на руки, на столик, теребить молнию сумки, лишь бы ничего не видеть. В последнее время я все чаще замечаю на ее лице подобную неуверенность и не знаю, то ли она становится старше, то ли я, а может, просто мир несется все быстрее. Меня страшит собственная реакция на это, ведь слабость матери должна бы вызывать жалость и любовь к ней, но на самом деле все наоборот. Она пугает меня, словно прореха в ткани нормальности, которая угрожает сделать все неприятным, неузнаваемым, не таким, как должно быть. Всю мою жизнь мать была непререкаемым авторитетом, каменной стеной благопристойности, и от ее неуверенности, в особенности в ситуации, которая не заставляет меня даже поморщиться, мой мир кренится и земля клубится под ногами, будто облака. Итак, я ждала, и лишь когда прошло довольно времени, вновь подняла глаза, поймала ее взгляд — снова твердый и уверенный — и безмятежно помахала рукой, как будто только что ее заметила.
Она осторожно направилась ко мне через битком набитое кафе, нарочито придерживая сумку, чтобы не ударять людей по головам, и тем самым умудряясь выражать недовольство расстановкой столиков. А я пока быстро удостоверилась, что никто не оставил на ее половине стола рассыпанный сахар, пенку от капучино или крошки. Эти не вполне регулярные встречи за кофе стали нашей новой традицией, учрежденной через несколько месяцев после того, как папа вышел на пенсию. Мы обе испытывали легкую неловкость, даже когда я не собиралась деликатно копаться в маминой жизни. Я привстала со стула, когда она добралась до столика, мои губы коснулись воздуха возле предложенной щеки, и мы обе сели, улыбаясь с немалым облегчением, оттого что публичное приветствие осталось позади.
— Тепло на улице, правда?
Я согласилась, и мы покатили по проторенной дороге: папина текущая одержимость улучшением дома (вычищает коробки на чердаке), моя работа (потусторонние встречи на Ромни-Марш) и сплетни маминого бридж-клуба. Затем последовала пауза, и мы улыбнулись друг другу в ожидании того, как мама чуть запнется под весом своего обычного вопроса:
— Как Джейми?
— Хорошо.
— Я видела последний отчет в «Таймс». Новую пьесу неплохо принимают.
— Да.
Рецензия и мне попалась. Я не искала ее специально, честное слово, не искала; просто случайно наткнулась, когда смотрела страницы о сдаче жилья. Очень удачная рецензия, как оказалось. Проклятая газета: подходящих квартир для съема тоже не было.
Мама на мгновение умолкла, когда принесли капучино, которое я заказала ей.
— А вот скажи. — Она проложила бумажную салфетку между чашкой и блюдцем, чтобы впитать пролитое молоко. — Что у него дальше на повестке дня?
— Он работает над собственным сценарием. У Сары есть друг, режиссер, который обещал его прочесть, когда Джейми закончит.
Ее рот изогнулся в молчаливом циничном «о!», прежде чем ей удалось издать несколько одобрительных звуков. Последние из таковых утонули в кофе, когда она отпила из чашки, поморщилась от горечи и, слава богу, сменила тему.
— А что квартира? Твой отец интересуется, как поживает кран на кухне. У него появилась очередная идея, как починить его раз и навсегда.
Я представила холодную и пустую квартиру, которую навсегда покинула в то утро, призрачные воспоминания, замурованные в куче коричневых картонных коробок, запихнутых на чердак Герберта, в которые превратилась моя жизнь.
— В порядке, — ответила я. — Квартира в порядке, кран в порядке. Передай ему, что больше не о чем беспокоиться.
— А может, нужно что-нибудь еще починить? — В ее голос закралась слабая просительная нотка. — Я могла бы прислать отца в субботу, чтобы устроить капитальный ремонт.
— Я же говорю: все в порядке.
Она выглядела удивленной и уязвленной, и я понимала, что повела себя грубо; но эти ужасные беседы, во время которых я притворялась, что все идет как по маслу, меня утомляли. Несмотря на свое желание раствориться в придуманных историях, я не лгунья и не слишком-то умею изворачиваться. В обычных обстоятельствах как раз было бы уместно сообщить о разрыве с Джейми, но я не могла, поскольку хотела вернуться к Майлдерхерсту и Юнипер Блайт. В любом случае, мужчина за соседним столиком выбрал это мгновение, повернулся и попросил у нас солонку. Я протянула ему солонку, а мама сообщила:
— Я кое-что тебе принесла. — Она достала старый пакет из «Маркс энд Спенсер», сложенный вдвое, чтобы защитить содержимое. — Только не слишком радуйся, — предупредила она, передавая пакет. — Ничего нового там нет.
Открыв пакет и вынув его содержимое, я минуту озадаченно его разглядывала. Люди часто передают мне рукописи, которые считают достойными публикации, но разве можно быть настолько наивной?
— Ты не помнишь?
Мама смотрела на меня, будто я забыла собственное имя.
Я еще раз взглянула на стянутую скобками стопку бумаги, детский рисунок на титульном листе, кривые буквы над ним: «Книга мокрых животных, написанная и иллюстрированная Эдит Берчилл». Между «книга» и «мокрых» была вставлена стрелочка и над ней другим цветом написано «волшебных».
— Ты написала ее. Разве ты не помнишь?
— Помню, — солгала я.
По маминому лицу было ясно: для нее это важно, и к тому же — я провела пальцем по чернильной кляксе, которая осталась в том месте, где ручка лежала между строк слишком долго, — мне хотелось помнить.
— Ты так ею гордилась. — Мама склонила голову и посмотрела на небольшую стопку бумаги в моих руках. — Работала над ней целыми днями, скрючившись на полу под туалетным столиком в гостевой комнате.
Вот это казалось знакомым. Приятное воспоминание о том, как я пряталась в теплом темном месте, всплыло из глубин памяти, и с его возвращением мое тело начало покалывать: запах пыли на круглом коврике, трещина в штукатурке, как раз подходящего размера, чтобы хранить ручку, твердые деревянные половицы под коленями, когда я наблюдала за продвижением солнечного лучика по полу.
— Ты все время трудилась то над одним, то над другим рассказом, марала бумагу в темноте. Порой отец волновался, что ты вырастешь робкой, не заведешь друзей, но нам никак не удавалось притушить твой энтузиазм.
Я помнила, как читала, но не помнила, как писала. Однако мамины слова о моем нежелательном энтузиазме задели струнку в душе. Давно забытые воспоминания о том, как папа скептически качал головой, когда я возвращалась из библиотеки, и за ужином интересовался, почему я равнодушна к полкам с научно-популярными книгами, зачем мне эта волшебная дребедень, почему я не желаю узнавать новое о настоящем мире.
— Я забыла, что писала рассказы, — призналась я, переворачивая книгу и улыбаясь при виде фальшивого издательского логотипа, нарисованного мной на последней странице.
— Что ж. — Мать смахнула случайную крошку со стола. — Неважно. Я подумала, лучше отдать ее тебе. Отец таскает коробки с чердака, вот я и наткнулась на нее. Ни к чему оставлять ее чешуйницам.[20] Мало ли, вдруг у тебя родится дочь, и однажды ты захочешь показать ей эту книгу. — Она выпрямилась на сиденье, и кроличья нора в прошлое закрылась за ее спиной. — Итак, удались выходные? Делала что-нибудь необычное?
Вот оно. Идеальное окно с широко распахнутыми шторами. Я не смогла бы придумать лучшего начала разговора, даже если бы попыталась. Когда я опустила глаза на «Книгу волшебных мокрых животных» у себя в руках — пыльная от времени бумага, отпечатки фломастеров, детская штриховка и цвета, — когда я осознала, что мама хранила ее все это время, что хотела ее сберечь, несмотря на опасения насчет моего бесполезного занятия, что именно сегодня она решила напомнить о части моего прошлого, которую я напрочь забыла, меня охватило внезапное нестерпимое желание поделиться с ней всем, что случилось со мной в Майлдерхерсте. Приятное ощущение, что все устроится наилучшим образом.
— Вообще-то да.
— Неужели? — широко улыбнулась она.
— Нечто очень необычное.
Мое сердце понеслось вскачь; я наблюдала за собой со стороны, гадала, словно балансировала на краю утеса, действительно ли я готова спрыгнуть.
— Я была на экскурсии, — произнес тихий голос, довольно похожий на мой собственный. — По замку Майлдерхерст.
— Ты… что? — Мамины глаза широко распахнулись. — Ты ездила в Майлдерхерст?
Она уставилась на меня, и я кивнула. Она опустила взгляд, потеребила чашку на блюдце, покрутила ее в разные стороны за изящную ручку. Я с осторожным любопытством следила за ней, не ведая, что именно произойдет, но с равным нетерпением и отвращением желая узнать.
Мне нужно было больше верить в мать. Подобно тому как сверкающий рассвет проясняет затянутый облаками горизонт, к ней вернулось чувство собственного достоинства. Она подняла голову, поставила блюдце на место, улыбнулась мне через стол и воскликнула:
— Надо же, замок Майлдерхерст! И как он тебе показался?
— Показался… большим. — Я литературный работник и все же не смогла придумать ничего лучшего. Конечно, я была удивлена безупречным перевоплощением матери. — Как будто из волшебной сказки.
— Значит, ты была на экскурсии? Мне и в голову не приходило, что такое возможно. Вот она, современная мораль. — Мать взмахнула рукой. — Все на продажу.
— Экскурсия была неофициальной, — возразила я. — Меня провела по замку одна из его владелиц. Очень старая леди по имени Персефона Блайт.
— Перси? — Мамин голос чуть дрогнул; единственная крошечная брешь в стене самообладания. — Перси Блайт? Она до сих пор жива?
— Как и все они, мама. Все три. Даже Юнипер, которая прислала тебе письмо.
Мама открыла рот, будто собиралась порассуждать на заданную тему, но когда слов не нашлось, захлопнула рот и поджала губы. Она сложила пальцы на коленях и застыла, бледная, как мраморная статуя. Я тоже застыла; тишина давила на плечи, и это становилось невыносимо.
— В замке было по-настоящему жутко. — Я взяла чайник и заметила, что мои руки дрожат. — Все такое пыльное и тусклое, и видеть, как они втроем сидят в гостиной, три одинокие старушки в огромном старом доме… на мгновение мне показалось, что я попала в кукольный…
— Юнипер… Эди… — Мамин голос был незнакомым и тонким; она кашлянула. — Как она? Как она выглядит?
Я не знала, с чего и начать: с девической радости, неопрятного вида, последней сцены отчаянных обвинений?
— Юнипер была не в себе, — ответила я. — На ней было старомодное платье, и она сообщила мне, что ждет кого-то, мужчину. Леди в фермерском доме, где я остановилась, пояснила, что она нездорова, что сестры приглядывают за ней.
— Она больна?
— Умственно, не физически. Много лет назад ее бросил парень, она так и не оправилась от удара.
— Парень?
— Точнее, жених. Он не явился на встречу, и якобы это свело ее с ума. В прямом смысле.
— Ах, Эди! — Болезненное выражение маминого лица сменилось улыбкой, какую адресуют неуклюжему котенку. — Ты всегда была большой фантазеркой. В реальной жизни так не бывает.
Я ощетинилась; довольно утомительно, когда тебя считают несмышленышем.
— Да, мама, но именно так считают в деревне. Та женщина говорит, что Юнипер всегда была хрупкой, даже в юности.
— Я знала ее, Эди; можешь не рассказывать, какой она была в юности.
Ее отповедь застала меня врасплох.
— Извини, я…
— Нет. — Она прижала ладонь ко лбу и украдкой оглянулась. — Нет, это ты извини. Не понимаю, что на меня нашло. — Она вздохнула и немного неуверенно улыбнулась. — Наверное, это от удивления. Подумать только, они до сих пор живы и по-прежнему в замке. Как… ведь они такие старые. — Она нахмурилась, изображая нешуточный интерес к математической головоломке. — Сестры-близнецы были старыми, еще когда я познакомилась с ними; по крайней мере, казались таковыми.
Не успев прийти в себя от ее вспышки гнева, я осторожно уточнила:
— То есть выглядели старыми? Седыми и морщинистыми?
— Нет. Нет, ничего такого. Это сложно объяснить. Полагаю, в то время им было всего лишь за тридцать, но, конечно, тогда это означало совсем не то, что сейчас. А я была еще ребенком. Дети склонны видеть мир в другом свете, верно?
Мне нечего было ответить, да она и не ждала ответа. Она смотрела на меня, но ее взгляд был затуманенным, словно старомодный экран, на который проецировались изображения.
— Они вели себя скорее как родители, а не сестры, — пояснила она, — в смысле, с Юнипер. Они были намного старше ее, и ее мать умерла, когда она была совсем крохой. Их отец был еще жив, но не принимал особого участия в воспитании дочери.
— Он был писателем, Раймондом Блайтом, — осторожно вставила я, опасаясь, что вновь переступаю черту и предлагаю матери сведения, которые известны ей из первых рук.
Однако на этот раз ей словно было все равно. Я подождала некоего сигнала, что ей знакомо это имя, что она помнит, как принесла книгу из библиотеки, когда я была маленькой девочкой. Я искала книгу перед переездом в надежде, что смогу принести и показать ее матери, но тщетно.
— Он написал «Подлинную историю Слякотника», — добавила я.
— Да, — только и промолвила она, очень тихо.
— Ты встречалась с ним?
Мать покачала головой.
— Я видела его пару раз, лишь издали. Он был уже очень старым и настоящим отшельником. Большую часть времени проводил, запершись в своей писательской башне, мне не дозволялось туда подниматься. Это было одно из самых важных правил, а правил было немного. — Мать опустила глаза, и стали видны выпуклые розовато-лиловые венки, пульсирующие под веками. — Иногда о нем говорили; полагаю, с ним бывало непросто. Я всегда считала его кем-то вроде короля Лира, натравливающего дочерей друг на друга.
Впервые в жизни мать упомянула при мне вымышленного персонажа, и в результате мои мысли свернули совсем не в ту сторону. Я писала диплом по шекспировским трагедиям, но она и виду не подавала, что знакома с пьесами.
— Эди? — Мама резко вскинула глаза. — Ты сказана им, кто ты? Когда приехала в Майлдерхерст? Ты сказана им обо мне? Перси и остальным?
— Нет.
Не оскорбит ли мое упущение маму? Не станет ли она выяснять, почему я скрыла от них правду?
— Нет, не сказала.
— Хорошо, — кивнула она. — Это мудрое решение. Доброе. Ты лишь смутила бы их. Это было так давно, и я провела с ними совсем мало времени; несомненно, они совершенно забыли обо мне.
Это был мой шанс, и я не упустила его.
— То-то и оно, мама. Они не забыли; точнее, Юнипер не забыла.
— Ты о чем?
— Она приняла меня за тебя.
— Она?.. — Ее глаза искали мои. — С чего ты взяла?
— Она назвала меня Мередит.
Мама коснулась губ кончиками пальцев.
— Она… говорила что-то еще?
Перекресток. Выбор. И все же выбора у меня не было. Надо действовать осторожно: если я в точности передам маме слова Юнипер, ее обвинения в нарушенном обещании и загубленной жизни, нашей беседе, несомненно, придет конец.
— Не много, — сообщила я. — Вы были близки?
Мужчина, сидевший за нами, встал; его увесистый зад толкнул наш столик, так что все на нем задрожало. Я рассеянно улыбнулась на его извинение, сосредоточившись на том, чтобы наши чашки и наше общение не полетели вверх дном.
— Вы с Юнипер дружили, мама?
Она взяла кофе и долго водила ложкой по внутренней стороне чашки, снимая пенку.
— Знаешь, это было так давно, что сложно вспомнить подробности. — Ложка звякнула, приземлившись на блюдце. — Я уже рассказывала, что провела там чуть больше года. В начале сорок первого приехал папа и забрал меня домой.
— И ты туда не возвращалась?
— Я больше никогда не видела Майлдерхерст.
Она лгала. Я испытывала жар и головокружение.
— Ты уверена?
Смешок.
— Эди… какой странный вопрос. Ну конечно, уверена. Разве можно такое забыть?
Нельзя. И я не забыла. Я сглотнула.
— Вот именно. Со мной случилось нечто очень забавное. В выходные, когда я впервые увидела въезд в Майлдерхерст — ворота у дороги, — меня охватило престранное чувство, что я уже была здесь.
Когда она промолчала, я надавила:
— Была с тобой.
Тишина была мучительной, и внезапно я обратила внимание на шум кафе вокруг нас: грохот опустошаемого контейнера для кофе, гудение кофемолки, пронзительный смех где-то в полуэтаже. Но все это словно слышала не я, а кто-то другой, как будто мы с мамой были отделены от толпы, заключены в своем собственном пузыре.
Я постаралась, чтобы мой голос звучал ровно:
— Когда я была ребенком. Мы приехали туда, ты и я, и встали у ворот. Было жарко, там было озеро, и мне хотелось искупаться, но мы не вошли. Ты посчитала, что уже слишком поздно.
Мама медленно, деликатно промокнула губы салфеткой и взглянула на меня. На мгновение мне показалось, что в ее глазах мелькнула искра узнавания; но затем она моргнула, и искра погасла.
— Ты выдумываешь.
Я медленно покачала головой.
— Все ворота одинаковы, — заявила она. — Где-то, когда-то ты увидела фотографию… или фильм… и запуталась.
— Но я помню…
— Уверена, что я права. Как в тот раз, когда ты обвинила нашего соседа, мистера Ватсона, в том, что он русский шпион, или когда ты решила, что тебя удочерили… нам пришлось показать тебе свидетельство о рождении, помнишь?
Этот ее тон я слишком хорошо усвоила с детства. Невыносимую уверенность здравомыслящего, уважаемого, могущественного существа; существа, которое не станет слушать, как бы громко я ни кричала.
— Твой отец заставил показать тебя врачу из-за ночных страхов.
— Это другое.
Ее лицо озарила веселая улыбка.
— Ты выдумщица, Эди. Всегда была выдумщицей. Не представляю, от кого ты это унаследовала; не от меня. И уж точно не от отца. — Мать потянулась, чтобы поднять сумку с пола. — Кстати, о твоем отце: мне пора домой.
— Но, мама… — Я ощутила, как между нами разверзлась пропасть; порыв отчаяния подтолкнул меня в спину. — Ты даже не допила кофе.
Она посмотрела на свою чашку и стынущую серую лужицу на дне.
— С меня довольно.
— Я возьму тебе еще, сегодня моя очередь…
— Нет. Сколько я должна тебе за первую?
— Нисколько, мама. Пожалуйста, останься.
— Нет. — Она положила рядом с моим блюдцем пятифунтовую банкноту. — Меня не было все утро, и отец был предоставлен самому себе. Ты же знаешь, какой он: разберет весь дом, если я сейчас же не вернусь.
Ее влажная холодная щека прижалась к моей, и она ушла.
Подходящий стриптиз-клуб и ящик Пандоры
Имейте в виду, это тетя Рита обратилась ко мне, а не я к ней. Получилось так, что, пока я барахталась, безуспешно пытаясь выяснить, что случилось между мамой и Юнипер Блайт, тетя Рита хлопотала над устройством девичника для моей кузины Саманты. Не знаю, польстило мне или оскорбило, когда она позвонила мне в офис и попросила посоветовать какой-нибудь первоклассный мужской стриптиз-клуб, но я удивилась и, не удержавшись, решила помочь. Я посетовала, что не разбираюсь в данной сфере, предложила навести справки, и мы условились втайне встретиться в ее салоне в ближайшее воскресенье, где я передам результаты моего исследования. Это означало, что я снова пропущу мамино жаркое, но у Риты не было другого свободного времени; я сказала маме, что помогаю с подготовкой свадьбы Сэм, и она просто не смогла возразить.
«Стильные стрижки» притаились за крошечным фасадом на Олд-Кент-роуд, задержав дыхание, чтобы втиснуться между магазинчиком, торгующем музыкой инди,[21] и лучшим чиппи[22] в Саутуарке. Рита такая же старомодная, как записи «Мотаун»,[23] которые она коллекционирует; ее салон, специализирующийся на холодной завивке, начесах и лиловых красках для волос, весьма популярен среди любительниц бинго.[24] Она провела здесь столько лет, что сама не заметила, как стала «ретро», и любит рассказывать всем желающим, как начинала в этом самом салоне тощей шестнадцатилетней девчонкой, когда еще вовсю бушевала война; как в день победы союзных войск она наблюдала через эту самую витрину, как мистер Харви из шляпной мастерской через дорогу сорвал с себя одежду и танцевал на улице абсолютно голый, не считая его лучшей шляпы.
Пятьдесят лет на одном месте. Неудивительно, что она так популярна в своей части Саутуарка, хлопотливом болтливом партере, отделенном от блистательного бельэтажа Доклендса. Некоторые из старейших клиенток знают ее еще с тех пор, когда вместо ножниц она держала в руках метлу, а теперь они не доверяют укладку своих бледно-лиловых кудряшек никому другому. «Люди не дураки, — говорит тетя Рита, — дай им немного любви, и они твои навеки». А еще у нее сверхъестественное чутье на победителей местных скачек, что тоже способствует бизнесу.
Я не особо разбираюсь в братьях и сестрах, но совершенно уверена, что свет не видывал таких непохожих сестер. Мама замкнута, Рита нет; мама предпочитает аккуратные туфли-лодочки, Рита готовит завтрак на шпильках; мама — запертый сейф семейных историй, Рита — неистощимый источник новостей. Я знаю это по личному опыту. Когда мне было девять лет и мама легла в больницу удалить камни в желчном пузыре, папа собрал мои вещи и отправил меня к Рите. То ли тетя почувствовала, что юное деревце в ее дверях пребывает в досадном неведении относительно своих корней, то ли я засыпала ее вопросами, а может, она просто увидела возможность позлить мою мать и нанести удар в их старинной войне, но на той неделе она взяла на себя труд заполнить многие пробелы.
Она показала пожелтевшие фотографии на стене, поведала забавные истории о том, каким был мир, когда она была моей ровесницей, и нарисовала яркую картину, полную красок, запахов и давно забытых голосов, которая заставила меня остро осознать то, что я уже смутно подозревала. Дом, где я жила, семья, в которой я росла, — все это было выхолощенным и одиноким. Я помню, как лежала на гостевом матрасике в доме Риты, четверо моих двоюродных сестер наполняли комнату тихим посапыванием и беспокойными ночными звуками, и я мечтала, чтобы Рита была моей матерью, чтобы я жила в теплом суматошном доме, трещащем по швам от сестер и семейных легенд. Еще я помню, как меня мгновенно окатила волна вины, едва эта мысль сформировалась в голове; как я плотно зажмурилась и представила свою предательскую мысль комком спутанного шелка, в уме распутала его и призвала ветер унести его далеко-далеко, как будто его никогда не бывало.
Но он был.
Неважно. Стояло начало июля, ужасная жара; такая жара, какую носишь за собой в легких. Я постучала в стеклянную дверь и в этот миг заметила свое усталое отражение. Можете мне поверить: делить диван с собакой, страдающей газами, не слишком полезно для цвета лица. Я заглянула за табличку «Закрыто» и обнаружила, что тетя Рита сидит за ломберным столом в глубине салона, жует сигарету и разглядывает что-то маленькое и белое. Она махнула мне рукой и завопила, перекрикивая дверной колокольчик и «Supremes»:[25]
— Эди, милочка! Одолжи мне свои глазки, куколка!
Навещать салон тети Риты — все равно что путешествовать во времени: черно-белая шахматная плитка на полу, ряд якобы кожаных шезлонгов с лаймово-зелеными подушками, перламутровые яйцеобразные фены на выдвигающихся ручках. Плакаты с Марвином Гэем,[26] Дайаной Росс[27] и «Temptations»[28] в рамках за стеклом. Неизменный запах перекиси водорода и горелого жира из соседней забегаловки, схлестнувшихся в смертельном противостоянии.
— Я пытаюсь продеть эту чертову штуковину сюда и сюда, — пояснила Рита, не вынимая изо рта сигареты. — Как будто мало того, что у меня пальцы одеревенели, — проклятая лента так и вьется, как живая.
Она бросила вещицу мне, и, прищурившись, я поняла, что это кружевной мешочек с дырочками наверху для шнурка. Тетя Рита кивнула на коробку точно таких же мешочков у своих ног.
— Это сувениры для девичника Сэм. Ну, то есть будут сувенирами, когда мы их закончим и набьем всякой всячиной. — Она стряхнула пепел с сигареты. — Чайник только что вскипел, в холодильнике найдется немного лимонада, если хочешь.
Мое горло сжалось при одном лишь предложении.
— С удовольствием.
Не самое банальное слово для характеристики маминой сестры, зато самое верное: она пикантна, моя тетя Рита. Глядя, как она разливает по бокалам лимонад — круглая попа распирает юбку именно там, где надо; талия до сих пор тонкая, несмотря на четырех детей, выношенных более тридцати лет назад, — я искренне верила в пару-тройку историй, которые за минувшие годы случайно узнала от матери. Все они без исключения были поданы в виде предупреждений о том, как не поступают леди, однако оказали совершенно непредусмотренный эффект: создали для меня восхитительную легенду о подстрекательнице тете Рите.
— Вот, держи, милочка. — Она протянула мне бокал для мартини с шипящими пузырьками и плюхнулась на стул, вонзив в свой начес все десять пальцев. — Уф, что за день! О боже, ты выглядишь такой же усталой, как я себя чувствую!
Я отпила немного восхитительного лимонада; бурные пузырьки обожгли горло. «Temptations» начали проникновенно петь «Му Girl», и я спросила:
— Мне казалось, ты не работаешь по воскресеньям?
— Обычно не работаю, но одной из моих старинных дорогуш нужно было подкрасить волосы и сделать укладку для похорон — к счастью, не ее собственных, — и мне не хватило жестокости ей отказать. Делай то, что должен, понимаешь? Некоторые из них мне как родные. — Она осмотрела мешочек, через который я продернула ленту, затянула шнурок и снова ослабила, клацая длинными розовыми ногтями. — Хорошая девочка. Осталось всего двадцать.
Тетя протянула мне еще один. Я шутливо отдала честь.
— Как бы то ни было, это дало мне возможность немного заняться свадьбой подальше от любопытных посторонних глаз. — Ее собственные глаза на мгновение распахнулись и сощурились, словно ставни. — Моя Сэм — ужасно пронырливая особа, с самого детства. Вечно лазала по шкафам в поисках рождественских подарков, а после удивляла брата и сестер, угадывая, что лежит под елкой. — Тетя достала очередную сигарету из пачки на столе. — Вот ведь плутишка! — И чиркнула спичкой; кончик сигареты с надеждой вспыхнул и успокоился. — А ты как поживаешь? У таких молодых особ в воскресенье должны быть дела поприятнее.
— Приятнее, чем это? — Я показала второй белый мешочек с продернутой ленточкой. — Что может быть приятнее?
— Нахалка, — улыбнулась она, и ее улыбка напомнила мне Ба, чего маме никогда не удавалось.
Я обожала Ба так сильно, что это разбивало в пух и прах любые подозрения об удочерении. Она жила одна, сколько я ее помнила, и охотно повторяла, что хотя ей не раз предлагали руку и сердце, она ни за что не выйдет замуж во второй раз и не станет служанкой старика, поскольку знает, каково быть возлюбленной молодого мужчины. «Каждому горшку найдется своя крышка», — часто поучала она и благодарила Бога за то, что отыскала свою крышку в моем дедушке. Я никогда не видела мужа Ба, маминого папу, или, по крайней мере, не помнила его — он умер, когда мне было три года; а в тех редких случаях, когда мне приходило в голову расспрашивать о нем, мама, с ее нелюбовью к обсуждению прошлого, спешила отделаться пустыми фразами. Рита, к счастью, была более открытой.
— Ну, так как поживаешь? — снова поинтересовалась она.
— Замечательно. — Я поискала в сумке свои заметки, развернула их и прочла название, рекомендованное Сарой: — Клуб «Рокси». Телефон здесь указан.
Тетя Рита пошевелила пальцами, и я протянула ей листок. Она поджала губы, как будто туго затянула горлышко одного из мешочков.
— Клуб «Рокси», — произнесла она. — И это подходящее место? Шикарное?
— Если верить моим источникам.
— Хорошая девочка. — Она сложила листок, заткнула его за лямку бюстгальтера и подмигнула. — Теперь твоя очередь, Эди.
— Какая очередь?
— Идти к алтарю.
Я слабо улыбнулась и дернула плечом, как бы отметая эту идею.
— Как долго ты уже встречаешься со своим парнем… лет шесть?
— Семь.
— Семь лет! — Она вздернула подбородок. — Ему следует поскорее сделать тебя честной женщиной, не то ты найдешь себе парня получше. Он что, не видит, какая роскошная добыча ему досталась? Хочешь, я как следует с ним побеседую?
Даже если бы я не пыталась скрыть разрыв, предложение все равно ужасало.
— Если честно, тетя Рита… — Я не знала, как сменить тему, не слишком откровенничая. — Не уверена, что хоть один из нас создан для брака.
Она затянулась сигаретой и чуть сощурила один глаз, изучая меня.
— Это правда?
— Увы, да.
Это была ложь. Наполовину. Я определенно создана для брака. Хотя во время наших отношений я разделяла презрительный скептицизм Джейми по отношению к семейному счастью, это шло вразрез с моей природной романтической чувствительностью. В свое оправдание могу лишь заметить, что по моему опыту, когда любишь кого-то, готов пойти на что угодно, лишь бы его удержать.
Рита медленно выдохнула, в ее взгляде словно переключились передачи: от недоверия через растерянность к усталому смирению.
— Что ж, может, ты и права. Знаешь, жизнь просто течет себе, течет, пока ты не смотришь. Ты встречаешь человека, катаешься на его машине, выходишь замуж и рожаешь кучу детей. А потом в один прекрасный день понимаешь, что у вас нет ничего общего. Разумеется, это немыслимо, что-то должно быть — а иначе с какой стати ты вообще за него вышла? — и все же бессонные ночи, разочарования, тревога… Ужас того, что большая часть жизни уже позади. — Она улыбнулась, как будто поделилась со мной рецептом пирога, а не желанием засунуть голову в духовку. — Такова жизнь, не правда ли?
— Отлично сказано, тетя Рита. Обязательно вставь это в свадебную речь.
— Нахалка.
Ободряющие слова тети Риты висели в прокуренном воздухе, а мы яростно сражались с белыми мешочками. Крутилась пластинка, Рита подпевала мужчине, который проникновенно умолял взглянуть на его улыбку, и наконец я не выдержала. Как бы мне ни нравилось видеться с Ритой, я здесь с тайной целью. Мы с мамой почти не общались после встречи в кондитерской; я отменила наше следующее свидание за кофе, сославшись на завал по работе, и даже поймала себя на том, что пропускаю часть ее звонков. Наверное, мои чувства были задеты. Возможно, это звучит безнадежно по-детски? Надеюсь, нет, потому что это честно. Мама упорно не желала доверять мне, категорично отрицала, что мы были у ворот замка, настаивала, что я все выдумала, и оттого у меня кололо в груди и все сильнее хотелось выяснить правду. А теперь, когда я снова пропустила семейное жаркое, еще больше расстроила маму, пересекла весь город в невыносимую жару, я просто не смогу, не посмею уехать без пары золотых самородков.
— Тетя Рита?
— Да-а? — отозвалась она, хмуро взглянув на ленточку, которая заплелась в ее пальцах узлом.
— У меня к тебе разговор.
— Да-а?
— О маме.
Взгляд такой острый, что я едва не порезалась.
— Она здорова?
— О да, здорова. Ничего такого. Просто я задумалась о прошлом.
— А! Прошлое — это совсем другое дело. И какая же часть прошлого тебя интересует?
— Война.
Она отложила свой мешочек.
— Вот как.
Тетя Рита любит поболтать, но я понимала, что это щекотливый вопрос, и продолжила с осторожностью:
— Вас эвакуировали. Тебя, маму и дядю Эда.
— Да. Ненадолго. Весьма неприятный опыт. Пресловутый свежий воздух! Чушь собачья. А как же сельская вонь и кучи исходящего паром дерьма, куда ни ступи? И они называли нас грязнулями! С тех пор я совсем по-другому отношусь к коровам и сельским жителям; всей душой мечтала поскорее вернуться домой и попытать счастья с бомбами.
— А мама? Она чувствовала то же самое?
Молниеносный недоверчивый взгляд.
— Почему? Что она рассказала тебе?
— Ничего. Она ничего мне не рассказала.
Рита вернулась к работе над белым мешочком, но в ее опущенных глазах появилось смущение. Я почти видела, как она кусает язык, сдерживая поток слов, которые ей хотелось, но не следовало произносить.
Кровь вскипела в моих жилах от предательства, но я сознавала, что другого шанса не будет.
— Тебе же известно, какая она, — пропела я.
Тетя Рита резко фыркнула и не стерпела. Она поджала губы, искоса посмотрела на меня и наклонила голову.
— Ей там нравилось, твоей маме. Она не желала возвращаться домой. — В ее глазах сверкнуло замешательство, и я догадалась, что попала по давнишней больной точке. — Да какой ребенок откажется быть с папой и мамой, со своими родными? Какой ребенок предпочтет остаться с чужой семьей?
«Ребенок, который чувствует себя не в своей тарелке, — подумала я, вспоминая свои собственные виноватые шепотки в темных углах спальни двоюродных сестер. — Ребенок, которому кажется, что он застрял в чужом месте». Но я смолчала. Я понимала, что такая женщина, как моя тетя, которой выпало счастье оказаться на своем собственном месте, не примет никакого объяснения.
— Возможно, она боялась бомб, — наконец предположила я; мой голос был хриплым, и я откашлялась. — Ночных налетов.
— Пфф! Она боялась не больше, чем все. Остальные дети хотели вернуться в гущу событий. Все дети с нашей улицы вернулись домой и вместе бегали в убежище. А твой дядя? — Лицо Риты приняло почтительное выражение, подобающее упоминанию высокочтимого дядюшки Эда. — Добрался автостопом из Кента, ни больше ни меньше; ему не терпелось приехать домой, как только началась заварушка. Появился на пороге среди налета, как раз вовремя, чтобы отвести соседского простачка в убежище. Но только не Мерри. Совсем наоборот. Не возвращалась домой, пока папа не съездил и не притащил ее за шкирку. Наша мать, твоя бабушка, так и не оправилась от этого удара. Вслух не жаловалась, не по ней это было — делала вид, будто рада, что Мерри жила в покое и безопасности в деревне, — но мы-то знали. Мы же не слепые.
Яростный взгляд тети прожигал меня насквозь: я была вымазана дегтем предательства как соучастница. Мамино вероломство до сих пор терзало Риту и питало вражду, которая не угасла за полувековую пропасть между прошлым и настоящим.
— Когда это случилось? — невинно осведомилась я и приступила к очередному белому мешочку. — Сколько времени она была в эвакуации?
Тетя Рита потеребила нижнюю губу длинным нежно-розовым ногтем с нарисованной бабочкой.
— Дай подумаю… бомбы уже падали вовсю, но дело было не зимой, потому что папа привез с собой примулы; он хотел смягчить твою бабушку, чтобы все прошло как можно глаже. В этом был весь папа. — Ноготь выстучал задумчивый ритм. — Пожалуй, она вернулась в сорок первом. Где-то в марте или апреле.
Выходит, мать не лгала мне. Ее не было дома всего чуть более года, и она вернулась из Майлдерхерста за шесть месяцев до того, как Юнипер Блайт пережила несчастье, которое ее уничтожило, до того, как Томас Кэвилл пообещал жениться на ней и затем бросил.
— Она когда-нибудь…
Меня заглушил залп «Шарканья в горячих туфлях».[29] На стойке затрезвонил новенький телефон тети Риты в виде туфельки.
«Не бери трубку», — мысленно взмолилась я, отчаянно желая, чтобы ничто не нарушило нашу беседу, которая наконец-то потекла в нужном русле.
— Это, наверное, Сэм, — заметила Рита, — шпионит за мной.
Я кивнула, и мы молча пересидели несколько последних тактов, после чего я незамедлительно устремилась в прежнюю колею.
— Мама когда-нибудь говорила о времени, проведенном в Майлдерхерсте? О людях, с которыми жила? Сестрах Блайт?
Рита закатила глаза, похожие на пару стеклянных шариков.
— Поначалу она только о них и говорила. Тоска смертная, можешь не сомневаться. Единственное, что ее радовало, — письма из замка. Напускала на себя таинственный вид и не вскрывала конверты, пока не оставалась одна.
Мне вспомнились мамины слова, что Рита бросила ее в очереди эвакуированных в Кенте.
— Вы не были близки в детстве.
— Мы были сестрами… конечно, временами мы ссорились, ведь в маленьком родительском домике мы жили друг у друга на головах… Но мы неплохо ладили. То есть до войны, пока она не встретила ту компанию. — Рита выхватила последнюю сигарету из пачки, прикурила и выпустила струйку дыма по направлению к двери. — После возвращения она стала другой, и дело не только в манере речи. Она набралась в замке самых разных идей.
— Каких идей? — спросила я, хотя уже знала ответ.
— Идей.
В голосе Риты звенела знакомая оборонительная нотка, обида человека, который чувствует себя жертвой несправедливого сравнения.
Розовые ногти одной руки перебирали воздух рядом с начесом, и я испугалась, что тетя больше не издаст ни звука. Она уставилась на дверь; ее губы шевелились, как будто пробовали на вкус различные фразы. После целой вечности ожидания она снова взглянула мне в глаза. Кассета закончилась, и в салоне повисла непривычная тишина; вернее, отсутствие музыки позволило зданию шуршать и скрипеть, устало жаловаться на жару, запах и неумолимый ход времени. Тетя Рита вздернула подбородок и медленно, отчетливо произнесла:
— Она вернулась снобом. Ну, вот я это и сказала. Она уехала одной из нас и вернулась снобом.
То, что я давно смутно подозревала, обрело плоть и кровь: папино отношение к моим тетям и кузинам и даже к бабушке, их с мамой приглушенные обсуждения, мои собственные наблюдения касательно различного уклада жизни в нашем доме и доме Риты. Мама и папа были снобами, и мне было стыдно за них и стыдно за себя, и в то же время, как ни странно, я злилась на Риту за то, что она озвучила это, и презирала себя за то, что спровоцировала ее. Я сделала вид, что сосредоточилась на белом мешочке и ленточке, но перед глазами все плыло.
Тетя Рита, наоборот, просветлела. По ее лицу разлилось облегчение, оно словно засияло изнутри. Замалчиваемая правда была нарывом, который десятилетиями ждал, пока его вскроют.
— Книжная наука, — выплюнула Рита, давя окурок, — вот и все, что ее волновало после возвращения. Явилась, зафыркала при виде маленьких комнат и папиных песен за работой и поселилась в библиотеке. Пряталась по углам с книгами — нет, чтобы помогать! Болтала чушь о том, что будет сочинять для газет. Рассылала свою писанину! Представляешь?
У меня отвисла челюсть. Мередит Берчилл никогда не писала и уж точно не посылала статьи в газеты. Я бы предположила, что Рита приукрашивает, но новость была настолько неожиданной, что просто не могла быть неправдой.
— Ее печатали?
— Разумеется, нет! Я о том и толкую: ей набили голову всякой чепухой. Внушили ей идеи не по чину, а такие идеи всегда заводят известно куда.
— Что именно она писала? О чем?
— Не знаю. Она никогда мне не показывала. Наверное, считала, что я не пойму. В любом случае, мне не хватило бы времени: я тогда встретила Билла и начала работать здесь. Война шла, знаешь ли.
Рита засмеялась, но горечь прорезала глубокие линии вокруг ее рта; раньше я не замечала их.
— Кто-нибудь из Блайтов навещал маму в Лондоне?
Тетя пожала плечами.
— Мерри стала ужасно скрытной с тех пор, как вернулась; вечно убегала по своим делам неизвестно куда. Она могла встречаться с кем угодно.
Ее выдала манера речи, едва заметный ядовитый намек; или отведенные глаза? Не знаю, но как бы то ни было, я сразу поняла: в ее словах скрыто больше, чем кажется.
— С кем, например?
Разглядывая коробку кружевных мешочков, Рита щурилась и склонила голову, как будто на свете не было ничего интереснее их аккуратных бело-серебряных рядов.
— Тетя Ри-ита? — протянула я. — С кем еще встречалась мама?
— Ох, ну ладно. — Она скрестила руки, отчего ее груди выпятились вперед, и посмотрела мне в глаза. — Он был учителем, по крайней мере до войны, в районе площади Слон и Замок. — Она демонстративно обмахнула свой пышный бюст. — О-ля-ля! Настоящий красавчик… и его брат тоже; прямо кинозвезды, такие сильные, молчаливые мужчины. Его семья жила в паре улиц от нас, и даже твоя Ба находила повод выйти на крыльцо, когда он шел мимо. Все молодые девчонки были без ума от него, включая твою маму. — Рита снова пожала плечами. — В общем, однажды я увидела их вместе.
Вам знакомо выражение «глаза на лоб полезли»? Мои проделали именно это.
— Что? Где? Как?
— Я следила за ней. — Желание обелить себя побороло любую неловкость или чувство вины, которое могла испытывать тетя. — Она была моей младшей сестрой, вела себя странно, а время было опасное. Я только хотела убедиться, что с ней все в порядке.
Мне было плевать, почему она следила за мамой; мне не терпелось выяснить, что она видела.
— Но где они были? Что делали?
— Я видела их только издали, но этого хватило. Они сидели на траве в парке, бок о бок, только что не друг на друге. Он говорил, она слушала… по-настоящему внимательно, понимаешь… затем он что-то протянул ей, и она… — Рита потрясла пустую пачку. — Чертовы сигареты. Можно подумать, они сами себя скуривают.
— Ри-ита!
Отрывистый вздох.
— Они поцеловались. Она и мистер Кэвилл, прямо в парке, у всех на виду.
Миры столкнулись, фейерверки взорвались, маленькие звездочки замерцали в темных уголках моего сознания.
— Мистер Кэвилл?
— Держись крепче, Эди, милочка: учитель твоей мамы, Томми Кэвилл.
Слова не шли мне на ум, по крайней мере, осмысленные слова. Должно быть, я издала некий звук, поскольку Рита поднесла ладонь к уху и переспросила: «Что?», но звук повторить я не смогла. Моя мама, моя мама-подросток убегала из дома на тайные свидания со своим учителем, женихом Юнипер Блайт, мужчиной, в которого была влюблена; свидания, которые включали подарки и, самое главное, поцелуи. И все это происходило в месяцы перед тем, как он бросил Юнипер.
— Ты неважно выглядишь, дорогая. Хочешь еще лимонада?
Я кивнула; Рита принесла; я залпом выпила.
— Послушай, если тебе так интересно, тебе стоит самой прочесть письма твоей матери из замка.
— Какие письма?
— Которые она писала в Лондон.
— Она никогда не позволит мне.
Рита изучала пятно краски на запястье.
— Ей необязательно знать.
В моем взгляде, несомненно, отразилось недоумение.
— Они лежали в вещах нашей матери. — Рита посмотрела мне в глаза. — И перешли ко мне после ее смерти. Сентиментальная старушка хранила их все эти годы, несмотря на то что они ранили ее в самое сердце. Она была суеверной, опасалась выбрасывать письма. Ну так что, разыскать их?
— О… ну, вряд ли мне стоит…
— Это же письма. — Рита чуть опустила подбородок, отчего я почувствовала себя дурочкой вроде Поллианны.[30] — Их писали, чтобы читать.
Я снова кивнула. Неуверенно.
— Возможно, они помогут тебе понять, о чем твоя мама думала в том роскошном замке.
Мысль о том, чтобы прочесть мамины письма без ее ведома, затронула струнки вины, но я заставила их замолчать. В аргументах Риты есть смысл: хотя письма писала мама, они были адресованы ее семье в Лондоне. Рита вправе передать их мне, а я вправе прочесть их.
— Да, — еле пискнула я. — Да, пожалуйста.
Жизнь жестоко подшутила надо мной: пока я выведывала мамины секреты у той, от которой она больше всего хотела их уберечь, у моего отца случился сердечный приступ.
Известие я получила от Герберта, когда вернулась от Риты; он взял меня за руки и рассказал, что случилось.
— Мне очень жаль, — заключил он. — Я бы сообщил тебе раньше, но не знал как.
— О… — Сердце колотилось от страха. Я бросилась к двери, но тут же вернулась. — Он?..
— Он в больнице; состояние вроде бы стабильное. Твоя мать почти ничего не говорила.
— Я должна…
— Да. Поезжай. Я вызову такси.
Всю дорогу я болтала с водителем — коротышкой с небесно-голубыми глазами и каштановыми волосами с первой проседью, отцом трех маленьких детей. И пока он жаловался на их проделки и качал головой с притворным раздражением, за которым родители малышей скрывают свою гордость, я улыбалась и задавала вопросы, и мой голос звучал обыкновенно, даже беззаботно. Мы подъехали к больнице, и лишь когда я протянула водителю десятку и велела оставить сдачу себе и насладиться танцевальным выступлением дочери, я поняла, что пошел дождь, а я стою на мостовой у больницы в Хаммерсмите без зонта, глядя, как такси растворяется в сумерках, в то время как мой отец лежит с разбитым сердцем где-то за этими стенами.
Мама казалась меньше, чем обычно, сидя в одиночестве с краю в ряду пластмассовых стульев; тускло-голубая больничная стена у нее за спиной навевала тоску. Она всегда элегантно одевается, моя мама, как будто из другой эпохи: сочетающиеся друг с другом шляпы и перчатки, туфли, первозданно хранящиеся в магазинных коробках, целая полка самых разных сумок, теснящихся бок о бок в ожидании, когда их повысят до завершающего штриха дневного наряда. Она бы в жизни не догадалась выйти из дома без пудры и помады, даже когда ее мужа увезли на машине скорой помощи. И что за дочь ей досталась! На несколько дюймов выше, чем следует, с непокорными кудряшками и губами, намазанными первым попавшимся блеском, который нашелся на дне выцветшей котомки среди монеток, пыльных мятных пастилок и прочей ерунды.
— Мама. — Я направилась прямо к ней, поцеловала мертвенно-холодную от кондиционера щеку и опустилась на соседний стул. — Как он?
Она покачала головой, и страх худшего комком застрял у меня в горле.
— Пока никаких новостей. Столько разных устройств, врачи приходят и уходят. — Она на мгновение опустила веки, не переставая качать головой, едва заметно, по привычке. — Мне ничего не известно.
Я с трудом сглотнула и решила, что лучше ничего не знать, чем знать худшее, однако предпочла не делиться этой банальностью. Мне хотелось ответить что-нибудь неизбитое и обнадеживающее, чтобы облегчить ее беспокойство, чтобы все исправить, но у нас с мамой не было опыта совместных прогулок по дороге страдания и утешения, и потому я промолчала.
Она открыла глаза и посмотрела на меня, потянулась заправить мне за ухо локон, и я подумала: возможно, это неважно, возможно, она и так понимает, как я переживаю, как искренне хочу все исправить. Возможно, и не надо ничего объяснять, ведь мы семья, мать и дочь, и некоторые вещи понятны без слов…
— Ты ужасно выглядишь, — заявила она.
Покосившись в сторону, я увидела свое темное отражение в глянцевом плакате государственной службы здравоохранения.
— На улице дождь.
— Такая большая сумка, — тоскливо улыбнулась она, — а места для маленького зонтика не хватило.
Я чуть покачала головой, движение перешло в дрожь, и я внезапно почувствовала, что замерзла.
В больничных залах ожидания приходится себя занимать, не то начинаешь ожидать, а это приводит к размышлениям, что, по моему опыту, плохо. Я молча сидела рядом с мамой — волновалась о папе, напоминала себе купить зонтик, слушала, как настенные часы отмеряют секунды, — и стая потаенных мыслей просочилась за спину и погладила мои плечи острыми пальцами. Не успела я оглянуться, как они взяли меня за руку и отвели туда, где я не бывала годами.
Стоя у стены нашей ванной, я наблюдала, как мой четырехлетний двойник идет по канату вдоль ванны. Маленькая голая девочка хочет убежать с цыганами. Она точно не знает, кто такие цыгане и где их искать, но знает, что они — лучший выбор, если хочешь стать циркачкой. Это ее мечта, вот почему она тренируется ходить по канату. Она почти достигает противоположной стороны, когда поскальзывается. Падает вперед, извивается, уходит головой под воду. Сирены, слепящие огни, чужие лица…
Я моргнула, и образ развеялся, немедленно сменившись другим. Похороны бабушки. Я сижу на передней скамье рядом с мамой и папой и вполуха слушаю, как пастор описывает совсем не ту женщину, которую я знала. Меня отвлекают туфли. Они новые, и хотя я понимаю, что должна быть серьезнее, сосредоточиться на гробе, думать о возвышенном, я не могу оторвать глаз от своих лакированных туфель, поворачивая их так и сяк, чтобы насладиться блеском. Папа замечает это, тихонько толкает меня плечом, и я через силу перевожу внимание на гроб. На нем стоят две фотографии, одна — моей родной бабушки, другая — незнакомки, молодой женщины, сидящей на пляже. Она уворачивается от камеры и криво улыбается, как будто собирается открыть рот и отпустить колкость в адрес фотографа. Священник что-то говорит, тетя Рита начинает реветь, тушь течет по ее щекам, и я с надеждой смотрю на мать в ожидании схожей реакции. Ее руки в перчатках сложены на коленях, глаза прикованы к гробу, но ничего не происходит. Ничего не происходит, и я ловлю взгляд кузины Саманты. Она тоже следит за моей мамой, и внезапно мне становится стыдно…
Я решительно поднялась, застав мрачные мысли врасплох и заставив их разбежаться в стороны. Я засунула руки до самых швов в свои глубокие карманы, достаточно крепко, убеждая себя в том, что у меня есть цель. Затем я бродила по коридору, внимательно изучая поблекшие плакаты с расписаниями вакцинации, устаревшими на два года, лишь бы оставаться здесь и сейчас, подальше от прошлого.
Завернув за очередной угол, я оказалась в ярко освещенной нише с подпирающим стену автоматом для горячих напитков, из тех, что снабжены подставкой для чашки и носиком, выстреливающим шоколадный порошок, кофейные гранулы или кипяток, в зависимости от ваших предпочтений. На пластмассовом подносе лежали пакетики чая, и я кинула парочку в пенопластовые стаканчики, один для мамы и один для себя. Некоторое время я следила, как пакетики окрашивают воду ржавыми завитками, затем долго размешивала сухое молоко, ожидая, пока оно полностью растворится, прежде чем отнести стаканчики обратно по коридору.
Мама молча взяла стаканчик, поймав указательным пальцем каплю, которая катилась по его боку. Она держала теплый стаканчик обеими руками, но не пила. Я сидела рядом и ни о чем не думала. Старалась ни о чем не думать, пока мой мозг отчаянно работал, удивляясь, отчего у меня так мало воспоминаний о папе. Настоящих воспоминаний, а не украденных из фотографий и семейных историй.
— Я разозлилась на него, — вдруг произнесла мама. — Повысила голос. Я приготовила жаркое и выложила на стол, чтобы резать, оно остывало, и я рассудила: ну и поделом ему, пускай ест холодный ужин. Я собиралась сходить за ним, но плохо себя чувствовала и устала от бесполезных окриков. Я решила: посмотрим, как тебе понравится холодное жаркое. — Мама закусила губу, как поступают люди, когда слезы мешают говорить, и они надеются скрыть этот факт. — Он опять весь день провел на чердаке, таскал вниз коробки, завалил всю прихожую… одному богу известно, как теперь убирать их на место, ведь он будет не в состоянии… — Она невидяще посмотрела на чай. — Он пошел в ванную освежиться перед ужином, там все и случилось. Я нашла его на полу рядом с ванной, там же, где ты потеряла сознание в детстве. Он мыл руки, они все были в мыле.
Повисла пауза, и мне нестерпимо захотелось заполнить ее. В беседе есть нечто утешительное; ее упорядоченный узор обеспечивает связь с реальным миром: ничего ужасного или неожиданного просто не может произойти, пока ведется рациональный обмен репликами.
— И ты вызвала скорую помощь, — подсказала я тоном воспитательницы детского сада.
— Она приехала быстро; повезло. Я опустилась рядом с ним и смывала мыло, а потом они словно выросли из-под земли. Двое, мужчина и женщина. Они сделали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, и еще использовали одно из этих электрошоковых устройств.
— Дефибриллятор, — уточнила я.
— И они ему что-то дали, какое-то лекарство, растворяющее сгустки. — Мать разглядывала свои ладони. — На нем все еще была рубашка, и я, помнится, подумала, что надо сходить принести ему чистую.
Она покачала головой. С сожалением, что не принесла, или с изумлением, что ее посетила подобная мысль, когда ее муж лежал на полу без сознания? Хотя тогда это было уже неважно, да и кто я такая, чтобы судить? Нет-нет, я прекрасно понимала, что была бы рядом и помогла, если бы не крутилась вокруг тети Риты, выведывая истории о мамином прошлом.
Врач шел в нашу сторону по коридору, и мама переплела пальцы. Я привстала, но он не замедлил шаг, промчался через зал ожидания и исчез за другой дверью.
— Уже недолго, мама.
Мои слова съежились под бременем, ведь прощения я так и не попросила, и я ощутила себя совершенно беспомощной.
Со свадьбы мамы и папы сохранилась всего одна фотография. Наверное, есть и другие, собирают пыль в каком-нибудь забытом белом альбоме, но я знаю всего один снимок, который пережил минувшие годы.
На снимке их только двое, это не типичная свадебная фотография, на которой семьи невесты и жениха выстроились двумя крыльями, охватывая пару в середине; разномастными крыльями, отчего кажется, что эта химера никогда не взлетит. На этом снимке их несовместимые семьи куда-то исчезли, они остались вдвоем, и кажется, будто мама смотрит в лицо отцу с восхищением. Как будто он светится, да так и есть: вероятно, эффект старых ламп, которые в те времена использовали фотографы.
И он такой невероятно юный, они оба; его волосы пока еще на месте, растут себе на макушке, и ничто не предвещает того, что это не навсегда. Ничто не предвещает, что он обретет и потеряет сына; что его будущая дочь будет приводить его в замешательство, а жена научится его игнорировать, что однажды его сердце запнется, и его отвезут в больницу в машине скорой помощи, и эта самая жена будет сидеть в зале ожидания с дочерью, которую он не в состоянии понять, и ожидать, когда он очнется.
Ничего этого на фото нет, даже намеком. Этот снимок — застывшее мгновение; неведомое будущее еще впереди, как и должно быть. Но в то же время будущее есть на фотографии или, по крайней мере, его вариант. Оно таится в их глазах, в особенности в ее глазах. Фотографу удалось запечатлеть нечто большее, чем двух молодых людей в день свадьбы; он запечатлел порог, через который переступают, океанскую волну в последний миг перед тем, как она превращается в иену и разбивается о берег. И молодая женщина, моя мама, видит больше, чем просто молодого мужчину рядом, чем своего возлюбленного — она видит всю их будущую жизнь, простирающуюся впереди…
А может, я все романтизирую; возможно, она просто восхищается его прической, предвкушает прием или медовый месяц… Вокруг подобных снимков всегда плетутся истории, снимков, которые становятся семейными тотемами. В больнице меня осенило, что есть лишь один способ точно выяснить, что она чувствовала, на что надеялась, когда так смотрела на него; была ли ее жизнь более тяжелой, а прошлое — более сложным, чем кажется при виде ее сияющего личика. Достаточно просто спросить; странно, что раньше это не приходило мне в голову. Полагаю, в этом следует винить светящееся лицо отца. То, как мама смотрит на него, привлекает к нему все внимание, так что ее легко принять за юную и невинную девушку скромного происхождения, жизнь которой только начинается. Я поняла, что этот миф мама всеми силами старалась поддерживать, ведь когда она говорила об их жизни до знакомства, она рассказывала лишь об отце.
Но когда я мысленно представила снимок сразу после визита к Рите, я обратила внимание на мамино лицо — скрытое в тени, чуть меньше папиного. Возможно ли, что эта молодая женщина с широко распахнутыми глазами хранит секрет? Что за десять лет до свадьбы с этим солидным радостным мужчиной она вступила в тайную связь со своим школьным учителем, женихом ее старшей подруги? Ей в то время было около пятнадцати; Мередит Берчилл определенно не принадлежит к тем женщинам, которые заводят романы в подростковом возрасте, но как насчет Мередит Бейкер? Когда я росла, мама обожала читать лекции насчет того, чего не делают хорошие девочки. Возможно, она судила по собственному опыту?
Меня затопило чувство, что я знаю все и ничего о человеке, находящемся рядом со мной. О женщине, в чьем теле я появилась, чей дом, в котором я воспитывалась, во многих жизненно важных отношениях был для меня чужим. Тридцать лет я приписывала маме не больше объема, чем бумажным куколкам, с которыми играла в детстве, с их наклеенными улыбками и бумажными платьицами с петельками по краям. Более того, последние несколько месяцев я неутомимо искала разгадку ее самых бережно хранимых секретов, даже ни разу не удосужившись расспросить ее об остальных. Однако теперь, когда папа оказался на больничной койке, мне не терпелось выяснить о них как можно больше. О ней. О загадочной женщине, которая упомянула Шекспира и некогда посылала статьи в газеты.
— Мама?
— Гмм?
— Как вы с папой познакомились?
Ее голос заржавел от неупотребления, и она прочистила горло, прежде чем ответить:
— В кино. На показе «Остролиста и плюща».[31] Тебе же известно.
— Я имела в виду, как вы познакомились. Это ты увидела его? Или он тебя? Кто первый проявил инициативу?
— Ах, Эди, я не помню. Он… нет, я. Забыла. — Мать чуть пошевелила пальцами одной руки, как будто кукловод со звездочками на нитках. — Нас в зале было только двое. Можешь себе представить?
На мамином лице появилось рассеянное, но нежное выражение. Она почти спасалась бегством из тревожного настоящего, в котором ее муж цеплялся за жизнь в соседней комнате.
— Он был красивым? — осторожно осведомилась я. — Вы полюбили друг друга с первого взгляда?
— Отнюдь. Сначала я приняла его за убийцу.
— Что? Папу?
Мне кажется, она не услышала меня, поскольку совершенно заблудилась в воспоминаниях.
— Так страшно сидеть в кино одной. Бесконечные ряды пустых кресел, темный зал, огромный экран. Кино предназначено для коллективного просмотра, в противном случае испытываешь жуткое одиночество. В темноте может случиться что угодно.
— Он сидел рядом с тобой?
— О нет. Он любезно сел немного в стороне — он джентльмен, твой отец, — но мы заговорили позже, в фойе. Он кого-то ждал…
— Женщину?
Уделив чрезмерное внимание ткани своей юбки, она с легким упреком произнесла:
— Ах, Эди.
— Просто интересно.
Тишина.
— По-моему, женщину, но она так и не появилась. Что ж, сама виновата. — Мама прижала ладони к коленям, вздернула подбородок и чуть слышно фыркнула. — Он пригласил меня выпить чаю, и я согласилась. Мы отправились в кондитерскую «Лайонз» на Стрэнде. Я заказала ломтик грушевого пирога. Помнится, пирог показался мне роскошным.
— И он был твоим первым кавалером? — улыбнулась я.
Мне показалось, или она действительно помедлила?
— Да.
— Ты украла чужого кавалера, — поддразнила я, чтобы поддержать легкомысленный тон беседы, но тут же вспомнила о Юнипер Блайт и Томасе Кэвилле, и мои щеки вспыхнули.
Меня так расстроил мой промах, что я не обратила особого внимания на мамину реакцию, а поспешила продолжить, пока она не успела ответить.
— Сколько тебе было лет?
— Двадцать пять. Это было в пятьдесят втором году, и мне только что исполнилось двадцать пять.
Я кивнула, будто делала мысленные подсчеты, однако на самом деле я внимала тоненькому голоску, который шептал: «Возможно, сейчас подходящий момент еще немного разузнать о Томасе Кэвилле, раз уж зашла об этом речь?» Гадкий голосок; позор мне, что я к нему прислушалась; мне нечем гордиться, но соблазн был слишком велик. Я убедила себя, что пытаюсь отвлечь маму от папиного недуга, и почти без паузы протараторила:
— Двадцать пять. Не поздновато ли для первого кавалера?
— Вовсе нет, — поспешно отозвалась мама. — Время было другим. Мне хватало забот и без этого.
— Но ты встретила папу.
— Да.
— И влюбилась.
Ее голос был таким тихим, что я скорее прочла ответ по губам, чем услышала:
— Да.
— Он был твоей первой любовью, мама?
Она резко вдохнула и отшатнулась, словно я дала ей пощечину.
— Эди… не смей!
Так значит, тетя Рита была права. Он не был ее первой любовью.
— Не говори о нем в прошедшем времени! — воскликнула мама; слезы навернулись ей на глаза.
И мне стало дурно, как будто я и вправду дала ей пощечину, особенно когда она легонько захныкала у меня на плече, даже не заплакала, ведь она никогда не плачет. И хотя моя рука была больно прижата к пластмассовому краю стула, я не сдвинулась с места.
На улице далекие волны машин продолжали накатывать и отступать, время от времени перемежаясь сиренами. В больничных стенах есть что-то магическое; хотя они сделаны из простого кирпича и штукатурки, за ними отступают шум и реальность переполненного города; пусть город начинается за дверью — ты все равно в таинственной стране за тридевять земель. «Как в Майлдерхерсте», — подумалось мне; точно в таком же коконе я очутилась, переступив порог замка, словно внешний мир рассыпался прахом и разлетелся по ветру. Я рассеянно размышляла, чем занимались сестры Блайт, чем они заполняли недели после моего отъезда, три старые женщины в огромном темном замке. Образы мелькали один за другим, серия моментальных снимков: Юнипер бродит по коридорам в грязном шелковом платье; Саффи появляется как из-под земли и ласково уводит ее прочь; Перси хмурится у окна чердака, озирая свое поместье, как капитан корабля на посту…
Минула полночь, медсестры сменились, новые лица принесли с собой все то же оживление. Они смеялись и суетились вокруг освещенного медпункта — нерушимого маяка нормальности, острова в бурном море. Я попыталась вздремнуть, опустив голову на сумку вместо подушки, но ничего не вышло. Моя мама, сидевшая рядом, была такой маленькой и одинокой и почему-то казалась старше, чем в нашу последнюю встречу; я невольно забегала вперед и представляла в живописных подробностях ее жизнь без отца. Я видела ее так отчетливо: его пустое кресло, обеды и ужины в тишине, и молоток больше не стучит. Каким пустынным станет дом, каким неподвижным, только эхо будет гулять между стенами!
Если мы потеряем папу, нас останется только двое. Двое — это совсем немного, никакого запаса. Вдвоем можно вести лишь самые лаконичные и примитивные беседы, которые не требуют постороннего вмешательства; это попросту невозможно. Да и не нужно, если подумать. Неужели таково наше будущее? Перекидываться фразами, обмениваться мнениями, издавать вежливые звуки, говорить полуправду и соблюдать приличия? Подобная перспектива была невыносима, и внезапно я ощутила себя очень, очень одинокой.
В подобные одинокие минуты я больше, чем обычно, тоскую по брату. Сейчас он был бы взрослым человеком с непринужденными манерами, доброй улыбкой и умением ободрять нашу мать. Дэниел в моей голове всегда точно подбирает слова; не то что его незадачливая сестра, которая ужасно страдает от косноязычия. Я взглянула на маму. Возможно, она тоже думает о нем; может, пребывание в больнице напомнило ей о ее маленьком мальчике? Но спросить я не могла, потому что мы не обсуждали Дэниела, точно так же, как обходили стороной ее эвакуацию, ее прошлое, ее сожаления. Никогда не обсуждали. Возможно, мне взгрустнулось о секретах, которые столь медленно и долго кипели под крышкой нашей семьи; возможно, я назначила себе покаяние за то, что расстроила мать своим любопытством; возможно даже, мне отчасти захотелось увидеть реакцию, наказать мать за то, что она не делится со мной воспоминаниями и лишает меня настоящего Дэниела: как бы то ни было, я неожиданно глубоко вдохнула и сказала:
— Мама…
Она протерла глаза и заморгала, глядя на наручные часы.
— Мы с Джейми расстались.
— Неужели?
— Да.
— Сегодня?
— Вообще-то нет. Не совсем. В районе Рождества.
Едва заметное удивление.
— Вот как? — Она озадаченно нахмурилась, подсчитывая прошедшие месяцы. — Ты не говорила…
— Нет.
Ее лицо поникло, когда она осознана, что именно это значит. Она медленно кивнула, несомненно, припоминая свои бесконечные расспросы о Джейми в последнее время и мои лживые ответы.
— Мне пришлось отказаться от квартиры. — Я кашлянула и сообщила: — Я ищу себе студию. Свою собственную маленькую квартирку.
— Так вот почему я не смогла тебя найти, когда твой отец… я обзвонила все номера, какие только вспомнила, даже Ритин, пока не наткнулась на Герберта. Я не представляла, что делать!
— Что ж, это была превосходная мысль, — со странной искусственной веселостью заметила я. — Я поселилась у Герберта.
Она недоуменно уставилась на меня.
— У него есть гостевая комната?
— Гостевой диван.
— Понятно.
Мама сжимала руки на коленях, как будто держала в них крошечную птичку, драгоценную птичку, которую не желала упустить.
— Я должна написать Герберту, — выцветшим голосом произнесла она. — Он прислал нам ежевичного варенья на Пасху, и, кажется, я забыла его поблагодарить.
И на этом тема, которой я страшилась месяцами, была исчерпана. Относительно безболезненно, что хорошо, но как-то бездушно, что плохо.
Мама поднялась, и первой моей мыслью было, что я ошиблась, тема не исчерпана, и без сцены не обойдется, но когда я проследила за направлением ее взгляда, то увидела идущего к нам врача. Я тоже встала, пытаясь прочесть выражение его лица, угадать, какой стороной ляжет монетка, но это было невозможно. Выражение его лица можно было истолковать как угодно; наверное, их специально этому учат в медицинском колледже.
— Миссис Берчилл? — прозвучал резкий голос с едва заметным иностранным акцентом.
— Состояние вашего мужа стабильное.
Мама издала невнятный звук, как будто выпустили воздух из небольшого шарика.
— Хорошо, что скорая помощь подоспела вовремя. Вы молодец, что сразу вызвали ее.
Рядом со мной раздались тихие икающие звуки, и я поняла, что у мамы снова глаза на мокром месте.
— Посмотрим, как пойдет выздоровление, на данном этапе ангиопластика кажется маловероятной. Он проведет в больнице еще несколько дней, мы понаблюдаем за его состоянием, а после отправим выздоравливать домой. Вам придется внимательно следить за его настроением; сердечные больные часто страдают депрессией. Подробнее вас проконсультируют медсестры.
— Конечно, конечно, — усердно закивала мама.
Мы обе были не в силах подобрать слова, выражавшие нашу благодарность и облегчение. Наконец мама остановилась на старом добром варианте:
— Спасибо, доктор.
Но он уже скрылся за неприкосновенной завесой своего белого халата. Рассеянно кивнул, будто торопился в другое место, спасать другую жизнь (что, несомненно, было правдой), и уже совершенно забыл, кто мы такие и чьи родственники.
Я собиралась предложить навестить папу, когда моя мать, которая никогда не плачет, заплакала, и не просто вытерла пару слезинок тыльной стороной ладони — всерьез, горько, мучительно зарыдала. Я вспомнила, как в детстве расстраивалась из-за пустяков, и мама говорила, что некоторых девочек слезы только красят — их глаза становятся шире, щеки румянее, губы пухлее, — жаль, нам с ней не так повезло.
Она была права; мы обе не умеем красиво плакать. Мы покрываемся пятнами и рыдаем слишком несдержанно, слишком громко. При виде нее, такой маленькой, такой безукоризненно одетой, такой несомненно страдающей, мне захотелось заключить ее в объятия и держать, пока она не успокоится. Однако ничего подобного я не сделала. Вместо этого я порылась в сумке и достала бумажный платок.
Мама взяла его, но плакать не перестала, не сразу, по крайней мере. После минутного колебания я коснулась ее плеча, как бы похлопала по нему, затем погладила ее спину по кашемировому кардигану. Так мы и стояли, пока ее тело слегка не обмякло, и мама не привалилась ко мне, словно ребенок в поисках утешения.
Наконец она высморкалась.
— Я так беспокоилась, Эди.
По очереди промокнув под глазами, она осмотрела платок в поисках следов туши.
— Знаю, мама.
— Просто мне кажется, я не смогу… если что-нибудь случится… если я потеряю его…
— Все в порядке, — твердо заявила я. — С ним все в порядке. Все будет хорошо.
Она заморгала, глядя на меня, будто маленький зверек в свете фар.
— Да.
Затем я выяснила номер его палаты у медсестры, и мы отправились в путь по залитым флуоресцентным светом коридорам. Уже у порога мама остановилась.
— В чем дело? — спросила я.
— Я не хочу расстраивать твоего отца, Эди.
Я промолчала, гадая, с чего ей пришло в голову, будто я планирую его расстраивать.
— Он будет в ужасе, если узнает, что ты спишь на диване. Тебе же известно, как он переживает из-за твоей осанки.
— Это ненадолго. — Я посмотрела на дверь. — Серьезно, мама, скоро я что-нибудь придумаю. Я слежу за объявлениями о сдаче квартир, но пока нет ничего подходящего…
— Чепуха. — Она оправила юбку, глубоко вдохнула и, отводя глаза, добавила: — Вполне подходящая кровать есть у тебя дома.
Так и вышло, что в возрасте тридцати лет я стала одинокой женщиной, живущей с родителями в доме, в котором выросла. В своей собственной детской спальне, в своей собственной пятифутовой кровати, под окном с видом на «Похоронное бюро Зингера и сыновей». Жизнь, кажется, налаживалась: я обожаю Герберта, и мне нравилось проводить время с милой старушкой Джесс, но упаси меня боже когда-нибудь еще делить с ней диван.
Сам переезд получился относительно безболезненным; я мало что забрала с собой. «Это временное решение, — объясняла я всем, кто готов был слушать, — так что намного разумнее оставить коробки у Герберта». Я взяла всего один чемодан и вернулась домой, чтобы обнаружить: со времени моего отъезда десять лет назад мало что изменилось.
Родительский дом в Барнсе был построен в шестидесятых и куплен совсем новым, когда мама носила меня. Самое поразительное, что это редкий дом, где отсутствует беспорядок. Серьезно, никакого беспорядка. В хозяйстве Берчиллов во всем есть система: корзины для раздельного сбора белья, кухонные полотенца разных цветов для разных целей; рядом с телефоном — блокнот и ручка, которая никогда не теряется, никаких валяющихся конвертов с каракулями, адресами и недописанными именами людей, о звонках которых забыли. Все так и блестит. Наверное, отчасти поэтому я в детстве подозревала, что меня удочерили.
Даже папина уборка на чердаке произвела весьма умеренный беспорядок: около двух дюжин коробок со списками содержимого, приклеенными скотчем к крышкам, и тридцатилетний запас электронных приборов, сменявших друг друга, все в оригинальных упаковках. Однако они не могли оставаться в прихожей навечно; и поскольку папа еще не оправился от болезни, а я была свободна в выходные как ветер, вполне естественно, что я взяла этот труд на себя. Я работала как заведенная и позволила себе отвлечься только раз, когда наткнулась на коробку с надписью «вещи Эди» и не устояла перед желанием ее открыть. Внутри лежало множество забытых предметов: бусы из макарон с облупившейся краской, фарфоровая шкатулка с феями на боку и, в самой глубине, среди всякой всячины и книг — я ахнула — мой незаконно приобретенный, горячо обожаемый пропавший экземпляр «Слякотника».
Я взяла в свои взрослые ладони эту маленькую, ветхую от времени книжицу, и меня окатило мерцающей волной воспоминаний; образ моего десятилетнего двойника, удобно устроившегося на диване в гостиной, был таким ярким, что мне захотелось сквозь годы протянуть руку и пустить рябь по его поверхности. Я грелась в лучах приятно неподвижного солнечного света, падающего сквозь оконные стекла, и дышала теплым уютным запахом бумажных платков, ячменного отвара с лимоном и доброй порции родительской жалости. Затем я увидела маму, она вошла в дом в пальто с полным пакетом продуктов. Она что-то выудила из сумки и протянула мне — книгу, которая изменит мой мир. Роман, написанный тем самым джентльменом, у которого она жила во время эвакуации во Вторую мировую войну…
Раймонд Блайт; я задумчиво потерла большим пальцем рельефные буквы на обложке. «Возможно, это тебя подбодрит, — сказала мама. — Пожалуй, это книга для ребят постарше, но ты умная девочка и справишься, если постараешься». Всю жизнь я была благодарна библиотекарше мисс Перри за то, что она наставила меня на путь истинный, но когда я сидела на деревянном полу чердака со «Слякотником» в руках, в тонком лучике света забрезжила новая мысль. Что, если все это время я ошибалась; что, если мисс Перри лишь отыскала и выдала книгу и это моя мать догадалась дать мне идеальную книгу в идеальное время? Осмелюсь ли я спросить?
Книга была старой, когда впервые попала мне в руки, и страстно любимой с тех пор, так что ее прискорбное состояние было вполне ожидаемым. В крошащийся переплет были вставлены те самые страницы, которые я переворачивала, когда описанный на них мир был новым; когда я не ведала даже, чем все закончится для Джейн, ее брата и бедного, печального обитателя рва.
Мне не терпелось перечесть роман с самого возвращения из Майлдерхерста; я поспешно вздохнула и открыла книгу наугад, позволив своему взгляду приземлиться на чудесной, покрытой желтовато-коричневыми пятнами странице: «Экипаж, везший их в дом дяди, которого они никогда не встречали, отбыл из Лондона вечером и мчался всю ночь напролет, пока наконец не притормозил у заброшенной подъездной дорожки, когда уже занимался рассвет». Я продолжила читать, подпрыгивая на заднем сиденье экипажа между Джейн и Питером. Мы проехали через потертые скрипучие ворота и покатили по длинной, извилистой дорожке; и вот на вершине холма, замерзший в меланхолическом утреннем свете, возник замок Билхерст. Я задрожала от предвкушения того, что ожидало меня внутри. Башня рассекала линию крыши, окна темнели на фоне кремового камня; я выглянула из экипажа вместе с Джейн, положив руку на окно рядом с ее рукой. Тяжелые облака неслись по бледному небу. Когда экипаж остановился с глухим стуком, мы выбрались наружу и очутились у края чернильного рва. Из ниоткуда налетел ветерок, подернув рябью поверхность воды. Кучер указал на деревянный подъемный мост, и мы медленно перешли по нему. Как только мы оказались у тяжелой двери, прозвенел колокольчик, настоящий колокольчик, и я чуть не уронила книгу.
Кажется, я еще не упоминала о колокольчике. Пока я носила коробки обратно на чердак, папу устроили в гостевой комнате; на прикроватном столике: стопка журналов «Современное бухгалтерское дело», кассетный плеер с записями Генри Манчини и маленький колокольчик для привлечения внимания. Колокольчик был папиной идеей, полузабытым воспоминанием о приступе лихорадки, перенесенном в детстве; и после двух недель, в течение которых отец лишь постоянно спал, мама так обрадовалась тому, что он воспрял духом, что охотно приняла предложение. «Весьма разумно», — похвалила она, не подозревая, что маленький декоративный колокольчик будет использоваться самым нечестивым образом. В скучающих и раздражительных руках отца он стал смертоносным оружием, талисманом для возвращения в детство. С колокольчиком, зажатым в кулаке, мой уравновешенный, педантичный отец становился испорченным и властным ребенком, полным нетерпеливых вопросов: заходил ли уже почтальон, чем мама занималась весь день и когда ему наконец принесут очередную чашку чая.
Утром того дня, когда я нашла коробку со «Слякотником», мама отправилась в супермаркет, и я официально заступила на дежурство при отце. От звона колокольчика мир Билхерста съежился, облака поспешно разлетелись во все стороны, ров и замок исчезли, крыльцо, на котором я стояла, рассыпалось прахом; в белом пространстве вокруг меня остались только черные буквы, и я упала в дыру посередине страницы, со стуком приземлившись в Барнсе.
Знаю, что это меня не красит, но несколько секунд я сидела очень тихо — а вдруг приговор все же отсрочат? Лишь когда колокольчик звякнул во второй раз, я спрятала книгу в карман кофты и с прискорбной неохотой спустилась по лестнице.
— Привет, папа, — весело поздоровалась я, подходя к двери гостевой комнаты… негоже обижаться на навязчивость больного родителя. — Все в порядке?
Он так глубоко провалился в подушки, что его почти не было видно.
— Как там насчет обеда?
— Еще рано. — Я подняла его немного повыше. — Мама обещала подогреть тебе суп, как только вернется. Она сварила целую кастрюлю превосходного…
— Твоя мать еще не вернулась?
— Она скоро придет.
Я сочувственно улыбнулась. Бедному папе приходится несладко: любому тяжело проводить в постели неделю за неделей, а для такого человека, как он, не имеющего ни увлечений, ни таланта к расслаблению, это подлинная мука. Я налила в стакан свежей воды, стараясь не теребить книгу, торчащую из моего кармана.
— Принести тебе пока что-нибудь? Кроссворд? Грелку? Еще пирога?
Он смиренно вздохнул.
— Нет.
— Уверен?
— Да.
Моя рука вновь коснулась «Слякотника», а разум начал вероломно выбирать между кушеткой на кухне и креслом в гостиной, тем, что стоит у окна и весь день залито солнечным светом.
— Что ж, — робко произнесла я, — ну, тогда я пойду. Выше нос, папа…
Когда я почти добралась до двери, он остановил меня:
— Что это, Эди?
— Где?
— У тебя в кармане. — В его голосе было столько надежды! — Случайно, не почта?
— Это? Нет. — Я похлопала себя по кофте. — Это книга, лежавшая в одной из чердачных коробок.
Он поджал губы.
— Весь смысл в том, чтобы убирать туда вещи, а не выкапывать снова.
— Я понимаю, но это моя любимая книга.
— И о чем она?
Я была поражена; мне и в голову не приходило, что папа когда-нибудь заинтересуется книгой.
— О паре сирот, — с трудом выдавила я. — Девочке по имени Джейн и мальчике по имени Питер.
Он нетерпеливо нахмурился.
— Это явно не все. Судя по виду, в книге много страниц.
— Конечно… Да. Это далеко не все.
Не знаю, с чего и начать! Долг и предательство, разлука и тоска, пределы того, на что готовы пойти люди ради защиты своих близких, безумие, верность, честь и любовь… Я снова взглянула на папу и решила ограничиться сюжетом.
— Родители Джейн и Питера погибают в жутком лондонском пожаре, и детей отсылают в замок давно потерянного дяди.
— Замок?
— Билхерст, — уточнила я. — Их дядя — довольно приятный человек, и детям поначалу нравится в замке, но постепенно они понимают, что в нем творится больше, чем кажется, и за блестящим фасадом скрывается темная, мрачная тайна.
— Темная и мрачная, да? — чуть улыбнулся отец.
— О да. И то и другое. Просто ужас, — возбужденно протараторила я.
Папа наклонился ближе, опершись на локоть.
— И в чем же она?
— Кто?
— Тайна. В чем она?
Я изумленно посмотрела на него.
— Ну, не могу же я… просто сказать.
— Конечно, можешь.
Он скрестил руки на груди, как капризный ребенок, и я принялась подыскивать слова, чтобы объяснить ему договор между читателем и писателем, опасности повествовательной алчности, кощунство простого выбалтывания того, что созидалось глава за главой, секретов, тщательно спрятанных автором за бесчисленными трюками. Но сумела лишь спросить:
— Давай я одолжу тебе книгу?
Отец некрасиво надулся.
— От чтения у меня болит голова.
Между нами повисла пауза, которая становилась все более неуютной по мере того, как он ожидал моего поражения, однако я не сдавалась. Разве я могла поступить иначе? Наконец он уныло вздохнул и печально взмахнул рукой.
— Ладно. Полагаю, это неважно.
Но он выглядел таким несчастным, и я так ярко представила, как впервые попала в мир «Слякотника», когда болела свинкой или чем-то другим, что невольно откликнулась:
— Если ты действительно хочешь узнать, может, я почитаю тебе?
Чтение «Слякотника» вошло у нас в привычку; я с нетерпением предвкушала его каждый день. После ужина я помогала маме на кухне, чистила папин поднос, а затем мы начинали с того места, на котором остановились. Он никак не мог поверить, что придуманная история может так живо заинтересовать его.
— Наверняка она основана на реальных событиях, — вновь и вновь повторял он, — на старом деле о похищении ребенка. Как в той истории с сыном Линдберга.[32] Парнишку украли через окно спальни.
— Нет, папа. Раймонд Блайт все придумал.
— Но история такая яркая, Эди; она так и стоит у меня перед глазами, когда ты читаешь, как будто я сам все видел, будто я уже знаю ее.
И он озадаченно качал головой, от чего я заливалась жаром гордости до самых кончиков пальцев, хотя не принимала ни малейшего участия в создании «Слякотника». В дни, когда я задерживалась на работе, отец становился раздражительным, ворчал на маму весь вечер, прислушивался, когда я поверну ключ в замке, затем звонил в колокольчик и изображал удивление, когда я заходила. «Это ты, Эди? — Он изумленно вздергивал брови. — А я как раз собирался попросить твою мать взбить мне подушки. Ну… раз уж ты здесь, может, посмотрим, что происходит за стенами замка?»
Возможно, именно замок по-настоящему пленил его, даже больше, чем сюжет. Ревнивое почтение отца к огромным фамильным поместьям было настолько близко к хобби, насколько это вообще возможно, и когда я обмолвилась, что Билхерст списан с подлинного дома Раймонда Блайта, любопытство отца было обеспечено. Он задавал бесчисленные вопросы, на некоторые из них я отвечала по памяти, другие же были столь специфичны, что пришлось предоставить ему для изучения свой экземпляр «Майлдерхерста Раймонда Блайта»; порой даже требовались справочники, которые я отыскивала в огромной коллекции Герберта и приносила домой с работы. Так и вышло, что мы с папой подогревали одержимость друг друга, и впервые в жизни между нами обнаружилось что-то общее.
Было лишь одно препятствие к благополучному основанию клуба любителей «Слякотника» семьи Берчилл — мама. Хотя наша привязанность к Майлдерхерсту возникла довольно невинно, казалось низостью сидеть с папой за закрытыми дверями, возрождая к жизни мир, который мама решительно отказывалась обсуждать и на который у нее было больше прав, чем у нас обоих. Я знала, что должна поговорить с ней об этом; знала и то, что беседа будет не из приятных.
После того как я вернулась домой, наши с мамой отношения почти не изменились. Наверное, я несколько наивно ожидала, что мы обе переживем волшебное возрождение родственной любви, вместе окунемся в привычный распорядок дел, станем часто и охотно общаться, что мама даже распахнет передо мной душу и откроет свои секреты. Полагаю, я надеялась именно на это. Нет нужды уточнять, что мои чаяния не оправдались. В действительности, хотя мне кажется, мама была рада видеть меня рядом и благодарна, что я помогаю с отцом, и намного спокойнее, чем прежде, относилась к нашим различиям, в остальном она стала еще более далекой, чем всегда, рассеянной, задумчивой и очень, очень тихой. Сначала я решила, что дело в сердечном приступе отца, что тревога и последовавшее за ней облегчение закружили мать в водовороте переоценки ценностей; но неделя шла за неделей, ее состояние не улучшалось, и я начала недоумевать. Иногда она замирала посреди какого-либо действия, стояла, опустив руки в кухонную раковину с мыльной водой, невидяще смотрела в окно, и выражение ее лица было отсутствующим, озадаченным и смущенным, как если бы она забыла, кто она и где находится.
Именно в таком настроении я застала ее в вечер, когда собралась поговорить по душам о чтении.
— Мама? — окликнула я ее.
Однако она как будто не услышала, и я подошла чуть ближе, остановившись у края стола.
— Мама?
Она отвернулась от окна.
— А, привет, Эди. Чудесное время года, не правда ли? Долгие, поздние закаты.
Я присоединилась к ней у окна, наблюдая, как на небе гаснут последние персиковые отблески. Действительно красиво, хотя, возможно, и недостаточно для столь пристального внимания.
Мама молчала, и через некоторое время я предупредительно покашляла. Я сообщила ей, что читаю папе «Слякотника», и крайне осторожно изложила обстоятельства, которые к этому привели, в особенности то, что я ничего подобного не планировала. Казалось, она не слышит меня; только легкий кивок, когда я упомянула о папином увлечении замком, дал понять, что она слушает. Изложив все, что считала важным, я умолкла и подождала, мысленно собираясь с силами, чтобы встретить неизбежное.
— Очень мило, что ты читаешь папе, Эди. Ему это нравится.
К такому повороту я не была готова.
— Эта книга становится традицией в нашей семье. — Проблеск улыбки. — Верной спутницей во времена нездоровья. Ты, наверное, не помнишь. Я дала ее тебе, когда ты лежала дома со свинкой. Ты была такой несчастной; это единственное, что я смогла придумать.
Так это была мама. Она, а не мисс Перри выбрала «Слякотника». Идеальную книгу в идеальное время. Я снова обрела дар речи.
— Я помню.
— Хорошо, что твоему папе есть о чем поразмыслить, пока он в постели. Но еще лучше, что он может поделиться своими мыслями с тобой. Гостей у него не много, сама видишь. Другие люди, коллеги с работы, заняты своими делами. Большинство из них прислали открытки; и, кажется, с тех пор, как он вышел на пенсию… ну, время летит, верно? Просто… человеку нелегко чувствовать, что его забыли.
Она отвернулась, но я успела заметить, что она поджала губы. Мне показалось, что речь идет уже не только об отце, и поскольку к тому времени все пути вели меня в Майлдерхерст, к Юнипер Блайт и Томасу Кэвиллу, я невольно заподозрила, не оплакивает ли мама старую любовную связь, отношения, в которые вступила задолго до встречи с отцом, когда была юной, чувствительной и легкоранимой. Чем больше я думала об этом, чем дольше стояла, украдкой бросая взгляды на печальный мамин профиль, тем сильнее вскипала моя злоба. Да кто такой этот Томас Кэвилл, который сбежал во время войны, оставив за собой шлейф разбитых сердец: бедняжки Юнипер, чахнущей в разваливающемся семейном замке, и моей матери, лелеющей тайную скорбь через десятки лет после того, как все закончилось?
— Послушай, Эди… — Мама снова повернулась ко мне, ее печальные глаза искали мои. — Я бы предпочла, чтобы твой отец не знал о моей эвакуации.
— Папа не знает, что тебя эвакуировали?
— Знает, что эвакуировали, но не знает куда. Он не знает о Майлдерхерсте.
Тут она уделила особое внимание тыльным сторонам ладоней, по очереди подняла пальцы и поправила тонкое золотое обручальное кольцо.
— Ты понимаешь, — осторожно начала я, — что он сочтет тебя поистине мифическим существом, если выяснится, что ты жила в замке?
Легкая улыбка взбаламутила ее спокойствие, но она по-прежнему не сводила взгляда с рук.
— Я серьезно. Он без ума от замка.
— Тем не менее так будет лучше.
— Ладно. Я все понимаю.
На самом деле я не понимала, но, полагаю, это мы уже установили. От того, как огни фонарей ласкали скулы матери, она казалась уязвимой, совсем другой женщиной, более юной и хрупкой, так что я не стала давить. Однако я продолжила за ней наблюдать; в ее позе было столько глубоких раздумий, что я просто глаз не могла отвести.
— Эди, — тихо промолвила она, — когда я была маленькой, мать часто посылала меня вечерами в паб за твоим дедушкой.
— Правда? Одну?
— В те времена, до войны, это было обычным делом. Я приходила в местный паб и ждала у двери; отец замечал меня, махал рукой, допивал пиво, и мы вместе шли домой.
— Вы были близки?
Она чуть наклонила голову.
— Мне кажется, я приводила его в замешательство. И твою бабушку тоже. Кстати, она хотела, чтобы после школы я стала парикмахером.
— Как Рита?
Мама моргала, глядя на ночную улицу за окнами.
— Сомневаюсь, что я стала бы хорошим парикмахером.
— Ну не знаю. Ты отлично управляешься с секатором.
Повисла пауза; она улыбнулась краешком губ, не слишком искренно, и мне показалось, что еще что-то готово слететь с ее языка. Я подождала, однако что бы это ни было, она передумала и вскоре снова повернулась к окну.
Я не слишком энергично попыталась расспросить ее о школьных годах, наверное, в надежде, что это приведет к упоминанию Томаса Кэвилла, но она не заглотила наживку. Обмолвилась только, что в школе ей все нравилось, и предложила выпить чаю.
Единственным преимуществом маминой тогдашней рассеянности было то, что мне не пришлось обсуждать свой разрыв с Джейми. Сдержанность стала чем-то вроде семейного хобби, мама не интересовалась подробностями и не засыпала меня банальностями. Она любезно позволила нам обеим цепляться за миф, будто я вернулась домой из чистого бескорыстия, чтобы помогать ей с отцом и хозяйством.
Боюсь, о Рите нельзя было сказать того же. Плохие новости разносятся быстро, а моя тетя всегда готова прийти на выручку, потому вполне естественно, что когда я появилась в клубе «Рокси» на девичнике Сэм, меня встретили у самой двери. Рита подхватила меня под руку и затараторила:
— Дорогая, я уже в курсе. Умоляю, не надо переживать; это вовсе не значит, что ты старая, непривлекательная и обречена на одиночество до конца своих дней.
Я помахала официанту, намекая, что готова заказать что-нибудь покрепче, и со смутной тошнотой поняла, что на самом деле завидую матери, которая проведет вечер дома с папой и его колокольчиком.
— Многие люди встречают «вторую половинку» в зрелом возрасте, — продолжала Рита, — и очень счастливы. Взгляни хотя бы на свою кузину.
Тетя указала на Сэм, которая усмехалась мне из-за бронзовокожего незнакомца в трусиках-танга.
— Твоя очередь тоже придет.
— Спасибо, тетя Рита.
— Вот и молодец. — Она одобрительно кивнула. — А теперь хорошенько повесились и забудь обо всем.
Она почти было отправилась заражать своим весельем других, но схватила меня за руку.
— Чуть не забыла! Я кое-что тебе принесла.
Она залезла в свой баул и достала обувную коробку. На ее боку были изображены расшитые тапочки-лодочки, какие пришлись бы по душе моей бабушке, и хотя подарок был весьма неожиданным, нельзя не признать, что выглядели они очень удобными. И довольно практичными: в конце концов, в последнее время мне нередко приходится бодрствовать по ночам.
— Спасибо, — поблагодарила я. — Очень мило с твоей стороны.
Приподняв крышку, я обнаружила, что в коробке вовсе не тапочки, а стопка писем.
— Это письма твоей мамы, — лукаво улыбнулась тетя Рита. — Как я и обещала. Есть что почитать, а? Выше нос!
И хотя письма меня заинтриговали, я испытала укол неприязни к тете Рите от лица той девочки, усердные каракули которой покрывали конверты. Девочки, старшая сестра которой бросила ее во время эвакуации, смылась, чтобы не разлучаться с подругой, предоставив маленькой Мередит самой о себе позаботиться.
Я вернула крышку на место. Внезапно мне захотелось поскорее вынести письма из клуба. Им было не место среди грохота и скрежета — неотредактированным мыслям и мечтам давно исчезнувшей маленькой девочки, той самой, которая бродила со мной по коридорам Майлдерхерста, которую я надеялась со временем получше узнать. Когда принесли коктейльные соломинки с фаллическими насадками, я извинилась и ретировалась вместе с письмами.
Когда я вернулась, в доме было темным-темно. Я на цыпочках прокралась наверх, опасаясь потревожить спящего владельца колокольчика. Лампа тускло мерцала на столе; дом издавал странные ночные звуки. Я присела на кровать с обувной коробкой на коленях; полагаю, именно в этот момент я могла поступить иначе. Я находилась на развилке и могла пойти по любому пути. После недолгих сомнений я подняла крышку и вынула конверты. Пролистывая письма, я заметила, что они упорядочены по датам.
Мне на колени выпала фотография: две девушки улыбались в камеру. В младшей, темненькой, я узнала мать: серьезные карие глаза, костлявые локти, волосы подрезаны коротко, практично, как любила моя бабушка. Девушка постарше была блондинкой с длинными волосами. Юнипер Блайт, разумеется. Я помнила ее по книге, купленной в деревне Майлдерхерст; ребенок с сияющими глазами вырос. В приступе решимости я спрятала фотографию и письма обратно в коробку, все, кроме первого, которое развернула. Бумага была такой тонкой, что перо оставило на ней царапины, которые я чувствовала кончиками пальцев. Послание было датировано шестым сентября 1939 года; аккуратные буквы и цифры стояли в правом верхнем углу.
Дорогие мама и папа, — было выведено размашистым округлым почерком, — я очень-очень скучаю по вам обоим. А вы скучаете по мне? Я теперь живу в деревне, здесь все иначе. Например, здесь есть коровы; вы знаете, что они и правда говорят «му»? Очень громко. Я чуть штаны не потеряла, когда впервые услышала.
Я живу в замке, самом настоящем, но он выглядит не так, как вы, наверное, представляете. У него нет подъемного моста, зато есть башня, три сестры и старик, которого я ни разу не видела. Я знаю о нем только со слов сестер. Они зовут его папой, и он пишет книги. Настоящие книги, как в библиотеке. Младшую сестру зовут Юнипер, ей семнадцать лет, она очень хорошенькая, с большими глазами. Это она взяла меня в Майлдерхерст. Кстати, вам известно, из чего делают джин? Из ягод можжевельника![33]
Еще здесь есть телефон, так что, если у вас будет время и миссис Уотерман из магазина разрешит…
Я достигла конца первой страницы, но перелистывать не торопилась. Я сидела неподвижно, как будто очень внимательно к чему-то прислушивалась. Полагаю, так и было; ведь голос маленькой девочки выплыл из коробки и эхом гулял по сумрачной комнате. «Я теперь живу в деревне… они зовут его папой… есть башня и три сестры…» С письмами всегда так. Беседы уносятся ветром сразу после того, как смолкнет последний звук, а написанные слова остаются. Эти письма — маленькие путешественники во времени; пятьдесят лет они терпеливо лежали в коробке в ожидании, пока я найду их.
Фары машины на улице пробились полосками света сквозь занавески; блестки заскользили по потолку. И вновь тишина и полумрак. Я перевернула страницу и продолжила чтение; мне все сильнее сдавливало грудь, как будто нечто теплое и твердое пыталось вырваться на волю. Ощущение немного напоминало облегчение и, как ни странно, утоление загадочной тоски. Это звучит как полная бессмыслица, но голос девочки был настолько родным, что чтение ее писем немного напоминало встречу со старым другом. Другом, которого я знала с давних пор…
Лондон, 4 сентября 1939 года
Мередит ни разу не видела отца плачущим. Папы никогда не плачут, по крайней мере, ее папа (и на самом деле он не плакал, хотя в глазах у него стояли слезы), вот по этим слезам она и поняла, что слова взрослых — ложь, что никакое это не приключение и закончится оно не скоро. Что этот поезд увезет их из Лондона, и все изменится. При виде содрогающихся больших, квадратных плеч папы, странно перекошенного мужественного лица, губ, сжатых в тонкую линию, ей хотелось зареветь так же громко, как ревет ребенок миссис Пол, когда его пора покормить. Но она не заплакала, просто не могла, пока Рита сидела рядом и выжидала очередного повода ее ущипнуть. Вместо этого Мередит подняла руку, папа сделал то же самое, и тогда она притворилась, будто ее кто-то окликнул, и обернулась, так что ей больше не надо было на него смотреть, и они оба могли перестать быть такими ужасно мужественными.
В школе в летнем триместре проводились строевые учения, и папа вечерами вновь и вновь говорил о том, как в детстве ездил в Кент на уборку хмеля со своей семьей: солнечные дни, песни у костра по вечерам, прелестная сельская местность, зеленая, душистая и бесконечная. Но хотя Мередит нравились его истории, порой она бросала взгляды на маму, и в животе урчало от дурного предчувствия. Мама горбилась над раковиной, сплошь костлявые бедра, колени и локти, и скребла кастрюли с той отчаянной решимостью, которая всегда предвещала тяжелые времена.
Через несколько дней после того, как начались папины истории, Мередит подслушала родительскую ссору. Мама утверждала, что они семья и должны оставаться вместе и вместе встретить свою судьбу, что разбитая семья никогда не сможет стать прежней. Затем отец спокойно уверял, что на плакатах все написано правильно, что детям будет безопаснее подальше от города, что это ненадолго, а потом они снова соединятся. После этого на минуту воцарилось молчание, и Мередит изо всех сил навострила уши. Мама засмеялась, но как-то нерадостно. Она сказала, что не вчера родилась, что знает одно: правительству и мужчинам в дорогих костюмах нельзя доверять, что, если детей заберут, неизвестно, когда их вернут и в каком состоянии, а еще она кричала всякие слова, за которые Рите не раз влетало, и повторяла, что если он любит ее, то ни за что не отошлет ее детей, и папа шикал на нее, а после раздались рыдания и голоса затихли. Мередит натянула подушку на голову, чтобы заглушить храп Риты и все остальное.
Затем на несколько дней эвакуацию обсуждать перестали, но однажды утром Рита прибежала домой с известием, что общественные бассейны закрыты, а на фасаде висят большие новые объявления. «По плакату на каждой стороне, — сообщила она с широко раскрытыми от удивительной новости глазами. — На одном написано „Женский отравлен“, на другом — „Мужской отравлен“». Мама переплела руки, а папа изрек только: «Газ», и дело было решено. На следующий день мама стащила вниз их единственный чемодан и все наволочки, без которых могла обойтись, и начала набивать их вещами из школьного списка, просто на всякий случай: сменные трусики, расческа, носовые платки, новенькие ночные рубашки для Риты и Мередит, необходимость которых папа робко оспорил, а мама настояла, сверкая глазами. «По-твоему, я отпущу своих детей в чужие дома в ветхой одежде?» После этого папа умолк, и хотя Мередит знала, что родителям придется платить за покупки до самого Рождества, она против воли виновато радовалась ночной рубашке, хрустящей и белой, ее первой ночной рубашке, которая не принадлежала прежде Рите…
А теперь их и впрямь отослали, и Мередит отдала бы что угодно, лишь бы вернуть все на место. Мередит не была храброй, как Эд, или шумной и уверенной в себе, как Рита. Она была робкой и неловкой и казалась в своей семье белой вороной. Она поерзала на сиденье, выровняла ступни на чемодане и полюбовалась блеском начищенных туфель. Перед глазами возник папа, который отполировал их прошлым вечером, поставил, несколько минут бесцельно бродил по комнате, засунув руки в карманы, а затем начал все сначала. Как будто нанося обувной крем, втирая его в кожу и полируя до блеска, он мог спугнуть бесчисленные опасности, лежащие впереди. Мередит сморгнула, отогнав папин образ.
— Мамочка, мамочка!
Крик донесся из дальнего конца вагона, и Мередит подняла глаза на маленького мальчика, совсем кроху, который цеплялся за сестру и скребся в стекло. Слезы текли по его грязным щекам, кожа под носом блестела от соплей.
— Я хочу остаться с тобой, мамочка, — вопил он. — Хочу, чтобы меня убили с тобой!
Мередит сосредоточилась на своих коленях, потирая красные отметины, оставленные коробкой с противогазом, которая колотила ее по ногам, пока они шли из школы. Затем она снова взглянула в окно поезда, просто не смогла удержаться; устремила взгляд на перила над вокзалом, где толпились взрослые. Отец еще стоял там, еще наблюдал за ними, привычное лицо еще кривила улыбка незнакомца, и Мередит внезапно задохнулась, стекла ее очков начали запотевать, и как бы ей ни хотелось, чтобы земля разверзлась и поглотила ее и все это кончилось, небольшая часть ее сознания оставалась отстраненной, подбирая подходящие фразы на случай, попроси ее кто-нибудь описать, как легкие сжимаются от страха. Рита визгливо засмеялась, когда ее подруга Кэрол что-то прошептала ей на ухо, и Мередит закрыла глаза.
Все началось вчера утром ровно в одиннадцать часов пятнадцать минут. Она сидела на крыльце, вытянув ноги, и наблюдала, как на той стороне улицы Рита строит глазки этому кошмарному Люку Ватсону с его большими желтыми зубами. Из соседнего дома донеслись обрывки объявления по радио: Невилл Чемберлен сообщил своим размеренным, торжественным голосом, что ответа на ультиматум не последовало, и они вступили в войну с Германией. Затем прозвучал государственный гимн, после чего на соседском пороге показалась миссис Пол с ложкой, с которой стекал йоркширский пудинг.[34] Мама не замедлила последовать ее примеру, как и домохозяйки со всей улицы. Все стояли на своих местах и переглядывались, на лицах были написаны удивление, сомнение и страх; шепотки «началось» покатились по улице огромной недоверчивой волной.
Через восемь минут завыла сирена воздушной тревоги, разразился хаос. Старая миссис Николсон в истерике носилась по улице, перемежая молитвы с паническими пророчествами неминуемой гибели; Мойра Сеймур, сотрудница местной службы ПВО, разволновалась и принялась крутить трещотку, извещая о химической атаке, так что люди бросились врассыпную за противогазами; а инспектор Уайтли проехал сквозь суматоху на велосипеде, нацепив картонный плакат с надписью «Все в укрытие».
Мередит наблюдала за неразберихой во все глаза, впитывала ее, затем подняла лицо к небу в ожидании вражеских самолетов. Интересно, как они выглядят, что она почувствует, увидев их, сможет ли писать достаточно быстро, чтобы запечатлевать события прямо во время того, как они происходят? Внезапно мама схватила ее за руку и потащила вместе с Ритой в траншейное укрытие в парке. В спешке Мередит выронила записную книжку, на нее наступили, девочка выдернула руку и остановилась подобрать книжку, а мама закричала, что времени нет, ее лицо было белым, почти злым, и Мередит поняла: не миновать ей головомойки, если не чего похуже, однако выбора у нее не было. Она просто не могла расстаться с книжкой. Она побежала обратно, нырнула под ноги толпе напуганных соседей, схватила книжку — потрепанную, но целую — и вернулась к разъяренной матери, лицо которой из белого стало пунцовым, как томатный соус «Хайнц». Когда они добрались до убежища и сообразили, что забыли дома противогазы, прозвучал сигнал отбоя. Мать уложила голову Мередит себе на колени и решила завтра же эвакуировать детей.
— Привет, малышка.
Мередит открыла влажные глаза и увидела в проходе мистера Кэвилла. Ее щеки немедленно вспыхнули, и она улыбнулась, мысленно проклиная пришедший на ум образ Риты, пожирающей глазами Люка Ватсона.
— Можно взглянуть на твою табличку с именем?
Она промокнула под очками и наклонилась ближе, чтобы он мог прочесть картонную табличку на ее шее. Повсюду были люди — смеялись, плакали, кричали, кружились в бесконечном водовороте, — но на мгновение они с мистером Кэвиллом остались одни посреди суеты. Мередит затаила дыхание, сознавая, что ее сердце бьется, точно птица в клетке. Она наблюдала, как его губы произносят написанные на табличке слова — ее имя, — как он улыбается, убедившись, что все правильно.
— Смотрю, у тебя есть чемодан. Твоя мать собрала его по списку? Тебе что-нибудь нужно?
Мередит кивнула и покачала головой. Она покраснела, придумав ответ, который в жизни не посмела бы дать: «Мне нужно, чтобы вы дождались меня, мистер Кэвилл. Дождались, когда я стану чуть старше, лет четырнадцати или пятнадцати, и тогда мы сможем пожениться».
Мистер Кэвилл что-то отметил в своем бумажном бланке и надел на ручку колпачок.
— Нам предстоит долгий путь, Мерри. Тебе есть чем заняться?
— Я захватила записную книжку.
Он засмеялся, потому что именно он подарил ей книжку в награду за успехи на экзаменах.
— Ну конечно. То, что надо. Запиши все прямо сейчас. Все, что видишь, думаешь и чувствуешь. Твой голос принадлежит только тебе, это важно.
Он выдал ей шоколадный батончик, подмигнул и направился дальше по проходу. Она расплылась в улыбке; сердце раздулось в груди, точно дыня.
Записная книжка была самой большой драгоценностью Мередит, ее первым настоящим дневником. Она обладала им уже двенадцать месяцев, но не написала внутри ни единого слова, даже собственного имени. Разве она могла? Мередит так любила изящную книжку, ее гладкую кожаную обложку, идеальные ровные линии на каждой странице и ленточку-закладку, вшитую в переплет, что испортить ее своими каракулями, скучными фразами о скучной жизни казалось поистине святотатством. Она не раз вынимала ее из тайника только для того, чтобы немного посидеть, положив ее на колени и наслаждаясь самим обладанием подобной вещью, а после убирала на место.
По мнению мистера Кэвилла, важно не то, что она пишет, важно — как. «На свете нет двух людей, которые одинаково мыслят или чувствуют, Мерри. Самое главное — писать правдиво. Не сглаживай. Не выбирай выражения попроще. Вместо этого ищи те, которые выразят именно твой опыт и чувства». Потом он спросил, поняла ли она; его темные глаза смотрели так пристально, с таким искренним желанием, чтобы она разделила его взгляды, что она кивнула, и на мгновение словно приоткрылась дверь в мир, который разительно отличался от ее будничного мира…
Мередит пылко вздохнула и покосилась на Риту; та причесывала пальцами свой конский хвостик и делала вид, будто не замечает, как Билли Харрис таращится на нее через проход. Это хорошо; будет гораздо хуже, если Рита догадается о ее чувствах к мистеру Кэвиллу; к счастью, Рита была слишком погружена в свой собственный мир мальчиков и губной помады и не интересовалась чьим-то еще. Мередит рассчитывала на этот факт, планируя вести дневник. (Не настоящий дневник, конечно; в конце концов она пошла на компромисс: набрала разрозненных листков бумаги и сложила их под обложку своей драгоценной записной книжки. Она писала на листах отчеты, обещая себе, что однажды, возможно, осмелится приступить к настоящему дневнику.)
Мередит рискнула еще разок посмотреть на папу. Она была готова отвести глаза, прежде чем он поймает ее взгляд, но, изучая толпу в поисках знакомой громады, сначала бегло, затем с нарастающей в горле паникой, обнаружила, что он исчез. Лица сменились; матери продолжали плакать, одни махали платочками, другие улыбались с мрачной решимостью, а его нигде не было. Там, где он стоял, образовалась брешь. Пока она озиралась, брешь заполнили другие люди, толпа смешалась, и она поняла, что он действительно ушел. Она пропустила его уход.
И хотя Мередит держалась все утро и не позволяла себе грустить, в этот миг она ощутила себя такой несчастной, такой маленькой, напуганной и одинокой, что заплакала. Ее охватило неодолимое чувство, жаркое и влажное, щеки мгновенно намокли. Ужасная мысль, что отец мог все это время стоять — следить, как она изучает свои туфли, беседует с мистером Кэвиллом, размышляет о своей записной книжке — и умолять ее поднять глаза, улыбнуться, помахать на прощание; в конце концов он сдался и отправился домой, полагая, что ей все равно…
— Ой, да заткнись ты, — рявкнула Рита. — Не будь такой плаксой. Господи, да это же весело!
— Моя мама говорит, что нельзя высовываться в окно, может оторвать голову встречным поездом, — вставила подруга Риты Кэрол, такая же всезнайка, как ее мать. — И еще нельзя указывать дорогу. А вдруг это немецкие шпионы ищут Уайтхолл?[35] Между прочим, они убивают детей.
Так что, когда поезд дернулся и тронулся с места, Мередит спрятала лицо в ладонях, позволила себе еще пару раз тихо всхлипнуть и вытерла щеки. Воздух наполнился криками родителей на улице и детей в вагоне, паром, дымом и свистом. Рита смеялась рядом. Поезд покинул вокзал и с лязгом и грохотом покатил по рельсам. Стайка мальчишек, одетых в лучшие воскресные костюмы, хотя был понедельник, бегала по коридору от окна к окну, молотя по стеклам и махая руками, пока мистер Кэвилл не велел им сесть и двери не открывать. Мередит прислонилась к стеклу и вместо того, чтобы смотреть в облепившие насыпь печальные серые лица, которые оплакивали город, теряющий своих детей, с изумлением наблюдала, как огромные серебристые аэростаты медленно поднимаются в воздух и плывут по воле ветра над Лондоном, словно неведомые и прекрасные животные.
Деревня Майлдерхерст, 4 сентября 1939 года
Велосипед собирал паутину в конюшнях почти два десятка лет, и Перси подозревала, что видок у нее еще тот. Волосы стянуты резиновой лентой, юбка подобрана и заткнута между коленями; хотя ее скромность и не пострадала, Перси не питала иллюзий, будто выглядит элегантно.
Она получила предупреждение министерства: существует риск попадания велосипедов в руки врага, однако наладила старого коня. Если в циркулирующих слухах есть хоть доля истины, если правительство действительно планирует трехлетнюю войну, топливо, несомненно, начнут выдавать по талонам, а ей нужно перемещаться с места на место. Велосипед когда-то принадлежал Саффи, очень давно, но теперь он ей ни к чему; Перси откопала его, вытерла пыль и кружила на нем по подъездной дорожке, пока не научилась относительно уверенно держать равновесие. Она не ожидала, что ей так понравится кататься, и теперь удивлялась, почему у нее не было собственного велосипеда в детстве, почему она ждала, пока не станет женщиной средних лет с седеющими волосами, прежде чем открыть для себя это удовольствие. И это действительно было удовольствием, в особенности нынешним чудесным бабьим летом — нестись вдоль живой изгороди и ощущать, как ветерок остужает пылающие щеки.
Перси перевалила через холм и спустилась в очередную ложбину, расплываясь в улыбке. Пейзаж облачался в золото, птицы щебетали на деревьях, и летняя жара еще не покинула воздух. Сентябрь в Кенте! Ей почти удалось поверить, будто вчерашнее объявление ей всего лишь приснилось. Она срезала по Блэкберри-лейн, обогнула озеро и спрыгнула с велосипеда, чтобы провести его по узенькой тропке вдоль ручья. Первую парочку Перси встретила вскоре после того, как нырнула в тоннель: юношу и девушку немногим старше Юнипер, с их плеч свисали одинаковые противогазы. Молодые люди держались за руки и тихо и пылко беседовали, их головы почти соприкасались, они едва ли заметили ее присутствие.
Вскоре в поле зрения появилась вторая парочка, экипированная сходным образом, а за ней и третья. Перси поприветствовала последнюю кивком и тут же пожалела об этом; девушка робко улыбнулась в ответ и оперлась на руку юноши, и они обменялись взглядами, полными такой юной нежности, что щеки Перси вспыхнули, и она немедленно осознала свой промах. Блэкберри-лейн всегда была традиционным местом прогулок влюбленных, даже когда Перси сама была девушкой и, несомненно, задолго до этого. Перси знала это лучше других. Ее собственный роман годами скрывался за строжайшей завесой секретности, в немалой степени потому, что не было ни малейшего шанса когда-либо узаконить его браком.
Она могла поступить проще: выбрать подходящего мужчину, влюбиться в него, позволить открыто ухаживать за собой без риска подвергнуть свою семью насмешкам, но любовь слепа, как Перси поняла по собственному опыту. Любви нет дела до осуждения общества, классовой структуры, пристойности или простого здравого смысла. И как бы Перси ни кичилась своим прагматизмом, устоять перед зовом любви оказалось не проще, чем перестать дышать. И она покорилась, обрекла себя на жизнь, полную брошенных искоса взглядов, тайных писем и редких блаженных свиданий.
Щеки Перси раскраснелись за время прогулки; неудивительно, что она так сопереживала юным любовникам. Она опустила голову и уткнулась в усыпанную листьями землю, не обращая внимания на встречных, пока не добралась до обочины дороги, где села на велосипед и покатила в деревню. По пути она гадала, как стало возможным, что гигантская мясорубка войны пришла в действие, а мир остался таким же прекрасным, птицы по-прежнему поют среди ветвей, цветы растут на полях и сердца влюбленных полны любви.
Мередит впервые захотелось пописать, когда они еще не выехали из серых и закопченных зданий Лондона. Она стиснула ноги и прижала чемодан к коленям, гадая, куда именно они направляются и сколько времени это займет. Она была липкой и усталой и уже съела весь пакет бутербродов с вареньем, приготовленный на обед, так что была не голодна, но страдала от скуки и неуверенности. Мередит точно помнила, что видела, как утром мама засунула в чемодан фунт шоколадного печенья. Девочка отщелкнула замки и приподняла крышку. Заглянула в темное нутро чемодана и запустила в него руки. Конечно, она могла откинуть крышку до конца, но не стоило беспокоить Риту резкими движениями.
Вот пальто, которое мама дошивала вечерами; немного левее — банка сгущенного молока «Карнейшн», которое Мередит строго-настрого наказали подарить хозяевам по прибытии; за ним полдюжины толстых махровых полотенец. Мама засунула их в чемодан и пояснила, заставив Мередит съежиться от смущения: «Не исключено, что ты станешь взрослой девушкой во время эвакуации, Мерри. Рита будет рядом и поможет, но ты должна быть готова». Рита усмехнулась, а Мередит содрогнулась и робко понадеялась, что станет редким биологическим исключением. Она провела пальцами по гладкой обложке блокнота и… вуаля! Под ним оказался бумажный пакет с печеньем. Шоколад немного подтаял, но ей удалось отлепить одну штуку. Отвернувшись от Риты, она принялась обкусывать добычу.
За спиной один из мальчиков затянул знакомый стишок:
Под развесистым каштаном
Чемберлен мне говорит:
Чтоб ходить в противогазе,
В меры ПВО вступи!
Мередит опустила глаза на свой противогаз. Она засунула остатки печенья в рот и смахнула крошки с коробки. Дурацкая штука с кошмарным резиновым запахом, которую так противно отдирать от кожи. Мама взяла с них обещание надевать противогазы во время отъезда, носить их повсюду с собой, и Мередит, Эд и Рита нехотя согласились. Позже Мередит подслушала, как мама признается соседке, миссис Пол, что лучше умереть во время газовой атаки, чем задыхаться в противогазе, и девочка решила «потерять» свой при первой же возможности.
Люди стояли на крохотных задних двориках и махали проносящемуся мимо поезду. Внезапно Рита ущипнула ее за руку.
— Ты что? — пискнула Мередит; она хлопнула себя по больному месту и стала яростно его растирать.
— Все эти милые люди надеются увидеть представление. — Рита дернула головой в сторону окна. — Будь душкой, Мерри, порыдай немного для них.
В конце концов город остался позади, вокруг разлилась зелень. Поезд грохотал по рельсам, время от времени притормаживая на станциях, но все таблички были убраны, так что нельзя было понять, где они едут. Должно быть, Мередит задремала, поскольку поезд внезапно со скрежетом остановился, и она рывком проснулась. Ничего нового за окнами не было, только зеленые купы деревьев на горизонте да редкие птицы, пронзающие ясное синее небо. На одно короткое счастливое мгновение Мередит обрадовалась, что сейчас они развернутся обратно к дому. Что Германия уже признала: с Британией шутки плохи: что война закончилась и эвакуироваться больше не нужно.
Но это было не так. После очередного продолжительного ожидания, во время которого Рой Стэнли умудрился вытошнить в окно еще немного консервированных ананасов, всех вывели из вагона и велели построиться. Каждому вкатили укол, проверили волосы в поисках вшей и снова отправили в вагон, чтобы продолжить путь. Даже не дали сходить в туалет.
После этого в поезде на некоторое время воцарилась тишина; даже малыши чересчур устали для слез. Они ехали и ехали, казалось, не один час, и Мередит начала задумываться, насколько велика Англия, когда же они наконец достигнут утесов, если вообще достигнут. Ей пришло в голову, что все это на самом деле гигантский заговор, что машинист — немец и все это — часть дьявольского плана побега с английскими детьми. Теория была несовершенной, в ее логике зияли пробелы — например, зачем Гитлеру тысячи новых граждан, на которых нельзя положиться даже в отношении сухости постелей, — но к этому времени Мередит слишком устала, слишком хотела писать и была слишком несчастна, чтобы эти пробелы заполнить, так что еще сильнее стиснула ноги и стала считать поля за окном. Поля, поля, поля, за которыми лежало неведомо что и неведомо где.
У каждого дома есть сердце — сердце, которое любит, сердце, которое полнится довольством, сердце, которое разбивается. Сердце Майлдерхерста было больше обычного и билось мощнее. Оно колотилось и замирало, спешило и медлило в маленькой комнатке на вершине башни. Комнатке, в которой прапра… прадед Раймонда Блайта корпел над сонетами в честь королевы Елизаветы; из которой его двоюродная бабка убегала на сладкие свидания с лордом Байроном; кирпичного подоконника которой коснулся башмачок его матери, когда она выбросилась из бойницы навстречу смерти в согретый солнцем ров, а ее последнее стихотворение слетело следом на листке тонкой бумаги.
Стоя у огромного дубового стола, Раймонд набивал трубку свежим табаком. После смерти его младшего брата Тимоти мать заперлась в этой комнате, окутанная черным пламенем печали. Он мельком видел ее у окна, когда спускался в грот, гулял по саду или опушке леса: темный силуэт маленькой аккуратной головки, глядящей на поля и озеро, профиль слоновой кости, безумно похожий на профиль на броши, которую она носила, унаследованной ею от матери, французской графини, с которой Раймонд никогда не встречался. Порой он проводил на улице весь день, носясь между плетями хмеля, взбираясь на крышу амбара в надежде, что мать заметит его, встревожится, велит спуститься. Однако она так и не заметила. Одна лишь няня окликала его на исходе дня.
Но это было давным-давно, и теперь он — глупый старик, заблудившийся среди поблекших воспоминаний. Его мать — всего лишь боготворимая издали поэтесса, вокруг которой начали складываться легенды, как им и положено… шепоток летнего ветра, обещание солнечного света на голой стене… мамочка… Он даже не был уверен, что все еще помнит ее голос.
Ныне комната принадлежала ему, Раймонду Блайту, королю замка. Он был старшим сыном матери, ее наследником и, наравне с ее стихотворениями, величайшим наследством. Полноправным писателем, завоевавшим уважение и даже — это всего лишь констатация факта, уверял он себя, когда страдал от приступа скромности, — немалую славу, в точности как мать до него. Он часто спрашивал себя, догадывалась ли она, когда завещала ему замок и страсть к письменной речи, что он сумеет оправдать ее ожидания? Что однажды он внесет свою лепту в литературную известность семьи?
Больное колено свела внезапная судорога, и Раймонд вцепился в него, вытягивая ногу перед собой, пока напряжение не ослабело. Хромая, он подошел к окну, оперся на подоконник и чиркнул спичкой. День был чертовски приятным. Раймонд посасывал мундштук, раскуривая трубку, и щурился на поля, подъездную дорожку, лужайку, трепещущую массу Кардаркерского леса; бескрайние чащи Майлдерхерста, которые привели его домой из Лондона, которые взывали к нему на французских полях сражения, которые всегда знали его имя.
Что с ними станется, когда он умрет? В честности врача Раймонд не сомневался; он был не глуп, просто стар. И все же невозможно поверить, что в скором времени он больше не будет сидеть у окна и смотреть на поместье, владелец всего, что доступно взору. Что имя семьи Блайт, фамильное наследство умрет вместе с ним. Мысли Раймонда споткнулись; его долгом было избежать этого. Возможно, ему следовало еще раз жениться, попытаться найти женщину, способную родить ему сына. Вопрос наследства в последнее время сильно тревожил его.
Раймонд затянулся трубкой и выпустил клуб дыма, мягко усмехнувшись, как будто находился в обществе старого друга, избитые суждения которого становились утомительными. Развел сантименты, старый осел! Наверное, каждому хочется верить, что без него великие устои обрушатся. По крайней мере, каждому гордецу, такому, как он. Раймонд знал, что должен ступать осторожнее, что погибели предшествует гордость,[36] как предостерегает Библия. Кроме того, он не нуждался в сыне, у него хватало наследников: три дочери, ни одна из которых не стремилась к браку, и еще церковь, его новая церковь. Священник недавно беседовал с ним о вечной награде, ожидающей того, кто сочтет нужным вознаградить католическую братию столь щедрым образом. Проницательный отец Эндрюс догадывался: Раймонду очень пригодится благосклонность небес.
Он набрал полный рот дыма, на мгновение задержал его и выдохнул. Отец Эндрюс объяснил ему причину появления призрака, объяснил, как нужно изгнать преследующего Раймонда демона. Теперь он знал: это наказание за его грех. Его грехи. Раскаяния, исповеди и даже самобичевания было недостаточно; преступление Раймонда было слишком тяжелым.
Но разве мог он передать свой замок чужакам, пусть даже с целью уничтожить гнусного демона? А что же станет с шепотами, далекими часами, плененными в стенах? Мать сказала бы, что замок должен и впредь принадлежать семье Блайт. Разве он сможет ее разочаровать? Особенно когда у него есть такая замечательная и подходящая преемница, Персефона, его старшая и самая надежная дочь. Он наблюдал за ее утренним отъездом на велосипеде, видел, как она остановилась у моста и проверила опоры, совсем как он когда-то показывал ей. Она единственная из них, чья любовь к замку почти сравнялась с его любовью. Счастье, что она не нашла себе мужа и теперь уже точно не найдет. Она стала неотъемлемой принадлежностью замка, подобно статуям вдоль тисовой изгороди; можно быть уверенным, что она никогда не причинит вреда Майлдерхерсту. Более того, Раймонд порой подозревал, что она, как и он, голыми руками задушит любого, кто попытается вынести из замка хотя бы камень.
Внизу раздался шум автомобильного мотора, но прекратился так же быстро, как и начался; хлопнула дверь, тяжелая, металлическая. Раймонд вытянул голову и заглянул за каменный подоконник. То был большой старый «даймлер»; кто-то вывел его из гаража и бросил у начала подъездной дорожки. Внимание Раймонда привлекла мелькающая тень. Бледная фея, его младшая дочь Юнипер, сбежала с крыльца и забралась на водительское сиденье. Раймонд улыбнулся себе под нос, равно от удивления и удовольствия. Пусть она немного чокнутая и невоспитанная, но от того, что это тощее чудаковатое дитя способно вытворять с двадцатью шестью простыми буквами, какие сочетания выстраивать, захватывало дух. Будь он моложе, сгорал бы от зависти…
Снова шум. Ближе. В замке.
Тсс… Слышите?
Раймонд замер, прислушиваясь.
Деревья слышат. Они первыми узнают о его приближении.
Шаги на площадке внизу. Кто-то карабкается все выше и выше. Раймонд положил трубку на плоский камень. Его сердце дрогнуло.
Прислушайтесь! Деревья темного, дремучего леса трясутся и шуршат листвой и шепчут, что скоро начнется.
Он выдохнул как можно размереннее; пора. Слякотник наконец явился в поисках отмщения. Раймонд знал, что рано или поздно это случится.
Однако он не мог убежать из комнаты, ведь демон был на лестнице. Оставалось только окно. Раймонд выглянул за подоконник. Камнем вниз, вслед за матерью.
— Мистер Блайт? — донесся голос с лестницы.
Раймонд приготовился. Слякотник умен, у него в запасе множество трюков. Каждый дюйм кожи Раймонда покрылся мурашками; он изо всех сил прислушивался сквозь собственное неровное дыхание.
— Мистер Блайт? — снова заговорил демон, на этот раз ближе.
Он нырнул за кресло. Скорчился, дрожа. Окончательно струсил. Шаги неумолимо приближались. У двери. По ковру. Ближе, ближе. Он плотно сжал веки, закрыл голову руками. Существо нависло прямо над ним.
— Ах, Раймонд, бедный, бедный хозяин. Идемте; дайте Люси руку. Я принесла вам чудесного супа.
На окраине деревни тополя выстроились по обе стороны Хай-стрит, точно усталые солдаты былых времен. Просвистев мимо, Перси заметила, что они снова в форме, на стволы нанесены свежие белые полосы краски; бордюры тоже покрашены, как и ободья колес многих машин. Долгие споры завершились, и прошлым вечером приказ о затемнении наконец вступил в силу: через полчаса после заката фонари должны быть погашены, автомобильные фары выключены, окна завешены тяжелой черной тканью. Проведав папу, Перси поднялась на вершину башни и посмотрела в сторону Ла-Манша. Пейзаж освещала только луна, и Перси испытала странное чувство, будто перенеслась на сотни лет назад, когда мир был намного более темным местом, когда рыцарские отряды с грохотом пересекали страну, лошадиные копыта барабанили по твердой земле, охранники замка стояли в полной боевой готовности…
Она свернула в сторону, поскольку старый мистер Дональдсон ехал по улице прямо на нее, крепко сжав руль и растопырив локти. Его лицо кривилось в гримасе, подслеповатые глаза щурились на дорогу сквозь стекла очков. Он просиял, когда разглядел Перси, помахал ей рукой и прижался к обочине. Виляя, Перси вернулась с безопасного газона, с некоторым беспокойством следя за продвижением мистера Дональдсона, покуда тот зигзагами ехал к своему дому на Белл-Коттедж. Каково ему придется с наступлением ночи? Она вздохнула; к дьяволу бомбы — местных жителей скорей погубит темнота.
Случайному наблюдателю, не знающему о вчерашнем объявлении, могло показаться, что в сердце деревни Майлдерхерст ничего не изменилось. Люди по-прежнему занимались своими делами, покупали продукты, собирались небольшими стайками у здания почты, но Перси было виднее. Никто не причитал и не скрежетал зубами, все было намного тоньше и оттого, возможно, печальнее. Свидетельством надвигающейся войны была задумчивость стариков, тени на их лицах — не страха, но горя. Ведь они пережили прошлую войну и помнили поколение молодых мужчин, которые с такой готовностью отправились на фронт и не вернулись. Другие же, подобно папе, вернулись, но оставили во Франции часть себя и так и не сумели стать прежними. Порой на них находило, и тогда их глаза затуманивались, губы белели, а рассудок пасовал перед образами и звуками, которых они не могли забыть, как ни желали.
Вчера днем Перси и Саффи вместе слушали объявление премьер-министра Чемберлена по радио и погрузились в глубокую задумчивость во время государственного гимна.
— Мы должны ему рассказать, — наконец произнесла Саффи.
— Да, наверное.
— Займешься этим?
— Да, конечно.
— Выберешь подходящий момент? Поможешь ему справиться?
— Да.
Много недель они откладывали беседу с отцом о возможной войне. Последний приступ бреда еще больше разорвал ткань, которая соединяла его с реальностью, и теперь он метался из крайности в крайность, точно маятник напольных часов. То казался совершенно здравомыслящим, разумно рассуждал с Перси о замке, истории и великих литературных творениях; то прятался между стульями, рыдая от страха перед воображаемыми призраками или хихикая, как нахальный мальчишка, и предлагая Перси побарахтаться с ним в ручье, ведь он знает самое лучшее место для сбора лягушачьей икры и покажет его, если она умеет хранить секреты.
Летом перед началом Первой мировой войны, когда им с Саффи было восемь, они помогали папе переводить поэму «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь».[37] Отец читал оригинальные строки на среднеанглийском языке, и Перси жмурилась, когда ее окружали волшебные звуки и древний шепот.
«Гавейн чувствовал etaynes that hym anelede, — говорил папа. — Великаны дышали ему в спину, Персефона. Знаешь, каково это? Слышала ли ты голоса своих предков, исходящие из стен?» Она кивала, плотнее сворачивалась клубком рядом с ним и закрывала глаза, а он продолжал…
Когда-то жизнь была такой простой, и ее любовь к отцу тоже простой. Он был семи футов ростом и отлит из стали, и она сделала и подумала бы что угодно, лишь бы заслужить его одобрение. Но с тех пор случилось так много, и Перси с трудом выносила вид его старого лица, кривящегося в пылких гримасах детства. Она никому бы не призналась в этом, особенно Саффи, но старалась не смотреть на папу, когда тот находился в очередной «регрессивной фазе», по выражению доктора. Все дело в прошлом. Оно не оставляло ее в покое. Ностальгия угрожала сковать ее по рукам и ногам. Смешно, ведь Перси Блайт отнюдь не была сентиментальной.
В плену незваной меланхолии она преодолела последний короткий отрезок пути до церковного клуба и прислонила велосипед к деревянному фасаду здания, стараясь не помять клумбу приходского священника.
— Доброе утро, мисс Блайт.
Перси улыбнулась миссис Коллинз. Славная старушка, которая благодаря некому непостижимому искривлению времени казалась дряхлой развалиной уже по меньшей мере лет тридцать, держала на плече сумочку с вязанием и судорожно сжимала в руках только что испеченный бисквит «Виктория».
— Ах, мисс Блайт! — Она горестно встряхнула редкими серебристыми кудряшками. — Кто бы мог подумать, что до этого дойдет! Еще одна война!
— Я надеялась, что не дойдет, миссис Коллинз, правда надеялась. Но не могу сказать, что удивлена — такова уж человеческая природа.
— Но еще одна война! — Кудряшки снова задрожали. — Несчастные молоденькие мальчики!
Миссис Коллинз потеряла обоих сыновей на Первой мировой, и хотя у Перси не было детей, она знала, каково сгорать от любви. Она с улыбкой забрала бисквит из дрожащих рук своей старой приятельницы и взяла миссис Коллинз под руку.
— Идемте, моя дорогая. Поищем себе место.
Члены Женской добровольной службы решили собраться для шитья в церковном клубе, после того как некоторые громогласные члены общины объявили более просторный сельский клуб с его широкими деревянными полами и отсутствием украшений намного более подходящим местом для сортировки эвакуированных. Однако когда Перси оглядела толпу энергичных женщин, сгрудившихся вокруг составленных столов — настраивающих швейные машинки, раскатывающих огромные рулоны ткани, из которых собирались мастерить одежду и одеяла для эвакуированных, бинты и тампоны для госпиталей, — то решила, что это был глупый выбор. А еще она задумалась, сколь многие из этих женщин перестанут ходить на собрания, когда схлынет первое возбуждение, и тут же укорила себя за немилосердный цинизм. Да и за лицемерие стоило бы, ведь Перси первой откланяется, как только найдется другой способ внести вклад в борьбу с врагом. Она не умела управляться с иглой и пришла сегодня только потому, что, если все остальные должны делать, что могут, обязанность дочерей Раймонда Блайта — постараться сделать даже то, что невозможно.
Она помогла миссис Коллинз сесть за вязальный стол, беседа за которым, как и следовало ожидать, велась о сыновьях, братьях и племянниках, собирающихся на фронт; затем отнесла бисквит «Виктория» на кухню, старательно избегая миссис Каравэй, упрямое выражение лица которой, как обычно, предвещало особенно противное задание.
— Так-так, мисс Блайт. — Миссис Поттс, супруга почтмейстера, потянулась к приношению и подняла его повыше для осмотра. — Надо же, как хорошо поднялся.
— Пирог испекла миссис Коллинз. Я всего лишь доставщик.
Перси попыталась смыться, но миссис Поттс, мастер разговорных ловушек, накинула сеть слишком быстро.
— Нам не хватало вас на учениях мер ПВО в пятницу.
— У меня были другие дела.
— Очень жаль. Мистер Поттс не устает повторять, что из вас получается чудесная жертва.
— Как мило с его стороны.
— И никто не орудует ручным насосом с такой энергией, как вы.
Перси вяло улыбнулась. Лесть никогда еще не была так утомительна.
— Кстати, а как поживает ваш отец?
Вопрос был окутан толстым слоем жадного сострадания, и Перси поборола желание размазать чудесный бисквит миссис Коллинз прямо по лицу почтмейстерши.
— Его дела как будто плохи? — добавила та.
— Так, как и прогнозировалось, миссис Поттс. Спасибо, что спросили.
Перед мысленным взором Перси возник образ отца пару вечеров назад. Он бегал по коридору в одной ночной рубашке, прятался за лестницей и плакал, как напуганный ребенок, твердя, что башня населена призраками, что Слякотник идет за ним. Вызвали доктора Брэдбери, тот оставил более сильное лекарство, чем раньше, но папа все равно дрожал несколько часов подряд, сражаясь с лекарством всеми силами, прежде чем забылся мертвым сном.
— Настоящий столп общества. — Миссис Поттс подпустила в голос нотку горестной дрожи. — Просто ужас, когда здоровье таких людей пошатывается. К счастью, он переложил свои благотворительные обязанности на ваши плечи. Это особенно важно теперь, когда нация в опасности. В смутные времена местные жители всегда устремляли взоры к замку.
— Вы очень любезны, миссис Поттс. Мы все стараемся, как можем.
— Надеюсь, мы увидим вас сегодня в сельском клубе? Вы поможете комитету по эвакуации?
— Да.
— Я уже была там сегодня утром, раздавала указания насчет банок со сгущенным молоком и отварной солониной; мы пошлем с детьми по одной банке каждого вида. Это немного, но ничего другого предложить мы не можем, ведь власти нам почти не помогают. А в трудную пору любая мелочь пригодится. Говорят, вы тоже собираетесь взять ребенка? Очень благородно с вашей стороны: разумеется, мы с мистером Поттсом обсуждали этот вопрос, и, знаете, я искренне люблю помогать, но аллергия моего бедного Седрика… — Как бы извиняясь, она вздернула плечи к небу. — В общем, он бы этого не вынес. — Миссис Поттс наклонилась ближе и постучала себя по кончику носа. — Хочу предупредить на всякий случай: у обитателей Ист-Энда совсем другие стандарты, чем у нас. Советую запастись порошком Китинга[38] и качественным дезинфицирующим средством, прежде чем впустить кого-либо в замок.
И хотя Перси питала свои собственные мрачные предчувствия насчет личности их будущего жильца, предложение миссис Поттс было настолько отвратительным, что она достала из сумки пачку сигарет и прикурила, лишь бы не отвечать.
Однако миссис Поттс продолжила как ни в чем не бывало:
— Полагаю, вы уже слышали другую потрясающую новость?
Перси переступила с ноги на ногу, отчаянно мечтая найти себе другое занятие.
— И какую же, миссис Поттс?
— Ой, да вы в замке все знаете. У вас должно быть намного больше подробностей, чем у нас.
Как и следовало ожидать, в этот миг повисла пауза, и все повернулись к Перси. Она постаралась не обращать внимания.
— Подробностей чего, миссис Поттс? — От раздражения ее позвоночник вытянулся на добрый дюйм. — Понятия не имею, о чем речь.
— Да неужели? — Глаза сплетницы широко распахнулись, и все ее лицо просияло от осознания того, что она может исполнить коронный номер перед неискушенной публикой. — О Люси Миддлтон, разумеется.
Замок Майлдерхерст, 4 сентября 1939 года
Очевидно, существовал секрет, как намазать полоску ткани клеем и не перепачкать стекло. Жизнерадостная особа из иллюстрированного руководства, похоже, без малейших проблем укрепляла свои окна; более того, она в целом выглядела намного свежее: тонкая талия, аккуратная прическа, кроткая улыбка. Несомненно, она справится с бомбами, когда те начнут падать. Саффи, напротив, пребывала в замешательстве. Она начала работу над окнами еще в июле, когда брошюры только прибыли, но, несмотря на мудрый совет в министерской брошюре номер два — «Не тяните до последнего!» — позволяла себе отлынивать, когда казалось, что войны еще удастся избежать. Однако после ужасного объявления мистера Чемберлена она собрала волю в кулак. Тридцать два окна заклеены крест-накрест, осталось всего сто. И почему бы не использовать простую клейкую ленту?
Она прилепила последний угол ткани, слезла со стула и отступила оценить дело своих рук. О боже; она чуть наклонила голову и нахмурилась при виде перекошенного креста. Сойдет, но шедевром не назовешь.
— Браво! — Люси вошла в дверь с подносом чая. — Цель отмечена крестом, кажется, так говорят?
— Искренне надеюсь, что нет. Надо предупредить мистера Гитлера: Перси ему покажет, если его бомбы хотя бы поцарапают замок. — Саффи схватила полотенце липкими руками. — Боюсь, клей затаил на меня злобу; не представляю, чем я обидела его, но это, несомненно, так.
— Клей с характером. Весьма пугающе!
— Если бы только он! Бомбы — это пустяки; после этих окон мне придется лечить нервы.
— Знаете что… — Люси разливала чай и завершила фразу только после того, как наполнила вторую чашку: — Я уже отнесла обед вашему отцу; может, помочь вам здесь?
— Люси, милая, вы серьезно? Какая вы умница! Я сейчас зарыдаю от благодарности.
— Это ни к чему. — Люси постаралась не расплыться в радостной улыбке. — Я только что закончила со своим собственным домом и обнаружила, что научилась управляться с клеем. Давайте вы будете резать, а я мазать?
— Замечательно!
Саффи швырнула полотенце обратно на стул. Ее руки все еще были липкими, но ничего, жить можно. Когда Люси протянула ей чашку, она с благодарностью приняла. Мгновение женщины стояли в тишине, полной дружеской приязни, наслаждаясь первым глотком чая. Это стало своего рода привычкой — пить чай вдвоем. Никакой роскоши; они не прекращали рутинные заботы и не доставали лучшее серебро; просто умудрялись найти себе общее дело в нужное время дня. Саффи подозревала, что Перси пришла бы в ужас: метала бы громы и молнии, поджимала губы и твердила нечто вроде «Это неприлично» и «Нельзя забывать о своем положении». Но Саффи нравилась Люси — в известной степени они были подругами, — так что она не видела вреда в чашечке чая. Кроме того, раз Перси не знает, то ей и не повредит.
— А вот скажите, Люси. — Она нарушила паузу и тем самым дала знак, что пора вернуться к работе. — Как дела у вас дома?
— Очень хорошо, мисс Саффи.
— Вам не слишком одиноко?
Испокон веков Люси с матерью жили в маленьком домике на окраине деревни. Саффи оставалось только догадываться, какую брешь пробила смерть старой женщины.
— Мне есть чем заняться.
Пристроив чашку на подоконник, Люси провела намазанной клеем кистью по диагонали стекла. На мгновение Саффи показалось, что на лице экономки мелькнула печаль, как если бы она собиралась поделиться неким более глубоким чувством, но передумала.
— Что случилось, Люси?
— Нет-нет, ничего. — Экономка помедлила. — Конечно, я скучаю по матери…
— Конечно.
Люси была сдержанной (даже чересчур, по мнению Саффи, когда ее обуревал приступ любопытства), но за минувшие годы Саффи узнала достаточно и понимала: с миссис Миддлтон приходилось нелегко.
— Но? — настаивала Саффи.
— Но мне неплохо живется одной, — отозвалась Люси и покосилась на хозяйку. — Это звучит не слишком ужасно?
— Вовсе нет, — улыбнулась Саффи.
Если честно, она считала, что это звучит прекрасно. Она начала воображать свою собственную лондонскую квартирку мечты, но вовремя остановилась. Глупо отвлекаться в день, когда полно рутинных забот. Она села на пол и принялась нарезать ткань полосками.
— Наверху все в порядке, Люси?
— Комната выглядит прелестно; я проветрила ее и сменила белье. Это ничего, что я убрала китайскую вазу вашей бабушки? — Экономка разгладила кусок ткани. — Не представляю, как я проглядела ее на прошлой неделе, когда мы упаковывали и убирали на хранение дорогие предметы. Теперь она в полной безопасности в архивной, вместе с остальными вещами.
— О! — Глаза Саффи расширились, изучая лицо Люси. — Вам не кажется, что мы становимся довольно гадкими? Все мысли у нас только о разрушениях да о катастрофах.
— Отнюдь. Я просто решила, что береженого бог бережет.
— Верно, — кивнула Саффи, когда экономка взяла новый лоскут ткани. — Очень мудро, Люси, и, конечно, вы правы. Мне следовало додуматься самой. Перси будет довольна. — Она вздохнула. — И все же, по-моему, мы должны поставить небольшой букет свежих цветов на прикроватный столик. Поднять настроение бедной малютке. Может, возьмем стеклянную вазу из кухни?
— Это другое дело. Поискать?
В знак согласия Саффи улыбнулась, но тут же представила приезд ребенка, и ее улыбка увяла. Она покачала головой.
— Разве это не ужасно, Люси?
— Поверьте, никто не ожидает, что вы выставите лучший хрусталь.
— Нет, я имею в виду все в целом. Само положение. Толпа напуганных детишек, их бедные матери в Лондоне, которым пришлось улыбаться и махать руками, глядя, как их кровиночки исчезают в никуда. И ради чего? Чтобы очистить сцену для войны? Чтобы молодые мужчины убивали других молодых мужчин вдали от дома?
Экономка повернулась и взглянула на Саффи с удивлением и капелькой беспокойства.
— Вам не следует так расстраиваться.
— Я знаю, знаю. Не буду.
— Мы должны поддерживать боевой дух на высоте.
— Конечно.
— Слава богу, что есть такие люди, как вы, готовые принять несчастных бедняжек. Когда ребенок должен прибыть?
Отставив пустую чашку, Саффи снова взялась за ножницы.
— По словам Перси, автобусы приедут между тремя и шестью дня; точнее ей неизвестно.
— То есть выбор сделает она?
Голос Люси слегка дрогнул, и Саффи поняла почему: Перси, по мнению экономки, не самый подходящий судья в вопросах материнства.
Люси переставила стул к соседнему окну, и Саффи перебралась поближе, чтобы его поддержать.
— Иначе мне не удавалось ее уговорить… Вы же знаете, как она печется о замке; ей мерещился ужасный сорвиголова, отламывающий завитушки от перил, рисующий на обоях, поджигающий занавески. Мне пришлось не раз ей напомнить, что эти стены простояли сотни лет и пережили нашествие норманнов, кельтов и Юнипер. Один-единственный ребенок из Лондона уже ничего не изменит.
Люси засмеялась.
— Кстати, о мисс Юнипер: она вернется к обеду? Кажется, я видела, как она уехала на машине вашего отца.
Саффи помахала ножницами в воздухе.
— Мне известно не больше вашего. В последний раз я выяснила, что у Юнипер на уме, когда… — Она на мгновение задумалась, подперев подбородок костяшками пальцев, и театрально всплеснула руками. — Что-то никак не припомню.
— У мисс Юнипер хватает талантов, но предсказуемость среди них не числится.
— Да, — ласково улыбнулась Саффи. — Талантов у нее хватает.
Помедлив, Люси слезла на пол и провела тонкими пальцами по лбу. Забавное старомодное движение, как будто придворная дама размышляет, не упасть ли в обморок; Саффи развеселилась и прикинула, не включить ли эту милую привычку в свой роман, — именно так могла поступать Адель, волнуясь из-за мужчины…
— Мисс Саффи?
— Ммм?
— У меня к вам серьезный разговор.
Люси выдохнула, но не продолжила, и на одно ужасное жаркое мгновение у Саффи вспыхнуло подозрение, что экономка больна. Возможно, у нее плохие вести от доктора; это объяснило бы молчаливость Люси и, если вспомнить, ее рассеянность в последнее время. За примерами не надо далеко ходить: на днях Саффи заглянула на кухню и увидела, как Люси невидяще смотрит сквозь заднюю дверь на огород и на горизонт, покуда яйца для папы варятся вкрутую, хотя он предпочитает всмятку.
— В чем дело, Люси? — Саффи встала, жестом приглашая Люси в зону отдыха. — Все хорошо? Вы неважно выглядите. Принести воды?
Экономка покачала головой, поискала взглядом, на что опереться, и выбрала спинку ближайшего кресла.
Саффи ждала на кушетке; и когда новость Люси наконец взорвала воздух, она порадовалась, что сидит, а не стоит.
— Я выхожу замуж, — сообщила Люси. — В смысле, мне сделали предложение, и я согласилась.
На мгновение Саффи показалось, что экономка бредит или, по крайней мере, разыгрывает ее. Бессмыслица какая-то: Люси, милая надежная Люси, которая за долгие годы работы в Майлдерхерсте ни разу даже не упоминала о друге мужского пола, не говоря уже об ухажере, собирается замуж? Сейчас, точно гром среди ясного неба, в ее возрасте? Да она на несколько лет старше Саффи, ей должно быть уже под сорок.
Люси переступила с ноги на ногу, между ними воцарилась тяжелая тишина, и Саффи осознала, что теперь ее очередь. На языке вертелись несколько слов, но она была не в силах их произнести.
— Я выхожу замуж, — повторила Люси, на этот раз более медленно и с некоторой осторожностью, которая позволяла предположить, что она и сама еще не свыклась с этой мыслью.
— Ах, Люси, какая чудесная новость! — Саффи внезапно прорвало. — И кто же этот счастливчик? Где вы познакомились?
— Вообще-то, — покраснела Люси, — мы познакомились здесь, в Майлдерхерсте.
— Неужели?
— Это Гарри Роджерс. Я выхожу за Гарри Роджерса. Он сделал мне предложение, и я согласилась.
Гарри Роджерс. Имя казалось смутно знакомым; Саффи была уверена, что ей известен упомянутый джентльмен, но она никак не могла вспомнить его лица. Надо же, как неловко! Она ощутила, что краснеет, и прикрыла замешательство широкой улыбкой, в надежде, что это убедит Люси в радости хозяйки.
— Конечно, мы знаем друг друга много лет, ведь он так часто навещал замок, но встречаться начали всего пару месяцев назад. Весной, сразу после того, как забарахлили напольные часы.
Гарри Роджерс. Неужели это маленький заросший часовщик? Но он не был ни красив, ни галантен, ни, насколько Саффи могла судить, хотя бы отдаленно остроумен. Он был самым обыкновенным человеком, которого интересовали только беседы с Перси о состоянии замка и механизмах часов. Как казалось Саффи, он был довольно любезным, и Перси всегда отзывалась о нем с теплотой (пока Саффи в шутку не попросила сестру вести себя поосторожнее, не то он влюбится в нее); тем не менее он ничуть не подходил Люси с ее хорошеньким личиком и жизнерадостным смехом.
— Но как это случилось?
Вопрос вылетел так быстро, что Саффи не успела его удержать. Люси, по-видимому, не обиделась и ответила откровенно — немного поспешно, как показалось Саффи, словно ей самой нужно было услышать ответ, чтобы понять, как такое могло произойти.
— Он приходил проверить часы, а я закончила работу пораньше, потому что мать плохо себя чувствовала, и мы случайно столкнулись по дороге к двери. Он предложил подвезти меня домой, и я согласилась. Мы подружились, а потом, когда мать умерла… Ну, он был очень внимателен. Настоящий джентльмен.
Повисла пауза, за пологом которой обе женщины мысленно проигрывали этот сценарий в весьма различных подробностях. Саффи испытывала не только удивление, но и любопытство. Вероятно, в ней пробудилась писательница; ей не терпелось выяснить, что обсуждали эти двое в небольшом автомобильчике мистера Роджерса; как именно простая любезность расцвела в любовную связь.
— И вы счастливы?
— О да, — улыбнулась Люси. — Да, я счастлива.
— Что ж. — Саффи заставила себя улыбнуться. — Тогда я очень счастлива за вас. Непременно приведите его на чашечку чая. Устроим скромный праздник.
— О нет, — покачала головой Люси. — Нет. Вы очень добры, мисс Саффи, но, мне кажется, лучше не стоит.
— Почему же? — удивилась Саффи и в тот же миг прекрасно поняла почему и испытала прилив смущения, что повела себя так неосторожно.
Люси была слишком правильной, чтобы обрадоваться обеду со своими хозяевами, в особенности с Перси.
— Мы бы не желали поднимать шум, — пояснила экономка. — Мы оба немолоды. Долгой помолвки не будет; ждать нечего, ведь на дворе война.
— Но ведь Гарри в его возрасте, конечно, не отправится…
— О нет, ничего такого. Но он будет исполнять свой долг в отряде мистера Поттса. Знаете, он был на первой войне, сражался в битве при Пашендейле. Вместе с моим братом… вместе с Майклом.
На лице Люси появилось непривычное выражение — вариант гордости, догадалась Саффи, робкого удовольствия, пронизанного смущением. Разумеется, все дело в новизне, недавней перемене обстоятельств. Люси пока не свыклась с положением женщины, которая выходит замуж, которая является частью пары, у которой есть партнер-мужчина и которая сияет его отраженной славой. Саффи приятно было на нее смотреть; она не знала человека, заслуживающего счастья больше, чем Люси.
— Что ж, звучит весьма разумно, — похвалила она. — И вы, конечно, возьмете несколько выходных перед свадьбой и после. Возможно, я смогу…
— Вообще-то… — Люси поджала губы и уставилась в пространство над левым плечом Саффи. — Именно об этом я и должна с вами поговорить.
— Вот как?
— Да, — улыбнулась Люси, но не легко и счастливо, улыбка сразу увяла, оставив вместо себя только легкий вздох. — Видите ли, это довольно неловко, но Гарри хотел бы… то есть он считает, что, когда мы поженимся, мне лучше сидеть дома, вести хозяйство и вносить свой вклад в дело фронта. — Возможно, Люси так же, как и Саффи, остро ощутила, что этого объяснения недостаточно, и быстро добавила: — И на тот случай, если Господь благословит нас детьми.
И тогда у Саффи словно пелена с глаз упала. То, что было размытым, стало резким и четким: Люси любит Гарри Роджерса не больше, чем Саффи, просто она хочет ребенка. Удивительно, что Саффи сразу не сообразила; теперь, когда все прояснилось, это казалось таким простым. Если честно, причиной замужества экономки не могло быть что-то иное. Гарри дал Люси единственный, последний шанс; какая женщина на ее месте приняла бы другое решение? Саффи потеребила свой медальон, провела большим пальцем по замочку и испытала прилив сопереживания Люси, сестринской любви и солидарности, такой сильный, что ее охватило внезапное желание все высказать экономке, признаться, что она, Саффи, как никто понимает ее чувства.
Она открыла рот, собираясь это сделать, но не нашла слов. Тогда она чуть улыбнулась, моргнула и с изумлением ощутила, что к глазам подступила волна жарких слез. Люси тем временем отвернулась, что-то ища в карманах, и Саффи, пытаясь собраться с силами, украдкой взглянула в окно, где единственная черная птица парила в невидимом потоке теплого воздуха.
Она снова моргнула, и все подернуло дымкой. До чего глупо плакать! Конечно, виноваты война, неуверенность и осточертевшие, ненавистные окна!
— Я тоже буду скучать по вам, мисс Саффи. По всем вам. Я больше половины жизни провела в Майлдерхерсте; всегда считала, что окончу свои дни здесь. — Люси немного помедлила. — Это не слишком ужасно звучит?
— На редкость ужасно.
Саффи улыбнулась сквозь слезы и снова дотронулась до медальона. Она будет безмерно скучать по Люси, но это не единственная причина ее слез. Она больше не открывала медальон; ей не нужна была фотография, чтобы увидеть его лицо. Лицо юноши, которого она любила и который любил ее. Будущее простиралось впереди, и все было возможно; все, что угодно. Пока ее не лишили всего…
Но Люси ничего об этом не знала, а если и знала, если за долгие годы соткала разрозненные ниточки в печальную картину, она была достаточно благовоспитанной, чтобы никогда об этом не упоминать. Даже сейчас.
— Свадьба назначена на апрель, — тихо сообщила она, протягивая Саффи конверт, который достала из кармана.
«Просьба об увольнении», — догадалась Саффи.
— Мы поженимся весной. В деревенской церкви, как можно скромнее. Никакой шумихи. Я с радостью останусь у вас до тех пор, но пойму, если… — В глазах экономки блеснули слезы. — Простите, мисс Саффи, что не поставила вас в известность заранее. Особенно в такое время, когда прислугу почти не найти.
— Чепуха, — отмахнулась Саффи и поежилась, внезапно осознав, что сквозняк холодит ее влажные щеки. Она достала платок, промокнула слезы, испачкав ткань пудрой, и воскликнула в притворном ужасе: — О господи! Ну и видок у меня, наверное. — Она улыбнулась Люси. — Все, хватит извинений. Вы не передумаете, а плакать вам точно не стоит. Любовь — это праздник, а не горе.
— Да, — кивнула Люси, ничуть не похожая на влюбленную женщину. — Что ж, тогда прощайте.
— Прощайте.
— Мне пора.
— Да.
Саффи не курила, терпеть не могла запах и вкус табака, но в тот миг пожалела об этом. Хорошо бы занять чем-то руки. Она сглотнула, чуть выпрямилась и собралась с духом — она часто черпала силы, представляя себя Перси…
О боже. Перси.
— Люси?
Экономка, собиравшая пустые чашки, обернулась.
— А как же Перси? Она знает о Гарри? Знает, что вы покидаете нас?
Люси побледнела и покачала головой.
В желудке Саффи вспыхнул тревожный пожар.
— Возможно, мне следует?..
— Нет, — отрезала Люси со слабой, но отважной улыбкой. — Нет. Это мой долг.
Перси не пошла домой. Не пошла она и в сельский клуб, чтобы помочь с распределением консервированной солонины. Позже Саффи обвинит ее в том, что она нарочно не забрала эвакуированного ребенка, что она никогда и не хотела его брать. Однако, хотя в этом последнем обвинении была доля правды, отсутствие Перси в клубе не имело отношения к Саффи, а только к сплетням миссис Поттс. Кроме того, как она напомнила сестре-близнецу, все закончилось хорошо: Юнипер, непредсказуемая, обожаемая Юнипер, случайно заглянула в деревню и забрала Мередит в замок. Тем временем Перси, в некоем оцепенении покинув собрание Женской добровольной службы, забыла о своем велосипеде и отправилась по Хай-стрит пешком, уверенной поступью, высоко подняв голову. Для всего мира она казалась человеком, имеющим в кармане список из сотни дел, которые необходимо выполнить к ужину. Никто бы не догадался, что она — ходячая рана, призрачное эхо былой Перси. Она сама не поняла, как забрела в парикмахерскую, но онемевшие ноги привели ее именно туда.
Волосы Перси всегда были длинными и светлыми, хотя и не такими длинными, как у Юнипер, и не такими золотистыми, как у Саффи. Перси не слишком переживала на этот счет; ей было наплевать на свое главное украшение. Пока Саффи отращивала волосы, поскольку была тщеславна, а Юнипер не подстригала свои, поскольку тщеславна не была, Перси сохраняла их длинными просто потому, что так нравилось папе. Он считал, что девушки должны быть хорошенькими, а его дочерям в особенности следует обладать длинными светлыми волосами, волнами ниспадающими на спину.
Перси вздрагивала, пока парикмахерша мочила и расчесывала ее волосы, отчего они стали тусклыми и прилизанными. Металлические лезвия невозмутимо зашелестели у нее на затылке; первый локон упал на пол и остался лежать неподвижно и мертво. Перси ощутила легкость.
Парикмахерша была шокирована просьбой Перси и несколько раз уточнила, уверена ли она.
— Но ваши кудри такие прелестные, — печально произнесла она. — Вы правда хотите их отрезать?
— Правда.
— Но вы же себя не узнаете!
«Не узнаю», — подумала Перси, и эта мысль ее обрадовала. Сидя в кресле, все еще в тумане, Перси посмотрела на свое отражение в зеркале и застигла себя врасплох. Зрелище ее встревожило. Стареющая женщина накручивает на ночь волосы на лоскутки с целью получить девические кудри, в которых ей отказано природой! Подобная тщета годится разве что для романтичной Саффи, которая до сих пор не готова отказаться от былых мечтаний и признать, что рыцарь в сияющих доспехах не явится, что она навсегда останется в Майлдерхерсте; но для Перси она попросту смехотворна. Для Перси-прагматика, Перси-педанта, Перси-хранительницы.
Ей следовало отрезать волосы много лет назад. Новая прическа была аккуратной и лаконичной, и хотя лучше выглядеть она не стала, ей было достаточно того, что выглядит она по-другому. С каждым щелчком ножниц что-то внутри ее освобождалось от старой идеи, за которую она невольно цеплялась, и когда наконец молоденькая парикмахерша отложила ножницы и несколько наивно спросила: «Ну вот, дорогуша. Разве не хорошо?» — Перси проигнорировала раздражающую снисходительность в ее голосе и с некоторым удивлением согласилась, что да, несомненно, хорошо.
Мередит ждала уже много часов, сначала стоя, потом сидя, затем сгорбившись на деревянном полу сельского клуба Майлдерхерста. Время еле тянулось, поток фермеров и местных леди окончательно иссяк, за окнами повисла темнота, и Мередит задумалась, какая ужасная судьба ее ждет, если ее вообще не выберут, если она никому не понравится. Неужели следующие несколько недель она проведет здесь, одна-одинешенька, в пронизанном сквозняками клубе? От одной только мысли об этом стекла ее очков запотели, и все вокруг стало размытым.
И тут вошла она. Ворвалась в клуб, будто ослепительный ангел, персонаж придуманной истории, и подняла Мередит с холодного твердого пола. Словно откуда-то знала, благодаря некой магии или шестому чувству — чему-то, что науке еще предстоит открыть, — что в ней нуждаются.
Ее появление ускользнуло от Мередит, которая старательно протирала стекла очков подолом юбки, но девочка ощутила, как воздух словно заискрил; среди щебечущих женщин воцарилась неестественная тишина.
— О, мисс Юнипер, — сказала одна из них, пока Мередит неловко возвращала очки на нос и моргала, уставившись на стол с напитками. — Какая неожиданность! Чем мы можем помочь? Вы случайно не мисс Блайт ищете? Так странно, но мы не видели ее с середины дня…
Девушка, которую, по-видимому, звали мисс Юнипер, оборвала женщину взмахом руки и сообщила:
— Хочу забрать своего эвакуированного. Не утруждайте себя. Я вижу ее.
Она прошла мимо детей в переднем ряду, и Мередит еще несколько раз моргнула, взглянула через плечо и поняла, что позади никого не осталось. Она обернулась как раз вовремя, чтобы обнаружить, что восхитительная особа стоит прямо над ней.
— Готова? — спросила незнакомка, небрежно, легко, будто они были старыми подругами и все это планировалось заранее.
Позже, после того как Перси умудрилась потерять несколько часов у ручья — сидела, скрестив ноги, на гладком обкатанном камне и пускала кораблики из всего, что попадалось под руку, — она вернулась к церковному клубу забрать велосипед. За чудесным теплым днем наступил прохладный вечер, и когда Перси поехала к замку, сумерки уже укрыли холмы.
От отчаяния мысли Перси путались, и она пыталась в них разобраться, давя на педали. Помолвка была катастрофой сама по себе, но глубже всего ее задела двуличность. Все это время — ведь предложению должен был предшествовать период ухаживаний — Гарри и Люси украдкой встречались у нее за спиной, миловались у нее под носом, как если бы она была для них никем, ни возлюбленной, ни хозяйкой. Предательство жгло ее грудь раскаленным железом; ей хотелось кричать, раздирать себе лицо, и ему и ей тоже, царапать и бить их обоих за то, что они ранили ее. Вопить, пока не сядет голос, принимать удары, пока не притупится боль, закрыть глаза и никогда больше не открывать.
Но она ничего подобного не сделает. Перси Блайт так себя не ведет.
Темнота за верхушками деревьев затягивала синевой далекие поля; стая черных птиц вспорхнула и полетела в сторону Ла-Манша. Бледный контур луны, еще не сияющий, безжизненно висел в тени. Перси лениво подумала, не прилетят ли сегодня бомбардировщики.
С коротким вздохом она коснулась рукой непривычно обнаженной кожи на задней стороне шеи; затем, когда дыхание вечера мазнуло ее по лицу, быстрее надавила на педали. Гарри и Люси поженятся, никакие слова или поступки Перси этого не изменят. Слезы не помогут, как и упреки. Что сделано, то сделано. Перси остается лишь составить новый план и следовать ему. Исполнять свой долг, как всегда.
Достигнув наконец ворот Майлдерхерста, она преодолела шаткий мостик и спрыгнула с велосипеда. Хотя Перси почти весь день просидела, она ощущала странную усталость. Усталость до кончиков пальцев. Ее кости, глаза и руки стали рыхлыми, как будто слепленными из песка. Она была словно резиновый жгут, который закрутили слишком сильно, а потом раскрутили, и теперь он болтается, растянутый и потрепанный, вялый и бесформенный. Перси пошарила в сумке и отыскала сигарету.
Она прошла последнюю милю, толкая велосипед и куря, и остановилась, лишь завидев замок. Почти незаметный, он возвышался черным арсеналом на фоне темно-синего неба; ни лучика света. Шторы задернуты, ставни захлопнуты, приказ о затемнении выполнен точно. Это хорошо. Не хватало еще, чтоб Гитлер положил глаз на ее замок.
Бросив велосипед, она легла рядом на прохладную ночную траву. Выкурила еще сигарету. Затем еще одну, последнюю. Свернулась клубком на боку и прижала ухо к земле, прислушиваясь, как учил папа. «Наша семья, наш дом воздвигнуты на фундаменте слов, — повторял он снова и снова, — фамильное древо переплетено с фразами-ветвями». Высказанные мысли слой за слоем впитались в почву садов, так что стихотворения и пьесы, проза и политические трактаты обязательно прозвучат, когда это потребуется. Предки, которых она никогда не видела, которые умерли до ее рождения, оставили после себя слова, слова, слова, которые перекликаются друг с другом, обращаются к ней из могил, так что она никогда не останется в одиночестве.
Через некоторое время Перси встала, собрала вещи и молча направилась к замку. Темнота поглотила сумерки; явилась луна, прекрасная предательская луна, протянувшая бледные пальцы над пейзажем. Отважная полевка метнулась через серебристый простор лужайки; на пологих склонах полей задрожала тонкая трава, и леса окутались мраком.
Приближаясь, Перси слышала голоса: Саффи, Юнипер и еще один, голос ребенка, девочки. Позволив себе мгновение помедлить, Перси поднялась на первую ступеньку, затем на вторую, вспоминая, как тысячи раз вбегала в эту дверь, спеша увидеть будущее, узнать, что ее ждет.
Стоя на крыльце, держась за ручку двери собственного дома, она дала клятву и взяла в свидетели деревья-великаны Кардаркерского леса. Она — Персефона Блайт из замка Майлдерхерст. В ее жизни есть и другие достойные любви вещи, немного, но все же. Ее сестры, отец и, конечно, их замок. Она старшая… пускай всего на несколько минут… наследница папы, единственная, кто разделяет его любовь к камням, сердцу, секретам этого дома. Она соберется с духом и продолжит жить дальше. И с этого момента ее долгом будет оберегать своих любимых, делать все, что потребуется, чтобы оградить их покой.
Похищения и встречные обвинения
1992 год
Сестры Блайт едва не потеряли Майлдерхерст в 1952 году. Замок нуждался в немедленном ремонте, финансы семьи Блайт пребывали в плачевном состоянии, а Национальный трест мечтал прибрать поместье к рукам и начать его реставрацию. Казалось, сестрам не остается ничего другого, как переехать в дом поменьше, продать поместье чужим людям или передать его Тресту, чтобы тот мог начать «сохранять гордость и славу зданий и садов». Но ничего подобного они не сделали. Вместо этого Перси Блайт открыла замок для посещения, продала несколько участков окружающих земель и сумела наскрести достаточную сумму, чтобы оставить старый дом.
Я знала это, поскольку большую часть солнечных августовских выходных провела в местной библиотеке, закопавшись в микрофильмированные выпуски «Майлдерхерст меркьюри». Оглядываясь назад, я понимаю, что, сообщив отцу, будто происхождение «Подлинной истории Слякотника» — великая литературная загадка, я словно забыла коробку шоколадных конфет рядом с малышом и понадеялась, что он не тронет их. Папа обожает добиваться поставленной цели, и ему понравилась мысль, что он разгадает тайну, которая десятилетиями мучила академиков. У него возникла собственная теория: в сердце готического романа лежит подлинная история старинного похищения ребенка; достаточно лишь доказать это, и его ждут слава, известность и полное удовлетворение. Однако, прикованный к постели, вынюхивать он не мог, так что посредник неизбежно был избран и отправлен на охоту. И этим посредником стала я. Отцу я потакала по трем причинам: во-первых, он выздоравливал после сердечного приступа, во-вторых, его теория была не так уж глупа, в-третьих, и это самое главное, благодаря письмам матери мой интерес к Майлдерхерсту разгорелся в настоящий пожар.
Наводить справки я, как обычно, начала, обратившись к Герберту с вопросом, не слышал ли он о нераскрытых случаях похищения детей в начале века. Одна из моих любимых черт Герберта — а список таковых весьма длинен — его способность находить среди несомненного хлама именно те сведения, которые нужно. Для начала, его дом высокий и узкий, четыре квартиры соединены в одну; наш офис и печатный станок занимают первый и второй этажи, чердак отдан под хранение, а в полуподвальном этаже живут сам Герберт и Джесс. Все стены во всех комнатах завалены книгами: старыми книгами, новыми книгами, первыми изданиями, изданиями с автографами, двадцать третьими изданиями, с великолепным и здоровым пренебрежением к показухе составленными вместе на разномастных импровизированных стеллажах. И все же в голове Герберта существует каталог коллекции, его собственная справочная, так что у него всегда наготове каждое прочитанное слово. При виде того, как он фокусируется на задаче, поистине захватывает дух: сначала его внушительный лоб хмурится, покуда он обдумывает запрос, затем в воздух взмывает палец, изящный и гладкий, как свечка, и Герберт безмолвно хромает к дальней стене с книгами, где палец вольно парит над корешками, словно намагниченный, пока наконец не выдвигает нужный том.
Я спрашивала Герберта о похищении, не слишком надеясь на удачу, так что особенно не удивилась, когда он почти не смог помочь. Заверив его, что расстраиваться ни к чему, я отправилась в библиотеку, на полуподвальном этаже которой подружилась с очаровательной пожилой леди, которая явно всю жизнь только меня и ждала.
— Подпишите вот здесь, дорогая, — радостно проворковала она, указывая на планшет с листком бумаги и ручку и нависая надо мной, пока я заполняла соответствующие колонки. — А, «Биллинг энд Браун», чудесно. Один мой старинный приятель, упокой Господи его душу, опубликовал свои мемуары в «Биллинг энд Браун» лет тридцать назад.
Немногие люди проводили то дивное лето в лабиринтах библиотеки, так что я легко смогла подключить мисс Йетс к своим поискам. Мы замечательно проводили время вместе, прочесывая архивы, и обнаружили три нераскрытых случая похищения детей в районе Кента в викторианскую и эдвардианскую эпоху и множество газетных сообщений, касающихся семьи Блайт или замка Майлдерхерст. Среди последних имелась прелестная полурегулярная колонка с советами по домоводству, которую Саффи Блайт вела в пятидесятых и шестидесятых; множество статей о литературном успехе Раймонда Блайта и несколько передовиц о грозящей семейству потере Майлдерхерста в 1952 году. В то время Перси Блайт дала интервью, в котором эмоционально подчеркнула: «Дом — не просто совокупность материальных составляющих; это хранилище воспоминаний, сосуд всего, что происходило в его стенах. Этот замок принадлежит моей семье. Он принадлежал моим предкам за сотни лет до моего рождения, и я не желаю видеть, как он переходит в руки людей, намеренных сажать ели и сосны в его древних лесах».
Также в статье приводилось интервью довольно дотошного представителя Национального треста, который сокрушался о нереализованной возможности применить новую схему разбивки сада и возрождения былой славы поместья: «Как горько сознавать, что величайшие поместья Британии будут утрачены в ближайшие десятилетия из-за банальной несговорчивости тех, кто неспособен понять, что в наши скудные и суровые времена обращаться с национальными сокровищами как с простыми жилыми домами граничит с кощунством». Когда его спросили о планах Треста касательно Майлдерхерста, он вкратце набросал программу работ, в том числе «ремонт несущих конструкций самого замка и полную реставрацию сада». Разве не о том же мечтала для своего фамильного поместья сама Перси Блайт?
— В те времена люди относились к Тресту с недоверием, — сказала мисс Йетс, когда я обратила на это ее внимание. — Пятидесятые были сложным периодом: в Хидкоте вырубили вишневые деревья, в Уимполе уничтожили аллею, и все ради некой универсальной исторической миловидности.
Эти два примера мало что для меня значили, но «универсальная историческая миловидность» не слишком вязалась со знакомой мне Перси Блайт. Я продолжила чтение, и многое разъяснилось.
— Здесь написано, что Трест собирался восстановить ров. — Я взглянула на мисс Йетс, которая наклонила голову в ожидании уточнений. — Раймонд Блайт велел засыпать ров после смерти матери близнецов, это было нечто вроде символического мемориала. Сестрам не понравились планы Треста воссоздать его. — Я откинулась на спинку стула, чтобы растянуть поясницу. — Чего я не понимаю, так это как для них вообще настали столь тяжелые времена. «Слякотник» — классика, бестселлер и остается им до сих пор. Несомненно, авторских отчислений должно было хватить, чтобы уберечь сестер от беды.
— Звучит разумно, — согласилась мисс Йетс. — Знаете, я уверена, что…
Она нахмурилась и вернулась к довольно большой стопке распечаток на столе перед нами. Она листала страницы туда-сюда, пока не выхватила одну и не поднесла прямо к носу.
— Есть! Вот она. — Библиотекарша протянула мне газетную статью, датированную тринадцатым мая 1941 года, и взглянула поверх очков в форме полумесяцев. — Очевидно, Раймонд Блайт проявил немалую щедрость в своем завещании.
Статья была озаглавлена «Щедрый дар литературного покровителя спасает институт» и сопровождалась фотографией улыбающейся женщины в джинсовом полукомбинезоне с экземпляром «Слякотника» в руках. Я просмотрела текст и убедилась, что мисс Йетс права: львиная доля авторских отчислений после смерти Раймонда Блайта была поделена между католической церковью и еще одной группой.
— Институт Пембрук-Фарм, — медленно прочитала я. — Здесь говорится, что это группа защитников окружающей среды из Суссекса. Они занимались продвижением рационального природопользования.
— Значительно опередили свое время, — заметила мисс Йетс.
Я кивнула.
— Может, проверим картотеку наверху? — предложила она. — Посмотрим, что еще можно найти.
Мисс Йетс так обрадовалась новому повороту событий, что ее щеки порозовели, и я показалась себе жестоким чудовищем, когда ответила:
— Нет, сегодня нет. Боюсь, мне не хватит времени.
Она печально поникла, и мне пришлось добавить:
— Очень жаль, но отец ждет отчета об исследовании.
Это было правдой, однако домой я отправилась не сразу. Боюсь, я была немного неискренней, заявив, что с радостью посвятила выходные папиным библиотечным розыскам по трем причинам. Я не лгала, все три причины были истинными, но существовала еще одна, четвертая, более тягостная причина: я избегала матери. Это все письма виноваты; точнее, моя неспособность оставить закрытой чертову коробку из-под тапочек, переданную Ритой.
Видите ли, я прочла все письма. В вечер девичника Сэм я забрала их домой и жадно проглотила, одно за другим, начав с маминого прибытия в замок. Вместе с мамой я мерзла в первые месяцы 1940 года, над моей головой бушевала битва за Англию,[39] по ночам я дрожала в бомбоубежище Андерсона.[40] В течение восемнадцати месяцев почерк постепенно становился все более аккуратным, а стиль — зрелым, пока наконец в предрассветные часы я не добралась до последнего письма, посланного домой как раз перед тем, как за Мередит приехал отец и забрал ее в Лондон. Письмо было датировано семнадцатым февраля 1941 года и имело следующее содержание:
Дорогие мама и папа!
Простите, что поссорилась с вами по телефону. Я была очень рада услышать ваши голоса, и мне ужасно неприятно, что все так закончилось. Вряд ли мне удалось объяснить свою точку зрения.
И все же я понимаю, что вы просто желаете мне добра; благодарна тебе, папа, что ты говорил обо мне с мистером Солли, однако не могу согласиться, что возвращение домой и работа у него машинисткой и есть то самое «добро».
Рита не такая, как я. Она возненавидела деревню с первого взгляда и всегда знала, что хочет делать и кем стать. Всю жизнь мне казалось, что со мной что-то неправильно, что я «другая» в некоем важном отношении, которого не могу объяснить, которого и сама не понимаю. Я люблю читать книги, люблю наблюдать за людьми, люблю запечатлевать на бумаге то, что вижу и чувствую. Да, это нелепо! Представляете, какой белой вороной я ощущала себя всю жизнь?
Но здесь я встретила людей, которым тоже это нравится; оказывается, некоторые смотрят на мир так же, как я. Саффи верит, что когда война окончится, а это вот-вот должно случиться, у меня неплохие шансы поступить в среднюю школу. А после… ну а вдруг! Возможно, даже университет?! Но я должна продолжить обучение, если собираюсь перевестись в среднюю школу.
И потому заклинаю вас: не забирайте меня домой! Блайты рады моему присутствию, и вам же известно, что обо мне прекрасно заботятся. Ты не «потеряла» меня, мама; напрасно ты так говоришь. Я твоя дочь… ты не сможешь потерять меня, даже если захочешь. И все же прошу: позвольте мне остаться.
С любовью и надеждой на лучшее,
Той ночью мне приснился Майлдерхерст. Я снова была девочкой, одетой в незнакомую школьную форму, и стояла у высоких железных ворот в начале подъездной дорожки. Ворота были заперты и слишком высоки, чтобы их перелезть; настолько высоки, что, когда я подняла глаза, их верхушка потерялась в клубящихся облаках над головой. Я попыталась взобраться, но ноги постоянно скользили и подгибались, как часто случается в снах; железо было ледяным, и все же меня переполняло страстное, отчаянное стремление выяснить, что же лежит за воротами.
Я посмотрела вниз и увидела на ладони большой ключ, заржавленный по краям. В следующее мгновение я очутилась за воротами, в экипаже. В сцене, взятой непосредственно из «Слякотника», я ехала по длинной извилистой дорожке, мимо темных дрожащих лесов, по мостам, пока передо мной на вершине холма не вырос замок.
И тогда неведомым образом я оказалась внутри. Замок выглядел заброшенным. Пыль покрывала полы коридоров, покоробившиеся картины висели на стенах, занавески выцвели, но дело было не только в этом. Сам воздух был затхлым и гнилостным, как будто меня заперли в коробке на темном заплесневелом чердаке.
Затем раздался шум — шуршание, шепот, — и что-то мелькнуло впереди. В конце коридора стояла Юнипер в том самом шелковом платье, которое было на ней во время моего визита в замок. В душе возникло странное чувство; сон пропитало глубокое и тревожное томление. Хотя Юнипер не проронила ни звука, я поняла, что на дворе октябрь 1941-го и она ждет Томаса Кэвилла. За ее спиной появилась дверь в хорошую гостиную. Играла музыка, которая показалась мне знакомой.
Я проследовала за Юнипер в комнату, где был накрыт стол. Воздух сгустился от предвкушения. Я обошла вокруг стола, подсчитывая приборы и откуда-то зная, что один из них поставлен для меня, а другой — для мамы. Юнипер что-то сказала; ее губы двигались, но я ничего не расслышала.
Внезапно я перенеслась к окну гостиной; благодаря странному вывиху логики сна это одновременно было и окно маминой кухни. Я выглянула на улицу. Ярилась буря, и я заметила внизу блеск черного рва. Движение; какая-то темная фигура прорвала поверхность. Мое сердце гулко забилось; я поняла, что это Слякотник, и застыла на месте. Ноги срослись с полом, но как только я собралась закричать, страх внезапно исчез. Вместо страха меня окатила волна томления, печали и, как ни удивительно, желания.
Проснулась я резко, успев поймать тающий сон. Обрывки грез висели в углах комнаты, словно призраки, и некоторое время я лежала неподвижно, заклиная их остаться. Мне казалось, что легчайшее движение, едва заметный намек на утренний свет выжжет последние следы подобно туману. А я не хотела с ними расставаться. Сон был таким ярким, тяжесть томления такой неподдельной, что, прижав руку к груди, я словно ожидала нащупать пальцами синяки.
Через некоторое время солнце поднялось достаточно высоко, чтобы мазнуть по крыше «Зингера и сыновей» и заглянуть в щели меж занавесок; чары сна были разрушены. Я со вздохом села и заметила коробку из-под бабушкиных тапочек в изножье кровати. При виде конвертов, на которых стоял адрес «Слон и Замок», подробности минувшей ночи хлынули потоком, и меня охватила внезапная похмельная вина человека, который перебрал жира, сахара и чужих секретов. Неважно, сколько радости мне принесли чувства, образы и голос моей матери; неважно, сколь убедительными были мои оправдания (письма написаны много лет назад; они предназначались для чужих глаз; она никогда не узнает); я не могла забыть выражения лица Риты, когда та вручила мне коробку и предложила почитать; намек на триумф, как будто у нас появился общий секрет, узы, связь, не включавшая ее сестру. Теплая ладошка маленькой девочки выскользнула из моей ладони, оставив лишь угрызения совести. Я должна признаться в своем преступлении, в этом не может быть сомнений. Но я заключила с собой сделку: если мне удастся выйти из дома и не наткнуться на маму, мне будет дарована дневная отсрочка для обдумывания, как лучше действовать; с другой стороны, если я наткнусь на нее, прежде чем окажусь у двери, я немедленно во всем признаюсь. Я быстро и тихо оделась, украдкой привела себя в порядок, забрала сумку из гостиной… все шло великолепно, пока я не добралась до кухни. Мама возилась с чайником, на ней был халат, подпоясанный чуть выше, чем следует, отчего она странным образом напоминала снежную бабу.
— Доброе утро, Эди, — обернулась она.
Отступать слишком поздно.
— Доброе утро, мама.
— Хорошо спала?
— Да, спасибо.
Пока я пыталась изобрести повод пропустить завтрак, она поставила передо мной на стол чашку чая и спросила:
— Как прошел девичник Саманты?
— Ярко. Шумно, — быстро улыбнулась я. — Ты же знаешь Сэм.
— Я не слышала, как ты вернулась прошлой ночью. Я оставила тебе ужин.
— Э-э-э…
— Мне кажется, ты его не…
— Я очень устала.
— Конечно.
Я чувствовала себя настоящей мерзавкой. В мешковатом халате мама казалась более уязвимой, чем обычно, отчего мне стало еще хуже. Я села рядом с чашкой, решительно вдохнула и начала:
— Мама, я должна кое-что…
— Ой! — Она вздрогнула, сунула палец в рот, затем затрясла им. — Пар, — пояснила она, легонько дуя на кончик пальца. — Дурацкий новый чайник.
— Принести тебе льда?
— Просто подставлю под холодную воду. — Мама повернула кран. — Это все из-за формы носика. Не понимаю, почему они вечно переделывают вещи, которые прекрасно работают.
Я снова вдохнула… и выдохнула, когда она продолжила:
— Лучше бы сосредоточились на чем-то полезном. Например, лекарстве от рака.
Наконец она выключила воду.
— Мама, мне правда нужно тебе…
— Секундочку, Эди; вот только отнесу папе чай, пока не зазвонил колокольчик.
Она исчезла наверху, и я ждала, гадая, что ей скажу, как скажу, возможно ли облечь мой грех в слова таким образом, чтобы она поняла. Тщетная надежда, и я быстро от нее отказалась. Нельзя безнаказанно признаться человеку, что следил за ним в замочную скважину.
До меня донеслись обрывки тихой беседы мамы и папы, стук двери, шаги. Я быстро поднялась. И что только мне в голову взбрело? Мне нужно больше времени; глупо вываливать все с бухты-барахты; если немного подумать, все обернется совсем по-другому… Но мама уже стояла на кухне и говорила:
— Это должно ублажить его милость на четверть часа.
Я по-прежнему неловко мялась за стулом, столь же естественно, сколь плохая актриса на сцене.
— Уже уходишь? — удивилась мама. — Ты даже чай не выпила.
— Я… э-э…
— Разве ты не собиралась что-то сказать?
Взяв чашку, я внимательно изучила ее содержимое. Я…
— Ну? — Она потуже затянула пояс халата, ожидая ответа; глаза ее сузились от легкого беспокойства. — В чем дело?
Кого я обманываю? Еще немного подумать, получить отсрочку в пару часов… фактов это не изменит. Я покорно вздохнула.
— У меня кое-что есть для тебя.
Сходив в свою комнату, я достала письма из-под кровати.
Мама наблюдала за моим возвращением, на ее лбу прорезалась неглубокая складка. Я поставила коробку на стол между нами.
— Тапочки? — Она слегка нахмурилась, поглядев сначала на свои ноги, обутые в тапочки, потом на меня. — Что ж, спасибо, Эди. Лишних тапочек не бывает.
— Нет, посмотри, это не…
— Твоя бабушка… — Мама внезапно улыбнулась мелькнувшему давнему воспоминанию. — Твоя бабушка носила такие же тапочки.
Она бросила на меня столь беззащитный, столь неожиданно радостный взгляд, что мне нестерпимо захотелось сдернуть крышку с коробки и объявить себя гнусной предательницей, каковой я и была.
— Ты как-то узнала, Эди? Ты потому купила их мне? Удивительно, что ты сумела найти такие старомодные…
— Это не тапочки, мама. Открой коробку, пожалуйста, просто открой коробку.
— Эди?
С неуверенной улыбкой она села на ближайший стул и подвинула коробку к себе. Окинула меня последним нерешительным взглядом и занялась крышкой, подняла ее и посерьезнела при виде груды выцветших конвертов внутри.
Кровь в моих венах стала жаркой и жидкой, как бензин, пока я следила за сменой эмоций на ее лице. Смущение, подозрение, затем вздох, предвещающий узнавание. Позже, воссоздавая сцену мысленно, я в точности определила миг, когда корявый почерк на верхнем конверте превратился в прожитый опыт. Ее лицо менялось, его черты становились чертами почти тринадцатилетней девочки, которая послала первое письмо родителям с рассказом о замке; она вновь была в нем, застывшая в моменте сочинения.
Мамины пальцы коснулись губ, щек, задержались над гладкой впадинкой у основания горла, пока через целую вечность не дотронулись осторожно до коробки, не достали груду конвертов и не сжали их обеими руками. Руками, которые дрожали. Она произнесла, не глядя мне в глаза;
— Где ты?..
— Рита.
Она медленно вздохнула и кивнула, как будто и сама должна была догадаться.
— Она объяснила, где взяла их?
— Нашла в бабушкиных вещах после ее смерти.
Мама издала звук, похожий на начало смешка, задумчивый, удивленный, немного печальный.
— Поверить не могу, что она сохранила их.
— Их написала ты, — мягко отозвалась я. — Конечно, она их сохранила.
— Но все было не так… — покачала головой мама. — Мы с матерью никогда не…
Я вспомнила о «Книге волшебных мокрых животных». У нас с мамой тоже все было негладко… как мне раньше казалось.
— Наверное, так поступают все родители.
Потеребив конверты, мама развернула их веером.
— События прошлого, — промолвила она скорее себе, чем мне. — События, которые я так старалась забыть. — Ее пальцы легонько касались конвертов. — Теперь это ничего не значит…
Мое сердце забилось при намеке на откровенность.
— Почему ты хочешь забыть прошлое, мама?
Но она промолчала, тогда промолчала. Фотография, меньше размером, чем письма, выпала из стопки, как прошлой ночью, и приземлилась на стол. Мама вздохнула, прежде чем поднять снимок и провести по нему пальцем; ее лицо было уязвимым, страдающим…
— Столько лет прошло, и все же порой…
Кажется, именно в это мгновение она вспомнила, что я рядом. Нарочито небрежно засунула фотографию обратно в пачку, как будто та ничего для нее не значила. Пристально посмотрела на меня.
— Твоя бабушка и я… наши отношения всегда были непростыми. Мы с самого начала были очень разными людьми, а моя эвакуация особенно заострила некоторые моменты. Мы поссорились, и она меня так и не простила.
— Потому что ты хотела перевестись в среднюю школу?
Все словно замерло, даже естественные потоки воздуха приостановили свой вечный круговорот.
Маму словно ударили. Она сказала тихо, дрожащим голосом:
— Ты прочла их? Ты прочла мои письма?
Я сглотнула и судорожно кивнула.
— Как ты могла, Эдит? Это личные письма.
Все мои оправдания расползлись, будто клочки бумажного носового платка под дождем. От стыда мои глаза наполнились слезами, и все словно выцвело, включая мамино лицо. Ее кожа лишилась красок, осталась лишь россыпь веснушек вокруг носа, так что ей снова будто стало тринадцать.
— Я просто… Я хотела узнать…
— Тебя это не касается, — прошипела мама. — Это не твое дело.
Она схватила коробку, крепко прижала к груди и после секундной паузы ринулась к двери.
— Нет, мое, — пробубнила я себе под нос и добавила уже громче, дрожащим голосом: — Ты лгала мне.
Мама запнулась.
— О письме Юнипер, о Майлдерхерсте, обо всем; мы вернулись…
Легкое промедление в дверях, но она не оглянулась и не остановилась.
— …я это помню.
И я снова осталась одна в специфической стеклянной тишине, которая повисает, когда ломается что-то хрупкое. Наверху лестницы хлопнула дверь.
С тех пор прошло две недели, и даже по нашим стандартам отношения были натянутыми. Мы придерживались жутковатой любезности, не только ради папы, но и потому, что это был привычный для нас стиль: кивали и улыбались друг другу, но наши фразы были не длиннее, чем «передай соль, пожалуйста». Я то испытывала угрызения совести, то уверенность в своей правоте; гордость и интерес к той девочке, которая любила книги не меньше меня, и раздражение и обиду на женщину, которая не желала поделиться со мной хотя бы малой частью себя.
Но более всего я сожалела, что показала ей письма. Будь проклят тот, кто сказал, что честность — лучшая политика! Я снова внимательно просматривала страницы о сдаче жилья и подпитывала нашу холодную войну, редко появляясь дома. Это было несложно: редактура «Призраков на Ромни-Марш» продвигалась полным ходом, так что у меня имелись все основания подолгу засиживаться в офисе. Герберт, в свою очередь, был рад компании. Он говорил, что мое рвение напоминает ему «старые добрые деньки», когда война наконец закончилась, Англия встала с колен, и они с мистером Брауном усердно приобретали рукописи и выполняли заказы.
Вот почему в ту библиотечную субботу я сунула папку с газетными распечатками под мышку, взглянула на часы, обнаружила, что едва перевалило за час, и не пошла домой. Папе не терпелось узнать, увенчалось ли успехом расследование похищения, но ничего, подождет до нашей встречи со «Слякотником» сегодня вечером. Так что я устремилась в Ноттинг-Хилл. Меня влекла перспектива приятного общества, желанного отвлечения, а может, и вкусного обеда.
Я совсем забыла, что Герберт уехал на выходные, чтобы произнести программную речь на ежегодном съезде Ассоциации переплетчиков. Жалюзи в «Биллинг энд Браун» были опущены, и офис выглядел унылым и безжизненным. Переступив порог и окунувшись в мертвую тишину, я испытала совершенно несоразмерное разочарование.
— Джесс? — с надеждой позвала я. — Джесси, детка?
Никто благодарно не потопал ко мне, никто не принялся старательно карабкаться по лестнице из подвала, лишь круги побежали по поверхности тишины. Есть что-то глубоко тревожное в любимом месте, лишенном своих привычных обитателей, и в этот миг мне как никогда захотелось побороться с Джесс за место на диване.
— Джесси?
Опять никого. А значит, она тоже отправилась в Шрусбери и я действительно осталась одна.
«Ничего страшного, — подбодрила я себя, — работы хватит на весь день». «Призракам на Ромни-Марш» в понедельник предстояло отправиться на корректуру, и хотя в силу обстоятельств я уже уделила им самое пристальное внимание, никогда не поздно что-нибудь улучшить. Я подняла жалюзи, включила лампу на столе, стараясь шуметь как можно больше, села и пролистала рукопись. Я переставила несколько запятых и вернула их на место. Задумалась над преимуществом использования «however» вместо «but», ничего не решила и мысленно сделала пометку еще поразмыслить на эту тему. Также мне не удалось однозначно определиться по поводу следующих пяти стилистических вопросов, после чего я сочла, что точно не получится сосредоточиться на пустой желудок.
Герберт любил готовить, и в холодильнике обнаружилась свежая тыквенная лазанья. Я отрезала себе кусок, подогрела и с тарелкой отправилась обратно за стол. Казалось неправильным есть над рукописью медиума, так что я открыла свою папку с распечатками из «Майлдерхерст меркьюри». Я выхватывала фразы тут и там, но в основном просматривала снимки. Есть что-то очень ностальгическое в черно-белых фотографиях; отсутствие цвета — визуальное отображение углубляющейся воронки времени. Было множество снимков самого замка в различные периоды, несколько фотографий поместья и очень старый снимок Раймонда Блайта и его дочерей-близнецов в статье, посвященной публикации «Слякотника». Фотографии Перси Блайт, чопорной и неловкой на свадьбе местных жителей Гарольда и Люси Роджерс: Перси Блайт, разрезающей ленточку на открытии общинного центра; Перси Блайт, вручающей экземпляр «Слякотника» с автографом победителю поэтического состязания.
Я пролистала страницы еще раз; Саффи не было ни на одной фотографии, и это показалось весьма необычным. Отсутствие Юнипер я могла понять, но где же Саффи? Я взяла статью в честь окончания Второй мировой войны, в которой освещался вклад разных деревенских жителей в борьбу с врагом. Снова фотография Перси Блайт, на этот раз в униформе скорой помощи. Я озадаченно на нее уставилась. Возможно, Саффи не любила фотографироваться. Возможно также, она всячески противилась участию в жизни общества. Но ведь я видела близнецов в действии, и более вероятно, что Саффи просто знала свое место. С такой сестрой, как Перси, полной железной воли и яростной приверженности доброму имени семьи, у бедняжки Саффи не оставалось ни малейшей надежды увидеть свою улыбку в газете.
Фотография была крайне неудачной. Перси располагалась на переднем плане, снимок был сделан с нижней точки, несомненно, чтобы уместить в кадр замок за спиной женщины. Ракурс был невыгодным, Перси словно нависала над зрителем и казалась суровой; то, что она не улыбалась, только усиливало впечатление.
Я пригляделась. На заднем плане было нечто, чего я прежде не замечала, рядом с коротко подстриженными волосами Перси. Я порылась в ящике Герберта, достала увеличительное стекло, поднесла к фотографии, сощурилась и изумленно отпрянула. Я оказалась права; на крыше замка кто-то сидел. На самом краю, рядом с одним из выступов, белая фигура в длинном платье. Я сразу поняла, что это Юнипер. Несчастная, печальная, безумная Юнипер.
От крошечного белого пятнышка у окна чердака я испытала приступ негодования и скорби. И злости. У меня снова пробудилось подозрение, что Томас Кэвилл — корень всех зол, и я позволила себе вообразить тот роковой октябрьский вечер, когда он разбил сердце Юнипер и разрушил ее жизнь. Боюсь, фантазия была весьма подробной; она уже посещала меня много раз и текла, как знакомый фильм, с тематическим саундтреком и всем, что полагается. Я сидела вместе с сестрами в прекрасно обставленной гостиной, слушала, как они гадают, отчего Томас так задержался, видела, как Юнипер сдается под натиском безумия, которое поглотит ее… И вдруг случилось нечто неожиданное. Нечто, чего прежде не происходило.
Не уверена, почему и как, но нахлынувшая ясность была внезапной и жаркой. Воображаемый саундтрек со скрежетом остановился, образ растаял, оставив лишь факт: в этой истории все не так просто, как кажется. Есть еще что-то. Люди не сходят с ума только потому, что их бросают возлюбленные. Даже если страдают беспокойством, депрессией или что там миссис Кенар имела в виду под приступами Юнипер.
Отложив «Меркьюри», я выпрямила спину. Я приняла печальную историю Юнипер Блайт за чистую монету, потому что мама права: я ужасная фантазерка, и трагические истории — мой конек. Но это не выдумка, это реальная жизнь, и мне необходимо взглянуть на ситуацию более критически. Я редактор, моя работа — проверять правдоподобность сюжетов, а этому сюжету ее не хватает. Он слишком упрощен. Любовные связи распадаются, люди предают друг друга, любовники расстаются. Человеческая жизнь усеяна осколками личных трагедий: это неприятно, но по большому счету не так серьезно. «Она сошла с ума» — слова легко слетали с языка, но реальность казалась истонченной, как в дешевом романе. Что далеко ходить, меня саму недавно бросили подобным образом, но я же не свихнулась. Даже не собираюсь.
Мое сердце забилось быстрее; я потянулась к сумке, засунула туда папку с газетами и взяла грязную тарелку, чтобы вернуть на кухню. Нужно найти Томаса Кэвилла. Почему я раньше не сообразила? Мама отказывается со мной говорить, а Юнипер не может; Томас — единственный ключ, разгадка лежит у его ног, и мне нужно выяснить о нем больше.
Выключив лампу, я опустила жалюзи и заперла за собой переднюю дверь. Мне проще общаться с книгами, чем с людьми, так что я приняла единственное возможное решение: вприпрыжку понеслась обратно в библиотеку.
Мисс Йетс обрадовалась при виде меня.
— Вы так быстро вернулись. — В ее голосе звенел энтузиазм, достойный встречи с давно потерянной подругой. — Но вы промокли до нитки! Неужели погода опять испортилась?
Я даже не заметила.
— У меня нет зонта, — ответила я.
— Ничего страшного. Вы скоро высохнете, и я очень рада, что вы пришли.
Она взяла со стола тонкую стопку бумаг и протянула мне с благоговением, словно это был сам Святой Грааль.
— Помню, вы сказали, что у вас нет времени, но я все равно предприняла кое-какие шаги… Институт Пембрук-Фарм, — пояснила библиотекарша, вероятно, заметив, что я понятия не имею, о чем речь. — Завещание Раймонда Блайта.
— А, — отозвалась я; казалось, утро было очень давно. — Превосходно. Спасибо.
— Я распечатала все, что сумела найти. Я собиралась позвонить вам на работу и дать знать, но вы уже здесь!
Снова поблагодарив ее, я бегло просмотрела бумаги, пролистала страницы с подробной историей природоохранной деятельности института и на минуту задумалась над полученными сведениями, прежде чем убрать их в сумку.
— Мне не терпится внимательно их изучить, — сообщила я, — но сначала я должна сделать кое-что еще.
И я объяснила, что ищу информацию об одном человеке.
— Его зовут Томас Кэвилл. Он был солдатом во время Второй мировой, а до этого — учителем. Жил и работал в районе Слона и Замка.
Библиотекарша закивала.
— Вы хотите узнать что-либо конкретное?
Почему он не прибыл на ужин в замок Майлдерхерст в октябре 1941 года, почему Юнипер Блайт навсегда погрузилась в безумие, почему моя мать не желает разделить со мной хоть какие-нибудь подробности своего прошлого.
— В общем-то, нет, — пожала я плечами. — Все, что удастся отыскать.
Мисс Йетс была волшебницей. Пока я в одиночестве сражалась с аппаратом для просмотра микрофильмов, проклиная колесико, которое не желало вращаться медленно и пролистывало зараз целые недели, пожилая женщина носилась по библиотеке, собирая разрозненные листки бумаги тут и там. Когда через полчаса мы снова встретились, моей добычей был истерзанный микрофильм и невыносимая головная боль, в то время как ей удалось собрать небольшое, но приличное досье.
Сведений было немного, они не шли ни в какое сравнение с грудой распечаток из местных газет о семье Блайт и фамильном замке, но для начала неплохо. Небольшое сообщение о рождении из «Берменси газетт» за 1916 год, гласившее: «Кэвилл — 22 фев. на Хеншо-ст., супруга Томаса Кэвилла, сын Томас»; экспансивный отчет в «Саутуарк стар» за 1937 год, озаглавленный «Местный учитель побеждает в поэтическом конкурсе», и еще один за 1939 год, с не менее однозначным заголовком: «Местный учитель отправляется на фронт». Ко второй статье прилагалась небольшая фотография с подписью «Мистер Томас Кэвилл». Отпечаток был очень плохого качества, я сумела разобрать лишь, что Томас был юношей с головой и плечами, одетым в форму британской армии. Довольно скромная коллекция сведений о жизни человека, и я очень расстроилась, обнаружив, что после 1939 года наступила тишина.
— Вот и все, — протянула я, стараясь, чтобы это прозвучало по-философски; мне не хотелось показаться неблагодарной.
— Почти, — отозвалась мисс Йетс и подала мне еще одну стопку бумаг.
«Таймс», «Гардиан» и «Дейли телеграф» за март 1981 года, рекламные объявления, напечатанные внизу разделов тематических объявлений. Все они выглядели одинаково: «Томасу Кэвиллу, прежде проживавшему в районе Слона и Замка, просьба позвонить Тео по неотложному вопросу по телефону (01) 394 7521».
— Хм, — произнесла я.
— Хм, — эхом повторила мисс Йетс. — Весьма любопытно, не правда ли? Что бы это значило?
Я покачала головой. Понятия не имею.
— Ясно одно: этому Тео, кем бы он ни был, необходимо было связаться с Томасом.
— Позвольте спросить, дорогая… не хочу лезть не в свое дело, но это как-то поможет вашему исследованию?
Снова взглянув на объявления, я заправила влажные волосы за уши.
— Возможно.
— Знаете, если вас интересует его послужной список, в Имперском военном музее собран превосходный архив. Можно также обратиться в Генеральную регистрационную службу за справкой о рождениях, смертях и браках. Уверена, если дадите мне еще капельку времени… О боже! — Библиотекарша залилась румянцем, посмотрев на часы. — Вот жалость! Уже почти пора закрываться. И как раз когда мы напали на след. Наверное, до закрытия я уже ничем не успею помочь?
— Окажите еще одну любезность. Можно воспользоваться вашим телефоном?
Прошло одиннадцать лет с тех пор, как были размещены объявления, так что не знаю, на что я рассчитывала, знаю лишь, на что надеялась: что парень по имени Тео возьмет трубку и с готовностью поболтает со мной о последних пятидесяти годах жизни Томаса Кэвилла. Нечего и говорить, что этого не произошло. Моя первая попытка столкнулась с грубой настойчивостью гудков отбоя, и я так расстроилась, что невольно топнула ногой подобно испорченному викторианскому дитяти. Мисс Йетс хватило любезности проигнорировать мой гнев и напомнить, что телефонный код недавно изменили на 071. После этого библиотекарша осталась рядом. От неловкости из-за чужого присутствия я сумела набрать номер только со второго раза, но мне повезло!
Я побарабанила пальцами по трубке в знак того, что слышу длинные гудки, и взволнованно коснулась плеча мисс Йетс, когда на том конце взяли трубку. Когда я попросила позвать Тео, любезная леди ответила, что купила дом в прошлом году у пожилого мужчины по имени Тео.
— Теодора Кэвилла, — уточнила она. — Полагаю, вас интересует именно он?
Я с трудом сдержалась. Теодор Кэвилл. Наверное, родственник.
— Да, он.
У меня под носом мисс Йетс стиснула основания ладоней, словно поставила печать.
— Он переехал в дом престарелых в Патни, — сообщила моя собеседница. — Тот, что у самой реки. Кажется, он был очень рад. По его словам, он преподавал в школе неподалеку.
И я отправилась к нему в гости. Отправилась в тот же вечер.
В Патни было пять домов престарелых, но лишь один находился у реки, и я легко его нашла. Морось сдуло ветром, вечер был теплым и ясным; я стояла перед зданием словно во сне, сравнивая адрес на голой кирпичной стене с записанным в блокноте.
Как только я ступила в фойе, меня поприветствовала дежурная медсестра, молодая женщина с короткой стрижкой и слегка асимметричной улыбкой. Я сказала ей, к кому пришла, и она заулыбалась.
— О, как мило! Тео — наш любимчик.
Впервые я испытала укол сомнения и довольно нервно улыбнулась. Сначала это казалось хорошей идеей, но теперь, в залитом флуоресцентным светом коридоре, по которому мы шагали, я уже не была так уверена. Есть что-то не слишком привлекательное в человеке, который собирается навязать свое общество ничего не подозревающему пожилому джентльмену, любимчику медсестер. В совершенном незнакомце, который копается в его семейной истории. Я чуть было не ретировалась, однако медсестра приняла мой визит на удивление близко к сердцу и с поразительной энергичностью потащила меня через фойе.
— Им становится так одиноко ближе к концу, — посетовала она, — особенно кто ни разу не женился. Ни детей, ни внуков, не о ком позаботиться.
Я согласилась, улыбнулась и вприпрыжку побежала за ней по широкому белому коридору. Дверь за дверью, в промежутках между которыми висели вазы; из ваз выглядывали не слишком свежие фиолетовые цветы, и я рассеянно подумала, что кто-то их, наверное, меняет. Но спрашивать не стала. Не останавливаясь, мы промчались по коридору и достигли двери в самом конце. Сквозь стеклянную панель вырисовывался аккуратный садик по ту сторону. Медсестра открыла дверь и наклонила голову, давая понять, что я должна пройти первой, после чего последовала за мной по пятам.
— Тео, — окликнула она нарочито громко, хотя я не видела, к кому она обращается. — К вам гости… — Она повернулась ко мне. — Простите, я забыла, как вас зовут.
— Эди. Эди Берчилл.
— Эди Берчилл пришла к вам в гости, Тео.
В этот миг я заметила железную скамейку позади низкой изгороди и встающего с нее пожилого мужчину. Он сутулился и держался за спинку скамейки, отчего стало ясно, что он поднялся на ноги при нашем появлении, повинуясь привычке, рудименту старомодных манер, которыми, несомненно, обладал всю жизнь. Мужчина заморгал сквозь толстые стекла очков, похожие на бутылочные донышки.
— Добрый день, — поздоровался он. — Присаживайтесь.
— Оставляю вас наедине, — предупредила медсестра. — Я буду за дверью. Крикните, если вам что-то понадобится.
Она кивнула, скрестила руки на груди и щеголевато пошла обратно по дорожке, выложенной красным кирпичом. Дверь захлопнулась за ее спиной, теперь мы с Тео были в саду одни.
Старик был крошечным, от силы пяти футов ростом, и обладал довольно дородным телом, из тех, что при желании можно изобразить, небрежно набросав баклажан и перетянув его ремнем в самом широком месте. Он кивнул увенчанной хохолком головой.
— Я сижу здесь и смотрю на реку. Знаете, она ведь никогда не замедляет ход.
Мне понравился его голос. Его теплый тембр напомнил мне, как в раннем детстве я сидела по-турецки на пыльном ковре и грезила наяву, пока взрослый с неясно различимым лицом нашептывал мне что-то успокаивающее. Внезапно я поняла, что не представляю, с чего начать. Мой визит сюда — чудовищная ошибка, я должна немедленно уйти. Я открыла рот, собираясь откланяться, когда он продолжил:
— Простите, я отвлекся. Боюсь, не могу вас припомнить. Не обижайтесь, меня подводит память…
— С ней все в порядке. Мы прежде не встречались.
— Вот как? — Он умолк, только его губы медленно двигались в такт мыслям. — Понимаю… что ж, как бы то ни было, вы здесь, а гостей у меня немного… Ради бога, извините, но я уже забыл ваше имя. Джин назвала его, но…
«Беги», — взмолился мой мозг.
— Эди, — произнес мой рот. — Я пришла насчет ваших объявлений.
— Моих?.. — Он приставил ладонь к уху, как будто плохо расслышал. — Что? Объявлений? Боюсь, вы меня с кем-то перепутали.
Достав из сумки распечатку из «Таймс», я показала ему.
— Я пришла насчет Томаса Кэвилла.
Но он не смотрел на листок. Я поразила его, все его лицо преобразилось, недоумение сменилось радостью.
— Я ждал вас, — страстно сообщил он. — Садитесь, садитесь. Откуда вы, из полиции? Из военной полиции?
Из полиции? Настала моя очередь недоумевать. Я покачала головой.
Он оживился, сжал маленькие ручки и быстро-быстро заговорил:
— Я знал, что, если протяну достаточно долго, рано или поздно кто-то заинтересуется моим братом… Садитесь. — Он нетерпеливо махнул рукой. — Прошу вас. Расскажите мне… что же случилось? Что вы обнаружили?
Я испытала полное замешательство, поскольку и понятия не имела, о чем речь. Я шагнула к нему и осторожно промолвила:
— Мистер Кэвилл, возможно, это какое-то недоразумение. Я ничего не обнаружила, и я не из полиции. И не из армии, если это важно. Просто я пытаюсь найти вашего брата… найти Томаса… и надеялась, что вы сможете мне помочь.
Он уронил голову.
— Надеялись, что смогу?.. Что я смогу помочь вам?..
Реальность стерла румянец с его щек. Он схватился за спинку сиденья, чтобы не упасть, и кивнул с горьким чувством собственного достоинства, от которого мне стало больно, хотя я даже не догадывалась, в чем дело.
— Понимаю… — Слабая улыбка. — Понимаю.
Я расстроила его, и хотя не представляла, чем именно и какое отношение полиция имеет к Томасу Кэвиллу, но должна была как-то объяснить свой визит.
— Ваш брат был учителем моей матери перед войной. Недавно мы с ней обсуждали прошлое, и она вспомнила, каким вдохновляющим примером он был. Ей очень жаль, что их общение прервалось. — Я сглотнула, равно удивленная и встревоженная тем, как легко мне далась эта ложь. — Она гадала, что с ним стало, продолжил ли он преподавать после войны, женился ли?
Во время этой тирады его внимание вновь обратилось к реке, но по блеску его глаз было ясно, что он ничего не видит. В любом случае, смотреть было не на что — ни людей на мосту, ни лодочек, подпрыгивающих на дальней отмели, ни парома, набитого туристами с фотокамерами на изготовку.
— Боюсь, я вынужден вас разочаровать, — наконец ответил он. — Я не имею ни малейшего представления, что случилось с Томом.
Тео сел, опершись спиной о железные перекладины, и начал свою историю:
— Мой брат исчез в сорок первом. В разгар войны. В мамину дверь постучали, и на пороге вырос местный бобби. Полисмен запаса… он дружил с отцом, когда тот был еще жив, сражался с ним бок о бок на Первой мировой. Да… — Тео хлопнул рукой, как будто прибил муху. — Бедняга был изрядно смущен. Наверное, терпеть не мог приносить подобные новости.
— Какие новости?
— Том не явился на службу, и бобби пришел забрать его силой. — Тео вздохнул. — Бедная старушка мама. Что она могла сделать? Сказала парню правду: что Тома здесь нет и она не представляет, где он, что он живет один с тех пор, как его ранили. Не смог вернуться в родительский дом после Дюнкерка.
— Он был эвакуирован?
Тео кивнул.
— С большим трудом. После этого он много недель провел в госпитале; нога его зажила хорошо, однако мои сестры считали, что он вернулся из больницы не таким, как прежде. Смеялся в тех же самых местах, но после паузы. Как будто читал строки сценария.
Неподалеку заплакал ребенок, и внимание Тео переключилось на дорожку вдоль реки; он слабо улыбнулся и пояснил:
— Мороженое уронил. Суббота в Патни — не суббота, если какой-нибудь несчастный малыш не лишится мороженого на этой дорожке.
Я подождала продолжения, а когда не дождалась, поторопила старика как можно осторожнее:
— И что же случилось? Как поступила ваша мать?
Не переставая наблюдать за дорожкой, он побарабанил пальцами по спинке скамейки и тихо проговорил:
— Том ушел в самоволку в разгар войны. У бобби были связаны руки. Но он был хорошим человеком и дал нам отсрочку из уважения к папе; дал матери двадцать четыре часа на то, чтобы найти Тома и отправить его на службу, пока все не стало официальным.
— Но она не смогла? Она не нашла его?
Старик покачал головой.
— Все равно что искать иголку в стоге сена. Мама и сестры были в ужасе. Они искали повсюду, но… — Он слабо пожал плечами. — Я не мог помочь. Меня не было рядом… я так себе этого и не простил. Я был на учениях на севере вместе со своим полком. Узнал, только когда получил мамино письмо. Но было уже поздно. Тома объявили в розыск.
— Мне так жаль.
— Он до сих пор в розыске.
Наши взгляды встретились, и я в смятении обнаружила, что его глаза блестят от слез. Он поправил толстые очки, поудобнее зацепил дужки за уши.
— Я проверяю это каждый год, поскольку когда-то прочитал, что некоторые типы находятся через десятки лет. Приходят на гауптвахту, поджав хвост, и за спиной у них — вереница ошибок. Отдаются на милость дежурного офицера. — Он поднял руку и позволил ей беспомощно упасть обратно на колени. — Я проверяю только из отчаяния. В глубине души я знаю, что Том не объявится ни на какой гауптвахте. — Тео заметил мое беспокойство, заглянул мне в глаза и добавил: — Чертовски бесчестная отставка.
Позади раздались голоса, я обернулась через плечо и увидела, как молодой мужчина помогает пожилой женщине пройти в сад. Женщина засмеялась его словам, и пара медленно направилась к розам.
Тео тоже их заметил и произнес тише:
— Том был человеком чести.
Каждая фраза давалась ему с трудом, и когда он сжал губы, сдерживая дрожь сильного чувства, я поняла, насколько он нуждается в том, чтобы я поверила в благородство его брата.
— Он никогда бы этого не сделал, никогда бы не сбежал подобным образом. Никогда. Я так и сказал военной полиции. Никто не стал меня слушать. Это разбило сердце моей матери. Стыд, тревога, неведение, что на самом деле с ним случилось. Не бродит ли он где-то по дорогам, потерянный и одинокий. Быть может, из-за несчастного случая он забыл, кто он такой и откуда родом…
Тео осекся и смущенно потер наморщенный лоб — и я поняла, что именно эти скорбные теории были отвергнуты в прошлом.
— Как бы то ни было, — продолжил он, — мама так и не сумела оправиться. Он был ее любимцем, хотя она этого не признавала. Да и не нужно было: он был всеобщим любимцем, наш Том.
Повисла пауза; я наблюдала, как два грача кружатся по небу. Прогулка привела любителей роз прямо к нам, и я подождала, пока они достигнут берега реки, прежде чем повернуться к Тео и спросить:
— Почему полицейские не стали слушать? Почему они были так уверены, что Том сбежал?
— Мы получили письмо. — На его челюсти дернулся мускул. — В начале сорок второго, через несколько месяцев после того, как Том пропал. Машинописное и очень короткое, в нем говорилось только, что он кого-то встретил и сбежал, чтобы жениться. Что он залег на дно, но позже напишет. Как только полицейские это увидели, их больше не интересовал ни Том, ни мы сами. Понятное дело, шла война. Времени искать парня, который предал свой народ, не было.
И пятьдесят лет спустя рана Тео была очень болезненной; я могла только воображать, что он чувствовал, когда она была свежей. Потерять дорогого человека и не суметь заручиться ничьей помощью в поисках! Однако в деревне Майлдерхерст я выяснила, что Томас Кэвилл так и не показался в замке, что он сбежал с другой женщиной. Может, лишь фамильная гордость и преданность поддерживают уверенность Тео в том, что побег брата — ложь?
— Вы не поверили письму?
— Ни на мгновение, — отрезал Тео. — Да, он встретил девушку и влюбился. Он сам мне признался в этом, писал о ней длинные письма… о том, как она прекрасна, как рядом с ней все в мире становится правильным, о том, что хочет на ней жениться. Но он не собирался бежать… ему не терпелось познакомить ее с семьей.
— Вы не видели ее?
Он покачал головой.
— Никто из нас ее не видел. Это было как-то связано с ее семьей. Все надо было хранить в секрете, пока они не узнают первыми. Мне показалось, что она из очень непростой семьи.
Мое сердце забилось быстрее, ведь история Тео столь замечательно дополняла мои собственные догадки.
— Вы не помните имени девушки?
— Брат не называл его.
Меня окатила волна разочарования.
— Он настаивал, что должен сначала познакомиться с ее семьей. Вы не представляете, как это мучило меня все долгие годы. Если бы мне было известно ее имя, я мог бы начать поиски. Что, если она тоже пропала; что, если несчастье случилось с ними обоими? Что, если у ее семьи есть информация, которая может помочь?
На кончике моего языка вертелось имя Юнипер, однако я промолчала. Что толку возрождать его надежды, когда у Блайтов нет никаких дополнительных сведений о местонахождении Томаса Кэвилла, когда они наравне с полицией убеждены, что он сбежал с другой женщиной?
— Письмо, — внезапно произнесла я. — Кто, по-вашему, послал его, если не Том? И зачем? Зачем кому-то другому посылать такое письмо?
— Не представляю, но только вот что: Том ни на ком не женился. Я обратился в Регистрационную службу. Записи о смерти я тоже проверил. До сих пор проверяю. Примерно раз в год, просто на всякий случай. Ничего. Никаких записей о нем после сорок первого. Как будто он растворился в воздухе.
— Но люди не растворяются так просто.
— Нет, — устало улыбнулся Тео. — Не растворяются. И я всю жизнь пытаюсь отыскать брата. Я даже нанял детектива несколько десятков лет назад. Пустая трата денег. Выбросил тысячи фунтов на то, чтобы услышать от этого идиота, что Лондон военного времени был прекрасным местом для человека, желающего исчезнуть. — Он резко вздохнул. — Похоже, всем наплевать, что Том не собирался исчезать.
— А объявления? — жестом указала я на распечатку, которая все еще лежала на скамейке между нами.
— Я отправил их, когда наш младший брат Джоуи совсем расхворался. Решил, что стоит попробовать, на случай если я все это время ошибался и Том где-то прячется и ищет повода вернуться. Джоуи был простаком, бедолага, но обожал Тома. Отдал бы все на свете, лишь бы увидеть его напоследок.
— Однако вам так никто и не позвонил.
— Никто, не считая пары глупых шутников.
Солнце опустилось за горизонт; ранние сумерки были прозрачными и розовыми. Ветерок ласкал мои руки, и я обнаружила, что мы снова в саду одни; я вспомнила, что Тео — старик, который должен находиться под крышей, размышляя над тарелкой с ростбифом, а не над горестями прошлого.
— Становится прохладно, — сменила я тему. — Идемте в дом?
Он кивнул и попытался слегка улыбнуться, но когда мы поднялись, я поняла, что ветер покинул его паруса.
— Я не дурак, Эди, — сказал он, когда мы достигли двери; я распахнула ее, но он настоятельно придержал ее и пропустил меня вперед. — Я знаю, что больше не увижу Тома. Объявления, ежегодная проверка записей, папка с семейными снимками и прочей сентиментальной чепухой, которую я храню просто на всякий случай, чтобы показать ему… я делаю это по привычке и чтобы хоть как-то заполнить пустоту.
Я понимала его как нельзя лучше.
Из столовой доносился шум: скрип стульев, звон ножей, журчание приятной беседы. Тео остановился посередине коридора. Фиолетовый цветок увядал за его спиной, лампа дневного света гудела над головой, и я заметила то, чего не заметила на улице: его щеки блестят от пролитых слез.
— Спасибо, — тихо поблагодарил он. — Не знаю, почему вы решили сегодня прийти, Эди, но я рад, что вы это сделали. Весь день меня терзала хандра — бывают такие тоскливые дни, — а поговорить о Томе так приятно. Я остался один, мои братья и сестры все здесь. — Он прижал ладонь к груди. — Я скучаю по ним, но описать утрату брата невозможно. Вина… — Нижняя губа Тео задрожала, и он усилием воли заставил ее замереть. — Осознание того, что я его подвел. Того, что случилось нечто ужасное и никому не известное; мир и история считают его предателем, ведь я не смог доказать обратное.
Каждая частица моего существа мечтала все исправить.
— Простите, что не принесла вам новостей о Томе.
Он покачал головой и слегка улыбнулся.
— Ничего страшного. Надежда — это одно, а ожидание — совсем другое. Я не глупец. В глубине души я знаю, что лягу в могилу, так и не упокоив душу Тома.
— Если бы я могла что-то сделать!
— Навестите меня как-нибудь еще, — попросил он. — Это было бы чудесно. Я расскажу вам о Томе. В следующий раз — о более счастливых днях, обещаю.
Сады замка Майлдерхерст, 14 сентября 1939 года
Шла война, и у него было незаконченное дело, но солнце сияло в небе ярко и жарко, вода блестела серебром, деревья простирали разгоряченные ветви над головой, и Том решил, что будет просто непростительно, если он не прервется на минутку и не нырнет в воду. Пруд был круглым и красивым, с выложенным камнями берегом и деревянными качелями, подвешенными на огромной ветке. Том бросил ранец на землю и неудержимо захохотал. Вот так находка! Он расстегнул ремешок часов и осторожно положил их поверх сумки из гладкой кожи, купленной в прошлом году, его радости и гордости; сбросил ботинки и расстегнул рубашку.
Когда он плавал в последний раз? Уж точно не этим летом. Компания его друзей взяла напрокат машину и отправилась на море, чтобы провести неделю в Девоншире во время самого жаркого августа в их жизни, и он уже собирался к ним присоединиться, когда Джоуи упал, и у него начались кошмары, бедолага не мог заснуть, если Том не сидел у его кровати, рассказывая сказки о подземке. После Том лежал в своей собственной узкой кровати и грезил о море, пока жара сгущалась в углах комнаты; и все же он не слишком расстроился, по крайней мере, ненадолго. Он мало что мог сделать для Джоуи — бедного Джоуи с его взрослым телом, начинающим расплываться, и детским смехом; при звуках жестокой музыки этого смеха Том съеживался от боли и тоски по ребенку, которым Джоуи был, и мужчине, которым ему не суждено было стать.
Том высвободил руки из рукавов и расстегнул ремень, сбросил старую печаль, а вслед за ней и брюки. Большая черная птица закашляла над головой, и Том замер на мгновение, вытянув шею и уставившись в ясное синее небо. Солнце ослепительно сверкало, и он прищурился, следя за скольжением грациозного птичьего силуэта к далекому лесу. Воздух полнился сладкими ароматами, названий цветов он не знал, однако запахи ему нравились. Растения, птицы, далекое бормотание воды, бегущей по камням; пасторальные запахи и звуки прямо со страниц Харди;[41] Том был в восторге оттого, что они реальны и окружают его. Это его жизнь, и он наслаждался ею. Он прижал ладонь с растопыренными пальцами к груди; солнце грело его обнаженную кожу, будущее расстилалось впереди. Так чудесно было чувствовать себя молодым и сильным, здесь и сейчас. Он не был религиозным, но это мгновение, несомненно, было таковым.
Он оглянулся через плечо, лениво, ничего не ожидая. По характеру он не был нарушителем правил; он был учителем, должен был служить примером своим ученикам и принимал себя достаточно всерьез, чтобы пытаться быть таковым. Но день, погода, недавно разразившаяся война, доносившийся с ветерком неизвестный аромат придали ему непривычную дерзость. В конце концов, он был молодым мужчиной, а молодому мужчине нужно совсем немного, чтобы поддаться прекрасному свободному чувству, будто мирским удовольствиям следует поддаваться немедленно; а собственность и запреты, несмотря на свою благонамеренность — всего лишь теоретические диктаты, место которым в книгах, гроссбухах и речах нерешительных седобородых законников на Линкольнс-Инн-Филдс.[42]
Деревья окружали поляну; неподалеку скрывалась раздевалка; едва заметные каменные ступени вели куда-то вдаль, где царили солнечный свет и пение птиц. С глубоким удовлетворенным вздохом Том решил, что время настало. Над прудом нависал трамплин, и солнце нагрело дерево, так что он обжег себе ступни; мгновение он постоял, наслаждаясь болью. Плечи горели, кожа натянулась; наконец он не смог больше терпеть и, улыбаясь, побежал, подпрыгнул в конце, откинул руки назад и прорезал воду, точно стрела. Холод сжал грудь тисками; Том ахнул, вынырнув на поверхность, его легкие радовались воздуху, подобно легким новорожденного, сделавшего первый вдох.
Несколько минут он плавал, глубоко нырял, вновь и вновь поднимался на поверхность, затем лег на спину и раскинул руки и ноги, подобно звезде. Вот оно, совершенство. Миг, о котором твердили Вордсворт, Кольридж и Шелли, — безукоризненный миг. Том был уверен, что, случись ему умереть прямо сейчас, он умрет счастливым. Впрочем, умирать он не спешил, по крайней мере, в ближайшие лет семьдесят. Том быстро подсчитал: 2009 год, звучит неплохо. Старик, живущий на Луне. Он рассмеялся, медленно заработал руками и возобновил движение, закрыв глаза, чтобы согреть веки на солнце. Мир был оранжевым и усеянным звездами, и будущее Тома сияло его отраженным светом.
Скоро ему придется надеть форму; война ждала его, и Томасу Кэвиллу не терпелось встретиться с ней. Он не был наивен; его отец утратил ногу и часть рассудка во Франции; и он не питал иллюзий насчет героизма и славы, поскольку знал: война — дело серьезное и опасное. Том также не стремился отринуть свое настоящее, совсем напротив: ему казалось, что война — прекрасная возможность стать лучше как человек и как учитель.
Он хотел быть учителем с тех пор, как понял, что однажды вырастет, и мечтал работать в своем старом лондонском районе. Том верил, что способен раскрывать глаза и души таких же детей, каким когда-то был сам, на мир далеко за пределами закопченных кирпичных стен и провисших под тяжестью белья веревок, которые они видели день за днем. Эта цель поддерживала его во время обучения в педагогическом колледже и в первые годы преподавания, пока наконец благодаря толике красноречия и старой доброй удаче он не оказался именно там, куда стремился.
Как только стало ясно, что надвигается война, Том вызвался отправиться на фронт. Учителя нужны были дома, представителей этой профессии не призывали, но какой пример он иначе подаст? Был у него и более эгоистичный мотив. По словам Джона Китса, реально лишь то, что ты сам испытал, и Том соглашался, что это правда. Более того, ему именно этого не хватало. Сопереживание — прекрасное чувство, однако когда Том рассуждал об истории, жертвенности и национальном характере, когда читал своим ученикам боевой клич Генриха V,[43] он скреб по самому дну своего ограниченного опыта. Он жаждал, что война подарит ему глубину понимания, вот почему, едва удостоверившись, что эвакуированные дети благополучно размещены в новых семьях, он направился обратно в Лондон и записался в Первый батальон Восточно-суррейского полка. Если все пойдет гладко, в октябре он уже будет во Франции.
Он лениво пошевелил пальцами в теплой воде у самой поверхности и вздохнул так глубоко, что еще немного погрузился в воду. Возможно, именно осознание того, что на следующей неделе он наденет форму, сделало этот день более ярким, более подлинным, чем дни по обе стороны от него. Ведь здесь действительно ощущалась некая сверхъестественная сила. Дело не только в теплом ветерке или неведомом запахе, дело в странной смеси условий, атмосферы и обстоятельств; и хотя Тому не терпелось встать в строй и исполнить свой долг, хотя его ноги порой ныли по ночам от ожидания, сейчас, в этот самый миг, ему хотелось одного: чтобы время замедлило бег, чтобы он вечно лежал на поверхности пруда…
— Как вода?
Голос раздался, словно гром среди ясного неба, и идеальное одиночество разлетелось вдребезги, как золотая скорлупа.
Позже он много раз мысленно проигрывал их первую встречу, и всего яснее ему помнились ее глаза. Еще, если честно, то, как она двигалась, длинная спутанная грива волос, изгиб маленькой груди, форма ног, о боже, каких ног. Но прежде и превыше всего был свет ее глаз, ее кошачьих глаз. Глаз, которые ведали то, чего не должны были. Долгими днями и ночами, простиравшимися впереди, и перед самым концом он видел именно ее глаза, когда закрывал свои.
Она сидела на качелях, опустив босые ноги на землю, и следила за ним. Девушка… женщина? Поначалу он не был уверен… одетая в простой белый сарафан, она наблюдала, как он плавает в пруду. В его голову пришло множество небрежных реплик, но нечто в чертах ее лица сковало его язык, и он сумел лишь сказать:
— Теплая. Чудесная. Голубая.
Ее голубые миндалевидные глаза были немного широко расставлены и едва заметно распахнулись, когда он пробормотал эту фразу. Вероятно, она недоумевала, что это за простачок позволил себе вольности с ее прудом.
Он неуклюже бултыхался в ожидании, пока она поинтересуется, кто он такой, как здесь очутился, с какой стати плавает в ее пруду, но ничего подобного она не сделала, не задала ни единого вопроса, а только не спеша оттолкнулась от земли, и качели по пологой дуге поплыли над прудом и обратно. Ему не хотелось показаться человеком, не способным связать двух слов, и потому он ответил на так и не прозвучавшие вопросы:
— Я Томас. Томас Кэвилл. Простите, что купаюсь в вашем пруду, но день такой жаркий. Не смог удержаться.
Том улыбнулся, и она прислонила голову к веревке. А вдруг она такая же нарушительница границ, как и он? Ее облик словно выступал из окружающего пейзажа, как будто они не были созданы друг для друга. Том попытался вообразить, где именно подобная девушка была бы на своем месте, но ничего не получилось.
Она молча соскочила с качелей. Веревки провисли и задергались. Том отметил, что она довольно высокая. Девушка села на каменный берег, прижав колени к груди, так что платье задралось довольно высоко, и опустила в воду пальцы ног, вглядываясь поверх коленей в круги, побежавшие по воде.
В груди Тома начало расти возмущение. Он нарушил границы собственности, но не сделал ничего по-настоящему плохого; он не заслужил подобного безмолвного осуждения. Она ведет себя, как будто его вовсе нет; сидит рядом с ним, но на лице ее застыло выражение глубокой задумчивости. Он решил, что она играет в одну из игр, столь любимых девушками… женщинами; игр, которые смущают мужчин и тем самым неким странным нейтрализующим образом удерживают их в узде. Иначе почему она не обращает на него внимания? Разве что она стеснительна. Возможно, так и есть; она молода, не исключено, что ее смущает его дерзость, его мужественность, его — к чему отрицать? — почти полная нагота. Ему стало стыдно — ничего подобного он не планировал, а просто хотел немного поплавать, — и он напустил свой самый небрежный и дружелюбный тон.
— Послушайте! Простите, что напугал вас; я не желал ничего плохого. Меня зовут Томас Кэвилл. Я приехал, чтобы…
— Да, — оборвала она. — Я слышала. — Она взглянула на него, как на комара. Устало, слегка раздраженно, но не более. — Вовсе необязательно трубить об этом снова и снова.
— Погодите минутку. Я только пытаюсь заверить вас, что…
Фраза повисла в воздухе. Во-первых, было ясно, что эта странная особа больше не слушает; во-вторых, Том окончательно отвлекся. Пока он говорил, она встала и сейчас снимала через голову платье, под которым оказался купальник. Так вот просто. Ни взгляда в его сторону, ни взмаха ресниц или хихиканья над собственной дерзостью. Она швырнула платье за спину, комок сброшенного хлопка, и потянулась, как согретая солнцем кошка, чуть зевнула, не утруждая себя женскими уловками, а именно, не прикрывая рта, не извиняясь и не заливаясь смущенным румянцем.
Без каких-либо церемоний она нырнула прямо с бортика, и, когда коснулась воды, Том поспешил выбраться на берег. Ее дерзость, если это была дерзость, странным образом встревожила его. Тревога напугала, а страх показался притягательным. Он сделал ее притягательной.
Разумеется, у Тома не было ни полотенца, ни другого способа быстро обсохнуть и одеться, так что он просто встал под лучи солнца и сделал вид, что расслабился. Это было тяжело. Непринужденность его оставила, теперь он понял, каково его неуклюжим друзьям, которые переминаются с ноги на ногу и мямлят при виде хорошенькой женщины. Хорошенькой женщины, которая поднялась на поверхность пруда и равнодушно лежала на спине, распустив длинные мокрые волосы, похожие на водоросли; безмятежная, естественная, будто и не подозревающая о его вторжении.
Том попытался вернуть себе достоинство; он решил, что брюки помогут, и натянул их поверх мокрых трусов. Он хотел казаться значительным и опасался, что нервозность превратит его в нахала. В конце концов, он учитель и будущий солдат; почему же это так сложно? Непросто излучать профессионализм, когда стоишь в чужом саду, босой и полуголый. Все предыдущие прозрения о глупости права собственности казались теперь незрелыми, если не бредовыми, и он сглотнул, прежде чем как можно спокойнее сказать:
— Меня зовут Томас Кэвилл. Я учитель. Я приехал проведать свою ученицу, которую, вероятно, эвакуировали к вам. — С него стекала вода, по животу бежал теплый ручеек. Том вздрогнул и добавил: — Я ее учитель.
Кажется, он повторяется.
Девушка перевернулась на живот и наблюдала за ним с середины пруда, как будто делала мысленные пометки. Затем скользнула под воду серебристой вспышкой, вынырнула у берега, прижала ладони к камням, одну поверх другой, и положила на них подбородок.
— Мередит.
— Да! — Вздох облегчения: наконец-то. — Да, Мередит Бейкер. Я приехал узнать, как у нее дела. Убедиться, что все хорошо.
Широко расставленные глаза смотрели на него; ее чувства невозможно было прочесть. Затем она улыбнулась, ее лицо невероятным образом преобразилось, и Том затаил дыхание, когда она произнесла:
— Лучше сами ее спросите. Она скоро придет. Сестра снимает с нее мерки для платьев.
— Вот и чудесно. Замечательно.
Цель была его спасательным плотом, и он цеплялся за нее с благодарностью и полным отсутствием стыда. Он просунул руки в рукава рубашки, сел на краешек веранды и достал из ранца папку и список. С притворным спокойствием он проявил огромный интерес к их содержимому; неважно, что при необходимости он мог бы воспроизвести его наизусть. Все равно не мешает еще раз прочесть: он хотел убедиться, что, когда родители учеников придут к нему в Лондоне, он сможет удовлетворить их любопытство честно и уверенно. Большинство детей разместились в деревне, двое — в доме приходского священника, еще один — в фермерском доме по дороге сюда. Он обернулся через плечо на армию дымовых труб над далекими деревьями и отметил, что Мередит судьба забросила дальше всех, в замок, согласно адресу в списке. Он надеялся зайти внутрь, не только чтобы проведать ученицу, но и чтобы немного ознакомиться с замком; до сих пор местные леди были весьма дружелюбны, приглашали его на чай с пирогом и настоятельно предлагали добавки.
Он рискнул еще раз взглянуть на создание в пруду и решил, что на подобное приглашение нечего рассчитывать. Девушка рассеянно смотрела вдаль, так что он не стал отводить глаза. Незнакомка поставила его в тупик: казалось, она была слепа по отношению к нему и его чарам. Рядом с ней он чувствовал себя пустым местом, а к этому он не привык. Однако с безопасного расстояния, несколько усмирив свою гордыню, он на время забыл о тщеславии и задался вопросом: кто же она? Назойливая особа из местной Женской добровольной службы сообщила, что замок принадлежит некоему Раймонду Блайту, писателю (вы, конечно, читали «Подлинную историю Слякотника»?), старому и больному человеку, но Мередит попала в добрые руки его дочерей-близнецов, старых дев, превосходно подходящих для заботы о бедном бездомном ребенке. Больше ни о ком речи не было, и он предположил, не слишком, впрочем, утруждая себя рассуждениями, что мистер Блайт и сестры-близнецы — единственные обитатели замка Майлдерхерст. Он совершенно не ожидал встретить эту девушку… эту женщину, эту молодую и непостижимую женщину, которая, конечно, никакая не старая дева. Это странно, но внезапно ему нестерпимо захотелось узнать о ней больше.
Она плеснула водой, и он отвернулся, качая головой и улыбаясь над собственным прискорбным самомнением; Том изучил себя достаточно хорошо и понимал, что его интерес к ней находится в прямой зависимости от ее равнодушия к нему. Даже в детстве им управлял самый бессмысленный из всех мотивирующих факторов: желание обладать именно тем, чем невозможно. Он должен оставить ее в покое. Она всего лишь девушка. К тому же очень эксцентричная.
Раздался шорох, и сквозь листву продрался тощий золотистый лабрадор, преследующий собственный высунутый язык; Мередит следовала за ним по пятам, улыбка на ее лице сказала Тому все, что ему следовало знать о ее положении. Он был так рад ее видеть — крошечный кусочек нормального мира в очках, — что улыбнулся и бросился ей навстречу, едва не кувырнувшись по пути.
— Привет, малышка. Как жизнь?
Она замерла как вкопанная и заморгала, явно придя в замешательство, увидев его в непривычной обстановке. Пес нарезал круги вокруг девочки. Румянец распространился с ее щек на шею, она переступила с ноги на ногу и поздоровалась:
— Добрый день, мистер Кэвилл.
— Я пришел проверить, как дела.
— Все хорошо, мистер Кэвилл. Я остаюсь в замке.
Он улыбнулся. Милое дитя, застенчивое, но сообразительное. Быстрый ум и превосходные способности к наблюдению, привычка подмечать скрытые мелочи и составлять неожиданные и оригинальные описания. К сожалению, она почти не верила в себя, и нетрудно догадаться почему: ее родители посмотрели на Тома как на умалишенного, когда год или два назад он предложил ей поступить в среднюю школу. Но Том работал над этим.
— Замок! Вот это удача. Кажется, я ни разу не был в замке.
— Он очень большой и очень темный, в нем странно пахнет грязью и много-много лестниц.
— Ты уже по всем поднималась?
— Кроме той, что ведет в башню.
— Вот как?
— Мне нельзя туда подниматься. Там работает мистер Блайт. Он писатель, самый настоящий.
— Настоящий писатель! Если повезет, ты получишь от него пару советов, — воскликнул Том, игриво хлопнув ее по плечу.
Мередит улыбнулась, стеснительно, но довольно.
— Возможно.
— Ты по-прежнему ведешь дневник?
— Постоянно. Столько всего надо записать!
Она украдкой покосилась на пруд, и Том последовал ее примеру. Длинные ноги девушки, держащейся за бортик, всплыли на поверхность. Неожиданно в его голове возникла цитата из Достоевского: «Красота есть не только страшная, но и таинственная вещь».[44]
Он кашлянул.
— Хорошо. Это хорошо. Чем больше ты практикуешься, тем лучше станешь. Никогда не останавливайся на достигнутом.
— Обещаю.
Улыбнувшись ей еще раз, он кивнул на свой планшет.
— Значит, можно отметить, что ты счастлива? Все замечательно?
— О да.
— Ты не слишком скучаешь по маме и папе?
— Я пишу им письма, — ответила Мередит. — Я знаю, где находится почта, и уже отправила им открытку с новым адресом. Ближайшая школа — в Тентердене, туда ходит автобус.
— А твои брат и сестра, они тоже живут неподалеку от деревни?
Мередит кивнула.
Он положил ладонь ей на голову; волосы на макушке были нагреты солнцем.
— У тебя все будет отлично, малышка.
— Мистер Кэвилл?
— Да?
— Вы бы видели книги в замке! Целая комната книг, шкафы вдоль стен, до самого потолка.
— Что ж, это радует, — широко улыбнулся он.
— Меня тоже. — Девочка указала подбородком на фигуру в пруду. — Юнипер говорит, что я могу читать все, что угодно.
Юнипер. Ее зовут Юнипер.
— Я уже прочитала три четверти «Женщины в белом», потом возьмусь за «Грозовой перевал».
— Чего ты ждешь, Мерри? — Юнипер подплыла обратно к берегу и поманила свою младшую подругу. — Вода замечательная. Теплая. Чудесная. Голубая.
Том поежился, когда его слова слетели с ее губ. Мередит покачала головой, как будто предложение застало ее врасплох.
— Я не умею плавать.
Юнипер вышла из воды и натянула белое платье через голову, так что ткань прилипла к мокрым ногам.
— Надо это исправить, пока ты здесь. — Она стянула мокрые волосы в растрепанный хвост, перекинула его через плечо и обратилась к Тому: — Это все?
— Ну, возможно, мне стоит… — Он выдохнул, собрался с духом и начал заново: — Возможно, мне стоит вместе с вами навестить остальных домочадцев?
— Нет, — отрезала Юнипер, не моргнув и глазом. — Это плохая идея.
Почему-то ему стало обидно.
— Моя сестра не любит незнакомцев, особенно мужчин.
— Мерри, разве я незнакомец?
Мередит улыбнулась. Юнипер — нет.
— Ничего личного, — пояснила она. — Просто у сестры такой заскок.
— Понятно.
Она стояла рядом с ним; капли засверкали на ее ресницах, когда их взгляды встретились; он не заметил в ее глазах интереса, и все же его пульс участился.
— Вот как, — вымолвил он.
— Да, так.
— И ничего не поделаешь?
— Ничего.
Юнипер вздернула подбородок и еще мгновение изучала Тома, прежде чем кивнуть. Быстрое движение, которое положило конец их общению.
— До свидания, мистер Кэвилл, — попрощалась Мередит.
— До свидания, малышка. — Он улыбнулся и пожал ей руку. — Береги себя. Не переставай писать.
Он проследил, как они уходят, исчезают среди зелени, направляясь в замок. Длинные светлые волосы струились по спине Юнипер, острые лопатки казались зачатками крыльев. Она протянула руку, легонько обняла Мередит за плечи и привлекла к себе, и хотя Том уже потерял их из виду, ему показалось, что он услышал смешки, когда они стали подниматься по склону холма.
Пройдет больше года, прежде чем он встретит ее снова, прежде чем они случайно столкнутся на лондонской улице. К тому времени он станет другим человеком, неумолимо изменится, станет более тихим и менее самоуверенным, таким же калекой, как город вокруг. Он переживет французский период, дотащит свою раненую ногу до Бре-Дюна, будет эвакуирован из Дюнкерка, увидит, как друзья умирают у него на руках, справится с приступом дизентерии и убедится, что хотя Джон Китс был прав и опыт — действительно истина, некоторые вещи лучше не познавать опытным путем.
И новый Томас Кэвилл влюбится в Юнипер Блайт по тем же самым причинам, по которым счел ее настолько странной на той поляне, в том пруду. В мире, посеревшем от пепла и печали, она покажется ему прекрасной; ее волшебный нетронутый облик, который останется таким же обособленным от реального мира, очарует его, и она мгновенно его спасет. Он полюбит ее со страстью, которая равно напугает и возродит его, с отчаянием, которое высветит всю глупость его аккуратных планов на будущее.
Но тогда он и не подозревал об этом. Он знал только, что может вычеркнуть последнего ученика из своего списка, что Мередит Бейкер в хороших руках, что она счастлива и благополучна, и теперь он поймает попутку до Лондона и продолжит получать образование и исполнять свой жизненный план. Он застегнул рубашку, хотя еще до конца не обсох, присел, завязал шнурки и, насвистывая, пошел прочь от пруда. Листья кувшинок все еще покачивались на ряби, которую оставила после себя странная девушка с неземными глазами. Том спустился обратно по холму, вдоль мелкого ручья, который вел его к дороге, прочь от Юнипер Блайт и замка Майлдерхерст, чтобы никогда — так он считал — их больше не увидеть.
О, мир с тех пор навек переменился! А разве могло быть иначе? Ни тысячи прочитанных книг, ни все, что она воображала, видела во сне или писала, не подготовило Юнипер Блайт к встрече у пруда с Томасом Кэвиллом. Когда она впервые столкнулась с ним на поляне, мельком увидела, как он лежит на поверхности воды, то решила, что сама его изобрела. Прошло немало времени после визита ее последнего «гостя», и ни мурлыкание в голове, ни странный, неуместный шелест океана в ушах не послужили ей предостережением, но в солнечном свете было нечто знакомое, искусственное сверкание, которое делало пейзаж менее реальным, чем тот, который она только что покинула. Она взглянула на полог деревьев, и когда ветер зашуршал в верхних листьях, словно золотые хлопья посыпались на землю.
Она сидела на качелях у пруда, потому что во время визита это было самое безопасное. «Сиди тихо, держись крепко и жди, когда отпустит» — три мудрых правила, которые изобрела Саффи, когда Юнипер была маленькой. Сестра посадила Юнипер на кухонный стол, чтобы в очередной раз промыть разбитую коленку, и тихонько заметила, что хотя папа прав и гости — действительно дар, ей все равно необходимо научиться осторожности.
— Но мне нравится с ними играть, — возразила Юнипер. — Они мои друзья. И они рассказывают такие интересные вещи.
— Я знаю, милая, и это чудесно. Я только прошу тебя помнить, что ты не такая, как они. Ты маленькая девочка, у которой есть кожа, и кровь под ней, и кости, которые могут сломаться, и есть две старшие сестры, которым очень хочется увидеть, как ты вырастешь!
— И папочка.
— Ну конечно. И папочка.
— А мамы нет.
— Нет.
— Но есть щенок.
— Эмерсон, да.
— И пластырь на коленке.
Саффи засмеялась, обняла ее, обдав запахом талька, жасмина и чернил, и поставила обратно на плитки пола. И Юнипер старательно отвела глаза от фантома у окна, который манил ее на улицу, звал поиграть.
Юнипер не знала, откуда берутся гости. Помнила только, что самые ранние ее воспоминания — фигуры в потоках света вокруг колыбели. В три года она поняла, что другие их не видят. Ее называли чудаковатой и сумасшедшей, нечестивой и одаренной; она выжила из дома бесчисленных нянек, которые не желали терпеть воображаемых друзей. «Они вовсе не воображаемые», — объясняла Юнипер снова и снова своим самым здравомыслящим тоном; но, судя по всему, ни одна английская няня не была готова принять подобное заявление на веру. Одна за другой они собирали вещи и требовали встречи с папочкой; сидя в потайном укрытии в венах замка, тесной расселине между камнями, Юнипер примеряла очередной набор определений: «Она дерзкая…», «Она своевольная…», а однажды даже: «Одержимая!»
У каждого была своя теория насчет гостей. Доктор Финли полагал их «фибрами тоски и любопытства», проецируемыми ее собственным рассудком и неким образом связанными с больным сердцем; доктор Хайнштайн определил, что это симптомы психоза, и выдал кучу таблеток, которые якобы должны положить им конец; папочка утверждал, что это голоса ее предков и она избрана свыше, чтобы слышать их; Саффи уверяла, что она в любом случае само совершенство, а Перси было все равно. Она говорила, что все люди разные, и для чего вообще наклеивать ярлыки, считать кого-то нормальным, а кого-то нет?
Ладно. Юнипер сидела на качелях не потому, что это было самое безопасное. Она сидела на них потому, что с них открывался наилучший вид на фантом в пруду. Она была любопытна, а он был красив. Гладкость его кожи, то, как мускулы на его обнаженной груди вздымались и опадали при дыхании, его плечи. Если она сама его изобрела, у нее чертовски здорово получилось; он был экзотичным и привлекательным, и ей хотелось следить за ним до тех пор, пока он не рассыплется листьями и пятнами света прямо у нее на глазах.
Но этого не произошло. Она сидела, прислонив голову к веревке качелей, и вдруг он открыл глаза, встретил ее взгляд и заговорил.
Само по себе это не было чем-то из ряда вон выходящим; гости и прежде часто обращались к Юнипер, вот только на этот раз они впервые приняли облик молодого мужчины. Молодого мужчины почти без одежды.
Она ответила ему, но коротко. Вообще-то она испытывала раздражение; ей не хотелось, чтобы он говорил; ей хотелось, чтобы он снова закрыл глаза и плыл по сверкающей поверхности воды, чтобы она могла наблюдать за танцем солнечного света на его руках и ногах, длинных-предлинных руках и ногах, на его довольно красивом лице, и прислушиваться к странному чувству в самой глубине живота, похожему на гудение задетой струны.
Она знала мало мужчин. Разумеется, папу… но он вряд ли в счет; своего крестного отца Стивена; несколько дряхлых садовников, которые работали в поместье долгие годы; и Дэвиса, следящего за «Даймлером».
Но это было совсем другое.
Юнипер пыталась не обращать на него внимания в надежде, что до него дойдет и он оставит попытки завязать беседу, но он не унимался. Он назвал свое имя: Томас Кэвилл. Обычно у них не было имен. Нормальных, по крайней мере.
Тогда она тоже нырнула в пруд, и он поспешно выбрался на берег. Она заметила, что на шезлонге лежит одежда, — его одежда, и это было так странно.
А потом случилось самое удивительное. Пришла Мередит — Саффи наконец отпустила ее из швейной комнаты — и поздоровалась с мужчиной.
Наблюдавшая за ними из воды Юнипер едва не утонула от потрясения, поскольку ее гостей никто и никогда не видел.
Юнипер провела в замке Майлдерхерст всю жизнь. Подобно отцу и сестрам, она родилась в комнате на третьем этаже. Она досконально изучила замок и его леса, ведь другого мира она не знала. Она была в безопасности, ее любили, ей потакали. Она читала, писала, играла и мечтала. От нее ожидали только одного: быть самой собой. Иногда даже больше, чем собой.
— Ты, моя крошка, создание замка, — часто повторял папа. — Мы с тобой одно.
И долгое время Юнипер вполне довольствовалась таким определением.
Однако в последнее время все начато необъяснимо меняться. Иногда она просыпалась по ночам от невыразимой тоски, странного томления, похожего на голод. Недовольства, желания, зияющей глубокой пустоты, которую она не представляла, чем заполнить. Она понятия не имела, чего ей не хватает. Она ходила и бегала, писала яростно и быстро. Слова, звуки рвались на свободу из ее головы, и она испытывала облегчение, перенося их на бумагу; она не размышляла, не подбирала выражения, никогда не перечитывала написанное; ей довольно было отпустить слова на волю, чтобы заглушить голоса в голове.
А потом однажды порыв привел ее в деревню. Она редко садилась за руль, но вывела большой старый «Даймлер» на Хай-стрит. Словно во сне, словно персонаж чужого рассказа, она припарковалась и вошла в клуб; женщина обратилась к ней, однако Юнипер уже увидела Мередит.
Позже Саффи спросит ее, как она выбрала, и Юнипер ответит:
— Я не выбирала.
— Я не хочу спорить, котенок, но совершенно уверена, что это ты привезла ее домой.
— Да, конечно, но я не выбирала. Я просто узнала.
У Юнипер никогда прежде не было подруги. Прочие люди, напыщенные папины друзья, гости замка, казалось, только занимают больше места, чем им положено. Они распирали дом своим хвастовством, рисовкой и непрерывной болтовней. Однако Мередит была другой. Она была забавной и смотрела на мир особенным образом. Она была прирожденной читательницей, не имевшей доступа к книгам; была на редкость наблюдательна, хотя ее мысли и чувства не проходили через фильтр того, что она прочитала, того, что написали до нее. Она обладала уникальным взглядом на мир и манерой самовыражения, которая заставала Юнипер врасплох и заставляла ее смеяться, думать и ощущать по-новому.
Но самое замечательное, что Мередит знала множество историй о внешнем мире. Ее присутствие проделало прореху в ткани Майлдерхерста. Крошечное яркое окошко, в которое Юнипер могла заглянуть и увидеть, что лежит за ним.
А теперь посмотрите, кого она привела! Мужчину, настоящего мужчину из плоти и крови. Молодой мужчина из внешнего мира, реального мира, возник в пруду. Свет из внешнего мира пробился сквозь завесу и стал ярче, когда появилось второе окошко, и Юнипер необходимо было увидеть больше.
Он предложил задержаться, пойти с ними в замок, но Юнипер ему запретила. Замок — это совсем не то; ей хотелось наблюдать за ним, изучать его, как кошка, — осторожно, медленно, незаметно скользить взглядом по коже; либо это, либо ничего. Пусть он запечатлится в памяти залитым солнцем беззвучным мгновением; ветерком на щеке; качелями, летящими над теплым прудом; незнакомым низким гудением в животе.
Мужчина ушел. А они остались. Юнипер обняла Мередит за плечи и засмеялась, когда они поднимались по склону холма; пошутила насчет обыкновения Саффи втыкать булавки не только в ткань, но и в ноги; указала на старый фонтан, который больше не бил; на мгновение остановилась осмотреть затхлую зеленоватую воду, которая застоялась внутри, и стрекоз, судорожно дергавшихся над бортиком. Но все это время ее мысли, словно паутина, тянулись за мужчиной, удалявшимся в сторону дороги.
Она прибавила шаг. Было жарко, очень жарко, ее волосы уже наполовину высохли и прилипли к щекам, кожа казалась натянутой сильнее, чем обычно. Она испытывала странное оживление. Вероятно, Мередит слышит, как ее сердце колотится о ребра?
— У меня отличная идея, — сообщила Юнипер. — Ты когда-нибудь хотела узнать, как выглядит Франция?
Она взяла младшую подругу за руку, и они поспешили вверх по лестнице, через заросли шиповника, сквозь длинный тоннель деревьев. В голову пришло слово «проворно», и она почувствовала себя легконогой, как лань. Быстрее, быстрее, обе девушки смеялись; ветер трепал волосы Юнипер; ее ноги, ликуя, касались запекшейся, жесткой земли, и радость бежала бок о бок. Наконец они добрались до портика, спотыкаясь, взлетели по лестнице и, задыхаясь, ввалились через открытые остекленные двери в прохладное спокойствие библиотеки.
— Джун? Это ты?
За письменным столом сидела Саффи; милая Саффи. Она подняла глаза из-за пишущей машинки в своей обычной манере, немного растерянно, как если бы ее застигли в разгар грез о розовых лепестках и капельках росы, и реальность поразила ее своей серостью.
То ли из-за солнечного света, то ли из-за пруда, то ли из-за мужчины, то ли из-за ясного синего неба, но Юнипер не устояла и поцеловала сестру в макушку, когда они пробегали мимо.
Саффи просияла.
— Мередит, тебя… Да, вижу. Прекрасно. О, да ты плавала; смотри, чтобы папа не…
Но о чем бы она ни собиралась предупредить, Юнипер и Мередит уже скрылись. Они бежали по сумрачным коридорам из песчаника, вверх по узким лестничным пролетам, этаж за этажом, пока не достигли чердака на самом верху замка. Юнипер метнулась к открытому окну, взобралась на книжный шкаф и развернулась так, что ее ноги оказались на крыше.
— Иди сюда, — позвала она Мередит, которая со странным лицом замерла у двери. — Быстрее!
Мередит неуверенно вздохнула, поправила очки на переносице и повиновалась, проделав то же, что и Юнипер. Осторожно переступая по крутой крыше, девушки подобрались к коньку, который смотрел на юг, точно нос корабля.
— Вон там, видишь? — спросила Юнипер, когда они сели рядышком на ровной площадке за декоративным бордюром. Она указала на небрежный росчерк на горизонте. — Я же обещала. Вон она, Франция.
— Правда? Это она?
Юнипер кивнула, не обращая более внимания на далекий берег. Вместо этого она сощурилась на широкое поле высокой пожелтевшей травы, скользнула взглядом по Кардаркерскому лесу, высматривая, высматривая, надеясь в последний раз мельком увидеть…
Она вздрогнула. Крошечная фигурка пересекала поле у первого моста. Рукава его рубашки были закатаны до локтей, насколько она могла различить, и он держал ладони перед собой, касаясь верхушек высокой травы. Он остановился, пока она следила, и закинул руки за голову; казалось, он обнимает небо. Юнипер поняла, что он оборачивается; уже обернулся. Взглянул на замок. Она затаила дыхание. Поразительно, как сильно может измениться жизнь за полчаса, при том что ничего особенно не изменилось.
— Замок носит юбку, — кивнула Мередит на землю внизу.
Он снова пошел, исчез за складкой холма, и все стихло. Томас Кэвилл через брешь вернулся в большой мир. Казалось, воздух вокруг замка знает об этом.
— Смотри, — не унималась Мередит. — Там, внизу.
Юнипер достала из кармана сигареты.
— Раньше там был ров. Папа засыпал его, когда его первая жена умерла. В пруду мы тоже не должны плавать. — Она улыбнулась тому, что лицо Мередит стало воплощением тревоги. — Не переживай, крошка Мерри. Никто нас не засечет, когда я буду учить тебя плавать. Папа больше не покидает башню, так что он не узнает, плаваем мы в пруду или нет. Кроме того, в такой теплый день просто преступление не окунуться.
Теплый, чудесный, голубой.
Яростно чиркнув спичкой и глубоко затянувшись, Юнипер снова оперлась рукой о наклонную крышу и прищурилась на ясное синее небо. Купол ее мира. В голове возникли чужие строки:
Я ж, старая голубка,
Укрывшись в обнаженных ветках, буду
Одна навек потерянного друга
Оплакивать до гроба.[45]
Нелепо, конечно. Донельзя нелепо. Этот мужчина ей не друг; он никто, и его незачем оплакивать до гроба. И все же слова пришли ей на ум.
— Тебе понравился мистер Кэвилл?
Сердце Юнипер екнуло; она залилась внезапным жаром. Все пропало! Мередит интуитивно проследила за тайным ходом ее мыслей. Чтобы потянуть время, Юнипер поправила влажную лямку сарафана, убрала спички в карман, и тут Мередит заявила:
— Мне он нравится.
По ее розовым щекам Юнипер поняла, что Мередит очень-очень нравится ее учитель. Юнипер разрывалась между облегчением, оттого что ее переживания остались скрытыми, и дикой, неистовой завистью, оттого что не может поделиться своими чувствами. Она покосилась на Мередит, и вспышка зависти мгновенно потухла.
— Почему? — как можно небрежнее обронила Юнипер. — Что тебе в нем нравится?
Мередит ответила не сразу. Юнипер курила и смотрела в ту точку, где мужчина пробил купол над Майлдерхерстом.
— Он очень умный, — наконец произнесла девочка. — И красивый. И добрый, даже к тем людям, с которыми это непросто. У него есть брат-дурачок, большой парень, который ведет себя как маленький, легко плачет, иногда кричит на улице, но ты бы знала, как терпеливо и ласково мистер Кэвилл обращается с ним. Если бы ты увидела их вместе, ты бы решила, что он в полном восторге от общения с братом, и он не переигрывает, как делают люди, ощущая, что за ними наблюдают. Лучшего учителя у меня в жизни не было. Он подарил мне дневник, настоящий дневник в кожаной обложке. Он считает, что если я буду стараться, то смогу пробыть в школе подольше, возможно, даже поступить в среднюю школу или университет, и со временем научусь правильно писать рассказы, или стихотворения, или статьи для газеты… — Мередит умолкла, перевела дыхание и добавила: — Он первый, кто считает, что я на что-то гожусь.
Толкнув плечом тощую девчушку, сидевшую рядом, Юнипер сказала:
— Ты бредишь, Мерри. Ну конечно, мистер Кэвилл прав, ты очень талантлива. Мы с тобой знакомы всего несколько дней, но я совершенно в этом уверена…
Не в силах продолжить, она закашлялась в ладонь. Ею овладело незнакомое чувство, пока Мередит описывала достоинства своего учителя, его доброту; когда девочка взволнованно говорила о своих устремлениях. В груди нарастал жар, затем он стал нестерпимым и разлился патокой под кожей. Когда жар добрался до глаз, на ресницах закипели слезы. Юнипер ощутила себя ранимой, беззащитной и уязвимой, и когда губы младшей подруги растянулись в полной надежды улыбке, она невольно обняла Мерри и прижала к себе. Девочка напряглась в ее объятиях, крепко цепляясь за кровельную дранку.
Юнипер отстранилась.
— Что такое? Что с тобой?
— Просто немножко боюсь высоты, вот и все.
— Но… ты и словом не обмолвилась!
Мередит пожала плечами, уставившись на свои босые ноги.
— Я много чего боюсь.
— Правда?
Она кивнула.
— Ну… наверное, это совершенно нормально.
Девочка резко повернула голову.
— А ты чего-нибудь боишься?
— Конечно. А кто не боится?
— Чего же?
Опустив голову, Юнипер жадно затянулась сигаретой.
— Не знаю.
— Не призраков и разных ужасов в замке?
— Нет.
— Не высоты?
— Нет.
— Утонуть?
— Нет.
— Навсегда остаться одной, не узнать любви?
— Нет.
— Делать то, что ненавидишь, до конца жизни?
Юнипер скорчила гримасу.
— Фу… нет.
Мередит сокрушенно вздохнула, и она не выдержала.
— Есть кое-что.
Ее сердце забилось сильнее, хотя она не собиралась изливать на Мередит свой самый главный и мрачный страх. Юнипер обладала весьма скромным опытом дружбы, но не сомневалась, что неразумно сообщать своей новой и драгоценной подруге, что боишься собственной предрасположенности к лютой жестокости. Вместо этого она затянулась сигаретой и вспомнила дикий приступ ярости, угрожавшей разорвать ее изнутри. То, как она бросилась к нему, схватила, не размышляя, лопату и…
…проснулась в постели, в своей постели. Саффи лежала рядом, Перси стояла у окна.
Саффи улыбалась, но было мгновение, прежде чем она увидела, что Юнипер проснулась, когда ее лицо говорило совсем о другом. Страдальческое выражение, поджатые губы, наморщенный лоб изобличали лживость ее дальнейшего щебета о том, будто все в порядке. Будто ничего дурного не произошло. Ну конечно, ничего дурного, дорогая! Просто ты ненадолго выпала из реальности, как случалось уже много раз.
Из любви к ней они сохранили это в тайне и берегли ее до сих пор. Поначалу она верила им, робко, с надеждой; ну конечно, она верила им. С какой стати им лгать? Она уже много раз выпадала из реальности. Почему на этот раз все должно быть иначе?
И все же иначе. Юнипер выяснила, что именно они скрывают. Они до сих пор не подозревали, что она в курсе. В конце концов, ей просто повезло. Миссис Симпсон пришла с визитом к папе, а Юнипер гуляла вдоль ручья у моста. Женщина оперлась на перила и наставила на нее дрожащий палец с воплем:
— Ты!
Юнипер даже не догадывалась, о чем речь.
— Ты — дикая тварь. Опасная для людей. Тебя надо запереть за то, что ты сделала.
Юнипер ничего не понимала, не представляла, что имеет в виду эта женщина.
— Моему мальчику наложили тридцать швов. Тридцать! Ты дикий зверь.
Зверь.
В голове что-то щелкнуло. Услышав слово «зверь», Юнипер вздрогнула, и воспоминание вернулось. Обрывки воспоминания, потрепанные по краям. Зверь… Эмерсон… плакал от боли.
Но как она ни старалась, как ни пыталась сосредоточиться, остальное отказывалось проясниться. Пряталось в темном шкафу ее сознания. Жалкий, неполноценный мозг! Как она его презирала. Она бы с легкостью отказалась от всего остального: сочинительства, головокружительной волны вдохновения, радости запечатления абстрактной мысли на бумаге. Она бы даже отказалась от гостей, лишь бы больше не терять намять. Она приставала к сестрам, даже умоляла, но из них ничего не удавалось вытянуть, и в конце концов Юнипер отправилась к отцу. В своей башне он рассказал ей остальное — что Билли Симпсон сделал с бедным хворым Эмерсоном, милым старым псом, который всего лишь хотел провести свои последние денечки под залитым солнцем рододендроном… и что Юнипер сделала с Билли Симпсоном. А после он добавил, что ей не о чем волноваться. Это не ее вина.
— Тот парень — хулиган. Он получил по заслугам. — Отец улыбнулся, но в глазах его таился испуг. — Для таких людей, как ты, Юнипер, не годятся обычные правила. Для таких людей, как мы.
— И что же это? — настаивала Мередит. — Чего ты боишься?
— Я боюсь, — Юнипер разглядывала темную границу Кардаркерского леса, — стать такой же, как мой отец.
— Какой такой?
Это было невозможно объяснить, не отяготив Мерри сведениями, которые не предназначались для ее ушей. Страх, который стягивал сердце Юнипер резиновым жгутом; ужасное подозрение, что она окончит свои дни сумасшедшей старухой, будет рыскать по коридорам замка, тонуть в море бумаг и прятаться от созданий собственного пера. Она притворно небрежно пожала плечами.
— Да ничего особенного. Что я никогда не уеду отсюда.
— А почему ты хочешь уехать?
— Сестры душат меня.
— Моя не отказалась бы меня придушить.
Улыбнувшись, Юнипер стряхнула пепел в водосточный желоб.
— Это правда, — заметила Мередит. — Она ненавидит меня.
— Почему?
— Потому что я другая. Потому что не желаю становиться такой, как она, хотя все на это рассчитывают.
Юнипер глубоко затянулась сигаретой и наклонила голову, изучая мир внизу.
— Как уйти от судьбы, Мерри? Вот в чем вопрос.
Молчание, затем тихий практичный ответ:
— Например, уехать на поезде.
Сначала Юнипер показалось, что она ослышалась; она взглянула на Мередит и поняла: девочка совершенно серьезна.
— Конечно, есть еще автобусы, но, по-моему, на поезде намного быстрее. И почти не трясет.
Юнипер невольно расхохоталась; громкий смех поднялся из самой глубины ее существа.
Мередит робко улыбнулась, и Юнипер крепко обняла ее.
— Ах, Мерри! Ты знаешь, что ты само совершенство?
Девочка просияла, и они растянулись на крыше, наблюдая, как день заволакивает небо пленкой.
— Расскажи мне историю, Мерри.
— Какую?
— Расскажи еще что-нибудь о своем Лондоне.
Страницы с объявлениями о сдаче жилья
1992 год
Когда я вернулась после визита к Тео Кэвиллу, папа сгорал от нетерпения. Передняя дверь еще даже не захлопнулась, когда в его комнате забряцал колокольчик. Я отправилась прямо наверх. Отец сидел, опершись на подушки, держа чашку и блюдце, которые мама принесла ему после ужина.
— А, Эди! — Отец изобразил удивление и взглянул на настенные часы. — Я не ждал тебя. Время летит так незаметно.
Весьма сомнительное утверждение. Мой раскрытый экземпляр «Слякотника» лежал на одеяле рядом с отцом, а блокнот на пружине, который он называл «протоколом», опирался на колени. Картина рисовала день, проведенный за распутыванием загадок «Слякотника», эту догадку подтверждало то, как жадно отец уставился на распечатки, торчавшие из моей сумки. Неизвестно почему, но в этот миг в меня вселился дьявол; я широко зевнула, похлопала себя ладонью по рту и медленно пошла к креслу на противоположной стороне кровати. Удобно устроившись, я улыбнулась, и отец не выдержал.
— Ну, как дела в библиотеке? Выяснила что-нибудь о старых похищениях в замке Майлдерхерст?
— А, — протянула я. — Совсем забыла.
Достав папку из сумки, я отобрала нужные страницы и предъявила статьи о похищениях его ястребиному взору.
Он просмотрел их одну за другой с пылом, который заставил меня пожалеть о своей жестокости. Напрасно я томила его. Врачи не раз предупреждали нас об опасности депрессии у людей с больным сердцем, особенно у таких мужчин, как мой отец, который привык быть деятельным и важным и уже ступил на ненадежную почву, пытаясь справиться с недавним выходом на пенсию. Если он намерен стать литературным сыщиком, не мне его отговаривать. И плевать, что «Слякотник» — первая книга, которую он прочел за сорок лет. А главное, это казалось намного более достойной жизненной целью, чем бесконечный ремонт предметов домашнего обихода, которые не были сломаны. Просто мне стоит приложить больше усилий.
— Есть что-нибудь интересное, папа?
Его пыл явно начал угасать.
— Ни одно из дел не связано с Майлдерхерстом.
— Боюсь, ты прав. Напрямую, по крайней мере.
— Но зацепка однозначно должна быть.
— Прости, папа. Это все, что мне удалось отыскать.
Он сделал мужественное лицо.
— Ничего страшного, ты ни в чем не виновата, Эди, нам не следует отчаиваться. Надо просто выйти из плоскости. — Он постучал ручкой по подбородку и наставил ее на меня. — Я все утро провел за чтением и совершенно уверен, что это как-то связано со рвом. Сомнений быть не может. В твоей книге о Майлдерхерсте сказано, что Раймонд Блайт засыпал ров как раз перед написанием «Слякотника».
Я кивнула со всей убежденностью, которую смогла наскрести, и решила не напоминать о смерти Мюриель Блайт и последующей демонстрации горя Раймонда.
— Вот и прекрасно, — радостно произнес отец. — Это что-то да значит. А девочка в окне, которую украли, пока ее родители спали? Все это есть в книге, надо только найти нужную связь.
Он вернулся к статьям, читая их медленно и внимательно и черкая пометки в блокноте. Я попыталась сосредоточиться, но это было сложно, ведь меня тяготила настоящая тайна. В конце концов я уставилась в окно на тусклый вечерний свет; серп луны стоял высоко в лиловом небе, и тонкие пласты облаков неслись по его лицу. Мои мысли были о Тео и его брате, который растворился в воздухе полвека назад, так и не прибыв в замок Майлдерхерст. Я затеяла поиски Томаса Кэвилла в надежде узнать нечто, что поможет мне лучше понять безумие Юнипер, и, хотя этого не произошло, встреча с Тео определенно изменила мое отношение к Тому. Если верить его брату, Том не был обманщиком, на него возводили напраслину. В том числе и я.
— Ты не слушаешь.
Я отвела взгляд от окна и моргнула: папа укоризненно наблюдал за мной поверх очков для чтения.
— Я изложил весьма разумную теорию, Эди, а ты пропустила мимо ушей.
— Нет, неправда. Рвы, дети… — Я вздрогнула и попыталась еще раз. — Лодки?
Он с негодованием фыркнул.
— Ты ничуть не лучше своей матери. В последние дни вы обе витаете в облаках.
— Я не знаю, о чем ты говорил, папа. Извини. — Я оперлась локтями о колени и приготовилась слушать. — Теперь я вся внимание. Поведай мне свою теорию.
Его недовольство не шло ни в какое сравнение с энтузиазмом, и он незамедлительно приступил к изложению:
— Один отчет вызвал мое любопытство. Нераскрытый случай похищения маленького мальчика из его спальни в особняке недалеко от Майлдерхерста. Окно было широко распахнуто, хотя няня клялась, что проверяла его, когда дети отправились спать; на земле остались отметины, похожие на вмятины от приставной лестницы. Дело было в тысяча восемьсот семьдесят втором году, то есть Раймонду было шесть лет. Достаточно много, чтобы событие врезалось в память, как, по-твоему?
Вполне возможно. Отнюдь не исключено.
— Определенно, папа. Звучит очень похоже на правду.
— Самое главное, что тело мальчика после долгих поисков нашли… — Отец усмехнулся, гордясь собой и нагнетая напряжение. — На дне заиленного озера поместья. — Он заглянул мне в глаза, и его улыбка дрогнула. — В чем дело? Почему у тебя такое лицо?
— Я… потому что это ужасно. Несчастный мальчик. Несчастные родители.
— Ну да, конечно, но это случилось сотню лет назад, и все они давно умерли; я о том и твержу. Маленький мальчик из соседнего замка, должно быть, пришел в ужас, подслушав, как это происшествие обсуждают родители.
Я вспомнила запоры на окне детской; Перси Блайт обмолвилась, что у Раймонда был пунктик на вопросах безопасности из-за какого-то случая в детстве. Кажется, папа попал в самую точку.
— Охотно верю.
Он нахмурился.
— Но я все равно не понимаю, как это связано со рвом в Майлдерхерсте. И как испачканное илом тело мальчика превратилось в мужчину, живущего на дне илистого рва. И почему описание выходящего из рва мужчины такое яркое…
В дверь тихо постучали. Мы оба подняли глаза и увидели маму.
— Я не хотела мешать. Просто пришла спросить, допил ли ты чай.
— Спасибо, дорогая.
Отец протянул чашку, и она помедлила, прежде чем забрать ее.
— Вы здесь так заняты.
Мама изобразила повышенный интерес к капельке чая на внешней стороне чашки. Вытерла ее пальцем, старательно не глядя в мою сторону.
— Мы разрабатываем нашу теорию.
Папа подмигнул мне, к счастью не подозревая, что холодный фронт разделил его комнату надвое.
— Значит, вы не скоро закончите. Пойду спать. День выдался нелегким. — Мама поцеловала папу в щеку и кивнула в мою сторону, по-прежнему отводя глаза. — Спокойной ночи, Эди.
— Спокойной ночи, мама.
О боже, какими натянутыми были наши отношения! Я не стала смотреть вслед матери, резко погрузившись в распечатку на коленях. Это были скрепленные степлером страницы со сведениями, которые мисс Йетс раскопала об институте Пембрук-Фарм. Я пролистала вступление, в котором приводилась история группы: в 1907 году ее основал некий Оливер Сайкс. Имя показалось мне знакомым, я напрягла память и сообразила, что это тот самый архитектор, который построил круглый пруд в Майлдерхерсте. Логично; если Раймонд Блайт собирался оставить деньги группе борцов за охрану природы, у него имелись основания ими восхищаться. Следовательно, он привлек тех же самых людей к работе над своим драгоценным поместьем… Дверь маминой спальни захлопнулась, и я вздохнула с некоторым облегчением. Я отложила бумаги и ради папы постаралась вести себя непринужденно.
— Знаешь, папа… — Горло словно натерли песком. — Мне кажется, ты напал на след; я имею в виду ту историю с озером и маленьким мальчиком.
— Послушай, Эди…
— И я совершенно уверена, что это могло послужить источником вдохновения для романа.
Он закатил глаза.
— Да забудь о книге. Обрати внимание на маму.
— На маму?
Папа указал на закрытую дверь.
— Она несчастна, и мне это не нравится.
— Тебе кажется.
— Я же не сумасшедший. Она неделями бродит по дому как тень, а сегодня пожаловалась, что нашла в твоей комнате страницы с объявлениями о сдаче жилья, и разрыдалась.
Мама была в моей комнате?
— Она плакала?
— Она всегда очень глубоко переживает. У нее душа нараспашку. В этом отношении вы удивительно похожи.
Не уверена, намеренно ли он ошарашил меня своим заявлением, но при упоминании о том, что у мамы душа нараспашку, я испытала невероятное замешательство и потеряла всяческую способность настаивать на том, что он безнадежно ошибается, считая нас похожими.
— Что ты имеешь в виду?
— Эта черта мне особенно в ней понравилась. Твоя мать так отличалась от суровых девиц, которых я встречал до нее! Когда я впервые ее увидел, она рыдала как дитя.
— Правда?
— Мы были в кино. Случайно оказались в зале одни. Фильм был не особенно грустный, насколько я мог судить, но твоя мама весь сеанс проплакала в темноте. Она пыталась это скрыть, однако когда мы вышли в фойе, ее глаза были красными, что твоя футболка. Я пожалел ее и решил угостить пирогом.
— Из-за чего она плакала?
— Я так и не выяснил. В те дни она легко плакала.
— Не… что, правда?
— О да. Она была очень чувствительной… и забавной; умной и непредсказуемой. Она обладала даром описывать вещи так, что казалось, будто ты впервые их видишь.
Мне не терпелось задать вопрос: «Что же случилось?», но намек на то, что все это осталось в прошлом, казался жестоким. Я была рада, когда папа сам продолжил:
— Все изменилось после твоего брата. После Дэниела. С тех пор все иначе.
Вряд ли я прежде слышала имя Дэниела из папиных уст и потому застыла на месте. Мне столько хотелось сказать, в голове вертелось столько мыслей, что я захлебнулась в словах и сумела лишь выдавить:
— О…
— Это было ужасно. — Речь отца была медленной и ровной, однако его выдала нижняя губа, странно, непроизвольно дернувшаяся, отчего мое сердце сжалось. — Ужасно.
Я легонько коснулась его руки, но он, похоже, не заметил. Его глаза пристально смотрели на участок ковра у двери; он тоскливо улыбнулся чему-то невидимому и добавил:
— Он часто прыгал. Любил прыгать. «Я прыгаю! — кричал он. — Смотри, папа, я прыгаю!»
Мне было легко представить своего маленького старшего брата, сияющего от гордости и неуклюже скачущего по дому.
— Как жаль, что я не знала его.
Папа накрыл мою ладонь своей.
— Мне тоже.
Ночной ветерок взметнул занавеску у моего плеча, и я задрожала.
— Я привыкла думать, что у нас живет привидение. В детстве я иногда слышала ваши с мамой разговоры; слышала, как вы произносите его имя, но когда бы ни заходила в комнату, вы умолкали. Однажды я спросила маму о нем.
Оторвав взгляд от пола, папа посмотрел мне в глаза.
— Что она ответила?
— Что я выдумываю.
Папа поднял руку и нахмурился, глядя на нее, сжал пальцы, сминая невидимый листок бумаги, и сокрушенно вздохнул.
— Мы считали, что поступаем правильно. Мы старались, как могли.
— Я знаю.
— Твоя мама…
Он сдвинул брови, сражаясь с горем, и мне даже захотелось положить конец его страданиям. Но я не могла. Я так долго ждала эту историю — в конце концов, она объясняла мой обморок, — и я жадно впитывала все крохи, которые отец предлагал. Следующие фразы он подбирал с такой осторожностью, что больно было смотреть.
— Твоя мать восприняла это особенно тяжело. Она винила себя. Она не могла примириться с тем, что случившееся… — он сглотнул, — случившееся с Дэниелом — несчастный случай. Она вбила в голову, что сама это на себя навлекла, что заслужила потерю ребенка.
Я онемела, и не только потому, что его рассказ был таким ужасным, таким печальным, но и потому, что он вообще со мной поделился.
— Почему же она так решила, как, по-твоему?
— Даже не представляю.
— Болезнь Дэниела не была наследственной.
— Нет.
— Это было просто…
Мне никак не удавалось найти нужные слова, в голову приходило только «одно из тех событий».
Он перекинул обложку блокнота, аккуратно положил его на «Слякотника» и убрал их на прикроватный столик. Очевидно, сегодня вечером мы не будем читать.
— Иногда, Эди, чувства человека иррациональны. По крайней мере, на первый взгляд. Нужно копнуть чуть глубже, чтобы понять их истоки.
Я смогла лишь кивнуть, потому что день и так был странным, а теперь еще и отец напомнил мне о тонкостях человеческой психологии; все это было слишком необычно, чтобы переварить так легко.
— Я всегда подозревал, что это как-то связано с ее собственной матерью, их ссорой много лет назад, когда твоя мама была еще подростком. С тех пор они отдалились друг от друга. Подробностей я так и не выяснил, но что бы ни говорила твоя Ба, Мередит вспомнила это, когда потеряла Дэниела.
— Но Ба никогда не причинила бы маме боль, нарочно, по крайней мере.
Он покачал головой.
— Неизвестно, Эди. Люди способны на многое. Мне никогда не нравилось, как твоя Ба и Рита вместе нападали на твою мать. От этого у меня во рту возникал гадкий привкус. Они объединились против нее и использовали тебя, чтобы вбить клин.
Его мнение о ситуации тоже меня удивило, меня тронула забота, прозвучавшая в его голосе. Рита намекала, что мама и папа — снобы, что они смотрят на своих родственников сверху вниз, но после папиных слов… я уже не была уверена, что все так просто.
— Жизнь слишком коротка для размолвок, Эди. Сегодня ты здесь, завтра — нет. Не знаю, что случилось между тобой и мамой, но она несчастна, и это делает несчастным меня, а я еще не слишком дряхлый старик, который поправляется после сердечного приступа, и мои интересы надо принимать во внимание.
Я улыбнулась, и отец тоже.
— Помирись с ней, Эди, милая.
Я кивнула.
— Мне надо избавиться от забот, если я хочу разобраться в этой истории со «Слякотником».
Позже вечером я сидела на кровати, разложив перед собой страницы с объявлениями о сдаче жилья, обводя кружками квартиры, которые даже не надеялась арендовать, и размышляла об эмоциональной, забавной, смешливой, ранимой молодой женщине, с которой мне не довелось познакомиться. Загадке на одной из старых фотографий — прямоугольной карточке с закругленными уголками и мягкими, выгоревшими на солнце цветами — в поблекших брюках-клеш и блузке в цветочек, держащей за руку маленького мальчика со стрижкой под горшок в кожаных сандалиях. Мальчика, который любил прыгать; смерть которого потом погубила ее.
Еще я думала о папином предположении, будто мама винит себя в смерти Дэниела. Считает, что заслужила потерю ребенка. Папин тон, или, может, использованное им слово «потеря», или подозрение, что это как-то связано с ее ссорой с Ба, напомнило мне о последнем мамином письме к родителям. Мольбах о том, чтобы остаться в Майлдерхерсте, уверениях, что она наконец нашла свое место, что ее выбор не означает, будто Ба «потеряла» ее.
Здесь явно имелась какая-то связь, но моему желудку было наплевать. Он бесцеремонно прервал мои рассуждения, напомнив, что после лазаньи Герберта я не проглотила ни кусочка.
В доме было тихо, и я осторожно направилась по темному коридору к лестнице. Я почти добралась до места, когда заметила тонкую полоску света под дверью маминой спальни. Я помедлила; в ушах звенело обещание, данное папе, сущий пустяк: наладить испорченные отношения. Шансы преуспеть были невелики — мама как никто умеет грациозно скользить по тонкой корочке льда, — но для папы это было важно, так что я глубоко вдохнула и чуть слышно постучала в дверь. Ничего не случилось, и на мгновение мне показалось, что все обошлось, но затем с той стороны долетел тихий голос:
— Эди? Это ты?
Открыв дверь, я застала маму на кровати под моей любимой картиной с полной луной, превращающей смоляное море в ртуть. Мамины очки балансировали на кончике носа, а на коленях лежал роман «Последние дни в Париже». При моем появлении она моргнула, ее лицо было напряженным и неуверенным.
— Я заметила свет под дверью.
— Я не могла уснуть. — Мама наклонила книгу в мою сторону. — Чтение иногда помогает.
В знак согласия я кивнула, и мы обе умолкли; мой желудок заметил тишину и воспользовался возможностью ее заполнить.
Я уже собиралась извиниться и сбежать на кухню, когда мама произнесла:
— Затвори дверь, Эди.
Я повиновалась.
— Пожалуйста, зайди и сядь.
Она сняла очки и повесила их за цепочку на столбик кровати. Я осторожно села, прислонившись к изножью в том самом месте, которое ребенком занимала по утрам в день рождения.
— Мама, я…
— Ты была права, Эди. — Она вложила закладку в роман, закрыла обложку, но класть на прикроватный столик не стала. — Я брала тебя в Майлдерхерст. Много лет назад.
Меня охватило внезапное желание заплакать.
— Ты была совсем крохой. Я не думала, что ты помнишь. Мы провели там совсем мало времени. Оказалось, что мне не хватает смелости пройти дальше парадных ворот. — Мама не смотрела мне в глаза, крепко прижимая роман к груди. — Я поступила неправильно, сделав вид, что ты все сочинила. Просто я… испытала огромное потрясение, когда ты спросила. Я была не готова. И не хотела лгать. Можешь ли ты простить меня?
Как устоять перед подобным порывом?
— Конечно.
— Я любила это место. — Ее губы кривились. — И покинула его не по доброй воле.
— Ах, мама!
Мне захотелось обнять ее.
— Ее я тоже любила — Юнипер Блайт.
Наконец она подняла глаза, ее лицо было таким потерянным, таким несчастным, что у меня перехватило дыхание.
— Расскажи мне о ней, мама.
Последовала долгая пауза; по ее взгляду было ясно, что она унеслась в далекое прошлое.
— Она была… не такой, как все. — Мама отвела со лба несуществующую прядь. — Она была очаровательной. И это не пустой комплимент. Она очаровала меня.
Мне представилась седовласая женщина, которую я встретила в темном коридоре Майлдерхерста; улыбка, невероятно преобразившая ее лицо; письма Томаса брату, полные безумной любви. Маленькая девочка на фотографии, застигнутая врасплох и смотрящая в камеру широко расставленными глазами.
— Ты отказывалась возвращаться домой из Майлдерхерста.
— Да.
— Ты хотела остаться с Юнипер.
Она кивнула.
— И Ба разозлилась.
— О да. Много месяцев она пыталась залучить меня домой, но мне… удавалось убедить ее, что я должна остаться. Потом началась бомбардировка Лондона, и, наверное, родители были рады, что я в безопасности. Однако в конце концов мама послала за мной отца, и я так и не вернулась в замок. Но мне всегда было интересно…
— Как дела в Майлдерхерсте?
Мама покачала головой.
— Как дела у Юнипер и мистера Кэвилла.
У меня по коже побежали мурашки, и я крепко вцепилась в боковину кровати.
— Так звали моего любимого учителя, — продолжила мама. — Томас Кэвилл. Видишь ли, они заключили помолвку, и я больше ничего не слышала о них.
— Пока не получила потерянное письмо от Юнипер.
При упоминании письма мама вздрогнула.
— Да, — подтвердила она.
— И оно заставило тебя плакать.
— Да.
Долгое мгновение мне казалось, что она снова расплачется.
— Но дело не в том, что оно грустное, дело не в самом письме. Вовсе нет. Понимаешь, оно столько времени было потеряно. Я думала, что Юнипер забыла.
— О чем?
— Обо мне, разумеется. — Мамины губы дрожали. — Я считала, что они поженились и забыли обо мне.
— Но это не так.
— Да.
— Они вообще не поженились.
— Да, только тогда я не знала этого, до тех пор, пока ты не рассказала. Я просто никогда больше не слышала о них. Я кое-что послала Юнипер, кое-что очень важное, и ждала ответа. Я ждала, и ждала, и проверяла почту дважды в день, однако ничего не пришло.
— Ты написала ей снова? Чтобы выяснить, что стряслось, получила ли она первое письмо?
— Много раз чуть было не написала, но это казалось таким жалким. А потом я встретила одну из сестер мистера Кэвилла в продуктовом магазине, и та сообщила, что он сбежал и женился, не поставив их в известность.
— Ах, мама. Мне так жаль.
Она положила книгу на лоскутное одеяло рядом с собой и тихо промолвила:
— С тех пор я возненавидела их обоих. Я была так обижена. Отверженность — это рак, Эди. Она сжирает человека с потрохами.
Я придвинулась ближе и взяла ее за руку; она вцепилась в мою ладонь. На ее щеках блестели слезы.
— Я ненавидела ее и любила, и мне было так больно. — Мама сунула руку в карман халата и достала конверт. — А потом получила это. Через пятьдесят лет.
Потерянное письмо Юнипер. Я взяла его у мамы, не в силах проронить ни слова. Она предлагает мне прочесть его? Я заглянула ей в глаза, и она чуть заметно кивнула.
Дрожащими пальцами я открыла конверт и приступила к письму.
Драгоценная Мерри!
Моя умная-разумная детка! Твоя история пришла в целости и сохранности, и я рыдала, когда читала ее. Какая чудесная-расчудесная история! Радостная и ужасно печальная, и — ах! — полная блестящих наблюдений. Какой умной молодой мисс ты стала! В твоих сочинениях столько искренности, Мерри, правдивости, к которой многие стремятся, но мало кто достигает. Ты не должна останавливаться; твоя жизнь принадлежит только тебе — поступай с ней согласно своим желаниям. Тебя ничто не удерживает, мой маленький друг.
Очень бы хотелось сказать это лично, вернуть тебе рукопись под деревом в парке, тем самым, в листьях которого прячется россыпь солнечных бриллиантов, но, увы, вынуждена сообщить, что не смогу вернуться в Лондон, как собиралась. По крайней мере, не сразу. Дела здесь идут не так, как я рассчитывала. Обо всем написать не могу, только то, что кое-что случилось, и мне лучше пока побыть дома. Я скучаю по тебе, Мерри. Ты моя первая и единственная подруга; не помню, я говорила тебе об этом? Я часто вспоминаю время, которое мы провели здесь вместе, особенно тот день на крыше, помнишь? Тогда ты была с нами всего несколько дней и скрыла, что боишься высоты. Ты спросила меня, чего я боюсь, и я ответила. Я никогда не обсуждала это с кем-то еще.
До свидания, детка.
Навеки твоя,
Я была вынуждена перечесть письмо еще раз, внимательно изучая небрежные рукописные каракули. Очень многое в этих строках распалило мое любопытство, но одно заинтересовало больше всего. Мама показала мне письмо, чтобы я что-то поняла о Юнипер, об их дружбе, а я могла думать лишь о нас с мамой. Всю взрослую жизнь я провела, вращаясь в мире писателей и их рукописей: я приносила домой бесчисленные байки и травила их за ужином, зная, что их пропускают мимо ушей, и с самого детства я считала себя белой вороной. Мама ни разу даже не намекнула, что когда-то и сама питала литературные надежды. Конечно, Рита упомянула об этом; но только сейчас, с письмом Юнипер в руках, под нервным взглядом матери я окончательно поверила ей. Я вернула письмо маме и проглотила обиду, комком застрявшую в горле.
— Ты сочиняла.
— Это было ребячество, я переросла его.
Однако по тому, как она отвела глаза, мне стало ясно: это было намного серьезнее. Мне захотелось надавить, спросить, пишет ли она до сих пор, сохранились ли ее работы, покажет ли она их мне. Но я не стала этого делать. Она снова смотрела на свое письмо, и лицо ее было таким грустным, что я просто не смогла. Вместо этого я заметила:
— Вы были близкими подругами.
— Да.
«Я любила ее», — заявила мама; «моя первая и единственная подруга», — сказала Юнипер. И все же они расстались в 1941 году, расстались навсегда. После минутной паузы я задала вопрос:
— Что Юнипер имела в виду, мама? Как, по-твоему, что она имела в виду, написав, что кое-что случилось?
Мама разгладила письмо.
— Полагаю, она имела в виду, что Томас сбежал с другой женщиной. Разве не ты сообщила мне об этом?
Да, но только потому, что сама так считала. Я больше не верила в это после беседы с Тео Кэвиллом.
— А что означает приписка в конце, — поинтересовалась я, — о страхе? О чем речь?
— Это немного странно, — согласилась мама. — Мне кажется, она привела тот разговор как пример нашей дружбы. Мы так много времени проводили вместе, так много делали… не знаю, почему она упомянула об этом особо. — Мама подняла глаза, и мне стало ясно, что она действительно недоумевает. — Юнипер была отважным человеком; ей и в голову не приходило опасаться того же, что и другие люди. Она боялась одного: стать такой же, как ее отец.
— Как Раймонд Блайт? Но в каком отношении?
— Она мне так толком и не объяснила. Он был не вполне вменяемым старым джентльменом, писателем, как и она… верил, что его персонажи обрели жизнь и преследуют его. Однажды я наткнулась на него, по ошибке. Повернула не в ту сторону и оказалась у его башни… он изрядно напугал меня. Возможно, она имела в виду именно это?
Вполне вероятно; я мысленно вернулась в деревню Майлдерхерст, к историям, которые слышала о Юнипер. Провалы в памяти, которые она не могла восполнить. Должно быть, девушка, которая и сама страдала от приступов, особенно боялась при виде того, как отец в старости теряет рассудок. К сожалению, боялась не напрасно.
Мама вздохнула и рукой взъерошила волосы.
— Я все испортила. Юнипер, Томас… а теперь ты ищешь новое жилье из-за меня.
— Нет, неправда, — улыбнулась я. — Я ищу новое жилье, потому что мне тридцать лет, и я не могу оставаться дома вечно, пусть даже ты завариваешь чай намного лучше меня.
Когда она тоже улыбнулась, я испытала прилив приязни, волнующее глубокое чувство, которое пробудилось только сейчас.
— И это я все испортила. Мне не следовало читать твои письма. Простишь ли ты меня?
— Тебе незачем спрашивать.
— Я просто хотела узнать тебя получше, мама.
Она легонько погладила меня по руке, и это означало, что она все понимает.
— Мне отсюда слышно, как бурчит у тебя в животе, Эди, — только и вымолвила она. — Пойдем на кухню, я приготовлю тебе что-нибудь вкусненькое.
Как раз когда я ломала голову над тем, что случилось между Томасом и Юнипер и доведется ли мне когда-нибудь это выяснить, произошло нечто совершенно неожиданное. Была среда, время обеда, мы с Гербертом возвращались с Джесс с традиционной прогулки по Кенсингтонским садам. Возвращались намного более хлопотливо, чем можно вообразить: Джесс отказывалась идти и ничуть не скрывала своих чувств, выражая протест остановками через каждые полсотни футов, обнюхивая канавы в погоне за тем или иным таинственным запахом.
Мы с Гербертом переминались с ноги на ногу в ходе очередных поисков, когда он поинтересовался:
— А как дела на семейном фронте?
— Вообще-то получше. — Я вкратце пересказала ему последние новости. — Не хочу торопить события, но, полагаю, в наших отношениях забрезжил новый и яркий рассвет.
— То есть ты отложила переезд?
Он оттащил Джесс от лужицы подозрительно пахучей грязи.
— О боже, нет. Пана твердит, что купит мне личный халат и приделает в ванной третий крючок, едва только поднимется с постели. Боюсь, если я не сбегу в ближайшее время, мне уже не спастись.
— Звучит ужасно. Нашла что-нибудь подходящее?
— Вариантов хватает. Осталось только выбить из босса немалую прибавку к жалованью, и тогда я смогу позволить себе переезд.
— И каковы твои шансы?
Я покачала рукой из стороны в сторону, как кукловод.
— Что ж. — Герберт передал мне поводок Джесс и полез за сигаретами. — Хотя твой босс не наскребет на прибавку к жалованью, у него имеется неплохая идея.
— Какая еще идея? — подняла я брови.
— Отличная, на мой взгляд.
— Вот как?
— Все в свое время, Эди, милочка. — Он подмигнул мне поверх сигареты. — Все в свое время.
Мы завернули за угол на улицу Герберта, когда почтальон как раз собирался бросить несколько писем в щель дверного ящика. Герберт коснулся шляпы, сунул пачку писем подмышку и отпер дверь, чтобы впустить нас. Джесс по привычке засеменила прямиком к трону из диванных подушек под столом хозяина и удобно устроилась, прежде чем кинуть на нас взгляд, полный обиженного негодования.
У нас с Гербертом была своя традиция после прогулок, так что когда он закрыл дверь и произнес: «Пиршество или почта, Эди?», я уже была на полпути к кухне.
— Я приготовлю чай, — пообещала я. — А ты прочти письма.
Поднос уже стоял на кухне — Герберт весьма привередлив в подобных вещах, — и свежая партия ячменных лепешек остывала под кухонным полотенцем в клеточку. Пока я накладывала сливки и домашнее варенье в небольшие горшочки, Герберт выискивал наиболее важное из дневной корреспонденции. Я внесла поднос в кабинет, когда он воскликнул:
— Так-так!
— Что это?
Он сложил письмо и поднял голову.
— Предложение работы, полагаю.
— От кого?
— От довольно крупного издателя.
— Какое бесстыдство! — Я протянула ему чашку. — Полагаю, ты напомнишь ему, что у тебя уже есть превосходная работа.
— Я бы напомнил, — ответил он, — вот только предложение направлено не мне. Им нужна ты, Эди. Ты и никто другой.
Как оказалось, письмо прислал издатель «Слякотника» Раймонда Блайта. За исходящей паром чашкой дарджилинга и щедро намазанной вареньем лепешкой Герберт прочел письмо вслух и еще раз пробежал его глазами. А затем, поскольку, несмотря на десять лет в издательском деле, удивление лишило меня малейшей возможности мыслить самостоятельно, изложил его содержание самыми простыми фразами, а именно: в следующем году планировалось новое издание «Слякотника» в честь его семидесятипятилетнего юбилея. Издатели Раймонда Блайта желали, чтобы по такому случаю я написала новое вступление.
— Ты шутишь… — Я покачала головой. — Но это просто… невероятно. Почему я?
— Не знаю.
Он перевернул письмо; на обратной стороне ничего не было. Взглянул на меня. За стеклами очков его глаза казались огромными.
— Здесь не написано.
— Как необычно! — Нити, протянувшиеся в Майлдерхерсте, задрожали, и под моей кожей побежали круги. — Что мне делать?
Герберт протянул мне письмо.
— Для начала позвони по этому номеру.
Моя беседа с Джудит Уотерман, издателем «Пиппин букс», была короткой и довольно приятной.
— Буду с вами честной, — сказала она, когда я представилась и объяснила, с какой целью звоню, — мы уже наняли другого писателя и были им очень довольны. Но дочери, в смысле дочери Раймонда Блайта, не были. Все это стало серьезной проблемой; книга выходит в начале следующего года, так что времени в обрез. Работа над изданием велась много месяцев; наш писатель уже провел предварительные интервью и приступил к черновику, и вдруг, ни с того ни с сего, нам звонят мисс Блайт и перекрывают кислород.
Мне было легко это вообразить. Совсем несложно представить, как Перси Блайт извлекает немалое удовольствие из столь противоречивого поведения.
— Однако мы очень заинтересованы в этом издании, — продолжила Джудит. — Мы запускаем новую серию классики с биографическими вступительными статьями, и «Подлинная история Слякотника», одна из самых популярных наших книг, — идеальный выбор для летней публикации.
Я поймала себя на том, что киваю, словно она была рядом в комнате.
— Все понятно, — произнесла я. — Но как я…
— Проблема связана главным образом с одной из сестер, — пояснила Джудит.
— Вот как?
— С Персефоной Блайт. Весьма неожиданная помеха, учитывая, что предложение сначала поступило от ее сестры-близнеца. Как бы то ни было, они недовольны, а мы без разрешения ничего не можем сделать из-за сложного соглашения об авторских правах; все здание зашаталось. Две недели назад я лично отправилась в замок; к счастью, дамы согласились возобновить проект с другим писателем, кем-то, кого они одобрят. — Джудит прервалась, и я услышала, как она что-то пьет. — Мы послали им длинный список писателей и образцы их творчества. Они вернули их, даже не вскрыв. Персефона Блайт велела привлечь вас.
У меня свело живот от неприятных сомнений.
— Меня?
— Она назвала вас по имени. Весьма уверенно.
— Вам известно, что я не писатель.
— Да, — ответила Джудит. — И я объяснила это, но им все равно. Очевидно, они уже знали, кто вы и чем занимаетесь. Суть в том, что вы, по-видимому, единственный человек, которого они согласны терпеть, и у нас почти не остается вариантов. Или вы напишете вступление, или весь проект рухнет.
— Ясно.
— Послушайте… — Деловитый шелест бумаг на столе. — Я уверена, что вы прекрасно справитесь. Вы работаете в издательском деле, умеете оперировать словами… я обратилась к некоторым вашим бывшим клиентам, и все они отозвались о вас крайне высоко.
— Правда?
О, гнусное тщеславие, напрашивающееся на комплимент! К счастью, она пропустила мой возглас мимо ушей.
— И все мы в «Пиппин» смотрим на это положительно. Нам даже кажется, что сестры так настаивали на вашей кандидатуре, потому что готовы наконец затронуть тему источника вдохновения писателя. Нетрудно представить, какой потрясающей удачей было бы раскрыть подлинную историю создания книги!
Действительно, нетрудно. Мой папа уже прекрасно с этим справился.
— Ну хорошо. Что скажете?
Что я сказала? Я была нужна Перси Блайт. Мне предложили написать о «Слякотнике», еще раз пообщаться с сестрами Блайт, навестить их в замке. Что еще я могла сказать?
— Я согласна.
— Знаешь, я был на премьере пьесы, — заметил Герберт, когда я передала ему этот телефонный разговор.
— Премьере «Слякотника»?
Он кивнул, и Джесс поднялась на ноги.
— Разве я не упоминал об этом?
— Нет.
Это было не так уж и странно. Родители Герберта были театралами, и большую часть детства он болтался за аркой просцениума.
— Мне было лет двенадцать, — сообщил он, — и я запомнил постановку, потому что в жизни не видел ничего удивительнее. Во многих отношениях просто потрясающе. Замок был выстроен посередине сцены, его поставили на диск, приподнятый и наклонный, так что башня указывала на публику, и мы могли заглянуть через чердачное окно прямо в комнату, где спали Джейн и ее брат. Ров располагался на самом краю диска, и свет бил сзади, так что когда Слякотник появился и начал карабкаться по стене башни, длинные тени упали на зрителей — словно слякоть, сырость, мрак и само чудовище тянулись к нам.
Я театрально задрожала и заработала подозрительный взгляд Джесс.
— Звучит как ночной кошмар. Неудивительно, что ты все прекрасно запомнил.
— О да, но дело было не только в этом. Я запомнил тот вечер из-за переполоха в зрительном зале.
— Какого еще переполоха?
— Я находился за кулисами, так что мне было прекрасно видно. Волнение в писательской ложе, люди вставали, заплакал маленький ребенок, кому-то стало плохо. Позвали врача, и кто-то из семьи удалился за кулисы.
— Из семьи Блайт?
— Наверное, хотя, если честно, я потерял интерес к переполоху, едва он завершился. Представление, разумеется, продолжили… полагаю, случай даже не заслужил пары фраз в завтрашних газетах. Но для такого мальчишки, как я, это только усилило впечатление.
— Ты выяснил, что случилось? — осведомилась я, вспомнив о Юнипер и ее пресловутых приступах.
Он покачал головой и допил чай.
— Просто очередной яркий театральный момент. — Он сунул сигарету в рот, затянулся и улыбнулся. — Но хватит обо мне. Как насчет вызова в замок некой юной Эди Берчилл? Ну и дела!
Я невольно просияла, но несколько сникла, обдумав обстоятельства своего назначения.
— Мне жаль другого писателя, того парня, которого наняли первым.
Герберт взмахнул рукой и уронил пепел на ковер.
— Это не твоя вина, Эди, милочка. Перси Блайт потребовала тебя… Она всего лишь человек.
— Я встречалась с ней, так что не слишком в этом уверена.
Он засмеялся, затянулся и произнес:
— Тот парень как-нибудь справится; в любви, на войне и в издательском деле все средства хороши.
Без сомнения, предшественник не питал ко мне любви, однако я надеялась, что до войны не дойдет.
— По словам Джудит Уотерман, он готов передать мне свои записи. Она пришлет их сегодня вечером.
— Что ж, весьма благородно с его стороны.
Несомненно, но мне в голову пришло кое-что еще.
— Надеюсь, я не бросаю тебя в беде? Ты справишься без меня?
— Это будет непросто. — Герберт нахмурился с притворной суровостью. — Но полагаю, я должен встретить испытание достойно.
Я скорчила гримасу.
Он встал и похлопал себя по карманам в поисках ключей от машины.
— Жаль, что нам пора к ветеринару, и записи придут без меня. Отметишь самое интересное?
— Конечно.
Герберт подозвал Джесс, наклонился, обхватив мое лицо ладонями так крепко, что я ощутила поселившуюся в них дрожь, и пощекотал усами мои щеки.
— Будь блистательной, моя дорогая.
Пакет из «Пиппин букс» прибыл с курьером тем же вечером, как раз когда я закрывала магазин. Я хотела было отнести его домой и вскрыть спокойно и профессионально, но передумала. Я поспешно повернула ключ в замке, вновь зажгла все огни и бросилась за свой стол, на ходу разрывая конверт.
Я вытащила из него огромную стопку бумаги, кроме того, из конверта выпали две кассеты. Здесь было около сотни страниц, аккуратно скрепленных парой зажимов. Сверху лежало письмо от Джудит Уотерман с кратким описанием проекта, суть которого сводилась к следующему абзацу:
«НОВАЯ КЛАССИКА ПИППИН» — это потрясающая новая серия «ПИППИН БУКС», в которой наши постоянные и новые читатели найдут подборку любимых классических текстов. Превосходно переплетенные в едином стиле, украшенные декоративными форзацами и снабженные новыми биографическими справками, книги серии обещают стать ярким событием на издательском рынке. Серию открывает «Подлинная история Слякотника» Раймонда Блайта. Все книги серии будут перенумерованы, так что читатели смогут собрать полную коллекцию.
Внизу письма имелась рукописная сноска от Джудит:
Эди, разумеется, вы можете писать что угодно, но на первых совещаниях по постановке задачи мы решили — учитывая то, сколь многое уже известно о Раймонде Блайте, и то, что он был так скрытен в отношении источника вдохновения, — уделить во вступлении особое внимание трем дочерям, задавая и раскрывая вопрос, каково было расти под сенью «Слякотника».
В расшифровках интервью вы найдете подробный отчет и впечатления от визитов в замок нашего первого автора, Адама Гилберта. Вы можете воспользоваться ими, но, несомненно, захотите провести свое собственное исследование. В этом отношении Персефона Блайт была на удивление уступчива и предложила вам навестить их. (Можно не напоминать, что если она затронет истоки истории, мы будем счастливы узнать об этом!)
Бюджет невелик, но осталось достаточно, чтобы оплатить недолгое пребывание в деревне Майлдерхерст. Мы связались с миссис Мэрилин Кенар из соседней частной гостиницы. Адам был доволен качеством и чистотой номера; питание входит в цену. Миссис Кенар рекомендовала четырехдневное пребывание с заездом тридцать первого октября, так что к нашему следующему разговору, пожалуйста, определитесь, следует ли забронировать номер.
Я перевернула письмо, провела рукой по титульному листу материалов Адама Гилберта и насладилась поистине волнующим моментом. Наверное, я и вправду улыбнулась, когда перелистнула страницу, и уж точно прикусила губу. Слишком сильно, вот почему я это запомнила.
Четыре часа спустя я все изучила и больше не сидела в тихом лондонском офисе. То есть сидела, разумеется, и в то же время — нет. Я унеслась на много миль прочь, в мрачный и запутанный лабиринт замка в Кенте, к трем сестрам, их неправдоподобному отцу и рукописи, которой еще предстояло стать книгой, которой еще предстояло стать классикой.
Отложив расшифровку, я отодвинула стул от стола и потянулась. Затем встала и потянулась еще раз. Поясницу свело судорогой — такое вроде случается, когда читаешь, закинув ноги на стол, — и я пыталась расслабиться. Время и ограниченное пространство позволили некоторым мыслям подняться с океанического дна души, в особенности меня волновали два момента. Во-первых, меня охватило благоговение перед мастерством Адама Гилберта. Записанные на кассету интервью были явно перенесены слово в слово и подготовлены на старомодной пишущей машинке с каллиграфическими рукописными примечаниями в нужных местах, причем с такими подробностями, что больше напоминали пьесы, нежели интервью (включая сценические ремарки в скобках, если кто-либо из его персонажей давал к этому малейший повод); возможно, именно поэтому вторая мысль поразила меня так сильно: в записях зиял заметный пробел. Я встала на колени на стул и пролистала стопку еще раз, проверяя обе стороны листов. Ни слова от Юнипер Блайт.
Я медленно побарабанила пальцами по стопке бумаг; существовало множество веских причин, по которым Адам Гилберт мог ее пропустить. Материала более чем хватало и без дополнительных комментариев, она даже не родилась на момент первой публикации «Слякотника», она была Юнипер… Тем не менее это казалось странным. Когда что-то кажется странным, перфекционист во мне начинает тревожиться. А я не слишком люблю тревожиться. Есть три сестры Блайт. Следовательно, их история не должна… не может быть написана без голоса Юнипер.
Контактные данные Адама Гилберта были напечатаны внизу титульного листа, и я размышляла целых десять секунд — как раз столько, чтобы решить, не слишком ли поздно звонить в половине десятого вечера человеку, проживающему по адресу: Олд-Милл-коттедж, Тентерден, — прежде чем схватить трубку и набрать его номер.
На том конце линии ответила женщина:
— Здравствуйте. Миссис Баттон слушает.
Ее медленный мелодичный голос напомнил мне фильмы военной поры, в которых телефонистки стройными рядами работали на коммутаторе.
— Здравствуйте. Меня зовут Эди Берчилл. Наверное, я не туда попала. Мне нужен Адам Гилберт.
— Это дом мистера Гилберта. Я его сиделка, миссис Баттон.
Сиделка. О господи! Так значит, он инвалид.
— Простите, что побеспокоила вас в такое позднее время. Возможно, мне следует перезвонить в другой раз.
— Отнюдь. Мистер Гилберт все еще в своем кабинете — я вижу свет из-под двери, — вопреки предписаниям врача. Но пока он бережет больную ногу, я ничего не в силах изменить. Он довольно упрям. Подождите минуту, я переведу ваш звонок.
Она положила трубку с громким пластмассовым звуком; раздались размеренные удаляющиеся шаги. Стук в дальнюю дверь, неразборчивые фразы, и через несколько секунд трубку взял Адам Гилберт.
После того как я представилась и обрисовала цель своего звонка, последовала пауза, во время которой я еще раз извинилась за неловкую ситуацию, вследствие которой наши пути пересеклись.
— До сегодняшнего дня я даже не подозревала об издании «Пиппин букс». Не представляю, почему Перси Блайт вмешалась.
Он по-прежнему не реагировал.
— Мне правда очень, очень жаль. Я не в силах это объяснить; мы виделись с ней всего один раз, и то мельком. Уверяю вас, ничего подобного я и в мыслях не держала.
Я несла вздор и сознавала это, так что огромным усилием воли заставила себя замолчать.
Наконец он ответил уставшим от жизни голосом:
— Ну хорошо, Эди Берчилл. Я прощаю вам то, что вы украли мою работу. Но у меня есть условие. Если вы узнаете что-то о происхождении «Слякотника», первым делом дайте знать мне.
Папе это не понравится.
— Конечно.
— Тогда по рукам. Чем могу помочь?
Я сообщила, что недавно прочла его расшифровку, сделала комплимент основательности его заметок и наконец заключила:
— Только не пойму одной мелочи.
— Какой же?
— Третья сестра, Юнипер. Там нет ни одного ее слова.
— Да, — подтвердил он. — Ни слова.
Тщетно подождав продолжения, я спросила:
— Вы беседовали с ней?
— Нет.
Опять я подождала. Опять тщетно. Очевидно, это будет непросто. Мужчина на другом конце линии покашлял и добавил:
— Я хотел провести интервью с Юнипер Блайт, но она была недоступна.
— Вот как?
— Ну, физически она была доступна… вряд ли она часто покидает замок… однако старшие сестры запретили мне обращаться к ней.
В моей голове забрезжило понимание.
— О!
— Она нездорова, так что дело, наверное, в этом, но…
— Но что?
Пауза. Я почти видела, как он пытается подобрать нужные выражения. Наконец последовал колючий вздох.
— Мне показалось, они пытаются ее защитить.
— Защитить от чего? От кого? От вас?
— Нет, не от меня.
— Тогда от чего?
— Не знаю. Это просто ощущение. Словно их беспокоило то, что она может проговориться. Как это может отразиться.
— На них? На отце?
— Возможно. Или на ней самой.
И тогда я вспомнила странное чувство, которое возникло у меня в Майлдерхерсте, взгляд, которым обменялись Саффи и Перси, когда Юнипер кричала на меня в желтой гостиной; тревогу Саффи, когда та обнаружила, что Юнипер сбежала, что она общалась со мной в коридоре. Она явно могла сказать что-то лишнее.
— Но почему? — спросила я скорее себя, чем его, думая о потерянном мамином письме, о беде, которая сквозила в нем между строк. — Что Юнипер может скрывать?
— Ну… — Адам несколько понизил голос. — Должен признать, что провел небольшое расследование. Чем старательнее они пытались ее оградить, тем любопытнее мне становилось.
— И? Что вы выяснили?
Хорошо, что он не видел меня. От нетерпения я лишилась всяческого достоинства и чуть не проглотила телефонную трубку.
— В тридцать пятом году кое-что произошло; полагаю, вы назвали бы это скандалом.
Последнее слово повисло между нами с некоторым таинственным довольством, и я живо представила собеседника: откинулся на спинку гнутого деревянного стула, домашняя куртка туго обтягивает живот, нагретая курительная трубка зажата в зубах.
Я тоже сбавила громкость.
— Какого рода скандалом?
— «Неприятным случаем», по моим источникам, с участием сына одного из работников. Одного из садовников. Подробности были весьма расплывчатыми, и я не смог найти никаких официальных подтверждений, но, согласно свидетельству, они устроили драку, и она избила его до полусмерти.
— Юнипер?
В моей голове вспыхнул образ хрупкой старушки, которую я встретила в Майлдерхерсте; образ худенькой девочки на старых фотографиях. Я постаралась не засмеяться.
— Когда ей было тринадцать лет?
— Мне намекнули именно на это, хотя, если произнести вслух, это кажется маловероятным.
— Но именно это он заявил всем? Что его избила Юнипер?
— Ну, он ничего такого не заявлял. Полагаю, на свете немного молодых парней, которые с легкостью признаются, что их поборола худенькая девочка вроде нее. Нет, в замок с претензиями явилась его мать. Насколько мне известно, Раймонд Блайт откупился. Очевидно, оформил откупные как премию отцу парня, который всю жизнь проработал в поместье. Но сплетни все равно не прекратились, не до конца, по крайней мере; в деревне продолжали судачить.
У меня возникло подозрение, что люди любили обсудить Юнипер: ее семья была знатной, сама девушка была красивой и талантливой… очаровательной, по маминым словам… и все же Юнипер-подросток избила парня? Это казалось по меньшей мере невероятным.
— Послушайте, возможно, это всего лишь безосновательные старые слухи. — Тон Адама снова стал небрежным, вторя моим мыслям. — И ее сестры наложили запрет на наше интервью совсем по другой причине.
Я медленно кивнула.
— Больше похоже, что они хотели уберечь ее от стресса. Она нездорова, она определенно не любит незнакомцев, она даже не родилась, когда «Слякотник» был написан.
— Уверена, вы правы, — отозвалась я. — Уверена, что все дело в этом.
Но я не была уверена. Я вовсе не думала, что близнецы переживают из-за давно забытого случая с сыном садовника, однако не могла избавиться от подозрения, что здесь скрывается что-то еще. Я положила трубку и вернулась в тот призрачный коридор, переводя взгляд с Юнипер на Саффи и Перси и обратно и чувствуя себя ребенком, достаточно взрослым, чтобы заметить намек в пьесе, но слишком несведущим, чтобы расшифровать его.
В день, когда я должна была отправиться в Майлдерхерст, мама пришла в мою комнату пораньше. Солнце еще пряталось за стеной «Зингера и сыновей», но я уже около часа как проснулась, взволнованная, словно ребенок в первый день школы.
— Сейчас я кое-что тебе дам, — сообщила мама. — Или, по крайней мере, одолжу. Эта вещь очень дорога мне.
Гадая, что это может быть, я ждала. Она что-то достала из кармана халата. Мгновение смотрела мне в глаза, затем протянула небольшую книжку в коричневой кожаной обложке.
— Ты сказала, что хотела узнать меня получше. — Мама изо всех сил старалась быть мужественной, унять дрожь в голосе. — Все это здесь. Она здесь. Та, кем я была.
Я взяла дневник так же робко, как новоиспеченная мать берет на руки младенца. С благоговением и страхом навредить, с удивлением, волнением и благодарностью за то, что мне доверили подобное сокровище. Я не знала, как реагировать, в голове крутились тысячи фраз, но в горле стоял комок, накопившийся за долгие годы, и никак не желал пропадать.
— Спасибо, — выдавила я, прежде чем заплакала.
Мамины глаза немедленно подернулись ответным туманом, и в тот же миг мы потянулись друг к дружке и крепко обнялись.
20 апреля 1940 года
Обычное дело. После ужасно холодной зимы весна улыбалась во весь рот, день был просто чудесным, что Перси невольно расценила как плевок самого Господа. В тот миг она утратила веру, стоя в деревенской церкви в дальнем конце семейной скамьи, которую придумала ее бабка и вырезал из дерева Уильям Моррис. Она смотрела, как мистер Гордон, священник, объявляет Гарри Роджерса и Люси Миддлтон мужем и женой. Вся сцена отдавала смутным вязким привкусом ночного кошмара, хотя, возможно, свою роль сыграло немалое количество виски, которое она выпила, чтобы как-то поддержать себя.
Гарри улыбнулся новобрачной, и Перси в очередной раз поразилась, насколько он красив. Не в общепринятом смысле — он не был ни порочным, ни лощеным, ни опрятным; скорее он был красив, потому что был добр. Она всегда так считала, даже когда была маленькой девочкой, а он был молодым парнем, который приходил в дом чинить папины часы. Его манера поведения, походка и осанка выдавали человека, не обладающего непомерно раздутым самолюбием. Более того, его медлительный, размеренный нрав, хоть и лишенный бойкости, свидетельствовал о заботе и нежности. Она любила наблюдать сквозь перила, как он возвращает к жизни самые старые и своенравные часы замка, однако он старательно не замечал ее. Сейчас он тоже ее не видел. Он не сводил глаз с Люси.
Та, в свою очередь, улыбалась, великолепно изображая радость от венчания с любимым человеком. Перси знала Люси много лет, но не подозревала, что она такая превосходная актриса. В животе неприятно забурчало, и Перси вновь пожелала, чтобы это испытание поскорее закончилось.
Конечно, она могла остаться дома — притвориться больной или сослаться на очень важную работу на благо фронта, — но тогда поползли бы слухи. Люси работала в замке больше двадцати лет, она просто не могла выйти замуж без членов семьи Блайт среди паствы. Папа, по понятным причинам, явиться не мог, Саффи готовила замок к приезду родителей Мередит, а Юнипер — в любом случае не идеальный кандидат — удалилась на чердак в порыве вдохновения; и потому выбор пал на Перси. Уклониться от ответственности она не могла, в немалой степени потому, что пришлось бы объяснять свое отсутствие сестре-близнецу. Саффи ужасно расстроилась, что пропустит венчание, и потребовала доложить обо всем в малейших подробностях.
— Платье, цветы, то, как они будут смотреть друг на друга, — перечисляла она, загибая пальцы, пока Перси пыталась вырваться из замка. — Мне интересно абсолютно все.
— Да-да, — отмахнулась Перси, прикидывая, поместится ли фляжка с виски в модную маленькую сумочку, которую Саффи заставила ее взять. — Не забудь про папино лекарство, хорошо? Я оставила его на столе в вестибюле.
— На столе в вестибюле. Ладно.
— Папе очень важно принимать лекарство вовремя. Мы же не хотим, чтобы получилось как в прошлый раз.
— Да, — согласилась Саффи, — определенно не хотим. Бедняжка Мередит решила, что папа узрел привидение; бедный ягненочек. Ужасно буйное привидение.
Перси почти спустилась по передней лестнице, но обернулась.
— Да, Саффи!
— Мм?
— Сообщи, если кто-нибудь заглянет с визитом.
Гадкие торговцы смертью набросились на смятенного старика. Шептали ему на ухо, подыгрывали его страхам, его давней вине. Трясли католическими распятиями и бормотали на латыни в углах замка, уверяя папу, что создания его воображения — самые настоящие демоны. Перси не сомневалась: все это делается с целью прибрать к рукам замок после его смерти.
Она кусала кожу вокруг ногтей, гадая, скоро ли удастся выбраться на улицу и закурить; не получится ли незаметно улизнуть, сделав вид, что она имеет на это полное право. Священник что-то произнес, и все встали; Гарри взял Люси за руку и повел обратно по проходу. Он держал ладонь невесты с безмерной нежностью, и Перси поняла, что не способна ненавидеть его, даже теперь.
Радость оживляла черты новобрачных, и Перси изо всех сил старалась соответствовать. Она даже сумела присоединиться к аплодисментам, пока Гарри и Люси шли по узкому проходу к солнечной улице. Она ощущала свои руки и ноги, пальцы, неестественно вцепившиеся в спинку скамьи, морщины на лице, застывшие в натянутом веселье, отчего казалась себе заводной куклой. Кто-то, спрятанный высоко наверху под косо срезанным потолком церкви, дернул за невидимую нить, и Перси схватила лежавшую рядом сумочку. Коротко засмеялась и притворилась живым, чувствующим существом.
Магнолии уже расцвели, в точности как Саффи надеялась, молилась и держала пальцы скрещенными; на дворе стоял один из редких, но драгоценных апрельских дней, когда лето начинает свою рекламную кампанию. Саффи улыбнулась, просто потому, что не смогла удержаться.
— Поторопись, копуша, — подбодрила она Мередит. — Суббота на дворе, солнце сияет, твои мама и папа скоро приедут; нет никаких оснований еле передвигать ноги.
Нет, правда, девочка была в беспросветно мрачном настроении. Казалось бы, перспектива увидеть родителей должна ее радовать, однако она хандрила все утро. Разумеется, Саффи догадывалась почему.
— Не переживай, — сказала она, когда Мередит ее догнала, — Юнипер скоро спустится. Обычно это продолжается не больше дня.
— Но она убежала наверх после ужина. Дверь заперта, она не отвечает. Я не понимаю… — Мередит забавно сощурилась — привычка, которую Саффи считала ужасно милой. — Что она делает?
— Пишет. Юнипер по-другому не умеет. С ней всегда так. Это продлится недолго, и она снова станет прежней. Вот… — Саффи протянула Мередит небольшую стопку десертных тарелок. — Помоги мне расставить. Может, посадим твоих маму и папу спиной к изгороди, чтобы они видели сад?
— Хорошо, — оживилась Мередит.
Саффи улыбнулась себе под нос. Мередит Бейкер была замечательно покладиста — неожиданная удача после воспитания Юнипер, — и ее приезд в Майлдерхерст оказался благословением свыше. Кто лучше ребенка способен вдохнуть жизнь в усталые старые камни? Порция света и смеха была именно тем, что доктор прописал. Даже Перси привязалась к девочке, несомненно испытав облегчение, оттого что ни одна завитушка не пострадала.
Но наибольшим сюрпризом оказалась реакция Юнипер. Откровенная симпатия, которую она испытывала к юной горожанке, и заботливость были больше свойственны характеру Саффи, чем Юнипер. Саффи иногда слышала, как они болтают и хихикают в саду, и была приятно смущена искренней добротой в голосе младшей сестры. Саффи даже не предполагала когда-либо использовать прилагательное «добрая» по отношению к Юнипер.
— Давай поставим прибор для Джун. — Саффи указала на стол. — Просто на всякий случай. Ты, пожалуй, сядешь рядом с ней… а Перси вон там…
Мередит покорно расставляла тарелки, но внезапно остановилась.
— А ты? — спросила она. — Где ты сядешь?
Возможно, она прочитала извинение на лице Саффи, потому что быстро уточнила:
— Ты ведь придешь?
— Нет, милая. — Саффи уронила десертные вилки на юбку. — Я бы с удовольствием, ты же знаешь. Но Перси очень традиционна в таких вопросах. Она старшая, и в отсутствие папы это делает ее хозяйкой. Наверняка тебе это кажется ужасно глупым и официозным, и, несомненно, очень старомодным, однако здесь так принято. Папе нравится так развлекаться в Майлдерхерсте.
— Но я все равно не понимаю, почему вы обе не можете прийти.
— Ну, одна из нас должна остаться в доме на случай, если папе понадобится помощь.
— Но Перси…
— Сгорает от нетерпения. И жаждет познакомиться с твоими родителями.
Саффи видела, что Мередит не убеждена; хуже того, бедное дитя казалось разочарованным, и Саффи была готова на что угодно, лишь бы ее расшевелить. Она попыталась сменить тему, хотя и без особого рвения, и когда Мередит протяжно и грустно вздохнула, Саффи утратила остатки решимости.
— Ах, Мерри! — Она украдкой бросила взгляд через плечо. — Мне не следует тебе говорить, правда не следует, но есть еще одна причина, по которой я должна остаться в доме.
Она отодвинулась на краешек шаткой садовой скамейки и жестом предложила Мередит сесть рядом. Глубоко, хладнокровно вдохнула и резко выдохнула. А затем рассказала Мередит о телефонном звонке, который ожидала в тот день.
— Он очень важный частный коллекционер из Лондона, — пояснила она. — Я написала ему, когда в газете появилось небольшое объявление о том, что он ищет помощника для составления каталога своей коллекции. И недавно он ответил, что мое резюме рассмотрено благосклонно; он позвонит мне сегодня днем, и мы обсудим подробности вместе.
— А что он собирает?
Саффи невольно подперла руками подбородок.
— Антиквариат, предметы искусства, книги, красивые вещи — рай на земле!
Волнение подсветило крошечные веснушки вокруг носа Мередит, и Саффи снова восхитилась тем, какое она милое дитя и как сильно изменилась за шесть коротких месяцев. Подумать только, какой тощей несчастной бродяжкой она была, когда Юнипер привела ее домой! Но за бледной лондонской кожей и потрепанным платьем скрывались быстрый ум и достойная восхищения тяга к знаниям.
— Можно мне будет посмотреть коллекцию? — осведомилась Мередит. — Мне всегда хотелось увидеть подлинный египетский артефакт.
— Ну конечно, — засмеялась Саффи. — Уверена, что мистер Уикс с радостью покажет свои драгоценные экспонаты такой умной молодой леди, как ты.
Мередит просияла, и первый шип сожаления пронзил триумф Саффи. Разве не жестоко наполнять голову девочки такими грандиозными обещаниями только ради того, чтобы она молчала?
— Вот что, Мерри, — посерьезнела Саффи, — это потрясающая новость, но ты должна помнить, что это секрет. Перси еще не знает и не должна узнать.
— Почему? — Мередит распахнула глаза еще шире. — Что она сделает?
— Уж точно не обрадуется. Она не желает моего отъезда. Понимаешь, она терпеть не может перемен, ей все нравится так, как есть, три сестры в одном доме. Это очень важно для нее. И всегда было важно.
Мередит кивала, впитывая подробности семейных подводных течений с явным интересом, Саффи даже показалось, что сейчас девочка достанет свой маленький дневник и сделает пометки. Однако этот интерес был вполне объяснимым: Саффи достаточно слышала о старшей сестре Мередит и понимала, что идея чрезмерной сестринской опеки их гостье не чужда.
— Перси — моя сестра-близнец, и я люблю ее всем сердцем, но иногда, милая Мерри, необходимо следовать своим собственным целям. Счастье не свалится в руки само, его нужно схватить.
Она улыбнулась и удержалась от признания, что были и другие возможности, другие шансы, безнадежно упущенные. Одно дело — вселить в ребенка уверенность, и совсем другое — нагрузить его взрослыми сожалениями.
— А что будет, когда настанет пора уезжать? — заволновалась Мередит. — Ведь тогда ей все станет известно.
— О, я расскажу ей раньше! — засмеялась Саффи. — Ну конечно, расскажу. Я не собираюсь раствориться во мраке ночном! Определенно не собираюсь. Я просто должна подобрать нужные слова, убедиться, что чувства Перси не пострадают. А до тех пор ей лучше ничего не подозревать. Ты понимаешь меня?
— Да, — чуть слышно выдохнула Мередит.
Саффи прикусила нижнюю губу; у нее появилось неловкое ощущение, что она совершила прискорбную ошибку; что несправедливо ставить ребенка в столь неудобное положение. Она ведь только хотела отвлечь Мередит от ее собственных горестей!
Девочка неправильно истолковала молчание Саффи, приняв его за недостаток веры в ее способность держать язык за зубами.
— Я не выдам твою тайну, обещаю, даже не пикну. Я умею хранить секреты.
— Ах, Мередит, — печально улыбнулась Саффи, — в этом я не сомневаюсь. Дело в другом… Ах, милая, боюсь, мне надо извиниться. Я была не права, когда попросила тебя ничего не говорить Перси… Простишь ли ты меня?
Мередит торжественно кивнула, на ее лице что-то мелькнуло; вероятно, гордость, оттого что с ней обошлись как со взрослой, предположила Саффи. Она вспомнила свое собственное детское стремление вырасти, как она нетерпеливо ждала на краю обрыва, умоляя взрослость поскорее прийти. Возможно ли замедлить чужое путешествие? Порядочно ли пытаться это сделать? А разве есть что-то дурное в желании уберечь Мередит, точно так же как она пыталась уберечь Юнипер от слишком быстрого взросления и его разочарований?
— Ну вот, милая. — Саффи забрала последнюю тарелку из рук Мередит. — Пожалуй, я закончу сама. Иди поиграй, пока ждешь родителей. Такое изумительное утро грех тратить на работу по дому. Только постарайся не испачкать платье.
На девочке был один из сарафанов, сшитых Саффи, когда Мерри только что приехала, из прелестного отреза ткани в стиле «либерти», заказанного много лет назад, не потому, что наряд под него уже был придуман, а потому, что он был слишком красив, его нельзя было не купить. С тех пор он томился в швейном шкафу, терпеливо ожидая, пока Саффи найдет ему применение. И она нашла. Когда Мередит исчезла на горизонте, Саффи вернулась к столу проверить последние мелочи.
Мередит бесцельно бродила среди высокой травы, размахивая из стороны в сторону веточкой и недоумевая, как отсутствие одного-единственного человека способно начисто лишить день смысла и значения. Она обогнула холм, вышла к ручью и проследовала вдоль него до моста, по которому пролегала подъездная дорожка.
Она хотела было идти дальше. Через изгородь, в лес. Так глубоко, что свет будет еле сочиться, пятнистая форель исчезнет, а вода станет густой, как патока. Пока не забредет в самую глушь и не окажется у забытого пруда у основания самого старого дерева в Кардаркерском лесу. Места неизбывного мрака, которое она возненавидела, едва попав в замок. Мама и папа должны приехать примерно через час, время еще есть, и дорогу она уже изучила, в конце концов, нужно всего лишь держаться лепечущего ручья…
Но Мередит знала, что без Юнипер там будет не так уж и весело. Просто темно, сыро и довольно вонюче.
— Разве не чудесно? — восхитилась Юнипер, когда они впервые отправились в лес вместе.
Однако Мередит сомневалась. Бревно, на котором они сидели, было прохладным и влажным, и ее туфли промокли, когда она поскользнулась на камне. В поместье был еще один пруд, облюбованный бабочками и птицами, веревочные качели лениво покачивались над ним взад и вперед в пятнистом солнечном свете, и ей так хотелось, так хотелось, чтобы они провели день там, а не здесь. Но она промолчала; Юнипер была такой убедительной, что Мередит догадалась: это ее вина, ее вкусы слишком незрелые, она просто недостаточно старается. Собрав всю решимость, она улыбнулась и ответила:
— Да. — И еще раз, с чувством: — Да. Просто чудесно.
Единым текучим движением Юнипер встала, раскинула руки в стороны и двинулась на цыпочках по поваленному дереву.
— Все дело в тенях, — заявила она, — в том, как тростник спускается по берегу, почти украдкой; в запахе слякоти, сырости и гнили. — Она улыбнулась Мередит уголком рта. — Это почти доисторическое место. Если бы я сказала, что мы пересекли невидимую границу прошлого, ты бы мне, конечно, поверила?
Мередит задрожала тогда и задрожала сейчас; маленький гладкий магнит в ее детском теле запульсировал с необъяснимой настойчивостью, и она испытала томление, хоть и не понимала причины.
— Закрой глаза и прислушайся, — шептала Юнипер, прижав палец к губам. — Ты услышишь, как пауки плетут паутину…
И сейчас Мередит закрыла глаза. Прислушалась к хору кузнечиков, случайному плеску форели, далекому гудению трактора… Был и другой звук. Казавшийся на редкость неуместным. Это был гул мотора.
Она открыла глаза; черный автомобиль тронулся по извилистой гравийной дорожке прочь от замка. Мередит невольно уставилась на него. Гости были редки в Майлдерхерсте, а автомобили и того реже. Мало у кого был бензин для светских визитов, и, насколько Мередит могла судить, те, у кого он был, берегли его, чтобы сбежать на север, когда вторгнутся немцы. Даже священник, навещавший старика в башне, в эти дни приходил пешком. Мередит заключила, что гость, по-видимому, официальное лицо, явился по особому военному поручению.
Автомобиль проехал мимо, и шофер, незнакомый мужчина, коснулся черной шляпы, сурово кивнув Мередит. Она прищурилась вслед машине, осторожно катившейся по гравию. Автомобиль исчез за поворотом, поросшим лесом, и вновь возник чуть позже в конце подъездной дорожки; черная крапинка на повороте на Тентерден-роуд.
Мередит зевнула и моментально забыла о машине. Рядом с опорой моста росли фиалки, и ей нестерпимо захотелось их нарвать. Когда букетик стал прелестным и пышным, она выбралась на мост, села на перила и разделила свое время между грезами и тем, что роняла цветы один за другим в поток, наблюдая, как их фиолетовые тени кувыркаются в медленном течении.
— Доброе утро.
Она подняла глаза: Перси Блайт заталкивала велосипед на подъездную дорожку. На голове — нелепая шляпка, в руке — неизменная сигарета. Суровая сестрица, как мысленно называла ее Мередит, хотя сегодня в ее лице появилось что-то новое, что-то большее, чем суровость, почти печаль. А может, это шляпка во всем виновата.
— Привет, — поздоровалась Мередит и вцепилась в перила, чтобы не упасть.
— Или уже день? — Перси затормозила и взмахнула рукой, глядя на маленькие часики на тыльной стороне запястья. — Как раз половина первого. Ты не забыла, что у нас сегодня гости к чаю? — Она взглянула поверх кончика сигареты, крепко и продолжительно затянулась и медленно выдохнула. — Полагаю, твои родители изрядно расстроятся, преодолев такой путь и не повидав тебя.
Девочка предположила, что это шутка, но в лице Перси или ее поведении не было ничего веселого, так что она не была уверена. Она решила не рисковать и вежливо улыбнулась; в крайнем случае, рассудила она, Перси подумает, что она не расслышала.
Перси как будто не заметила реакции Мередит и тем более не стала о ней размышлять.
— Что ж, полно дел, — добавила она и, резко кивнув, направилась к замку.
Когда Мередит наконец заметила родителей, шагающих по подъездной дорожке, у нее скрутило живот. На долю секунды ей показалось, что она наблюдает за приближением двух обитателей снов, знакомых, но совершенно неуместных здесь, в реальном мире. Ощущение длилось всего мгновение, прежде чем нечто в ее восприятии перевернулось, и она ясно увидела, что это мама и папа, они приехали и ей так много нужно им рассказать. Она побежала навстречу, раскинув руки, и папа встал на колени ее зеркальным отражением, так что она смогла запрыгнуть в его большие, широкие, теплые объятия. Мама поцеловала ее в щеку, что было непривычно, но довольно приятно, и хотя Мередит была уже слишком взрослая, ни Риты, ни Эда не было рядом, чтобы посмеяться над ней, и потому она не отпускала папину руку до самого дома, без умолку тараторя о замке, его библиотеке, полях, ручье и лесах.
Перси уже ждала у стола с очередной сигаретой в зубах, которую затушила при виде гостей. Она разгладила юбку и протянула руку; не без некоторой суматохи знакомство состоялось.
— Как вам путешествие? Надеюсь, не слишком утомительно?
Вопрос был совершенно обыкновенным, даже вежливым, но Мередит услышала чопорный голос Перси ушами родителей и пожалела, что на ее месте не Саффи с ее теплым приемом.
Разумеется, мамин голос был тонким и осторожным:
— Слишком долго. Всю дорогу останавливались и трогались, пропуская воинские эшелоны. Большую часть времени провели на запасных путях.
— И все же, — вставил папа, — нашим парням надо как-то добираться на войну. Показать Гитлеру, что Британия не сдается.
— Несомненно, мистер Бейкер. Садитесь, пожалуйста. — Перси указала на безупречно накрытый стол. — Наверное, вы проголодались.
Перси налила чай, предложила отведать пирог, испеченный Саффи, и они несколько натянуто обсудили переполненные поезда, вести с фронта (Дания пала, на очереди Норвегия?), предположительное развитие войны. Мередит потихоньку клевала пирог и наблюдала. Она была уверена, что мама и папа бросят один взгляд на замок, другой на Перси Блайт с ее надменным выговором и прямой как палка спиной и немедленно перейдут в глухую оборону, однако пока все шло достаточно гладко.
Действительно, мама Мередит вела себя очень тихо. Одной рукой она нервно, оцепенело сжимала сумку на коленях, что несколько тревожило, поскольку Мередит никогда прежде не видела мать испуганной: та не боялась ни крыс, ни пауков, ни даже мистера Лейна из дома напротив, хватившего лишку в пабе. Папа казался немного более непринужденным, кивал, когда Перси описывала атаку «спитфайров»[46] и посылки с гуманитарной помощью для солдат во Франции, и потягивал чай из раскрашенной вручную фарфоровой чашки, как будто делал это каждый божий день. Ну, почти. Ему удалось превратить прием в чаепитие в кукольном домике. Мередит никогда раньше не замечала, какие огромные у него пальцы, и ее окатила неожиданная волна любви. Она потянулась через стол и положила ладошку на его свободную руку. В их семье не было принято физически выражать свои чувства, и он удивленно поднял глаза, прежде чем ответно пожать ее ладонь.
— Как дела в школе, милая? — Он чуть наклонился в ее сторону и подмигнул Перси. — Господь наградил нашу Риту красотой, зато все мозги достались юной Мерри.
Мередит зарделась от гордости.
— Я делаю уроки здесь в замке, папа, вместе с Саффи. Ты бы видел библиотеку, в ней даже больше книг, чем в городской. Все стены заставлены полками. А еще я учу латынь…
Как же ей нравилась латынь! Звуки из прошлого, пропитанные значением. Древние голоса на ветру. Мередит поправила очки на переносице; они часто сползали, когда девочка волновалась.
— А еще я учусь играть на пианино.
— Моей сестре Серафине по душе прогресс вашей дочери, — заметила Перси. — Она неплохо справляется, учитывая, что никогда прежде не видела пианино.
— Это правда? — Папа пошевелил руками в карманах, так что его локти весьма странным образом задвигались над столом. — Моя девочка научилась играть песенки?
Лицо Мередит расплылось в улыбке. Интересно, ее уши горят?
— Некоторые.
Перси долила всем чаю.
— Может, чуть позже ты отведешь родителей в дом, Мередит, в музыкальную комнату, и сыграешь одну из разученных мелодий?
— Слышала, мать? — Папа дернул подбородком. — Наша Мередит играет настоящую музыку.
— Слышала.
На мамином лице появилось выражение, которое Мередит не вполне поняла. То же выражение возникало у нее на лице, когда они с папой о чем-то спорили и он совершал небольшую, но роковую ошибку, благодаря которой победа оставалась за ней. Напряженным голосом мама обратилась к Мередит, как будто Перси не было рядом:
— Нам не хватало тебя на Рождество.
— Мне вас тоже, мама. Я правда собиралась приехать в гости. Жаль только, не было поездов. Все поезда отдали солдатам.
— Рита сегодня возвращается с нами домой. — Мама поставила чашку на блюдце, решительно поправила ложку и отодвинула прибор в сторону. — Мы нашли ей место в парикмахерском салоне на Олд-Кент-роуд. Приступит с понедельника. Сначала простой уборщицей, но обещали научить стрижкам и укладкам. — Мамины глаза заблестели от удовольствия. — Сейчас столько возможностей, Мерри, когда старшие девушки уходят в женские вспомогательные войска или на фабрики. Прекрасных возможностей для молоденьких девочек без особых перспектив.
Вполне разумно. Рита всегда носилась со своими волосами и своей драгоценной коллекцией косметики.
— Звучит неплохо, мама. Хорошо, когда в семье есть кто-то, кто может уложить тебе волосы.
Маме явно не понравились ее слова.
Перси Блайт достала сигарету из серебряного портсигара, который Саффи заставляла ее использовать на людях, и поискала в кармане спички.
Папа прочистил горло.
— Понимаешь, Мерри, — начал он, и его неловкость ничуть не смягчила последующей ужасной фразы, — мы с твоей мамой считаем, что тебе тоже пора вернуться.
И тогда Мередит обо всем догадалась. Они хотят, чтобы она вернулась домой, стала парикмахером, покинула Майлдерхерст. Паника сгустилась комком в глубине живота и покатилась взад и вперед. Девочка пару раз моргнула, поправила очки и, запинаясь, произнесла:
— Но… но я не желаю быть парикмахером. Саффи говорит, что я должна завершить обучение, что я могу даже поступить в среднюю школу, когда закончится война.
— Необязательно становиться парикмахером; давай мы придумаем для тебя что-нибудь другое. Как насчет работы на посылках? В одном из министерств.
— Так ведь в Лондоне небезопасно! — внезапно воскликнула Мередит.
Это было гениальное озарение: она ничуть не боялась ни Гитлера, ни его бомб, но, возможно, так удастся их убедить?
Папа улыбнулся и похлопал ее по плечу.
— Тебе не о чем волноваться, милая. Мы все стараемся испортить Гитлеру вечеринку: мама только что поступила на военный завод, а я вкалываю по ночам. Никаких бомб, никакого ядовитого газа, в нашем старом добром районе все по-прежнему.
Все по-прежнему. Представив закопченные старые улицы и свое унылое место на них, Мередит содрогнулась от тошнотворной ясности, осознала, как отчаянно хочет остаться в Майлдерхерсте. Она повернулась к замку, ломая пальцы, мечтая вызвать Юнипер одной лишь силой потребности в ней; мечтая о появлении Саффи, которая скажет нужные слова и заставит маму и папу понять, что не надо увозить ее домой, что они должны позволить ей остаться.
Словно благодаря таинственной связи между близнецами, Перси вступила в дискуссию именно в этот момент.
— Мистер и миссис Бейкер. — Она постучала сигаретой по серебряному портсигару с таким видом, будто предпочла бы оказаться за тридевять земель. — Я понимаю, что вам не терпится забрать Мередит, но если вторжение…
— Ты сегодня отправишься с нами домой, юная мисс, и точка.
Мама ощетинилась, словно дикобраз. Она даже не посмотрела на Перси, сверля Мередит взглядом, который обещал жестокое наказание.
Глаза девочки за стеклами очков наполнились слезами.
— Нет, не отправлюсь.
— Не смей дерзить матери, — прорычал папа.
— Вот что, — резко вмешалась Перси, приподняв крышку чайника и изучая его содержимое. — Чайник опустел; если вы не против, я заварю новую порцию. В последнее время в доме катастрофически не хватает рук. Военная экономия, знаете ли.
Все трое наблюдали за ее уходом, после чего мама прошипела папе;
— Катастрофически не хватает рук. Ты это слышал?
— Не стоит, Энни.
Папа не любил ссориться. Его устрашающего телосложения обычно хватало, чтобы не доводить дело до обмена ударами. Мама, напротив…
— Эта женщина смотрела на нас сверху вниз с самого приезда. Военная экономия, ага, как же — это в таком-то дворце! — Она ткнула пальцем в сторону замка. — Небось считает, что мы должны им прислуживать.
— Неправда! — возразила Мередит. — Они не такие.
— Мередит! — взмолился папа, повысив голос.
Он продолжал смотреть в землю, затем бросил взгляд на дочь из-под нахмуренного лба. Обычно он рассчитывал на то, что она будет молча стоять рядом с ним, когда мама и Рита начнут вопить. Но не сегодня: сегодня она не смолчит.
— Папа, заметь, какой чудесный стол они накрыли специально…
— Хватит дерзостей, мисс. — Мама поднялась и дернула Мередит за рукав нового платья, сильнее, чем следовало. — Немедленно иди в дом за своими вещами. За своими настоящими вещами. Поезд скоро отправляется, и мы сядем на него всей семьей.
— Я не хочу уезжать. — Мередит в отчаянии повернулась к отцу. — Позволь мне жить здесь, папа. Прошу, не заставляй меня уезжать. Я учусь…
— Пф! — отмахнулась мама. — Я прекрасно вижу, чему ты здесь учишься у этой леди Вонючки — дерзить родителям. А еще я вижу, что ты забыла, кто ты и где твое место. — Она потрясла пальцем, наставленным на отца. — Я предупреждала тебя, что нельзя их отсылать. Если бы мы оставили их дома, как я предлагала…
— Хватит! — Папино терпение лопнуло. — Достаточно, Энни. Садись. Все это ни к чему; она едет с нами домой.
— Нет, не еду!
— Нет, едешь! — Мама потянула к себе ее расплющенную руку. — И тебя ждет звонкая затрещина, когда мы туда доберемся.
— Хватит! — Папа тоже вскочил и стиснул мамино запястье. — Ради Христа, достаточно, Энни.
Он заглянул ей в глаза, и между ними проскочила искра; мамино запястье обмякло. Папа кивнул ей.
— Мы все немного перегрелись и заскучали, вот и все.
— Поговори со своей дочерью… Видеть ее не могу. Надеюсь, она никогда не узнает, каково это — потерять ребенка.
И мать пошла прочь, упрямо скрестив руки на груди.
Папа внезапно показался Мередит усталым и старым. Он провел рукой по волосам. На макушке они начали редеть, так что Мередит заметила следы гребня, которым он причесывался утром.
— Не обращай на нее внимания. Тебе же известно, какая она вспыльчивая. Она беспокоилась о тебе, мы оба беспокоились. — Он снова взглянул на замок, нависающий над ними. — Просто до нас долетели кое-какие слухи. Из Ритиных писем, из свидетельств детей, вернувшихся домой, — о том, как ужасно с ними обращались.
Неужели дело только в этом? Горячка облегчения вскипела пузырьками в груди Мередит; верно, не всем эвакуированным повезло так, как ей, но если это единственное, что заботит родителей, надо просто развеять папины тревоги.
— Вам не о чем волноваться, папа. Я же писала, я счастлива здесь. Разве ты не читал мои письма?
— Ну конечно, читал. Мы оба читали. Лучшие минуты, когда мы с мамой получали от тебя письма.
По его тону Мередит поняла, что это правда, и ее пронзила острая боль, когда она представила, как родители сидят за столом и вчитываются в написанные ею строки.
— Вот и прекрасно. — Она была не в силах посмотреть ему в глаза. — Выходит, ты знаешь, что все хорошо. Даже лучше, чем хорошо.
— Я знаю, что по твоим словам все хорошо. — Он покосился на маму, чтобы удостовериться, что она все еще далеко. — Отчасти проблема именно в этом. Твои письма были такими… радостными. А мама слышала от одной из подруг, что некоторые приемные семьи перехватывали письма, которые мальчики и девочки посылали домой. Не давали им рассказать ничего, что могло дурно отразиться на их репутации. Изображали все в радужном свете. — Он вздохнул. — Но это не так, правда, Мерри? В твоем случае.
— Да, папа.
— Ты счастлива здесь; счастлива так же, как в письмах?
— Да.
Мередит видела, что он колеблется. Надежда вспыхнула в ее руках и ногах фейерверком, и она быстро произнесла:
— Перси немного чопорная, зато Саффи просто чудесная. Пойдемте в дом, я познакомлю вас и сыграю на пианино.
Он посмотрел вверх на башню; солнечный свет струился по его щекам. Мередит следила, как его зрачки сужаются; она ждала, пытаясь угадать выражение его широкого, невыразительного лица. Его губы шевелились, как будто он что-то подсчитывал, запоминал числа, но она не могла разобрать, в какую сторону склоняется чаша весов. Затем он взглянул на жену, кипевшую от злости у фонтана, и Мередит поняла, что либо сейчас, либо никогда.
— Пожалуйста, папа. — Она вцепилась в рукав его рубашки. — Пожалуйста, не забирай меня домой. Я столько нового могу здесь узнать, гораздо больше, чем в Лондоне. Пожалуйста, помоги маме понять, что мне лучше здесь.
Легкий вздох, и папа нахмурился, глядя маме в спину. Мередит наблюдала, как его лицо меняется, складывается в привычную гримасу нежности, и сердце девочки совершило кульбит. Но отец молчал и, казалось, не замечал ее. Тогда она проследила за его взглядом и увидела, что мама чуть повернулась и теперь стоит, уперев одну руку в бедро и перебирая воздух пальцами второй. Солнце опустилось ей за спину и замерцало алым в ее каштановых волосах, и она казалась хорошенькой, растерянной и непривычно юной. Она смотрела папе в глаза, и с гулким стуком пришла ясность: нежность на его лице предназначалась маме, а не ей.
— Мне жаль, Мерри. — Он накрыл ладонью ее пальцы, все еще сжимавшие ткань рукава. — Так будет лучше. Иди и собери вещи. Мы едем домой.
И тогда Мередит совершила ужасно гадкий поступок, предательство, которое мать ей не простила до самой смерти. Ее единственным оправданием было то, что ей не оставили выбора; что она была ребенком и еще много лет оставалась таковым, и никого не волновали ее желания. Ей надоело, что с ней обращались как со свертком или чемоданом, швыряли то туда, то сюда, в зависимости от того, что взрослые считали лучшим. Единственное, чего ей хотелось, — найти свое место.
Мередит взяла папу за руку и ответила:
— Мне тоже жаль, папа.
Пока он не успел сообразить, что происходит, она виновато улыбнулась, избегая яростного взгляда матери, во весь опор помчалась по заросшей лужайке, перепрыгнула через изгородь и бросилась в прохладное и темное укрытие Кардаркерского леса.
Планы Саффи насчет Лондона открылись по чистой случайности. Если бы Перси не ушла с чаепития с родителями Мередит, она могла бы так и пребывать в неведении. До тех пор, пока не стало бы слишком поздно. К счастью, она считала публичное копание в грязном белье одновременно неловким и тоскливым, и потому принесла извинения и отправилась в дом, чтобы переждать и вернуться, когда все успокоится. Она предполагала найти Саффи у окна. Сестра должна была следить за чаепитием издали и требовать отчета. Какими оказались родители? Как вела себя Мередит? Им понравился пирог? Поэтому Перси несколько удивилась пустой кухне.
Она вспомнила, что в руках у нее чайник, и поставила воду на плиту, следуя своей неубедительной уловке. Время текло медленно, ей надоело наблюдать за огнем, и она задумалась, каким ужасным грехом заслужила свадьбу и чаепитие в один день. В этот миг из буфетной раздался пронзительный звон. Телефонные звонки стали редки после того, как на почте предупредили, что светская болтовня, занимающая сети, может помешать важным военным донесениям, так что Перси не сразу поняла источник негодующего трезвона.
В результате, когда она подняла трубку, ее голос был одновременно испуганным и подозрительным:
— Замок Майлдерхерст. Алло?
Звонивший представился мистером Арчибальдом Уиксом из Челси и попросил позвать мисс Серафину Блайт. Захваченная врасплох, Перси предложила передать информацию, и тогда джентльмен сообщил, что он — наниматель Саффи и звонит, чтобы уточнить подробности ее размещения в Лондоне на следующей неделе.
— Извините, мистер Уикс. — Кровеносные сосуды Перси расширились под кожей. — Боюсь, это какое-то недоразумение.
Легкое замешательство.
— Вы сказали, недоразумение? На линии… плохо слышно.
— Серафина — моя сестра — не сможет принять должность в Лондоне.
— О!
Снова пауза и треск далеких помех на линии.
Перси невольно представила телефонные провода, протянутые от столба к столбу и раскачивающиеся на заунывном ветру.
— Вот как! — Мистер Уикс был озадачен. — Но это странно, ведь у меня в руках ее письмо с согласием на нас работать. Мы вполне недвусмысленно обсудили с ней данный вопрос.
Это объясняло частые письма, которые Перси в последнее время носила в замок и из замка; стремление Саффи не уходить далеко от телефона «на случай важного звонка насчет войны». Перси обругала себя за то, что слишком увлеклась деятельностью в Женской добровольной службе и не уделила этим странностям должного внимания.
— Разумеется, — отчеканила она, — и я совершенно уверена, что Серафина искренне собиралась выполнить свое обещание. Но поймите, разразилась война, и наш отец заболел. Боюсь, пока она нужна дома.
Несмотря на разочарование и вполне объяснимое недоумение, мистер Уикс несколько смягчился, когда Перси посулила прислать подписанный экземпляр первого издания «Слякотника» для его коллекции редких книг, и положил трубку в относительно недурном настроении. По крайней мере, можно было не опасаться, что он подаст в суд за нарушение контракта.
Перси подозревала, что справиться с разочарованием Саффи будет не так просто. Где-то вдалеке взревел смыв туалета, затем в кухонной стене заклокотали трубы. Перси села на стул и принялась ждать. Через несколько минут сверху прибежала Саффи.
— Перси! — Она застыла на месте, глядя на открытую заднюю дверь. — Что ты здесь делаешь? Где Мередит? Неужели ее родители уже уехали? Все в порядке?
— Я пришла за чаем.
— А! — Лицо Саффи расплылось в неуверенной улыбке. — Тогда позволь мне помочь. Ты же не покинешь гостей надолго.
Она достала банку с заваркой и подняла крышку чайника.
Перси попыталась начать издалека, но беседа с мистером Уиксом настолько выбила ее из колеи, что ничего не шло в голову. В конце концов она просто произнесла:
— Звонили по телефону. Когда я поставила воду.
Едва заметная дрожь; несколько чаинок слетело с ложки.
— Звонили? Когда?
— Только что.
— А! — Саффи смахнула просыпавшиеся чаинки в ладонь; они лежали на ней кучкой дохлых муравьев. — Это как-то связано с войной?
— Нет.
Опершись о спинку скамейки, Саффи схватилась за кухонное полотенце, как будто опасалась, что ее унесет в море.
В этот миг чайник начал плеваться, шипеть и так распалился, что грозно засвистел. Саффи сняла его с огня, но осталась у плиты, спиной к Перси, не дыша от волнения.
— Звонил некий Арчибальд Уикс, — сообщила Перси. — Из Лондона. Назвался коллекционером.
— Ясно. — Саффи не обернулась. — И что ты сказала ему?
Снаружи раздался крик, и Перси метнулась к открытой двери.
— Что ты сказала, Перси?
Ветерок, с ним терпкий запах срезанной травы.
— Перси? — чуть слышный зов.
— Я сказала, что ты нужна здесь.
Саффи издала звук, похожий на всхлип.
Перси заговорила осторожно и медленно:
— Ты же знаешь, что не можешь поехать, Саффи. Что не должна вводить людей в заблуждение. Он ждал тебя в Лондоне на следующей неделе.
— Он ждал меня в Лондоне, потому что я буду в Лондоне. Я подала заявление, Перси, и он выбрал меня.
Саффи повернулась. Подняла согнутую в локте руку странно театральным жестом, еще более мелодраматичным оттого, что она до сих пор сжимала смятое полотенце.
— Он выбрал меня. — Она потрясла кулаком, подчеркивая свои слова. — Он собирает все на свете, прекрасные вещи, и он нанял меня… меня… чтобы помогать ему в работе.
Перси достала сигарету из портсигара; высечь огонь удалось не с первого раза.
— Я еду, Перси, и ты не остановишь меня.
Чертова Саффи; обязательно все усложнять? У Перси уже стучало в голове; свадьба выжала ее как лимон, а потом пришлось разыгрывать хозяйку перед родителями Мередит. Только этого ей не хватало. Саффи нарочно вела себя тупо, нарываясь на резкость. Что ж, если сестре угодно, Перси не побоится отдать приказание.
— Нет, — выдохнула с дымом она, — не едешь. Никуда ты не едешь, Сафф. Ты это знаешь, я это знаю, а теперь и мистер Уикс это знает.
Руки Саффи обмякли, и полотенце упало на плитки пола.
— Ты сказала ему, что я не приеду? Взяла и сказала?
— Кто-то ведь должен был. Он собирался обсудить плату за твое проживание.
Глаза Саффи наполнились слезами, и хотя Перси злилась, ее обрадовало, что сестра борется с приступом рыданий. Возможно, на этот раз все-таки удастся избежать сцены.
— Ну хватит, — отрезала Перси. — Уверена, со временем ты поймешь, что так лучше…
— Ты никогда меня не отпустишь.
— Нет, — твердо, но ласково подтвердила Перси. — Не отпущу.
Нижняя губа Саффи задрожала, и когда она наконец подала голос, он был не громче, чем шепот:
— Ты не можешь контролировать нас вечно, Перси.
Ее пальцы скребли по юбке, собирая невидимые липкие пушинки в крошечный комок.
Жест из детства, и Перси охватило дежавю и отчаянное желание крепко обнять сестру и никогда не отпускать, напомнить ей, что она любит ее, что не желала быть жестокой, что она сделала это ради блага самой Саффи. Но Перси промолчала. У нее не повернулся язык. К тому же это ничего бы не изменило, ведь никому не нравится слушать подобные вещи, даже если в глубине души ясно, что это правда.
Вместо этого она тоже понизила голос и добавила:
— Я не пытаюсь тебя контролировать, Саффи. Возможно, когда-нибудь в будущем ты сможешь покинуть… — Перси указала на стены замка. — Но не сейчас. Ты нужна нам, ведь на дворе война, и папа нездоров. Я уж молчу о жестокой нехватке прислуги: ты подумала, что с нами будет, если ты уедешь? Разве ты можешь представить Юнипер, или папу, или — упаси боже — меня на груде грязного белья?
— Ты с чем угодно справишься, Перси. — Голос Саффи был полон горечи. — Ты всегда умела справиться с чем угодно.
Перси знала, что победила; и, самое главное, Саффи тоже это знала. Но Перси не испытывала радости, а только привычный груз ответственности. Все ее существо переживало за сестру, за юную девушку, которой та когда-то была, у ног которой лежал весь мир.
— Мисс Блайт?
Подняв глаза, Перси увидела у двери отца Мередит; его худенькая маленькая жена стояла рядом с ним, и обоих окружала атмосфера полного смятения.
Она совершенно о них забыла.
— Мистер Бейкер. — Она взъерошила волосы на затылке. — Прошу прощения. Я ужасно затянула с чаем…
— Ничего страшного, мисс Блайт. Мы уже закончили. Дело в Мередит. — Он словно чуть съежился. — Мы с женой собирались забрать ее домой, а она так хотела остаться… Боюсь, маленькая чертовка сбежала от нас.
— О! — Только этого Перси не хватало. Она оглянулась, но Саффи и сама уже исчезла. — Что ж. Полагаю, нам следует хорошенько ее поискать?
— В том-то и дело, — печально произнес мистер Бейкер. — Мы с женой должны уехать в Лондон в тридцать четыре минуты четвертого. Это единственный поезд сегодня.
— Понятно, — ответила Перси. — Тогда вам, конечно, пора. Транспорт в последнее время ходит просто ужасно. Если вы пропустите поезд, придется ждать до среды.
— Но моя девочка…
Казалось, миссис Бейкер вот-вот заплачет, подобная перспектива совершенно не подходила ее жесткому угловатому лицу. Перси понимала ее чувства.
— Вам не о чем волноваться. — Она коротко кивнула. — Я найду ее. По какому лондонскому номеру можно с вами связаться? Она не успеет далеко уйти.
Сидя на ветке самого старого дуба в Кардаркерском лесу, Мередит едва различала замок. Заостренная башенка на крыше башни пронзала небо иглой шпиля. Черепица горела алым в ярком свете, а серебряная верхушка сверкала. На лужайке в начале подъездной дорожки Перси Блайт махала рукой вслед ее родителям.
Уши Мередит горели от волнующей порочности ее поступка. Ясно было, что последствий не миновать, но ничего другого не оставалось. Она бежала и бежала, пока ноги не подкосились и не перехватило дыхание, и тогда забралась на дерево, полная странной, гудящей энергии первого в жизни импульсивного поступка.
На подъездной дорожке у мамы поникли плечи, и Мередит на мгновение показалось, что она плачет; затем мама раскинула руки в стороны, словно потревоженная морская звезда, папа отшатнулся, и Мередит догадалась: мама кричит. Необязательно было слышать слова, и так очевидно: ей несдобровать.
Тем временем Перси Блайт еще курила во дворе замка, уперев руку в бедро и озирая леса, и холодок сомнения зашевелился в животе Мередит. Она считала, что ее с радостью оставят в замке, но вдруг она ошибалась? Вдруг близнецов так шокирует ее неповиновение, что они откажутся присматривать за ней впредь? Вдруг следование собственным прихотям завело ее в ужасную беду? Когда Перси Блайт докурила и повернулась к замку, Мередит внезапно испытала невыносимое одиночество.
Движение привлекло ее внимание к крыше замка, и сердце завертелось огненным колесом. На крышу карабкался кто-то в белом летнем платье. Юнипер. Наконец-то закончила! Вернулась во внешний мир. Пока Мередит наблюдала, девушка добралась до ровного края и села, свесив длинные ноги. Мередит было известно, что сейчас она закурит, откинувшись на спину и глядя в небо.
Но она не закурила. Вместо этого она резко застыла и уставилась на лес. Мередит крепко держалась за ветку; возбуждение вырвалось странным смешком, который застрял в горле. Словно Юнипер услышала ее, словно старшая подруга ощутила ее присутствие. Мередит знала, что если кто и способен на подобное, так это Юнипер.
Она не могла вернуться в Лондон. Не хотела. Не сейчас, еще не время.
Мередит следила, как мама и пана идут по дорожке прочь от замка; мама обхватила себя руками, папа прихрамывал.
— Простите, — прошептала она чуть слышно. — У меня не было выбора.
Ванна была едва теплой и неглубокой, но Саффи было все равно. Удовольствие долгого отмокания в горячей воде кануло в прошлое, и ей достаточно было просто остаться наедине с ужасным предательством Перси. Она подалась вперед, чтобы лечь на спину, согнутыми коленями к потолку, затылком и ушами в воде. Ее волосы развевались вокруг островка лица, словно водоросли; она прислушивалась к клокотанию и журчанию воды, звяканью цепочки от пробки об эмаль и прочим странным наречиям водного мира.
Всю свою взрослую жизнь Саффи была слабейшей из близнецов. Перси обычно отмахивалась от подобных тем, настаивала, что такого не бывает, только не с ними, а есть лишь положение на солнце и в тени, между которыми они постоянно перемещаются и пребывают в совершенном равновесии. Очень мило с ее стороны, но не столько точно, сколько благонамеренно. Просто Саффи чувствовала, что ее таланты и способности не имеют никакого значения. Она неплохо писала, замечательно шила, готовила (сносно), а в последние годы даже стирала и убиралась; но к чему подобные умения, если она остается рабыней? Хуже того, добровольной рабыней. Ведь большую часть времени, как ни стыдно признавать, Саффи не переживала из-за собственной роли. В конце концов, подчинение дарует легкость, облегчение бремени. И все же порой, например сегодня, она негодовала из-за того, что от нее ожидают беспрекословной покорности, пренебрежения к собственным интересам.
Саффи приподнялась и откинулась на гладкую стенку ванны, провела влажной фланелью по разгоряченному от злости лицу. Эмаль приятно холодила спину, и Саффи накинула фланель смятым покрывалом на груди и живот, глядя, как оно поднимается и опускается с каждым вздохом, словно вторая кожа; затем она закрыла глаза. Как Перси посмела говорить за нее? Принимать за Саффи решения, определять ее будущее, даже не посоветовавшись?
Но Перси посмела, как много раз прежде, и сегодня, как и всегда, не встретила сопротивления.
В попытке усмирить ярость Саффи протяжно выдохнула. Вздох прервался всхлипом. Наверное, она должна быть довольна и даже польщена тем, что Перси так отчаянно нуждается в ней. И она действительно польщена. Но еще она устала от собственного бессилия; более того, у нее тяжело на душе. Сколько Саффи себя помнила, она застряла в жизни, текущей параллельно жизни ее мечты, жизни, надеяться на которую она имела все основания.
На этот раз, однако, кое-что она могла сделать… Саффи погладила себя по щекам, воодушевленная растущей дерзостью… мелочь, которая поможет ей проявить свою ничтожную власть над Перси. Это будет удар не действия, но бездействия; Перси никогда даже не узнает, что он был нанесен. Единственным трофеем будет частичное возвращение самоуважения Саффи. Но этого достаточно.
Она оставит при себе кое-какую информацию, которой Перси предпочла бы владеть, а именно сегодняшний внезапный визит. Пока Перси прохлаждалась на свадьбе Люси, Юнипер творила на чердаке, а Мередит бродила по поместью, солиситор папы, мистер Бэнкс, приехал в своем черном автомобиле в сопровождении двух суровых маленьких женщин в скромных костюмах. Саффи накрывала стол для чаепития на улице и хотела было спрятаться, притвориться, что никого нет дома, — она не слишком любила мистера Бэнкса и не желала открывать дверь незваным гостям, — но старик помнил ее еще маленькой девочкой, он был папиным другом, и потому она была вынуждена его впустить, хотя и не объяснила бы с легкостью почему.
Она вбежала в кухонную дверь, посмотрела в овальное зеркало рядом с кладовой и поспешила наверх, как раз вовремя, чтобы поприветствовать гостя у передней двери. При виде нее он был удивлен, почти недоволен, и возвестил, что грядут последние времена, раз уж в таком грандиозном имении, как Майлдерхерст, больше нет настоящей экономки, после чего приказал проводить его к отцу. Как бы Саффи ни стремилась принять меняющиеся нравы, она питала старомодное почтение к закону и его служителям и потому повиновалась. Гость был немногословен (то есть не расположен к пустой болтовне с дочерями клиентов); по лестнице они поднимались в тишине, чему Саффи была рада — рядом с такими мужчинами, как мистер Бэнкс, она всегда лишалась дара речи. Когда они достигли вершины винтовой лестницы, он резко кивнул и вместе со своими навязчивыми спутницами вошел в папину комнату в башне.
Шпионить Саффи не собиралась; более того, она возмущалась этим вторжением в свое личное время почти так же сильно, как любым делом, которое приводило ее в отвратительную башню с ее запахом надвигающейся смерти и чудовищным офортом в раме на стене. Если бы ее внимание не привлекло полное муки трепыхание бабочки в паутине между столбиками перил, она бы, несомненно, уже была на середине пути вниз, далеко за пределами слышимости. Но она принялась осторожно распутывать насекомое и потому уловила папины слова:
— Вот почему я позвал вас, Бэнкс. Смерть — чертовски досадная помеха! Вы сделали исправления?
— Да. Я принес их, чтобы подписать и заверить, а также копию для вашего архива, разумеется.
Последующих деталей Саффи не слышала, да и не хотела слышать. Она была второй дочерью мужчины старой закалки, синим чулком средних лет. Принадлежащий мужчинам мир собственности и финансов не интересовал и не заботил ее. Она хотела одного: освободить обессиленную бабочку и убежать из башни, подальше от затхлого воздуха и душных воспоминаний. Она не ступала в маленькую комнату больше двадцати лет и не собиралась ступать в нее и впредь. Так что она поспешила вниз, прочь, пытаясь уклониться от облака прошлого, которое преследовало ее по пятам.
Ведь когда-то они с папой были близки, много лет назад, но та любовь прогнила. Юнипер оказалась лучшей писательницей, а Перси — лучшей дочерью, и для Саффи в сердце отца почти не осталось места. Было лишь одно краткое и яркое мгновение, в которое полезность Саффи затмила полезность сестер. После Первой мировой, когда папа вернулся к ним, израненный и сломленный, именно она возродила его к жизни, дала ему то, в чем он нуждался больше всего. И как же соблазнительна была сила его нежности, вечера, проведенные в укрытии, где никто не мог их найти…
Внезапно возник хаос, и Саффи распахнула глаза. Кто-то вопил. Она лежала в ванне, вода была ледяной, солнечный свет за открытым окном сменился сумерками. Саффи поняла, что задремала. Ей повезло, что она не соскользнула глубже. Но кто же кричал? Она села, напряженно прислушиваясь. Тишина. Неужели шум ей пригрезился?
Снова шум. И звон колокольчика. Видимо, старик в башне разразился очередной тирадой. Что ж, пусть Перси присмотрит за ним. Они стоят друг друга.
Дрожа, Саффи отлепила от тела холодную фланель и поднялась, отчего вода заколебалась. Она выбралась на коврик, с нее капало. Внизу гудели голоса, теперь она различала их. Мередит, Юнипер… и Перси; все трое собрались в желтой гостиной. Наверное, ждут ужина, и она подаст его, как обычно.
Саффи сдернула халат с крючка на двери, одержала победу над рукавами и застегнула пуговицы на прохладной мокрой коже, после чего пошла по коридору. Эхо влажных шагов загуляло по плиткам. Она никому не раскроет свой маленький секрет.
— Тебе что-то нужно, папа?
Перси толкнула тяжелую дверь в комнату в башне. Она не сразу обнаружила отца в нише у камина, под офортом Гойи; а когда обнаружила, он словно испугался при ее появлении, и она немедленно поняла, что у него очередной приступ галлюцинаций. А значит, когда она спустится вниз, то, по всей вероятности, найдет его ежедневное лекарство на столе в вестибюле, где оставила его утром. Она сама виновата, что понадеялась на сестру. Перси выругала себя за то, что не заглянула к отцу тотчас по возвращении из церкви.
Она заговорила с ним тихо и мягко, как, наверное, говорила бы с ребенком, будь у нее шанс узнать хоть одного достаточно близко, чтобы полюбить.
— Вот видишь, все хорошо. Может, присядешь? Пойдем, я устрою тебя у окна. Вечер просто чудесный.
Он судорожно кивнул и направился к ее протянутой руке — значит, галлюцинации развеялись. Очевидно, приступ был не слишком сильным, поскольку отец достаточно оклемался и даже возмутился:
— Разве я не велел тебе носить парик?
Велел, и не раз, и Перси покорно купила таковой (нелегкая задача в военную пору), лишь для того, чтобы проклятая штуковина валялась отрубленным лисьим хвостом на прикроватном столике.
На спинку кресла было наброшено покрывало, небольшая яркая вещица, которую Люси связала для отца несколько лет назад; Перси расправила его на папиных коленях, когда он сел, и ответила:
— Прости, папа. Я забыла. Я услышала колокольчик и не хотела заставлять тебя ждать.
— Ты выглядишь как мужчина. Ты этого добиваешься? Чтобы люди обращались с тобой как с мужчиной?
— Нет, папа.
Перси кончиками пальцев коснулась затылка и задержалась на маленьком гладком завитке, который спускался чуть ниже линии роста волос. Отец не имел в виду ничего плохого, и она не обиделась, просто несколько удивилась его предположению. Она покосилась на застекленный книжный шкаф и увидела свое отражение в его рябой поверхности: довольно сурового вида женщина, сплошь острые углы, прямая как палка спина, но притом вполне увесистые груди, несомненный изгиб бедер и лицо, не тронутое помадой и пудрой, но вроде бы отнюдь не мужеподобное. Она надеялась, что не ошибается.
Тем временем отец повернул голову и смотрел на окутанные ночью поля, к счастью не подозревая о цепочке рассуждений, которую породил.
— Все это, — произнес он, не отрывая глаз. — Все это.
Она прислонилась к креслу, положила локоть на спинку. Пане незачем было продолжать. Она как никто другой понимала его чувства при виде полей его предков.
— Ты прочел рассказ Юнипер, папа?
Это была одна из немногих тем, которые гарантированно поднимали ему настроение, и Перси осторожно принялась ее развивать, в надежде, что хандра, на грани которой он все еще балансировал, отступит.
Он махнул рукой в сторону курительного набора, и Перси подала его. Скрутила себе сигарету, пока папа набивал табаком чашу трубки.
— У нее есть талант. Вне всяких сомнений.
Перси улыбнулась.
— Она унаследовала его от тебя.
— С ней надо быть осторожными. Творческий ум нуждается в свободе. Он должен блуждать по своим собственным тропам и со своей собственной скоростью. Это трудно объяснить, Персефона, тому, чей разум следует более бесстрастными путями, но она обязательно должна быть свободна от насущных проблем, от развлечений, от всего, что может похитить ее талант. — Отец схватил Перси за юбку. — У нее случайно не завелся ухажер?
— Нет, папа.
— Такая девушка, как Юнипер, нуждается в защите, — продолжил он, выпятив подбородок. — Она должна жить в безопасном месте. Здесь, в Майлдерхерсте, в замке.
— Ну конечно, она останется здесь.
— Ты должна позаботиться об этом. Присмотреть за обеими сестрами.
И он завел обычный разговор о наследстве, преемственности и ответственности…
Перси немного подождала, докурила и только тогда спросила:
— Отвести тебя в уборную перед уходом, папа?
— Уходом?
— У меня сегодня вечером встреча в деревне…
— Вечно ты спешишь.
Он недовольно надул нижнюю губу, и Перси ясно представила, как он выглядел в детстве. Испорченный ребенок, который привык получать все, чего ни пожелает.
— Идем, папа.
Она отвела старика в уборную и полезла за жестянкой с табаком, пока ждала в остывающем коридоре. Похлопав себя по карману, она вспомнила, что оставила ее в комнате в башне. Папа выйдет не скоро, так что она поспешила назад за жестянкой.
И нашла ее на столе. А еще там лежал сверток. Пакет от мистера Бэнкса, но без марки. Значит, его доставили лично.
Сердце Перси забилось быстрее. Саффи скрыла визит гостя. Возможно ли, что мистер Бэнкс приехал из Фолкстона, прокрался в замок и поднялся в башню, даже не поздоровавшись с Саффи? Возможно, заключила Перси, но крайне маловероятно. Зачем ему поступать подобным образом?
Мгновение она нерешительно помялась, теребя конверт, пока жар растекался по затылку и под мышками, отчего блузка прилипла к телу.
Затем она бросила взгляд через плечо, хотя знала, что никого рядом нет, распечатала конверт и вытряхнула сложенные листки. Завещание. Дата стояла сегодняшняя; Перси расправила письмо и бегло просмотрела содержимое. Странная тяжесть придавила ее к земле, когда ее худшие опасения подтвердились.
Она прижала руку ко лбу. Как можно было допустить подобное? И все же вот оно, черным по белому плюс синий росчерк папы. Она перечитала документ еще раз, более внимательно, в поисках лазеек, пропущенной страницы, любого свидетельства, что она неправильно поняла, поспешила.
Не поспешила.
О боже, она не поспешила.
Возвращение в замок Майлдерхерст
1992 год
Для визита в Майлдерхерст Герберт одолжил мне машину. Едва покинув шоссе, я опустила окно и подставила щеки ветру. Сельская местность изменилась за месяцы, минувшие с моего первого посещения. Лето пришло и ушло, и сейчас догорали последние дни осени. Огромные сухие листья лежали золотистыми грудами у обочины, и по мере того как я все глубже и глубже погружалась в Уилд Кента, гигантские ветви деревьев простирались над дорогой и смыкались посередине. Каждый порыв ветра срывал новый слой; сброшенная кожа, завершенный сезон. В фермерском доме меня ждала записка.
Добро пожаловать, Эди. У меня появились неотложные дела, а Кенар слег с простудой. Пожалуйста, возьмите приложенный ключ и заселитесь в номер три (второй этаж). Сожалею, что не встречу вас лично. Увидимся за ужином в семь часов в столовой.
P. S. Я заставила Кенара отнести в ваш номер письменный стол получше; он немного узковат, но я подумала, что вы оцените возможность разложить свою работу.
«Немного узковат» — мягко сказано, однако я всегда питала слабость к тесным и темным закуткам, так что немедленно принялась красиво раскладывать расшифровки интервью Адама Гилберта, свои экземпляры «Майлдерхерста Раймонда Блайта» и «Слякотника», разнообразные блокноты и ручки. Затем я села и провела пальцами по гладкому краю стола. Я опустила подбородок на руки и тихонько вздохнула от удовольствия. Такое же чувство, как в первый день школы, только в сотню раз лучше. Четыре дня простирались впереди, и я была полна энтузиазма и надежд.
Тут я заметила телефон, старомодную бакелитовую штуковину, и поддалась непривычному порыву. Разумеется, все дело в возвращении в Майлдерхерст: в то самое место, где моя мама обрела себя.
Гудки раздавались снова и снова, и когда я уже собиралась повесить трубку, она ответила, немного запыхавшись. После моего приветствия повисла недолгая пауза.
— А, Эди, извини. Я искала твоего отца. Он вбил себе в голову… Все в порядке? — спросила она; ее тон стал острым как бритва.
— Все хорошо, мама. Я просто хотела сообщить, что добралась.
— А!
Она умолкла, переводя дыхание. Я удивила ее: звонки о благополучном приезде не входили в нашу обычную рутину; прошло лет десять с тех пор, как я убедила ее, что, если правительство доверило мне право голоса, возможно, ей тоже пора доверять мне и не требовать звонка об успешном завершении поездки в метро.
— Что ж. Ладно. Спасибо. Очень мило, что ты позвонила. Папа будет рад. Он скучает по тебе; хандрит с тех пор, как ты уехала.
Снова пауза, на этот раз более долгая; я почти слышала, как мать размышляет, наконец она решилась.
— Значит, ты там? В Майлдерхерсте? Как… как он? Как он выглядит?
— Великолепно, мама. Осень превратила все в золото.
— Я помню. Помню, как он выглядел осенью. Как деревья долго оставались зелеными, и только верхушки горели алым.
— И оранжевым, — добавила я. — А еще здесь повсюду листья. Честно, повсюду, как будто толстый ковер на земле.
— Да, точно. Ветер дует с моря, и они осыпаются дождем. Там ветрено, Эди?
— Еще нет, но по прогнозам на неделе будет штормить.
— Подожди — и сама увидишь. Листья начнут падать, как снег. Хрустеть под ногами во время бега. Я помню.
Последние два слова были тихими, какими-то хрупкими. Меня охватило неведомо откуда взявшееся чувство, и я услышала свой голос:
— Знаешь, мама… я заканчиваю работу четвертого; может, приедешь на денек?
— Ах, Эди, нет, нет. Твой папа не сможет…
— Ты должна приехать.
— Одна?
— Пообедаем в каком-нибудь приятном месте, только ты и я. Прогуляемся по деревне.
Мое предложение было встречено таинственным свистом телефонных проводов. Я понизила голос.
— Необязательно подходить к самому замку, если не хочешь.
Тишина. На мгновение мне показалось, что она ушла, но затем раздался еле слышный шум, и я поняла, что ошиблась. Шум не прекращался, и я догадалась, что она тихонько плачет в телефонную трубку.
По плану я встречалась с сестрами Блайт только на следующий день; прогноз обещал перемену погоды, и проводить ясный день за письменным столом казалось пустой тратой времени. Джудит Уотерман предложила включить в статью мои собственные впечатления от места, и я решила побродить по округе. Миссис Кенар снова оставила корзинку с фруктами на прикроватном столике; я выбрала яблоко и банан и кинула блокнот и ручку в сумку. Оглядевшись напоследок по сторонам, я заметила мамин дневник, тихонько лежащий на краешке стола.
— Идем, мама. — Я взяла его. — Пора вернуть тебя в замок.
В пору моего детства в тех редких случаях, когда мама не ждала меня дома после школы, я садилась на автобус до папиной конторы в Хаммерсмите. Там мне полагалось облюбовать кусочек ковра — или стол, если повезет, — в кабинете одного из младших компаньонов и выполнить там домашнее задание, или украсить школьный дневник, или потренироваться в написании фамилии очередного ухажера; да что угодно, лишь бы не висеть на телефоне и не мешать производству.
В один прекрасный день меня отправили в комнату, в которой я никогда не бывала, через дверь, которую я никогда не замечала, в самом конце очень длинного коридора. Комната была маленькой, немногим более освещенного чулана, и хотя стены были окрашены в бежевый и коричневый цвета, в ней не было ни блестящих зеркальных плиток медного цвета, ни застекленных книжных шкафов, как в других корпоративных комнатах. Вместо них имелись небольшой деревянный стол, стул и тонкий высокий книжный стеллаж. На одной из полок рядом с распухшими бухгалтерскими книгами я обнаружила кое-что интересное. Стеклянный шар с зимним пейзажем; вы, верно, встречали такие: с маленьким каменным домиком, отважно стоящим на поросшем соснами холме, и белыми хлопьями снега на земле.
Правила на папиной работе были простыми: я не должна была ничего трогать; и все же я не устояла. Шар заворожил меня, он был крошечным осколком фантазии в бежево-коричневом мире, дверцей в задней стенке шкафа, неотразимым символом детства. В мгновение ока я забралась на стул и схватила шар, переворачивая его вверх-вниз, наблюдая, как снежинки падают снова и снова и мир внутри не замечает мира снаружи. И я испытала странное желание оказаться внутри шара, стоять рядом с мужчиной и женщиной у одного из золотистых окон или вместе с парой крошечных детишек толкать малиновые салазки в безопасном укрытии, не ведающем внешней суматохи и шума.
То же самое я чувствовала, поднимаясь к замку Майлдерхерст. Когда я приближалась к нему по склону холма, сам воздух словно менялся вокруг, как будто я переступила невидимую границу иного мира. Трезвомыслящие люди не говорят о том, что дома обладают силой зачаровывать людей, притягивать их, но на той неделе я поверила и верю до сих пор, что в глубине замка Майлдерхерст живет неописуемая сила. Я ощутила ее в свой первый визит и ощутила вновь в тот день. Нечто вроде зова, словно сам замок манил меня.
На этот раз я воспользовалась другим путем и прошла через поле до подъездной дорожки, ведущей через маленький каменный мостик, затем через второй, немного побольше; наконец мне открылся сам замок, высокий и величественный на вершине холма. Я не останавливалась до самой вершины. Лишь тогда я обернулась в ту сторону, откуда пришла. Полог лесов расстилался внизу, и казалось, что осень поднесла к деревьям гигантский факел, окрасив их золотистым, алым и бронзовым. Я пожалела, что не захватила фотоаппарат, чтобы сделать снимок для мамы.
Я свернула с дорожки и направилась вдоль высокой изгороди, не сводя глаз с окна чердака, того, что поменьше, в няниной комнате с тайным шкафом. Замок следил за мной, или так мне казалось; хмурился сотней окон из-под поникших карнизов. Я отвела взгляд и шагала вдоль изгороди, пока не добралась до заднего двора.
Там находились старый курятник, ныне пустой, а на другой стороне — какой-то купол. Я приблизилась и поняла, что это такое. Бомбоубежище. Рядом стояла ржавая табличка, вероятно, оставшаяся с тех времен, когда по замку водили регулярные экскурсии, с надписью «Бомбоубежище Андерсона», и хотя буквы поблекли с течением времени, я разобрала, что речь идет о роли Кента в «Битве за Англию». Если верить табличке, бомба упала всего в миле отсюда, убив маленького мальчика на велосипеде. Табличка утверждала, что бомбоубежище было построено в 1940 году, а это, несомненно, означало, что именно там моя мама пряталась во время бомбежек, когда жила в Майлдерхерсте.
Спросить разрешения было не у кого, и я решилась заглянуть внутрь, спустившись по крутой лесенке под гофрированный железный свод. Внутри было сумрачно, но косых лучей света, падавших через открытую дверь, хватало, чтобы различить, что бомбоубежище обставлено в духе Второй мировой. Сигаретные карточки со «спитфайрами» и «харрикейнами»,[47] маленький столик со старомодным радио, обшитым деревом, плакат с указующим перстом Черчилля и требованием заслужить победу. Я словно оказалась в сороковых: прозвучала сирена и я ждала появления бомбардировщиков над головой.
Я вышла на улицу, моргая на ярком свету. Облака неслись по небу; солнце затянула унылая белая пелена. В этот миг я заметила укромный закуток в изгороди и холмик, который так и манил к себе. Я села, достала из сумки мамин дневник, откинулась на спину и открыла первую страницу. Она была датирована январем 1940 года.
Дорогой мой, чудесный дневник! Я берегла тебя столько времени — уже целый год и даже немножко больше, — потому что тебя подарил мне мистер Кэвилл после экзаменов. Он сказал, что я должна использовать тебя для чего-то особенного, что слова вечны и когда-нибудь у меня появится история, достойная твоих страниц. В то время я не поверила ему, ведь со мной никогда не случалось ничего особенного… не правда ли, звучит ужасно печально? Наверное, но я не собиралась жаловаться; просто так и есть: со мной никогда не случалось ничего особенного, и я не думала, что когда-нибудь случится. Но я ошибалась. Тотально, бесконечно, волшебно ошибалась. Нечто случилось, и мир никогда не станет прежним.
Пожалуй, для начала я должна отметить, что пишу это в замке. Настоящем замке, сложенном из камня, с башней и множеством винтовых лестниц, с огромными подсвечниками на каждой стене, с восковыми потеками почерневшего воска, многими десятилетиями стекающего с их оснований. Возможно, ты решишь, что жизнь в замке и есть то самое «волшебство» и эгоистично ожидать чего-то большего, тем не менее это не все.
Я сижу на подоконнике на чердаке, в самом прекрасном месте во всем замке. Это комната Юнипер. «Кто такая Юнипер?» — спросил бы ты, если бы мог. Юнипер — самый невероятный человек на свете. Она моя лучшая подруга, а я — ее. Именно Юнипер убедила меня наконец начать тебя вести. Она заявила, что устала смотреть, как я ношусь с тобой, словно курица с яйцом, и настала пора дерзнуть и запятнать твои прекрасные страницы.
Она говорит, что истории — повсюду, и люди, которые ждут прихода той самой истории, прежде чем коснуться пером бумаги, остаются с пустыми страницами. Очевидно, весь смысл сочинительства — переносить образы, и мысли на бумагу. Плести, как плетет паутину паук, но только из фраз. Юнипер дала мне эту перьевую ручку. Подозреваю, что она взяла ее в башне, и немного боюсь, что ее отец решит отправиться на поиски вора, но все равно ее использую. Это просто потрясающая ручка. По-моему, нет ничего странного в любви к ручке, а ты как считаешь?
Юнипер предложила мне писать о своей жизни. Она вечно просит у меня историй о маме и папе, Эде и Рите и нашей соседке миссис Пол. Она очень громко смеется, словно бутылка, которую сначала потрясли, а потом открыли, пузырьки разлетаются во все стороны; немного тревожно, но очень мило. Ее смех совсем не такой, как можно было бы ожидать. Она очень плавная и грациозная, а смех у нее хриплый, как земля. Я люблю не только ее смех; она замечательно хмурится, когда я пересказываю слова Риты, хмурится и фыркает в нужных местах.
Она говорит, что мне повезло, — можешь в это поверить? Такая, как она, говорит это мне! По ее мнению, мне повезло, что я училась в реальном мире. А ей пришлось все узнавать из книг. По мне, так это просто чудесно; видимо, я не права. Удивительно, но в последний раз она была в Лондоне совсем крошкой! Она со всей семьей поехала на премьеру пьесы по книге, которую написал ее отец, «Подлинной истории Слякотника». Когда Юнипер упомянула при мне эту книгу, она произнесла ее название, как будто я прекрасно его знала, и я ужасно смутилась, поскольку впервые его слышала. Будь прокляты мои родители за то, что держали меня в неведении о подобных вещах! Я видела, что Юнипер поражена, но она постаралась меня утешить. Она кивнула, как бы одобрительно, и заключила, что это, несомненно, только потому, что я была слишком занята в своем реальном мире с реальными людьми. А затем ее лицо стало грустным, задумчивым и немного озадаченным, как будто она пыталась решить сложную проблему. Наверное, именно это выражение мать не выносит на моем лице, когда тычет в меня пальцем и велит не ходить мрачной как туча и заняться делом.
О, но мне так нравятся тучи! Они намного сложнее, чем ясное небо. Если бы они были людьми, именно с ними я постаралась бы познакомиться поближе. Намного интереснее гадать, что скрывается за слоями облаков, чем вечно любоваться простой, чистой, кроткой синевой.
Сегодняшнее небо плотно затянуто тучами. Когда я смотрю в окно, мне кажется, что кто-то расстелил над замком огромное серое одеяло. И земля покрыта инеем. Окно чердака выходит на особенное место, одно из любимых мест Юнипер. Это квадратный участок земли, окруженный изгородью, с маленькими могильными плитами, которые торчат из зарослей ежевики под самыми странными углами, словно прогнившие зубы в старом рту.
Клементина Блайт
1 год
О, жестокая утрата
Спи, моя девочка, спи
Сайрес Блайт-старший
3 года
Безвременно скончался
Эмерсон Блайт
10 лет
С любовью
Когда я впервые попала туда, то решила, что это детское кладбище, но Юнипер объяснила, что это домашние животные. Все до единого. Блайты очень заботились о своих животных, особенно Юнипер, которая плакала, вспоминая о своем первом псе, Эмерсоне.
Бррр… Здесь ужасно холодно! Мне досталось множество вязаных носков с тех пор, как я приехала в Майлдерхерст. Саффи замечательно вяжет, но плохо считает, и в результате треть носков, которые она вяжет для солдат, такие тесные, что едва налезут на большой палец ноги крепкого мужчины, зато на мои тощие лодыжки — в самый раз. Я надела целых три пары и еще три непарных носка натянула на правую руку, так что голой осталась только левая, чтобы держать ручку. Что объясняет мой корявый почерк. Прости, дорогой дневник. Твои прекрасные страницы заслуживают лучшего.
Итак, я сижу одна на чердаке, пока Юнипер читает курам вслух. Саффи уверена, что это помогает им лучше нестись; Юнипер, которая любит всех животных, уверяет, что куры на редкость умные и благостные создания; и яйца я, конечно, очень люблю. Так что вот. Все мы счастливы. И я собираюсь начать сначала и писать как можно быстрее. Как минимум это поможет мне не отморозить пальцы…
Раздался отчаянный лай, сердце сжалось, как пружина, и я чуть не выпрыгнула из собственной кожи.
Надо мной замаячил пес, лерчер Юнипер; губы оттянуты назад, зубы обнажены, из глубины нутра исходит низкое ворчание.
— Тихо, мальчик. — От страха я еле ворочала языком. — Не сердись.
Меня посетила идея его погладить — быть может, так он успокоится, — когда в грязь вонзился кончик трости. За ним последовала пара ног в грубых башмаках; я подняла глаза и увидела Перси Блайт.
Я совсем забыла, какая она худая и строгая. Опершись на трость, она взирала сверху вниз, одетая в том же духе, что и в нашу последнюю встречу: светлые брюки и хорошо скроенная рубашка, которая могла бы показаться мужской, если бы не невероятная худоба ее владелицы, и изящные часики, которые болтались на тонком запястье.
— Это вы. — Она явно удивилась не меньше меня. — Вы рано.
— Ради бога, простите. Я не хотела вас беспокоить, я…
Пес снова зарычал, и Перси нетерпеливо фыркнула и пошевелила пальцами.
— Бруно! Довольно.
Он захныкал и юркнул к ней под бок.
— Мы ожидали вас завтра.
— Да, я знаю. В десять утра.
— Вы придете?
Я кивнула.
— Я приехала из Лондона сегодня. Погода ясная, а в ближайшие дни ожидается дождь, так что я решила прогуляться, сделать кое-какие заметки, не думала, что это вас обеспокоит, а потом обнаружила бомбоубежище и… я не хотела вам мешать.
В какой-то момент моего объяснения ее внимание пошло на убыль.
— Что ж. — В ее голосе не было ни капли радости. — Вы здесь. Не желаете выпить с нами чаю?
Ложный шаг и неожиданная удача.
Желтая гостиная выглядела более жалко, чем я запомнила. В прошлый раз комната показалась мне полной тепла, жизни и света посреди темной каменной глыбы замка. Сейчас она была другой; возможно, винить следовало смену сезонов, утрату летнего блеска, вкрадчивый холод, предвещающий зиму, ведь изменение комнаты — не единственное, что поразило меня.
Пес, задыхаясь, рухнул рядом с потрепанной ширмой. Он тоже постарел, поняла я, точно так же, как постарела с мая Перси Блайт, точно так же, как выцвела сама комната. Мне в голову пришла мысль, что Майлдерхерст действительно неким образом отделен от внешнего мира, лежит за обычными рамками пространства и времени. Что он находится во власти заклятия: замок из волшебной сказки, время в котором то замедляется, то убыстряется, повинуясь прихоти сверхъестественного существа.
Саффи стояла в профиль ко мне, склонив голову над чайником из тонкого фарфора.
— Ну наконец-то, Перси, — произнесла она, пытаясь вернуть крышку на место. — Я уж боялась, придется устраивать твои поиски… О! — Она подняла глаза и увидела меня рядом с сестрой. — Привет.
— Это Эдит Берчилл, — сухо сообщила Перси. — Она приехала довольно неожиданно. Выпьет с нами чаю.
— Как мило. — Лицо Саффи озарилось таким светом, что стало ясно: это не просто дань вежливости. — Я как раз собиралась разливать чай, вот только крышку что-то не приладить на место. Сейчас поставлю еще один прибор… вот радость так радость!
Юнипер сидела у окна, точно так же как во время моего посещения в мае; на этот раз она спала, тихонько посапывала, уткнувшись в бледно-зеленую боковину бархатного кресла. При виде нее я невольно подумала о маминой записи в дневнике, о пленительной девушке, которую мама любила. Как печально и как ужасно, что она усохла до этого!
— Хорошо, что вы смогли приехать, мисс Берчилл, — сказала Саффи.
— Пожалуйста, зовите меня Эди, сокращенно от Эдит.
Она польщенно улыбнулась.
— Эдит. Какое прелестное имя. Кажется, оно означает «удачливая на войне»?
— Точно не знаю, — виновато пожала я плечами.
Перси прочистила горло, и Саффи быстро продолжила:
— Тот джентльмен был очень профессиональным, но… — Она бросила взгляд на Юнипер. — Порой намного проще общаться с другой женщиной. Не правда ли, Перси?
— Правда.
Увидев их вместе, я поняла, что не вообразила ход времени. В свой первый визит я отметила, что близнецы одного роста, хотя властный характер Перси добавлял ей стати. На этот раз, однако, вне всяких сомнений, Перси была ниже сестры. И более хрупкой. Я невольно подумала о Джекиле и Хайде,[48] о мгновении, когда добрый доктор встречает своего невысокого темного двойника.
— Садитесь, — резко скомандовала Перси. — Давайте сядем и перейдем к делу.
Мы повиновались. Саффи наполнила чашки, задавая Перси бесконечные вопросы о Бруно и почти не получая ответов. Где она нашла его? Как он себя чувствовал? Как он справился с прогулкой? Стало ясно, что Бруно нездоров, что они беспокоятся о нем, очень сильно беспокоятся. Их голоса были тихими, они украдкой косились на спящую Юнипер, и я вспомнила слова Перси, что Бруно — пес Юнипер, что они всегда держали для нее животное, что каждому нужно кого-то любить. Против воли я изучала Перси поверх чашки. Несмотря на всю колючесть ее поведения, в нем было что-то завораживающее. Пока она скупо удовлетворяла любопытство Саффи, я рассматривала поджатые губы, обвисшую кожу, глубокие морщины, прорезанные годами хмурых взглядов, и гадала, не имела ли она в виду себя, когда говорила, что каждому нужно кого-то любить. Возможно, ее тоже лишили любви.
Я настолько погрузилась в размышления, что, когда Перси повернулась и уставилась на меня, на мгновение испугалась, уж не прочла ли она мои мысли. Я моргнула, мои щеки вспыхнули, и лишь тогда я догадалась, что Саффи обратилась ко мне, а я не реагирую, вот потому и Перси смотрит на меня удивленно.
— Извините. Я отвлеклась.
— Я просто спросила, как вам понравилась поездка, — пояснила Саффи. — Надеюсь, все прошло гладко?
— О да… Спасибо.
— В детстве мы часто ездили в Лондон. Помнишь, Перси?
Та утвердительно хмыкнула.
Лицо Саффи оживилось от воспоминаний.
— Папа брал нас в Лондон каждый год; первое время мы добирались на поезде в нашем собственном маленьком купе вместе с няней, потом папа купил «Даймлер», и мы стати ездить на автомобиле. Перси больше нравилось здесь, в замке, а я обожала Лондон. Столько событий, столько восхитительных леди и статных джентльменов, за которыми можно наблюдать; платья, магазины, парки. — Она улыбнулась какой-то грустной улыбкой. — Я всегда надеялась… — Ее улыбка поблекла, и она уставилась в чашку. — Что ж. Полагаю, все молодые женщины мечтают об одном и том же. Вы замужем, Эдит?
Вопрос был неожиданным, и у меня перехватило дыхание, при виде чего она протянула ко мне тонкую руку.
— Ради бога, простите за беспардонность!
— Вовсе нет, — отозвалась я. — Ничего страшного. Нет, я не замужем.
Ее улыбка потеплела.
— Так я и думала. Надеюсь, вы не сочтете меня чрезмерно любопытной, но я заметила, что вы не носите кольца. Хотя, возможно, молодые люди в наши дни не носят колец. Боюсь, я безнадежно отстала от моды. Я редко выбираюсь из дома. — Саффи чуть покосилась на Перси. — Как и все мы. — Она пошевелила пальцами в воздухе и коснулась старинного медальона, который висел у нее на шее на тонкой цепочке. — Однажды я чуть не вышла замуж.
Сидевшая рядом со мной Перси заерзала на стуле.
— Уверена, что мисс Берчилл неинтересны наши печальные повести…
— Конечно, — зарделась Саффи. — Как глупо с моей стороны.
Она выглядела настолько смущенной, что мне захотелось протянуть ей руку помощи; меня не покидало чувство, что большую часть своей долгой жизни она покорно подчинялась Перси.
— Вовсе нет, — возразила я. — Пожалуйста, расскажите об этом.
Шипение — Перси чиркнула спичкой и прикурила сигарету, зажатую в зубах. Саффи явно разрывалась на части, в ее глазах, устремленных на сестру-близнеца, сменялись робость и тоска. Она читала подтекст, который оставался мне неведом, озирала поле битвы, покрытое шрамами прежних схваток. Она снова взглянула на меня, только когда Перси встала и отошла с сигаретой к окну, включив по дороге лампу.
— Перси права, — тактично промолвила Саффи, и я поняла, что этот бой она проиграла. — Я поступила эгоистично.
— Вовсе нет, я…
— Статья, мисс Берчилл, — перебила Перси. — Как она подвигается?
— Да. — Саффи собралась с духом. — Интересно, как подвигается статья, Эдит. Какие у вас планы на эту поездку? Полагаю, вы хотите начать с интервью?
— Если честно, мистер Гилберт проделал настолько тщательную работу, что я не отниму у вас много времени.
— О… понятно.
— Мы уже обсуждали это, Саффи, — отрезала Перси, и я как будто различила в ее голосе нотку предупреждения.
— Конечно. — Саффи улыбнулась мне, но в глубине ее глаз таилась печаль. — Просто иногда кое-что приходит в голову… позже…
— Я охотно побеседую с вами, если вы забыли что-то рассказать мистеру Гилберту, — пообещала я.
— Это не понадобится, мисс Берчилл. — Перси вернулась за стол, чтобы стряхнуть пепел в пепельницу. — Вы правы, мистер Гилберт собрал настоящее досье.
Я кивнула, но ее непреклонная позиция озадачила меня. Она так недвусмысленно подчеркнула, что в дальнейших интервью нет нужды, что стало очевидно: она не желает, чтобы я говорила с Саффи наедине, однако именно Перси отстранила Адама Гилберта от проекта и настояла, чтобы я заменила его. Я не была достаточно тщеславной или сумасшедшей и не верила, что это как-то связано с моим писательским мастерством или дружескими отношениями, завязавшимися в прошлый визит. Но почему тогда она велела пригласить именно меня и почему не разрешает общаться с Саффи? Дело в контроле? Перси Блайт так привыкла управлять жизнями сестер, что не может позволить им даже простого общения в свое отсутствие? Или за этим скрывается нечто большее и ее беспокоит то, что Саффи может проболтаться?
— Лучше проведите время за осмотром башни, проникнитесь духом дома, — продолжила Перси. — Тем, как работал наш папа.
— Да, — согласилась я, — конечно. Это очень важно.
Я была разочарована собой и не могла отделаться от ощущения, что я тоже смиренно подчинилась указаниям Перси Блайт. В глубине моей души шевельнулось упрямство.
— И все же, — услышала я свой голос, — кое-что осталось нераскрытым.
На полу захныкал пес, и Перси сузила глаза.
— Неужели?
— Я заметила, что мистер Гилберт не взял интервью у Юнипер, и подумала, что могла бы…
— Нет.
— Я понимаю, вы не хотите ее беспокоить, и обещаю…
— Мисс Берчилл, поверьте, из разговора с Юнипер вы не вынесете ничего нового о работе нашего отца. Она даже не родилась, когда «Слякотник» был написан.
— Конечно, но статья посвящена вам троим, и я все же хотела бы…
— Мисс Берчилл, — голос Перси был ледяным, — вы должны понять, что наша сестра нездорова. Я уже была с вами откровенной: в юности она пережила крушение всех надежд, разочарование, от которого так и не оправилась.
— Да, верно, и мне бы в голову не пришло обсуждать с ней Томаса…
Лицо Перси побелело, и я осеклась. Впервые я видела ее испуганной. Я не собиралась произносить его имя, и оно повисло между нами, словно облако дыма. Перси схватила очередную сигарету.
— Лучше проведите время за осмотром башни, — повторила она с суровой медлительной окончательностью, которой противоречил дрожащий спичечный коробок в ее руке. — Проникнитесь тем, как работал наш папа.
Я кивнула; странное беспокойство грузным комом осело в животе.
— Если у вас останутся какие-то вопросы, задайте их мне. Не сестрам.
В этот миг вмешалась Саффи в своей собственной неподражаемой манере. Во время моего обмена репликами с Перси она опустила голову, но сейчас подняла глаза, ее лицо приняло радостное и кроткое выражение. Ее голос был ясным и совершенно бесхитростным:
— Разумеется, это означает, что она должна взглянуть на папины записные книжки.
Возможно ли, что вся комната застыла от этой фразы, или мне только показалось? Никто не видел записных книжек Раймонда Блайта ни при его жизни, ни за пятьдесят лет посмертного изучения его творчества. Слагались легенды относительно того, существуют ли они на самом деле. И услышать столь небрежное упоминание о них, узреть возможность коснуться их, прочесть рукописи великого человека, пробежаться кончиками пальцев по его мыслям в самом месте их формирования…
— Да, — чуть слышно пролепетала я. — Да, пожалуйста.
Перси тем временем повернулась к Саффи, и хотя надежды разобраться в нитях, которые протянулись между ними почти за девяносто лет, у меня было не больше, чем надежды распутать подлесок Кардаркерского леса, я поняла, что удар нанесен. Жестокий удар. Я также поняла, что Перси не желает показывать мне эти записные книжки. Ее сопротивление только распалило мою охоту, потребность подержать их в руках, и я затаила дыхание, пока близнецы продолжали пикировку.
— Ну же, Перси.
Саффи моргала широко распахнутыми глазами, чуть опустив уголки улыбающихся губ, как будто была озадачена, как будто недоумевала, почему Перси нужно подталкивать. Она бросила на меня мимолетный взгляд, в котором ясно читалось: мы союзники.
— Своди ее в архивную.
Архивная. Ну конечно, они там! Происходящее напоминало сцену из «Слякотника»: драгоценные записные книжки Раймонда Блайта, спрятанные в тайной комнате.
Руки Перси, ее грудная клетка, подбородок — все неподвижно застыло. Почему она не хочет давать мне эти тетради? Чего в них она страшится?
— Перси? — Саффи смягчила тон, как будто обращалась к ребенку, которого без хитростей не выведешь на чистую воду. — Записные книжки по-прежнему там?
— Наверное. Я точно их не убирала.
— Ну и?..
Напряжение между ними было таким сильным, что я с трудом дышала, пока смотрела и надеялась. Время тянулось болезненно; порыв ветра на улице заставил ставни и стекла задребезжать. Юнипер пошевелилась. Саффи заговорила снова:
— Перси?
— Не сегодня, — наконец ответила Перси, давя окурок в маленькой хрустальной пепельнице. — Сейчас быстро темнеет. Уже почти вечер.
Я взглянула в окно и увидела, что она нрава. Солнце быстро закатилось за горизонт, на его место стекался холодный ночной воздух.
— Я покажу вам комнату завтра. — Глаза Перси пристально смотрели в мои. — И вот еще что, мисс Берчилл.
— Да?
— Я больше не желаю слышать от вас о Юнипер или о нем.
Лондон, 22 июня 1941 года
Квартира была небольшой, всего лишь пара крошечных комнаток на самом верху викторианского здания. Скошенная крыша встречалась со стеной, которую кто-то когда-то воздвиг, чтобы превратить один пронизанный сквозняками чердак в два; о приличной кухне не было и речи, только маленькая раковина рядом со старой газовой плитой. На самом деле квартира Тому не принадлежала; у него не было собственного угла, потому что он в нем никогда не нуждался. До войны он жил со своей семьей рядом со Слоном и Замком, а после — со своим полком, который на пути к побережью неуклонно сокращался до горстки уцелевших солдат. После Дюнкерка он спал на койке больницы скорой помощи в Чертси.
Однако когда выписался, он кочевал из одной свободной комнаты в другую, ожидая, пока заживет нога, чтобы отправиться обратно на фронт. Половина Лондона опустела, так что найти крышу над головой было несложно. Казалось, война все перетасовала — людей, собственность, привязанности, — и больше не существовало единственного верного пути. Эта квартира, эта простая комната, которую он будет помнить до смертного часа, которая скоро станет хранилищем самых лучших и ярких воспоминаний в его жизни, принадлежала его другу, с которым они вместе учились в педагогическом колледже, в другой жизни, тысячу лет назад.
Было еще рано, но Том уже прошелся до холма Примроуз-хилл и обратно. В последнее время он спал мало и неглубоко — после месяцев, проведенных во Франции, когда ему приходилось добывать себе пропитание при отступлении. Он просыпался с птицами, в первую очередь воробьями, семейство которых поселилось на его подоконнике. Наверное, он зря их подкармливал, однако хлеб плесневел, а парень из отдела по сбору утильсырья ярился, что его нельзя выбрасывать. Хлеб плесневел из-за жара комнаты и пара из котла. Том держал окно открытым, но полуденное солнце собиралось в нижних квартирах, поднималось по лестнице и пробивалось сквозь половицы, прежде чем ударить в потолок, растечься с собственнической непринужденностью и поздороваться с паром. Оставалось принимать плесень как должное, наравне с птицами. Он рано просыпался, кормил воробьев, бродил по округе.
Врачи сказали, что прогулки — лучшее лекарство для его ноги, но Том и так гулял бы. В нем поселилось нечто неугомонное, нечто, приобретенное во Франции, требовавшее ежедневных упражнений. С каждым шагом по мостовой становилось немного легче, и он радовался освобождению, хотя и знал, что оно лишь временное. В то утро, стоя на вершине Примроуз-хилл и наблюдая, как рассвет закатывает рукава, он любовался зоопарком, зданием Би-би-си и куполом собора Святого Павла, четко выделявшимся на фоне разбомбленных окружающих зданий. В пору самых жестоких налетов Том лежал в больнице. Тридцатого декабря к нему заглянула сестра-распорядительница с «Таймс» в руках (к тому времени ему позволили читать газеты). Она ждала у койки с самодовольным, но доброжелательным видом, и не успел он дочитать заголовок, как объявила сие деянием Господа. Том признал, что купол сохранился чудом, однако счел это обычной удачей. Что это за Бог, если Он сохранил только здание, в то время как вся Англия истекает кровью? Но ради сестры он одобрительно кивнул: не хватало только, чтобы на основании богохульства она нашептала врачу о нездоровом состоянии его ума.
Зеркало стояло на карнизе узкого створчатого окна. Том, одетый в майку и брюки, наклонился к нему, катая по щекам огрызок мыла для бритья. Он бесстрастно следил за пятнистым отражением в рябом стекле; молодой человек задирал голову, чтобы молочный солнечный свет лег на щеку; осторожно водил бритвой вдоль челюсти, раз за разом; вздрагивал, подбираясь к мочке уха. Парень в зеркале ополоснул бритву в лужице воды, чуть встряхнул ее и приступил к другой стороне, приводя себя в порядок перед визитом к матери в день ее рождения…
Том осекся и вздохнул. Осторожно положил бритву на подоконник и оперся обеими руками об изогнутый край раковины. Сощурился и начал привычный счет до десяти. С тех пор, как он вернулся из Франции, и особенно после того, как выписался из больницы, с ним часто случалось это смещение. Он словно оказывался снаружи, наблюдая за собой и не в силах до конца поверить, что молодой мужчина в зеркале с приятным, спокойным лицом и целым днем впереди — действительно он. Что опыт минувших восемнадцати месяцев, картины и звуки — ребенок, боже мой, мертвый ребенок, одиноко лежащий на французской дороге, — сокрыты за этим по-прежнему гладким лицом.
«Ты — Томас Кэвилл, — твердо сказал он себе, досчитав до десяти. — Тебе двадцать пять лет, ты солдат. Сегодня день рождения твоей матери, и ты собираешься обедать у нее». На обеде будут его сестры, старшая — со своим малышом, Томасом, названным в его честь, и, конечно, его брат Джоуи; не будет только Тео, которого с полком послали на учения на север, откуда он пишет жизнерадостные письма о масле, сливках и девушке по имени Китти. Все они будут такими же шумными, как обычно, или, по крайней мере, военными версиями себя самих: никаких вопросов, никаких жалоб, кроме, может, шутливых, что сложно достать яйца и сахар. Никаких сомнений, что Британия справится. Они справятся. Том уже почти не помнил, когда чувствовал то же самое.
Юнипер взяла листок бумаги и проверила адрес еще раз. Отложила его в сторону, покрутила головой и выбранила себя за корявый почерк. Она всегда писала слишком быстро, слишком небрежно, слишком торопилась перейти к следующей мысли. Она взглянула на узкий дом и увидела номер на черной передней двери. Двадцать шесть. Она на месте. Наверняка на месте.
Она действительно была на месте. Юнипер решительно засунула записку в карман. Даже если забыть о номере дома и названии улицы, она узнала его по рассказам Мерри так же ясно, как узнала бы Нортенгерское аббатство или Грозовой перевал. Чуть запнувшись, она поднялась на бетонное крыльцо и постучала в дверь.
В Лондоне она провела ровно два дня и до сих пор не могла в это поверить. Она казалась себе воображаемым персонажем, сбежавшим из книги, в которую автор бережно и ласково его заключил. Словно вырезала ножницами собственный контур и, свободная, прыгнула на страницы незнакомой истории, где было намного больше грязи, шума и ритма. Истории, которую она уже обожала: сутолока, беспорядок, непонятные вещи и люди. Она всегда подозревала, что это будет восхитительно.
Дверь открылась, и сердитое лицо застало Юнипер врасплох — лицо особы, которая выглядела младше ее, но в то же время и старше.
— Чего надо?
— Я пришла к Мередит Бейкер.
Собственный голос показался Юнипер странным в этой незнакомой обстановке. Она представила Перси, которая всегда точно знала, как вести себя в мире, но ее образ слился с другим, более свежим воспоминанием — Перси, раскрасневшаяся и злая после встречи с папиным солиситором, — и Юнипер позволила ему обратиться в прах и осыпаться на землю.
Девушка — с такими поджатыми и недовольными губами она могла быть только Ритой — оглядела Юнипер сверху вниз, прежде чем скривиться от надменного подозрения и, как ни странно, острой неприязни, а ведь они никогда не встречались.
— Мередит! — наконец позвала девушка уголком рта. — А ну иди сюда.
Юнипер и Рита молча наблюдали друг за другом; в голове у гостьи теснились слова, сплетались в начало письма, которое она после пошлет сестрам. Тут с грохотом выбежала Мередит; очки на носу, кухонное полотенце в руке; и слова показались ненужными.
Мерри была первой подругой Юнипер и первой, с кем ей пришлось расстаться, так что невыносимая тяжесть разлуки с подругой оказалась для нее полной неожиданностью. Когда в марте отец Мерри без предупреждения явился в замок, настаивая на том, что его дочь на этот раз должна вернуться домой, девушки вцепились друг в друга, и Юнипер прошептала Мерри на ухо: «Я еду в Лондон. Скоро увидимся». Мерри заплакала, а Юнипер не проронила ни слезинки, тогда, по крайней мере; она помахала рукой вслед, забралась на крышу чердака и попыталась вспомнить, каково быть одной. Всю жизнь она одна… но в молчании, повисшем после отъезда Мерри, ощущалось нечто новое. Тихо тикали часы, отмеряя секунды до участи, которой Юнипер упрямо стремилась избежать.
— Ты приехала, — промолвила Мередит, поправляя очки тыльной стороной ладони и моргая, как будто увидела привидение.
— Я же обещала приехать.
— Но где ты остановилась?
— У крестного отца.
На лице Мередит сверкнула усмешка и рассыпалась смехом. Она крепко схватила Юнипер за руку и предложила:
— Идем отсюда.
— Я расскажу маме, что ты не закончила на кухне, — крикнула в спину Рита.
— Не обращай внимания, — отмахнулась Мередит. — Она злится, потому что на работе ее не пускают дальше чулана для метел.
— Очень жаль, что никто не догадался запереть ее там.
В конце концов Юнипер Блайт отправилась в Лондон. На поезде, как и предложила Мередит, когда они сидели вдвоем на крыше Майлдерхерста. Бегство оказалось совсем не таким сложным, как она ожидала. Она просто пошла через поля и не останавливалась, пока не достигла железнодорожной станции.
Она была так довольна собой, что на мгновение сочла задачу выполненной. Юнипер умела писать, умела сочинять невероятные фантазии и пленять их в лабиринте слов, но знала, что во всем остальном она практически безнадежна. Все ее сведения о мире и его устройстве были почерпнуты из книг и разговоров сестер — не слишком болтливых особ, — а также рассказов Мерри о Лондоне. Неудивительно, что на станции она слегка растерялась. Лишь заметив киоск с надписью «Билетная касса», она вспомнила: ну конечно, необходимо купить билет.
Деньги. Юнипер никогда в них не нуждалась, но после смерти папы осталась небольшая сумма. Она не утруждала себя подробностями о завещании и поместье — достаточно было, что Перси вне себя, Саффи обеспокоена, а сама Юнипер — невольная причина этого, — но когда Саффи упомянула о свертке настоящих денег, которые можно складывать, хранить и обменивать на вещи, и предложила найти для них укромное место, Юнипер отказалась. Сослалась на то, что хочет подержать их при себе, изучить. Саффи, милая Саффи и глазом не моргнула, приняв странную прихоть за совершенно разумную, ведь та исходила от Юнипер, которую она любила и потому не задавала вопросов.
Прибывший поезд был полон; немолодой мужчина встал и коснулся шляпы при появлении Юнипер, и девушка поняла, что он приглашает ее сесть на место, которое только что освободил. Место у окна. Какие милые люди в этом поезде! Она улыбнулась, мужчина кивнул, и она села, положив чемоданчик на колени в ожидании продолжения. «Ваша поездка действительно необходима?» — вопрошал плакат на платформе. «Да, — подумала Юнипер. — Да, необходима». Яснее, чем когда-либо прежде, она понимала: остаться в замке означает покориться судьбе, которая ее не устраивает. Судьбе, отражение которой она видела в папином взгляде, когда он брал ее за плечи и повторял, что они одно, он и она, одно и то же.
Пар кружился и клубился вдоль платформы, и она испытывала такое возбуждение, словно оседлала гигантского пыхтящего дракона, который собирался подняться в небо и отнести ее в чудесное и необычное место. Раздался пронзительный свист, от которого по рукам побежали мурашки; поезд тронулся, кренясь на подъеме. Юнипер не удержалась и рассмеялась в окно, потому что она сделала это. Она действительно это сделала.
Вскоре стекло запотело от дыхания, и безымянные, незнакомые станции, поля, деревни и леса понеслись мимо: размазанные мокрой кистью пятна нежно-зеленого и голубого с прожилками розового. Мелькающие краски порой замирали, прояснялись и складывались в картину, заключенную в оконную раму. Констебл[49] или иной пасторальный пейзаж, которые так любил папа. Изображения вечно неизменной сельской местности, которые он превозносил с привычной печалью, затуманивающей глаза.
Юнипер не хватало терпения на вечность. Она знала, что нет ничего вечного, есть только здесь и сейчас. Ее сердце колотилось быстрее обычного, хотя и не опасно, ведь она сидела в поезде, мчащемся в Лондон, среди шума, движения и жара.
Лондон. Юнипер едва слышно произнесла это слово, потом еще раз. Насладилась его размеренностью, двумя уравновешенными слогами, прикосновением к языку. Мягкое, но увесистое, как загадка; такие слова любовники шепчут друг другу. Юнипер мечтала о любви, мечтала о страсти, мечтала о сложностях. Она хотела жить, любить и подслушивать, выведывать секреты и то, как люди говорят друг с другом, что они чувствуют, что заставляет их смеяться, плакать и вздыхать. Люди, которые не являются Перси, Саффи, Раймондом или Юнипер Блайт.
Однажды, когда она была совсем крошкой, некий воздухоплаватель взлетел на шаре с одного из полей Майлдерхерста. Юнипер не помнила почему — то ли он был папиным другом, то ли знаменитым искателем приключений, но на лужайке устроили праздничный завтрак-пикник; собрались все, включая северных кузин, и пригласили нескольких гостей из деревни, которые хотели понаблюдать за великим событием. Шар был привязан к земле веревками, и когда вспыхнуло пламя и корзина взметнулась следом за ним, мужчины у основания канатов принялись рубить их, чтобы освободить шар. Веревки гудели от напряжения, языки пламени взлетали все выше; на мгновение все широко распахнули глаза в ожидании, казалось, неминуемой катастрофы.
Один канат перерезали раньше остальных, и все сооружение завалилось набок; огонь почти лизал оболочку шара. Юнипер взглянула на папу. Она была всего лишь ребенком, и тогда еще не знала всего ужаса его прошлого — минуло немало времени, прежде чем он взвалил бремя своих тайн на плечи младшей дочери, — но даже тогда ей было известно, что огня он боится превыше всего. С белым как мрамор лицом, полным страха, он наблюдал за происходящим. Юнипер неожиданно для себя переняла его выражение. Ей хотелось понять, каково это — обратиться в камень, поддаться панике. Как нельзя более вовремя оставшиеся канаты были перерублены, шар выправился и ринулся в небо, прямо в синюю высь.
Для Юнипер смерть папы стала первым перерубленным канатом. Она ощутила свободу, когда ее тело, ее душа, все ее существо сместилось и значительная часть невыносимого бремени свалилась с плеч. Последние канаты она перерубила сама: собрала небольшой чемоданчик с первой попавшейся одеждой, переписала адреса двух своих лондонских знакомых и дождалась дня, когда обе ее сестры были заняты настолько, что она ушла незамеченной.
Между Юнипер и домом имелся теперь всего один отрезок каната. Перерубить его было сложнее всего, ведь Перси и Саффи завязали очень аккуратный узел. И все же это было необходимо, ведь их любовь и забота держали ее в плену так же крепко, как папины ожидания. Когда Юнипер достигла Лондона и дым и суматоха вокзала Чаринг-Кросс поглотили ее, она вообразила себя сверкающей парой ножниц и наклонилась разрезать канат. Она смотрела, как он уносится прочь, мгновение медлит, точно отрезанный хвост, и исчезает вдали, мчится к замку все быстрее и быстрее.
Наконец-то свободная, она спросила, где найти почтовый ящик, и отправила домой письмо, вкратце объяснив, что сделала и почему. Оно попадет к сестрам прежде, чем те успеют слишком сильно обеспокоиться или отправить поисковые отряды. Конечно, они встревожатся; особенно испугается Саффи, но что еще Юнипер могла поделать?
Ясно было одно. Сестры никогда не отпустили бы ее без сопровождения.
Юнипер и Мередит лежали бок о бок на выгоревшей траве парка; лучики света играли в прятки с блестящими листьями над головой. Девушки поискали шезлонги, но большинство было сломано и прислонено к стволам деревьев в надежде, что кто-нибудь их починит. Юнипер не расстроилась: день был жарким и прохлада травы и земли под ней только радовала. Одну руку она положила под голову, в другой держала сигарету и медленно курила, сощурив левый глаз, разглядывая правым движение листьев на фоне неба и слушая рассказ Мередит о том, как подвигаются дела с ее рукописью.
— Ну, — отозвалась она, когда подруга закончила, — и когда ты покажешь ее мне?
— Она почти готова. Почти. Но…
— Но что?
— Я не знаю. Я так…
Повернув голову набок, Юнипер скользнула ладонью по векам, прикрывая глаза от солнца.
— Так что?
— Так нервничаю.
— Нервничаешь?
— А если тебе не понравится? — С этими словами Мередит резко села.
Юнипер последовала ее примеру, скрестив ноги.
— Это невозможно.
— Но если тебе не понравится, я никогда в жизни больше ничего не напишу.
— Послушай, цыпленок. — Юнипер притворилась суровой, нахмурила лоб и вообразила себя Перси. — Если все дело в этом, можешь перестать писать прямо сейчас.
— Выходит, ты считаешь, что тебе не понравится!
На лицо Мередит набежала тень отчаяния, застав Юнипер врасплох. Она просто дурачилась, шутила, как обычно. Она думала, что Мерри засмеется и таким же строгим голосом ответит что-нибудь бессмысленное. Столкнувшись со столь неожиданной реакцией, Юнипер посерьезнела и оставила властный тон.
— Я вовсе не это имела в виду. — Она положила ладонь на блузку подруги, рядом с сердцем, так что почувствовала его биение кончиками пальцев. — Пиши сердцем, потому что не можешь не писать, потому что это доставляет тебе удовольствие, но только не ради чужой похвалы.
— Даже твоей?
— Особенно моей! О господи, Мерри, да что я могу знать!
Мередит улыбнулась, печаль испарилась, и она с внезапной живостью принялась рассказывать про ежика, который заглянул в семейное бомбоубежище. Юнипер слушала и смеялась, и только малая доля ее внимания была обращена на странное новое напряженное выражение лица ее подруги. Если бы она была другим человеком, которому вымышленные персонажи и места не давались бы с такой легкостью, которому порой отказывались бы повиноваться слова, она бы разделила тревогу Мерри. Но она была самой собой и ничего не поняла, а со временем и вовсе забыла. Оказаться в Лондоне, оказаться на свободе, развалиться на траве, ощущать лучи солнца на спине — единственное, что имело смысл.
Юнипер докурила сигарету и заметила расстегнутую пуговицу на блузке Мередит.
— Постой. — Она протянула руку. — У тебя блузка расстегнулась, цыпленок. Сейчас поправлю.
Том решил прогуляться до Слона и Замка. Метро он не любил; поезда шли слишком глубоко под землей, отчего он нервничал и чувствовал себя в ловушке. Казалось, целая жизнь протекла с тех пор, как он брал с собой Джоуи посидеть на платформе и послушать приближающийся рев. Он разжал кулаки и вспомнил, каково было держать пухлую ладошку брата — потную, всегда потную от волнения и жара, — когда они вместе вглядывались в тоннель в ожидании слепящих огней и затхлого пыльного удара ветра, объявляющего о приближении поезда. Но особенно ясно он вспомнил, как смотрел в лицо Джоуи, неизменно радостное, как в самый первый раз.
На мгновение Том помедлил и зажмурился, чтобы воспоминание выцвело и поблекло. Когда он снова открыл глаза, то чуть не налетел на трех молодых женщин, несомненно, младше его, очень аккуратных в своих практичных костюмах, шагающих с такой энергичной целеустремленностью, что он ощутил себя глупой помехой на их пути. Девушки улыбнулись, когда он отступил в сторону, и прошли мимо, сложив пальцы буквой «V». Том улыбнулся в ответ, немного натянуто, чуть позже, чем следовало, и направился дальше к мосту. За спиной стихал девичий смех, кокетливый и искрящийся, как холодный лимонад до войны, и быстрый перестук каблуков; Тома охватило неясное подозрение, что он упустил возможность, хотя и не понимал, возможность чего. Он не остановился и не увидел, как они обернулись на него через плечо, сблизили головы, бросили украдкой еще один взгляд на высокого молодого солдата, отметили его красивое лицо и серьезные темные глаза. Том слишком погрузился в ходьбу, переставляя ноги одну за другой — как во Франции — и размышляя о пальцах, сложенных буквой «V». Знаке победы. Этот жест был повсюду, и Том гадал, откуда он взялся, кто придал ему смысл и откуда все его знают.
Перейдя через Вестминстерский мост и оказавшись у дома матери, Том позволил себе заметить то, что обычно пытался игнорировать. Неугомонное чувство вернулось, грызущая пустота в грудной клетке. Оно прокралось вместе с воспоминаниями о Джоуи. Том глубоко вдохнул и прибавил шаг, поскольку так у него было больше шансов обогнать свою тень. Оно было странным, это ощущение, словно чего-то не хватает; удивительно, что пустота способна оказывать такое давление на твердое тело. Немного напоминало тоску по дому, что ставило Тома в тупик: во-первых, он был взрослым человеком и давно перерос подобные привязанности, а во-вторых, он и так был дома.
Он думал — лежа на мокрой деревянной палубе корабля, который вез его из Дюнкерка, на больничной койке с накрахмаленными простынями, в первой съемной квартире в Ислингтоне, — что это чувство, тупая, неизбывная боль, смягчится, когда он снова ступит в родной дом; в тот самый миг, когда мать обнимет его, зарыдает на плече и скажет, что он вернулся домой и теперь все будет хорошо. Но боль не утихла, и Тому было известно почему. Душевный голод вовсе не был тоской по дому. Том взял этот термин в силу лени, а может, надежды, для обозначения чувства, подозрения, что нечто ключевое утрачено. Но тосковал он не по месту; реальность была много хуже. Том утратил часть себя.
Он знал, где оставил ее. Впервые он испытал это на поле возле канала Эско, когда обернулся и встретился взглядом с другим солдатом, немецким парнем, ружье которого смотрело Тому в спину. Он ощутил панику, прилив жара, а после ему стало вдруг легче. Та его часть, которая чувствовала и боялась, отлепилась, как листок папиросной бумаги из отцовской жестянки, и, порхая, опустилась на землю, упокоившись на том поле боя. Оставшаяся часть, твердая сердцевина по имени Том, опустила голову и побежала, ни о чем не думая, ничего не испытывая, ничего не слыша, кроме хриплого дыхания, своего собственного.
Это разделение, смещение, сделало его лучшим солдатом, но взамен он стал ущербным человеком. Вот почему он больше не жил дома. Теперь он смотрел на вещи и людей словно через закопченное стекло. Он видел их, но неясно, и определенно не мог их коснуться. В больнице врач объяснил ему происходящее, говорил, что встречал других ребят, которые жаловались на то же самое. Все это было утешительно, но ничуть не уменьшило ужаса мгновения, когда мама Тома улыбнулась ему, как улыбалась в детстве, и попросила снять носки, чтобы она могла их заштопать, а он ощутил одну лишь пустоту. Когда он пил из старой папиной чашки; когда его братишка Джоуи — уже взрослый мужчина, но все равно его братишка Джоуи — закричал от радости и бросился к нему неуклюжим галопом, прижимая к груди потрепанный экземпляр «Черного Красавчика»;[50] когда приехали его сестры и загомонили, как он похудел и как они объединят свои пайки и откормят его. Том ничего не чувствовал, и оттого ему хотелось…
— Мистер Кэвилл!
Так звали его отца, и сердце Тома пропустило удар. На одно невероятное мгновение у него ноги подкосились от облегчения, ведь это значило, что отец жив и здоров и все еще можно исправить. Что когда в последние недели ему мерещился старик, который шел навстречу по лондонским улицам, махал с той стороны поля боя, протягивал руку на переправе через Ла-Манш, он вовсе не бредил. То есть бредил, но чудилось ему совсем другое: этот мир, вместилище бомб и пуль; ружье в руках: переправы на дырявом корабле через темный вероломный Ла-Манш; долгие месяцы в больницах, где чрезмерная чистота маскировала запах крови; мертвые дети на опаленных взрывами дорогах; все это было кошмарным плодом воображения. С внезапной головокружительной, мальчишеской радостью он осознал, что в реальном мире все хорошо, ведь его отец еще жив. Ну конечно жив, раз его кто-то зовет!
— Мистер Кэвилл!
Том обернулся и увидел девушку, машущую рукой; знакомое лицо приближалось к нему. Девушка шла, как ходят совсем молоденькие девушки, когда хотят казаться старше: плечи назад, подбородок вперед, запястья изогнуты; и все же она спешила, как взволнованный ребенок, вскочив со скамейки в парке и бросившись через невидимую границу, где раньше стояла чугунная ограда, которую давно превратили в заклепки, пули и самолетные крылья.
— Здравствуйте, мистер Кэвилл! — Задыхаясь, она остановилась перед ним. — Вы вернулись с войны!
Надежда встретить отца растаяла; радость и облегчение вытекли через тысячи крохотных проколов на коже. Том хрипло вздохнул и понял, что это он мистер Кэвилл, а эта девушка посреди мостовой, которая моргает сквозь очки и чего-то ждет, его ученица; была когда-то его ученицей. В ту далекую пору, когда у него были ученики, когда он веско изрекал банальности о великих идеях, которых не понимая ни на гран. Том поморщился, вспомнив прежнего себя.
Мередит. Ну конечно. Ее зовут Мередит Бейкер, она повзрослела со времени их прошлой встречи. В ней стало меньше детского, она выросла, вытянулась, и новые дюймы были полны беспокойства. Улыбка растянула его губы, он с трудом поздоровался и испытал приятное ощущение, которое не сразу опознал, нечто, связанное с девушкой, с Мередит, и их последней встречей. Не успел он нахмуриться и задуматься, как воспоминание, с которым было связано это чувство, всплыло на поверхность: жаркий день, круглый пруд, девушка.
И тогда он увидел ее. Девушку с пруда, прямо здесь, на лондонской улице, совершенно отчетливо, и на мгновение решил, что опять бредит. Разве может быть иначе? Девушку из грез, которую порой представлял на войне, сияющую, парящую, улыбающуюся, когда тащился через всю Францию; когда падал под весом своего приятеля Энди — умершего у него на плече задолго до того, как Том это понял, — когда ударила пуля, колено подломилось и кровь впиталась в землю у Дюнкерка…
Том уставился на девушку и тряхнул головой, начав безмолвный отсчет до десяти.
— Это Юнипер Блайт, — представила Мередит, теребя пуговицу у воротника и улыбаясь девушке.
Юнипер Блайт. Ну конечно, ее так зовут.
Она улыбнулась с поразительной искренностью, и все ее лицо преобразилось. Том тоже ощутил себя преобразившимся, как будто на долю секунды вновь стал тем юношей у сверкающего пруда в жаркий день до начала войны.
— Привет, — сказала она.
В ответ Том кивнул, слова по-прежнему ускользали от него.
— Мистер Кэвилл был моим учителем, — пояснила Мередит. — Вы виделись как-то раз в Майлдерхерсте.
Том украдкой бросил еще взгляд, пока внимание Юнипер было приковано к своей младшей подруге. Юнипер не была Еленой Троянской; несовершенство ее лица помрачило его рассудок. У любой другой женщины подобные черты казались бы приятными, но не лишенными изъяна: слишком широко расставленные глаза, слишком длинные волосы, щель между передними зубами. Но в ее случае они создавали избыток, буйство красоты. Ее отличала от прочих особенная живость. Она была сверхъестественно красива и в то же время совершенно естественна. Ярче, сочнее, чем все остальное.
— У пруда, — говорила тем временем Мередит. — Помнишь? Он пришел меня проведать.
— О да, — отозвалась девушка, Юнипер Блайт, поворачиваясь к Тому.
И что-то внутри его оборвалось. У него перехватило дыхание, когда она улыбнулась и заявила:
— Вы плавали в моем пруду.
Она поддразнивала, и ему захотелось произнести что-нибудь легкомысленное, пошутить, как в былые времена.
— Мистер Кэвилл тоже поэт, — сообщила Мередит; ее голос доносился откуда-то со стороны, издалека.
Том попытался сосредоточиться. Поэт. Он потер лоб. Он больше не считал себя поэтом. Он смутно помнил, как отправился на войну за опытом, полагая, что сможет открыть тайны мира, увидеть вещи в новом, ярком свете. И он увидел. О да, увидел. Вот только то, что он увидел, в стихах не описывают.
— Я больше не пишу, — возразил он. Это была его первая фраза, и он почувствовал необходимость ее исправить. — Я был занят. Другими делами. — Теперь он смотрел только на Юнипер. — Я живу в Ноттинг-Хилле.
— А я в Блумсбери, — ответила она.
Он кивнул. Ему было отчасти неловко встретить ее во плоти после того, как столько раз в самых разных ситуациях он представлял ее.
— Я в Лондоне почти никого не знаю, — добавила она.
А он недоумевал, то ли она простодушна, то ли прекрасно осведомлена о своих чарах. Как бы то ни было, нечто в ее тоне заставило его осмелеть.
— Вы знаете меня, — напомнил он.
Она с любопытством поглядела на него, наклонила голову, как будто прислушиваясь к его мыслям, и улыбнулась. Достала блокнот из сумки и что-то написала. Когда она протянула листок, ее пальцы коснулись его ладони, и его словно пронзил электрический разряд.
— Я знаю вас, — согласилась она.
И ему показалось, тогда и каждый раз, когда он мысленно воссоздавал их беседу, что на свете нет и не было более точных и истинных слов.
— Вы идете домой, мистер Кэвилл?
Мередит. Он совсем о ней забыл.
— Да, сегодня день рождения у мамы. — Он посмотрел на часы; цифры показались бессмысленными значками. — Мне пора.
Мередит улыбнулась и подняла два пальца буквой «V»; Юнипер просто улыбнулась.
Том подождал, пока не окажется на маминой улице, прежде чем развернуть листок; но когда он подошел к передней двери, адрес в Блумсбери уже запечатлелся в его памяти.
Только поздно вечером Мередит осталась одна и сумела все записать. Вечер был мучительным: Рита и мама ругались весь ужин, папа заставил их сидеть рядом и слушать объявление мистера Черчилля по радио о русских, а потом мама — все еще не простившая Мередит предательства в замке — нашла огромную груду носков, которые нуждались в штопке. Сосланная на кухню, где летом всегда царила жара, Мередит мысленно проигрывала день снова и снова, полная решимости не упустить ни малейшей детали.
А теперь наконец она укрылась в тишине комнаты, которую делила с Ритой. Она сидела на кровати, прислонившись спиной к стене; ее дневник, ее драгоценный дневник лежал на коленях, и она яростно марала его страницы. В любом случае, подождать было мудро, невзирая на муки; Рита сейчас особенно невыносима, и последствия, если она найдет дневник, будут ужасны. К счастью, горизонт обещал быть чистым еще около часа. Не иначе как при помощи черной магии Рите удалось привлечь внимание помощника мясника из лавки через дорогу. Это явно любовь: парень прятал под прилавок сосиски и украдкой передавал их Рите. Рита, разумеется, считала себя его светом в окошке и не сомневалась, что свадьба не за горами.
К несчастью, любовь не смягчила ее. Днем она дождалась возвращения Мередит и потребовала отчета: что за женщина приходила к ней утром, куда они отправились в такой спешке, что это Мередит замышляет. Конечно, Мередит не сказала. Просто не хотела. Юнипер была ее личным секретом.
— Так, одна знакомая, — обронила она как можно небрежнее.
— Маме не понравится, что ты отлынивала от своих обязанностей и гуляла с леди Вонючкой.
Но у Мередит в кои-то веки был припасен ответный удар.
— А папе не понравится, чем вы с сосисочником занимались в убежище.
Лицо Риты покраснело от негодования, и она швырнула в Мередит первое, что подвернулось под руку, а именно свою туфлю, поставив некрасивый синяк над коленом; зато она промолчала при маме о Юнипер.
Закончив предложение, Мередит поставила выразительную точку и задумчиво пососала кончик ручки. Она добралась до места, когда они с Юнипер встретили мистера Кэвилла; тот шел по мостовой и хмурился, глядя в землю так сосредоточенно, будто считал шаги. Тело Мередит через весь парк ощутило: это он, еще до того, как у нее перехватило дыхание. Сердце накренилось в груди, будто его подпружинили, и она немедленно вспомнила свою детскую привязанность. Вспомнила, как наблюдала за учителем, как впитывала каждую его фразу и мечтала, что однажды они поженятся. Какой стыд! Какие нелепые грезы! Но тогда она была всего лишь ребенком.
И все же как странно, как непостижимо, как чудесно, что они с Юнипер вернулись в один и тот же день; два человека, которые более всех прочих помогли ей отыскать свою дорогу в жизни. Мередит знала, что много сочиняет, мама вечно обвиняла ее в фантазировании, но не могла отделаться от мысли, что это знак свыше. Что в их двойном возвращении в ее жизнь есть элемент судьбы. Предназначения.
Захваченная этой идеей, Мередит соскочила с кровати и достала стопку дешевых тетрадей из укрытия на дне гардероба. Ее история пока не имела названия, но она должна была его придумать, прежде чем показать рукопись Юнипер. Не помешало бы также напечатать ее, как полагается… у мистера Сибома из четырнадцатого дома есть старая пишущая машинка; возможно, если Мередит предложит принести ему обед, он позволит ей воспользоваться машинкой?
Стоя на коленях на полу, она заправила волосы за уши и пролистала тетради, читая по паре строчек то здесь, то там и напрягаясь все сильнее, ведь даже те, которыми она гордилась больше всего, выдыхались, едва она воображала испытующий взгляд Юнипер. Мередит поникла. Вся история донельзя чопорна, теперь она это видела. Ее персонажи слишком много болтали, слишком мало чувствовали и, кажется, понятия не имели, чего хотят в жизни. Но прежде всего не хватало чего-то главного, одного из аспектов существования ее героини, который она просто обязана облечь в слова. Поразительно, что она не разглядела этого раньше!
Любви, разумеется. Вот чего не хватает ее истории. Ведь разве не любовь — восхитительный крен подпружиненного сердца — заставляет крутиться земной шар?
Лондон, 17 октября 1941 года
Подоконник на чердаке Тома был шире обычного, отчего на нем было особенно удобно сидеть. Юнипер любила сидеть на подоконнике, но отказывалась верить, что это как-то связано с ее тоской по крыше чердака в Майлдерхерсте. Ведь она по нему совсем не скучала. С чего бы? Если честно, за месяцы после отъезда Юнипер решила, что никогда не вернется назад.
Теперь она знала о завещании отца, о том, чего он хотел для нее и на что был готов пойти, чтобы добиться своего. Саффи все объяснила в письме, не с целью расстроить Юнипер, а просто жалуясь на дурное настроение Перси. Юнипер дважды прочитала письмо, удостоверяясь, что правильно все поняла, а после утопила его в Серпантине,[51] следя, как тонкая бумага погружается под воду, чернила расплываются синими пятнами и ее гнев наконец утихает. Вполне в духе папы; сейчас, издалека, она видела это отчетливо. Старик словно пытался дергать дочерей за ниточки из-под могильной плиты. Юнипер, однако, отказывалась ему повиноваться. Она была не готова позволить даже мыслям о папе омрачить ее день. Сегодняшний день будет залит солнцем… пусть на небе и собираются тучи.
Подтянув колени к груди, прислонившись выгнутой спиной к штукатурке, с удовольствием затягиваясь сигаретой, Юнипер озирала сад внизу. Стояла осень, на земле лежал толстый слой листьев, по которому радостно носился котенок. Он уже много часов преследовал воображаемых врагов, подпрыгивал и исчезал между грудами листьев, нырял в полумрак пятнистых теней. Леди из квартиры на первом этаже, жизнь которой сгорела ясным пламенем в Ковентри, тоже вышла в сад и поставила на землю блюдце молока. Лишних продуктов в последнее время, с введением новых нормативов, не оставалось, но женщинам всегда удавалось наскрести довольно, чтобы порадовать приблудного котенка.
С улицы донесся шум, и Юнипер вытянула шею. К дому шел мужчина в форме, и ее сердце бешено забилось. Всего через секунду она поняла, что это не Том, и затянулась сигаретой, подавляя приятную дрожь предвкушения. Ну конечно, это не он, еще не он. Он придет не раньше чем через полчаса. Он всегда подолгу пропадает, когда навещает родных, но скоро вернется, полный историй, и тогда она удивит его.
Юнипер взглянула на маленький столик рядом с газовой плитой, который они купили за гроши и упросили таксиста помочь поднять в квартиру за чашку чая. На нем была накрыта трапеза, достойная короля. Короля на пайке, по крайней мере. Юнипер отыскала две груши на рынке Портобелло. Чудесные груши и за приемлемую цену. Она старательно отполировала их и положила рядом с сэндвичами, сардинами и газетным свертком. Посередине на перевернутом ведре гордо красовался торт. Первый торт, испеченный Юнипер.
Несколько недель назад ее посетила мысль, что Тому просто необходим торт на день рождения, и ее долг — испечь его. План, однако, едва не развалился, когда Юнипер сообразила, что понятия не имеет, как это делается. Она также испытывала серьезные сомнения насчет способности их крошечной газовой плиты справиться с такой непростой задачей. Не в первый раз она пожалела, что Саффи нет в Лондоне. И не только чтобы помочь с тортом; хотя Юнипер и не горевала по замку, ей не хватало сестер.
В конце концов она постучала в дверь полуподвальной квартиры в надежде, что живущий там мужчина — избежавший армии благодаря плоскостопию, к немалой выгоде местной столовой, — окажется дома. Он был дома, и когда Юнипер изложила свою просьбу, охотно протянул руку помощи, составив список необходимых продуктов и словно наслаждаясь ограничениями, наложенными карточной системой. Ради такого случая он даже пожертвовал яйцо из своих личных запасов, а когда Юнипер собралась уходить, протянул ей нечто, обернутое газетной бумагой и перетянутое бечевкой: «Подарок для вас обоих». Сахара для глазури, разумеется, не было, и Юнипер написала имя Тома наверху мятной зубной пастой, смотрелось не так уж и плохо.
На лодыжку капнуло что-то холодное. Затем на щеку. Вернувшись в реальный мир и обнаружив, что начинается дождь, Юнипер задумалась, где сейчас Том.
Он сорок минут пытался уйти, конечно, вежливо, но это оказалось непросто. Родные были очень счастливы, что он отчасти выздоровел и снова стал «нашим Томом», и без конца возвращались в разговоре к его персоне. Неважно, что крохотная кухонька матери трещала по швам от самых разных Кэвиллов; каждый вопрос, каждая шутка, каждое утверждение попадали Тому не в бровь, а в глаз. Его сестра поведала о своей знакомой, которую во время затемнения сбил насмерть двухэтажный автобус. Она качала головой, глядя на Тома, и причитала:
— Сущий кошмар, Томми. Всего-то на минутку выскочила из дома, чтобы отнести шарфы для солдат.
Том согласился, что это ужасно (и это действительно было ужасно), выслушал, как дядя Джефф сослался на аналогичное столкновение соседа с велосипедом, после чего немного поерзал и встал.
— Вот что, мама, большое спасибо…
— Уже уходишь? — Она приподняла чайник. — Как раз собиралась поставить его на плиту.
Он поцеловал ее в лоб, с удивлением заметив, как далеко пришлось для этого наклониться.
— Твой чай — самый вкусный на свете, но мне правда пора идти.
Мама подняла бровь.
— И когда мы познакомимся с ней?
Братишка Джоуи притворялся поездом, и Том игриво хлопнул его по плечу, избегая смотреть матери в глаза.
— С кем, мама? — Он перекинул ранец через плечо. — Понятия не имею, о чем ты говоришь.
Он резво шагал, стремясь поскорее вернуться в квартиру, к ней; стремясь обогнать тучи, сгущающиеся над головой. Но как бы он ни торопился, слова матери поспевали за ним. Они царапали его, ведь Тому не терпелось рассказать семье о Юнипер. Каждый раз при виде родных он боролся с желанием схватить их за плечи и воскликнуть, подобно ребенку, что он влюблен, что мир — чудесное место, несмотря на то что молодые мужчины стреляют друг в друга, а милых леди — матерей, у которых дома остались маленькие дети, — сбивают насмерть двухэтажные автобусы, когда они выскакивают из дома на минутку, чтобы отнести шарфы для солдат.
Но он сдерживался, потому что Юнипер взяла с него обещание молчать. Ее решимость сохранить в тайне их роман смущала Тома. Скрытность совершенно не соответствовала этой женщине, которая была так откровенна, так прямодушна, так не склонна искать оправданий для своих чувств, слов или поступков. Сначала он обиделся, подозревая, что она считает его родных ниже себя, но ее интерес к ним развеял его опасения. Она обсуждала их, справлялась о них, как будто дружила с Кэвиллами много лет. К тому же вскоре выяснилось, что в данном отношении она беспристрастна. Том абсолютно точно знал, что сестры, которых она искренне любила, пребывают в таком же неведении, как и его семья. Письма из замка всегда приходили через крестного отца Юнипер (которого, на удивление, ничуть не беспокоил обман), и Том заметил, что в ее ответных письмах стоит Блумсбери в качестве обратного адреса. Он спросил ее, в чем дело, сперва намеком, потом прямо, а она отказалась объяснять, только расплывчато сообщила, что ее сестры очень заботливые и старомодные, и добавила, что лучше всего будет подождать подходящего момента.
Тому это не нравилось, но он любил ее и потому выполнил ее просьбу. Ну, почти выполнил. Он не удержался и написал о ней Тео. Брат был на севере с полком, что несколько оправдывало действия Тома. К тому же его первое письмо о странной и прекрасной девушке, которую он встретил и которая сумела заполнить пустоту в его душе, было написано задолго до того, как она попросила этого не делать.
С первой их встречи на улице рядом со Слоном и Замком Том знал, что должен увидеть Юнипер Блайт снова. На следующее же утро, на рассвете, он отправился в Блумсбери, просто чтобы посмотреть, сказал он себе, чтобы увидеть дверь, стены, окна, за которыми она спит.
Он следил за домом несколько часов, нервно курил, и наконец она появилась. Том немного прошел за ней, набрался смелости и окликнул ее по имени:
— Юнипер!
Столько раз он произносил ее имя вслух и мысленно, но тут, когда он громко позвал ее и она обернулась, все было иначе.
Весь залитый солнцем день они провели вместе, бродили по улицам и разговаривали, угощались ежевикой, которую нашли у стены кладбища, а когда настал вечер, Том не смог ее отпустить. Он предложил ей сходить на танцы, думая, что девушки любят подобные вещи. Но Юнипер, похоже, не любила. На ее лице мелькнуло такое откровенное недовольство, что Том на мгновение растерялся. Затем он собрался с духом и спросил, не желает ли она заняться чем-то другим, и Юнипер заявила, что, конечно, им следует продолжить прогулку. Разведку, как она называла.
Том всегда шагал быстро, и она поспевала за ним, то с одного бока, то с другого, то горячась, то помалкивая. В некоторых отношениях она напоминала ребенка, от нее исходил тот же дух непредсказуемости и опасности, тревожное, но отчего-то соблазнительное чувство, будто он объединил усилия с человеком, над которым не властны обычные правила поведения.
Она останавливалась, озиралась по сторонам, затем нагоняла его, ужасно беспечно, и он начал беспокоиться, что из-за сумерек она может обо что-нибудь споткнуться — о дыру в мостовой или мешок с песком.
— Здесь тебе не сельская местность, знаешь ли, — заметил он; в его голос прокралась давно забытая менторская нотка.
Но Юнипер только засмеялась и ответила;
— Хотелось бы верить. Именно поэтому я и приехала.
Она принялась убеждать, что у нее превосходное зрение, просто орлиное; это было как-то связано с замком и ее детством. Том не помнил подробностей; он уже перестал слушать. Облака разошлись, сияние почти полной луны посеребрило ее волосы.
Хорошо, что она не уловила его жадного взгляда. К счастью для Тома, она присела на корточки и стала копаться среди камней. Он подошел ближе, недоумевая, что привлекло ее внимание, и увидел, что в хаосе развороченных улиц Лондона она отыскала плеть жимолости, упавшую на землю после того, как убрали поддерживавшую ее ограду, и все еще живую. Юнипер отломила веточку и продела ее в волосы, напевая странную, но милую мелодию.
Когда солнце показалось из-за горизонта и они поднялись по лестнице в его квартиру, она наполнила старую банку из-под варенья водой и поставила жимолость на подоконник. В последующие ночи, лежа в одиночестве в жаркой темноте, не в силах уснуть из-за мыслей о Юнипер, он вдыхал сладкий цветочный аромат. И ему показалось, и казалось до сих пор, что Юнипер в точности как этот цветок. Неизъяснимое совершенство в раздираемом на части мире. Дело не только в ее внешности и не только в том, что она говорила. Дело в чем-то еще, в неуловимой сущности, уверенности, силе, как будто она была соединена с механизмом, вращающим земной шар. Она была ветерком в летний день, первыми каплями дождя на иссушенной земле, сиянием вечерней звезды.
Что-то заставило Юнипер посмотреть на мостовую. Том стоял там, раньше, чем она ожидала, и ее сердце пропустило удар. Она помахала, чуть не выпав из окна от радости при виде возлюбленного. Он еще не заметил ее. Опустив голову, он проверял почтовый ящик. Юнипер не могла отвести от него глаз. Это было безумие, это была одержимость, это было желание. Но самое главное — это была любовь. Юнипер любила его тело, голос, любила прикосновение его пальцев к своей коже и местечко под ключицей, куда так замечательно помещалась по ночам ее щека. Она любила то, что по его лицу можно было прочесть все места, где он побывал. То, что ей никогда не приходилось спрашивать у него, что он чувствует. То, что слова были не нужны. Оказывается, Юнипер устала от слов.
За окном лил дождь, которому было далеко до дождя в тот день, когда она влюбилась в Тома. Тогда был летний ливень, одна из тех внезапных и жестоких гроз, что крадутся по пятам за восхитительной жарой. Они целый день гуляли: обошли весь рынок Портобелло, взобрались на Примроуз-хилл, затем вернулись в Кенсингтонские сады и принялись плескаться на мелководье Круглого пруда.
Гром раздался так неожиданно, что люди уставились на небо, опасаясь какого-то нового оружия. А затем хлынул дождь, огромными крупными слезами, под которыми весь мир заблестел.
Том схватил Юнипер за руку, и они побежали по немедленно разлившимся лужам. От удивления они смеялись до самого дома, поднимаясь по лестнице, ныряя в сумрак и сухость комнаты.
— Ты промокла, — сказал Том, захлопнув дверь и прислонившись к ней спиной.
Он смотрел на тонкое платье Юнипер, которое липло к ногам.
— Промокла? — воскликнула она. — Да меня хоть выжимай!
— Держи. — Он кинул ей запасную рубашку, которая висела на крючке рядом с дверью. — Надень, пока не просохнешь.
Она послушалась, стянула платье и просунула руки в рукава его рубашки. Том отвернулся, делая вид, что плещется в маленькой фарфоровой раковине, но когда она с любопытством посмотрела на него, их взгляды встретились в зеркале. Она не отводила глаз чуть дольше, чем обычно, и он успел заметить, что в их глубине что-то изменилось.
Дождь не прекращался, гром тоже, и с ее платья капала вода в углу, где Том повесил его сохнуть. Они оба переместились к окну, и Юнипер, которая обычно не страдала от робости, пробормотала какой-то вздор о птицах и о том, куда они деваются во время дождя.
Том промолчал. Он коснулся ладонью ее щеки. Совсем легонько, но этого хватило. Она умолкла и качнулась навстречу, чуть повернувшись и задев губами его пальцы. Она не сводила с него глаз, не могла, даже если бы хотела. А потом его пальцы коснулись пуговиц рубашки, ее живота, груди, и внезапно биение ее сердца разлетелось на тысячу крошечных шариков, и все они кружились в унисон в ее теле.
После они сидели рядом на подоконнике, ели вишни, которые он купил на рынке, и бросали камушки в лужи внизу. Ни один из них ничего не говорил, но время от времени они поглядывали друг на друга и улыбались почти самодовольно, как будто им, и только им, открылась удивительная тайна. Юнипер интересовалась сексом, она писала о нем, о том, что могла бы сделать, сказать или почувствовать. Но ничто не подготовило ее к тому, что по пятам за сексом может следовать любовь.
Потерять голову от любви.
Теперь Юнипер знала смысл этого выражения. Искрящееся головокружительное чувство, божественное безрассудство, полная утрата свободной воли. В ее случае именно так все и было, но не ограничилось этим. Юнипер всю жизнь избегала физических контактов и вдруг соединилась с другим человеком. Когда они лежали рядом в знойном сумраке, ее щека прижималась к его теплой груди; она слушала его сердце, впитывала его равномерное биение, и ее собственное сердце успокаивалось, подстраивалось под его ритм. И Юнипер откуда-то поняла, что нашла в Томе человека, который способен уравновесить ее, что потерять голову от любви в первую очередь означает попасть в плен, спастись…
Хлопнула передняя дверь, на лестнице раздался шум, шаги Тома по спирали поднимались наверх. В ослепительной вспышке желания Юнипер забыла о прошлом, отрешилась от сада с его листьями, от приблудного котенка, от печальной старой леди, оплакивающей собор Ковентри, от войны за окном, от города лестниц, которые никуда не ведут, от портретов на стенах без потолков и кухонных столов, принадлежавших семьям, более в них не нуждающимся, и бросилась через всю комнату обратно в постель, по пути скинув с себя рубашку Тома. В миг, когда в двери повернулся его ключ, остались только он, она и эта маленькая теплая квартирка с накрытым праздничным обедом.
Они съели торт в кровати, по два огромных куска каждый, и повсюду были крошки.
— Это потому что мало яиц, — пояснила Юнипер, которая сидела, прислонившись к стене, и философски вздохнула, озирая беспорядок. — Не так-то легко слепить все воедино, знаешь ли.
Том улыбнулся, лежа на кровати.
— Какая ты умная.
— О да, ужасно.
— И конечно, талантливая. Таким тортам самое место в «Фортнум энд Мейсон».[52]
— Если честно, мне немного помогли.
— Да, точно. — Том перекатился на бок, потянулся что есть сил к столу и схватил обернутый газетой сверток… самыми… кончиками пальцев. — Наш местный повар.
— Он на самом деле не повар, а драматург. Я слышала, как на днях он говорил с человеком, который собирается поставить его пьесу.
— Да ладно, Юнипер. — Том осторожно развернул газету и достал банку ежевичного варенья. — Разве драматург способен сотворить такую прелесть?
— Как мило! Просто чудесно! — Юнипер бросилась к банке. — Только подумай о сахаре! Давай попробуем прямо сейчас, с хлебом!
Том убрал руку с банкой подальше и недоверчиво спросил:
— Неужели юная леди до сих пор голодна?
— Ну, нет. Вообще-то нет. Но голод тут ни при чем.
— Неужели?
— Нам постфактум представилась новая возможность. Замечательная, сладкая, новая возможность.
Том покрутил банку в пальцах, пристально разглядывая восхитительное красно-черное содержимое.
— Нет, — наконец изрек он, — лучше прибережем ее для особого случая.
— Более особого, чем твой день рождения?
— Мой день рождения уже достаточно хорош. Оставим ее до следующего праздника.
— Ну ладно. — Юнипер свернулась клубочком у него на плече. — Но только потому, что сегодня твой день рождения, и только потому, что я слишком наелась и не могу встать.
Прикуривая сигарету, Том улыбнулся.
— Как твои родные? — поинтересовалась Юнипер. — Простуда Джоуи прошла?
— Да.
— А Мэгги? Заставила тебя выслушивать гороскопы?
— Да, очень любезно с ее стороны. Иначе откуда мне знать, как вести себя на этой неделе?
— Действительно, откуда? — Юнипер забрала у него сигарету и медленно затянулась. — Заклинаю, скажи, в них было что-нибудь любопытное?
— Кое-что. — Том просунул пальцы под покрывало. — По-видимому, я собираюсь предложить руку и сердце прекрасной девушке.
— Неужели? — Она изогнулась, когда он пощекотал ее бок, и струйка дыма превратилась в смех. — Это действительно любопытно.
— Вот и мне так кажется.
— Хотя, конечно, самое важное — что юная леди ответит. Полагаю, Мэгги не имеет об этом ни малейшего представления?
Том убрал руку и перекатился на бок лицом к Юнипер.
— Увы, Мэгги не смогла мне помочь. Она считает, что я должен сделать девушке предложение и посмотреть, что из этого выйдет.
— Что ж, если Мэгги так считает…
— И? — отозвался Том.
— И?
Он приподнялся на локте и произнес с аристократическим акцентом:
— Юнипер Блайт, окажите мне честь, станьте моей женой.
— Любезный сэр! — Юнипер превосходно изобразила королеву. — Это зависит от того, будет ли мне позволено иметь трех пухлых малышей.
Взяв у нее сигарету, Том небрежно затянулся.
— А почему не четырех?
Его тон был по-прежнему легким, но акцент исчез. От этого Юнипер стало не по себе, она немного оробела и растерялась.
— Ну же, Юнипер, — настаивал он. — Давай поженимся. Ты и я.
Сомнений в серьезности его намерений не оставалось.
— Я не должна выходить замуж.
Он нахмурился.
— В смысле?
Между ними повисла тишина, которую нарушил лишь свисток чайника в квартире внизу.
— Это сложно, — промолвила Юнипер.
— Разве? Ты любишь меня?
— Ты же знаешь, что люблю.
— Тогда это несложно. Выходи за меня. Скажи «да», Джун. Что бы это ни было, что бы тебя ни тревожило, мы справимся.
Юнипер понимала, что его не устроит никакой ответ, кроме «да», но согласиться не могла.
— Можно, я подумаю? — наконец нашлась она. — Дай мне немного времени.
Он резко сел, опустив ноги на пол, спиной к ней. Свесил голову и наклонился вперед. Он был расстроен. Ей хотелось коснуться его, провести пальцами по позвоночнику, убежать в прошлое, до того, как он сделал ей предложение. Пока она пыталась изобрести машину времени, он достал из кармана конверт. Тот был сложен вдвое, но она увидела внутри письмо.
— Вот тебе время. — Том подал ей конверт. — Меня вызывают на службу. Через неделю я должен явиться.
Девушка ахнула, едва не задохнулась и поспешно села рядом с ним.
— Но на сколько?.. Когда ты вернешься?
— Даже не представляю. Наверное, когда война закончится.
Когда война закончится. Он собирался уехать из Лондона, и внезапно для Юнипер стало ясно: без Тома это место, этот город потеряет всякий смысл. С тем же успехом она может жить в замке. При этой мысли ее сердце забилось быстрее, не от волнения, как у обычного человека, а с безрассудной силой, за которой ее учили следить с детства. Она закрыла глаза в надежде, что ей станет легче.
Отец убеждал ее, что она создание замка, что она принадлежит замку, и самое безопасное — не покидать его стен, но он ошибался. Теперь она это знала. Верно было противоположное: вдали от замка, вдали от мира Раймонда Блайта, от ужасных вещей, которые он говорил ей, от его сочащейся по капле вины и тоски она освободилась. В Лондоне к ней больше не являлись гости, не было и провалов в памяти. И хотя самый главный страх — что она способна причинять другим вред — прокрался за ней по пятам, здесь он был другим.
Ощутив прикосновение к ногам, Юнипер открыла глаза. Том опустился перед ней на колени, в его взгляде плескалась тревога.
— Ну что ты, милая, — произнес он. — Все хорошо. Все будет хорошо.
К счастью, ей не нужно было рассказывать Тому об этом. Она не хотела, чтобы его любовь изменилась, чтобы он стал заботливым и тревожным, как сестры. Она не хотела, чтобы за ней наблюдали, взвешивали на весах ее капризы и молчаливость. Она хотела, чтобы ее любили крепко, а не осторожно.
— Юнипер, — продолжал тем временем Том, — прости. Пожалуйста, улыбнись. Мне больно на тебя смотреть.
О чем только она думала, отталкивая его, отказывая ему? Зачем ей так поступать? Чтобы исполнить волю отца?
Молодой человек встал и попятился, но Юнипер схватила его за запястье.
— Том…
— Я принесу тебе воды.
— Нет. — Она поспешно замотала головой. — Мне не нужна вода. Мне нужен ты.
От улыбки на его колючей левой щеке появилась ямочка.
— И я у тебя есть.
— Нет, — перебила она, — в смысле, да.
Он наклонил голову.
— В смысле, я хочу, чтобы мы поженились.
— Правда?
— И мы вместе сообщим моим сестрам.
— Ну конечно, — пообещал он. — Все, что пожелаешь.
И тогда она засмеялась; ее горло болело, но она все равно смеялась, и ей даже стало легче. «Мы с Томасом Кэвиллом собираемся пожениться».
Юнипер лежала без сна, прильнув щекой к груди Тома, слушая размеренный стук его сердца, размеренное дыхание, стараясь подстроиться под его ритм. Но уснуть не могла. Она мысленно пыталась составить письмо. Ведь ей придется написать сестрам, известить, что они с Томом приезжают, и необходимо придумать объяснение, которое их устроит. Они не должны ничего заподозрить.
Ее ум занимало кое-что еще. Юнипер никогда не интересовалась одеждой, однако предполагала, что женщине, которая выходит замуж, необходимо платье. Подобные вопросы ее не волновали, но, возможно, это важно для Тома, и, несомненно, важно для его матери, а ради Тома Юнипер была готова на все.
Она вспомнила платье, которое некогда принадлежало ее собственной матери: бледный шелк, пышная юбка. Юнипер видела мать в этом платье, давным-давно. Если оно по-прежнему в замке, Саффи отыщет его, и кто, как не она, сумеет возродить его к жизни?
Лондон, 19 октября 1941 года
Мередит не видела мистера Кэвилла — Тома, как он потребовал себя называть — уже много недель, так что изрядно удивилась, когда открыла переднюю дверь и он стоял на пороге.
— Мистер Кэвилл! — Она старалась скрыть волнение. — Как поживаете?
— Лучше не бывает, Мередит. И пожалуйста, зови меня Том. — Он улыбнулся. — Я больше не твой учитель.
Мередит покраснела, наверняка покраснела.
— Можно, я зайду на минутку?
Она обернулась через плечо на кухню, где Рита хмуро смотрела на стол. Сестра недавно поссорилась с молодым помощником мясника и стала на редкость угрюмой. Насколько Мередит могла судить, Рита собиралась справиться со своим разочарованием, сделав жизнь младшей сестры окончательно невыносимой.
Должно быть, Том почувствовал ее сомнения, поскольку добавил:
— Или, может, прогуляемся?
Благодарно кивнув, Мередит тихонько закрыла за собой дверь.
Они вместе шли по улице; она держалась чуть на расстоянии, скрестив руки на груди, опустив голову и пытаясь делать вид, что слушает его добродушную болтовню о школе и сочинительстве, прошлом и будущем, в то время как на самом деле ее разум забегал вперед, стараясь угадать цель его визита. И она изо всех сил старалась не вспоминать о давнишней школьной влюбленности.
Они остановились в том же парке, где Юнипер и Мередит тщетно искали шезлонги во время июньской жары. Мередит поежилась от контраста между теплым летом и серой хмарью над головой.
— Ты замерзла. Надо было напомнить тебе захватить пальто. — С этими словами он вытащил руки из рукавов пальто и протянул его Мередит.
— О нет, я…
— Ерунда. Мне все равно почти жарко.
Он выбрал место на траве, и Мередит охотно села рядом с ним, скрестив ноги. Он еще немного поговорил, спросил, как продвигается ее творчество, и внимательно выслушал ответ. Сказал Мередит, что помнит, как подарил ей дневник, и рад, что она до сих пор им пользуется; одновременно с этим он выдергивал травинки из земли и скручивал в спиральки. Мередит слушала, кивала и наблюдала за его руками. Чудесные руки, сильные, но изящные. Мужские руки, не толстые и не волосатые. Интересно, каковы они на ощупь?
В виске запульсировало, у нее закружилась голова от мысли, как легко это проверить. Надо лишь чуть переместить свою собственную руку. Окажется ли его ладонь теплой, гладкая она или шершавая? Возможно ли, что его пальцы вздрогнут и сожмут ее пальцы?
— Я кое-что принес для тебя, — сообщил он. — Меня вызывают на службу, и мне нужно найти для него приют.
Подарок перед возвращением на войну? У Мередит перехватило дыхание, и все мысли о его руках испарились. Разве не так поступают влюбленные? Обмениваются подарками, прежде чем герой уходит в закат?
Она подскочила, когда Том коснулся ее спины. Он немедленно отдернул руку, вытянул ладонь перед ней и смущенно улыбнулся.
— Извини. Просто подарок лежит в кармане пальто.
Мередит тоже улыбнулась, с облегчением и легким разочарованием. Она сняла пальто, и он достал из кармана книгу.
«Последние дни Парижа, дневник журналиста», — прочитала она на обложке.
— Спасибо… Том.
Когда его имя слетело с ее губ, она вздрогнула. Ей уже исполнилось пятнадцать, и хотя ее внешность тянула максимум на сносную, она больше не была плоскогрудым ребенком. Разве мужчина не способен влюбиться в нее?
Она ощутила его дыхание на шее, когда он потянулся к обложке книги.
— Александр Верт вел этот дневник во время гибели Парижа. Я отдаю его тебе, потому что из него ясно, как важно писать то, что видишь. Особенно в такие времена. Иначе люди не знают, что происходит на самом деле, понимаешь, Мередит?
— Да.
Покосившись на Тома, она поймала его пристальный взгляд и не удержалась. Пролетела всего пара секунд, но для Мередит, застывшей посередине момента, все двигалось, как кинопленка при замедленном просмотре. Она словно наблюдала за незнакомкой, которая наклонилась ближе, задержала дыхание, закрыла глаза и прижалась губами к его губам в мгновении безупречного совершенства…
Том был очень великодушен. Он был ласков с ней, убирая ее руки со своих плеч, сжимая их безошибочно дружеским жестом, и велел не смущаться.
Но Мередит была смущена; ей хотелось одного: провалиться сквозь землю. Раствориться в воздухе. Что угодно, лишь бы не сидеть рядом с ним в ослепительном блеске своей ужасной ошибки. Она была настолько унижена, что когда Том начал задавать вопросы о сестрах Юнипер — какие они, что им нравится, есть ли у них любимые цветы, — она отвечала чисто механически. Разумеется, ей и в голову не пришло уточнить, почему его это интересует.
В день отъезда из Лондона Юнипер встретила Мередит на вокзале Чаринг-Кросс. Она была рада ее обществу, не только потому, что будет скучать по Мерри, но и потому, что это помогло ей отвлечься от мыслей о Томе. Он уехал днем раньше, чтобы присоединиться к своему полку — сначала для подготовки, прежде чем отправиться обратно на фронт, — и квартира, улица и весь Лондон стали без него невыносимы. Вот почему Юнипер решила сесть на ранний поезд, следующий на восток. Однако в замок она пока не собиралась; ужин был назначен на среду, в ее чемоданчике еще оставались деньги, и ей понравилась идея провести следующие три дня среди головокружительных картин, мелькавших за окном поезда, который привез ее в Лондон.
В главном зале вокзала появилась знакомая фигурка и расплылась в улыбке, заметив энергично махавшую рукой Юнипер. Мередит поспешно пробралась сквозь толпу туда, где стояла подруга, прямо под часами, как они и условились.
— Ну что? — спросила Юнипер, когда они обнялись. — Где она?
Мередит сложила большой и указательный палец щепотью и поморщилась.
— Нужно внести еще парочку изменений.
— То есть мне будет нечего читать в поезде?
— И еще несколько дней, если честно.
Юнипер отошла с пути носильщика, который толкал огромную груду чемоданов.
— Ну ладно, — кивнула она. — Еще несколько дней. Но не больше, имей в виду! — Она покачала пальцем с притворной суровостью. — Жду рукопись по почте к концу недели. Идет?
— Идет.
Поезд гулко засвистел, и они улыбнулись друг другу. Юнипер обернулась и обнаружила, что большинство пассажиров уже сели в вагоны.
— Что ж, — вздохнула она, — полагаю, мне…
Остаток ее фразы Мередит задушила в объятиях.
— Я буду скучать по тебе, Юнипер. Обещай, что вернешься.
— Ну конечно вернусь.
— Не больше месяца?
Юнипер смахнула упавшую ресничку со щеки своей младшей подруги.
— Днем дольше — и ты испугаешься самого худшего и организуешь спасательную операцию!
Мерри улыбнулась.
— Ты напишешь мне, как только прочтешь мою историю?
— Обратной почтой, в тот же день. — Юнипер отдала честь. — Береги себя, цыпленок.
— И ты себя береги.
— Как всегда.
Улыбка Юнипер поблекла, и она немного помедлила, отводя непослушную прядь волос. Она сомневалась. Новость распирала ее изнутри, стремилась вырваться на свободу, но тихий голосок советовал сдерживаться.
Проводник засвистел, заглушая прочие звуки, и Юнипер решилась. Мередит — ее лучшая подруга, ей можно доверять.
— У меня есть тайна, Мерри, — сообщила она. — Я никому не говорила, мы планировали сказать всем позже, но ты же — не все.
Мередит пылко кивнула, и Юнипер наклонилась к уху подруги. Интересно, слова покажутся такими же странными и чудесными, как в первый раз?
— Мы с Томасом Кэвиллом собираемся пожениться.
1992 год
Когда я добралась до фермерского дома, уже опустилась темнота, и вместе с ней пришла морось, словно сетью опутавшая землю. До ужина оставалась еще пара часов, чему я была рада. После дня, неожиданно проведенного в обществе сестер, я нуждалась в горячей ванне и одиночестве, чтобы избавиться от перенасыщенной атмосферы, которая следовала за мной по пятам. Я точно не знала, из чего она состоит; судя по всему, в стенах замка скопилось множество неудовлетворенных стремлений, неутоленных желаний, которые пропитали сами камни и сочились из них, делая воздух затхлым, почти застоявшимся.
Однако замок и три его субтильные обитательницы обладали для меня неизъяснимым очарованием. Несмотря на неприятные мгновения, которые я испытала рядом с ними, как только я покинула их, как только вышла за стены замка, мне сразу же захотелось обратно, я поймала себя на том, что считаю часы до своего возвращения. Вроде бессмысленно, но разве в безумии есть смысл? Ведь я была без ума от сестер Блайт, теперь я это понимаю.
Когда тихий дождь застучал по карнизам фермерского дома, я свернулась клубочком на постельном покрывале, укутав ноги одеялом; я читала, клевала носом и размышляла, и к ужину мне стало намного легче. Вполне естественно, что Перси хочет уберечь Юнипер от боли, а потому резко остановила меня, когда я пригрозила вскрыть старые раны; с моей стороны было бесчувственно упомянуть Томаса Кэвилла, тем более что Юнипер дремала рядом. И все же пламенная реакция Перси подогрела мой интерес… Возможно, если мне повезет остаться наедине с Саффи, я что-нибудь разузнаю? Казалось, она не против, даже стремится помочь в моем исследовании.
Исследование, которое отныне сулило редкий и исключительный доступ к тетрадям Раймонда Блайта. Даже оттого что я просто прошептала эти слова, по моему позвоночнику пробежала рябь восторга. Я перекатилась на спину, взволнованная до кончиков пальцев, и уставилась в потолок с перекрещенными балками, воображая тот миг, когда наконец загляну в мысли писателя.
Я поела за отдельным столиком в уютной столовой миссис Кенар. В комнате жарко пахло тушеными овощами, поданными к ужину; в камине трещал огонь. На улице набирал силу ветер, позвякивая оконными стеклами, в основном осторожно, но порой и более резко, порывами, и я не впервые подумала, какое это неподдельное и простое удовольствие — иметь кров и пищу, когда по всему миру растекается холод и беззвездная тьма.
Когда я принесла свои записи, чтобы начать работу над статьей о Раймонде Блайте, мои мысли отказывались вести себя как следует и постоянно возвращались к его дочерям. Наверное, все дело в том, что они — сестры; меня пленяла запутанная паутина любви, долга и обид, которая связывала их вместе. Взгляды, которыми они обменивались; сложное равновесие сил, установившееся за десятилетия; игры, в которые мне не суждено играть, с правилами, которые мне не суждено понять до конца. Возможно, ключ скрывался именно в этом: они были настолько естественным сплавом, что по сравнению с ними я ощущала себя безнадежно одинокой. Глядя на них, я остро и болезненно сознавала, чего лишена.
— Удачный день?
Подняв глаза, я увидела над собой миссис Кенар.
— И завтра, полагаю, ожидается еще один? — спросила она.
— Утром я увижу рабочие тетради Раймонда Блайта.
Я не удержалась; волнение распирало меня, и признание невольно слетело с языка.
Миссис Кенар была смущена, но приятно.
— Просто чудесно, дорогая… вы не возражаете, если я?..
Она похлопала по стулу напротив.
— Да, конечно, садитесь.
Миссис Кенар села, грузно пыхтя, устроилась за столом и прижала ладонь к животу.
— Ну вот, теперь намного лучше. Весь день сбивалась с ног… — Она кивнула на мои записи. — Смотрю, вы тоже заработались допоздна.
— Пытаюсь. Но постоянно отвлекаюсь.
— Вот как? — Она выгнула брови. — Из-за какого-нибудь красавчика?
— Что-то вроде того. Миссис Кенар, мне, случайно, не звонили сегодня?
— Звонили? Нет, не припомню. А должны были? Тот парень, о котором вы замечтались? — Ее глаза вспыхнули. — Возможно, ваш издатель?
Она исполнилась такой надежды, что мне было очень жаль ее разочаровывать. И все же я ответила:
— Моя мама вообще-то. Я надеялась, что она заглянет сюда.
Особенно сильный порыв ветра загремел оконными задвижками, и я поежилась, больше от удовольствия, чем от холода. В тот вечер в воздухе было что-то разлито, что-то бодрящее. Мы с миссис Кенар остались в столовой вдвоем. Огонь подточил полено в камине, отчего оно мерцало алым, время от времени с треском лопаясь и рассыпая золотые искры по кирпичам. То ли все дело было в теплой и дымной комнате, ее контрасте с сыростью и ветром на улице, то ли в реакции на всепроникающую атмосферу семейных уз и тайн, с которой я столкнулась в замке, или даже в простом внезапном желании нормально поговорить с другим человеческим существом — как бы то ни было, у меня развязался язык. Закрыв тетрадь и отодвинув ее в сторону, я сообщила:
— Моя мама была сюда эвакуирована. Во время войны.
— В деревню?
— В замок.
— Нет! Не может быть! Жила там с сестрами?
Я кивнула, непомерно польщенная ее реакцией. И в то же время настороженная, поскольку тихий голосок справедливости шептал, что мое удовольствие проистекает из собственнического чувства, возникшего вследствие маминой связи с Майлдерхерстом. Собственнического чувства, которое абсолютно неуместно и которое я до сих пор скрывала от самих мисс Блайт.
— Боже правый! — Миссис Кенар сложила кончики пальцев щепотью. — Сколько историй у нее должно быть! Голова идет кругом…
— Вообще-то у меня с собой ее военный дневник…
— Военный дневник?
— Дневник, который она вела в то время. Записки о том, что она чувствовала, с кем встречалась, о самом замке.
— Тогда в нем, наверное, упомянута и моя мама, — гордо выпрямилась миссис Кенар.
Пришла очередь моему изумлению.
— Ваша мама?
— Она работала в замке. Сначала горничной, когда ей было шестнадцать, но со временем доросла до экономки. Люси Роджерс, хотя тогда ее фамилия была Миддлтон.
— Люси Миддлтон, — медленно произнесла я, пытаясь вспомнить, писала ли мама о ней в дневнике. — По-моему, это имя мне не встречалось, нужно проверить.
Плечи миссис Кенар немного поникли под грузом разочарования; испытав личную ответственность за это, я попробовала как-то исправить положение.
— Видите ли, она почти ничего мне не рассказывала, я узнала об ее эвакуации совсем недавно.
И я немедленно пожалела о своем болтливом языке. Прозвучавшие слова заставили меня более остро осознать, насколько странно, что мама хранила это в тайне; я почувствовала себя виноватой, словно мамино молчание было вызвано моей собственной ошибкой, и еще глупой, потому что, будь я чуть более осмотрительной, не стремись так завоевать интерес миссис Кенар, я не оказалась бы в затруднительном положении. Я приготовилась к худшему, однако миссис Кенар удивила меня. Она понимающе кивнула, наклонилась чуть ближе и прошептала:
— Родители и их секреты, да?
— Да.
Кусочек угля подскочил в камине. Миссис Кенар подняла палец в знак того, что вернется через минутку; она вылезла из-за стола и исчезла за потайной дверью в обклеенной обоями стене.
Дождь тихонько стучал в деревянную дверь, наполнял пруд на улице. Я стиснула руки и поднесла их к губам, словно в молитве, прежде чем прижаться щекой к нагретой камином тыльной стороне ладони.
Затем пришла миссис Кенар с бутылкой виски и двумя гранеными бокалами; ее предложение так подходило угрюмому, стылому вечеру, что я улыбнулась и охотно его приняла.
Мы чокнулись бокалами через стол.
— Моя мать едва не осталась старой девой. — Миссис Кенар сжала губы, наслаждаясь теплом виски. — Как вам это нравится? Я могла бы никогда не родиться.
Она прижала ладонь ко лбу; quelle horreur![53] — читалось в ее жесте.
Я улыбнулась.
— Дело в том, что у нее был брат, любимый старший брат. Судя по тому, как она отзывалась о нем, он был для нее светом в окошке. Их отец умер молодым, и Майкл — так звали брата — занял его место. Он был настоящим кормильцем и опорой; даже мальчиком работал после школы и по выходным, мыл окна за два пенса. Отдавал монеты матери, чтобы она вела дом. К тому же он был красавчиком… Погодите! У меня же есть фотография.
Она бросилась к огню и провела пальцами по многочисленным рамкам, загромождавшим каминную полку, прежде чем выудить небольшой латунный квадратик. Она вытерла с него пыль передом твидовой юбки и передала мне. Три фигуры, застывшие в давно минувшем мгновении: молодой мужчина, красивый благодаря наследственности и Богу, пожилая женщина с одной стороны от него, хорошенькая девочка лет тринадцати — с другой. Миссис Кенар стояла за моей спиной и пристально смотрела на снимок.
— Майкл вместе со всеми отправился на Первую мировую войну. Напоследок он наказал сестре, которая провожала его на вокзале, остаться дома с их матерью, если с ним что-нибудь случится. — Миссис Кенар забрала фотографию и снова села, поправив очки, чтобы еще раз взглянуть на снимок. — Что она могла ответить? Она пообещала исполнить его просьбу. Она была совсем юной… и вряд ли понимала, к чему это приведет. Люди ни о чем таком не думали. В начале Первой мировой, по крайней мере. Тогда они еще не знали.
Она отогнула картонную подпорку фотографии и поставила ее на стол рядом с бокалом.
Я потягивала виски и ждала; наконец она вздохнула, посмотрела мне в глаза, внезапно подняла раскрытую ладонь, как будто подкинула невидимые конфетти, и продолжила:
— Ладно. Все это стало историей. Его убили, и моя бедная мама посвятила жизнь исполнению его воли. Сомневаюсь, что я была бы столь же покорна, однако в те времена люди были другими. Они были связаны словом. Если честно, бабка была настоящей старой каргой, но мама обеспечивала их обеих, отказалась от надежд выйти замуж и завести детей, смирилась со своей участью.
Шквал тяжелых капель дождя ударил в соседнее окно, и я поежилась в своем кардигане.
— И все же вы родились.
— Я родилась.
— Что же случилось?
— Бабушка умерла, — сухо кивнула миссис Кенар, — сгорела как свечка в июне тридцать девятого. Она давно уже болела, что-то с печенью, ее смерть не стала сюрпризом. Скорее облегчением, как мне кажется, хотя мама из великодушия никогда этого не говорила. К тому времени, как войне исполнилось девять месяцев, моя мама была замужем и ожидала меня.
— Головокружительный роман.
— Головокружительный? — Миссис Кенар задумчиво поджала губы. — Возможно, по современным меркам. Но не тогда, во время войны. Вообще-то насчет романа я тоже не слишком уверена. Я всегда подозревала, что мама приняла практичное решение. Она никогда этого не признавала, так откровенно, по крайней мере, но разве дети этого не чувствуют? Пусть все мы и предпочитаем считать себя плодом безумной любви.
Она улыбнулась как-то неуверенно, словно оценивала меня, прикидывала, можно ли мне доверять.
— Что-то случилось? — Я подалась ближе. — Что-то внушило вам подобные мысли?
Миссис Кенар допила виски и повертела бокал на столе, оставляя мокрые круги. Она нахмурилась, глядя на бутылку, как если бы вела безмолвный спор; не представляю, выиграла она или проиграла, но сняла крышку и налила нам еще.
— Я кое-что нашла, — сообщила она. — Несколько лет назад. Когда мама умерла и я разбиралась с наследством.
Виски жарко гудело в горле.
— Что именно?
— Любовные письма.
— О…
— Не от моего отца.
— О!
— Они лежали в жестянке на дне одного из ящиков ее туалетного столика. Я обнаружила их по чистой случайности. Только когда пришел торговец антиквариатом, чтобы посмотреть кое-что из мебели. Я показывала ему мебель, а ящик застрял, я дернула его слишком сильно, и жестянка покатилась по полу.
— Вы прочли их?
— Позже открыла жестянку. Ужасно, конечно. — Миссис Кенар покраснела и принялась разглаживать волосы у висков, словно прячась за сложенными лодочкой ладонями. — Просто не удержалась. Когда я поняла, что именно читаю, ну разве я могла остановиться? Они были такими милыми, понимаете? Искренними. Лаконичными, но едва ли не более выразительными благодаря своей краткости. И в них было что-то еще, какая-то атмосфера печали. Все они были написаны до того, как мама вышла за папу — она была не из тех, кто гуляет после свадьбы. Нет, это был роман из прошлого, когда ее собственная мать была еще жива, когда у нее не было ни малейшего шанса выйти замуж или переехать.
— Вам известно, кто это был? Кто написал письма?
Миссис Кенар оставила волосы в покое и прижала ладони к столу. Тишина угнетала, и когда она наклонилась ко мне, я невольно качнулась навстречу.
— Мне не следовало бы это обсуждать, — прошептала она. — Не хочу сплетничать.
— Ну конечно.
Она помолчала, и ее губы взволнованно дернулись; она украдкой оглянулась через одно плечо, затем через другое.
— На сто процентов не уверена; они не были подписаны полным именем, только одним инициалом. — Она посмотрела мне в глаза, моргнула и улыбнулась, почти лукаво. — Буквой R.
— Буквой R, — эхом отозвалась я на подчеркнутую ей букву, на мгновение задумалась, покусывая внутреннюю сторону щеки, и ахнула. — Неужели вы считаете?..
Но почему нет? Она подозревала, что «R» означает «Раймонд Блайт». Король замка и его давняя экономка — почти клише, а клише возникают вследствие того, что повторяются вновь и вновь.
— Это объяснило бы секретность писем, невозможность открыто объявить об их отношениях.
— Это объяснило бы кое-что еще. — Миссис Кенар была явно поражена неожиданной догадкой. — Старшая сестра, Персефона, особенно холодна ко мне. Я ничего такого не сделала и все же всегда чувствовала это. Однажды, когда я была маленькой, она поймала меня у пруда, у круглого пруда с качелями. И… так на меня уставилась, будто перед ней привидение. Я даже на мгновение испугалась, что она задушит меня, прямо здесь и сейчас. Но с тех пор, как мне стало известно о мамином романе, о том, что он мог быть с мистером Блайтом… ну, мне пришло в голову, что Перси могла знать правду, выведать кое-что и затаить обиду. В те времена классы еще не отменили. А Перси Блайт — консервативный человек, правила и традиции для нее очень много значат.
Я медленно кивала; объяснение было вполне правдоподобным. Перси Блайт не показалась мне белой и пушистой, но в свой первый визит в замок я заметила, что к миссис Кенар она питает особую неприязнь. И в замке явно хранился какой-то секрет. Может, Саффи собиралась поведать мне именно об этой любовной связи, а детали ей было неловко обсуждать с Адамом Гилбертом? И именно поэтому Перси так решительно запретила беседовать с Саффи — хотела помешать сестре выдать секрет их отца о его продолжительных отношениях с экономкой?
Но почему Перси так переживала? Несомненно, не из преданности своей матери: Раймонд Блайт женился не единожды, так что Перси должна была примириться с непостоянством человеческого сердца. И даже если, как предположила миссис Кенар, Перси была старомодна и не одобряла романтические связи с низшими классами, я сомневалась, что после многих десятилетий ей было не все равно, особенно после стольких событий, изменивших их будущее. Неужели она действительно считала позором, что ее отец когда-то был влюблен в свою давнюю экономку, и намеревалась и впредь всеми силами скрывать этот факт от общественности? Маловероятно. Неважно, была Перси Блайт старомодна или нет — она была прагматична. Я видела достаточно, чтобы понять: в сердце Перси сидит стальной осколок реализма, и если она и хранит тайны, то ханжество или общественная мораль здесь ни при чем.
Вероятно, миссис Кенар почувствовала мои колебания.
— Более того, порой мне кажется… в смысле, мама никогда даже не намекала на это, но… — Она покачала головой и разжала пальцы. — Нет… Нет, это глупо.
Она почти застенчиво прижала руки к груди, и через мгновение замешательства я поняла почему; поняла, что она пытается мне внушить. Я осторожно озвучила опасную мысль:
— Вы полагаете, что он может быть вашим отцом?
Наши взгляды встретились, и мне стало ясно: угадала я правильно.
— Мама любила тот дом, замок, всю семью Блайт. Она порой говорила о старом мистере Блайте, о том, каким умным он был, как она гордится тем, что работала на такого знаменитого писателя. Но она вела себя странно. Неохотно ездила мимо замка. Умолкала посреди истории и отказывалась продолжать, и взгляд ее становился печальным и тоскливым.
Несомненно, это проливало свет на многое. Перси Блайт могла не беспокоиться из-за того, что ее отец поддерживал отношения с экономкой, но то, что он стал отцом еще одного ребенка?.. Младшей дочери, практически сводной сестры его девочек? Это могло повлечь за собой последствия, которые не имели никакого отношения к ханжеству или морали, последствия, которых Перси Блайт, защитница замка, хранительница семейного наследства, постаралась бы всеми силами избежать.
И все же, размышляя над предположением миссис Кенар, признавая его правдоподобность и находя вполне ощутимые связи, я не могла принять его просто так. Мое сопротивление не было рациональным, я вряд ли сумела бы его объяснить, и тем не менее оно было отчаянным. Мною руководила верность, сколь угодно незаслуженная верность Перси Блайт, трем старым леди на холме, которые составляли столь тесный кружок, что моему воображению не удавалось его расширить.
Часы над камином выбрали этот момент и пробили час ночи, и словно спало заклятие. Миссис Кенар, которая облегчила свое бремя, разделив его со мной, убрала со столов соль и перец.
— Боюсь, сами они не уберутся, — усмехнулась она. — Не теряю надежды, но до сих пор у них ни разу не получалось.
Я тоже встала и взяла наши пустые бокалы.
Миссис Кенар улыбнулась, когда я подошла к ней.
— Не правда ли, они способны нас удивить, наши родители? Тем, что делали до нашего рождения.
— Да, — согласилась я. — Как будто когда-то они были настоящими людьми.
В свой первый день официальных интервью я отправилась в замок рано утром. Было холодно и пасмурно, и хотя ночная морось прекратилась, она забрала с собой большую часть жизнестойкости мира, и пейзаж словно выцвел. Еще в воздухе появилось что-то новое, морозная горечь, из-за которой я засунула руки поглубже в карманы, проклиная себя за то, что забыла перчатки.
Сестры Блайт велели мне не стучать, а сразу идти в желтую гостиную. «Это из-за Юнипер, — осторожно пояснила Саффи вчера во время прощания. — При стуке в дверь ей кажется, что это он наконец вернулся». Саффи не стала уточнять, кто «он», в этом не было необходимости.
Меньше всего мне хотелось расстраивать Юнипер, так что я была настороже, особенно после своей вчерашней ошибки. Я сделала, как было велено, толкнула переднюю дверь, ступила в каменный вестибюль и пошла по темному коридору. Почему-то затаив дыхание.
В гостиной никого не было. Даже зеленое бархатное кресло Юнипер оказалось пустым. Мгновение я помедлила в растерянности. Возможно, я неправильно запомнила время? Тут раздались шаги, я повернулась и увидела у двери Саффи, одетую, как всегда, очень мило, но какую-то растрепанную, как будто я застала ее врасплох. Она резко остановилась на краю ковра.
— О! Эдит, это вы. Ну конечно! — Саффи бросила взгляд на часы на каминной полке. — Уже почти десять. — Она провела тонкой рукой по лбу и попыталась улыбнуться. Улыбка не получалась ни небрежной, ни широкой, и она отказалась от попыток. — Ради бога, простите, если я заставила вас ждать. Просто утро выдалось хлопотливым, и время пролетело совсем незаметно.
Страх прокрался за ней в комнату и теперь охватил и меня.
— Все в порядке? — спросила я.
— Нет, — ответила Саффи.
По ее лицу разлилась бледность такой тяжелой утраты, что, учитывая пустое кресло, сначала я испугалась за Юнипер. И почти обрадовалась, когда Саффи пояснила:
— Дело в Бруно. Он исчез. Улизнул из комнаты Юнипер, когда утром я зашла к ней, чтобы помочь одеться, и с тех пор о нем ни слуху ни духу.
— Возможно, он играет где-нибудь в лесу или саду? — предположила я и тут же вспомнила, как он выглядел вчера… одышка, поникшие плечи, серая полоса вдоль спины… вряд ли он где-то играет.
Разумеется, Саффи покачала головой.
— Нет. Он не стал бы. Он редко убегает от Юнипер и тогда обычно сидит у передней лестницы и караулит гостей. Хотя нас никто не навещает. За исключением присутствующих. — Она слегка улыбнулась, почти виновато, как будто боялась, что я обижусь. — Но сегодня другое дело. Мы все очень переживаем. Он был нездоров и странно себя вел. Вчера Перси искала его, а теперь — сами видите.
Она переплела пальцы на ремне, и я пожалела, что ничем не могу помочь. Некоторые люди прямо источают уязвимость, их боль и волнение особенно непросто наблюдать, и ради них можно пойти почти на любые неудобства, если это способно облегчить их страдания. Саффи Блайт относилась именно к таким людям.
— Давайте я схожу и поищу его там, где видела вчера? — Я направилась к двери. — Возможно, он зачем-то вернулся?
— Нет.
Саффи произнесла это так резко, что я немедленно обернулась; она протянула ко мне одну руку, а другой теребила ворот вязаного кардигана.
— В смысле, это очень любезно с вашей стороны, но совершенно излишне. — Она уронила протянутую руку. — Перси уже звонит по телефону племяннику миссис Кенар, чтобы тот заехал и помог нам в поисках… извините. У меня заплетается язык. Не сердитесь, но я в таком замешательстве, просто… — Она бросила взгляд мне за спину, на дверь. — Я надеялась застать вас одну.
— Надеялись?
По ее сжатым губам я поняла: ее волнует не только благополучие Бруно, ее тревожит что-то еще.
— Перси явится через минуту, — тихо промолвила она, — отведет вас посмотреть на тетради, как и обещала… но прежде чем она будет здесь, прежде чем вы отправитесь с ней, я должна кое-что сказать.
Саффи выглядела такой серьезной, такой страдающей, что я подошла к ней, положила ладонь на хрупкое, как у птицы, плечико и подвела к дивану.
— Вот что, садитесь. Принести вам что-нибудь? Чашечку чая, пока вы ждете?
Ее улыбка просияла благодарностью человека, который не привык, чтобы о нем заботились.
— Благослови вас боже, нет. На это нет времени. Присаживайтесь, прошу вас.
Тень промелькнула у двери, и Саффи слегка напряглась, прислушиваясь. Ничего, кроме тишины. Тишины и странных вещественных звуков, к которым я начинала привыкать: загадочного клокотания за прелестным потолочным карнизом, еле слышного дребезжания ставней об оконные стекла, скрежета костей дома.
— Я чувствую, что должна объяснить, — приглушенно начала Саффи. — Насчет Перси, насчет вчерашнего дня. Когда вы спросили о Юнипер, когда упомянули его, Перси повела себя как настоящий деспот.
— Вы ничего не должны объяснять.
— Нет, должна, обязана, просто нелегко улучить минутку наедине, — мрачно улыбнулась Саффи. — Такой огромный дом, и все же рядом всегда кто-нибудь есть.
Ее нервозность была заразительна, и хотя я не делала ничего дурного, мной овладело странное ощущение. Сердце забилось быстрее, и я тоже приглушила голос:
— Мы можем встретиться в другом месте. К примеру, в деревне.
— Нет, — быстро отозвалась она и покачала головой. — Нет. Я не могу. Это невозможно. — Еще один взгляд на пустой дверной проем. — Лучше здесь.
Я кивнула в знак согласия и подождала, пока она соберет свои мысли, осторожно, словно те были рассыпанными булавками. Сосредоточившись, она поведала свою историю быстро, тихим и решительным голосом:
— Это было ужасно. Ужасно, ужасно. Вот уже около пятидесяти лет я помню тот вечер, словно вчера. Лицо Юнипер, когда она вернулась. Она опоздала, потеряла ключ и потому постучала. Мы открыли, и она вошла, перепорхнула через порог… она никогда не ходила как обычные люди… и ее лицо… я не перестаю его видеть, когда закрываю глаза по ночам. То мгновение. При ее появлении мы испытали огромное облегчение. Дело в том, что днем разразилась ужасная буря. Лил дождь, выл ветер, автобусы опаздывали… мы так волновались. Когда раздался стук, мы решили, что это он. Из-за него я тоже беспокоилась; переживала из-за Юнипер, переживала из-за встречи с ним. Понимаете, я догадалась, что они влюблены, что они собираются пожениться. Хотя от Перси она скрыла… Перси, как и папа, была весьма непреклонна на этот счет… но мы с Юнипер всегда были очень близки. И мне отчаянно хотелось, чтобы он понравился мне; хотелось, чтобы он был достоин ее любви. И конечно, я сгорала от интереса: любовь Юнипер весьма непросто заслужить. Мы немного посидели вдвоем в хорошей гостиной. Сначала болтали о всяких пустяках, о жизни Юнипер в Лондоне, успокаивали друг друга, что его автобус застрял, что транспорт постоянно опаздывает, что во всем виновата война, а после умолкли. — Саффи покосилась на меня, ее глаза потемнели от воспоминаний. — Дул ветер, дождь грохотал о ставни, и ужин подгорал в духовке… Запах кролика… — ее лицо скривилось от одной лишь мысли, — проник повсюду. С тех пор я терпеть его не могу. У него вкус страха. Обугленных комков невыносимого страха… Я ужасно испугалась, увидев Юнипер в таком состоянии. Мы с трудом помешали ей выбежать под дождь на поиски. Даже когда минула полночь и стало ясно, что он не придет, она не сдавалась. У нее случилась истерика, нам не оставалось ничего другого, как только дать ей старые папины снотворные пилюли для успокоения…
Саффи умолкла; она говорила очень быстро, стараясь успеть до прихода Перси, и немного осипла. Она покашляла в изящный кружевной платочек, который достала из рукава. На столе рядом с креслом Юнипер стоял кувшин с водой, и я налила Саффи попить.
— Наверное, это было ужасно, — заметила я, протянув ей стакан.
Она с благодарностью приникла к стакану губами и опустила его на колени, сжимая обеими руками. Казалось, ее нервы натянуты до предела; кожа вокруг челюсти словно иссохла за время рассказа, и под ней проступила голубая паутина вен.
— Он так и не появился? — уточнила я.
— Нет.
— И вы так и не выяснили почему? Не было ни письма, ни телефонного звонка?
— Нет, ничего.
— А Юнипер?
— Она ждала и ждала. Ждет до сих пор. Сменялись дни, летели недели. Она так и не оставила надежду. Это ужасно. Ужасно.
Последнее слово повисло между нами. Саффи заблудилась в том времени, много лет назад, и я не стала на нее давить.
— Безумие не обрушивается мгновенно, — наконец произнесла она. — Это звучит так просто — «она впала в безумие», — но на самом деле все иначе. Это случилось постепенно. Сначала ей стало легче. Наметились признаки выздоровления, она намекала на возвращение в Лондон, очень смутно, и так и не вернулась. Писать она тоже перестала; именно тогда я поняла, что нечто хрупкое, нечто бесценное сломалось. В один ужасный день она выбросила из окна чердака все свои вещи. Все: книги, бумаги, стол и даже матрас.
Саффи затихла; ее губы шевелились, перебирая фразы, которые она не решалась озвучить. Затем она вздохнула и добавила:
— Бумаги разлетелись во все стороны, рассыпались по склонам холма, упали в озеро, как сброшенные листья, их лето кончилось. Интересно, куда они все подевались?
Я покачала головой; было ясно, что имеются в виду не только бумаги; подходящие фразы не шли мне на ум. Я не могла даже вообразить, насколько тяжело, когда твоя возлюбленная сестра гибнет подобным образом; когда бесчисленные слои потенциала и личности, таланта и возможностей облетают один за другим. Как невыносимо это наблюдать, особенно для Саффи, которая, если верить Мэрилин Кенар, была для Юнипер скорее матерью, чем сестрой.
— Мебель сломанной грудой лежала на лужайке. У нас не хватило мужества отнести ее наверх, а Юнипер не хотела этого делать. Она полюбила сидеть у шкафа на чердаке, это который с потайной дверцей, и уверяла, что слышит голоса с другой стороны. Голоса звали ее, хотя, разумеется, звучали только у нее в голове. Бедная крошка. Узнав об этом, врач решил отправить ее в лечебницу…
На страшном слове ее голос осекся, глаза заглянули в мои и обнаружили в них равный ужас. Она скомкала в кулаке белый платочек. Я очень осторожно коснулась ее плеча и промолвила:
— Мне так жаль.
Саффи дрожала от злости и горя.
— Мы были решительно против; я не желала об этом и слышать. Я бы ни за что не позволила отнять у меня сестру. Перси побеседовала с врачом, объяснила, что в замке Майлдерхерст так не поступают, что семья Блайт сама заботится о своих членах. В конце концов он согласился… Перси может быть весьма убедительна… но врач настоял на более сильных лекарствах для Юнипер.
Она впилась накрашенными ногтями в свои бедра, словно кошка, сбрасывая напряжение, и я увидела в ее лице нечто, чего не замечала прежде. Она была кротким близнецом, покорным близнецом, но в ней скрывалась и сила. Когда дело касалось Юнипер, когда ей приходилось бороться за свою любимую младшую сестру, Саффи Блайт становилась тверда, как кремень. Следующие ее фразы вылетели, словно пар из кипящего чайника, так жарко они обжигали:
— Лучше бы она не ездила в Лондон, не знакомилась с тем парнем. Больше всего в жизни я сожалею о том, что она уехала. После этого все рухнуло. Ничто не осталось прежним; ни для одной из нас.
И тогда я начала прозревать, с какой целью она поделилась со мной, почему думала, что это поможет оправдать резкость Перси, — ночь, когда Томас Кэвилл не явился, навсегда изменила всех троих.
— Перси, — произнесла я, и Саффи чуть заметно кивнула. — Перси стала другой?
В коридоре раздался шум, размеренная поступь, безошибочно узнаваемый стук трости Перси; словно она услышала свое имя, интуитивно почувствовала, что о ней ведут недозволенные речи.
Когда Перси возникла в дверях, Саффи оперлась о ручку дивана и поднялась.
— Эдит только что приехала, — быстро сообщила она и указала на меня рукой с зажатым платочком. — Я рассказывала ей о бедняжке Бруно.
Перси перевела взгляд с меня, сидящей на диване, на Саффи, стоящей рядом со мной.
— Ты дозвонилась до молодого человека? — спросила Саффи; ее голос немного дрожал.
Короткий кивок.
— Он едет. Встречу его у передней двери; посоветую, где лучше искать.
— Да, — отозвалась Саффи, — хорошо. Хорошо.
— Потом я отведу мисс Берчилл вниз, — ответила Перси на мой непрозвучавший вопрос. — В архивную. Как обещала.
Я улыбнулась, а Перси, вместо того чтобы продолжить поиски Бруно, как я ожидала, вошла в гостиную и встала у окна. Она демонстративно осмотрела деревянную раму, поскребла пятнышко на стекле, наклонившись ближе, но было очевидно, что импровизированная инспекция — всего лишь уловка, чтобы находиться в комнате с нами. Я поняла, что Саффи была права. Перси Блайт почему-то не желала оставлять меня наедине со своей сестрой-близнецом, и ко мне вернулись вчерашние подозрения, что Перси беспокоится, как бы Саффи не сболтнула лишнего. Власть Перси над сестрами завораживала, интриговала меня; тихий голосок в моей голове призывал к благоразумию, но тем сильнее мне хотелось услышать окончание истории Саффи.
Последовавшие минут пять, в течение которых мы с Саффи вели светскую беседу, а Перси изучала стекло и ковыряла пыльный подоконник, показались мне самыми длинными в жизни. Наконец я с облегчением заслышала приближающийся рев автомобильного мотора. Мы дружно перестали притворяться и молча застыли на месте.
Машина подъехала совсем близко и остановилась. Увесисто лязгнула автомобильная дверца. Перси выдохнула:
— Это Натан.
— Да, — согласилась Саффи.
— Вернусь через пять минут.
И Перси наконец ушла. Саффи ждала, и только когда шаги сестры окончательно стихли, вздохнула коротко, всего один раз, и посмотрела на меня. Она улыбнулась, и я прочла в ее улыбке извинение и неловкость. Когда она вернулась к рассказу, в ее голосе появилась новая решимость.
— Наверное, вы и сами догадались, — начала она, — что Перси из нас самая сильная. Она всегда считала себя нашей защитницей, даже в детстве. Как правило, я была этому рада. Немалая удача — иметь бойца на своей стороне.
Я невольно заметила, что она потирает пальцы друг о друга и бросает взгляды в сторону двери.
— Но, полагаю, не всегда, — возразила я.
— Да. Не всегда. Как для меня, так и для нее. Эта черта характера всю жизнь давила на нее тяжким грузом, в особенности когда Юнипер… после того, как это случилось. Мы обе восприняли это тяжело, Юнипер была нашей малюткой сестрой и до сих пор остается нашей малюткой сестрой, и видеть ее в таком состоянии… — Саффи говорила и трясла головой. — Это невыразимо тяжело. Но Перси… — Саффи уставилась в пространство над моей головой, как будто надеялась найти там нужные слова, чтобы все объяснить. — После этого характер Перси окончательно испортился. Она и прежде была не сахар… моя сестра принадлежала к тем женщинам, которые во время войны обрели цель жизни, и когда бомбы перестали падать, когда Гитлер обратил свои взоры к России, она была изрядно разочарована… однако после того вечера все изменилось. Она восприняла предательство молодого человека как личное оскорбление.
Любопытный поворот.
— Почему же?
— Странно, не правда ли? Как будто ее мучило чувство вины. Разумеется, она ни при чем, и никакие ее поступки не могли бы предотвратить случившегося. Но это же Перси; она винила себя, потому что Перси всегда винит себя. Одна из нас страдала, и она ничего не могла поделать. — Саффи вздохнула и несколько раз сложила платок, превратив его в маленький опрятный треугольник. — Полагаю, именно поэтому я решила поделиться с вами, хотя, боюсь, у меня плохо получилось. Просто поймите: Перси — хороший человек, и, несмотря на то как она себя ведет, какой кажется, у нее доброе сердце.
Для Саффи явно было важно, чтобы я не думала дурно о ее сестре-близнеце, и потому я улыбнулась в ответ. Однако в ее истории концы не сходились с концами.
— Но почему, — спросила я, — почему ее мучило чувство вины? Она была с ним знакома? Они прежде встречались?
— Нет, никогда. — Саффи искательно взглянула на меня. — Он жил в Лондоне; там они с Юнипер и познакомились. Перси не бывала в Лондоне с начала войны.
Я кивала и в то же время думала о мамином дневнике, о записи, в которой она упомянула, что ее учитель, Томас Кэвилл, навестил ее в Майлдерхерсте в сентябре 1939 года. В тот день Юнипер Блайт впервые столкнулась с человеком, которого затем полюбила. Перси могла не ездить в Лондон, у нее были все шансы встретить Томаса Кэвилла здесь, в Кенте. Хотя Саффи, совершенно очевидно, с ним не встречалась.
В комнату пробрался холодный сквозняк, и Саффи поплотнее запахнула кардиган. Я заметила, что она зарумянилась, кожа на ее ключицах покраснела; она сожалела, что сказала слишком много, и старалась быстро замести свои неосторожные фразы обратно под ковер.
— Я только хочу сказать, что Перси восприняла это очень тяжело, что это изменило ее. Я даже обрадовалась, когда немцы начали использовать самолеты-снаряды и «Фау-два», потому что у нее появился новый повод для беспокойства. — Саффи фальшиво засмеялась. — Иногда мне кажется, что она была бы счастливее всего, если бы война так и не закончилась.
Ей было не по себе, и я сочувствовала ей; напрасно я потревожила ее своими расспросами. Она всего лишь хотела смягчить вчерашнюю обиду, и казалось жестоким обременять ее новым беспокойством. Я улыбнулась и попыталась сменить тему:
— А вы? Вы работали во время войны?
Она немного повеселела.
— О да, мы все вносили свою лепту; конечно, я не делала ничего такого же волнующего, как Перси. Ей героические поступки пристали больше. Я шила, готовила и сводила концы с концами; связала тысячу носков. Хотя они не всегда мне удавались, — пошутила она над собой, и я улыбнулась вместе с ней, вообразив молоденькую девочку, дрожащую на чердаке замка, которая натянула по несколько сморщенных носков на обе ноги и ту руку, что не держит перо. — Знаете, я едва не провела войну в качестве гувернантки.
— Неужели?
— Да. В семье с детьми, которая собиралась переждать войну в Америке. Я получила предложение работы, однако была вынуждена его отклонить.
— Из-за войны?
— Нет. Письмо пришло одновременно с ужасным разочарованием Юнипер. Не надо так на меня смотреть. Нечего меня жалеть. Я вообще не верю в сожаления… какой в них смысл? Я не могла принять предложение, только не тогда. Ведь оно увело бы меня далеко-далеко от Юнипер. Разве я могла ее бросить?
У меня не было братьев и сестер, и я не знала, как решаются подобные проблемы.
— А разве Перси не могла?
— У Перси множество талантов, но навыков заботы о детях и инвалидах среди них нет. Это требует некоторой… — Саффи пошевелила пальцами и уставилась на старинный каминный экран, как будто надеялась найти на нем необходимые слова. — Ну, назовем это кротостью. Нет. Я не могла оставить Юнипер на попечении одной лишь Перси. И потому я написала письмо и отклонила предложение.
— Очевидно, это было нелегко.
— Когда дело касается семьи, выбора не остается. Юнипер была моей малюткой сестрой. Я не могла покинуть ее в таком состоянии. К тому же даже если бы тот парень пришел, как собирался, если бы они поженились и поселились в другом месте, я все равно, наверное, не смогла бы уехать.
— Почему?
Саффи изящно отвернулась, не смотря мне в глаза.
Шум в коридоре, как в прошлый раз, приглушенный кашель и приближающийся резкий стук трости.
— Перси…
В миг перед тем, как Саффи улыбнулась, передо мной сверкнул ответ на мой вопрос. Я уловила на ее измученном лице отблеск жизни, проведенной в ловушке. Они были близнецами, двумя половинами целого; в то время как одна мечтала о свободе, о вольном существовании, другая не желала оставаться одна. И Саффи, слабая в силу своей кротости, добрая в силу своего сострадания, так и не смогла вырваться из капкана.
Я следовала за Перси Блайт по коридорам и бесконечным лестницам, спускаясь во все более сумрачные глубины дома. И так не слишком общительная, сегодня Перси была холодна как лед. Холодна как лед и окутана затхлым сигаретным дымом, таким густым, что мне приходилось держаться на расстоянии. В любом случае, молчание меня устраивало; после разговора с Саффи я была не склонна к неловкой беседе. Мне не давала покоя какая-то деталь ее истории, а может, не самой истории, а того, что она вообще со мной поделилась. Якобы она пыталась объяснить мне манеры Перси, и я охотно верила, что когда Юнипер бросили и свели с ума, для обеих сестер это было ударом, но почему Саффи так настаивала, что для Перси это было тяжелее? В особенности если учесть, что сама Саффи стала матерью для своей погубленной младшей сестры. Я знала, что ее смутила вчерашняя грубость Перси и она хотела показать человеческое лицо своей сестры-близнеца; и все же казалось, что она протестует чуточку слишком сильно, слишком хочет выставить Перси Блайт едва ли не святой.
Перси остановилась на перекрестке коридоров и достала из кармана пачку сигарет. Хрящеватые костяшки пальцев округлились, теребя спичку, наконец она высекла огонь; в свете пламени я разглядела ее лицо и увидела на нем подтверждение, что ее потрясли утренние события. Когда нас окутал сладковатый дымный запах табака, и молчание стало еще глубже, я произнесла:
— Мне правда очень жаль насчет Бруно. Уверена, что племянник миссис Кенар его найдет.
— Да ну? — Перси выдохнула и уставилась мне в глаза без всякой доброты. Угол ее рта дернулся. — Животные чуют приближение конца, мисс Берчилл. Они не хотят быть бременем. Они не то, что люди, которые вечно ищут утешения.
Она наклонила голову в знак того, что я должна последовать за ней за угол. Я почувствовала себя маленькой и глупой и решила больше не выражать сочувствие.
Мы снова остановились у следующей двери; то была одна из множества дверей, мимо которых мы прошли во время экскурсии много месяцев назад. Не вынимая изо рта сигареты, Перси выудила из кармана большой ключ и погремела им в замке. После мгновенного сопротивления древний механизм поддался, и дверь со скрипом отворилась. Внутри было темно, окон не было, и, насколько я могла различить, стены были заставлены тяжелыми деревянными картотечными шкафами, какие можно встретить в очень, очень старых юридических фирмах Лондона. Единственная лампочка свисала с тонкого, непрочного провода, и немного покачивалась от сквозняка, потянувшего из открытой двери.
Я подождала, пока Перси покажет дорогу, а когда она этого не сделала, неуверенно посмотрела на нее. Она затянулась сигаретой и обронила только:
— Я туда не хожу.
Возможно, я не сумела скрыть удивление, потому что она добавила с легкой, почти неуловимой дрожью:
— Мне не нравятся тесные комнаты… За углом есть керосиновая лампа. Снимите, я запалю фитиль.
Я снова посмотрела в темные глубины комнаты.
— А разве лампочка не работает?
Она мгновение разглядывала меня, затем дернула шнур, лампочка вспыхнула и тут же поблекла, давая совсем мало света, в котором заплясали тени. Пятно света было всего три фута в диаметре.
— Советую вам взять керосиновую лампу.
Мрачно улыбнувшись, я легко нашла лампу, она была спрятана за углом, как Перси и говорила. Когда я сняла ее, раздался плеск, и Перси Блайт заметила:
— Это радует. Без керосина от нее мало прока.
Пока я держала основание лампы, хозяйка сняла стеклянный колпак и покрутила колесико размером с монету, удлиняя плетеный фитиль, прежде чем поджечь его.
— Никогда не любила этот запах. — Она вернула колпак на место. — Для меня он означает бомбы и кошмарные места. Полные страха и беспомощности.
— И безопасности, надо полагать. Покоя?
— Для некоторых — возможно, мисс Берчилл.
Она больше ничего не добавила, и я заняла себя знакомством с тонкой металлической ручкой наверху лампы, проверяя, удержит ли она ее вес.
— Никто не заходил сюда целую вечность, — сообщила Перси Блайт. — В глубине есть стол. Вы найдете тетради в коробках под ним. Сомневаюсь, что они в безупречном порядке, — папа умер во время войны, у всех хватало дел. Некогда было разбираться с бумагами.
Это прозвучало оборонительно, как будто я собиралась отчитать ее за нерадивое ведение хозяйства.
— Конечно.
На ее лице мелькнуло сомнение, но испарилось, когда она яростно закашлялась в ладонь.
— Ну хорошо, — заключила она, отдышавшись. — Вернусь через час.
Я кивнула; внезапно мне захотелось, чтобы она еще немного побыла рядом.
— Спасибо. Я правда очень, очень благодарна за возможность…
— Осторожнее с дверью. Не дайте ей за вами закрыться.
— Хорошо.
— Она захлопывается на замок. Мы так потеряли собаку. — Ее губы искривились в гримасе, которая мало походила на улыбку. — Учтите, я очень стара. Могу случайно забыть, где вас оставила.
Комната была длинной и узкой; низкие кирпичные арки тянулись по обе стороны от входа, подпирая потолок. Покрепче ухватив лампу и подняв над головой, так что отблески пламени затанцевали на стенах, я медленно и осторожно направилась вглубь.
Перси не обманула, говоря, что здесь долгое время никого не было. Комната носила безошибочную печать неподвижности. И тишины, как в церкви; и я испытала необъяснимое ощущение, будто за мной наблюдает нечто большее, чем я.
«Опять ты выдумываешь, — строго одернула я себя. — Тут никого нет, кроме тебя и стен». Но в том и состояла половина проблемы. Это были не просто стены, это были камни замка Майлдерхерст, под кожей которого шепчут и наблюдают далекие часы. С каждым шагом странное тяжелое чувство становилось сильнее. Меня окутывало беспредельное уединение… почти одиночество. Все дело в темноте, разумеется; недавней беседе с Саффи; печальной истории Юнипер.
Но это была моя единственная возможность увидеть тетради Раймонда Блайта. Всего через час Перси Блайт явится за мной. Скорее всего, вернуться в архивную мне не позволят, так что нужно быть как можно внимательнее. Я шла и мысленно составляла список: деревянные картотечные шкафы вдоль обеих стен, над ними — я подняла лампу, чтобы разглядеть, — карты и архитектурные планы самых разных лет. Чуть дальше висела коллекция крошечных дагеротипов в рамках.
Это была серия портретов одной и той же женщины: на одном она в дезабилье раскинулась на кушетке, на других смотрела прямо в камеру, в стиле Эдгара Аллана По, одетая в платье с высоким викторианским воротником. Я наклонилась ближе и высоко подняла лампу, изучая лицо в бронзовой рамке; я подула, сдувая часть многолетних наслоений пыли. Странный холодок пробежал по спине, когда лицо прояснилось. Женщина была прекрасна, но с привкусом ночного кошмара. Гладкие губы, идеальная кожа с невидимыми порами, натянутая на высокие скулы, большие, блестящие зубы. Я поднесла лампу поближе и прочла имя, выгравированное курсивом внизу снимка: Мюриель Блайт. Первая жена Раймонда, мать близнецов.
Как странно, что все ее портреты сосланы в архивную! Любопытно, дело в горе Раймонда Блайта или ревнивом приказании его второй жены? Как бы то ни было, я с непостижимым удовольствием отвела лампу от снимка, погрузив Мюриель обратно в темноту. Не было времени исследовать все закоулки комнаты. Предстояло отыскать тетради Раймонда Блайта, впитать их содержимое, насколько позволит отведенный час, и затем покинуть это странное, затхлое место. Я выставила лампу перед собой и двинулась дальше.
Картины на стенах уступили место полкам, простирающимся от пола до потолка, и я невольно замедлила шаг. Я словно очутилась внутри сундука с сокровищами; на полках находилось множество самых различных предметов: книги… множество книг, вазы, китайский фарфор и даже хрустальные кувшины. Дорогие вещи, насколько я могла судить, не мусор и не хлам. Я не имела ни малейшего представления, отчего они чахнут на полках архивной.
За ними обнаружилось нечто достаточно интересное, и я остановилась: коллекция из сорока — пятидесяти коробок одинакового размера, обклеенных красивой бумагой, в основном с цветочным узором; на некоторых были маленькие этикетки. Я подошла ближе и прочла: «„Возвращенное сердце“, роман Серафины Блайт». Я приоткрыла крышку и заглянула внутрь, обнаружив стопку бумаг с машинописным текстом: рукопись. Я вспомнила слова мамы о том, что все Блайты были писателями, все, за исключением Перси. Я подняла лампу повыше, чтобы охватить светом всю коллекцию коробок, и изумленно улыбнулась. Это произведения Саффи. Она была так плодовита. Отчего-то мне стало не по себе от того, как они все теснились на полках: истории и мечты, люди и места, в которых в свое время было вложено столько сил и усердия лишь для того, чтобы через много лет бросить их в темноте, обречь на превращение в прах. На другой этикетке было написано: «Брак с Мэтью де Курси». Мой внутренний издатель не утерпел, я подняла крышку и вытащила бумаги. Однако на этот раз в коробке оказалась не рукопись, а разрозненные листки — вероятно, исследование. Старые эскизы — свадебные платья, цветочные украшения, — газетные вырезки с описанием различных светских бракосочетаний, небрежные наброски свадебной программы, и, наконец, в самом низу, извещение о помолвке Серафины Грейс Блайт и Мэтью Джона де Курси за 1924 год.
Я отложила бумаги. Это действительно исследование, но не для романа. В коробке хранился план свадьбы самой Саффи, свадьбы, которая так и не состоялась. Я вернула крышку на место и отступила, охваченная внезапным чувством вины за свое вторжение. Мне пришло в голову, что каждый предмет в комнате — осколок какой-то истории; лампы, вазы, вещмешок, цветочные коробки Саффи. Архивная комната была гробницей, совсем как в древние времена. Темной, прохладной гробницей фараона, полной забытых драгоценных предметов.
Когда я достигла стола в конце комнаты, мне показалось, что я пробежала марафон по Стране чудес Алисы. Поэтому я была удивлена, когда обернулась и увидела, что раскачивающаяся лампочка и дверь, старательно подпертая деревянным ящиком, всего в сорока пяти футах позади. Я нашла тетради именно там, где сказала Перси, они действительно были навалены в коробки, как будто кто-то прошелся по полкам и столу в кабинете Раймонда Блайта, свалил все в кучу и оставил в архивной. Я понимала, что во время войны хватало других забот; тем не менее странно, что ни одна из сестер не нашла времени заняться бумагами в последующие десятилетия. Тетради Раймонда Блайта, его дневники и письма должны выставляться в какой-нибудь библиотеке, окруженные восхищением и заботой, где ученые могли бы корпеть над ними год за годом. Я подумала, что Перси с ее вниманием к потомкам в особенности должна была бы беречь наследие отца.
Поставив лампу на задний край стола, достаточно далеко, чтобы случайно не опрокинуть, я выдвинула из-под стола коробки, поднимая их на стул одну за другой и роясь внутри, пока не обнаружила дневники за 1916–1920 годы. Раймонд Блайт любезно наклеил этикетки с годами на обложку, и вскоре 1917 год оказался передо мной. Я достала записную книжку из сумки и принялась записывать все, что могло пригодиться для статьи. Время от времени я замирала и просто еще раз наслаждалась тем, что это действительно его дневники, что этот размашистый почерк, эти мысли и чувства принадлежали самому великому человеку.
Могу ли я передать, имея в своем распоряжении всего лишь слова, невероятный миг, когда я перевернула судьбоносную страницу и самой кожей ощутила перемену? Почерк стал более тяжелым и решительным, мысли быстрее полились на бумагу — строчка за строчкой наполняли каждую страницу, — и, наклонившись ниже, разбирая неровный почерк, я поняла, с трепетом, который зародился в самой глубине души, что передо мной первый черновик «Слякотника». Через семьдесят пять лет я стала свидетельницей рождения классики.
Я переворачивала страницу за страницей, изучая текст, поглощая его, упиваясь едва заметными изменениями по сравнению с опубликованным текстом, запечатленным в моей памяти. Наконец я добралась до конца и, хотя знала, что не должна этого делать, положила раскрытую ладонь на последнюю страницу, закрыла глаза и сосредоточилась на чернильных отметках под кончиками пальцев.
И тогда почувствовала это: небольшой выступ вдоль края страницы, примерно на расстоянии дюйма. Что-то было засунуто между кожаной обложкой дневника и его последней страницей. Я перевернула ее и обнаружила жесткий кусочек бумаги с зазубренным краем, какие встречаются в дорогих наборах для переписки. Он был сложен вдвое.
Могла ли я не развернуть его? Сомневаюсь. У меня не самый блестящий послужной список по части чтения чужих писем, и как только я увидела листок, мурашки побежали по спине. Я ощутила на себе взгляд, взгляд из темноты, который побуждал меня развернуть листок.
Почерк был аккуратным, но чернила выцвели, и мне пришлось поднести бумагу ближе к лампе, чтобы разобрать слова. Письмо начиналось посередине фразы; по-видимому, оно заканчивалось на других страницах:
…ни к чему говорить, что это чудесная история. Никогда прежде твои сочинения не увлекали читателя в такое яркое путешествие. Стиль роскошен, сюжет с почти сверхъестественной точностью запечатлел вечное стремление человека избавиться от прошлого и забыть былые, достойные сожаления поступки. Девушка, Джейн, особенно трогательный персонаж, ее балансирование на грани взрослости изображено превосходно.
Однако, читая рукопись, нельзя не уловить сходство с другой историей, которая знакома нам обоим. По этой причине и памятуя, что ты справедливый и добрый человек, заклинаю тебя ради твоего же собственного блага и блага других: не публикуй «Подлинную историю Слякотника». Ты не хуже мет знаешь, что это не твоя история и не тебе ее рассказывать. Еще не поздно отозвать рукопись. Боюсь, в противном случае последствия будут самыми огорчительными…
Я перевернула листок, но продолжения не было. Я поискала его в дневнике. Пролистала обратно страницы, даже взяла за корешок и очень осторожно потрясла. Ничего.
Что это значит? Какое сходство? С какой другой историей? Какие последствия? И кто счел нужным предостеречь писателя?
Шарканье в коридоре. Я застыла на месте, прислушиваясь. Кто-то идет. Сердце гулко забилось в груди; письмо задрожало в руках. Мгновенная нерешительность — и я засунула его в свою записную книжку и захлопнула обложку. Обернувшись, я увидела силуэт Перси Блайт и ее трости в дверном проеме.
Не помню, как добралась до фермерского дома; ни единая секунда прогулки не задержалась у меня в голове. Вероятно, я сумела попрощаться с Саффи и Перси и затем поковыляла вниз по холму, умудрившись ничего себе не сломать. Поскольку я пребывала в состоянии шока, то совершенно не представляю, что случилось между уходом из замка и возвращением в гостиничный номер. Я не переставала думать о содержании письма — письма, которое я украла. Мне необходимо было немедленно с кем-нибудь посоветоваться. Если я правильно поняла письмо — а формулировки были не слишком сложны, — некто обвинил Раймонда Блайта в плагиате. Кто этот таинственный человек, и о чьей более ранней истории шла речь? Кто бы это ни был, он прочел рукопись Раймонда Блайта, а значит, прочел историю и написал письмо до того, как книгу опубликовали в 1918 году; этот факт сужал круг поиска, однако проще все равно не становилось. Я не имела ни малейшего представления, кому он мог послать рукопись. Вернее, имела; я работаю в издательском деле, и потому мне известно, что рукопись должны были прочесть редакторы, корректоры и несколько доверенных друзей. Но это только общие фразы, а мне нужны были имена, даты, подробности, чтобы оценить, принимать ли обвинения всерьез. Ведь если они истинны, если Раймонд Блайт присвоил историю Слякотника, размах последствий сложно представить.
О подобном открытии, сенсации, на которой можно сделать карьеру, мечтают ученые и историки — а также идущие на поправку отцы в Барнсе, — однако я испытывала только тошноту. Я не хотела, чтобы это оказалось правдой. Пусть это окажется шуткой или даже недоразумением! Мое собственное прошлое, моя любовь к книгам и чтению были неразрывно связаны со «Слякотником» Раймонда Блайта. Признать, что эта история никогда не принадлежала ему, что он где-то украл ее, что ее корни не уходят в плодородную почву замка Майлдерхерст… это не просто разрушало литературную легенду, это было жестоким личным ударом.
Однако я нашла письмо, мне платили за статью о создании «Слякотника» Раймондом Блайтом и в первую очередь за информацию об истоках романа. Я не могла отбросить обвинение в плагиате только потому, что оно не нравилось мне. В особенности учитывая, что оно превосходно объясняло скрытность Раймонда Блайта в отношении источника его вдохновения.
Я нуждалась в помощи и знала, кто сможет ее оказать. Вернувшись в фермерский дом, я уклонилась от встречи с миссис Кенар и прямиком направилась в номер. И схватила телефонную трубку, не успев даже сесть. Пальцы натыкались друг на друга в стремлении поскорее набрать номер Герберта.
Длинные гудки.
— Нет! — рявкнула я в трубку.
Трубка равнодушно посмотрела на меня.
Нетерпеливо подождав, я попыталась снова, без конца прислушиваясь к далеким одиноким гудкам. Я грызла ногти, перечитывала записи и пробовала опять, с таким же успехом. Я даже подумывала позвонить папе, остановило меня только опасение, что волнение может навредить его сердцу. И тогда мой взгляд упал на имя Адама Гилберта на расшифровке оригинального интервью.
Я набрала номер, подождала; нет ответа. Однако я не сдавалась.
Далекий щелчок — кто-то взял трубку.
— Алло, миссис Баттон у телефона.
Я едва не заплакала от радости.
— Это Эдит Берчилл. Позовите, пожалуйста, Адама Гилберта.
— Увы, мисс Берчилл, мистер Гилберт уехал в Лондон. У него назначен прием у врача.
— О! — Из меня словно выпустили воздух.
— Он должен вернуться завтра или послезавтра. Я могу оставить сообщение, и он позвонит вам, когда будет дома, если хотите.
— Нет, — отозвалась я; слишком поздно, мне нужно сейчас… и все же это лучше, чем ничего. — Да… хорошо. Спасибо. Если вы передадите ему, что это очень важно. Мне кажется, я наткнулась на нечто, связанное с загадкой, которую мы недавно обсуждали.
Остаток вечера я смотрела на письмо, рисовала не поддающиеся расшифровке узоры в записной книжке и набирала номер Герберта, слушая призрачные голоса, плененные внутри незанятой телефонной линии. В одиннадцать часов я наконец пришла к выводу, что пора снять осаду пустого дома Герберта и что я временно осталась наедине со своей проблемой.
Когда на следующее утро я отправилась в замок, усталая, с затуманенным взором, мне казалось, что меня всю ночь болтало в барабане стиральной машины. Я сунула письмо во внутренний карман пиджака и без конца проверяла, на месте ли оно. Не могу толком объяснить почему, но, покинув номер, я испытала нестерпимое желание вернуться и надежно спрятать письмо на себе. Отчего-то я и помыслить не могла оставить его на столе. Решение было иррациональным; я вовсе не боялась, что днем на него кто-то наткнется: меня охватила странная и жгучая уверенность, что письмо принадлежит мне, что оно выбрало меня, что между нами возникла связь, оно доверило мне свои секреты. Когда я пришла в замок, Перси Блайт уже ждала меня, делая вид, что выдергивает сорняки из горшка с цветами у главной лестницы. Я увидела ее прежде, чем она меня, потому и догадалась, что она притворяется. До того момента, как некое шестое чувство, крадучись, предупредило ее о моем присутствии, она стояла прямо, прислонившись к каменной лестнице, обхватив себя руками за поясницу и пристально глядя куда-то вдаль. Она была такой неподвижной, такой бледной, что напоминала статую. Хотя и не такую, какую большинство людей согласились бы поставить перед своим домом.
— Бруно нашелся? — крикнула я, поражаясь собственной способности говорить относительно нормально.
Она вяло изобразила удивление и потерла пальцами друг о друга, стряхивая приставшие частицы земли.
— Я не питаю особых надежд. Учитывая, как похолодало.
Перси подождала, пока я подойду, и протянула руку, приглашая меня в дом.
В замке было не теплее, чем снаружи. Более того, камни словно сумели пленить холодный воздух, отчего все вокруг казалось более серым, темным и выцветшим, чем прежде.
Я полагала, что мы направимся по знакомому коридору к желтой гостиной, но вместо этого Перси подвела меня к маленькой двери, спрятанной за нишей в вестибюле.
— Башня, — пояснила она.
— О!
— Для вашей статьи.
Мне оставалось только кивнуть и последовать за ней по узкой винтовой лестнице.
С каждым шагом мне все больше было не по себе. Она права, знакомство с башней очень важно для моей статьи, и все же было нечто неопределенно странное в том, что Перси Блайт решила показать ее мне. До сих пор она была такой скрытной, так не хотела, чтобы я общалась с ее сестрами или изучала тетради ее отца. Обнаружить, что она караулит меня утром на холоде, услышать предложение осмотреть башню без каких-либо просьб с моей стороны… ну, это было неожиданно, а неожиданные поступки меня нервируют.
Я возразила сама себе, что придаю этому слишком много значения: Перси Блайт выбрала меня, чтобы написать статью о своем отце, и она в высшей степени гордится замком. Так что все может объясняться очень просто. Или же она подумала, что чем скорее я увижу все, что необходимо, тем скорее уберусь восвояси и оставлю их в покое. Но сколько бы я не взывала к здравому смыслу, беспокойство не утихало. Возможно ли, что ей известно о моей находке?
Мы достигли небольшой площадки из неровного камня; в сумрачной стене была прорезана бойница, сквозь нее торчал изрядный ломоть Кардаркерского леса, такого великолепного, если смотреть на него целиком, но отчего-то зловещего в подобном ракурсе.
Перси Блайт толкнула узкую дверь с полукруглым верхом.
— Комната в башне.
Она опять шагнула в сторону, пропуская меня вперед. Я осторожно ступила в маленькую круглую комнату и остановилась посередине выцветшего, закопченного ковра. Первое, что я заметила, — свежие дрова в камине, вероятно, в честь нашего визита.
— Вот. — Перси закрыла за нами дверь. — Теперь мы одни.
При этих словах мое сердце забилось быстрее, хотя я не могла понять почему. Мои опасения были беспочвенными. Она была всего лишь старой леди, хрупкой старой леди, которая только что потратила свои скудные запасы сил на подъем по лестнице. Если бы мы затеяли драку, я бы вряд ли ей уступила. И все же… В неугасимом блеске ее глаз чувствовался дух, более сильный, чем тело. И у меня не шло из головы, каким ужасно долгим было бы падение и как много людей уже нашли свою гибель, выпав из этого окна…
К счастью, Перси Блайт не могла прочесть мои мысли и обнаружить в них набор ужасов, какие встречаются только в мелодраматических историях. Она чуть выгнула запястье и произнесла:
— Здесь. Здесь он работал.
После этой фразы я наконец сумела отделаться от мрачных предчувствий и оценить то, что нахожусь посреди башни Раймонда Блайта. На этих книжных полках, повторявших форму стен, он хранил свои любимые книги; у этого камина сидел днем и вечером, трудясь над произведениями. Я провела пальцами по тому самому столу, за которым он написал «Слякотника».
Письмо шепнуло мне в кожу: «Если, конечно, он сам его написал».
— Есть одна комната за крошечной дверкой в вестибюле. — Перси Блайт чиркнула спичкой и развела огонь в камине. — На четыре этажа ниже, но прямо под башней. Мы иногда играли в ней, Саффи и я. Когда были маленькими. Когда папа работал…
На Перси нашел редкий приступ словоохотливости, и я против воли уставилась на нее. Она была маленькой, худенькой и болезненной, и все же в ее сердце горела какая-то сила — сила воли, быть может? — которая тянула меня как магнитом. Словно ощутив мой интерес, Перси убрала спичку, скривила губы в улыбке и выпрямилась. Кивнула мне, швырнув горелую спичку в огонь.
— Прошу, — только и сказала она. — Можете осмотреться.
— Спасибо.
— Но не подходите слишком близко к окну. Долго падать.
С трудом улыбнувшись в ответ, я принялась изучать комнату.
Полки в основном опустели — вероятно, большинство их былых обитателей теперь пылились в архивной, — но на стене остались картины в рамах. Одна в особенности привлекла мое внимание. Изображение было мне знакомо: «Сон разума рождает чудовищ», Гойя. Я замерла перед ней, вбирая человеческую фигуру на переднем плане, словно в отчаянии уронившую голову на письменный стол. Над ней кружилась стая похожих на летучих мышей чудовищ, которые возникали из спящего разума и питались им.
— Она принадлежала отцу, — сообщила Перси.
При звуке ее голоса я подскочила, но не оглянулась, и когда я снова посмотрела на репродукцию, мое восприятие изменилось, я увидела в стекле свое собственное затененное отражение и отражение Перси за моей спиной.
— Она пугала нас до полусмерти.
— Могу понять почему.
— Папа считал, что бояться глупо. Что лучше извлечь урок.
— Какой урок? — спросила я, поворачиваясь к ней лицом.
Она коснулась стула у окна.
— О нет… — Я еще раз вымученно улыбнулась. — Я лучше постою.
Перси медленно моргнула, и на мгновение мне показалось, что она будет настаивать. Но нет, она только произнесла:
— Урок, мисс Берчилл, состоял в том, что когда разум спит, из подсознания лезут чудовища.
Мои руки стали липкими, жар поднялся от ладоней к плечам. Но не могла же она прочесть мои мысли? Не могла узнать, какие чудовищные вещи я воображаю с тех пор, как нашла письмо, какие нездоровые опасения питаю, как опасаюсь, что меня вытолкнут из окна.
— В этом отношении Гойя предвосхитил Фрейда.
Я вяло улыбнулась, краска залила щеки, и я поняла, что больше не выдержу этого напряжения, этих уловок. Я не создана для подобных игр. Если Перси Блайт известно, что я обнаружила в архивной, если известно, что я забрала это с собой и просто обязана исследовать дальше; если все это — изощренный план, чтобы заставить меня признаться в обмане, чтобы всеми доступными способами помешать обнародовать ложь ее отца, то я готова. Более того, я нанесу удар первой.
— Мисс Блайт, — начала я. — Я кое-что нашла вчера. В архивной.
Ее лицо исказилось от страха, краски мгновенно схлынули с него. С не меньшей быстротой она сумела скрыть страх и моргнула.
— Неужели? Вряд ли я смогу угадать, мисс Берчилл. Вам придется рассказать мне, что вы нашли.
Запустив руку в пиджак, я достала письмо; постаралась унять дрожь в пальцах, передавая его Перси. Я следила, как она выуживает очки для чтения из кармана, подносит их к глазам и изучает страницу. Время тянулось бесконечно. Она легонько провела кончиками пальцев по бумаге и выдохнула:
— Да. Понятно.
Казалось, она даже испытала облегчение, как будто мое открытие было не тем, чего она опасалась.
Я подождала продолжения и, когда стало ясно, что его не будет, заявила:
— Я очень обеспокоена… — Несомненно, это был самый сложный разговор, который мне когда-либо приходилось заводить. — Видите ли, если существует хоть малейшая вероятность, что «Слякотник» был… — Слово «украден» я озвучить не сумела. — Если существует хоть малейшая вероятность, что ваш отец прочел его в другом месте, как, судя по всему, утверждается в этом письме… — Я сглотнула, комната кружилась перед глазами. — Издатели должны об этом узнать.
Она очень аккуратно и решительно сложила письмо и только затем ответила:
— Позвольте успокоить вас, мисс Берчилл. Мой отец написал каждое слово этой книги.
— Но письмо… Вы уверены?
Открывшись ей, я совершила огромную ошибку. Чего я ожидала от нее? Честности? Благословения на наведение справок, которые лишат ее отца литературного доверия? Вполне естественно, что дочь поддержит его, в особенности такая, как Перси.
— Я совершенно уверена, мисс Берчилл. — Она встретила мой взгляд. — Это я написала письмо.
— Вы?
Резкий кивок.
— Но почему? Почему вы написали его?
Тем более если ее отцу действительно принадлежало каждое слово.
Ее щеки порозовели, глаза засверкали, она явно испытала прилив сил, как если бы питалась моим замешательством. Наслаждалась им. Она лукаво посмотрела на меня — уже знакомым взглядом, намекавшим, что она может поведать больше, чем мне придет в голову спросить.
— Наверное, в жизни каждого ребенка наступает момент, когда отворяются ставни и приходит понимание, что его родители не чужды худших из человеческих слабостей. Что они уязвимы. Что порой они потакают своим прихотям, кормят своих собственных чудовищ. Мы эгоистичный вид, это заложено природой, мисс Берчилл.
Мои мысли совершенно смешались. Я не вполне понимала, как одно связано с другим, предполагала лишь, что это имеет какое-то отношение к огорчительным последствиям, которые предрекало ее письмо.
— Но письмо…
— Это письмо ничего не значит, — рявкнула Перси, взмахнув рукой. — Больше не значит. Оно ни при чем.
Она посмотрела на письмо, и ее лицо замерцало, словно проекционный экран с обратной перемоткой фильма длиной в семьдесят пять лет. Единственным внезапным движением она швырнула бумагу в огонь, где та зашипела и вспыхнула, отчего Перси вздрогнула.
— Как оказалось, я была не права. Это была его история. — Она криво усмехнулась не без желчи. — Даже если тогда он не знал об этом.
Я окончательно смутилась. Как он мог не знать, что это его история, и как она могла считать иначе? Во всем этом не было смысла.
— Во время войны у меня была знакомая. — Перси Блайт села за отцовский стол и положила руки на подлокотники кресла. — Работала в правительстве; несколько раз встречала Черчилля в коридорах. Он повесил на стену табличку: «Имейте в виду, что в этом здании нет места депрессии и нас не интересует возможность поражения. Ее не существует».
Мгновение Перси сидела, вздернув подбородок и чуть сузив глаза, в окружении собственных слов. Благодаря аккуратной стрижке, тонким чертам лица и шелковой блузке за пеленой табачного дыма она казалась почти такой же, как во времена Второй мировой.
— Что вы думаете об этом?
В подобные игры я играть не умею, никогда не умела, в особенности в загадки, которые даже отдаленно не связаны с темой беседы. Я уныло повела плечами.
— Мисс Берчилл?
Я вспомнила статистику, которую где-то прочитала или услышала: частота самоубийств резко падает во время войны; люди слишком заняты выживанием, им некогда много размышлять о том, как они несчастны.
— Мне кажется, во время войны все иначе. — Я невольно повысила голос, выдавая свое смущение. — Другие правила. Наверное, депрессия сродни поражению на войне. Возможно, Черчилль имел в виду именно это.
Она кивнула, на ее губах блуждала ленивая улыбка. Она специально создавала мне трудности, и я не понимала почему. Я приехала в Кент по ее распоряжению, но она не позволяла мне брать интервью у ее сестер, не отвечала прямо ни на один мой вопрос, а предпочитала играть в кошки-мышки, причем мне неизменно выпадала роль жертвы. С тем же успехом она могла оставить Адама Гилберта. Он уже взял интервью и мог больше не докучать сестрам. Мое смятение и разочарование были такими сильными, что я не удержалась и спросила:
— Почему вы предложили мне приехать, мисс Блайт?
Похожая на шрам бровь стрелой взметнулась вверх.
— О чем вы?
— Джудит Уотерман из «Пиппин букс» говорила, что вы звонили. Что вы велели назначить именно меня.
Уголок ее рта дернулся, и она уставилась на меня; всю редкость подобного взгляда понимаешь только тогда, когда он направлен на тебя. Когда он властно проникает прямо в душу.
— Сядьте, — скомандовала она, как будто я была собакой или непослушным ребенком.
Ее голос был таким хрупким, что на этот раз я не стала спорить, отыскала ближайший стул и покорно на него опустилась.
Она постучала сигаретой по столу и прикурила. Глубоко затянулась и выдохнула, разглядывая меня.
— Вы изменились.
Перси положила свободную руку на живот и откинулась в кресле. Так ей было удобнее меня оценивать.
— Не уверена, что понимаю вас.
Анатомируя меня, она сощурилась; водянистые глаза осмотрели меня сверху вниз так пристально, что я поежилась.
— Да. Вы уже не такая бойкая. Как в прошлый визит.
Опровергать очевидное я не стала.
— Да. — Руки угрожали пуститься в пляс, и я скрестила их на груди. — Извините.
— Не извиняйтесь. — Перси вздернула сигарету и подбородок. — Такой вы мне больше нравитесь.
Еще бы. К счастью, прежде чем я столкнулась с невозможностью придумать ответ, она вернулась к моему первоначальному вопросу.
— Я велела назначить вас в основном потому, что моя сестра не потерпела бы в доме незнакомого мужчину.
— Но мистер Гилберт уже взял интервью. Ему незачем было возвращаться в Майлдерхерст, если это не нравилось Юнипер.
Лукавая улыбка вернулась.
— А вы умны. Хорошо. Я на это надеялась. После первой встречи я еще сомневалась, а иметь дело с идиоткой мне не хотелось.
Я разрывалась между «Спасибо» и «Пошла ты к черту» и в качестве компромисса прохладно улыбнулась.
— У нас мало знакомых, — выдохнула она, — почти никого не осталось. Когда вы явились с визитом и эта Кенар сообщила мне, что вы работаете в издательском бизнесе… ну, я задумалась. А потом вы обмолвились, что у вас нет ни братьев, ни сестер.
Пытаясь проследить ее логику, я кивнула.
— И тогда я решилась. — Она снова затянулась сигаретой и устроила целое представление из поисков пепельницы. — Я знала, что вы будете непредвзяты.
С каждой секундой я ощущала себя все более глупо.
— Непредвзята насчет чего?
— Насчет нас.
— Мисс Блайт, боюсь, я не понимаю, какое отношение это имеет к статье, которую мне поручили написать, к книге вашего отца, к вашим воспоминаниям о ее публикации…
Она нетерпеливо взмахнула рукой, и пепел упал на ковер.
— Никакого. Никакого. Это не имеет к ним никакого отношения. Это имеет отношение к тому, что я собираюсь вам рассказать.
Не тогда ли у меня по коже побежали зловещие мурашки? Или просто порыв холодного осеннего ветра просочился под дверь и дернул замок, так что ключ упал на пол? Перси не обратила на него внимания, и я попыталась последовать ее примеру.
— К тому, что вы собираетесь мне рассказать?
— К тому, что необходимо исправить, пока не слишком поздно.
— Слишком поздно для чего?
— Я умираю, — заявила она, моргнув с привычной холодной откровенностью.
— Мне очень жаль…
— Я стара. Так устроен мир. Я не нуждаюсь в вашей жалости.
Ее лицо изменилось, словно тучи набежали на зимнее небо, скрыв последние остатки солнечного тепла. Она выглядела старой, усталой. И я поняла, что она не врет: она действительно умирает.
— Я схитрила, когда позвонила издателю и попросила назначить вас. Мне жаль, что я обидела того парня. Не сомневаюсь, что он прекрасно поработал. Он настоящий профессионал. И все же я не смогла придумать ничего другого. Я хотела, чтобы вы приехали, и это был единственный способ.
— Но почему?
В ее манерах появилось нечто новое, настойчивость, которая мешала мне дышать полной грудью. Затылок покалывало от холода, и не только от него.
— У меня есть история. Я единственная, кто ее знает. Я расскажу ее вам.
— Почему? — чуть слышно шепнула я, откашлялась и повторила: — Почему?
— Потому что ее нужно рассказать. Потому что я ценю точные сведения. Потому что я не могу больше носить ее в себе.
Мне почудилось, или она взглянула на чудовищ Гойи?
— Но почему вы остановились на мне?
Перси моргнула.
— Потому что вы та, кто вы есть. Потому что вы дочь своей матери.
Она едва заметно улыбнулась, и мне показалось, что она извлекает определенное удовольствие из нашей беседы; возможно, из власти, которая коренилась в моем невежестве.
— Это выбор Юнипер. Она назвала вас Мередит. И тогда я обо всем догадалась. И тогда я узнала, что мне нужны именно вы.
Кровь схлынула с моего лица, и я испытала стыд, подобно ребенку, уличенному во лжи учителю.
— Извините, что молчала об этом; просто я думала…
— Ваши резоны меня не интересует. У всех есть свои секреты.
Остаток извинения я проглотила прежде, чем он слетел с моих губ.
— Вы — дочь Мередит, — заговорила она быстрее, — а значит, вы все равно что семья. А это семейная история.
Я ожидала чего угодно, но только не этого, и была сражена; внутри меня вспыхнула радость за мать, которая любила это место и столько времени считала себя отвергнутой.
— Но что мне делать с ней? — воскликнула я. — В смысле, с вашей историей.
— Делать?
— Я должна ее записать?
— Нет, незачем. Не надо записывать, просто постарайтесь все исправить. Я доверюсь вам в этом отношении… — Перси наставила на меня острый палец, но суровость жеста ослабило спокойное выражение лица. — Я могу вам довериться, мисс Берчилл?
Я кивнула, хотя ее поведение внушило мне мрачные предчувствия касательно того, о чем именно она меня просит.
Казалось, она испытала облегчение, ее самообладание дрогнуло лишь на мгновение и тут же вернулось.
— Ну хорошо, — резко произнесла она, обратив взгляд к окну, из которого выпал и разбился ее отец. — Надеюсь, вы сможете обойтись без обеда. У меня нет лишнего времени.
Перси Блайт начала с предупреждения.
— Я не рассказчица, в отличие от остальных. — Она чиркнула спичкой. — У меня всего одна история. Слушайте внимательно; я не стану повторять. — Она прикурила и откинулась на спинку кресла. — Говоря, что это не имеет никакого отношения к «Слякотнику», я была не совсем точна. Так или иначе, моя история начинается и заканчивается этой книгой.
Ветер просунул щупальце в каминную трубу, дразня пламя. Я открыла записную книжку. Перси считала, что это лишнее, но меня терзала странная тревога, и я отчасти успокоилась, спрятавшись за практичностью кремовых в черную линейку страниц.
— Отец однажды обмолвился, что искусство — единственная форма бессмертия. Он любил подобные фразы; полагаю, вслед за собственной матерью. Она была одаренной поэтессой и поразительной красавицей, но холодной как лед. Она могла быть жестокой. Не намеренно; талант делал ее такой. Она внушила моему отцу множество странных идей. — Перси скривилась, умолкла и разгладила волосы на затылке. — В любом случае, он ошибался. Есть и другая форма бессмертия, намного менее желанная и более бесславная.
Ожидая, что она назовет эту форму бессмертия, я чуть наклонилась вперед, но тщетно. В то ветреное утро я начинала привыкать к ее внезапным сменам темы, к тому, как она проливала свет на определенную сцену, возрождала ее к жизни и тут же резко переводила внимание на другую.
— Я совершенно уверена, что мои родители были некогда счастливы, — продолжала она, — до того, как мы родились. На свете существуют два типа людей: те, кто любит общество детей, и те, кто не любит. Мой отец принадлежал к последним. И полагаю, он сам немало удивился силе своей любви, когда появились мы с Саффи. — Перси взглянула на офорт Гойи, и на ее шее дернулся мускул. — Он был совсем другим человеком, когда мы были маленькими, до Первой мировой войны, до того, как написал эту книгу. Он был необычным человеком для своего времени и класса. Понимаете, он обожал нас… не просто испытывал нежность; он черпал в нас радость, а мы — в нем. Мы были испорченными детьми. Испорченными не подарками, хотя в них не ощущалось недостатка, а его вниманием и верой. Он считал, что мы неспособны поступать неправильно, и потакал нам во всем. Вряд ли подобное обожание может пойти детям на пользу… Стакан воды, мисс Берчилл?
Я моргнула.
— Нет. Нет, спасибо.
— А я, пожалуй, не откажусь. Мое горло…
Она положила сигарету в пепельницу, сняла кувшин с этажерки и наполнила граненый стакан. Когда она приникла к нему, я заметила, что, несмотря на ясный, ровный тон и пронизывающий взгляд, ее руки дрожат.
— Родители баловали вас в детстве, мисс Берчилл?
— Нет, — отозвалась я. — Нет, вряд ли.
— Я тоже думаю, что вряд ли. В вас нет уверенности, что вам все что-то должны, характерной для детей, которых ставят превыше всего. — Перси снова перевела взгляд на окно, за которым собирались серые тучи. — Папа усаживал нас обеих в старую детскую коляску, которая когда-то принадлежала ему, и возил на долгие прогулки по деревне. Когда мы стали постарше, повар собирал нам роскошные корзинки для пикника, и мы втроем исследовали леса, бродили по полям, отец рассказывал нам истории, учил вещам, которые казались важными и чудесными. Например, что это наш дом, что голоса наших предков всегда будут говорить с нами, что мы никогда не останемся одни, если не уедем из замка. — Ее губы попытались сложиться в легкую улыбку. — В Оксфорде он выучил немало языков, старинных наречий и питал особую любовь к древнеанглийскому. Он делал переводы ради собственного удовольствия, и мы помогали ему с ранних лет. Обычно здесь, в башне, иногда в садах. Как-то раз мы лежали втроем на пледе для пикника, смотрели на замок на холме, и отец читал нам «Скитальца».[54] День был чудесным. Такие дни редки, тем и запоминаются.
Перси умолкла, ее лицо немного расслабилось, когда она углубилась в воспоминания. Когда она наконец продолжила, ее голос был ломким:
— Англосаксы обладали особым даром к печали и тоске и, разумеется, героике; подозреваю, что дети питают склонность ко всем трем. Seledreorig, — словно заклинание раздалось в круглой каменной комнате, — тоска по крову. В английском нет такого слова, и все же оно не помешало бы, правда?.. Впрочем, я отвлеклась. — Она выпрямилась в кресле, потянулась за сигаретой, обнаружила, что та сгорела дотла, и вытащила новую из пачки. — Так и прошлое. Вечно караулит в засаде, завлекает.
Она чиркнула спичкой, нетерпеливо затянулась и прищурилась на меня сквозь дымку.
— Впредь буду осторожнее, — вставила я.
Пламя быстро погасло, как бы подчеркнув мое намерение.
— Моя мать мечтала завести детей, но когда мы родились, ее накрыла такая сильная депрессия, что она с трудом вставала с кровати. Когда она оправилась, то обнаружила, что семья ее больше не ждет. Ее дети прятались за ногами отца, когда она пыталась их обнять, плакали и вырывались, если она подходила слишком близко. К тому же, чтобы мама нас не понимала, мы приобрели привычку употреблять выражения из других языков, которым нас научил папа. Он смеялся и поощрял нас, радуясь столь раннему развитию. Какими же гадкими мы, верно, были! Видите ли, мы почти не знали ее. Мы отказывались быть с ней, хотели всегда быть с папой и чтобы папа был с нами, и ей становилось все более одиноко.
Одиноко. В устах Перси Блайт это прозвучало по-настоящему грозно. Я вспомнила дагеротипы Мюриель Блайт в архивной комнате. Тогда мне показалось странным, что они висят в таком темном, заброшенном месте; сейчас же это выглядело поистине зловещим.
— И что же случилось? — спросила я.
Она резко на меня посмотрела.
— Всему свое время.
На улице раздался раскат грома. Повернувшись к окну, Перси с отвращением заметила:
— Гроза. Только этого нам не хватало.
— Закрыть окно?
— Нет, пока не надо. Мне нравится свежий воздух. — Она нахмурилась, уставилась в пол и затянулась сигаретой; она собиралась с мыслями, а когда собралась, посмотрела мне в глаза. — Мать завела любовника. Кто вправе ее винить? Их свел отец… ненамеренно. Это история другого рода… он пытался возместить ущерб. Должно быть, сознавал, что игнорирует жену, и потому устроил грандиозное усовершенствование замка и садов. К нижним окнам добавили ставни — они должны были напоминать ей те, которыми она восхищалась в Европе; а затем приступили к работе над рвом. Его рыли очень долго; мы с Саффи следили за прогрессом из чердачного окна. Архитектора звали Сайкс.
— Оливер Сайкс.
Мне удалось ее удивить.
— Неплохо, мисс Берчилл. Я догадывалась, что вы умны, но не ожидала от вас такой архитектурной эрудиции.
Покачав головой, я рассказала о «Майлдерхерсте Раймонда Блайта». О чем я умолчала, так это о том, что мне также известно о завещании Раймонда Блайта в пользу института Пембрук-Фарм. Разумеется, это означало, что писатель не подозревал о романе своей первой жены. Перси словно прочла мои мысли.
— Папа не знал. Но мы знали. Дети знают подобные вещи. Однако нам и в голову не приходило поставить его в известность. Мы полагали себя его миром и думали, что мамины занятия волнуют его не больше, чем нас. — Она чуть пошевелилась, и ее блузка сморщилась. — Я не любительница сожалений, мисс Берчилл, однако все мы в ответе за свои поступки, и с тех пор я не раз задавалась вопросом, не тогда ли Блайтам достался несчастливый билет, даже тем, кто еще не родился? Не могло ли все обернуться иначе, если бы мы с Саффи сообщили отцу, что видели мать с тем человеком?
— Почему? — Глупо было сбивать ее с мысли, но я не смогла удержаться. — Почему было бы лучше, если бы вы сообщили ему?
Мне следовало бы помнить, что упрямая жилка в Перси Блайт не выносит, когда ее перебивают.
Она поднялась, прижала ладони к пояснице и выгнула таз вперед. В последний раз затянулась сигаретным окурком, раздавила его в пепельнице и скованно подошла к окну. Небо было затянуто тяжелыми темными тучами, но глаза Перси сузились от далекого зарева, которое все еще дрожало на горизонте.
— Письмо, которое вы нашли, — произнесла она, когда гром раздался ближе. — Оказывается, папа сохранил его, и я рада этому. Мне было очень нелегко его написать… папа пребывал в таком восторге от рукописи, от истории. Когда он вернулся с войны, от него осталась только тень. Тощий как жердь, в глазах — ужасная стеклянная пустота. Большую часть времени нас не пускали к нему — сиделки жаловались, что от нас один беспорядок, — но мы все равно пробирались в комнату по венам дома. Он сидел у этого окна, смотрел на улицу, но ничего не видел и беседовал с безмерной пустотой внутри себя. Он утверждал, что его разуму не терпится что-то создать, однако, когда брался за перо, ничего не получалось. «Я пуст», — повторял он вновь и вновь и был прав. Он был пуст. Можете вообразить живительное волнение, которое он испытал, приступив к работе над «Слякотником»?
Я кивнула, вспомнив тетради внизу, изменившийся почерк, полный уверенности и решимости от первой до последней строчки.
Сверкнула молния, и Перси Блайт вздрогнула. Она подождала раската грома.
— Все строки в книге принадлежали ему, мисс Берчилл. Он украл идею.
«У кого?» — едва не крикнула я, но на этот раз прикусила язык.
— Мне было больно сочинять то письмо, остужать его энтузиазм по поводу возродившего его проекта, но я не могла поступить иначе.
Хлынул дождь, мгновенно укрыв землю блестящей пеленой.
— Вскоре после того, как папа вернулся из Франции, я подхватила скарлатину, и меня отослали прочь на время болезни. Близнецы, мисс Берчилл, не слишком хорошо переносят одиночество.
— Наверное, это было ужасно…
— Саффи, — продолжала Перси, словно забыв о моем присутствии, — всегда обладала более живым воображением. В этом отношении мы были гармоничной парой, иллюзии и реальность уравновешивали друг друга. Порознь, однако, мы превратились в полные противоположности. — Она поежилась и отошла от окна; капли дождя падали на подоконник. — Сестру преследовал ужасный кошмар. С мечтательными людьми такое часто случается. — Перси взглянула на меня. — Обратите внимание, мисс Берчилл, не кошмары. Кошмар. Всегда один и тот же.
Яростная буря снаружи поглотила остатки дневного света, и комната в башне погрузилась в темноту. Только оранжевое мерцание огня в камине выхватывало детали тут и там. Перси вернулась за стол и включила лампу. Зеленый свет пролился сквозь цветной стеклянный абажур, и под глаза старухи легли темные тени.
— Он снился ей с четырех лет. Она просыпалась по ночам от собственного крика, покрытая потом, уверенная, что вымазанный илом мужчина поднялся из рва и собирается украсть ее. — Легкий наклон головы, и скулы Перси резко очертились. — Я всегда успокаивала ее, что это всего лишь сон, что ничего плохого не случится, пока я рядом. — Она хрипло выдохнула. — До июля семнадцатого года этого вполне хватало.
— Когда вас отослали со скарлатиной.
Кивок, еле уловимый.
— И тогда она рассказала вашему отцу.
— Он прятался от сиделок, когда она нашла его. Несомненно, она была в ужасном состоянии — Саффи никогда не отличалась сдержанностью, — и он спросил у нее, что случилось.
— И все записал.
— Ее демон стал его спасителем. Поначалу, по крайней мере. История воспламенила его; он жадно выпытывал у сестры подробности. Уверена, что его внимание польстило ей, и к тому времени, как я вернулась из больницы, все кардинально переменилось. Папа был веселым, здоровым, почти неистовым, и у них с Саффи появился секрет. Никто из них не упоминал при мне Слякотника. Лишь увидев пробные экземпляры «Подлинной истории Слякотника» на этом самом столе, я догадалась, что случилось.
Дождь полил как из ведра; я подошла к окну, прислушиваясь к этим звукам.
— И вы написали письмо.
— Я боялась, что публикация этой истории станет ужасным ударом для Саффи. Но убедить отца не удалось, и последствия преследовали его до конца дней. — Внимание Перси снова обратилось к картине. — Угрызения совести за то, что он совершил, его грех.
— Потому что он украл кошмар Саффи.
Возможно, «грех» — это перебор, но я прекрасно понимала, как подобная публикация могла повлиять на молоденькую девушку, в особенности девушку с пылким воображением.
— Он отправил Слякотника в мир и подарил ему новую жизнь, — предположила я. — Он сделал его реальным.
Перси засмеялась злым металлическим смехом, от которого я задрожала.
— О нет, мисс Берчилл, он сделал намного больше. Он породил этот кошмар. Просто тогда он не знал этого.
Раскат грома пророкотал в башне, и лампочка потускнела, в отличие от Перси Блайт. Та была захвачена нитью своего повествования, и я наклонилась ближе в нетерпении выяснить, что именно она имела в виду, как Раймонд Блайт сумел вызвать к жизни кошмар Саффи. Перси закурила очередную сигарету; глаза ее сверкали; возможно, она почуяла мой интерес, поскольку переступила с ноги на ногу в пятне света.
— Большую часть года мать держала свой роман в секрете.
Смена темы стала почти физическим ударом, и из меня словно выпустили воздух. Полагаю, это было совершенно очевидно, поскольку не укрылось от внимания хозяйки.
— Вы разочарованы, мисс Берчилл? — рявкнула она. — Это история рождения «Слякотника». Ее корни тянутся во все стороны. Мы все сыграли роль в его создании, даже мама, хотя она умерла до того, как приснился сон и книга была написана. — Перси смахнула пепел с блузки. — Мамин роман продолжался, а папа даже не догадывался. До одного вечера, когда он рано вернулся домой из поездки в Лондон. У него была хорошая новость — американский журнал напечатал его статью, которая имела большой успех, и он был в настроении отпраздновать. Было уже поздно. Нас с Саффи, четырехлетних малышек, отправили спать несколько часов назад, и любовники сидели в библиотеке. Мамина камеристка пыталась остановить папу, но он пил виски весь день и не желал успокаиваться. Он торжествовал и хотел разделить ликование с женой. Он ворвался в библиотеку и застал их. — Рот Перси на мгновение скривился. — Папа пришел в ярость и устроил безобразную драку: сперва с Сайксом… затем, когда избитый мужчина оказался на полу, с мамой. Отец бранил ее, поносил последними словами, а затем встряхнул, не слишком жестоко, но достаточно сильно, и она упала на стол. Лампа опрокинулась и разбилась, пламя лизнуло подол ее платья. Огонь разгорелся мгновенно и непоправимо. Побежал вверх по шифону и через мгновение охватил ее всю. Разумеется, папа испытал шок, потащил маму к занавескам, пытаясь сбить огонь. Стало только хуже. Занавески занялись, а за ними и вся комната; огонь был повсюду. Папа позвал на помощь, вытащил мать из библиотеки, спас ее жизнь — пусть ненадолго, — но не стал возвращаться за Сайксом. Оставил его умирать. Любовь толкает людей на безрассудные поступки, мисс Берчилл. Библиотека сгорела дотла; когда прибыла полиция, второго тела не нашли. Как будто Оливер Сайкс никогда не существовал. Папа решил, что жаркий огонь полностью уничтожил тело, мамина камеристка никому не проболталась из страха опорочить доброе имя хозяйки, а за Сайксом так никто и не явился. Папе чертовски повезло; парень был мечтателем и частенько повторял, что намерен покинуть Англию и укрыться от мира.
Ее рассказ ужасал — тем, что пожар, убивший ее мать, начался подобным образом, тем, что Оливера Сайкса оставили умирать в библиотеке, — однако я ощущала, что упускаю нечто, поскольку до сих пор не понимала, как это связано со «Слякотником».
— Я ничего из этого не видела, — добавила Перси. — Но кое-кто видел. Высоко на чердаке маленькая девочка проснулась, встала с кровати, которую делила со своей сестрой-близнецом, и забралась на шкаф, чтобы посмотреть на странное золотистое небо. Она заметила языки пламени, рвущиеся из библиотеки, и почерневшего, обугленного, оплавленного мужчину внизу, который кричал в невыносимой муке, пытаясь выбраться из рва.
Перси налила себе еще воды и выпила, держа стакан трясущимися руками.
— Помните, мисс Берчилл, как в свой первый визит вы упомянули про прошлое, поющее в стенах?
— Да.
Казалось, та экскурсия была много десятилетий назад.
— Я ответила вам, что далекие часы — это бессмыслица. Что наши камни старые, но не выдают своих секретов.
— Помню.
— Я лгала. — Перси вздернула подбородок и с вызовом уставилась на меня. — Я слышу их. С каждым годом они становятся все громче. Поделиться с вами было непросто, но необходимо. Как я уже говорила, есть и другой тип бессмертия, намного более одинокий.
Я ждала.
— Жизнь, мисс Берчилл, человеческая жизнь окружена парой событий: рождением и смертью. Эти две даты принадлежат человеку так же, как его имя, как заключенный между ними жизненный опыт. Я откровенничаю с вами не для отпущения грехов, а потому, что смерть должна быть зафиксирована. Понимаете?
Подумав о Тео Кэвилле и его маниакальном поиске сведений о брате, о жутком чистилище неведения, я кивнула.
— Хорошо, — заключила она. — Вы не должны заблуждаться на этот счет.
Ее фраза об отпущении грехов напомнила мне о вине Раймонда, ведь именно из-за вины он обратился в католицизм, вне всяких сомнений. Из-за нее он оставил немалую долю своего состояния церкви. Другим наследником был сельскохозяйственный институт Сайкса. Не потому, что Раймонд Блайт с уважением относился к деятельности группы, просто его мучили угрызения совести. Мне в голову пришла одна мысль.
— По вашим словам, ваш отец поначалу не знал, что стал причиной кошмара. То есть он понял это со временем?
Перси улыбнулась.
— Он получил письмо от норвежского докторанта, который писал диссертацию, посвященную физическим травмам в литературе. Его интересовало почерневшее тело Слякотника. Студенту казалось, что порой описания Слякотника походили на описания жертв ожогов. Папа ничего не ответил, но с тех пор он знал.
— Когда это случилось?
— В середине тридцатых. Тогда ему начал мерещиться Слякотник в замке.
И тогда он добавил второе посвящение к своей книге: М. Б. и О. С. То были не просто инициалы его жен, а попытка загладить вину. Кое-что показалось мне странным.
— Вы не видели, как это произошло. Откуда вам известно о драке в библиотеке, о том, что Оливер Сайкс был там в тот вечер?
— Юнипер.
— Что?
— Папа рассказал ей. В тринадцать лет, когда она пережила ту душевную травму. Он вечно твердил, что они одно; полагаю, он надеялся, что ей станет легче, пойми она, что все мы способны вести себя достойным сожаления образом. Он был великим глупцом.
Она умолкла и потянулась к стакану, и словно сама комната выдохнула. Возможно, от облегчения, что правда наконец выплыла на свет. А Перси Блайт испытала облегчение? В этом я не была столь уверена. Радость от исполненного долга — несомненно, но в ее поведении ничто не выдавало, что с ее души свалился тяжкий груз. Мне казалось, что я знаю причину: никакое утешение не шло в сравнение с ее горем. «Великий глупец». Впервые при мне Перси дурно отозвалась об отце, и в устах женщины, столь яростно защищавшей его наследство, эти слова прозвучали особенно веско.
Но разве это не закономерно? Раймонд Блайт поступил дурно, спора нет, и неудивительно, что угрызения совести свели его с ума. Я вспомнила снимок пожилого Раймонда в книге из деревенского магазина: полные страха глаза, морщинистое лицо, согбенное под грузом мрачных мыслей тело. И вдруг осознала, что его старшая дочь ныне выглядит так же. Она осела в кресле, одежда словно была ей велика и свисала складками с костей. Разговор выжал ее досуха, веки обвисли, хрупкую кожу пронизала синева; было поистине ужасным, что дочь так страдает из-за грехов отца.
На улице лил дождь, молотил о промокшую землю; день миновал, и в комнате сгустились сумерки. Даже огонь, мерцавший во время нашей беседы, умирал, забирая с собой остатки тепла кабинета. Я закрыла записную книжку.
— Быть может, хватит на сегодня. — Я постаралась вложить в голос побольше доброты. — Если хотите, продолжим завтра.
— Не стоит, мисс Берчилл. Я почти закончила.
Она встряхнула портсигар и выбила на стол последнюю сигарету. Спичка загорелась не сразу; наконец в полумраке замерцал огонек сигареты.
— Теперь вы знаете о Сайксе, — заметила она. — А о том, втором, не знаете.
О том, втором. У меня перехватило дыхание.
— По вашему лицу видно, что вы понимаете, кого я имею в виду.
Я напряженно кивнула. Раздался оглушительный раскат грома, и я содрогнулась. Моя записная книжка вновь раскрылась как бы сама собой.
Перси глубоко затянулась и с кашлем выдохнула.
— О друге Юнипер.
— Томасе Кэвилле, — прошептала я.
— Он приехал в тот вечер. Двадцать девятого октября сорок первого года. Запишите это. Он приехал, как и обещал ей. Только она так и не узнала об этом.
— Почему? Что случилось?
Дойдя до края откровения, я словно отказывалась слышать правду.
— Разразилась гроза, почти такая же, как сегодня. Было темно. Это был несчастный случай. — Перси еле шевелила губами, и мне пришлось наклониться совсем близко. — Я приняла его за грабителя.
Вот это да! Я просто утратила дар речи.
Лицо ее было пепельным, и в его морщинах я прочла десятилетия вины.
— Я скрыла от всех. Тем более от полиции. Я опасалась, что мне не поверят. Решат, что я выгораживаю кого-то другого.
Юнипер. Юнипер и приступ жестокости в ее прошлом. Скандал с сыном садовника.
— Я позаботилась обо всем. Сделала, что смогла. Но никто ничего не знает, и это пора исправить.
Увидев, что она плачет и слезы безудержно катятся по ее старому-престарому лицу, я была потрясена. Потрясена, ведь это была Перси Блайт, но не удивлена. Не удивлена после ее долгого рассказа.
Две смерти, две тайны; мне много предстояло обдумать… так много, что у меня перед глазами все плыло. Мои чувства смешались, будто акварельные краски; я не ощущала ни гнева, ни страха, ни морального превосходства и уж точно не прыгала от радости, выяснив ответы на свои вопросы. Мне было грустно, и только. Я была расстроена и беспокоилась за старую женщину, которая сидела напротив и оплакивала горькие секреты своей жизни. Я не могла облегчить ее боль, но не могла и просто сидеть и смотреть.
— Пожалуйста, — вымолвила я, — пойдемте. Я помогу вам спуститься.
И на этот раз она безропотно согласилась.
Я бережно поддерживала ее по пути. Мы медленно и осторожно шли по лестницам. Она не пожелала выпускать трость из рук, и та тащилась за нами, шаг за шагом отмечая продвижение унылым стуком. Мы обе молчали, слишком уставшие для разговоров.
Когда мы достигли закрытой двери желтой гостиной, Перси Блайт остановилась. Она собралась благодаря одной лишь силе воли, выпрямилась и стала на добрый дюйм выше.
— Ни слова сестрам, — предупредила она.
Ее голос не был злым, но я вздрогнула от его мощи.
— Ни слова, слышите?
— Поужинайте с нами, Эдит, — безмятежно предложила Саффи, когда мы появились в дверях. — Я приготовила побольше еды, когда вы задержались допоздна.
Она весело взглянула на Перси, однако я видела: она озадачена и недоумевает, что это ее сестра обсуждала со мной целый день.
Я запротестовала, но она уже ставила тарелки на стол, а на улице хлестал дождь.
— Разумеется, она останется, — заявила Перси.
Она отпустила мою руку и медленно, но уверенно направилась к дальнему концу стола. Добравшись до места, она повернулась и взглянула на меня, и в электрическом свете комнаты я оценила, как тщательно, как замечательно она собралась с духом ради сестер.
— Я заставила вас работать вместо обеда. Меньшее, что мы можем сделать, — накормить вас ужином.
Мы поужинали вчетвером. Главным блюдом была копченая пикша, ярко-желтая, склизкая и едва теплая. Пес, который все же сыскался в глубинах буфетной, большую часть времени пролежал на туфлях у Юнипер, и она кормила его кусочками рыбы с тарелки. Гроза не утихала, а, напротив, разошлась еще сильнее. Мы съели десерт — тосты с вареньем, выпили чай, потом еще раз чай, и наконец темы для дружеской беседы иссякли. Лампы изредка мигали, намекая на возможное отключение электричества, и каждый раз, когда они снова разгорались, мы обменивались ободряющими улыбками. Тем временем дождь лил с карнизов и барабанил по окнам.
— Что ж, — наконец произнесла Саффи. — Мне кажется, у нас нет иного выбора, кроме как постелить вам постель и оставить на ночь. Я позвоню в фермерский дом, предупрежу.
— О нет, — возразила я чуть более поспешно, чем диктовало приличие. — Я не хочу вам навязываться.
Я действительно не хотела навязываться… но еще меньше мне нравилась идея провести в замке ночь.
— Чепуха. — Перси отвернулась от окна. — На улице темно, как в могиле. Не дай бог, упадете в ручей, и вас унесет, как щепку. — Она выпрямилась. — Нет. Нам ни к чему несчастные случаи. В замке найдется свободная комната.
В спальню меня проводила Саффи. Мы ушли довольно далеко от крыла, в котором сейчас жили сестры Блайт, и хотя коридор был длинным и темным, я была рада, что меня не повели вниз. Довольно и того, что я остаюсь в замке на ночь; не хватало только спать по соседству с архивной. Мы обе несли по керосиновой лампе вверх по лестницам на второй уровень и дальше по широкому сумрачному коридору. Даже когда электрические лампы не мерцали, их свет почти не рассеивал тьму. Наконец Саффи остановилась и открыла дверь.
— Мы пришли. Гостевая комната.
Она — или, возможно, Перси — застелила кровать и положила у подушки небольшую стопку книг.
— Боюсь, здесь довольно уныло. — Саффи с виноватой улыбкой оглядела комнату. — Мы редко принимаем гостей; совсем оставили эту привычку. У нас давно уже никто не ночевал.
— Простите, что причинила вам неудобства.
Она покачала головой.
— Ерунда. Никаких неудобств. Я всегда любила принимать гостей. Мало что доставляло мне такое же удовольствие.
Подойдя к кровати, она поставила лампу на столик.
— Я положила вам ночную рубашку и несколько книг. Лично я не в состоянии уснуть без книги. — Она указала на верхний томик в стопке. — «Джейн Эйр» всегда была моей любимицей.
— Моей тоже. Я обязательно беру ее с собой, хотя мое издание далеко не так красиво, как ваше.
Саффи польщенно улыбнулась.
— Знаете, Эдит, вы немного напоминаете мне меня саму. Ту, кем я могла бы стать, если бы все было иначе. Если бы были другие времена. Жить в Лондоне, работать с книгами. В юности я мечтала стать гувернанткой. Путешествовать и встречаться с людьми, работать в музее. Возможно, встретить своего мистера Рочестера.
Она стала застенчивой и мечтательной, и я вспомнила цветочные коробки, которые нашла в архивной комнате, в особенности одну из них, с этикеткой «Брак с Мэтью де Курси». Я довольно неплохо изучила историю трагической любви Юнипер, однако романтическое прошлое Саффи и Перси оставалось для меня тайной за семью печатями. Несомненно, они тоже когда-то были юными и полными страсти; и все же обе посвятили жизнь заботе о Юнипер.
— Вы говорили, что были помолвлены?
— Его звали Мэтью. Мы полюбили друг друга в ранней юности. Нам было по шестнадцать лет. — Саффи кротко улыбнулась. — Мы собирались пожениться, когда нам исполнится двадцать один.
— Могу я поинтересоваться, что случилось?
— Конечно. — Она начала расстилать кровать, аккуратно откинув одеяло и простыню. — Планы не осуществились; он женился на другой.
— Мне так жаль.
— Не стоит. Прошло столько времени. Они оба умерли много лет назад.
Возможно, ей стало неловко, что беседа приняла такой сентиментальный оборот, и она пошутила:
— Наверное, стоит благодарить судьбу, что сестра любезно разрешила мне жить в замке за такую умеренную плату.
— Мне кажется, Перси была совсем не против, — заметила я.
— Возможно, но я имела в виду Юнипер.
— Простите, что?..
Саффи удивленно заморгала, глядя на меня.
— Замок принадлежит ей, разве вы не знали? Конечно, мы почти не сомневались, что он перейдет к Перси — она была старшей и единственной, кто любил замок так же, как папа, — но он в последний момент изменил завещание.
— Почему? — вслух подумала я и вовсе не ожидала ответа, однако Саффи, похоже, не на шутку увлеклась.
— Папа всегда считал, что одаренная женщина теряет возможность творить, будучи обремененной семьей и детьми. Когда Юнипер показала себя, его стало терзать опасение, что она может выйти замуж и растратить талант впустую. Он держал ее здесь, не давал посещать школу, где она могла познакомиться с другими людьми, а потом переписал завещание и оставил замок ей. Он решил, что так ей не придется заботиться о хлебе насущном или вступать в брак, чтобы муж ее содержал. Это было ужасно несправедливо. Замок должен был достаться Перси. Она любит его, как другие любят своих супругов. — В последний раз взбив подушки, Саффи забрала лампу со стола. — Полагаю, в этом отношении нам повезло, что Юнипер не вышла замуж и не уехала.
Я не уловила связи.
— Но разве Юнипер не была бы счастлива оставить замок на попечение сестры, которая любит его всем сердцем?
Саффи улыбнулась.
— Все не так просто. Папа мог быть жестоким, когда хотел добиться своего. Он добавил в завещание условие. Если бы Юнипер создала семью, замок перешел бы во владение католической церкви.
— Церкви?
— Папа терзался угрызениями совести.
После разговора с Перси мне была известна причина этого.
— То есть если бы Юнипер и Томас поженились, замок был бы утрачен?
— Да, — подтвердила Саффи, — именно так. Бедняжка Перси не пережила бы этого. — Она поежилась. — Прошу прощения. Никто даже не подумал, что здесь будет так холодно. Нам самим не нужна эта комната. Боюсь, в этом крыле нет отопления, но на дне гардероба должны быть лишние одеяла.
Сверкнула ветвистая молния, раздался раскат грома. Тусклый электрический свет заколыхался, замерцал, и лампочка погасла. Мы с Саффи одновременно подняли керосиновые лампы, как будто марионетки, которых дернули за одну и ту же нитку, и уставились на остывающую лампочку.
— О боже, — вымолвила Саффи, — прощай, электричество. Хорошо, что мы догадались захватить лампы. — Она помедлила. — Ничего, если я оставлю вас одну?
— Конечно.
— Ну хорошо, — улыбнулась она. — Тогда доброй ночи.
Ночью все иначе. Мир становится другим, погрузившись во тьму. Неуверенность и обида, тревога и страх по ночам отращивают зубы. Особенно когда спишь в чужом старом замке, а на улице бушует гроза. Особенно когда весь день слушал исповедь старой леди. Вот почему, когда Саффи удалилась и закрыла за собой дверь, я и не собиралась гасить лампу.
Переодевшись в ночную рубашку, я села на кровать, белая и похожая на привидение. Прислушалась к дождю, который по-прежнему лил как из ведра, и ветру, грохотавшему ставнями, словно кто-то пытался забраться в дом. Нет… я отогнала подобные мысли и даже сумела посмеяться над собой. Конечно, я думала о Слякотнике. Вполне естественно, ведь я проводила ночь в том самом месте, где происходило действие романа, в погоду, которая словно сошла с его страниц…
Забравшись под покрывало, я обратилась мыслями к Перси. Я захватила с собой записную книжку и принялась записывать все, что взбредало в голову. Перси Блайт поведала мне историю рождения Слякотника — огромная удача. Она также раскрыла тайну исчезновения Томаса Кэвилла. Я должна была испытывать облегчение, однако меня что-то тревожило. Ощущение было свежим; что-то, связанное со словами Саффи. Пока она говорила об отцовском завещании, у меня возникали неприятные предчувствия, в уме вспыхивали огонечки, от которых становилось все больше не по себе; любовь Перси к замку, завещание, которое означало его потерю, если Юнипер выйдет замуж, прискорбная гибель Томаса Кэвилла…
Но нет. Перси утверждала, что это был несчастный случай, и я верила ей.
Правда верила. К чему ей лгать? С тем же успехом она могла скрывать все и дальше.
И все же…
Обрывки впечатлений сменяли друг друга: голос Перси, затем голос Саффи и, для ровного счета, мои собственные сомнения. Но не голос Юнипер. Я столько слышала о младшей Блайт, но не от нее самой.
Наконец я разочарованно захлопнула записную книжку. На сегодня достаточно. Я вздохнула и просмотрела принесенные Саффи книги в поисках чего-то, что поможет успокоиться: «Джейн Эйр», «Удольфские тайны»,[55] «Грозовой перевал». Я поморщилась: добрые друзья, но не из тех, чье общество порадует в такую холодную и бурную ночь.
Я устала, очень устала, однако не хотела засыпать, не хотела задувать лампу и погружаться во тьму. Но веки начали слипаться, и, пару раз встряхнувшись, я решила, что устала достаточно и быстро поддамся сну. Я задула пламя и закрыла глаза: запах дыма быстро таял в холодном воздухе. Последнее, что я помню, — шелест дождя по стеклу.
Очнулась я рывком, внезапно и неестественно, неведомо в каком часу. Я лежала очень тихо, напрягая слух. Ожидая, гадая, что именно меня разбудило. Волоски на руках стояли дыбом, и я испытывала сильнейшее и жуткое ощущение, что я не одна, что в комнате кто-то есть. С колотящимся сердцем я вгляделась в тени, опасаясь того, что могу увидеть.
Я ничего не увидела, но знала: здесь кто-то есть.
Затаив дыхание, я прислушалась; на улице по-прежнему лил дождь, ветер с воем стучал ставнями, призраки скользили по камням коридора, и я просто не могла ничего услышать. У меня не было спичек, чтобы зажечь лампу, и потому я постаралась относительно успокоиться. Я сказала себе, что все дело в моих мыслях перед сном, моей одержимости «Слякотником». Шум мне приснился. Мне просто мерещится.
И когда я почти убедила себя, сверкнула молния и озарила приоткрытую дверь моей спальни. Но Саффи закрыла ее за собой.
Я права. Кто-то проник в комнату; возможно, находится в ней до сих пор, притаился в тени…
— Мередит…
Все позвонки в моем теле вытянулись в струнку. Сердце бешено забилось, кровь побежала электричеством по венам. То был не ветер и не стены; кто-то прошептал мамино имя. Я оцепенела, и все же меня переполняла странная энергия. Нужно было реагировать. Я не могла просидеть так всю ночь, завернувшись в одеяло и вглядываясь в темноту широко распахнутыми глазами.
Меньше всего мне хотелось вылезать из постели, но я себя заставила. Я скользнула по простыне и на цыпочках подкралась к двери. Ручка двери была прохладной и гладкой; я бесшумно потянула ее на себя и, озираясь, шагнула в коридор…
— Мередит…
Голос раздался прямо за спиной. Я чуть не завопила.
Медленно повернувшись, я увидела Юнипер. На ней было то же самое платье, что в день моего первого визита в Майлдерхерст, то самое платье — теперь мне это было известно, — которое Саффи сшила сестре для ужина с Томасом Кэвиллом.
— Юнипер, — пролепетала я, — что вы здесь делаете?
— Я ждала тебя, Мерри. Я знала, что ты придешь. Я сохранила ее для тебя. Спрятала в надежном месте.
Я понятия не имела, о чем речь, но она протянула мне довольно объемный предмет. Твердые края, острые углы, не слишком тяжелый.
— Спасибо, — поблагодарила я.
Ее улыбка затрепетала в полумраке.
— Ах, Мередит, — вздохнула она. — Я совершила ужасный, ужасный поступок.
То же самое она сказала в присутствии Саффи в коридоре в конце экскурсии. Мое сердце забилось чаще. Мне не следовало проявлять любопытство, но я не удержалась.
— Что именно? Что вы сделали?
— Том скоро придет. Он придет на ужин.
Мне стало нестерпимо жаль ее; она ждала его полвека, убежденная, что ее бросили.
— Ну конечно придет, — подтвердила я. — Том любит вас. Он хочет на вас жениться.
— Том любит меня.
— Да.
— И я люблю его.
— Конечно любите.
Я не успела насладиться приятным теплом оттого, что вернула ее мысли в счастливые времена, — ее руки в ужасе взметнулись к губам, и она произнесла:
— Но там была кровь, Мередит…
— Что?
— …столько крови; все мои руки были в крови, все платье. — Она взглянула на свое платье, затем на меня; ее лицо было воплощением горя. — Кровь, кровь, кровь. И Том не пришел. Но я не помню. Я не могу вспомнить.
И тогда я поняла с беспощадной уверенностью.
Все встало на свои места, и я увидела, что они скрывали. Что на самом деле случилось с Томасом Кэвиллом. Кто в ответе за его смерть.
Склонность Юнипер терять сознание из-за травматических событий; приступы, после которых она не могла вспомнить, что делала; замятый случай с избитым сыном садовника. Ужас во мне нарастал; также я приняла во внимание письмо, которое она послала маме, упомянув свой единственный страх: что она может оказаться такой же, как ее отец. И она боялась не напрасно.
— Не могу вспомнить, — стонала она. — Не могу вспомнить.
Ее лицо было жалким и смущенным, и хотя она говорила кошмарные вещи, в тот миг мне хотелось одного: обнять ее, хотя бы отчасти облегчить страшный груз, который она несла пятьдесят лет. Она снова прошептала:
— Я совершила ужасный, ужасный поступок.
Прежде чем я успела как-то успокоить ее, она метнулась мимо меня к двери.
— Юнипер! — крикнула я вслед. — Подождите!
— Том любит меня, — сообщила она, как будто радостная мысль только что пришла ей в голову. — Пойду поищу Тома. Он должен скоро приехать.
И она исчезла в темном коридоре.
Кинув прямоугольный предмет на кровать, я поспешила за ней. Завернула за угол, промчалась по очередному короткому коридору до небольшой площадки, от которой начиналась лестница. Снизу донесся колючий залп сырости, и я догадалась, что Юнипер открыла дверь и собирается раствориться в холодной промозглой ночи.
После мгновенной нерешительности я последовала за ней. Я просто не могла оставить ее во власти стихий. Насколько я знала, она собиралась бежать по подъездной дорожке до самого шоссе в поисках Томаса Кэвилла. Я спустилась по лестнице и нашла дверь в небольшую прихожую, которая соединяла замок с внешним миром.
Дождь по-прежнему лил, что есть сил. За дверью я обнаружила нечто вроде сада. Похоже, в нем почти ничего не росло, тут и там стояло несколько разрозненных статуй, и все это было окружено массивными изгородями… я затаила дыхание. Именно этот сад, огороженный квадрат земли, я видела с чердака в свой первый визит. Перси Блайт холодно заявила, что это не сад. И она была права. Я читала о нем в мамином дневнике. Это было кладбище домашних животных, излюбленное Юнипер место.
Юнипер остановилась в центре сада, хрупкая старая леди в призрачно-бледном платье, промокшая, растрепанная. И внезапно до меня дошли слова Перси о том, что в грозу Юнипер тревожится особенно сильно. В ту далекую ночь 1941 года разразилась гроза, такая же, как сегодня…
Странно, но буря словно утихла вокруг Юнипер. Я на мгновение застыла, прежде чем сообразила, что должна выйти наружу и отвести ее в дом; что она не может оставаться под дождем. В этот миг я услышала голос и заметила, что Юнипер посмотрела направо. Из калитки появилась Перси Блайт в макинтоше и резиновых сапогах. Она направилась к своей младшей сестре, уговаривая ее вернуться под крышу. Протянула руки, и Юнипер, спотыкаясь, упала в ее объятия.
Внезапно я почувствовала себя незваным гостем; чужаком, наблюдающим нечто очень личное. Я повернулась, собираясь уйти.
За спиной кто-то стоял. Это была Саффи с распущенными волосами. Она куталась в домашний халат, и на лице ее было написано искреннее извинение.
— Ах, Эдит, — промолвила она. — Ради бога, простите за беспокойство.
— Юнипер… — начала я, указывая себе за плечо, пытаясь объяснить.
— Все в порядке, — ласково улыбнулась Саффи. — Она иногда убегает. Беспокоиться не о чем. Перси проводит ее в дом. Возвращайтесь в постель.
Я поспешила вверх по лестнице, по коридору, к себе в комнату и тщательно закрыла дверь. Я прислонилась к ней, переводя дыхание, которого по-прежнему не хватало. Щелкнула выключателем в надежде, что электричество дали, но увы: глухой пластмассовый щелчок и никакого ободряющего света.
На цыпочках я прокралась к кровати, опустила загадочную коробку на пол и завернулась в одеяло. Я лежала на подушке и слушала стук сердца в ушах. Из головы не шли подробности признания Юнипер, ее смятенная попытка собрать воедино фрагменты раздробленного сознания, объятие, которым она обменялась с Перси на кладбище домашних животных. И тогда я поняла, почему Перси Блайт мне солгала. Я не сомневалась, что Томас Кэвилл действительно погиб штормовой октябрьской ночью 1941 года, но его убила не Перси; она просто до последнего вдоха защищала свою младшую сестру.
Вероятно, я наконец заснула, поскольку следующее, что помню, — тусклый, влажный свет, пробивавшийся сквозь щели в ставнях. Гроза миновала, сменившись усталым утром. Я немного полежала, уставившись в потолок и вспоминая события прошлой ночи. При долгожданном свете дня я окончательно уверилась, что именно Юнипер в ответе за смерть Томаса. Это все объясняло. А еще я знала, что Перси и Саффи готовы на все, лишь бы навеки скрыть правду.
Я вскочила с кровати и едва не споткнулась о коробку на полу. Подарок Юнипер. Столько всего случилось, что я совершенно о нем забыла. Коробка была того же размера и формы, что и коробки Саффи в архивной. Я открыла ее и обнаружила внутри рукопись, но эта рукопись принадлежала не Саффи. На обложке было написано: «„Судьба: история любви“, Мередит Бейкер, октябрь 1941 года».
Мы все заспались, и хотя утро уже заканчивалось, когда я спустилась вниз, в желтой гостиной был накрыт завтрак, и три сестры сидели за столом. Близнецы щебетали, как будто ночью не случилось ничего необычного. Возможно, так и было; возможно, я стала свидетельницей всего лишь одного прискорбного эпизода из многих. Саффи улыбнулась и предложила мне чашечку чая. Я поблагодарила ее и взглянула на Юнипер, которая безучастно покоилась в кресле; в ее поведении ничто не выдавало ночного волнения. Мне показалось, что, пока я пила чай, Перси наблюдала за мной чуть более пристально, чем обычно, но это могло быть следствием ее вчерашней исповеди, истинной или ложной.
После того как я попрощалась с остальными, она проводила меня до вестибюля, и по дороге мы довольно мило поболтали о разных пустяках.
— Что касается моего вчерашнего рассказа, мисс Берчилл… — Она решительно стукнула тростью. — Хочу еще раз повторить, что это был несчастный случай.
Я догадалась, что она проверяет меня; желает убедиться, что я по-прежнему верю ей и Юнипер ничего не говорила мне ночью. Мне представилась возможность открыть свои карты, напрямую спросить, кто в действительности убил Томаса Кэвилла.
— Конечно, — отозвалась я. — Я все понимаю.
Чего я добилась бы своим любопытством? Удовлетворила бы его за счет душевного покоя сестер? Я не могла на это пойти.
Она явно испытала облегчение.
— Я бесконечно страдала. Я не хотела этого.
— Знаю. Знаю, что вы не хотели.
Меня растрогало ее сестринское чувство долга; любовь столь сильная, что вынудила ее взять на себя преступление, которого она не совершала.
— Забудьте об этом, — добавила я сколь можно добрее. — Вы ни в чем не виноваты.
Она посмотрела на меня с выражением, которого я прежде не замечала и затрудняюсь описать. Наполовину боль, наполовину облегчение, но с примесью чего-то еще. Однако она была Перси Блайт и не намеревалась поддаваться чувствам. Она хладнокровно собралась с силами и резко кивнула.
— Помните о своем обещании, мисс Берчилл. Я рассчитываю на вас. Я не склонна доверять случаю.
Земля была мокрой, небо — белым, и весь пейзаж напоминал побледневшее лицо после истерического припадка. Наверное, мое собственное лицо отчасти выглядело так же. Я шла осторожно, чтобы меня не смыло, как щепку, и когда я добралась до фермерского дома, миссис Кенар уже приступила к приготовлению обеда. В воздухе висел насыщенный, густой запах супа — простое, но огромное удовольствие для того, кто провел ночь в обществе призраков замка.
Миссис Кенар накрывала столы в главной комнате, и ее пухлое тело, обернутое фартуком, являло такое обыденное, мирное зрелище, что мне нестерпимо захотелось ее обнять. Возможно, я так и поступила бы, если бы внезапно не обнаружила, что мы не одни.
В комнате был еще гость, который пристально изучал черно-белые фотографии на стене.
Очень знакомый гость.
— Мама?
Она взглянула на меня и осторожно улыбнулась.
— Привет, Эди.
— Что ты здесь делаешь?
— Ты же сама предложила приехать. Хотела сделать тебе сюрприз.
В жизни не испытывала такой радости и облегчения при виде другого человека. Я обняла ее.
— Я так рада, что ты здесь.
Возможно, я обняла ее слишком пылко и отстранилась слишком поздно, потому что она заморгала и спросила:
— Все нормально, Эди?
Я помедлила. Тайны, которые выяснились, мрачные истины, свидетельницей которых я стала, тасовались у меня в голове, словно карты. Я отогнала их и улыбнулась.
— Конечно, мама. Просто я немного устала. Вчера была ужасная гроза.
— Да, миссис Кенар рассказала. Она говорит, дождь застиг тебя в замке. — Мамин голос едва заметно дрогнул. — Хорошо, что я не поехала днем, как собиралась.
— Ты давно здесь?
— Всего минут двадцать. Я смотрела на снимки.
Она указала на соседнюю фотографию из «Кантри лайф» за 1910 год. На ней был изображен круглый пруд, еще незаконченный.
— В этом пруду я научилась плавать, — сообщила она. — Когда жила в замке.
Наклонившись ближе, я прочла подпись под снимком: «Оливер Сайкс следит за работами и показывает мистеру и миссис Раймонд Блайт их новый пруд». А вот и он, красивый молодой архитектор, Слякотник, закончивший жизнь на дне рва, который сам реставрировал. По моей коже пробежал холодок предвидения, и я ощутила всю тяжесть того, что посвящена теперь в загадочную судьбу этого молодого мужчины. В ушах вновь прозвучала фраза Перси Блайт: «Помните о своем обещании, мисс Берчилл. Я рассчитываю на вас».
— Как насчет обеда, леди? — вмешалась миссис Кенар.
Я отвернулась от улыбающегося лица Сайкса.
— Что думаешь, мама? Ты, наверное, проголодалась с дороги?
— С удовольствием поем супа. Можно, мы сядем на улице?
Мы устроились за столом с видом на замок; предложение внесла миссис Кенар, и не успела я возразить, как мама отважно объявила его великолепным. Пока местные гуси плескались в лужах, не теряя надежды, что им перепадет крошка-другая, мама рассуждала о своем прошлом. О времени, которое провела в Майлдерхерсте, о своих чувствах к Юнипер, о влюбленности в учителя, мистера Кэвилла; наконец она поведала мне о своей мечте стать журналистом.
— Что случилось, мама? — поинтересовалась я, намазывая масло на хлеб. — Почему ты передумала?
Я не передумала. Просто я… — Она немного поерзала на белом железном сиденье, которое миссис Кенар вытерла полотенцем. — Наверное, я просто… В конце концов я не смогла… — Она нахмурилась, не сумев подобрать нужные слова, и продолжила с обновленной решимостью: Встреча с Юнипер открыла мне дверь, и я отчаянно захотела оказаться на другой стороне. Но без нее у меня не получилось удержать дверь открытой. Я пыталась, Эди, правда пыталась. Я мечтала поступить в университет, но лондонские школы позакрывались во время войны, и мне пришлось работать машинисткой. Я всегда считала, что это временно, что однажды я продолжу свой путь и осуществлю намерения. Но когда война закончилась, мне было восемнадцать, слишком много для школы. А без среднего образования я не могла поступить в университет.
— И ты перестала писать?
— О нет. — Мама нарисовала на супе восьмерку кончиком ложки, затем еще раз и еще. — Нет, не перестала. Я тогда была изрядно упрямой. Я приложила все силы и была убеждена, что такой пустяк меня не остановит. — Она чуть улыбнулась, не поднимая глаз. — Я собиралась писать для себя и стать знаменитым журналистом.
Я тоже улыбнулась, невероятно обрадованная тем, как мама охарактеризовала отважную юную Мередит Бейкер.
— Я составила себе программу, читала все, что могла найти в библиотеке, писала статьи, обзоры, иногда рассказы и посылала их в редакции.
— Что-нибудь напечатали?
Она жеманно поерзала на сиденье.
— Кое-что тут и там. Редакторы крупных журналов прислали мне несколько ободряющих писем, великодушных, но твердых, в которых советовали побольше узнать об их фирменном стиле. А потом, в пятьдесят втором, подвернулась работа.
Мама оглянулась на гусей, которые хлопали крыльями, и в ее поведении что-то изменилось, из нее словно выпустили воздух. Она отложила ложку.
— Работа была на Би-би-си, начального уровня, но именно то, что я хотела.
— И ничего не вышло?
— Я разбила копилку и купила элегантное платье и кожаную сумку, чтобы выглядеть на все сто. Дала себе самые строгие наставления вести себя уверенно, четко выражать свои мысли, не сметь сутулиться. Но потом… — Она осмотрела тыльные стороны ладоней и потерла большим пальцем костяшки. — Случилась путаница с автобусами, и, вместо того чтобы отвезти меня в Дом радиовещания, водитель высадил меня недалеко от Мраморной арки. Большую часть обратного пути я бежала, а когда оказалась в начале Риджент-стрит, то увидела, как все эти девушки выплывают из здания, смеются и шутят, такие остроумные и сплоченные, намного моложе меня. Казалось, они щелкают как орешки любые вопросы. — Она смахнула крошку со стола, прежде чем посмотреть мне в глаза. — Я увидела свое отражение в витрине универмага и показалась себе бездарной подделкой, Эди.
— Ах, мама!
— Растрепанной бездарной подделкой. Я презирала себя и не понимала, как мне вообще взбрело в голову, что я достойна подобного места. Наверное, я никогда прежде не ощущала себя настолько одинокой. Я свернула с Портленд-плейс и направилась в другую сторону, обливаясь слезами. Представляю, как ужасно я выглядела. Я была такой одинокой и несчастной, прохожие без конца советовали мне не падать духом, и, оказавшись рядом с кинотеатром, я нырнула внутрь, чтобы мне дали спокойно поплакать.
Тут я вспомнила папины слова о девушке, которая прорыдала весь фильм.
— И ты смотрела «Остролист и плющ».
Кивнув, мама достала откуда-то бумажный платочек и промокнула глаза.
— И познакомилась с твоим папой. Он угостил меня чаем и купил мне грушевый пирог.
— Твой любимый.
Она улыбнулась сквозь слезы приятному воспоминанию.
— Он все допытывался, что случилось, и когда я соврала, что расплакалась из-за фильма, уставился на меня в полном неверии. «Но это же просто кино, — сказал он и заказал второй кусок пирога. — Там все выдумки».
Мы обе засмеялись. У нее получилось ужасно похоже на папу.
— Он был таким надежным, Эди; таким категоричным в восприятии мира и своего места в нем. Просто поразительно. Я никогда не встречала подобного человека. Он видел лишь то, что существовало на самом деле, его беспокоило лишь то, что уже произошло. Вот почему я влюбилась в него — из-за его твердости. Он крепко стоял обеими ногами в настоящем. Когда мы разговаривали, меня словно окутывала его уверенность. К счастью, он тоже что-то во мне нашел. Быть может, это звучит не слишком романтично, но мы очень довольны друг другом. Твой отец — хороший человек, Эди.
— Я знаю.
— Честный, добрый, надежный. Это дорогого стоит.
Я согласилась, и когда мы вернулись к супу, мне представилась Перси Блайт. Она немного походила на папу в данном отношении: человек, которого легко проглядеть в более ярком обществе, но чья стойкость и даже суровость — фундамент, позволяющий другим сиять. Размышления о замке и сестрах Блайт натолкнули меня на другую мысль.
— Поверить не могу, что забыла!
Порывшись в сумке, я достала коробку, которую мне ночью вручила Юнипер.
Мама положила ложку и вытерла пальцы салфеткой, закрывавшей колени.
— Подарок? Тебе ведь было неизвестно о моем приезде.
— Это не от меня.
— А от кого?
Чуть было не ответив: «Открой и узнаешь», я вовремя вспомнила, что когда в прошлый раз преподнесла ей коробку из ее юности с подобной фразой, получилось не слишком складно.
— От Юнипер, мама.
Она округлила глаза и чуть повела носом, затеребила коробку, пытаясь ее открыть.
— Как глупо, — произнесла она незнакомым голосом. — Пальцы не слушаются.
Наконец крышка соскочила, и мама в изумлении прижала ладонь к губам.
— О господи.
Она бережно достала изнутри тонкие листки экономичной бумаги, как будто они были самой драгоценной вещью на свете.
— Юнипер приняла меня за тебя, — сообщила я. — Она хранила ее для тебя.
Мамины глаза метнулись к замку на холме, и она с легким неверием покачала головой.
— Столько лет…
Переворачивая машинописные страницы, она выхватывала фразы тут и там, ее улыбка трепетала. Я наблюдала за ней, радуясь очевидному наслаждению, которое ей дарила рукопись. Но это было не все. С ней случилась перемена, едва заметная, но несомненная, когда она поняла, что подруга не забыла ее: черты ее лица, мышцы шеи, лопатки словно расслабились. Защитная скорлупа размером с жизнь раскололась, и из-под нее проглянула девушка, которую только что разбудили от долгого глубокого сна.
— О чем твоя книга, мама? — ласково спросила я.
— Что?
— Твоя книга. Ты написала продолжение?
— О нет. Я прекратила попытки сочинять. — Она наморщила нос, и ее лицо стало чуточку виноватым. — Наверное, тебе это кажется ужасно малодушным.
— Не малодушным, нет, — осторожно заметила я. — Просто если тебе что-то нравилось, я не понимаю, почему ты остановилась.
Солнце пробилось сквозь тучи, отразилось от луж и бросило на мамину щеку пятнистую тень. Она поправила очки, поерзала на стуле и нежно прижала ладони к рукописи.
— Эта книга была такой огромной частью моего прошлого, того, кем я была, — вымолвила она. — Все переплелось. Горе, ведь я считала, что Юнипер и Том меня бросили; чувство, что я упустила свой шанс, не придя на интервью… Наверное, я перестала получать удовольствие. Я вышла замуж за твоего отца и сосредоточилась на будущем.
Мама снова взглянула на рукопись, подняла листок бумаги и мельком улыбнулась тому, что на нем написано.
— Это было так здорово, — добавила она. — Взять что-нибудь абстрактное: мысль, ощущение или запах — и запечатлеть на бумаге. Я совсем забыла, как сильно мне это нравилось.
— Никогда не поздно начать сначала.
— Эди, милая. — Она с ласковым сожалением улыбнулась поверх очков. — Мне шестьдесят пять лет. За последние десятилетия я не написала ничего длиннее списка покупок. Полагаю, можно смело сказать, что уже слишком поздно.
Я качала головой. Каждый день своей трудовой жизни я встречала людей всех возрастов, которые писали просто потому, что не могли не писать.
— Никогда не поздно, мама, — возразила я.
Однако она больше не слушала; она посмотрела мне за плечо и снова на замок. Поплотнее запахнула кардиган.
— Знаешь, это забавно. Я не была уверена, что именно почувствую, но теперь, когда я здесь, я не знаю, могу ли вернуться. Не знаю, хочу ли этого.
— Не знаешь?
— В памяти сохранился образ замка. Очень счастливый образ; и мне жаль его терять.
Возможно, она думала, что я попытаюсь ее разубедить, но я не стала. Просто не могла. Замок превратился в обитель печали, блекнущую и рассыпающуюся на части, почти как три его обитательницы.
— Я понимаю, — кивнула я. — Все выглядит немного… усталым.
Изучая мое лицо, мама нахмурилась, как будто только что меня заметила.
— Это ты выглядишь немного усталой, Эдди.
От этой фразы меня разобрала зевота.
— Да, ночь выдалась насыщенной. Я мало спала.
— Миссис Кенар говорила, что разразилась гроза… Я с удовольствием поброжу по саду. У меня много дел. — Мама потеребила краешек рукописи. — Почему бы тебе не вздремнуть?
Я почти поднялась по первому лестничному пролету, когда увидела миссис Кенар. Она стояла на следующей площадке и махала чем-то поверх перил с вопросом, нет ли у меня свободной минутки. Она так горячо настаивала, что я несколько забеспокоилась, но согласилась.
— Хочу вам кое-что показать. — Она бросила взгляд через плечо. — Это вроде как секрет.
Учитывая, сколько всего случилось за последние сутки, я не испытала ни малейшего волнения.
Когда я подошла ближе, она сунула мне в руки сероватый конверт и произнесла театральным шепотом:
— Это одно из тех писем.
— Каких писем?
Немало писем я держала в руках за последние несколько месяцев.
Она уставилась на меня с таким лицом, будто я забыла, какой сегодня день недели. Если честно, я и правда забыла.
— Письма, которые мы обсуждали в прошлый раз, конечно; любовные письма Раймонда Блайта моей маме.
— А!.. Те письма.
Она пылко кивнула, и часы с кукушкой на стене за ее спиной выбрали этот момент, чтобы высунуть пару танцующих мышей. Мы переждали джигу, и я уточнила:
— Вы хотите, чтобы я взглянула на него?
— Вы не обязаны его читать, — заверила миссис Кенар, — если вам неловко. Просто вы недавно кое-что сказали, и у меня возникла идея…
— Сказала?
— Вы сказали, что собираетесь поработать с тетрадями Раймонда Блайта, и мне пришло в голову, что вы теперь, наверное, прекрасно узнаете его почерк. — Она затаила дыхание и ринулась очертя голову. — Я подумала, что вы… я надеялась…
— Что я посмотрю на письмо и выясню, он ли автор.
— Именно.
— Да, конечно…
— Замечательно!
Миссис Кенар легонько хлопнула в ладоши под подбородком, когда я вынула из конверта листок.
Сразу же стало ясно, что мне придется ее разочаровать, письмо написано вовсе не Раймондом Блайтом. Я видела его тетрадь совсем близко, мне навсегда врезался в память его косой почерк, длинные петлистые хвосты G и J, характерная R, которую он ставил вместо имени. Нет, это письмо другого человека.
Люси, моя любимая, моя дорогая, моя единственная!
Знаешь ли ты, как в моем сердце зародилась любовь? Знаешь ли ты, что это случилось в самый первый миг нашей встречи? Твоя поза, разворот плеч, пряди, которые выбились из прически и ласкали шею; мое сердце немедленно рванулось к тебе.
Твои слова при нашей последней встрече не выходят у меня из головы. Я не в состоянии думать о чем-то другом. Я гадаю: что, если ты права; что, если это не пустая фантазия? Что, если мы должны забыть обо всем, обо всех и уехать вместе, далеко-далеко?
Дальше я читать не стала. Я пропустила несколько абзацев и взглянула на единственный инициал в конце, как и говорила миссис Кенар. Пока я смотрела на него, мир мало-помалу сместился и многое встало на свои места. Мне был знаком этот почерк.
Мне было известно, кто написал это письмо, известно, кого Люси Миддлтон любила больше всех на свете. Миссис Кенар была права — эта любовь погибла из-за общественных условностей, — но между Раймондом и Люси ничего не было. В конце письма стояла не R, а P, написанная на старинный манер, так что из-под изгиба торчал маленький хвостик. Легко перепутать с R, особенно если ожидаешь ее увидеть.
— Очень мило, — с трудом вымолвила я, внезапно ощутив безмерную печаль при мысли о двух молодых женщинах и долгих жизнях, которые они провели порознь.
— Так грустно, правда? — Миссис Кенар вздохнула, убрала письмо обратно в карман и с надеждой взглянула на меня. — Письмо так красиво написано.
Когда я наконец избавилась от миссис Кенар, постаравшись отделаться общими фразами, то сразу же отправилась к себе в комнату и рухнула на бок поперек кровати. Я закрыла глаза и попыталась расслабиться, но ничего не получилось. Ум был прикован к замку. Я неотступно размышляла о Перси Блайт, которая любила так искренне и так давно; которую считали чопорной и холодной; которая большую часть жизни хранила ужасную тайну, защищая свою младшую сестру.
Перси поведала мне об Оливере Сайксе и Томасе Кэвилле с условием, что я «все исправлю». Она столько рассуждала о датах смерти, а я никак не могла понять, почему ей нужно со мной делиться, что я должна сделать с этими сведениями, с чем она не может справиться самостоятельно. Я слишком устала. Мне нужно было поспать, а после меня ждал приятный вечер с мамой. И потому я решила отправиться в замок на следующее утро, чтобы повидать Перси Блайт в последний раз.
Но мне не довелось этого сделать. Поужинав с мамой, я быстро и крепко уснула, однако сразу после полуночи очнулась рывком. Мгновение я лежала на кровати в фермерском доме, удивляясь, почему проснулась. Возможно, я что-то услышала, какой-то ночной звук, который уже стих, или мне что-то привиделось? Одно я знала точно: внезапное пробуждение было вовсе не таким пугающим, как прошлой ночью. На этот раз я не ощущала в комнате чужого присутствия и не слышала ничего неподобающего. И все же та тяга, о которой я говорила, связь, которую я чувствовала с замком, не давала мне покоя. Я выбралась из кровати, подошла к окну и раздернула шторы. И тогда я увидела это. У меня подкосились ноги от шока, я покрылась холодным потом. На месте темной громады замка разгорелся гигантский костер: оранжевые языки пламени лизали низкое тяжелое небо.
Пожар в замке Майлдерхерст бушевал большую часть ночи. Когда я позвонила пожарным, они уже были в пути, однако мало что могли поделать. Конечно, замок был построен из камня, но в нем было столько дерева, дубовые панели, распорки, двери, миллионы листов бумаги. Как и предупреждала Перси Блайт, хватило одной искры, чтобы все вспыхнуло как спичка.
За завтраком миссис Кенар посетовала, что у старых леди в замке не было ни единого шанса. Наутро ей один из пожарных сообщил, что все трое находились в комнате на втором этаже, судя по всему уснули у камина и были застигнуты врасплох.
— С этого все и началось? — спросила миссис Кенар. — Искра из камина… совсем как с матерью близнецов.
Она покачала головой, сокрушаясь над трагической параллелью.
— Сложно восстановить картину, — пожал плечами пожарный. — Это могло быть что угодно, на самом деле. Случайный уголек из камина, упавшая сигарета, неполадки с электричеством… проводка в таких зданиях, как правило, старше меня.
Мне точно неизвестно, кто поставил вокруг тлеющего замка заграждения, полицейские или пожарные, но я уже неплохо изучила сад и сумела подобраться с тыла. Возможно, это было некрасивым поступком, но мне нужно было посмотреть поближе. Я знала сестер Блайт совсем недолго, однако они абсолютно заворожили меня своими историями, своим миром, и, проснувшись и обнаружив, что все это обратилось в пепел, я испытала глубокое горе. Разумеется, меня опечалила гибель сестер и их замка, но дело было не только в этом. Меня охватило чувство, будто меня покинули. Будто дверь, которая открылась для меня совсем недавно, вновь затворилась, быстро и окончательно, и мне никогда больше через нее не пройти.
Я немного постояла, изучая черный пустой остов, вспоминая свой первый визит много месяцев назад, волнительное предвкушение, когда я шла мимо круглого пруда к замку. Все, что я выяснила с тех пор…
Seledreorig… Слово шепотом раздалось у меня в голове. Тоска по крову. Камешек из стены замка лежал у моих ног, усиливая грусть. Это всего лишь кусок камня. Блайтов больше нет, их далекие часы умолкли.
— Поверить не могу, что замок разрушен.
Обернувшись, я увидела молодого мужчину с темными волосами.
— Да, — отозвалась я. — Сотни лет рассыпались прахом за несколько часов.
— Я услышал о пожаре утром по радио и приехал посмотреть своими глазами. Я также надеялся познакомиться с вами.
Вероятно, на моем лице отразилось удивление, поскольку он протянул руку и представился:
— Адам Гилберт.
Очевидно, это имя что-то значило… ну конечно: старика в твидовом костюме и антикварное конторское кресло.
— Эди, — с трудом выдавила я. — Эди Берчилл.
— Я так и подумал. Та самая Эди, которая украла мою работу.
Он шутил, и мне нужно было остроумно парировать. Вместо этого я начала нести какую-то путаную околесицу:
— Ваше колено… Сиделка… Я думала…
— Все уже хорошо. Ну или почти. — Он махнул тростью в руке. — Я упал со скалы, верите? — Лукавая улыбка. — Нет? Ну ладно. Я споткнулся о груду книг в библиотеке и раздробил колено. Писатель — опасная профессия. — Он кивнул в сторону фермерского дома. — Собираетесь обратно?
Бросив последний взгляд на замок, я кивнула.
— Можно составить вам компанию?
— Конечно.
Из-за трости Адама мы продвигались довольно медленно, обмениваясь воспоминаниями о замке и сестрах Блайт, признаваясь в детской пламенной любви к «Слякотнику». Дойдя до поля, которое вело к фермерскому дому, Адам остановился. Я тоже.
— Господи, до чего бестактно спрашивать об этом сейчас… — Он указал на курящиеся развалины замка вдалеке. — И все же… — Он словно прислушался к чему-то и кивнул. — Да, похоже, я все равно вас спрошу. Миссис Баттон передала мне ваше сообщение, когда я вернулся домой вчера вечером. Это правда? Вы что-то выяснили о происхождении «Слякотника»?
У него были добрые карие глаза, и я не сумела солгать, глядя в них. Поэтому я уставилась на его лоб и произнесла:
— Нет, к сожалению, нет. Ложная тревога.
Он поднял ладонь и вздохнул.
— Ну ладно. Выходит, правда умерла вместе с ними. В этом есть что-то поэтическое. На свете должны быть нераскрытые тайны, как по-вашему?
Я не успела заверить его, что полностью с ним согласна, поскольку мое внимание привлек кое-кто рядом с фермерским домом.
— Я на минутку, — обронила я. — Нужно кое-что сделать.
Не представляю, что старший инспектор Роулинз подумал при виде растрепанной усталой женщины, которая спешила к нему через поле, тем более когда я начала свой рассказ. К его чести, он сумел сохранить поразительное хладнокровие, когда за утренним чаем я предложила ему расширить рамки расследования и заявила, что из достоверных источников знаю об останках двух мужчин, погребенных рядом с замком. Он только чуть замедлил движение ложечки в чашке и уточнил:
— Двух мужчин? Очевидно, вам неизвестны их имена.
— Вообще-то известны. Одного звали Оливер Сайкс, другого — Томас Кэвилл. Сайкс умер при пожаре тысяча девятьсот десятого года, погубившем Мюриель Блайт, а Томас погиб вследствие несчастного случая во время грозы в октябре сорок первого.
— Понятно.
Он прихлопнул комара рядом с ухом, не сводя с меня глаз.
— Сайкс лежит на западной стороне, где раньше был ров.
— А второй?
Я вспомнила ночную грозу и ужасный бег Юнипер по коридорам в сад. Перси не сомневалась, где ее искать.
— Томас Кэвилл погребен на кладбище домашних животных, — ответила я. — Прямо посередине, рядом с камнем, на котором написано «Эмерсон».
Инспектор отпил из чашки, поразмыслил и добавил еще пол-ложечки сахара. Снова помешал, разглядывая меня слегка сощуренными глазами.
— Если вы проверите записи, — продолжила я, — то обнаружите, что Томаса Кэвилла признали пропавшим без вести и записей о смерти этих двух мужчин нет.
Перси Блайт права, каждому нужны свои даты рождения и смерти. Одной первой даты недостаточно. Пока скобки не закрыты, мертвецу не дадут покоя.
Я решила не писать вступление к изданию «Слякотника» для «Пиппин букс». Объяснила Джудит Уотерман, что у меня совершенно нет времени, что я в любом случае не успела встретиться с сестрами Блайт до пожара. Она сказала на это, что все понимает и уверена, что Адам Гилберт охотно возьмется за работу с того места, где ему пришлось прерваться. Я признала, что это разумно, ведь именно он собрал все предварительные сведения.
Не мне было писать вступление. Загадка, которая семьдесят пять лет мучила литературных критиков, получила отгадку, но я не могла поделиться ею с миром. Поступить так означало жестоко предать Перси Блайт. «Это семейная история», — заметила она, прежде чем спросить, можно ли мне доверять. И теперь я не вправе открыть печальную и грязную правду, которая навеки бросит тень на роман. На книгу, сделавшую меня читательницей.
Написать же что-либо другое, переиначить старые добрые рассуждения о загадочном происхождении книги было бы поистине лицемерием. Кроме того, Перси Блайт наняла меня под фальшивым предлогом. Она не хотела, чтобы я сочиняла вступление, она хотела, чтобы я исправила официальные записи. И я сделала это. Роулинз и его парни расширили рамки расследования и отыскали в земле замка два тела, именно там, где я указала. Тео Кэвилл наконец выяснил, что случилось с его братом Томом: тот погиб грозовой ночью в замке Майлдерхерст в разгар войны.
Старший инспектор Роулинз пытался выжать из меня какие-либо подробности, но я хранила молчание. Мне не пришлось кривить душой, ведь я действительно больше ничего не знала. Перси говорила одно, Юнипер другое. Я верила, что Перси покрывала сестру, но доказать не могла. Да и не собиралась доказывать. Правда умерла вместе с тремя сестрами, и если камни фундамента замка все еще шептали о том, что случилось ночью в октябре 1941 года, я не слышала их. Я не хотела их слышать. Больше не хотела. Настала пора вернуться к своей собственной жизни.
Замок Майлдерхерст, 29 октября 1941 года
Гроза, пришедшая с Северного моря к вечеру двадцать девятого октября 1941 года, гремела и стонала, сгущалась и хмурилась, прежде чем остановиться над башней замка Майлдерхерст. Первые капли еще на закате как бы нехотя пробились сквозь тучи, и мириады других последовали за ними перед наступлением ночи. Гроза была сдержанной, дождь предпочитал грохоту постоянство; час за часом размеренно плюхались крупные капли, струились по черепице, стекали с карнизов. Ручей Роувинг разбух, темный пруд в Кардаркерском лесу потемнел еще больше, и чуть просевшая юбка из мягкой земли вокруг замка напиталась водой, так что во тьме даже появились очертания давно засыпанного рва. Но близнецы в замке ничего об этом не знали; они знали только, что после часов напряженного ожидания в дверь все-таки постучали.
Саффи успела первой, оперлась рукой о косяк и вставила латунный ключ в скважину. Замок подавался туго, как всегда, и на мгновение она вступила с ним в борьбу, заметив, что ее руки дрожат, что лак на ногтях облупился, что кожа выглядит старой; затем механизм уступил, дверь поддалась, и подобные мысли улетели в сырую темную ночь, потому что на пороге стояла Юнипер.
— Дорогая моя девочка! — Саффи едва не заплакала при виде младшей сестры, которая в целости и сохранности наконец-то добралась до дома. — Слава богу! Мы так по тебе скучали!
— Я потеряла ключ, — сказала Юнипер. — Простите.
Несмотря на взрослый плащ-дождевик и взрослую прическу, которая выглядывала из-под шляпки, в полумраке дверного проема Юнипер казалась сущим ребенком. Саффи не удержалась, взяла лицо сестры в ладони и поцеловала ее в лоб, как делала, когда Джун была маленькой.
— Чепуха. — Саффи жестом указала на Перси, мрачное настроение которой растворилось в камнях. — Мы так рады видеть тебя дома целой и невредимой. Дай мне на тебя посмотреть…
Она придержала сестру на расстоянии вытянутой руки, и ее грудь защемило от радости и облегчения, которых она не смогла бы выразить словами; вместо этого она заключила Юнипер в объятия.
— Ты так опоздала, что мы начали беспокоиться…
— Автобус. Мы остановились из-за какого-то… несчастного случая.
— Несчастного случая? — отозвалась Саффи, отступая назад.
— Что-то с автобусом. Затор на дороге, наверное; я точно не знаю…
Юнипер улыбнулась и пожала плечами, не закончив фразу, но на ее лице промелькнуло недоумение. Перемена была мгновенной, однако этого хватило; обрывок фразы эхом разнесся по комнате, как будто Юнипер отчетливо произнесла его. «Не помню». Два простых слова, невинных в чьих угодно устах, но только не Юнипер. Тревога тяжело заворочалась на дне желудка Саффи. Она взглянула на Перси и уловила такое же знакомое беспокойство на ее лице.
— Что ж, заходи. — Перси тоже улыбнулась. — Ни к чему мокнуть под дождем.
— Да! — согласилась Саффи не менее бодро. — Бедная малышка, ты простудишься, если мы не побережемся… Перси, милая, сходи вниз за грелкой.
Когда Перси исчезла в темном вестибюле, ведущем в кухню, Юнипер повернулась к Саффи, обхватила ее запястье и спросила:
— Том?
— Еще не пришел.
Лицо Юнипер опечалилось.
— Но уже почти ночь. Я опоздала.
— Да, дорогая.
— Что могло его задержать?
— Война, дорогая; это война во всем виновата. Пойдем, я посажу тебя у камина, принесу что-нибудь вкусненькое выпить, и он скоро появится, вот увидишь.
Они дошли до хорошей гостиной, и Саффи позволила себе мгновение насладиться приятной картиной, прежде чем подвести Юнипер к ковру у камина. Она поворошила кочергой самое большое полено, а сестра тем временем достала сигареты из кармана пальто.
В камине взметнулись искры, и Саффи вздрогнула. Она выпрямилась, вернула кочергу на место и отряхнула руки, хотя они были чистыми. Юнипер чиркнула спичкой, глубоко затянулась.
— Твои волосы, — тихо промолвила Саффи.
— Я обрезала их.
Любая другая женщина коснулась бы рукой шеи, но не Юнипер.
— Что ж, мне нравится.
Они улыбнулись друг другу; Юнипер немного неуверенно, как показалось Саффи. Да нет, ерунда; Юнипер никогда не нервничает. Саффи притворилась, что не смотрит, как сестра обнимает себя за талию и курит.
«Лондон! — хотелось воскликнуть Саффи. — Ты побывала в Лондоне! Расскажи мне о нем; нарисуй словами картины, хочу увидеть и узнать все, что ты делала. Ты танцевала? Сидела у Серпантина? Влюбилась?» Вопросы возникали один за другим, норовили слететь с губ, и все же она молчала. Стояла, как дурочка, пока огонь согревал ей лицо, и минуты утекали сквозь пальцы. Она понимала, что ведет себя глупо: Перси вот-вот вернется и возможность пообщаться с Юнипер наедине будет упущена. Надо только решиться, обратиться к Юнипер прямо: «Расскажи мне о нем, дорогая; расскажи мне о Томе, о своих планах». В конце концов, это Юнипер, ее родная, любимая младшая сестра. Для них нет запретных тем. И все же… Саффи вспомнила о записи в дневнике, и ее щеки вспыхнули.
— Ой, — всполошилась она, — я такая растяпа! Позволь, я заберу твое пальто.
Она встала за спиной сестры, точно горничная, стащила сперва один рукав, затем, когда Юнипер переложила сигарету в другую руку, второй; сняла коричневое пальто с худеньких плеч и отнесла на стул под Констеблом. Конечно, там с него натечет на пол, но времени искать подходящее место не было. Она немного похлопотала, разгладила ткань, обратила внимание на шитье на подоле, не переставая размышлять над своей молчаливостью, упрекать себя за то, что самые простые семейные расспросы застряли у нее в горле, словно молодая женщина у камина была незнакомкой. Ради бога, это же Юнипер; сестра наконец вернулась домой и, весьма вероятно, прячет в рукаве очень важный секрет.
— Твое письмо, — намекнула Саффи, разглаживая воротник пальто, и рассеянно, мельком задумалась, где сестра приобрела подобный предмет одежды. — Твое последнее письмо.
— Да?
Юнипер присела перед камином, как любила делать в детстве, и даже не оглянулась. Саффи глухо хмыкнула, поняв, что сестра не собирается ей помогать. Она помедлила, собралась с силами; далекий стук двери напомнил ей, что времени в обрез.
— Пожалуйста, Юнипер. — Она поспешила к сестре. — Расскажи мне о Томе; расскажи мне все, дорогая.
— О Томе?
— Понимаешь, я не могу отделаться от мысли, что между вами что-то есть… что-то большее, чем ты написала.
Пауза, тишина, словно сами стены навострили уши.
— Я хотела подождать, — почти прошептала Юнипер. — Мы решили подождать и сообщить обо всем вместе.
— Подождать? — Сердце Саффи трепетало, как у пойманной птицы. — Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду, дорогая.
— Мы с Томом… — Юнипер жадно затянулась сигаретой и подперла щеку рукой. — Мы с Томом собираемся пожениться, — выдохнула она. — Он попросил моей руки, и я согласилась, и… ах, Саффи! — Она впервые обернулась и посмотрела сестре в глаза. — Я люблю его. Я не могу без него. Не могу и не желаю!
Хоть сама новость была именно такой, как Саффи предполагала, ее ранила сила признания. Его скорость, его мощь, его последствия.
— Что ж. — Она направилась к столу с напитками и вспомнила, что надо улыбаться. — Это чудесно, дорогая; значит, сегодня у нас праздник.
— Ты ведь не скажешь Перси? Не скажешь, пока…
— Нет. Нет, конечно, не скажу, — пообещала Саффи, выдергивая пробку из виски.
— Я не знаю, как она… Ты поможешь мне? Поможешь объяснить ей?
— Ну конечно помогу.
Саффи сосредоточилась на напитках, которые разливала. Она не лукавила. Она сделает все, что сможет, она на что угодно пойдет ради Юнипер. Но Перси никогда не поймет. Папино завещание было совершенно недвусмысленным: если Юнипер выйдет замуж, замок будет потерян. Любовь Перси, ее жизнь, смысл ее существования…
Юнипер хмурилась, глядя в огонь.
— Она справится, правда?
— Да, — солгала Саффи и осушила бокал, потом наполнила его снова.
— Мне известно, что это значит, известно, и мне ужасно жаль; ну зачем папа так поступил? Я никогда их не хотела. — Юнипер указала на каменные стены. — Но мое сердце, Саффи! Мое сердце.
Саффи протянула сестре бокал.
— Вот, дорогая…
Она осеклась; ее рука метнулась ко рту, когда Юнипер встала и обернулась.
— Что?
Однако Саффи словно онемела.
— Саффи? — позвала Юнипер.
— Твоя блузка, — еле выдавила Саффи, — она…
— Она новая.
Саффи кивнула. Это всего лишь игра света, не более. Она взяла сестру под руку и потащила к лампе.
И согнулась пополам.
Это не ошибка. Кровь. Саффи пыталась справиться с паникой; убеждала себя, что бояться нечего, пока нечего, необходимо сохранять спокойствие. Она поискала подходящие слова, чтобы сообщить об этом, но не успела — Юнипер проследила за ее взглядом, натянула ткань блузки, на мгновение нахмурилась и завизжала. Принялась лихорадочно смахивать пятна с блузки. Шагнула назад, как будто от ужаса можно было убежать.
— Тсс. — Саффи похлопала ее по руке. — Успокойся, дорогая. Не надо волноваться.
Но она чувствовала вкус призрачной спутницы — своей собственной паники.
— Дай я посмотрю на тебя. Дай Саффи на тебя посмотрит.
Юнипер замерла, и Саффи дрожащими руками расстегнула пуговицы. Распахнула полы блузки, провела кончиками пальцев по гладкой коже сестры — отзвук заботы о маленькой Юнипер, — изучая ее грудь, бока и живот в поисках ран. Глубоко вздохнула от облегчения, когда ничего не нашла.
— С тобой все в порядке.
— Но чья? Чья? — Голос Юнипер дрожал. — Откуда она, Саффи?
— Ты не помнишь?
Юнипер покачала головой.
— Совсем ничего?
У Юнипер стучали зубы; она снова покачала головой.
Саффи заговорила спокойно и мягко, как будто с ребенком;
— Дорогая, как, по-твоему, у тебя случился провал в памяти?
В глазах Юнипер вспыхнул страх.
— Голова болит? Пальцы… покалывает?
Юнипер медленно кивнула.
— Хорошо.
Вымученно улыбаясь, Саффи помогла сестре снять испорченную блузку и обняла ее за плечи, едва не заплакав от страха, боли и любви, когда нащупала под кожей хрупкие косточки. Надо было поехать в Лондон, надо было отправить Перси в Лондон и забрать Джун домой.
— Все хорошо, — уверенно заявила Саффи, — теперь ты дома. Все будет хорошо.
Лицо Юнипер ничего не выражало, она молчала.
Саффи взглянула на дверь; Перси придумает, что делать. Перси всегда знает, что делать.
— Тсс, — сказала Саффи, — тсс.
Она обращалась скорее к себе, чем к Юнипер, которая больше не слушала.
Они вместе сели на край кушетки и принялись ждать. В камине трещал огонь, ветер носился по камням, дождь хлестал в окна. Казалось, прошла сотня лет. Затем в дверях возникла Перси. Она прибежала с грелкой в руке.
— Мне показалось, я слышала визг… — Она остановилась, заметила, что Юнипер раздета. — Что? Что случилось?
Указывая на запачканную кровью блузку, Саффи сказала с устрашающей бодростью:
— Давай-ка помоги мне. Юнипер провела в дороге весь день, и мы просто обязаны набрать ей чудесную теплую ванну.
Перси мрачно кивнула; близнецы встали по бокам от своей младшей сестры и повели ее к двери.
Комната привыкла к их отсутствию; камни зашептались.
Разболтанная ставня слетела с петли, и никто не увидел, как она сорвалась.
— Она спит?
— Да.
С облегчением выдохнув, Перси шагнула чуть дальше в чердачную комнату, чтобы взглянуть на младшую сестру, и встала у кресла Саффи.
— Она что-нибудь говорила тебе?
— Немного. Она помнит, как ехала на поезде, потом на автобусе, автобус остановился, она присела на обочине; затем она сразу оказалась на подъездной дорожке, почти у двери, руки и ноги у нее покалывало. Как бывает… ну, знаешь, после.
Да, Перси знала. Она провела костяшками двух пальцев вдоль линии роста волос Юнипер и вниз к щеке. Их младшая сестренка казалась такой маленькой, такой беспомощной и безобидной, когда спала.
— Не разбуди ее.
— Это вряд ли, — отозвалась Перси, указывая на флакон с папиными пилюлями у кровати.
— Ты переоделась, — заметила Саффи, легонько потянув сестру за штанину.
— Да.
— Собираешься на улицу?
Перси коротко кивнула. Если Юнипер вышла из автобуса, но все же отыскала дорогу домой, вероятно, причина провала в ее памяти, причина крови на ее одежде находится где-то неподалеку от дома. А значит, Перси должна немедленно все проверить; взять фонарик, пройти по дорожке и хорошенько поискать. Она не желала размышлять над тем, что именно найдет; ей было известно только одно; ее долг — убрать это. Если честно, она была рада задаче. Важной и четкой цели, которая поможет отогнать страхи, не позволит воображению умчаться вперед. Положение и без того было тревожным. Она взглянула сверху вниз на голову Саффи, ее хорошенькие кудряшки, нахмурилась и обратилась к сестре:
— Обещай мне, что займешься делом, пока я хожу, а не просидишь здесь все время в переживаниях.
— Но, Перси…
— Я серьезно, Саффи. Она пролежит в забытьи много часов. Отправляйся вниз; возьми перо и бумагу. Отвлекись. Паника нам ни к чему.
— Остерегайся мистера Поттса, — наказала в свою очередь Саффи, переплетя пальцы с пальцами Перси. — Не свети фонариком во все стороны. Ты же знаешь, как мистер Поттс горячится насчет затемнения.
— Обязательно.
— И немцев тоже, Перси. Будь осторожна.
Перси отняла ладонь у сестры, смягчив это тем, что засунула обе руки в карманы, и криво усмехнулась.
— В такую-то ночь? Если у них есть мозги, они давно сидят дома в своих теплых кроватках.
Саффи попыталась улыбнуться, но тщетно. Кто мог ее винить? В комнате толпились старые призраки. Перси подавила дрожь и направилась к двери со словами:
— Ну ладно, я…
— Помнишь, как мы спали здесь на чердаке?
Остановившись, Перси нащупала сигарету, которую свернула раньше.
— Смутно.
— Это было здорово, правда? Только ты и я.
— Если мне память не изменяет, тебе не терпелось перебраться вниз.
Наконец Саффи улыбнулась, но ее улыбка была полна печали. Она избегала взгляда Перси; не сводила глаз с Юнипер.
— Я всегда спешила. Вырасти. Уехать.
У Перси заныло в груди. Усилием воли она отогнала подступившую тоску. Она не желала вспоминать девушку, которой была ее сестра до того, как папа ее сломал, когда у нее были талант, мечты и все шансы их осуществить. Не сейчас. Никогда, если получится. Это слишком больно.
В кармане брюк лежали обрывки бумаги, на которые она по чистой случайности наткнулась на кухне, когда готовила грелку. Она искала спички, подняла крышку кастрюли на скамейке и увидела обрывки письма Эмили. Хорошо, что она нашла их. Не хватало только, чтобы Саффи поддалась старому отчаянию. Перси отнесет их вниз и сожжет по пути на улицу.
— Я пошла, Саффи…
— Наверное, Юнипер уедет от нас.
— Что?
— Думаю, она планирует сбежать.
Почему сестра это сказала? И почему сейчас, сегодня вечером? Пульс Перси участился.
— Ты спросила у Юнипер о нем?
Саффи помедлила достаточно, чтобы Перси поняла: да, спросила.
— Она собирается замуж?
— Она говорит, что любит его, — выдохнула Саффи.
— Но она не любит его.
— Она верит, что любит, Перси.
— Ты ошибаешься. — Перси вздернула подбородок. — Она не выйдет замуж. Не сможет. Ей известно, что сделал папа, к чему приведет ее брак.
— Любовь толкает людей на жестокие поступки, — печально улыбнулась Саффи.
Коробка спичек выскользнула из пальцев Перси, и она наклонилась поднять ее с пола. Выпрямившись, она увидела, что Саффи наблюдает за ней со странным выражением лица, как будто пытается передать сложную мысль или найти решение мучительной загадки.
— Он придет, Перси?
Перси закурила и пошла вниз по лестнице.
— Послушай, Саффи, — бросила она, — откуда мне знать?
Подозрения закрались в голову Саффи исподтишка. Дурное настроение сестры весь вечер было неприятным, но привычным, вот почему Саффи думала исключительно о том, как с ним справиться и не испортить торжественный ужин. Но потом Перси надолго скрылась на кухне, якобы искала аспирин, а затем вернулась в испачканном платье, с историей о шуме снаружи. Озадаченное лицо на вопрос, нашла ли она аспирин, как будто сестра и вовсе забыла, что ходила за ним… А теперь утверждения, почти уверенность, что Юнипер не выйдет замуж…
Но нет.
Хватит.
Перси может быть жесткой и даже недоброй, однако на такое не способна. Саффи никогда в это не поверит. Сестра любит замок страстно, но не ценой собственной человечности. Перси храбрая, порядочная и благородная; она спускалась в воронки от бомб спасать чужие жизни. Кроме того, это не Перси покрыта чужой кровью…
Задрожав, Саффи резко встала. Перси права: ни к чему нести безмолвное дежурство у постели спящей Юнипер. Понадобилось три папиных пилюли, чтобы погрузить сестру в сон, и бедный ягненочек наверняка проспит много часов.
Бросить ее здесь одну, такую маленькую и уязвимую… все материнские инстинкты Саффи восставали против этого. И все же она знала, что если останется, то непременно скатится в малодушную панику. Ее разум уже запутался в кошмарных предположениях. Юнипер теряла память, только если переживала какую-либо травму, только если видела или делала нечто, обострявшее ее чувства; нечто, отчего ее сердце колотилось быстрее, чем положено. В сочетании с кровью на ее блузке и общим предчувствием беды, которое последовало за ней в дом…
Нет.
Хватит.
Саффи прижала ладони к груди. Попыталась ослабить скрутившийся в ней узел страха. Сейчас не время поддаваться панике. Она обязана сохранять спокойствие. Очень многое еще неизвестно, но ясно одно. Она не сможет помочь Юнипер, если не справится со своим неконтролируемым страхом.
Она пойдет вниз и займется своим романом, как и советовала Перси. Час или около того в приятном обществе Адели — именно то, что нужно. Юнипер в безопасности, Перси найдет то, что следует. И Саффи. Не. Будет. Паниковать.
Не должна.
Приняв решение, она поправила одеяло и ласково разгладила его на груди Юнипер. Сестра даже не вздрогнула. Она спала так крепко, словно ребенок, уставший за целый день под солнцем, под ясным синим небом, на берегу моря.
Юнипер была таким особенным ребенком. Воспоминание пришло в голову мгновенно и полно, словно вспышка: маленькая Юнипер, ножки-палочки с белесыми волосками, блестящими на солнце. Сидит на корточках, колени в засохших царапинах, босые пыльные ступни распластаны по выжженной летом земле. Нависла над старой канавой, возит веточкой в грязи, ищет подходящий камешек, чтобы кинуть сквозь решетку…
Пласт дождя скользнул по окну, и девочка, солнце и запах сухой земли превратились в дым и улетели прочь. Остался только тусклый и затхлый чердак. Чердак, на котором Саффи и Перси жили в детстве, в стенах которого превратились из хнычущих младенцев в капризных юных леди. Сохранилось совсем мало доступных глазу свидетельств того, что они здесь когда-то обитали. Только кровать, чернильное пятно на полу, книжный шкаф у окна, на который она…
Нет!
Хватит!
Саффи сжала кулаки. Заметила флакон с папиными пилюлями. Мгновение подумала, открутила крышку и вытряхнула одну таблетку в ладонь. Это поможет снять напряжение, поможет расслабиться.
Оставив дверь открытой, она осторожно спустилась по узкой лестнице.
В чердачной комнате вздохнули шторы.
Юнипер вздрогнула.
Длинное платье мерцало на гардеробе, словно бледное забытое привидение.
Луны не было, было сыро, и Перси промокла до нитки, несмотря на дождевик и сапоги. К тому же еще и фонарик проявил некстати свой норов. Она опустила ногу на раскисшую дорожку и ударила фонариком о ладонь; батарейки загромыхали, вспыхнули свет и надежда. И тут же погасли.
Перси чуть слышно выругалась и смахнула запястьем волосы, которые липли ко лбу. Она не представляла, что ищет, но надеялась найти это несколько раньше. Чем больше времени утекало, чем дальше от замка она уходила, тем меньше оставалось шансов, что с проблемой удастся справиться. А с ней необходимо было справиться.
Она прищурилась сквозь дождь, пытаясь что-либо рассмотреть.
Ручей разбух и мчался вперед; она слышала, как он кувыркается и ревет по пути к лесу. Такими темпами мост к утру снесет.
Чуть повернув голову налево, она ощутила сердитые взгляды часовых Кардаркерского леса. Услышала ветер, прячущийся в верхушках деревьев.
Перси дала фонарику еще один шанс. Проклятая штуковина продолжала ее игнорировать. Она двинулась дальше по направлению к дороге, медленно, осторожно, внимательно глядя вперед.
Сверкнула молния, и мир стал белым; промокшие поля покатились прочь, лес отступил, замок скрестил руки в разочаровании. Застывшее мгновение; Перси ощутила безмерное одиночество, внутри ее было так же холодно, мокро и белым-бело, как и снаружи.
Она увидела это в последнем отблеске молнии. Нечто впереди. Нечто совершенно неподвижное.
Боже праведный, нечто формой и размером с человека.
Том привез цветы из Лондона, небольшой букетик орхидей. Их было сложно найти, пришлось изрядно раскошелиться, и когда день сменился вечером, он пожалел о своем выборе. Орхидеи казались потрепанными, и он начал сомневаться, что магазинные цветы понравятся сестрам Юнипер больше, чем понравились бы ей самой. Еще он привез подаренное на день рождения варенье. Боже, он нервничал.
Посмотрев на часы, он решил больше этого не делать. Он безнадежно опаздывает. Исправить уже ничего нельзя; поезд остановили, он был вынужден искать другой автобус, а единственный, который направлялся на восток, уходил из соседнего города, поэтому ему пришлось бежать много миль по пересеченной местности, только чтобы выяснить, что рейс сегодня отменен. Этот автобус явился ему на замену через три часа, когда Том уже собирался отправиться пешком в надежде поймать попутную машину.
Он облачился в форму; через несколько дней ему предстояло вернуться на фронт, к тому же он привык к ней; но из-за переживаний тело затекло, и куртка сидела на плечах как-то странно. Еще он надел медаль, ту, которую ему вручили после канала Эско. Том испытывал к ней смешанные чувства… каждый раз, надевая ее, он вспоминал всех парней, которых они потеряли, отчаянно пробиваясь из преисподней; но, судя по всему, она много значила для других, например его матери, и он решил, что так будет лучше, учитывая, что ему предстоит первая встреча с родными Юнипер.
Ему было важно им понравиться, важно, чтобы все прошло как можно более гладко. Скорее ради нее, чем ради себя; двойственность Юнипер смущала его. Она часто говорила о сестрах и своем детстве, всегда с любовью. Слушая ее и вспоминая собственное мимолетное знакомство с замком, Том воображал идиллию, деревенскую фантазию, более того, нечто вроде волшебной сказки. И все же она долго не хотела приглашать его домой, становилась почти подозрительной при любом намеке на это.
А потом, всего две недели назад, Юнипер передумала с типичной внезапностью. Пока у Тома еще шла кругом голова оттого, что она приняла его предложение, она объявила, что они должны навестить ее сестер и вместе объявить новость. Ну конечно должны. И вот он здесь. Он знал, что почти прибыл на место, потому что автобус уже не раз останавливался, и большинство пассажиров вышли. Когда он выехал из Лондона, небо хмурилось, затянутое белой облачной пеленой, которая темнела по краям по мере приближения к Кенту, а сейчас полил дождь и дворники елозили по ветровому стеклу с убаюкивающим звуком, от которого Том провалился бы в сон, если бы меньше нервничал.
— Едете домой, да?
Он поискал в темноте человека, которому принадлежал голос, и увидел женщину на сиденье через проход. Лет пятидесяти — сложно точно сказать, — довольно доброе лицо, так могла бы выглядеть его мать, если бы жизнь обошлась с ней милосерднее.
— Навещаю подругу, — пояснил он. — Она живет на Тентерден-роуд.
— Подругу, говорите? — Женщина лукаво улыбнулась. — А может, зазнобу?
Том тоже улыбнулся, потому что отчасти она угадала, но тут же посерьезнел, потому что в главном ошиблась. Он собирался жениться на Юнипер Блайт, она не была его зазнобой. Зазноба — это девушка, с которой парень встречается во время отпусков, хорошенькая особа с надутыми губками, стройными ножками и пустыми обещаниями в письмах на фронт; любительница джина, танцулек и обжиманий в темноте.
Юнипер Блайт была совсем другой. Она станет его женой, он станет ее мужем; но Том знал, хоть и хватался за абсолютные ценности, что она никогда не будет принадлежать ему одному. Китс встречал женщин, подобных Юнипер. Когда он писал о деве на лугу, что шла навстречу с гор, о цветах в ее кудрях, летящем шаге и блестящем диком взоре,[56] он, верно, описывал Юнипер Блайт.
Соседка ожидала ответа. Том улыбнулся и произнес:
— Невеста.
Он насладился звучащим в слове обещанием надежности и в то же время поморщился от его неуместности.
— Ну надо же. Как мило. До чего приятно слышать хорошие новости в такие времена. Здесь, у нас познакомились?
— Нет… То есть да, но не по-настоящему. Мы встретились в Лондоне.
— В Лондоне. — Она одобрительно улыбнулась. — Иногда я навещаю там подругу, и когда в последний раз сошла с поезда на Чаринг-Кросс… — Она покачала головой. — Храбрый старый Лондон. Просто ужас, что с ним случилось. С вами и вашими родными все в порядке?
— Нам везет. Пока что.
— Долго сюда добирались?
— Выехал в двенадцать минут десятого утра. И попал в комедию ошибок.
Дама вздохнула.
— То встанут, то поедут. Толпы народу. Проверка документов… и все же вы здесь. Почти в конце путешествия. Погода, правда, подкачала. Надеюсь, вы захватили зонтик.
Не захватил; но он кивнул, улыбнулся и вернулся к своим мыслям.
Саффи взяла писательский дневник в хорошую гостиную. В других комнатах в этот вечер не топили камин, и, несмотря ни на что, изящное убранство комнаты по-прежнему доставляло ей скромное удовольствие. Она не любила огороженных пространств, и потому предпочла стол креслам. Убрала один из приборов. Аккуратно, стараясь не потревожить оставшихся трех… безумие, конечно, она это понимала, но крошечная ее часть продолжала цепляться за надежду, что сегодня они поужинают, все вчетвером. Она налила себе еще виски, села и раскрыла тетрадь на последней странице; внимательно прочла ее, освежая в памяти историю трагической любви Адели. Вздохнула, когда тайный мир ее книги приветственно распахнул объятия.
Оглушительный раскат грома заставил Саффи подпрыгнуть и напомнил, что она собиралась переписать сцену, в которой Уильям разорвал помолвку с Аделью.
Бедная, милая Адель. Ну конечно, ее мир рухнет во время грозы, когда сами небеса словно раскалываются на части! Все правильно. Все трагические моменты в жизни должны быть подчеркнуты разгулом стихий.
Гроза могла бы разразиться, но не разразилась, когда Мэтью разорвал помолвку с Саффи. Они сидели бок о бок на диванчике в библиотеке рядом с застекленными дверями, и солнце струилось им на колени. Прошло двенадцать месяцев после кошмарной поездки в Лондон, премьеры пьесы, темного театра, отвратительного чудовища, которое вылезло из рва и взобралось по стене, стеная от невыносимой боли… Саффи как раз налила две чашечки чая, когда Мэтью заговорил:
— Думаю, нам следует освободить друг друга от обязательств.
— Освободить?.. Но я не… — Она моргнула. — Ты больше не любишь меня?
— Я всегда буду любить тебя, Саффи.
— Тогда… почему?
Она переоделась в сапфировое платье, когда стало известно, что он придет. Это было ее лучшее платье; она носила его в Лондоне; ей хотелось, чтобы Мэтью восхищался ею, желал ее, пылал страстью, как в тот день у озера. Она почувствовала себя глупо.
— Почему? — выдохнула она, презирая слабость в своем голосе.
— Мы не можем пожениться; ты знаешь это не хуже меня. Как мы можем жить как муж и жена, если ты отказываешься покидать эти стены?
— Не отказываюсь; я не отказываюсь, я мечтаю уехать…
— Тогда поехали, поехали сейчас же…
— Я не могу… — Саффи поднялась. — Я же объясняла тебе.
И тогда с ним произошла перемена, горечь исказила его черты.
— Ну конечно не можешь. Если бы ты любила меня, ты бы поехала. Села в мой автомобиль, и мы бы умчались из этого жуткого, затхлого места. — Мэтью вскочил на ноги. — Поехали, Саффи! — В его лице не осталось и тени обиды. Он указал шляпой на начало подъездной дорожки, где находился его автомобиль. — Поехали. Давай уедем сейчас же, ты и я.
Ей хотелось повторить, что она не может, молить его понять, потерпеть, подождать, но она не стала этого делать. Ясность пришла мгновенно, словно чиркнули спичкой, и она осознала: никакие ее слова или поступки не заставят его понять. Ощутить калечащую панику, которая охватывала ее при попытке оставить замок; грозный и беспричинный страх, который запускал в нее когти, укутывал крыльями, выжимал воздух из легких, затуманивал зрение, делал пленницей в этом холодном темном месте, слабой и беспомощной, как дитя.
— Поехали. — Он взял ее за руку. — Поехали.
Это было сказано так нежно, что, сидя в хорошей гостиной замка шестнадцать лет спустя, Саффи ощутила эхо его слов, которое пробежало по позвоночнику и жарко угнездилось под юбкой.
Она невольно улыбнулась, хотя знала, что стоит на вершине исполинского утеса, внизу кружится темная вода и любимый мужчина просит позволить ему спасти ее, не понимая, что спасти ее невозможно, что противник сильнее его во сто крат.
— Ты прав, — кивнула она, шагая с утеса и падая вниз. — Нам следует освободить друг друга от обязательств.
Никогда больше она не видела Мэтью, равно как и кузину Эмили, которая выжидала подходящего момента, своего шанса; всегда мечтала о том, чего хотела сама Саффи.
Бревно. Всего лишь кусок плавника, смытый быстро набухающим потоком. Перси оттащила бревно на обочину, проклиная его тяжесть и сучок, который вонзился в плечо. То ли она испытывала облегчение, то ли смятение оттого, что поиски необходимо продолжить. Она собиралась пойти дальше по дорожке, когда ее что-то остановило. Странное ощущение, как-то связанное с сестрой-близнецом. Голова закружилась от дурного предчувствия. Как там Саффи, нашла себе занятие?
Перси в нерешительности постояла под дождем, посмотрела на дорогу у подножия холма, оглянулась на темную громаду замка.
Не совсем темную громаду замка.
В ночи сиял огонек, маленький, но яркий. Окно хорошей гостиной.
Проклятая ставня. Ну почему она не починила ее как следует?
Ставня окончательно решила дело. Не хватало только привлечь внимание мистера Поттса и его отряда местной обороны.
В последний раз обернувшись на Тентерден-роуд, Перси направилась к замку.
Автобус остановился у обочины и выпустил Тома. Лило как из ведра, и его букет проиграл борьбу за жизнь в тот же миг, когда очутился снаружи; юноша мгновение поразмыслил, что лучше — погубленные цветы или никаких цветов, и швырнул орхидеи в бурлящую канаву. Хороший солдат чует, когда пора трубить отступление; к тому же варенье все еще при нем.
Сквозь непроглядную сырую ночь он различил чугунные ворота и толкнул створку. Когда она со скрипом поддалась под его весом, он закинул голову к черному-пречерному небу. Закрыл глаза и позволил дождю беспрепятственно струиться по щекам; неприятно, но без плаща или зонта ему оставалось только капитулировать. Он опоздал, он промок, однако он здесь.
Закрыв за собой ворота, он перебросил вещмешок через плечо и пошел по дорожке. Боже правый, ну и темень. Затемнение в Лондоне — это одно, но в сельской местности, да еще при том, что непогода погасила все звезды, он словно пробирался сквозь смолу. Справа высилась какая-то громада, чуть чернее, чем окружающий ее мрак. Том знал, что это должен быть Кардаркерский лес. Поднялся ветер, и верхушки деревьев заскрежетали зубами, пока он наблюдал за ними. Он поежился и отвернулся, подумал о Юнипер, которая ждет его в теплом сухом замке.
Шаг за шагом он продвигался дальше. Завернул за поворот, преодолел мост, под которым неслась вода, а дорожка все не кончалась и не кончалась.
Зазубренная вспышка молнии — и Том в изумлении замер. Ему открылось великолепное зрелище. Мир купался в серебристо-белом свете… вздыбленная толпа деревьев, бледный каменный замок на холме, извилистая дорожка, которая бежала впереди через продрогшие поля… и местами исчезала во тьме. Отпечаток освещенного пейзажа сохранился перед глазами наподобие фотографического негатива, и Том понял, что не одинок среди мрака и сырости. Кто-то еще шел по дорожке перед ним: хрупкий, но мужеподобный силуэт.
Том лениво удивился, зачем кому-то выходить на улицу в подобную ночь; возможно, в замке ожидают еще одного гостя? Который тоже опоздал и тоже был застигнут дождем. Том воспрял духом и собирался было окликнуть товарища по несчастью… разве не лучше явиться на пару с другим долгожданным гостем? Однако убийственный раскат грома заставил его отказаться от этой мысли. Он прибавил ходу, ориентируясь на точку в темноте, где должен был стоять замок.
Лишь приблизившись, Том увидел его: едва заметный рельеф в темноте. Он нахмурился, моргнул и понял, что ему отнюдь не мерещится. Впереди сияла искра золотистого света, тонкий лучик в крепостной стене. Он представил, как Юнипер ждет его, подобно русалке из старинных историй, держит фонарь как маяк для застигнутого бурей возлюбленного. Исполненный пылкой решимости, он устремился на свет.
Пока Перси и Том пробираются сквозь дождь, в глубине замка Майлдерхерст все тихо. Высоко на чердаке лежит в тяжком забытье Юнипер; внизу в хорошей гостиной ее сестра Саффи, устав от сочинительства, откинулась на спинку кушетки и балансирует на грани сна. За ее спиной комната с потрескивающим камином; перед ней дверь, за которой — пикник у озера. Чудесный день в конце весны 1922 года, неожиданно теплый, небо синее, как первосортное венецианское стекло. Гости наплавались и теперь сидят на одеялах, пьют коктейли и едят изысканные сэндвичи.
Несколько молодых людей отделяются от остальных, и спящая Саффи следует за ними; в особенности ей интересна юная пара на заднем плане, парень по имени Мэтью и хорошенькая девушка шестнадцати лет по имени Серафина. Они знакомы с детства, он друг семьи ее странных кузин с севера, и потому папа признал его подходящим знакомством; столько лет они носились друг за другом по бескрайним полям, удили многие поколения форели в ручье, глазели на ежегодные костры в честь жатвы; но что-то между ними изменилось. В этот его визит она стала косноязычной; порой она ловит на себе его пристальный взгляд, и ее щеки теплеют в ответ. Со времени его приезда они обменялись не более чем тремя фразами.
Группа, за которой тянутся двое, останавливается; одеяла с экстравагантной небрежностью расстилаются под деревьями, откуда-то появляется укулеле,[57] вспыхивают сигареты и шутливая болтовня; юноша и девушка устраиваются с краю. Они не говорят и не смотрят друг на друга. Сидят и с нарочитым интересом разглядывают небо, птиц, солнечный свет, играющий в листве, но думают только о дюйме между ее коленом и его бедром. О пульсирующем электричестве, которое наполняет пространство. Шепчет ветер, листья кружатся по спирали, поет скворец…
Она ахает. Прикрывает ладонью рот, боясь, что кто-то услышал.
Кончики его пальцев едва коснулись ее ладони. Так легонько, что она могла бы не почувствовать, если бы ее внимание не было с математической точностью сосредоточено на расстоянии между ними, его головокружительной близости… В этот миг спящая сливается со своим юным двойником. Она больше не следит за влюбленными издали, а сидит по-турецки на одеяле, опершись на руки, и сердце колотится в груди со всей незапятнанной радостью и надеждами юности.
Саффи не смеет смотреть на Мэтью. Она быстро озирается по сторонам и изумленно понимает, что никто не заметил происходящего; маятник мира покачнулся, и все изменилось, но вокруг все осталось прежним…
Тогда она позволяет себе опустить взгляд, скользнуть им по руке, запястью, к ладони. Вот. Его пальцы. Его кожа на ее коже.
Она набирается мужества, чтобы поднять глаза, пересечь мостик, который он перекинул между ними, и позволить своему взгляду завершить путешествие, скользнуть по его ладони, через запястье, вверх по руке туда, где ее непременно ожидает его взгляд… но что-то отвлекает ее. Темное пятно на холме позади.
Ее отец, всегда чрезмерно внимательный, пошел за ними и теперь наблюдает с вершины холма. Она ощущает его взгляд, знает, что он направлен именно на нее; знает и то, что отец заметил прикосновение пальцев Мэтью к ее ладони. Она опускает глаза; ее щеки пылают, и в глубине живота что-то ворочается. Странно, но выражение папиного лица, его присутствие на холме донельзя обостряет ее чувства. Она понимает, что ее любовь к Мэтью — а ведь это именно любовь, сомнений нет — до странности схожа с ее страстью к отцу; ей хочется, чтобы ее ценили, покоряли, она отчаянно стремится показаться занятной и умной…
Саффи крепко спала на кушетке у камина, на коленях у нее лежал пустой бокал, на губах играла легкая сонная улыбка, и Перси с облегчением вздохнула. И на том спасибо; ставня сорвалась, нет ни следа того, что заставило Юнипер потерять память, но, по крайней мере, на домашнем фронте все спокойно.
Она сползла с подоконника, уцепилась за камни облицовки и, собравшись с духом, спрыгнула в сырость. Старый ров напитался дождем и быстро поднимался, вода стояла уже выше лодыжек. Так она и думала; нужны специальные инструменты, чтобы вернуть ставню на место.
Перси потащилась вдоль стены замка к кухонной двери, распахнула ее и ввалилась в дом, подальше от дождя. Контраст был поразительным. Теплая сухая кухня с ее ароматами жаркого и гудящим электрическим светом была воплощением домашнего уюта, и у Перси перехватило дыхание от желания стянуть промокшую одежду, резиновые сапоги и раскисшие носки и свернуться клубочком на коврике у плиты, оставив все, что надо сделать, несделанным. Уснуть с детской уверенностью в том, что обо всем позаботится кто-то другой.
Она улыбнулась, ухватила столь предательские мысли за хвост и отшвырнула в сторону. Не время мечтать о сне, тем более о том, чтобы свернуться клубочком на кухонном полу. Она усердно заморгала, когда капли покатились по лицу, и отправилась за ящиком с инструментами. Сегодня она приколотил ставню гвоздями, а при дневном свете починит как следует.
Сон Саффи перекрутился, как лента; место и время изменились, но центральный образ остался, как темный силуэт на сетчатке, если закрыть глаза, глядя на солнце.
Папа.
Саффи стала младше, ей двенадцать лет. Она поднимается по лестнице, с обеих сторон от нее каменные стены, и она постоянно оборачивается, ведь папа считает, что сиделки запретят ей приходить, если обо всем узнают. На дворе 1917 год, идет война; папа был в отъезде, но вернулся с фронта и, как твердят им бесконечные сиделки, с края гибели. Саффи поднимается по лестнице, потому что у них с папой новая игра. Тайная игра, по правилам которой она делится с ним своими страхами, и его глаза загораются от радости. Они играют в нее уже пять дней.
Внезапно действие сна переносится на несколько дней назад. Саффи больше не на холодной каменной лестнице, а в своей кровати. Она просыпается рывком. Одинокая и испуганная. Тянется к сестре-близнецу, как всегда, когда ей снится кошмар, но простыня рядом пустая и холодная. Все утро она бродит по коридорам, пытаясь заполнить дни, которые потеряли всякий смысл и значение, пытаясь убежать от кошмара.
А теперь она сидит, прислонившись спиной к стене, в комнатке под винтовой лестницей. Это единственное место, где она ощущает себя в безопасности. Звуки несутся вниз из башни, камни вздыхают и поют; она закрывает глаза и слышит его. Голос, шепчущий ее имя.
На единственное радостное мгновение ей кажется, что вернулась сестра. Но затем, сквозь дымку, она видит его. Он сидит на деревянной скамье у дальнего окна и держит трость на коленях. Папа, хоть и здорово изменившийся, больше не тот сильный молодой человек, который отправился на войну три года назад.
Он подзывает ее, и она не в силах отказать.
Она медленно ступает, остерегаясь его и новых призраков за его плечами.
— Я скучал по тебе, — говорит он, когда она приближается.
Его голос звучит настолько знакомо, что вся тоска, которую она сдерживала во время его отсутствия, подкатывает к горлу.
— Садись рядом, — велит он, — и расскажи мне, что тебя напугало.
И она рассказывает. Рассказывает ему все. О сне и о мужчине, который приходит за ней, страшном мужчине, живущем в иле.
Наконец Том добрался до замка и обнаружил, что это вовсе не фонарь. Огонек, на который он шел, путеводный маяк для застигнутых бурей моряков, на самом деле был электрическим светом, струившимся из окна одной из комнат замка. Том заметил, что ставня слетела с петель, нарушая затемнение.
Он предложит починить ее, когда окажется под крышей. Юнипер жаловалась, что все хозяйство держится на плечах ее сестер, которые лишились даже той скромной помощи, что была до войны. Том не слишком хорошо разбирался в механизмах, но вполне умел управляться с молотком и гвоздями.
Немного повеселев, он прошлепал по воде, стоящей в низине вокруг замка, и поднялся на переднее крыльцо. Мгновение помедлил у входа, проводя инвентаризацию. Его волосы, одежда и ноги были такими мокрыми, как будто он переплыл Ла-Манш, чтобы здесь очутиться, и вот он здесь. Он скинул вещмешок с плеча и заглянул внутрь в поисках варенья. Вот оно. Том вытащил стеклянную банку и поднес к глазам, провел пальцами по гладким бокам в поисках повреждений.
Все идеально. Возможно, у него началась полоса везения? Том с улыбкой попытался пригладить волосы, постучал в дверь и принялся ждать с банкой варенья в руке.
Выругавшись, Перси треснула ладонью по крышке ящика с инструментами. Господь милосердный, где этот чертов молоток? Она ломала голову, пытаясь вспомнить, где в последний раз его оставила. Надо было починить курятник Саффи; на подоконнике в желтой гостиной отошли планки; потом еще балюстрада на лестнице в башню… Перси толком не смогла бы ответить, когда положила молоток обратно в ящик, но была уверена, что сделала это. Она никогда не забывала о подобных вещах.
Черт побери.
Перси похлопала себя по бокам, просунула руку между пуговицами дождевика, запустила в карман брюк и с облегчением схватила кисет с табаком. Выпрямилась и разгладила листок папиросной бумаги, держа его подальше от капель, которые все еще стекали с ее рукавов, волос, носа. Она насыпала табак вдоль складки, лизнула и запечатала сигарету; покрутила цилиндрик между пальцев. Чиркнула спичкой, глубоко затянулась. Вдохнула восхитительный табачный дым, выдохнула разочарование.
Ей только пропавшего молотка не хватало. Помимо возвращения Юнипер, загадочной крови на ее блузке, новости о том, что она собирается замуж, не говоря уже о случайной встрече с Люси…
Перси снова затянулась, выдохнула и что-то смахнула с глаза. Саффи не нарочно, она не могла… она ничего не знает о Люси, о любви и утрате, которую пережила сестра. Перси позаботилась об этом. И все же возможно, что ее сестра-близнец услышала, увидела или непостижимым образом почувствовала нечто, чего не должна была. Но Саффи, несомненно, не из тех, кто станет напоминать Перси о ее несчастье. Ей лучше прочих известно, каково лишиться любви.
Шум. Перси затаила дыхание и напряженно прислушалась. Ничего не услышала. Она представила, как Саффи спит на кушетке и пустой бокал из-под виски балансирует у нее на коленях. Возможно, она шевельнулась, и бокал упал. Перси уставилась в потолок, подождала еще полминуты и решила, что продолжения не последует.
Времени стоять и оплакивать прошлое не было. Зажав сигарету губами, она продолжила копаться в инструментах.
Том снова постучал и поставил банку у двери, чтобы потереть руки друг о друга. Замок, уж верно, не маленький; кто знает, сколько времени требуется спуститься с верхнего этажа на нижний. Прошла минута или около того; он отвернулся от двери, следя, как дождь струится с карнизов, и удивляясь тому странному факту, что, стоя на крыльце в промокшей одежде, больше мерзнет, чем под проливным дождем.
Он посмотрел на землю и обратил внимание, что замок окружен кольцом воды. Однажды в Лондоне, когда они лежали в постели и он расспрашивал о замке, Юнипер рассказала, что когда-то в Майлдерхерсте был ров, отец приказал засыпать его после смерти первой жены.
— Наверное, от горя, — предположил Том.
Взглянув на Юнипер, он представил зияющий ужас, если утратит ее, и ясно понял, на что способно подвигнуть мужчину подобное горе.
— Не от горя, — возразила она, теребя кончик пряди. — Скорее от вины.
Ее слова озадачили его, но затем она улыбнулась, перекатилась и села на краю кровати; ее обнаженная спина была гладкой и прямо умоляла о прикосновении, и он забыл о возникшем недоумении. И вспомнил о нем только сейчас. Вины… в чем? Он сделал мысленную пометку выяснить позже, когда он познакомится с ее сестрами, когда они с Юнипер объявят новость, когда они останутся наедине.
Внимание Тома привлек треугольник света, сверкающий на водной поверхности. Он падал из окна со сломанной ставней. Том сообразил, что ее можно просто подвесить на сохранившуюся задвижку. Что, если попробовать прямо сейчас?
До окна невысоко. Он управится за пару минут. Ему не придется выходить на улицу чистым и высохшим, и он завоюет сердца сестер.
Усмехнувшись, Том оставил мешок у двери и снова шагнул под дождь.
С того момента, как Саффи устроилась спиной к потрескивающему огню в хорошей гостиной, ее сны несутся по спирали вдоль кругов, бегущих по поверхности ее сознания. И наконец она достигает центра. Неподвижной точки, из которой расходятся все сны и в которую возвращаются. Старое, знакомое место. Снилось ей тысячу раз, снилось с детства. Оно никогда не меняется, подобно старой кинопленке, которую перематывают назад и повторяют вновь и вновь. И сколько бы она не видела его, сон неизменно свежий, а ужас — кровоточащий, как всегда.
Сон начинается с ее пробуждения; она думает, что очнулась в реальном мире, но замечает странную тишину вокруг. Холодно, и Саффи одна; она съезжает по белой простыне и опускает ноги на деревянный пол. Няня спит в смежной комнатке; медленно, размеренно дышит, что должно означать безопасность, но в этом мире свидетельствует лишь о непреодолимом расстоянии.
Саффи медленно движется к окну. Ее тянет к нему.
Она забирается на книжный шкаф, подтыкает ночную рубашку вокруг колен, пытаясь защититься от внезапного смертельного холода. Касается запотевшего стекла и вглядывается в ночь…
Перси отыскала молоток. Это заняло немало времени и потребовало множества ругательств, но все же ее ладонь сомкнулась на гладкой деревянной рукоятке, отполированной за много лет разнообразного использования. Фыркнув со смесью ликования и разочарования, Перси выудила молоток из груды гаечных ключей и отверток и положила на пол рядом с собой. Открыла стеклянную банку с гвоздями и вытряхнула в руку с десяток. Поднесла один к свету, осмотрела и решила, что двух с половиной дюймов вполне достаточно; по крайней мере, до утра ставня продержится. Она сунула пригоршню гвоздей в карман дождевика, взяла молоток и направилась обратно через кухню к двери.
Начало вышло на редкость неудачным, что и говорить. Нога соскользнула с камня, и он упал в илистый ров, испытав немалое потрясение. Определенно, это не входило в его планы. Выругавшись, как солдат — которым он, разумеется, и был, — Том поднялся, вытер глаза тыльной стороной запястья и атаковал стену с еще большей решимостью.
«Никогда не отчаивайтесь! — кричал им командир, когда они с боем продирались сквозь Францию. — Никогда не отчаивайтесь!»
Наконец он добрался до подоконника. К счастью, между двумя камнями имелась выемка, из которой давным-давно высыпался известковый раствор, как раз подходящего размера, чтобы втиснуть ботинки. Из комнаты струился благословенный свет, и Том быстро прикинул, что починить ставню прямо сейчас не удастся.
Он так сосредоточился на ставне, что не обратил внимания на саму комнату. Сейчас же он посмотрел в окно и увидел поразительно теплую и уютную сценку. Хорошенькая женщина дремала у огня. Сначала он решил, что это Юнипер.
Затем женщина вздрогнула, ее лицо напряглось, и он понял, что это не Юнипер, а одна из ее сестер. Судя по описаниям Юнипер — Саффи, которая вырастила ее, заступив на место умершей матери, которая страдала от приступов паники и не могла покинуть замок.
Пока он наблюдал, она внезапно распахнула глаза, и он чуть не разжал пальцы от удивления. Женщина повернула голову к окну, и их взгляды встретились.
Перси заметила мужчину у окна, как только зашла за угол. Свет выхватывал темный силуэт, похожий на гориллу; незнакомец взобрался по стене, цепляясь за камни, и посмотрел в хорошую гостиную. Комнату, где спала Саффи. В груди Перси что-то заклокотало; всю жизнь она считала своим долгом охранять сестер и потому покрепче сжала деревянную рукоятку молотка. С натянутыми нервами она побежала к мужчине сквозь дождь.
Возникнуть за окном, как вымазанный илом вуайерист, — совсем не то впечатление, которое он надеялся произвести на сестер Юнипер.
Но Тома уже увидели. Он не мог просто спрыгнуть и спрятаться, сделать вид, что ничего не произошло. Он неуверенно улыбнулся, поднял руку, чтобы помахать, дать знать о своих добрых намерениях, но тут же уронил ее, когда сообразил, что она вымазана в иле.
О боже. Женщина стояла и не улыбалась.
Она направилась к нему.
В глубине души он понимал, несмотря на унижение, что этому моменту суждено стать любимым анекдотом благодаря самой своей абсурдности: «Помните ночь, когда мы познакомились с Томом? Он появился за окном, весь в иле, и помахал мне рукой!»
Но до этого еще далеко. Пока что ему остается лишь ждать; пока она идет к нему, медленно, почти как во сне, и немного дрожит, словно ее терзает такой же адский холод, как и его под дождем.
Она потянулась к задвижке окна, он попытался подобрать нужные фразы, а затем она что-то схватила с подоконника.
Перси застыла как вкопанная. Мужчина исчез. Прямо у нее на глазах он свалился на землю. Она подняла глаза и увидела в окне трясущуюся Саффи, которая крепко сжимала в руках гаечный ключ.
Резкий треск. Интересно, что это? Движение, его собственное, внезапное и неожиданное.
Падение.
Что-то холодное и мокрое у лица.
Звуки. Может, это птицы? Крики, визг. Он вздрогнул и ощутил привкус ила. Где он? Где Юнипер?
Капли дождя колотили его по голове, и он чувствовал каждую каплю в отдельности, словно музыку, перебор струн, сложную мелодию. Они были прекрасны, и он удивился, что не замечал этого прежде. Отдельные капли, совершенные, все до единой. Небо роняет их, они впитываются в землю, чтобы слиться в реки и наполнить океаны, чтобы людям, животным, растениям было что пить… Все так просто.
Он вспомнил грозу, в которую попал еще мальчиком, когда отец был жив. Том испугался. Было темно, гремел гром, и он спрятался под столом на кухне. Он плакал, жмурился и сжимал кулаки. Он ревел так отчаянно, страх так стенал в его ушах, что он не заметил, как отец вошел в комнату. Внезапно гигантский медведь подхватил Тома огромными лапами, прижал к груди и заверил, что все хорошо, и кисло-сладкий запах табака в его дыхании отогнал беды прочь. В устах отца эти слова прозвучали как заклятие. Обещание. И Том больше не боялся…
Куда подевалось варенье?
Варенье — это очень важно. Мужчина из полуподвальной квартиры сказал, что это его лучшая партия; что он сам собрал ежевику и много месяцев копил выдаваемый по карточкам сахар. Но Том не мог вспомнить, куда подевалась банка. Он знал, она была у него. Он привез ее из Лондона в сумке, а потом вынул и поставил на землю. Он забыл ее под столом? Когда он прятался от дождя, банка с вареньем была у него? Наверное, надо выбраться отсюда и поискать. Придется, ведь варенье — подарок. Сейчас он встанет и поищет, а после посмеется над тем, что едва не потерял банку. Вот только немножко отдохнет.
Он устал. Ужасно устал. Путешествие получилось таким долгим. Грозовая ночь, утомительный подъем по дорожке, целый день поездов, автобусов и опозданий, но самое главное, что путешествие привело его к ней. Он так много преодолел; он так много читал, преподавал, мечтал, желал и надеялся. Вполне естественно, что ему нужно отдохнуть, он только на минутку закроет глаза и расслабится; совсем ненадолго, чтобы быть готовым, когда они вновь встретятся…
Том закрыл глаза, и перед ними вспыхнули мириады крошечных звездочек, они мерцали, кружились, и ему хотелось одного: смотреть на них. Ему казалось, что самое желанное на свете — лежать и смотреть на эти звезды. Так он и сделал; наблюдал, как они кружат и осыпаются, и гадал, сможет ли когда-нибудь добраться до них, протянуть палец и поймать звезду; вдруг он заметил, что среди них что-то прячется. Лицо, лицо Юнипер. Его сердце расправило крылья. Выходит, его путь завершен. Она совсем рядом, наклоняется, кладет ладонь ему на плечо, тихонько шепчет что-то на ухо. Слова, которые описывали все это так замечательно, что когда он попытался их ухватить, повторить, они пролились водой между пальцев, и звезды сияли у нее в глазах, и звезды сияли у нее на губах, и маленькие искрящиеся огоньки сверкали у нее в волосах; и он больше не мог ее слышать, хотя ее губы шевелились, и звезды подмигивали, потому что она таяла, растворялась во мраке; и он тоже таял.
— Джун… — пробормотал он, когда задрожали последние крошечные огоньки и погасли один за другим, когда густой ил забил его горло, нос и рот, когда дождь стучал по его голове, когда легкие разрывались от нехватки воздуха; он улыбнулся, когда ее нежное дыхание коснулось его шеи…
Юнипер внезапно очнулась с пульсирующей головой и землистым привкусом во рту после неестественного сна. В глаза словно насыпали песка. Где она? Вокруг темно, как ночью, но откуда-то сочится слабый свет. Она моргнула и увидела высоко над головой потолок. Его отметины и балки казались знакомыми и в то же время как будто неправильными. Что-то было не так. Что случилось?
Определенно что-то случилось; она чувствовала это. Но что?
Я не помню.
Она повернула голову… медленно… чтобы перекатился ворох незакрепленных безымянных предметов. Изучила пространство в поисках улик; ничего не заметила, кроме пустой простыни, заставленной полки и тонкой полоски света, которая тянулась из-за приоткрытой двери.
Юнипер узнала место. Это чердак в Майлдерхерсте. Она лежала в собственной постели, в которой не лежала очень давно. Она жила на другом чердаке, залитом солнцем, совсем не таком, как этот.
Я не помню.
Рядом никого нет. Мысль пришла с такой ясностью, словно она прочла ее черным по белому; пустота была болью, ноющей раной. Она думала, что рядом кто-то будет. Мужчина. Она думала, что рядом будет мужчина.
Затем последовала странная волна дурных предчувствий; провал в памяти — привычное дело, но было что-то еще. Юнипер заблудилась в темном шкафу своего сознания; хотя вокруг было темно, ее переполняла уверенность, невыносимый страх, что вместе с ней в шкафу заперто нечто ужасное.
Я не помню.
Закрыв глаза, она напряженно прислушалась в поисках каких-либо подсказок. Лондонская суета осталась далеко позади: автобусы, люди на улице, бормотание, доносящееся из соседних квартир; но вены дома стонали, камни вздыхали, и был еще один постоянный звук. Дождь… легкий стук дождя по крыше.
Она распахнула глаза. Она помнила дождь.
Помнила, как остановился автобус.
Помнила кровь.
Не обращая внимания на боль в голове, Юнипер резко села, сосредоточившись на этом факте, легком проблеске света, воспоминания. Она помнила кровь.
Но чью кровь?
Страх пошевелился, расправил крылья.
Ей нужен воздух. Чердак внезапно показался затхлым, теплым, сырым и вязким.
Она опустила ноги на деревянный пол. Вещи, ее вещи валялись повсюду, но она не ощущала связи с ними. Кто-то попытался расчистить пространство, проход через хаос.
Она встала. Она помнила кровь.
Почему она посмотрела на свои руки? Так или иначе, она отшатнулась. На них что-то было. Она быстро провела руками по рубашке, и жест породил под кожей рябь узнавания. Она поднесла ладони к лицу, и отметины испарились. Тени. Это были всего лишь тени.
Со смущением и облегчением она, шатаясь, подошла к окну. Отдернула штору затемнения и подняла раму. Легкая прохладная пленка свежего воздуха коснулась ее щек.
Ночь была безлунной и беззвездной, но Юнипер не нуждалась в свете, ей было известно, что находится за окном. Мир Майлдерхерста наседал на нее. Невидимые животные дрожали в подлеске, ручей Роувинг смеялся среди деревьев, где-то вдали стенала птица. Куда прячутся птицы во время дождя?
Но было что-то еще, под самым окном. Огонек, догадалась она, фонарь, повешенный на палку. Кто-то под дождем трудится на кладбище домашних животных.
Перси.
Перси держит лопату.
Копает.
Что-то лежит перед ней на земле. Груда. Большая. Неподвижная.
Перси отступила в сторону, и Юнипер широко распахнула глаза. Они выстрелили посланием в ее осажденный мозг, и в темном шкафу замерцал свет, всего на мгновение озарив тот кошмар, который там таился; зло, которое она почувствовала, но не увидела, которое наполнило ее страхом. Теперь она увидела его, она назвала его, и ужас пронзил каждый нерв ее тела. «Ты такая же, как я», — сказал папа, прежде чем поведать свою жуткую историю…
Электричество перегорело, и свет погас.
Чертовы руки. Перси подняла с пола кухни упавшую сигарету, зажала в губах и чиркнула спичкой. Она рассчитывала, что привычное действие придаст ей решимости, но надежды оказались тщетными. Ее рука дрожала, как листок на ветру. Пламя погасло, и она попыталась снова. Она изо всех сил сосредоточилась на том, чтобы крепко держать проклятую спичку, пока та шипит и занимается и вспыхивает пламя, на том, чтобы поднести ее к кончику сигареты. Ближе, ближе, ближе… что-то привлекло ее внимание, темное пятно на внутренней стороне запястья: она вздрогнула и выронила коробок со спичками и огонек.
Спички рассыпались по каменным плитам; она опустилась на колени и начала их собирать одну за другой, плотно укладывая в коробок. Перси не торопилась, растворилась в простой задаче, завернулась в нее, как в плащ, и застегнула все пуговицы.
На ее запястье ил. Всего лишь ил. Небольшое пятнышко, которое она пропустила, когда вошла в дом; когда у раковины стирала ил с ладоней, лица, предплечий, терла, пока не испугалась, что кожа начнет кровоточить.
Перси взяла спичку большим и указательным пальцами. Долго завороженно на нее смотрела. Спичка снова упала на пол.
Он был тяжелым.
Прежде она уже поднимала тела, вместе с Дот; они вытаскивали людей из разбомбленных домов, загружали в машины скорой помощи, ехали и снова несли. Она знала, что мертвые весят больше, чем их выжившие товарищи. Но это совсем другое дело. Он был тяжелым.
Перси поняла, что он мертв, как только вытащила его из рва. Сложно было понять, в чем причина, в ударе или в нескольких дюймах грязной воды, в которую он упал. Но он точно был уже мертв. Она все равно попыталась его оживить, инстинктивно, больше в силу шока, чем надежды; она испробовала все, чему ее научили в скорой помощи. Шел дождь, чему она была рада, поскольку могла не замечать проклятые слезы, когда те осмеливались течь.
Его лицо.
Она закрыла глаза, зажмурила веки, но все равно его видела. Знала, что будет видеть всегда.
Она ударилась лбом о колено, и реальность прикосновения даровала облегчение. Твердость коленной чашечки, ее прохладная несомненность вселяла силы, когда она прижимала к ней горячую, идущую кругом голову; почти как контакт с другим человеком, более спокойным, чем она, более взрослым, мудрым и приспособленным для задач, которые ожидали ее впереди.
Ведь еще многое предстояло сделать. Еще многое, не считая того, что она уже сделала. Наверное, необходимо написать письмо, известить его родных; но что сказать им? Правду говорить нельзя. Все зашло слишком далеко. Было мгновение, когда она балансировала на кончике иглы и могла поступить иначе, позвонить инспектору Уоткинсу и выложить все начистоту, но она удержалась. Никакие слова не могли объяснить, что Саффи ни в чем не виновата. И потому необходимо послать письмо родным парня. Перси не обладала даром к сочинительству, но нужда заставит, она что-нибудь придумает.
Послышался шум, и она подскочила. На лестнице кто-то был.
Собравшись с силами, Перси провела ладонью по мокрым щекам. Злясь на себя, на него, на весь мир. Но только не на свою сестру-близнеца.
— Я уложила ее обратно в постель, — сообщила Саффи, входя в дверь. — Ты была права, она снова встала и ужасно… Перси?
— Я здесь, — отозвалась Перси; ее горло болело от напряжения.
Голова Саффи появилась над краем стола.
— Что ты здесь… Ах, милая. Дай я помогу тебе.
Сестра присела рядом на корточки, собирала спички и запихивала в коробок. Перси спрятала за спиной незажженную сигарету и спросила:
— Значит, она вернулась в кровать?
— Да, вернулась. Она проснулась… наверное, таблетки не такие сильные, как мы думали. Я дала ей еще одну.
Перси вытерла пятно ила с запястья и кивнула.
— Она была в ужасном состоянии, бедная крошка. Я постаралась заверить ее, что все наладится, что молодой человек всего лишь задержался и приедет завтра. Ведь так все и будет, правда, Перси? Он приедет? Перси? Что случилось? Почему ты так смотришь?
Перси покачала головой.
— Ты пугаешь меня, — забеспокоилась Саффи.
— Ну конечно он приедет. — Перси положила ладонь на плечо сестры. — Ты права. Надо просто немного подождать.
Саффи явно стало легче. Она протянула сестре полный коробок спичек и кивнула на сигарету в ее руке.
— Вот, держи; они понадобятся тебе, если ты планируешь выкурить это.
Она поднялась и расправила слишком тесное зеленое платье. Перси подавила желание разорвать коробок в клочья, заплакать, завыть, растоптать проклятый коробок.
— Разумеется, ты права, — продолжала Саффи. — Надо просто подождать. Юнипер станет легче к утру. Вот уж точно, утро вечера мудренее. А я, пожалуй, уберу пока со стола.
— Да, так будет лучше.
— Конечно. Что может быть печальнее, чем стол, накрытый для ужина, который так и не состоялся?.. О боже! — Саффи стояла у двери и смотрела вниз на беспорядок. — Что здесь случилось?
— Это моя оплошность.
— Что… — Саффи подошла ближе. — Это похоже на варенье, целую банку. Какая жалость!
Перси нашла варенье у передней двери, когда возвращалась с лопатой. К тому времени ярость грозы уже иссякла, тучи начали расходиться, и несколько энергичных звездочек пробилось сквозь покрывало ночи. Сначала она заметила его вещмешок, потом банку варенья рядом.
— Если ты голодна, Перси, может, принести тебе немного кролика? — предложила Саффи, наклоняясь и сметая осколки.
— Я не голодна.
Когда Перси вернулась в дом, она села за кухонный стол, поставила на него варенье и мешок и уставилась на них. Прошла целая вечность, прежде чем мозг передал руке команду открыть мешок и посмотреть, кому он принадлежал. Разумеется, она не сомневалась, что похоронила именно его, но удостовериться не мешало. Дрожащими пальцами, с колотящимся, точно хвост мокрого пса, сердцем, она потянулась к мешку, уронив банку на пол. Расточительство. Какое расточительство.
Мешок был полупустым. Смена белья, бумажник с мелочью, без адреса, кожаная записная книжка. Именно в ней Перси и нашла письма. Одно от Юнипер, которое так никогда и не сумела открыть, другое от парня по имени Тео, брата Тома, как она поняла по ходу чтения.
Потому что второе письмо она прочла. Позволила себе погрузиться в жуткое сознание того, что читает письмо мертвеца, узнает о его семье больше, чем ей бы хотелось, — о матери-вдове, сестрах и их малышах, простаке-брате, которого все нежно любят. Она заставила себя прочесть каждое слово дважды; в голове почти сформировалась мысль, что, наказывая себя подобным образом, она отчасти может загладить вину. Глупая мысль. Невозможно искупить случившееся. Разве что честным признанием.
Но разве она может написать им правду? Разве они поймут, как это произошло, что это был несчастный случай, ужасный несчастный случай, а вовсе не проступок Саффи? Что Саффи, бедняжка Саффи меньше всех на свете способна причинить вред другому человеку. Что она тоже была погублена; что, несмотря на свои мечты о Лондоне, замысловатые планы побега из замка (она думает, что Перси не в курсе), она не может выйти за пределы Майлдерхерста после той первой истерики в театре; что если кто-то и виновен в смерти юноши, так это их отец, Раймонд Блайт.
Нет. Люди никогда не смогут разделить мироощущение Саффи. Им неизвестно, каково расти в тени проклятой книги. Перси испытала нестерпимую горечь при мысли о жутком наследии «Слякотника». То, что стряслось сегодня ночью, вред, который невольно причинила бедняжка Саффи, — последствие действий отца. В детстве он читал им Мильтона: «Но зло само себя ударит рикошетом»;[58] Мильтон прав, ведь они до сих пор расплачиваются за совершенное отцом злодеяние.
Нет. Честного признания не будет. Она напишет его семье что-нибудь другое, по адресу, который находился в мешке: Хеншо-стрит, Лондон. Сам мешок она уничтожит, а если не уничтожит, то спрячет. Возможно, архивная комната подойдет для этого как нельзя лучше… Какая же она сентиментальная дура: похоронить человека, но не суметь выбросить его личные вещи… Истина и ее сокрытие навсегда станут бременем Перси. Что бы еще папа ни сотворил, в одном он был прав: ее долг оберегать остальных. И она позаботится о том, чтобы они никогда больше не расставались.
— Ты пойдешь наверх, Перси? — спросила Саффи; она убрала варенье и стояла с кувшином воды в руках.
— У меня еще пара дел внизу. Надо заменить батарейки в фонарике…
— Тогда я отнесу это Юнипер. Бедняжка хочет пить. До встречи!
— Я загляну по дороге наверх.
— Не задерживайся, Перси.
— Не стану. Я скоро.
Саффи помедлила у подножия лестницы, повернулась к Перси, мягко и немного тревожно улыбнулась и произнесла:
— Теперь нас трое. Уже неплохо, да, Перси? Нас снова трое.
Остаток ночи Саффи провела на стуле в комнате Юнипер. У нее затекла шея, и она замерзла, несмотря на одеяло, наброшенное на колени. Но она не ушла; ее не соблазнила собственная теплая кровать внизу, ведь она была нужна здесь. Саффи иногда казалось, что счастливейшие мгновения ее жизни — мгновения заботы о Юнипер. Ей хотелось бы иметь своих детей. Ей бы очень этого хотелось.
Юнипер пошевелилась, и Саффи немедленно вскочила и погладила влажный лоб младшей сестры, задумавшись, какие туманы и демоны там кишат.
Кровь на ее блузке.
Да, это и вправду повод для тревоги, но Саффи не желала о нем размышлять. Не сейчас. Перси все устроит. Слава богу, у них есть Перси. Ремонтник Перси, которая всегда прекрасно знает, что делать.
Юнипер успокоилась, глубоко задышала, и Саффи присела. Натруженные за день ноги гудели, она испытывала непривычную усталость. И все же она не хотела спать; сегодня выдалась ночь странных грез. Напрасно она приняла папину пилюлю; ей приснился на редкость отвратительный сон, когда она задремала в гостиной. Он преследовал ее с самого детства и на этот раз был таким ярким. Конечно, все дело в таблетке, и виски, и вечернем расстройстве, в грозе на улице. Она снова была девочкой, одна на чердаке. Что-то разбудило ее во сне, шум у окна, и она пошла посмотреть. Мужчина, который цеплялся за камни снаружи, был черным, как сургуч, как головешка. Вспышка молнии, и Саффи увидела его лицо. Красивое, живое, молодое лицо под чудовищной маской Слякотника. Он удивился, на губах заиграла улыбка. Именно таким он снился ей в юности, именно таким описал его папа. Даром Слякотника было его лицо. Саффи что-то схватила, она не помнила что, и с силой ударила чудовище по голове. Его глаза изумленно распахнулись, и он упал. Скользнул по камням вниз, в самый низ, в ров, из которого выполз.
В ту же ночь в соседней деревне женщина прижимает к груди новорожденное дитя, проводит большим пальцем по персиковой щечке крохи. Ее муж приедет домой через много часов, устав после ночного дежурства, и женщина, все еще потрясенная внезапными и тяжелыми родами, сообщит ему за чаем подробности: схватки в автобусе, боль, внезапная, пронзительная боль, кровотечение и дикий страх, что ее ребенок умрет, что она умрет, что она никогда не возьмет на руки своего новорожденного сына; затем она устало, нежно улыбнется и умолкнет, чтобы промокнуть жаркие слезы, и расскажет мужу об ангеле, который появился рядом с ней на обочине, опустился на колени и спас жизнь ее малышу.
Это станет семейной историей, которую будут повторять, передавать, воскрешать дождливыми ночами у огня, мирить с ее помощью спорщиков, декламировать на семейных торжествах. И время помчится вперед, месяц за месяцем, год за годом, десятилетие за десятилетием, пока на полувековом юбилее сына его овдовевшая мать не услышит из мягкого кресла в конце ресторанного стола, как внуки произносят тост и семейную историю об ангеле, который спас жизнь их отца и без которого ни один из них не появился бы на свет.
Томас Кэвилл не отправился со своим полком на бойню в Северной Африке. Он уже был мертв. Мертв и погребен, холоден как лед под землей замка Майлдерхерст. Он умер, потому что ночь была сырой. Потому что ставня сорвалась. Потому что хотел произвести хорошее впечатление. Он умер, потому что много лет назад ревнивый муж обнаружил свою жену в объятиях другого мужчины.
Но долгое время никто не знал об этом. Гроза утихла, вода спала, и крылья Кардаркерского леса заботливо укрыли замок Майлдерхерст. Мир забыл о Томасе Кэвилле, все вопросы о его судьбе были похоронены под разрушениями и обломками войны.
Перси послала письмо, последнюю, прогнившую ложь, которая будет преследовать ее до конца дней; Саффи отклонила предложение места гувернантки — она была нужна Юнипер и не могла поступить иначе. Самолеты пролетели над головой, война закончилась, небо проливалось год за годом. Сестры Блайт старели; жители деревни слагали легенды о чудаковатых старушках. Пока однажды их не навестила молодая женщина. Она была связана с той, что приезжала до нее, и камни замка узнали ее и зашептались. Перси Блайт поняла: время пришло. Она вправе избавиться от бремени, которое несла пятьдесят лет, и вернуть Томасу Кэвиллу его дату смерти. Положить конец этой истории.
Так она и сделала, поручив девушке все исправить.
А значит, оставалась всего одна, последняя задача.
Она собрала сестер, своих любимых сестер, и подождала, пока те крепко уснут. И затем чиркнула спичкой в библиотеке, где когда-то все началось.
Чердак десятилетиями использовался под склад. Сплошные коробки, старые стулья и забытые оттиски. В здании расположен издательский дом, и слабый запах бумаги и чернил пропитал стены и пол. Он довольно приятный, если вам по вкусу подобные вещи.
На дворе 1993 год; ремонт занял месяцы и наконец завершен. Беспорядок расчищен, стена, которую кто-то когда-то воздвиг, чтобы превратить один пронизанный сквозняками чердак в два, снесена, и впервые за пятьдесят лет чердак викторианского дома Герберта Биллинга в Ноттинг-Хилле обрел нового жильца.
Стук в дверь; девушка спрыгивает с подоконника. Это на редкость широкий подоконник, на нем очень удобно сидеть, что она и делала. Ее тянет к окну. Квартира выходит на юг, так что в ней всегда солнечно, особенно в июле. Девушке нравится смотреть на сад и на улицу и кормить воробьев, которые повадились навещать ее в поисках крошек. Ей не дают покоя странные темные пятна на подоконнике, напоминающие пятна от вишен, которые не сумел скрыть даже свежий слой белой краски.
Эди Берчилл открывает дверь и с удивлением и удовольствием видит свою мать. Мередит протягивает ей веточку жимолости со словами:
— Я заметила, что она растет на изгороди, и не удержалась. Ничто не оживляет комнату лучше жимолости. У тебя найдется ваза?
У Эди пока нет вазы, зато есть идея. Во время ремонта обнаружилась стеклянная банка, в которой когда-то хранили варенье.
Сейчас она стоит рядом с раковиной. Эди наполняет банку водой и водружает жимолость на подоконник, на солнце.
— Где папа? — спрашивает она. — Почему он не пришел с тобой?
— Он знакомится с Диккенсом. Читает «Холодный дом».
— А, ну отлично, — откликается Эди. — Боюсь, он не скоро вернется.
Мередит достает из сумки стоику бумаги и трясет над головой.
— Ты закончила! — хлопает Эди в ладоши.
— Закончила.
— И это мой экземпляр?
— Я специально переплела его.
Эди улыбается и забирает у матери рукопись.
— Поздравляю… ты настоящая героиня!
— Я думала подождать до завтра, — краснеет Мередит, — но не утерпела. Хотела, чтобы ты первая прочитала.
— Еще бы! Когда твои курсы?
— В три.
— Я выйду с тобой. Загляну в гости к Тео.
Открыв дверь, Эди придерживает ее перед матерью. Она собирается отправиться следом, но кое-что вспоминает. Вечером она встречается с Адамом Гилбертом, чтобы отпраздновать за бокалом вина публикацию «Слякотника» «Пиппин букс», и обещала показать ему первое издание «Джейн Эйр», подаренное Гербертом, когда она согласилась вступить во владение «Биллинг энд Браун».
Она быстро оборачивается и долю мгновения видит две фигуры на подоконнике. Мужчина и женщина сидят так близко, что едва не соприкасаются лбами. Эди моргает, и фантом исчезает. Остается только залитый солнечным светом подоконник.
Это не впервые. Время от времени на периферии ее зрения что-то мелькает. Эди знает: это всего лишь игра света на побеленных стенах, но она любит фантазировать и воображает, что это нечто большее. Что в ее новой квартире когда-то жила счастливая пара. Что это они запятнали подоконник вишнями. Что это их счастье пропитало стены квартиры.
Ведь все, кто навещает ее, говорят одно и то же: в комнате царит добрый дух. Что правда; Эди, не может это объяснить, но на чердаке действительно царит добрый дух; это счастливое место.
— Ты идешь, Эди?
Мередит просовывает голову в дверь. Она боится опоздать на писательские курсы, которые так любит.
— Иду!
Эди хватает «Джейн Эйр», бросает взгляд в маленькое зеркало над фарфоровой раковиной и бежит за матерью.
Дверь закрывается за ней, вновь оставляя призрачных любовников в тишине и тепле.
Мои искренние благодарности всем, кто читал и комментировал ранние черновики «Далеких часов», в особенности Дэвину Паттерсону, Ким Уилкинз и Джулии Кретчмер; моей подруге и агенту Сельве Энтони за безмерную заботу; Дайан Мортон за молниеносную вычитку последних страниц; и всей моей семье — Мортонам, Паттерсонам и особенно Оливеру и Луи — и друзьям за то, что позволяли мне так часто сбегать в замок Майлдерхерст и терпели меня, когда я спускалась с холма, потрясенная, смущенная, а порой и чуточку не в себе.
Мне выпало счастье работать с блестящей редакторской командой континентального масштаба, и я хотела бы искренне поблагодарить за неустанную работу и бесконечную поддержку в своевременном доведении «Далеких часов» до печати Анетт Барлоу и Клару Финлей из «Аллен энд Анвин», Австралия; Марию Рейт, Илая Драйдена и Софи Орм из «Пан Макмиллан», Великобритания; Лиз Ковен, обширные познания которой не перестают меня удивлять. И еще огромное спасибо Лизе Кейм, Джудит Керр и сотрудникам «Атриа», США, и всем моим издателям за неизменную преданность мне и моим книгам.
Спасибо также Роберту Горману из «Аллен энд Анвин» за неравнодушие; Сэмми и Саймону из «Бук-хаус», которые были невероятно терпеливы со мной и дотошны при типографском наборе романа; Клайву Харрису, который показал мне, что в Лондоне до сих Пор можно найти следы немецких бомбардировок, если знать, где искать; художникам и дизайнерам, которые создали такие красивые обложки для «Далеких часов»; книгопродавцам и библиотекарям всего мира за понимание того, что книги — не обычный товар. Также посвящается памяти Герберта и Риты Дэвис.
И конечно, огромное спасибо вам, мои читатели. Без вас я получила бы вдвое меньше удовольствия.
«Далекие часы» начались с простой идеи о сестрах, живущих в замке на холме. Дальнейшее вдохновение я черпала из множества источников, в том числе иллюстраций, фотографий, карт, стихотворений, дневников, социологических журналов «Мнение масс», интернет-свидетельств очевидцев Второй мировой войны, выставки «Война глазами детей» Имперского военного музея, своих собственных визитов в замки и усадьбы, романов и фильмов тридцатых и сороковых годов, историй о привидениях и готических романов восемнадцатого и девятнадцатого столетий.
1
Берменси — часть Лондона на южном берегу Темзы. (Здесь и далее прим. переводчика.).
2
«Кэрри» (1976) — экранизация одноименного романа Стивена Кинга.
3
Фунтовый кекс — традиционный кекс, в рецептуру которого входит по одному фунту муки, масла, яиц и сахара.
4
Ромни-Марш — малонаселенные болотистые низины в Кенте и Восточном Суссексе.
5
Камышница — небольшая водоплавающая птица семейства пастушковых.
6
Национальный трест — британская организация по охране исторических памятников, достопримечательностей и живописных мест.
7
Флит-стрит — улица в Лондоне, где до недавнего времени располагались редакции главных британских газет.
8
Уилд — прежде поросшая лесом область на юго-востоке Англии.
9
Средник — средний поперечный брусок в оконных рамах или дверях.
10
Лерчер — непризнанная порода собак, помесь борзых и каких-либо пастушьих собак, часто колли.
11
Перевод В. Голышева.
12
Все вместе (фр.).
13
Вултон Фредерик Джеймс (1883–1964) — в 1940–1943 гг. министр продовольствия Великобритании.
14
Филдс Грейси (1898–1979) — английская певица и комедийная актриса.
15
«Практическое котоведение» — сборник детских стихов Т. С. Элиота, по мотивам которого поставлен мюзикл «Кошки».
16
Браун Маргарет (1867–1932) — американская светская дама и филантропка. Во время крушения «Титаника» помогала усаживать других пассажиров в шлюпки. Оказавшись на спасательном судне, составляла списки пассажиров, искала теплые вещи и собирала средства для выживших. Репортеры прозвали ее «непотопляемой Молли Браун».
17
Холидей Билли (1915–1959) — американская джазовая певица.
18
Цитата из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла (перевод Н. Демуровой).
19
Дарджилинг — престижный сорт черного чая, «чайное шампанское».
20
Чешуйницы — бескрылые насекомые, живущие во влажных темных местах, питаются, в частности, бумагой и книжными переплетами.
21
Инди (от англ. independent — «независимый») — течение современной культуры, отрицающее все массовое и популярное.
22
Чиппи — небольшое кафе, где подают рыбу с картофелем.
23
«Мотаун» — американская звукозаписывающая компания.
24
Бинго — азартная игра типа лото; популярна среди пожилых и одиноких людей, особенно женщин.
25
«Supremes» (1959–1977) — американская девичья группа; считается самым успешным американским музыкальным коллективом 1960-х и самой успешной женской группой.
26
Гэй Марвин (1939–1984) — американский музыкант, «князь Мотауна»; стоял у истоков современного ритм-энд-блюза.
27
Росс Дайана (р. 1944) — популярная американская певица, в 1960-х участница группы «Supremes». В начале 1970-х начала сольную карьеру.
28
«Temptations» — американская мужская группа, одна из самых успешных, работавших под лейблом «Мотаун».
29
«Шарканье в горячих туфлях» (1992) — австралийский мюзикл.
30
«Поллианна» (1913) — роман Элеонор Портер, главная героиня которого, одиннадцатилетняя девочка, отличается безудержным оптимизмом.
31
«Остролист и плющ» (1952) — английская рождественская мелодрама.
32
Полуторагодовалый сын прославленного американского летчика Чарльза Линдберга был похищен 1 марта 1932 года и убит спустя несколько часов. Трагедия стала сенсацией.
33
Юнипер переводится с английского как «можжевельник».
34
Йоркширский пудинг — жидкое пресное тесто, которое запекается под куском мяса и впитывает стекающий сок и растопленный жир.
35
Уайтхолл — улица в Лондоне, на которой расположены правительственные учреждения.
36
Притчи Соломона 16:18.
37
«Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь» — поэма неизвестного автора XIV века.
38
Порошок Китинга — средство от насекомых, популярное в Англии в XIX и начале XX в.
39
Битва за Англию — воздушные бои над территорией Великобритании в 1940–1941 гг.
40
Бомбоубежище Андерсона — семейное бомбоубежище времен Второй мировой войны; названо по имени Джона Андерсона, министра внутренних дел.
41
Харди Томас (1840–1928) — английский романист, новеллист и поэт, большинство своих произведений посвятил крестьянам.
42
Линкольнс-Инн-Филдс — самая большая площадь в Лондоне, название которой происходит от близлежащей адвокатской палаты Линкольнс-Инн.
43
Монолог «Что ж, снова ринемся, друзья, в пролом» из пьесы Шекспира «Генрих V» (перевод Е. Бируковой).
44
Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы.
45
Шекспир У. Зимняя сказка. Акт V, сцена 3 (перевод Т. Щепкиной-Куперник).
46
«Спитфайр» — английский истребитель времен Второй мировой войны.
47
«Хоукер харрикейн» — британский истребитель времен Второй мировой войны.
48
Имеются в виду персонажи романа Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», вышедшего в Лондоне в 1886 г.
49
Констебл Джон (1776–1837) — английский художник-романтик.
50
«Черный Красавчик» (1877) — роман Анны Сьюэлл о жеребце по кличке Черный Красавчик.
51
Серпантин — узкое искусственное озеро в Гайд-парке.
52
«Фортнум энд Мейсон» — универсальный магазин в Лондоне; известен экзотическими продовольственными товарами.
53
Какой ужас! (фр.)
54
«Скиталец» — древнеанглийская элегия (конец X в.).
55
«Удольфские тайны» (1794) — готический роман Анны Радклиф.
56
Китс Дж. La Belle Dame sans Merci (перевод В. Левика).
57
Укулеле — разновидность миниатюрной гитары.
58
Мильтон Дж. Комус (1634).