Книга: Психология. Психотехника. Психагогика
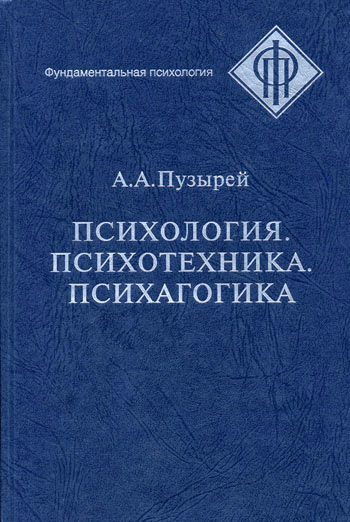
Моим студентам – прежним и будущим
Работы, составляющие книгу, были написаны в разное время. В основном они следуют в хронологическом порядке, и их распределение по разделам – до известной мере условное – соответствует моему продвижению в продумывании пути к новой – в противовес естественнонаучной, с одной стороны, и психотехнической, с другой – феноменологической парадигме мышления и действия в психотерапии и практической психологии личности.
Эта парадигма складывается на перекрестке – понятых в новом ключе – герменевтики, майевтики и собственно феноменологии.
Этим обусловлено настоятельное обращение к чтению классических философских текстов, – чтению, которое пытается быть не «речью о», но – непосредственной реализацией такого понимания герменевтики, при котором она оказывается также и майевтикой опыта чтения и понимания, и его феноменологией, позволяющей этому опыту чтения и понимания обретать собственное – бытийное – «начало» и – самым своим движением – это начало возобновлять, то есть достигать со-бытийной полноты собственно «феномена».
Опубликованные ранее тексты во многом стали уже документами истории психологии, в силу чего какие бы то ни было существенные их изменения и исправления представляются невозможными, даже в тех случаях, когда с нынешней точки зрения таковые и были бы необходимы.
При публикации в составе этой книги я отказался от всех – как правило, раздражающих читателя – выделений в тексте.
Думаю, едва ли у кого будет желание читать тексты этой книги подряд. Тем не менее прошу прощения за неизбежные – в силу характера книги – повторы и за «нестандартный» синтаксис.
Я благодарю всех, кто так или иначе участвовал в издании книги, и прежде всего Д.А. Леонтьева, – за самую идею проекта и настойчивость в его реализации, В.В. Архангельскую и Ю.А. Пузырей – за помощь в подготовке текстов.
Я благодарю также постоянных участников семинара по философским проблемам психологии: В.М. Розина, А.Н. Кричевца, В.А. Михеева и Т.М. Буякас – за тот доброжелательный, продуктивный и терапевтический диалог, в котором вынашивались, рождались и развивались мои мысли.
Я прошу снисхождения и великодушия у моих «дальних», у моих «внутренних» читателей, по отклику которых я пытаюсь поверять свои шаги, – у М.М. и у М.Х., у П. и у Д., у Г.П. и у Р.Ш., у К.К. и у Г.Г.
Я посвящаю эту книгу своим студентам – прежним и будущим, – чья открытость новому и готовность к серьезному совместному поиску были импульсом для моего собственного движения. Надеюсь, что не только наши занятия, но и тексты этой книги станут для них – по слову Ролана Барта – маленькими «посвятительными записями», открывающими возможность шагов на собственном инициальном пути.
Психотехнический статус психоаналитических представлений [1]
События, о которых пойдет речь, происходили летом 1978 года, за несколько месяцев до смерти Алексея Николаевича. Случилось так, что я оказался, по-видимому, его последним соискателем. Тема диссертации, с которой я пришел к Алексею Николаевичу, первоначально звучала так: «Проблема анализа сознания в психологии». Уже самая эта формулировка темы с очевидностью выдавала мой замысел: на материале психологии в каком-то смысле «повторить» то, что на материале философии делал в то время и предъявлял нам в своих лекциях Мераб Константинович Мамардашвили. Эта затея представлялась мне тогда весьма интересной и вполне реализуемой в виде диссертационного исследования. Состав работы был для меня ясен: я предполагал взять для анализа ряд направлений академической психологии, таких как интроспективная психология, гештальтпсихология, работы К. Левина и К. Дункера, культурно-историческая психология Л.С. Выготского, но также (а для меня самого – прежде всего) некоторые направления практической психологии, то есть психологии, встроенной в реализацию той или иной, в частности – психотерапевтической, практики. Особо я выделял тогда психоанализ – не столько потому, что его брал и Мераб Константинович, сколько потому, что – как мне представлялось – именно в случае психоанализа, классического фрейдовского психоанализа, план самой психотерапевтической практики представлен для анализа в наиболее эксплицированном и артикулированном виде, а также и потому, что разбор психоанализа – казалось мне – может дать ключ и задать парадигму для анализа всего остального. И хотя к тому времени уже были «заделы» и по другим пунктам плана, но в силу особого значения, которое я придавал главе о психоанализе, именно ее я и решил в виде «пробного шара» показать Алексею Николаевичу. Нужно заметить, что с моей стороны это был вызывающий жест, поскольку всего за несколько недель до этого на одной из защит дипломных работ как раз по поводу работы, выполненной под моим руководством на материале психоанализа в том же ключе, что написанный мною текст, разразился громкий скандал, который имел своим последствием официальное отстранение меня на какое-то время от руководства студенческими работами. И хотя Алексей Николаевич к тому времени во многом уже отошел от дел кафедры, но об этом скандале он, конечно, знал. Поэтому я был приятно удивлен, что в разговоре о моем тексте не было аргументов от этой ситуации. Разговор шел по существу. Основной ход моих мыслей показался Алексею Николаевичу интересным и эвристичным. Мы увлеченно проговорили весь вечер. Однако конец разговора оказался для меня невеселым. Алексей Николаевич прямо сказал, что если я хочу защититься, то должен оставить эту тему как недиссертабельную и вернуться к спокойной теме моей дипломной работы, тем более, что в ней есть уже почти все, что нужно для диссертации, и я быстро и «малой кровью» смогу ее сделать. Он заметил при этом, что я, конечно, могу показать этот текст и другим компетентным читателям, но что он уверен: они скажут то же самое. Мне не оставалось ничего другого – как это ни было для меня непросто, – как последовать совету Алексея Николаевича и вернуться к своей псевдоскопии. Я последовал, однако, и второму совету Алексея Николаевича и показал свой текст целому ряду авторитетных для себя читателей – от Б.В. Зейгарник и Ф.В. Бассина до Мераба Константиновича и Г.П. Щедровицкого. Реакции были очень разные и характерные. Отзыв Блюмы Вульфовны сохранился, и я привожу его в конце публикации. Еще более пространный и, пожалуй, самый серьезный и конструктивный отзыв Георгия Петровича, к сожалению, был утерян вместе с экземпляром моего текста, на обороте которого он был написан. Наконец, все, что я обнаружил на экземпляре, который читал Мераб Константинович, – это выразительные пятна от бутылки, должно быть, доброго грузинского вина. В ответ на мой вопрос, что же все-таки он скажет об этом тексте, в частности, о том, как я воспользовался некоторыми ходами его мысли (известными тогда только по его лекциям, поскольку его знаменитое ныне выступление на тбилисском конгрессе по бессознательному тогда еще не было произнесено), Мераб Константинович заметил, что он «сам себе не милиционер» и что главное теперь – как я о том и говорю в записке для Б.В. Зейгарник – все это реализовать на конкретном чтении фрейдовских работ. Оказалось – вопреки тому, как это мне тогда представлялось, – что решить как раз эту задачу, отправляясь от фрейдовских текстов, весьма непросто. Даже в лучшей, быть может, работе Фрейда, в которой с исключительной тщательностью и последовательностью прослеживается ход анализа отдельного случая, – в его работе «Из истории одного детского невроза», более известной сегодня как «Случай человека-волка», – даже в ней в самых критических пунктах обнаруживались «лакуны» и «пробелы», не позволявшие отследить – в психотехническом плане – «работу» тех или иных психоаналитических представлений, в частности, того же представления об «эдиповском комплексе». Я попытался тогда, работая в клинике с больными нервной анорексией, выполнить ряд анализов – намеренно «во фрейдовском духе», наивно полагая, что уж сам-то я смогу получить необходимый для реконструкции психотехнического плана материал – во всей полноте и связности. Увы, я и тут ошибся. Обещанная «вторая часть» главы так и не была никогда написана. Однако в верности основных методологических ходов – чем дальше, тем больше – я только укреплялся. В конце концов, я даже понял, почему мне не удалось выполнить конкретную реконструкцию психотехнического плана психоаналитического процесса, несмотря на то, что по сравнению с другими направлениями психотерапии именно в случае психоанализа этот план представлен в наиболее артикулированной форме. Но это уже особая тема. Конечно, сегодня публикуемый текст во многих отношениях представляется «сырым» и наивным. Однако основные ходы мысли, намеченные в нем – и с гораздо большей основательностью и строгостью продуманные впоследствии и в курсе «методологических проблем психологии», который я многие годы читал для студентов нашего факультета, и в различных спецкурсах, – и сегодня представляются мне верными и даже имеющими известный пафос.
Анализ сознания в работах Фрейда
1. Проблема методологического статуса психоаналитической теории
Совершенно очевидно, даже в свете последующего развития самого психоанализа, что многие фрейдовские теоретические конструкции сегодня нельзя уже понимать буквально и пытаться интерпретировать их в той манере, в которой пытался это делать сам Фрейд. Грубо говоря, сплошь и рядом оказывается, что фрейдовским теоретическим построениям ничего в реальности не соответствует. Нужно подчеркнуть – построениям определенного уровня, ибо в этом отношении Фрейд неоднороден – у него есть уровень просто феноменологических описаний, и там – нечего ни добавить, ни убавить, эти описания можно принять и сегодня и пользоваться ими непосредственно. Но есть определенный слой в работе Фрейда, определенный уровень его теоретических построений – это прежде всего «рамочные» фрейдовские построения типа представления об «инстанциях личности», или об основных «психологических системах», или же конструкция «эдиповского комплекса» или «комплекса кастрации» и т. д., – которым сегодня уже невозможно всерьез искать соответствие в реальности. Никто сегодня не станет всерьез думать о том же «эдиповском комплексе» как о некой вещи, которая на самом деле существует. Уже у Юнга времени разрыва с Фрейдом можно встретить замечания о том, что таких вещей – в том смысле, в каком понимал их сам Фрейд, – просто не существует.
Итак, мы имеем некоторую теоретическую фрейдовскую конструкцию, например – конструкцию эдиповского комплекса. У самого Фрейда она получает объектную интерпретацию. Для Фрейда, как мы знаем, была характерна установка на научность психоанализа. То есть Фрейд настаивал на том, что существует некий объект, который можно непосредственно поставить в соответствие этой конструкции. В представлениях об эдиповском комплексе, с точки зрения Фрейда, описываются некоторые действительно существующие реалии психики пациента, причем реалии, имевшие место быть в его прошлом, в том прошлом – в раннем детстве пациента, – к которому и отсылает нас эта психоаналитическая конструкция по своему прямому содержанию.
Так вот, даже последующий ход развития самого психоанализа запрещает нам теперь такую «объективную» интерпретацию, непосредственную объектную интерпретацию основных фрейдовских теоретических построений. Что касается эдиповского комплекса, то на этот счет существует много серьезных работ, демонстрирующих это. В одной недавней [2] статье, резюмирующей историю обсуждения этой проблемы в самом психоанализе, авторы, сами практикующие аналитики, приходят к выводу, что эдиповского комплекса – в смысле Фрейда, как он себе его представлял, – просто не существует. Этот же тезис можно было бы повторить и по поводу других фрейдовских конструкций: представлений об инстанциях личности, стадиях развития влечений, психологии сновидений, учения о перенесении и других.
Какие реакции могут быть на такую ситуацию? Можно считать, конечно – как это и делают многие критики психоанализа, что нужно все эти психоаналитические построения просто отбросить как не соответствующие реальности с точки зрения обычных критериев оценки на истинность собственно научных, то есть – естественнонаучных – знаний, что это просто досужие измышления, мифы – в оценочном, ругательном смысле этого слова, – что нужно их отбросить и постараться заменить представлениями, в большей степени соответствующими реальности, в большей степени отвечающими критериям собственно научного знания и т. д. и т. п. Такой подход по отношению к Фрейду представляется столь же несостоятельным, как и буквальное некритическое его чтение. Поскольку столь же несомненно, что какая-то реальность за фрейдовскими представлениями все же стоит, ими как-то «засекается» – реальность самой психоаналитической терапевтической практики, внутри которой эти представления создавались, обращались, выполняя какую-то существенную роль, изменялись и т. д. И можно поставить задачу осмысления и ассимиляции стоящего за ними терапевтического или, в более широком смысле – психотехнического опыта, который ведет к весьма радикальным трансформациям психики пациента. Вопрос, стало быть, в том, как следует понимать фрейдовские теоретические построения и как с ними иметь дело, чтобы даже в том случае, когда мы признаем, что по большей части им ничего не соответствует в реальности в их прямом объектном содержании, мы могли бы – в отличие от обычного подхода к ним как к собственно научным знаниям, подхода, как известно, разделявшегося и самим Фрейдом, который был убежден, что психоанализ должен и может быть наукой, и искал возможность превращения его в науку, в дисциплину естественнонаучного толка, – не отбрасывать их как ошибочные, ложные, но, напротив, утверждать их в их реальном и безусловном содержании. Иначе говоря, задача состоит в том, чтобы найти некую «абсолютную» систему отсчета, в отнесении к которой фрейдовские теоретические построения оказывались бы осмысленными и содержательными безотносительно к тому, допускают они или нет прямую объектную интерпретацию.
В известном смысле можно было бы сказать, что по отношению к самому Фрейду, к его теоретическим построениям мы должны попытаться реализовать ту же стратегию понимания, которую он реализовывал по отношению к материалу, получаемому от своих пациентов.
Конечно, это не следует понимать буквально, искомое нами чтение Фрейда – это не психоанализ психоанализа и, тем более, не психоанализ самого Фрейда (хотя работы такого рода существуют и их уже немало, – как на один из самых выразительных примеров тут можно указать на скандально известную работу С. Розенцвейга о дне смерти Фрейда). Параллель тут – в установке на признание осмысленности и содержательности, на поиск содержания тех или иных представлений также и в тех случаях – или, быть может, особенно в тех случаях! – когда прямого объектного содержания эти представления оказываются лишены. Подобно тому, как Фрейд, получая от своего пациента какое-то представление, положим, образ сновидения, настолько монстрообразный, что ему нельзя было ничего поставить в соответствие в реальности, тем не менее, не отбрасывал его и не предлагал своему пациенту вместо этой «ерунды» рассказать о чем-нибудь таком, к чему можно было бы отнестись «серьезно», но, наоборот, именно эти места в сновидении выделял как особенно значимые и «говорящие» и делал их отправными точками анализа, работы толкования, пытаясь развернуть такое представление о внутренней, психологической, конфликтной ситуации пациента, в отнесении к которой образы сновидения получали бы свой безусловный смысл в качестве особого способа манифестации этого конфликта или, быть может даже, – в качестве особой психологической постройки, позволяющей пациенту достигать разрешения «на самом деле» неразрешимой конфликтной ситуации, – подобно этому и мы в своем чтении Фрейда должны попытаться найти, реконструировать такой план психоаналитической работы, по отношению к которому фрейдовские теоретические построения выступили бы в своей реальной «инструментальной» функции, как особого рода инструменты и средства – психотехнические инструменты и средства, – выполняющие внутри психоанализа некую реальную и необходимую психотехническую работу и, кстати, уже потому не позволяющие их «изъять» и отбросить даже в тех случаях, когда они не выдерживают «проверку на истинность» соответственно критериям, применяемым к собственно научному знанию. Еще раз: по своему характеру этот анализ психоаналитических представлений должен быть, конечно же, не психоанализом, но особого рода методологическим анализом, который позволил бы взять каждое представление психоаналитической теории в его реальной инструментальной функции внутри особого рода целостности – внутри соответствующего психотехнического действия, выполняемого по отношению к психике пациента. Иначе говоря, этот анализ должен иметь дело с совершенно иной, чем сам психоанализ, – причем иной по типу – единицей анализа. Взять ту или иную фрейдовскую теоретическую конструкцию в «приведении» к этой целостности психотехнического действия – значит взять ее в тех основных функциях, которые она реально выполняет внутри психотерапевтической работы.
Можно выделить прежде всего две такие функции соответственно основной диадной структуре (см. рис. 1) ситуации классического психоанализа, соответственно двум полюсам ситуации психоаналитической работы – полюсу, или позиции, пациента и полюсу, или позиции, терапевта [3] .
Рис. 1. Исходная схема психоаналитической ситуации
Т – позиция терапевта (практика)
Тм – позиция терапевта-методиста
Тт – позиция теоретика психоанализа
П – позиция пациента
М – продуцируемый пациентом материал
К – используемые для интерпретации психоаналитические конструкции
И – сообщаемые пациенту терапевтические интерпретацииЕсли по отношению к каждой из этих двух позиций попытаться рассмотреть любую из аналитических конструкций, то можно выделить прежде всего две функции.
По отношению к пациенту каждая из конструкций выступает – если воспользоваться термином М.К. Мамардашвили – как особое средство «организации нового опыта сознания» и – через это – достижения некоторого, если и не терапевтического, то, во всяком случае, психотехнического эффекта (хотя, строго говоря, тут и следовало бы поставить под вопрос возможность как раз применительно к психоаналитическому опыту говорить в терминах нового опыта сознания). Иначе говоря, в этом отнесении психоаналитические построения выступают в их «психотехнической» функции, то есть в качестве инструмента и средства той или иной модификации или трансформации психики пациента ввиду вполне определенных целей, которые ставит перед собой психоаналитик.
По отношению же к терапевту функция каждой из этих конструкций состоит прежде всего в том, чтобы обеспечить определенный тип понимания материала, который обращается внутри психоанализа, – будь то сновидения пациента, или его воспоминания о своем прошлом, или же предъявляемый им – положим, в форме феномена перенесения – невротический симптом и т. д. [4] В каждом из этих случаев психоаналитические конструкции – это, прежде всего, средство, но уже средство понимания психоаналитиком материала, поставляемого пациентом, понимания того, что происходит в ходе анализа, причем понимания не столько в познавательной, созерцательной установке, сколько «действенного» понимания, понимания с точки зрения тех психотехнических задач, которые стоят перед терапевтом, понимания с точки зрения создания условий для успешного выполнения соответствующего психотехнического действия.
Итак, в позиции терапевта психоаналитические представления обеспечивают действенное понимание текстов, которые возникают и обращаются в ходе психоанализа. Нужно заметить, что все это относится к позиции «терапевта-практика», то есть к позиции, в которой непосредственно наносится соответствующее психотерапевтическое «воздействие», тогда как можно выделить также позицию «терапевта-методиста», в которой эти представления – именно как психотехнические средства – вырабатываются, чтобы обеспечить ими практика, и позицию «терапевта-теоретика», который в особой рефлексивной форме пытается осмыслять опыт психотерапевтической работы. Далее, поскольку речь тут идет о понимании действенном, это понимание текстов терапевтом должно каким-то образом иметь в виду, учитывать также и все то, что происходит в ходе анализа – здесь-и-теперь – в позиции пациента. И в составе психоаналитической теории есть особые представления, положим, относящиеся к феномену «перенесения», в которых прямо фиксируются отношения между пациентом и терапевтом. Больше того, можно было бы настаивать на том – что и делает в своей ранней работе о психоанализе М.М. Бахтин, – что в своем реальном психотехническом содержании все основные теоретические представления фрейдовского психоанализа должны браться в отнесении к ближайшей, складывающейся здесь-и-теперь ситуации психоаналитической работы, – браться как то, с помощью чего в этой ситуации «сценируется некое событие общения» между пациентом и терапевтом, хотя у самого Фрейда они, как правило, и относятся прямо к чему-то, лежащему вне этой ситуации. Так, например, конструкция «эдиповского комплекса», которая во фрейдовской теории относится к некой ситуации или структуре отношений между пациентом и его родителями в раннем детстве пациента и только вторичным образом – в виде перенесения – может проецироваться на ситуацию и отношения между пациентом и терапевтом, складывающиеся в ходе самого психоанализа, – эта конструкция «эдиповского комплекса» в ее реальном психотехническом содержании, напротив, как нетрудно показать, выступает прежде всего как средство соответствующей «кристаллизации» опыта отношений между пациентом и терапевтом внутри психоаналитического процесса. Можно было бы сказать вслед за Ж. Лаканом, что она «выделывается» пациентом в ходе анализа, выделывается вместе с терапевтом и под направляющим действием его интерпретаций, выделывается как элемент «индивидуального мифа» пациента, внутри, в составе которого эдиповская ситуация и размещается как «факт биографии» пациента.
Конечно, говоря так, будто мы можем анализировать в ее психотехнической функции какой-нибудь одну, отдельно взятую конструкцию, например, конструкцию эдиповского комплекса, мы совершаем недопустимую абстракцию. Такой анализ нельзя проделать над одним каким-то представлением. Последовательно проводимый анализ с неизбежностью должен выводить к анализу и других, сопряженных – но не в рамках психоаналитической теории, а внутри реальной терапевтической работы – конструкций.
Указанные две функции являются основными в силу того, что классический психоанализ – это особый вид психотерапии, для которого характерно, что результаты понимания терапевтом своего материала коммуницируются пациенту и, тем самым, включаются в последующий ход анализа и могут разворачивать его в ту или другую сторону.
Кроме этих двух основных можно было бы выделить и другие функции, с расчетом на обеспечение которых строятся аналитические конструкции. Например, функцию воспроизводства системы психоаналитической практики как особого вида деятельности. Фрейд не только хотел сам достигать – как чародей, на уровне искусства – определенных терапевтических эффектов, но и пытался построить некую регулярную и допускающую воспроизведение форму практики, которой можно было бы обучать и, тем самым, транслировать особую культуру психоанализа. Возможно, имело бы смысл говорить даже о функции управляемого развития системы психотерапии. Все это, однако, уже выходит за рамки нашей работы.
До сих пор мы говорили лишь о том, что определяет фрейдовские представления, если так можно выразиться, «снизу» – со стороны самой терапевтической практики, то есть говорили о требованиях, которые предъявляет к теоретическим построениям сама практика в силу ее особой функциональной структуры и логики развития. Ясно, однако, что та форма фрейдовских представлений, которую мы находим в его текстах, определяется не только сферой их употребления, но также и сферой их «производства» и, ближайшим образом, теми мыслительными средствами, которыми располагал сам Фрейд в качестве их конструктора. Так, например, можно показать, что форма фрейдовских представлений о бессознательном существенно определяется принятыми им – причем принятыми некритически, как нечто само собой разумеющееся – представлениями о сознании, поскольку, как правило, фрейдовские характеристики бессознательного развертываются в виде прямых оппозиций соответствующим свойствам сознания. В этом отношении показательны первые главы фрейдовской работы «Я и Оно». Понятно, что если бы Фрейд отправлялся от других представлений о сознании, то и все его учение о бессознательном приняло бы иную форму. Это только самый простой и, быть может, наименее интересный пример.
Здесь мы заканчиваем, по первому кругу, обсуждение вопросов, связанных со статусом психоаналитических конструкций и с соответствующим способом работы с ними. Дальнейшая конкретизация высказанных соображений может развертываться прежде всего по линии более расчлененного представления самой системы психотерапевтической практики. Можно постараться выделить основные ее составляющие – систему вопросов, которая была бы универсальной по отношению к любой из психотерапевтических практик и которая выступала бы в качестве своеобразного «модуля» для их сравнения и сопоставительного анализа.
Так, очевидно, что для всякой системы психотерапии исходным должен быть вопрос о цели, преследуемой соответствующим психотерапевтическим процессом. Разные системы психотерапии различаются прежде всего в том, как они видят цель работы (которая не всегда явно формулируется, но реально всегда стоит за работой терапевта). Причем само это представление о цели терапии требует дальнейшей дифференциации, то есть, как правило, следует говорить о своеобразных сложных «целевых структурах». Наряду с глобальными формулировками мы можем найти очень дробные и частные представления, причем не только финального, но также и процессуального толка. Например, в случае Юнга его известную схему процесса индивидуализации необходимо рассматривать, помимо прочего, также и в функции своеобразного процессуального представления о пути аналитической терапии.
С представлением о цели далее – стоит только начать его конкретно расписывать – оказываются самым тесным образом связаны вопросы об идеале человека и о цели человеческого существования – вопросы, ответ на которые, опять же, может в данной системе терапии существовать только в неявном виде и, стало быть, должен каждый раз специально реконструироваться.
Так, у Фрейда есть известный доклад на психоаналитическом съезде 1918 года в Будапеште, где он полемизирует с идеей психосинтеза, выдвигавшейся в то время сторонниками цюрихской школы. Кроме прочих аргументов, которые выставляет Фрейд, он приводит соображение о том, что идея психосинтеза в неявном виде содержит попытку строить личность пациента в соответствии с идеалами, имеющимися у терапевта. Для Фрейда это совершенно неприемлемо как скрытое насилие над личностью. Ибо здесь терапевт не просто пытается «высвободить» собственные силы пациента для того, чтобы он сам затем мог завершить позитивную работу над своей индивидуальностью, но пытается строить личность своего пациента «как господь бог», навязывая ему свои идеалы. На первый взгляд это звучит как самое резкое и полное отрицание какого бы то ни было идеала в аналитической терапии. На самом деле, однако, если вдуматься в то, что говорит здесь Фрейд, можно легко заметить, что он, в свою очередь, также вполне определенно апеллирует к неявному идеалу человека, в частности, включающему в себя принцип свободы выбора, ненасилия над личностью и т. д. Таким образом, можно показать, что представление об идеале человека в том или ином виде непременно присутствует в составе любой психотерапевтической практики.
С идеалом человека и представлением о цели его существования связываются, далее, те или иные типологические представления – причем не только в нозологическом, но и в собственно личностном смысле – представления, на которые должен ориентироваться терапевт, к примеру, при решении вопроса о применимости или неприменимости данного вида терапии в случае данного пациента. Так, Юнг говорит, что он отнюдь не считает свою аналитическую терапию единственно правильной и наиболее эффективной в любом случае, что есть собственно «фрейдовские», а есть собственно «адлеровские» случаи, а есть такие, для которых наиболее подходящим видом терапии будет именно юнговская аналитическая терапия. Причем он говорит это именно в типологическом, а не в нозологическом смысле. Конечно, нужно иметь в виду, что в каждой системе психотерапии может быть своя, особая типология. А дальше встают вопросы о понятиях нормы и патологии, о механизмах образования симптомов, картине излечения, об общей идее данной терапии, основных ее приемах и типовых ситуациях, в которые в рамках данной терапии ставится пациент, и т. д. Можно, наконец, ставить вопрос о некой запределивающей рамке, внутри которой собственно психотехническая и даже – психотерапевтическая работа будет носить уже несамостоятельный, подчиненный характер. И существуют работы, где даже по отношению к Фрейду делается попытка указать такие более широкие рамки. В качестве примера можно привести хотя бы небезызвестную работу Дэвида Бэйкена «Фрейд и еврейская мистическая традиция», где Фрейд выставляется эдаким скрытым пророком и проповедником, а психоанализу отводится место вспомогательного средства, призванного выполнить предварительную работу по расчистке поля для нового мистического движения. Можно, однако, сильно сомневаться в возможности такого подхода к классикам психоанализа. Даже у Юнга – человека в этом отношении чрезвычайно тонкого и чуткого к сфере мистического опыта – нередко встречаются претензии на то, что собственно психотехническая работа, которая в рамках аналитической терапии описывается в терминах схемы процесса индивидуации, и есть максимум того, что человек вообще может сделать, есть его предельная жизненная задача. Никакой более широкой системы не видится, а скорее, наоборот, делается попытка редуцировать к тому, что можно найти в рамках собственно психотехнической работы, все остальное – и описание мистических переживаний, и теологические символы и т. д. То есть даже у Юнга мы встречаемся в этом отношении с откровенно психологистической установкой.Здесь можно было бы поставить точку в обсуждении – по первому кругу – нашей исходной схемы. Конечно, ее можно было бы развертывать и дальше, подчас в прямо ортогональных направлениях. Так, например, можно было бы рассмотреть вопросы, связанные с эффектами психотерапии, выступающими на полюсе самого терапевта, – чрезвычайно интересный и важный для «прямого» хода терапии вопрос. Однако и его мы вынуждены сейчас не касаться.
Если попытаться теперь в одной краткой формуле резюмировать наше обсуждение проблемы статуса психоаналитических теоретических построений, то можно было бы сказать, воспользовавшись марксовым понятием «превращенной формы» – в том его смысле, который был придан этому понятию в работах Мамардашвили, – что эти построения выступают в качестве своеобразных превращенных форм сознания по отношению к системе психотерапевтической практики, внутри которой они с необходимостью возникают, обращаются, претерпевают изменения, а иногда и умирают. Стало быть, соответственно этому их статусу превращенных форм мы должны с ними и работать, то есть так, как обычно и работают со всякой превращенной формой, ставя задачу через ее анализ восстановить ту действительную систему отношений, которые, определяя ее и реализуясь через нее, вместе с тем представлены в ней только в неполном и непрямом виде.
Если принять это утверждение, становится более строгой и осмысленной высказанная прежде аналогия между нашей – методологической – работой с фрейдовскими теоретическими представлениями и его собственной – психоаналитической – работой с материалом своих пациентов, ибо по своему характеру (о чем прямо и говорит Мамардашвили) этот материал также может рассматриваться как превращенная форма сознания – только уже по отношению к другой системе – не системе психотерапевтической практики, но системе реальной жизненной истории пациента.
* * *
Здесь мы переходим от разбора нашей исходной схемы к попытке приложить ее – в качестве средства – к обсуждению проблемы статуса психоаналитических реконструкций истории пациента. При этом мы получим также и дальнейшее развертывание самой исходной схемы.
Для того чтобы можно было приступить к обсуждению этой проблемы, разделим всю историю нашего пациента на две части: до начала анализа и после (рис. 2) и вспомним, что принципиальной особенностью психоаналитических реконструкций биографии пациента является их ретроспективный характер – все, что касается прошлого пациента, должно быть установлено исходя исключительно из того материала, который получается в ходе самого анализа, то есть исходя из настоящего пациента. Мы еще не раз будем возвращаться к этому критическому обстоятельству. Конечно, иногда Фрейд прибегает – главным образом с целью верификации своих построений – к рассмотрению того, что можно было бы назвать планом «объективных», то есть зафиксированных извне, событий этой биографии: показаниям очевидцев (чаще всего – родственников пациента), его собственным свидетельствам дневникового характера, современным соответствующим событиям и т. п. Однако это всегда только вспомогательный прием, стоящий к основному ходу анализа во внешнем и случайном отношении. Отметим, кстати, что эта апелляция Фрейда к «объективным фактам» есть еще один рецидив его установки на «научность» психоанализа. С точки зрения собственно терапевтических задач (и это прекрасно понимал сам Фрейд – взять хотя бы совершенно поразительное по тонкости и глубине обсуждение проблемы так называемых «вторичных фантазий» в уже упомянутой работе Фрейда «Из истории одного детского невроза») нет принципиальной разницы между «подлинными» воспоминаниями пациента, то есть воспоминаниями, которым можно поставить в соответствие действительное событие его биографии, и тем, что является только фантазией, как правило, – более поздней по своему происхождению и только вторичным образом «конвертированной» в воспоминание и спроецированной в его далекое прошлое. Если мы теперь рассмотрим любое из фрейдовских представлений, с помощью которых в психоаналитической теории изображается ход психического развития пациента – а именно эти представления должны нас теперь интересовать, – то мы с удивлением обнаружим, что каждое из них выступает как бы сразу в двух измерениях. С одной стороны – в силу установленного выше инструментального статуса – каждое из этих представлений выступает как особое психотехническое средство, с помощью которого организуется необходимое терапевтическое действие. И в этом своем качестве оно должно браться прежде всего в отнесении к самой системе психотерапевтической практики, к ходу анализа. Ибо в зависимости от того, какое средство самоосмысления мы передаем пациенту (конечно, необязательно – прямо; оно может присваиваться пациентом и начинать регулярно обращаться внутри анализа и без своего осознания), мы будем направлять в ту или иную сторону весь ход анализа. Вместе с тем – в рамках психоаналитической реконструкции – своим прямым референтом это преставление всегда будет иметь некий факт предполагаемой «реальной психологической истории» пациента, то есть нечто такое, что якобы происходило в его прошлом до начала анализа. Так, если аналитик для интерпретации полученного в ходе анализа материала – будь то текст сновидения или воспоминание пациента – прибегает к конструкции «эдиповского комплекса», то интерпретируемые события окажутся принадлежащими раннему детству пациента. Это реконструируемое событие прошлого пациента нужно отличать – с точки зрения психоанализа – от того события, к которому прикладывается психоаналитическая конструкция как средство его интерпретации, то есть от события биографии пациента по его собственным воспоминаниям и рассказам, от той «легенды», которую «сочиняет» себе сам пациент.
Рис. 2. Основные планы истории пациента
План «истории пациента по его рассказу» символически можно представить как своеобразную поверхность цилиндра «реальной психологической истории». Понятие «превращенной формы» фиксирует здесь то обстоятельство, что образование сознания является не только отражением процессов и отношений в некоторой системе, отражением внешним по отношению к жизни самой системы, но что оно есть вместе с тем и органическая часть и необходимый момент движения самой системы. С одной стороны, образование сознания пытается представить те или иные реальные отношения внутри системы в искаженном, превращенном виде, но, с другой стороны, это представление само включается дальше как момент в движение целого. В нашем случае образование из плана «истории пациента по его рассказу» включается как элемент в план его «реальной психологической истории». Это – один из основных механизмов психоаналитической терапии.
Безусловно, сам Фрейд полагал, что теоретические конструкции психоанализа, собственно, и должны обеспечивать переход от плана «индивидуального мифа» пациента – всегда пристрастно и искаженно, в особом, выгодном для пациента свете представляющего факты его биографии и навязывающего терапевту точку зрения пациента на болезнь и смысл симптомов – к плану «реальной психологической истории». Должны, говорим мы, в силу установок психоаналитика, его интенции на достижение плана «реальной психологической истории», однако на самом деле – в силу сказанного о психотехническом статусе психоаналитических представлений – как раз эти самые представления и оказываются инструментами развертывания «индивидуального мифа» пациента. И именно психоаналитические реконструкции биографии пациента, равно как и порождаемые в ходе анализа «воспоминания» пациента о его прошлом, приводят – как к последним и далее неразложимым точкам «анализа», психоаналитического понимания пациента и его невроза – к таким событиям, которых в плане «реальной психологической истории» пациента никогда не было и быть не могло, – к событиям, располагающимся в хронотопе его «индивидуального мифа».
Это так хотя бы уже потому, что психоаналитическая реконструкция истории пациента всегда дается из его нынешней, современной анализу позиции и, стало быть, принадлежит всегда уже совершенно иной структуре сознания – сознания взрослого и погруженного в ситуацию анализа человека. Совершенно прозрачно это выступает в случае все того же эдиповского комплекса. Когда взрослый пациент в ходе анализа рассказывает о событиях раннего детства, осмысляя их в терминах эдиповского комплекса, то он дает им интерпретацию из позиции своего настоящего, включая их в структуру своего нынешнего сознания. Ясно, что это осмысление принципиально отличается от того, которое он мог иметь в детстве, от того осмысления, которое могло быть фактом (или «фактором») его «реальной психологической истории». Структура сознания (понимания), связанная с фрейдовской конструкцией эдиповского комплекса, принадлежит позиции пациента в его настоящем, в «здесь-и-теперь» анализа и абсолютно невозможна для ребенка того возраста, к которому относит образование эдиповского комплекса ортодоксальная психоаналитическая теория. Можно сказать – просто «рассуждая от противного», – что коль скоро психоаналитическая конструкция эдиповского комплекса оказывается психотехнически действенной по отношению к психике взрослого пациента, стало быть, оказывается психологически «соизмеримой» со структурами именно его понимания, то ничего подобного не было и не могло быть в его раннем детстве, то есть в «реальном прошлом» пациента, в плане его «реальной психологической истории»; можно сказать, что там должно было быть нечто принципиально иное, принадлежащее иной структуре сознания и понимания.
Мы приходим, таким образом, к необходимости – в противовес самим психоаналитикам – отличать план «психоаналитических реконструкций» истории пациента от плана его «реальной психологической истории». И, опять же, в отличие от самих психоаналитиков, мы вообще можем отказаться от предположения, что для того, чтобы быть психотехнически и даже психотерапевтически действенной, психоаналитическая реконструкция должна быть «истинной», то есть выводить нас в план «реальной психологической истории» пациента, отказаться от представления о том, что эффективность психоанализа покоится на его «истинности» – в обычном, сциентистском смысле слова. Быть может даже, наоборот – своеобразная «загадка» психоанализа, тот особый феномен психоаналитической терапии, который и должен стать предметом специального анализа, как раз и состоит в том, что психоанализ достигает своей цели, оказывается чрезвычайно эффективным – если не в терапевтическом, то, во всяком случае, в психотехническом смысле – именно при том, что «психоаналитические реконструкции» биографии пациента и выстраиваемый в ходе психоанализа его «индивидуальный миф» не совпадают и не могут совпадать с планом «реальной психологической истории» пациента.
В приведении к методу нашей работы это различение означает, что материалом для анализа должны стать не только факты, с которыми имеет дело психоаналитик, но некая более широкая и сложная структура, с необходимостью включающая также и план самих «психоаналитических реконструкций». Иначе говоря, мы должны взять получаемый от пациента материал в его включенности в процедуру самого анализа, с учетом того обстоятельства, что самая конструкция «индивидуального мифа» пациента строится во многом под влиянием тех самых схем, которые через процедуры интерпретации переходят к пациенту от терапевта.
По крайней мере, три отмеченных обстоятельства: 1) «ретроспективный» характер психоаналитических реконструкций, то есть то, что они выполняются, как правило, изнутри уже совершенно иных структур сознания, нежели те, что соответствуют реконструируемому событию, 2) то, что в форме реконструкции фактов субъективной истории пациента до начала анализа представляются феномены современной анализу и интерсубъективной реальности диалогических отношений пациента и терапевта, и, наконец, 3) особый способ обращения психоаналитических конструкций, когда они выступают в качестве своеобразных «катализирующих» или «кристаллизующих» схем при выработке «индивидуального мифа» пациента, – эти три обстоятельства и обусловливают особую, «превращенную» форму психоаналитических реконструкций.* * *
Уважаемая Блюма Вульфовна!
Этот небольшой текст требует пояснений. Во-первых, как это видно и из заголовка, он представляет собой только первую, вводную часть, своеобразную пропедевтику к основному разделу, уже прямо посвященному объявленной теме: «анализу сознания в работах Фрейда». Основной же замысел второй части состоит в том, чтобы уже на материале конкретного разбора некоторых фрейдовских теоретических построений попытаться представить его реконструкции «бессознательного» как особый способ анализа сознания, а сами эти теоретические построения – как своего рода «аппарат», «инструментарий» такого анализа. Иначе говоря, попытаться рассмотреть психоанализ, прежде всего, как своеобразную технологию и опыт работы с сознанием – точка зрения, исходящая из того обстоятельства, неоднократно отмечавшегося и самим Фрейдом, что непосредственно психоанализ имеет дело, как с материалом, всегда только с особыми, «компромиссными» образованиями сознания – будь то образ сновидения, фрагмент рассказа пациента о своем прошлом, свободные ассоциации или невротический симптом. Во-вторых, мне хотелось бы подчеркнуть, что высказываемые далее мысли относятся не только к Фрейду. На примере психоанализа можно только наиболее развернуто и выпукло продемонстрировать некоторые ходы, приложимые и к другим теориям личности, «завязанным» на ту или иную практику работы с личностью – не только психотерапевтическую, но и также воспитания, режиссуры и т. д. К тому же мне Фрейд особенно интересен в связи с центральной для меня проблемой анализа сознания, проблемой метода такого анализа, причем – в конкретно психологическом плане.
С благодарностью приму Ваши замечания.
Андрей.
* * *
Андрей, я хочу сделать некоторые замечания по поводу Вашей статьи, хотя это мне дается нелегко. Во-первых, потому что я не читала второй части Вашей статьи, и, во-вторых – не обижайтесь – уж очень сложно Вы все излагаете. Помните, у Тургенева: «Не говори так красиво»? Вот и я хочу сказать: не пишите так сложно. Но не сердитесь, я ведь не официальный отзыв пишу.
Теперь к делу.
Мне представляется интересной Ваша центральная мысль о том, что анализ и применение некоторых положений («конструктов») Фрейда могут служить способом анализа сознания, что можно попытаться рассмотреть эти конструкты как своеобразный «инструмент», с помощью которого можно подойти к анализу сознания. Вы также правильно указали на неоднородность фрейдовского учения. На то, что многие его конструкты, такие как эдипов комплекс, комплекс кастрации, не имеют под собой ничего, сопоставимого с реальностью.
Следовательно – если продолжить Вашу мысль, – существуют другие категории фрейдовского учения (иные конструкты), которые могут служить «инструментами» анализа сознания.
Но Вы их не определяете, а, между тем, с этого и надо было начать и объяснить читателю, о каких конструктах Вы говорите и какие из них являются особым средством «организации нового опыта сознания» (насколько я понимаю Мамардашвили, для него это – система символов).
А дальше Вы говорите, что надо попытаться найти «систему отсчета». Мне так и осталось неясно, что Вы предлагаете в качестве такой системы отсчета. Для Фрейда такой системой являются его представления об «инстанциях личности». А для Вас что? Вы говорите о «самой психотерапевтической практике». Но Вы тут вступаете в противоречие с собой. Во-первых, Вы сами сказали, что предлагаемый Вами инструмент годен не только для психотерапии, но и для других видов практики – режиссуры, воспитания и т. д., и это правильно.
А во-вторых – и это главное, – психотерапевтическая практика не является такой системой отсчета. Для нее самой нужно еще найти такую систему отсчета. И тогда встает все тот же вопрос: что это за система отсчета? Вы не согласились принять фрейдовскую систему отсчета (инстанции личности, эдипов комплекс и т. п.), – но что Вы предлагаете взамен?
И мне кажется, что Вы сами незаметно для самого себя возвращаетесь к фрейдовской системе отсчета.
Я повторяю: может быть, я ошибаюсь, так как я не читала второй части Вашего текста, но, мне кажется, у Вас переплетаются категориальный аппарат Фрейда и Мамардашвили (а это ведь не одно и то же). Может быть, Вам надо более четко построить свой текст композиционно. Примерно так:
1) Некоторые конструкты Фрейда могут быть средствами, инструментами анализа сознания.
Какие? Такие-то могут быть, а такие-то – нет. Почему?
2) Попробуем применить такие-то конструкты при анализе практических задач:
а) режиссуры;
б) психотерапии;
и т. д.
И если уж Вы выбираете психотерапию, то покажите, как это можно применить на конкретном примере, на конкретном методе.
А Вы, подойдя к психотерапии, «соскользнули»
а) на отношение психотерапевта и пациента;
б) на проблему реконструкции биографии пациента.
Мне думается, что Вам надо составить себе более отчетливый план своей работы и более четко продумать свои гипотезы.
Я бы хотела с Вами побеседовать лично, поскольку из чтения Вашего текста многое для меня осталось неясным.
С уважением,
Б. Зейгарник
Психотехническое действие как единица анализа в психологии творчества [5]
Творчество, прежде всего научное и техническое, но также и художественное, стало массовой формой мыследеятельности. Даже здесь, в сфере творчества, оказывается уже недостаточным по-прежнему полагаться на «счастливый случай». Все чаще ставится задача формирования и развития творческих способностей и творческой личности в целом, эффективных и воспроизводимых форм организации процесса творчества. Для решения этой задачи практика нуждается в специальных знаниях о творчестве и, стало быть, в соответствующих исследованиях творчества.
Встает, однако, вопрос: какого типа должны быть эти знания и в какого рода исследованиях они могут быть получены? Необходимо отдать себе отчет в том, что от современных исследований творчества, и в частности – от психологии творчества, требуются совершенно новые по типу знания – более сложные и иные по строению, чем те, что характерны для собственно научных исследований экспериментального типа.
В современных исследованиях творчества, в том числе в психологии творчества, господствует установка на естественнонаучный тип знаний – знаний о законах жизни неких естественно существующих объектов – и, соответственно, – установка на реализацию классической парадигмы экспериментального исследования.
Эксперимент, как он сложился в постгалилеевское время, есть особого рода познавательная деятельность, которая, ближайшим образом пытаясь обеспечить – инженерно-техническими средствами! – выполнение заданных в теории условий протекания изучаемых процессов, по сути дела оказывается призванной поставлять «контрпримеры» («опровержения») против модельных представлений о тех или иных – всегда идеальных! – «объектах изучения», типа «математического маятника», «свободно падающего тела» или «идеального газа».
Переход от объектов опыта к объектам изучения достигается при этом всегда за счет выполнения особых процедур «идеализации» (в плане теории) и «изоляции» (в плане опыта), приводящих, по существу, всякий раз к искусственным препаратам, способным существовать исключительно благодаря сложнейшей структуре исследовательской мыследеятельности и только внутри нее и на время ее осуществления. При этом, однако, – по самому понятию «природного объекта» – полагается, что получаемые в естественнонаучном исследовании знания об изучаемом объекте, равно как и самый акт их получения, принципиально не могут и не должны изменять законов жизни изучаемого объекта.
Творчество является культурно-историческим и развивающимся образованием. Способом существования творчества является развитие. Развитие, однако, в данном случае нельзя представлять себе как естественный процесс, наподобие роста организма. Развитие здесь имеет всегда особую внутреннюю компоненту: системы мыследеятельности (в частности, творчества) развиваются только посредством специально выстраиваемых актов искусственной (то есть собственно технической) их организации и реорганизации. Возникающие таким образом особого рода системы «деятельности над деятельностью», или «праксиотехнические» действия, оказываются внутренне необходимыми моментами творчества.
В плане психологии следовало бы говорить о соответствующих системах «психотехнических» действий, или «действий над психикой» (понимаемой в самом широком смысле, включая и сознание). Эти «психотехнические действия», посредством которых достигается направленное преобразование психического аппарата и деятельности человека, позволяющее ему овладевать своей психической деятельностью, и должны рассматриваться – в противовес естественнонаучной точке зрения – в качестве первой реальности и минимальной единицы анализа в сфере психологии творчества.
Большинство исследователей творчества до сих пор считают возможным отвлекаться от того «неудобного» обстоятельства, что даже наиболее известные, хрестоматийные исследования в области творческого мышления, такие как, например, дункеровские исследования «продуктивного мышления», не говоря уже о разного рода исследованиях через формирование (от практик «стимуляции творчества» до собственно «формирующих экспериментов»), с очевидностью обнаруживают неустранимость момента искусственной организации изучаемого процесса решения творческой задачи. Так, например, нетрудно показать, что в исследованиях Дункера процесс решения задачи строится в диаде «испытуемый-экспериментатор», причем экспериментатор организует работу испытуемого через непрерывное опровержение предлагаемых им решений. Важно подчеркнуть, что дело тут не столько в правильном определении границ того – нового, более широкого – целого, которое только и может претендовать на «автономное» существование, но в верном установлении характера этого целого. Важно не то, что исследователь должен перейти в данном случае к рассмотрению более широкого, по сравнению с традиционными представлениями, целого, включающего и самого экспериментатора, но в том, что это новое целое – совершенно особой «природы», что оно с необходимостью содержит некую искусственную компоненту – специальное действие по организации исходного действия по решению задачи, то есть психотехническое действие. Это новое целое поэтому – по самой своей «природе» – в принципе не допускают представления в виде законосообразно живущего естественного объекта и, соответственно, экспериментального его исследования, как того требует классическая естественнонаучная парадигма.
В последние десятилетия и за рубежом и в нашей стране создан целый ряд мощных техник «стимуляции творчества»: «мозговой штурм» Осборна и «сенектика» Гордона, «морфологический анализ» Цвики и «алгоритмы изобретения» Альтшуллера – вот только наиболее известные из них. Однако, несмотря на невероятную эффективность и популярность этих систем, многие принципиально важные даже и в практическом отношении вопросы, такие как аккумуляция опыта и перенос опыта из одной практики в другую, направленное и контролируемое развитие как отдельных практик, так и всей сферы творчества в целом, до сих пор не только остаются нерешенными в рамках самих этих практик, но и даже – по мнению некоторых авторитетных специалистов в области творчества – в принципе не могут получить своего решения. Все эти проблемы даже и со стороны интересов самой практики ставят задачи серьезного теоретического осмысления опыта этих практик, адекватной методологической и теоретической их рефлексии. Внутри самих этих практик, однако, как в том нетрудно убедиться, задачи эти решены быть не могут: наличные в них представления о творчестве и методологические установки, весьма наивные и подчас даже фантастичные, в лучшем случае – сугубо эмпирические, как правило, не выдерживают критики.
На первый взгляд представляется естественным в такой ситуации обращение к собственно научной психологии творчества, благо она уже в течение многих десятилетий интенсивно разрабатывается многими выдающимися исследователями. Однако на этом пути мы должны заведомо потерпеть неудачу.
Как уже было сказано, знания, характерные для естественных наук экспериментального типа, относятся к особым идеальным объектам, которые по сравнению с реальными и полноценными опытами творчества оказываются усеченными и вырожденными случаями. В силу чего эти знания и вся академическая психология творчества в целом оказываются бесконечно далекими от реальных практик творчества. Неудивительно поэтому столь характерное для психопрактиков равнодушие или даже подчеркнутое пренебрежение к академической психологии: она, как правило, действительно не может сказать им ничего дельного про те сложные и реальные формы творчества, организацией и развитием которых они занимаются. И это проистекает из самой природы экспериментальной науки. Поскольку в случае практик творчества мы имеем дело с совершенно особыми по типу знаниями, вырабатываемыми для организации и реорганизации этих практик, знаниями, принципиально отличающимися от естественнонаучных, то академическая психология творчества, равно как и ее методология, знающие и признающие только один тип знания – естественнонаучный, не только принципиально не способны к адекватной рефлексии опыта практик творчества, к его критической оценке и ассимиляции, но и, навязывая свой способ мышления – как единственно верный и универсальный – самой практике, эта психология ведет к ложному самосознанию самой практики.
Все это порождает состояние глубокого, хронического и, по многим признакам, безысходного кризиса современной психологии творчества. Каковы его основания и движущие силы, то есть «диагноз» и «прогноз», и какими должны быть «назначения»? Повторим еще раз: в случае естественнонаучного эксперимента исследование нацелено на получение такого знания об объекте изучения, которое позволяло бы представить его как естественно существующий объект, то есть не предполагающий никакого знания о нем и никакого его исследования в качестве необходимого условия его существования (что, собственно, и эквивалентно понятию «естественно», то есть законосообразно, и в этих своих законах совершенно независимо ни от какого знания или исследования существующего объекта). В рамках же психотехнической парадигмы – как ни парадоксально это может выглядеть с традиционной точки зрения – исследование с самого начала строится так, чтобы получаемое в нем знание позволяло развертывать такую форму практики, которая предполагала бы (и, стало быть, в конце концов включала бы) это ее исследование и доставляемое им знание в качестве условия самого своего существования и развития. Иначе говоря, если естественнонаучное исследование «извлекает» себя из объекта изучения, только так достигая своей «объективности», то психотехническое – напротив, внедряется в него, только так получая возможность вообще иметь с ним дело.
Итак: чтобы преодолеть «фельдшеризм», характерный для современных практик организации («стимуляции») творчества, необходимо так выращивать «организмы» этих практик, чтобы они с самого начала включали – в качестве своего «органа» – специально развертываемое их исследование, а, с другой стороны, чтобы преодолеть «академизм» современной психологии творчества, нужно перейти от экспериментальной парадигмы, имеющей дело с искусственными и далекими от жизни «препаратами» от творчества, к исследованию реальных и полноценных форм и опытов творчества, – творчества, которое, в свою очередь, дабы отвечать своей собственной «природе» – с одной стороны, и задаче необходимой для анализа объективации – с другой, само должно осуществляться в виде и посредством психотехнических действий, обеспечивающих проектирование, реализацию и направленное развитие той самой практики, исследованием которой оно является.
Остается лишь заметить, что принципиальная идея подобного рода исследования была более полувека назад сформулирована Л.С. Выготским в рамках его «культурно-исторической психологии» как идея «инструментального метода» в психологии.
Психология личности и психотерапевтическая практика [6]
Представления о личности, складывающиеся в рамках различных психотерапевтических практик , по своему статусу существенно отличаются от положений собственно научной – экспериментальной – психологии. Многие из этих представлений не допускают прямой объектной интерпретации: зачастую нет и не может быть в действительности такого объекта, который можно было бы поставить в непосредственное соответствие этим представлениям. Внутренняя объектная рефлексия самой психотерапевтической практики – с точки зрения стандартов верификации научного знания – оказывается несостоятельной. Существенно, однако, что рефлексия эта не может быть просто отброшена (как никуда не годная) с сохранением самого опыта работы с личностью (как самого по себе ценного и лишь неверно осмысленного). Рефлексия эта является, как правило, не просто внешним отражением процессов и отношений внутри психотерапевтической практики, но представляет собой органическую часть и необходимый момент самой этой практики. Итак: опыт работы с личностью, получаемый внутри психотерапевтических практик, чрезвычайно значим для психологии личности, в силу чего встает задача его ассимиляции . Формы его теоретического осознания внутри самих практик, однако, неудовлетворительны, так что соответствующие представления о личности не могут быть непосредственно заимствованы научной психологией личности. Наконец: сам терапевтический опыт существенным образом опирается на эти представления и ими определяется, в силу чего представления эти не могут быть отделены от самого терапевтического опыта. Можно ли в таком случае найти некую «абсолютную» систему отсчета , в рамках которой представления о личности практической психологии были бы психологически реальными и осмысленными вне зависимости от того, возможна или нет их прямая объектная интерпретация? Иначе говоря, встает вопрос о единице и методе их анализа. В качестве ближайшей такой единицы выступает психотехническое действие , благодаря которому достигается тот или иной психотерапевтический эффект и, далее – та или иная система психотерапевтической практики в целом. Рассмотреть какое-либо представление по отношению к определяемой таким образом единице анализа – значит взять его в тех основных его функциях , которые оно реально выполняет в соответствующей системе психотерапии.
Материалом анализа при этом должны стать не только те « факты» , с которыми имеет дело психотерапевт, и даже не они сами по себе , но некоторая более широкая система, включающая также и план представлений о личности и о технике работы с ней, представлений, в форме которых эти факты осмысляются терапевтом, и, что еще более важно, – план « употреблений » этих представлений, их функционирования в системе психотерапевтической практики. Естественно, что характер и число таких функций будут различны для разных видов психотерапии. Так, в случае классического психоанализа выделяются прежде всего две функции основных психоаналитических конструктов – соответственно основной диадной структуре ситуации психоаналитической терапии, двум основным полюсам в ней – пациента и терапевта. В отнесении к позиции пациента любая из психоаналитических конструкций (типа представлений об инстанциях личности, психологических комплексах, символике сновидений и т. п.) выступает – в ее « психотехнической » функции – как особого рода средство « организации нового опыта сознания » и через это – достижения основного психотерапевтического эффекта. По отношению же к позиции терапевта функция психоаналитических конструкций состоит в том, чтобы обеспечить определенное – действенное и ситуативное – понимание, на основе которого терапевт мог бы управлять ходом психоанализа и наиболее эффективно достигать психотерапевтических результатов. Наконец, важна и транслятивная функция теоретических построений психоанализа – их работа в качестве средств передачи опыта терапии и ее воспроизводства как особого рода деятельности.
В сообщении будет представлена попытка выделить некую универсалию основной структуры психотерапевтической практики, универсалию, которая могла бы выступить в качестве своеобразного «модуля» при сопоставительном анализе различных терапевтических практик, и, на основе этого, высказанные положения будут продемонстрированы на разборе некоторых психоаналитических представлений, равно как и представлений о личности, сложившихся в индирективной психотерапии К. Роджерса и транзактном анализе Э. Берна.
«Герника» Пикассо: опыт психологического анализа [7]
Каким образом психолог может иметь дело с реальными вещами искусства, с творчеством реальных художников? Пытаясь ответить на этот вопрос, мы ограничимся в данной работе демонстрацией принципиальной идеи, или принципиального подхода к анализу художественного творчества, – подхода, который, вслед за Выготским, можно было бы назвать «объективно-аналитическим» или культурно-историческим. Вместе с тем, это будет реализацией того особого типа исследования, который в психологии называют иногда «анализом одного случая», то есть мы возьмем для анализа всего только одну вещь искусства – «Гернику» Пикассо – и попытаемся провести этот анализ во всей конкретности и уникальности «данного случая».
Конечно же, выбор и художника, и картины неслучаен. Что касается фигуры Пикассо, то ее выбор будет неоднократно мотивироваться в ходе самого исследования. По поводу же выбора именно «Герники» из всего огромного наследия Пикассо необходимо высказать несколько предварительных соображений. Эта работа взята нами не потому, что является одной из самых известных и значительных работ художника (а возможно – и одной из самых знаменитых работ в истории искусства двадцатого века или даже, как многие считают, во всей истории европейского искусства в целом), но потому, что в самом творчестве Пикассо она занимает особое место.
«Герника» написана в 1937 году. Это действительно одна из центральных работ в творчестве художника – не только по ее значению, но еще и потому, что у самого Пикассо она собирает множество разных линий – как из прошлого, так и, в каком-то смысле, даже из будущего, то есть является узлом, на котором стягиваются многие сквозные для творчества Пикассо темы и проблемы.
Но для исследователя – особенно для того, который пытается подойти к анализу художественного творчества со стороны психологии, – эта работа является особой и еще в одном отношении. Она уникальна тем, что в этом случае сохранились почти все предварительные материалы. Для творчества Пикассо это совершенно исключительный случай, поскольку, как правило, ничего из черновой работы не сохранялось. Тут же сохранилось не только большое число предварительных набросков, своего рода «графических записей» мыслей, иногда отдельных даже мыслей, – в фотографиях сохранилась также и последовательность работы над окончательным вариантом этой картины, и можно проследить, как Пикассо пришел к нему. В случае этой работы Пикассо, как и для всего его творчества (а возможно – и вообще для анализа любого сложного и серьезного произведения искусства), это обстоятельство представляется решающим. Оно позволяет попытаться «изнутри» выполнить реконструкцию логики работы, ее содержания, не всегда прямо записанного в ней, – того ее смысла, ради которого она, в конце концов, была создана.
Два слова об истории создания этой работы. «Внешним» поводом для ее создания послужило действительно трагическое, страшное событие, которое произошло в самом конце 36-го года, – бомбежка одним из нацистских штурмовых отрядов небольшого баскского городка в Испании (скорее даже селения, чем города). За несколько часов бомбежки Герника была буквально стерта с лица земли. На следующий день все газеты мира уже писали об этом, и Пикассо, конечно, тоже узнал и был потрясен этим известием. У него как у художника сразу появилось желание как-то откликнуться на это.
Но какое-то время он не мог даже подступиться к этой теме. Быть может, потому, что он был так сильно захвачен аффектом, связанным с этим сообщением, – а может быть, потому, что протекал какой-то скрытый «инкубационный период», в ходе которого произошла стяжка, стыковка двух линий его творчества.
Первая линия – это та, которую можно было бы связать непосредственно с данным событием и, соответственно, с внешним – социальным, гражданским и, возможно, политическим – содержанием этой работы. В основном именно благодаря этой стороне «Герника» и получила свою известность, свое особое звучание и стала одной из самых знаменитых работ не только двадцатого столетия, но и вообще в истории живописи. Во всяком случае, она стала своеобразным символом искусства двадцатого века. Эта линия связывает работу Пикассо с событием истории: прежде всего, истории Испании (родины Пикассо), но также и истории Европы – предвоенной Европы и Европы времен гражданской войны в Испании, когда уже надвигалась и разрасталась нацистская чума, – и истории двадцатого века в целом.
Я пытаюсь показать, однако, – и в этом состоит пафос моей сегодняшней беседы, – что хотя, конечно, эта первая линия и важна, но мы не поймем чего-то очень важного и, может быть, даже главного в этой работе, если ограничим ее содержание только внешними драматическими обстоятельствами. В не меньшей мере эта работа является своего рода исповедью и отчаянной попыткой некоего духовного очищения и спасения, прежде всего – для самого Пикассо, а через это и тем самым – тем, что открывает такую возможность и для каждого человека. Эта работа является предельно личностной вещью. Личностной – не только для самого Пикассо, но и для каждого человека, который чувствует ответственность перед собой и перед другими людьми за то, что происходит в мире. Достаточно посмотреть на «Гернику», чтобы выйти на эту линию обсуждения.
Первое, что удивляет после знакомства с внешними обстоятельствами ее создания, – это то, что отклик на вполне реальное гражданское событие получился у Пикассо в какой-то странной, мифологической форме.
Мы видим, что действующими лицами – главными действующими лицами – являются здесь даже не люди, хотя и они тут есть (и это люди, которые, понятное дело, пребывают в состоянии агонии и отчаяния), – но главными фигурами в этой работе являются все же две нечеловеческие фигуры: это лошадь в центре картины, которая тоже агонизирует – она смертельно ранена, видно несколько огромных, зияющих ран, – и это бык, который находится в углу картины. Фигура быка только наполовину реальна, а наполовину она – мифологическая. Если обратить внимание на эти фигуры, то можно уже понять, что в эту работу Пикассо вошло не только само событие, но и его прошлое.
Из творческой биографии Пикассо известно, что в годы, непосредственно предшествовавшие созданию «Герники», то есть в 20-е и 30-е годы, им была создана уникальная и весьма разработанная система своей собственной мифологии.
Отчасти она перекликалась с рядом мотивов и фигур средиземноморской мифологии, античной мифологии и мифологии Ближнего Востока. Но и эти мифологии были переработаны в очень индивидуальном ключе, и этот процесс переработки отражен у Пикассо не только в его станковых работах, но прежде всего в больших графических сериях. Широко известна так называемая волларовская серия. Почти на каждом из листов этой серии встречается фигура быка, а точнее – минотавра. Причем если просмотреть эту серию целиком, выстроив ее в ряд, то – как и в случае серии подготовительных этюдов и эскизов к «Гернике» – можно увидеть определенный процесс развития. Это не только внешнее, сюжетное развитие, но также и развитие смысловое – развитие тех смыслов, которые придавались основным действующим фигурам, ситуациям и сюжетам. Положим, фигура быка в волларовской серии весьма противоречива. И эта противоречивость должна быть непременно учтена при анализе быка «Герники». Противоречивость эта состоит в том, что, с одной стороны, здесь (как и на многих других работах Пикассо) мы видим быка как некоторое предельное воплощение грубого, брутального, агрессивного, не подвластного контролю начала – начала, которое, как правило, связано также и с насилием, часто в эротическом смысле этого слова. Мы снова и снова встречаемся с этим. Пикассо и сам неоднократно говорил, что фигура минотавра является для него не столько очеловеченным животным, как это было для античных греков, сколько, наоборот, брутальным, темным началом в самом человеке. На многих работах мы видим вакханалии, где минотавр является одним из действующих лиц. Но, вместе с тем, на других работах этой серии можно видеть, как у Пикассо происходит то «слипание», то «разъединение» фигуры минотавра и его собственной фигуры, которая появляется уже в человеческом виде. На этих работах мы имеем прямые свидетельства того, что фигура минотавра появляется у Пикассо не просто в связи с античными сюжетами, но является неким сквозным олицетворением самого художника, чего-то важного в нем самом. Важное замечание, которым мы еще воспользуемся, когда снова вернемся к анализу «Герники». Нас не должно смущать то обстоятельство, что на некоторых листах, кроме минотавра, присутствует еще и что-то вроде автопортретов – странных автопортретов – самого художника. Психолог этому не должен удивляться: он понимает, что, опускаясь в «глубины бессознательного», мы снова и снова встречаемся с такого рода «множественным» представлением души человека: она как бы «раскладывается» на несколько различных «фигур», которые в своем взаимодействии и разыгрывают драму, которую можно назвать «внутренним планом» душевной жизни человека и его развития.
Существуют, однако, и совершенно иные листы волларовской серии, где минотавр совсем не так агрессивен, совсем не так жесток, иногда он даже трогателен, он оказывается фигурой беззащитной или даже как будто бы жертвой – как, например, на листе, где ослепленный минотавр беспомощно, продвигаясь ощупью, идет вперед. Здесь встречается и другой – важный для Пикассо этого периода – символ: фигура маленькой девочки. На одном из листов она с букетиком цветов, на других работах на месте цветов мы находим огонь или свечу, что, опять же, указывает на некое символическое значение этой детали, как бы переходящее от одной вещи к другой. Эту гравюру с ослепленным минотавром и девочкой интересно сравнить с другой, очень известной гравюрой, примыкающей к этой серии, которая называется «Минотавромахия». В «Минотавромахии» мы видим минотавра по-прежнему агрессивным, страшным, жестоким. И опять перед ним лошадь, которая и тут появляется со вспоротым животом, откуда вываливаются ее внутренности. На спине этой лошади (важная деталь) – матадор, и это – женщина: прекрасная женщина, которая находится в каком-то странном состоянии – то ли обморока, то ли она уже мертва. Здесь мы видим, что крайняя слева от зрителя фигура – фигура, бесспорно олицетворяющая самого художника, – изображает бегство, пассивное бегство. Изображенный на гравюре мужчина пытается спастись бегством. Это взрослый, сильный мужчина, и он пытается бежать по лестнице – «лестница» тут, конечно, тоже не случайна – как не случайно мы видим «подъем вверх». Здесь присутствуют и эротические смысловые обертона, но главное – это то, что лестница тут символизирует подъем вверх: можно было бы сказать – из неких темных глубин души к чему-то, что лежит вверху, к чему-то более светлому, скажем – к сознанию. Это обстоятельство намекает нам на то, что фигура художника здесь символизирует прежде всего сознательную часть его личности. Он пытается бежать. А при этом – совершенно бесстрашно, с каким-то внутренним спокойствием и с какой-то даже почти участливой нежностью встречает этого разъяренного быка маленькая девочка. В одной руке у нее опять маленький букетик цветов – что всегда знаменует, как мы знаем, чистоту и невинность, но также и открытость и трогательную беззащитность. А в другой руке – свеча. Свеча – это символ огня, света, который, правда, загорается тут «среди бела дня», что, опять же, указывает на его непрямое, символическое значение – света внутреннего (который, кстати, как мы знаем по мотиву «ослепления», хотя бы в случае того же Эдипа, становится видимым, открывается или даже загорается только для того, для кого гаснет внешний, дневной свет). Хотя общая атмосфера сцены – мрачная, но все-таки действие происходит в экстерьере, и видно, что еще совсем не темно: вдали виден некий морской пейзаж, и он хорошо просматривается. Свеча, светильник имеет здесь второе, символическое значение – это не просто прибор, чтобы светить во тьме в буквальном смысле слова. Это – светильник в том же значении, в котором он встречается потом и в «Гернике» – там тоже, помимо основного, есть некий второй, загадочный источник света. Там есть, во-первых, лампа, и она, казалось бы, достаточна для того, чтобы осветить – в физическом смысле – все, что происходит. Но есть и второй свет. Второй свет, который врывается в это подземелье. Его держит протянутая – опять же, женская – рука, рука некой непонятной женской фигуры. Мы можем вспомнить тут и еще одну странную фигуру – фигуру древнегреческого философа Диогена, который, по преданию, ходил с фонарем среди бела дня по главной городской площади, а когда его изумленные сограждане вопрошали, зачем это он зря жжет масло днем, когда и так все прекрасно видно? – он, как мы помним, отвечал этим неразумным людям, что ищет-то он человека – человека среди людей, – или, что то же: человеческое в человеке. А это, как оказывается, и днем с огнем не найти. Вот такого рода ассоциации можно связать с этим странным светом – светом, который врывается в темное пространство, заполненное агрессией, жестокостью и страхом, откуда-то как будто бы из другого мира, и он призван высветить здесь что-то взглядом из этого другого мира. И свет этот, как мы снова и снова видим у Пикассо, оказывается связан с фигурой ребенка, маленькой девочки, знаменующей чистоту и невинность. Вспомним фильмы Феллини – «Джульетту и духи» или «Сладкую жизнь»: они сделаны с такой же установкой, о какой мы говорим сейчас применительно к «Гернике», – с установкой на то, чтобы попытаться всех персонажей представить сразу в двух измерениях: в реальном, и даже подчеркнуто сниженно обыденном – и одновременно в неком другом, «ортогональном» измерении. Так, в «Джульетте и духах»: с одной стороны – вполне реальные и обыденные события, происходящие в одной обычной семье, семье героини – Джульетты. В этом внешнем, «реальном» плане героиня оказывается в некой критической точке своей жизни, она должна принять важное решение: расстаться с мужем или нет? Это женщина уже достаточно зрелого возраста, ей где-то за 40. Но вместе с этой реальной линией все время присутствует, проводится и какая-то вторая линия: каждая ситуация, каждый образ, каждый шаг этой героини, каждое действие окружающих ее людей имеют еще и какой-то второй смысл – значение, соотнесенное не с планом внешних событий, внешнего решения, которое должна принять героиня, но с планом ее внутренней – душевной и духовной – жизни, во многом непонятной и загадочной для нее самой, для окружающих и для зрителей. Только потом, когда мы выходим из зрительного зала и начинаем снова и снова мысленно возвращаться к этому фильму, думать над отдельными его эпизодами и образами, – только тогда мы начинаем вдруг что-то понимать, у нас начинает что-то связываться, начинает «говорить» именно в этом – втором – плане. «Сладкую жизнь» можно вспомнить в связи с заключительным эпизодом фильма. Этот фильм тоже есть попытка особого рода аналитического исследования внутренней биографии современного человека – современного художника (по фильму – журналиста), который тоже оказывается в некой критической жизненной ситуации, когда решается вопрос, быть или не быть ему как человеку, как личности, как художнику. У этого фильма, как мы помним, довольно-таки безысходный финал. На протяжении всего фильма его герои «играют» в жизни, они в каких-то масках, непроницаемы друг для друга, и нет места для подлинной встречи и контакта между ними. И вот – в конце фильма как будто бы происходит некий прорыв. Но он возможен только на какое-то короткое время, и уже минутой позже мы понимаем, что все будет как было, по-старому. Всю ночь гулявшая – и здорово погулявшая – компания ранним утром готова разъехаться. Поначалу, казалось бы, продолжают происходить еще какие-то события в духе прежнего, хотя уже и идущего к концу «веселья», которое всю ночь продолжалось в каком-то фамильном замке одного из участников этой компании. Все происходит вблизи берега моря, и вот кто-то вдруг замечает что-то необычное на берегу. Все нетвердой походкой направляются туда и видят, как на их глазах рыбаки вытягивают сети с каким-то огромным странным чудовищем. Кто с любопытством, кто с ужасом разглядывает его, отпуская скабрезные шуточки. Но героя даже вид этого чудовища уже не способен развлечь: «как можно смотреть на это?!» – восклицает он и отходит в сторону. И вдруг – какая-то остановка: что-то перпендикулярное всему этому ходу событий начинает происходить с героем. Он вдруг слышит обращенные к нему крики, поднимает голову и видит вдалеке, по ту сторону какого-то небольшого залива, девочку, что-то кричащую ему. Маленькую девочку, с которой незадолго до того случайно познакомился. Она почему-то тоже оказывается в этот час на пляже. Раннее утро. Девочка что-то кричит, пытается жестами что-то сказать герою, но рокот волн заглушает ее крики. «Я ничего не слышу, не понимаю!» – снова и снова кричит он ей в ответ, стоя на коленях у кромки разделяющей их воды. Все происходит как-то очень чисто, светло и трогательно. Герой сокрушенно разводит руками и позволяет увлечь себя вослед всей уже насытившейся зрелищем рыбы и удаляющейся вдоль берега компании. Девочка улыбаясь смотрит ему вслед и потом поворачивает голову и оказывается глядящей глаза в глаза зрителю. И это последние кадры фильма. Весь этот эпизод вполне мог бы быть эпизодом сна. Да он и должен так восприниматься. Сна, толкование которого излишне.
Важно, что основные фигуры, с которыми мы встречаемся в «Гернике», не были специально изобретены или выдуманы Пикассо для этой работы, – это фигуры, сквозные для всего творчества Пикассо предыдущих лет. И каждая из них тянет за собой определенные ассоциации. Так, минотавр – через какие-то детали ряда более ранних работ Пикассо – неожиданно связывается с одним из сквозных образов его «розового» периода, а именно с фигурой Арлекина. На одной из работ этого периода можно видеть минотавра в костюме Арлекина, причем и здесь мы улавливаем особое символическое содержание. Мы видим фигуру поверженного чудовища – минотавра, на которого надет пестрый костюм, похожий на костюм Арлекина, и вместе с тем в этой фигуре явно просматривается идентификация с самим художником. В случае другой из этих ранних работ, где фигуре Арлекина придано прямо-таки портретное сходство с самим художником, в этом можно непосредственно убедиться. Выстраивается цепочка, которая позволяет предположить, что фигура минотавра обозначает не какое-то – безличное и внешнее по отношению к самому художнику – агрессивное и брутальное начало, но является фигурой, знаменующей что-то в душе самого Пикассо.
Не менее важны для понимания «Герники» и графические листы из серии «Мечты и жизнь Франко». Эта работа была начата еще до «Герники» – что важно, поскольку здесь обнаруживаются бесспорные параллели с «Герникой», например, фигура кричащей женщины с ребенком на руках и другие фигуры и мотивы. Естественно возникает вопрос: что же было раньше и что откуда перешло? По-видимому, последние листы этой серии были сделаны уже после «Герники», и мы видим, скорее, следы «Герники» на некоторых листах этой серии, а не наоборот, хотя начата эта серия была еще до «Герники».
Обратимся теперь непосредственно к материалам, которые связаны с зарождением замысла «Герники».
Первые листы, прямо относящиеся к «Гернике», датированы 1 мая 1937 года, то есть они созданы всего несколько дней спустя после гибели Герники. Поначалу замысел работы еще очень невнятен – трудно даже понять, что за фигуры на этих листах. Это какая-то прямо-таки «пиктографическая» запись для себя, своеобразная скоропись без всякой еще попытки как-то графически воплотить замысел, реализовать его. Вскоре, однако, – уже на первых набросках – появляются некоторые мотивы, которые войдут затем в окончательный вариант «Герники». Что интересно – на разных набросках разные мотивы появляются первоначально порознь, и только потом они вступают в какие-то взаимодействия между собой, начинают складываться в какие-то фрагменты будущей композиции, причем характер отношений между этими разными мотивами от листа к листу неоднократно меняется.
На первых листах эти отдельные мотивы – как раз потому, что они выступают еще в изолированном виде, – легко читаемы. Следует заметить, что у Пикассо ничто не случайно, все важно, все имеет значение, начиная с формата листа или, точнее говоря, композиции. Формат первых вариантов наброска целостной композиции разный: начиная с какого-то листа мы видим близкий к окончательному вытянутый по горизонтали прямоугольник, тогда как первоначальный формат листа близок к квадрату. И это – не случайно.
Уже на первых набросках мы видим главные фигуры последующей композиции: быка, лошадь, руку со светильником. Причем как раз первые листы с очевидностью указывают на несводимость значения этого образа к прямому, буквальному, которым, казалось бы, можно было бы ограничиться, исходя из окончательного варианта «Герники».
В этом окончательном варианте события происходят в каком-то странном подземелье. Мы видим детали интерьера: намечены углы комнаты, потолок, пол и т. д. Однако вскоре мы понимаем, что интерьер этот – одновременно и экстерьер. Подобное можно встретить на наших древних иконах: показано какое-то действие в храме, а вместе с тем – и внешний вид храма: крыша, купола, колокола, птички какие-то и т. д. В случае «Герники» мы тоже видим некоторые детали экстерьера – например кусок черепичной крыши, – и он, на первый взгляд, совершенно не вяжется с остальным построением картины. И мы можем недоумевать по поводу того, что здесь нарисовано, что это может значить, если воспринимать эти детали как принадлежащие к интерьеру комнаты. И как раз первые листы подготовительных набросков позволяют понять, что же тут изображено на самом деле. Первые листы этих набросков – даже и те, что выполнены уже не на маленьких подготовительных листах, а на большом формате, – еще дают всю ситуацию в экстерьере, как нечто, происходящее на улице или на площади. И только в конечном варианте оказывается, что действие происходит одновременно и в каком-то подземелье. И это, опять же, не случайно, но понятно ввиду символического толкования, к которому ведет наш анализ. Так, взятый в экстерьере, по своему прямому назначению, светильник лишен смысла.
Обратим внимание еще на одну деталь, которая встречается на первых листах в хорошо различимом виде: это – какая-то загадочная фигурка маленькой крылатой лошадки, сидящей на спине минотавра. Что это: Пегас? Но на другом листе, где мы видим нечто подобное, это, скорее, что-то похожее на птицу. Что значит эта фигурка? Ответ дает еще один набросок, на котором мы видим, как эта маленькая крылатая лошадка появляется из рассеченного тела, из зияющей раны на фигуре лошади. «Пегас» сам по себе – это символ искусства вообще, и, к тому же, он всегда связывается еще с одним мотивом – с мотивом возрождения, как и жар-птица. Это устойчивый символ возрождения – творческого начала жизни и – самой жизни. Вместе с тем, коль скоро этот «Пегас» появляется здесь из смертельно раненой, умирающей лошади, он может означать и что-то вроде ее души, которая «отлетает», выходит. Этот устойчивый мифологический мотив часто появляется в фильмах. В «Зеркале» Тарковского – в эпизоде, где герой лежит в постели и непонятно, что с ним: он чуть ли не умирает, – почему-то в руке он держит птичку, мнет, мучает ее, и потом она куда-то исчезает. Тарковский – художник, который тонко чувствует символические и мифологические измерения вещи.
В окончательном варианте «Герники» эта птичка тоже присутствует, и, если не знать подготовительных стадий, она была бы совершенно непонятной – здесь она нарисована на стене и почти неразличима. Из самой картины ее значение не понятно. Но, будучи взята в контексте набросков, она получает некое символическое значение. Этот анализ похож на толкование сновидения: наброски – это что-то вроде «свободных ассоциаций», через которые можно понять смысл элементов самой картины. Интересно было бы просмотреть, как замысел Пикассо меняется от эскиза к эскизу, какие все новые и новые повороты он претерпевает, как появляются новые фигуры, в частности – фигура некоего воина, который в окончательном варианте присутствует уже в страшном, обезображенном виде. Здесь он тоже в состоянии какой-то агонии, тогда как на первых эскизах он похож, скорее, на упавшую греческую статую. И опять мы видим сочетание двух взаимоисключающих мотивов: в руке воина меч, правда, сломанный, – но вместе с тем откуда-то «прорастает» цветок.
По мере продвижения к окончательному варианту композиция становится все более и более статичной – на предварительных набросках бык проносится куда-то, что-то падает, рука вырывается откуда-то и т. д. В сравнении с этими эскизами окончательный вариант производит впечатление чего-то застывшего, однако при этом – чрезвычайно экспрессивного. Быть может, следовало бы сказать, что и здесь, как и по отношению к бессознательному, едва ли применимы обычные категории времени. Невероятно напряженная динамика, которую подчас можно обнаружить в бессознательной жизни, происходит в каком-то особом мире, где время в обычном смысле слова отсутствует, где царит вечное настоящее и происходит «вечное возвращение».
От эскиза к эскизу нарастает мрачность, темнота. В окончательном варианте она внешне мотивирована тем, что действие, вся драма разыгрывается в каком-то темном подземелье – что, конечно, символизирует некую темную сторону души, бессознательного. И здесь можно сказать, что самый окончательный формат картины не случаен. Этот формат есть только половина – нижняя половина – первоначального формата. Исследователи отмечают особую неуравновешенность композиции. Она как будто бы «закрыта» со всех сторон, кроме верхней – где, напротив, много линий, движений, которые уводят глаз вверх: воздетые вверх руки, обращенные вверх лица, головы и даже просто открытые места картины. Композиция «открыта вверх», как будто она обрезана ножницами и что-то там было еще вверху. Мы могли бы мысленно дополнить ее до некоего целого, где вместе с этим темным подземельем, своего рода эквивалентом бессознательной части души, можно бы предположить нечто, относящееся к миру сознания. Хотя сам Пикассо, скорее всего, и не отдавал себе в этом отчета, но, просматривая наброски, мы видим, как он с какой-то почти маниакальной последовательностью отсекает и «вытравливает» из этой работы все, что можно было бы связать с дневным сознанием. Все это, в конце концов, ушло из картины. Однако хотя прямо оно здесь и не представлено, но оно все-таки как-то присутствует, составляет некий неявный смысловой горизонт восприятия. Этим, быть может, и обусловлено впечатление «незавершенности» работы. Как отмечают исследователи, парадокс этой работы, ее явного содержания состоит в том, что мы не находим здесь агрессора и жертвы, победителя и побежденных, страдающих и мучителей. В конце концов, все представленные здесь фигуры разделяют судьбу жертвы. Даже бык, на котором мы не видим никаких явных, прямых следов ранений, агонии и т. д., все равно находится в каком-то невероятно напряженном, потрясенном, испуганном и потерянном состоянии. Он явно не в себе. И непонятно, не должен ли и он в конце концов разделить участь всех других фигур, которые здесь изображены. Это обстоятельство для исследователей выступает как загадка: непонятно, что же все-таки хотел сказать всем этим Пикассо.
Ключом к «Гернике» должно быть понимание того, что Пикассо написал ее, прежде всего, для себя. Трагедия, о которой Пикассо узнал в конце апреля 1936 года, – уничтожение беззащитной деревушки – была потрясением, которое инициировало некий внутренний процесс в душе Пикассо, в результате чего он оказался на пороге внутренней катастрофы. И мы встречаем тут Пикассо «неведомого», неожиданного с точки зрения расхожих представлений о нем как о баловне судьбы, миллионере, который купался в золоте, покупал себе лучших женщин, жил вообще в свое удовольствие: где хотел, как хотел, делал, что хотел, и т. д. Но это представление, даже если его относить к последним годам жизни Пикассо, когда он действительно был богат, действительно мог делать все, что хотел, – даже и тогда оно едва ли приложимо к нему. Такое представление о Пикассо – вульгарно, оно является мифом, который порожден враждебно настроенными к Пикассо зрителями, художниками, критиками и т. д. Если мы постараемся всмотреться в реальные факты жизни Пикассо, то увидим, что по крупному счету он был предельно серьезным, собранным и глубоким человеком, озабоченным прежде всего проблемами своего творчества и осуществлением того внутреннего поиска, который вел всю жизнь. Казалось бы, против такого утверждения нетрудно привести некоторые шокирующие факты биографии Пикассо, которые время от времени появляются в печати. Так, говорят, что на могиле Пикассо выбита циничная надпись – что-то вроде «Ну и хорошо же я подурачил людей». Эта фраза Пикассо – разве она, дескать, не есть окончательное доказательство того, что Пикассо был человеком без всяких принципов, гедонистом, которому не было дела до других людей и который ради успеха и денег позволял себе откровенно морочить им голову и ими манипулировать? Больше того – как мы видим из этой его фразы – понимание этого доставляло ему как будто бы даже какое-то удовольствие.
Эту фразу, однако, – даже если она и была сказана – можно понимать как выражение особой позиции Пикассо-художника: позиции, которая не является редкой для современного художника, художника XX столетия, даже для такого, которому трудно отказать в совестливости, ответственности и т. д.; позиции, которая требует от художника развенчивания наивного и доверчивого отношения к искусству.
Даже в науке – в частности и в психологии – встречаются сегодня такие авторы, которые пытаются бороться с наивно-доверчивым отношением к своим текстам. Говоря словами одного из них – пытаются бороться с архетипом пророка и мессии.
Конечно, и они хотят, чтобы их услышали, чтобы то, что они говорят, было понято и принято, – но при этом они строят свой текст вызывающе темно и запутанно. Так, например, поступал один из крупнейших современных психоаналитиков – Жак Лакан. Его опусы – из-за их нарочитой темноты, закрученности, обилия реминисценций из мифологических реалий, из старофранцузского языка и тому подобного – сплошь и рядом не могут читать даже французские интеллектуалы. Даже «продвинутого» и заинтересованного читателя они не могут не раздражать и не отталкивать. «Ну зачем же так писать? – задает вопрос такой читатель. – Ведь он же, в конце концов, ученый! Почему бы ему не писать по-человечески, а не на каком-то “птичьем” языке?!» Действительно, подчас это похоже на откровенное издевательство над читателем. Чтобы «продраться» сквозь одну страницу такого текста, приходится затратить невероятно много сил, в чем, казалось бы, нет необходимости, коль скоро то же самое можно было бы сказать иначе – проще, яснее, логичнее. И выясняется, что у Лакана действительно была сознательная установка на писание таких текстов. У него, правда, тут был и еще один, профессионально оправданный в случае психоаналитика, мотив: психоаналитик, полагал он, в своих собственных текстах должен имитировать тот материал – речь душевнобольного, – который он в этих текстах и анализирует. Но, кроме того, была еще и задача бороться с обычной установкой по отношению к «научному» тексту как к такому, который в силу самого своего статуса научного текста – как будто тем самым у него «на лбу» начертан этакий «знак качества» – требует принимать его без всякой критики, на полном серьезе, за чистую монету, во всем доверяя автору и т. д. «Да нет же, – говорит Лакан, – нельзя так меня читать, ничего не поймете. Нельзя читать так некритично. Даже ученому нельзя доверять. Все нужно испытывать своей собственной мыслью».
Но, быть может, нельзя без критики доверять и художнику? Он тоже может ошибаться, у него тоже есть свои какие-то «пунктики» и «заморочки», свои собственные нерешенные проблемы, которые он может, часто не отдавая себе в том отчета, решать за наш счет. Но главное тут даже не в этом. Читатель не должен доверять – прекраснодушно млея – прежде всего себе, штампам своего понимания. Он должен совершить какую-то встречную работу, потому что чисто и заслуживает доверия только то, что можно взять в некотором внутреннем усилии, в акте совершения работы души. Иначе можно было бы сказать, что это борьба с установкой по отношению к тексту искусства как к вещи, как к тому, что уже само по себе – вне этой работы, которой проходится какой-то внутренний путь, – способно что-то гарантировать. «Будьте бдительны!» – вот к чему призывает такой художник, – «бдительны», прежде всего, в смысле внутреннего «бдения», бодрствования. И если текст вообще чего-то стоит, если он вообще заслуживает того, чтобы его прочли, не следует бояться затратить собственные усилия на то, чтобы его прочесть. Мы знаем, что у Пикассо через всю жизнь прошел мотив какого-то шутовства, юродства. Например, будучи уже 90-летним стариком, он с удовольствием позировал совершенно голым перед фоторепортерами, любил говорить всякие пикантные вещи и т. д. Но мы знаем также – хотя бы по кадрам документальных фильмов, – что есть и другая его половина: мы видим этого человека – как он работает, как он разговаривает и т. д., – видим это потрясающее лицо, видим, как он серьезен, отрешен. Казалось бы: как можно увязать одно с другим? В одном из старых номеров «Курьера ЮНЕСКО», целиком посвященного Пикассо, есть интересная статья, автор которой пытается указать на связь творчества Пикассо с африканским и, шире – с восточным искусством. В этой статье приводится несколько потрясающих высказываний самого Пикассо, которые, может быть, проливают свет на то, как мы должны представлять себе эту загадочную и парадоксальную фигуру. Проливают свет на смысл его позиции – жизненной, человеческой, но также и творческой, как художника. Не побоюсь сказать, что эти высказывания должны перевернуть все наши представления об этом человеке, о смысле его творчества. Причем мы понимаем, что именно здесь он предельно искренен. Похоже, здесь он выговаривает некую свою тайну, которую, быть может, никому (а тем более – всем) и открывать-то был не должен. Настолько все это серьезно – личностно серьезно. Но он почему-то все-таки не может не заговорить об этом. И если нам удается его слышать, мы понимаем, что он все же человек и ему страшно быть одному, совсем одному со всем этим. А человек, имеющий такой опыт, о котором он тут говорит, в котором он тут исповедуется, бесконечно и безнадежно одинок. И «проговаривание» это тут, конечно, не помогает. Но ему не хочется в это верить.
Чтобы войти в тот особый мир Пикассо, в котором он сам совершал – как мы начинаем понимать, глубоко личный и действительно предельно рискованный – путь в искусстве, нужно вернуться на десятилетия вспять, ко времени возникновения его первых кубистических полотен. Если говорить совсем точно – ко времени появления его «Авиньонских девиц». Кстати сказать – как это ни показалось бы парадоксально, – именно в случае этой работы не остается уже никаких сомнений в глубокой связи ее персонажей с личностью самого Пикассо. Стоит только сопоставить с ней автопортрет Пикассо, который помещен в том же номере журнала, – автопортрет примерно того же самого времени, что и «Авиньонские девицы» (портрет написан осенью 1906 года, а «Авиньонские девицы» – весной – летом 1907 года), – как мы понимаем, что, хотя на этом полотне изображены женские фигуры, но их лица – это только многократно размноженный автопортрет самого художника. Как раз по поводу «Авиньонских девиц» Пикассо и сообщает нам чрезвычайные, прямо-таки невероятные вещи, которые действительно все переворачивают в нашем понимании этого художника, а может – впервые только и открывают для нас по-настоящему возможность его действительного понимания.
Итак, Пикассо рассказывает о том, как возникли «Авиньонские девицы» и в какой связи это стояло с африканским искусством, только-только начавшим проникать в европейское искусство, в мир европейских художников. В разговоре с Андрэ Мальро и испанским философом Хосэ Бергамином Пикассо вспоминает о своем первом посещении Трокадеро. (Обратим внимание на то, что вспоминает он об этом как раз тогда, когда заканчивает «Гернику», то есть в 1937 году, – случайно ли такое совпадение?) В этом весьма многозначительном признании сам Пикассо лучше, чем кто-либо другой, объясняет, что значило для него так называемое негритянское искусство. Сначала Мальро знакомит нас с контекстом, в котором Пикассо сделал это знаменательное заявление, и подчеркивает его важность, а затем предоставляет слово самому Пикассо. «Мы беседовали об Испании и живописи. Он (то есть Пикассо) заговорил более откровенно и доверительно, чем когда-либо». Вообще Пикассо был невероятно закрытый человек: в свой мир, в то, что ему было по-настоящему дорого, он не пускал, как правило, никого. Даже самые близкие друзья и члены семьи зачастую не подозревали, какой напряженной внутренней жизнью жил этот человек, причем жил постоянно. Это, быть может, дает ключ к пониманию его эпатирующих заявлений, подобных тому, что мы обсуждали выше. Не есть ли это только способ защиты, способ закрыть доступ в себе к чему-то такому, что он все-таки не решается прямо показывать другим людям?
Но обратимся теперь к рассказу самого Пикассо: «Все время говорят о влиянии, которое на меня оказали негры. Когда я пошел в старый дворец Трокадеро, … я был там совсем один. Мне захотелось бежать оттуда, но я не ушел, я остался. Я понял, что это очень важно: что-то происходило со мной, понимаете?» Каждое слово здесь важно: он был там, в совершенно пустом дворце, он неожиданно наткнулся на эти африканские маски, скульптуры и т. д. И первое его желание – бежать (вспомним фигуру художника, который пытается бежать по лестнице), но он не ушел – он понял, что это для него важно. Не каждый может это сделать. Он остался. Что же с ним происходило здесь? «Эти маски были не просто скульптуры, – продолжает Пикассо, – совсем нет. Они были магическими атрибутами. Эти негритянские изображения были intercesseurs (заступниками, посредниками). Они были против всего – против неведомых, грозящих гибелью духов. Меня всегда влекли к себе фетиши. Я понял: я тоже против всего! Я тоже верю, что все – неведомо, что все враждебно! Все! Не просто: женщины, дети, младенцы, табак, игра, – а все вместе». Пикассо здесь говорит про «духов», про «заклинание духов». И мы знаем, что эти предметы – маски, скульптуры – в традиционных культурах действительно были предметами «магическими» в обычном смысле этого слова. Но в случае Пикассо мы могли бы понимать их прежде всего в психотехническом статусе, то есть как особого рода средства, с помощью которых человек пытается овладеть не внешними силами, но в первую очередь – самим собой, своим «бессознательным». И сам Пикассо далее говорит об этом совершенно недвусмысленно. Поразительно, насколько его рефлексия тут адекватна и точна. «Я понял, – говорит Пикассо, – для чего негры использовали свои скульптуры. Зачем было творить именно так, а не как-нибудь иначе. В конце концов, они же не были “кубистами”! Ведь кубизма тогда просто не существовало». Конечно же, африканцы не были кубистами! Но по контексту слова Пикассо означают тут также и то, что самый «кубизм» не был нарочито «выдуман» как особая техника письма, но что – и это для Пикассо тут оказывается важным – какие-то черты такого особого способа изображения, которые можно найти в африканском искусстве, были глубоко внутренне мотивированы магическим статусом предметов. «Конечно, – продолжает Пикассо, – кто-то однажды придумал эти образцы, а другие стали им подражать. Но разве не это мы называем традицией? Но все фетиши использовались с одной целью. Они были (магическим) оружием, чтобы помочь людям вновь не попасть под влияние духов, чтобы помочь им стать независимыми. Это – орудия. Придав духам форму, мы обретаем самостоятельность». Поразительное заявление! «Придав духам форму, мы обретаем самостоятельность» – что значит: освобождаемся, получаем по отношению к ним свободу. То есть, найдя символический способ выражения для этих темных, поначалу неподвластных ему сил, человек получает возможность овладеть ими. Именно в этом смысле следует понимать слова Пикассо «оружие», «влияние», «освобождение» и т. д. «Духи, – Пикассо сам ставит здесь запятую! – духи, подсознательное (об этом в то время не очень-то рассуждали), эмоции – все это вещи одного порядка. Я понял, почему. Я был художником. Совсем один в этом кошмарном музее, населенном масками и куклами, которые сделали чернокожие, этими пыльными манекенами. Должно быть, “Авиньонские девицы” осенили меня в этот самый день, но совсем не в силу форм…» – обычно ведь здесь говорят о простом внешнем заимствовании – это говорят и о Пикассо, и о Модильяни; но сам Пикассо, как мы видим, понимает дело иначе: «…“Авиньонские девицы” осенили меня в этот самый день, но совсем не в силу форм, а потому, – говорит он, – что это было мое первое полотно, изгоняющее дьявола, – вне всякого сомнения!..». «Дьявола», быть может, следует взять тут в кавычки и понимать это слово в психологическом и психотехническом смысле – как обозначение каких-то темных сил, которые Пикассо, как и всякий человек, чувствует в самом себе. Только такой человек, как Пикассо, чувствует их в себе особенно остро.
В одной книжке, в свое время (в начале двадцатого века) весьма популярной – она была написана юношей, покончившим с собой вскоре после ее написания, – книжке, в целом ужасной и, в общем-то, малоинтересной, встречаются интересные и сильные мысли. На одной из страниц этой книги автор ведет речь о том, что такое «гениальность». Существуют, говорит он, два типа людей. Для одних их спасение – духовное спасение – заранее, с самого рождения уже предрешено. На чашу весов судьбы, которую можно назвать чашей «добра», «положительного» в человеке, брошено гораздо больше, чем на другую, где – «дьявольское», «темное», «злое». Поэтому для того, чтобы спасти себя духовно, чтобы выстоять в своей жизни в качестве человека, таким людям не нужно совершать никаких специальных усилий, не нужно ничего предпринимать, чтобы изменить изначальное свое положение, чтобы выправить коромысло весов в нужную сторону. В духовном смысле они могут позволить себе «спать», могут оставаться непробужденными, жить подобно растениям, без поиска, риска и усилия. И хотя можно было бы сомневаться, что такие люди действительно спасутся, проследим мысль автора до конца. Есть, однако, продолжает он, и другие люди, которые в некотором смысле с самого начала оказываются «проклятыми», – это люди, в случае которых на чашу «злого», «темного», «недоброго» изначально брошено гораздо больше, чем на другую, так что эти люди – просто для того, чтобы выжить в качестве людей в этой своей (изначально, казалось бы, безнадежной) ситуации, чтобы не погибнуть в духовном смысле, чтобы выправить положение этих весов судьбы, – должны совершать постоянное и отчаянное усилие, напряженную внутреннюю работу. Вот такие-то люди, считает автор, они только и имеют шанс, «невозможную возможность», если все же найдут путь к спасению, стать теми, кого мы называем гениями. Гений – это человек, который проделывает опыт своего индивидуального спасения в изначально как будто бы безнадежной ситуации. И этот опыт, если он может быть передан другим людям – тем, которые находятся не в таком отчаянном, не в таком безнадежном положении, – этот опыт может оказаться полезным и для других – «обычных» – людей в их борьбе с темным и злым в себе.
Пикассо был человеком весьма непростым, неодномерным и неоднозначным в этом смысле. В нем было много темных сил, и он сам это чувствовал. Но в нем было и другое: воля и усилие выстоять. Победа для такого человека означает всегда не больше и не меньше, чем «второе рождение», воз-рождение: он должен снова и снова умирать и заново возрождаться в каждой точке своего пути. И это есть то, что через свое творчество пытался делать Пикассо.
Но если такой подход по отношению к Пикассо вообще допустим, то это позволяет, конечно же, совершенно по-другому смотреть даже на его, казалось бы, наиболее известные и, вроде бы, уже вполне понятные (например, в силу их связи с какими-то внешними обстоятельствами) работы, в частности – и на «Гернику». Мы, в конце концов, начинаем понимать: главное, про что здесь пытается сказать Пикассо, – это не про фашизм как таковой и тем более – не про тех чернорубашечников, которые уничтожили маленькую баскскую деревушку, и не про то, с чем можно бороться в каком-то внешнем смысле, не про то, что существует где-то там, вне нас, чему мы с самого начала, казалось бы, решительно противостоим.
Пикассо хочет сказать: то, что случилось, – случилось, может быть, именно потому, что каждый из нас носит эту «чуму» в себе. Подобно тому, как потом Камю в «Чуме» скажет, что каждый носит эти бациллы чумы под мышкой. Если только мы не хотим завтра этой чумой заболеть сами, не хотим допустить эпидемии, мы должны постоянно совершать усилие, внутреннюю работу. Как только мы останавливаемся, «засыпаем» – это в нас начинает разрастаться. «Герника» – это послание, личное послание, обращенное к каждому из нас, призыв к тому, чтобы каждый нашел мужество признать, что все это – не про «них», не про тех, кто уничтожил эту испанскую деревушку, и даже не про этого – быть может, негодяя, быть может, больного – Пикассо, но – про нас; про каждого из нас, потому что каждый из нас – и: вот здесь и сейчас, всегда – сам находится в такой же, как он тогда, критической ситуации. Во всяком случае, про себя Пикассо нашел смелость сказать это. Мы видели, как фигура минотавра интимным образом связана с собственным «я» Пикассо. Он как бы говорит нам: еще вчера и я не подозревал обо всем этом, я жил как бы во сне. Я не знал об этом. Но вот эта ужасная бомбежка и то, что лежит за ней в мире, – это заставило меня очнуться, заставило беспощаднее и серьезнее взглянуть в лицо человека – в свое собственное лицо; это то, что дискредитирует безответственное прекраснодушие, что говорит мне: ты должен бодрствовать, работать. Иначе – катастрофа. Духовная катастрофа. Это – в каждом из нас.
Все эти рассуждения, несмотря на их весьма предварительный характер, указывают, в каком направлении можно было бы думать, если пытаться понимать такого художника, как Пикассо. Быть может, это направление, в котором должен развертываться сегодня анализ современного искусства вообще, которое иначе остается во многом не только непонятным, но и раздражающим, отталкивающим, подчас даже вызывающим отвращение. Не потому ли, что оно пытается поставить современного человека перед лицом чего-то такого в нем, что он и сам каким-то десятым чувством в себе чувствует, но ни за что не хотел бы признать это существующим в себе? Но это, быть может, – только половина дела. Главное «дело», которое, быть может, и сегодня делает настоящее искусство, – это не только показ проблем, но и передача некоторого уже угаданного, выстраданного и кем-то, возможно, дорого оплаченного опыта освобождения, опыта – если только нам удается его извлечь, – открывающего и для нас (для каждого из нас) путь обретения свободы в самой что ни на есть критической – и без того, быть может, безысходной – ситуации.
Этот опыт ценен для нас, людей, коль скоро, проходя через него, мы растем. А это и есть для нас способ оставаться людьми.
С этой, «финальной» точки зрения и исходные – и, казалось бы, враждебные – силы в нас могут оказаться продуктивными, обращенными к пользе для человека, претворенными в его новое, «наращенное» внутреннее тело.
Вспомним заключительные кадры феллиниевской «Джульетты»: духи ушли, она свободна, она победила, мы видим ее просветленное прекрасное лицо. И вдруг снова слышатся голоса этих, казалось бы, навсегда ушедших духов. Они, стало быть, не ушли, не исчезли в буквальном смысле. Но они уже другие. «Мы твои друзья теперь», – слышим мы их голоса. Возможно, это немного прямолинейно и чуть-чуть наивно. Но, по сути, – очень верно.
Это – большая и старая тема, тонкое и серьезное обсуждение которой – как темы «тела» – мы находим уже у Платона, позже – как темы «страстей» – у Декарта. И у того, и у другого – в контексте проблемы освобождения и работы над собой. Когда Платон говорит вдруг, что «тело» есть не у всякого человека, или когда Декарт говорит о «страстях», что они существуют лишь для того, кто стоит на пути, кто начал работу, – мы понимаем, что «тело» и «страсти», о которых они говорят, – это не то, что есть у человека в его обычном состоянии. И что эти другие, новые «тела» и «страсти» нужны человеку. И что они могут даже стать его друзьями. По крайней мере – «будильниками», не дающими заснуть.
Наш анализ «Герники» продолжает некоторые линии, намеченные в небольшой статье, скорее, даже заметке о Пикассо К.Г. Юнга. Его заметка появилась в 1932 году в связи с большой ретроспективной выставкой Пикассо в Швейцарии. Юнг в это время – как мы теперь понимаем – мог знать Пикассо в лучшем случае только «наполовину» и – что важно в контексте нашей работы – он еще не мог видеть и учитывать в своем анализе Пикассо ни волларовской серии, ни других работ этого периода, отражающих отмеченный процесс выработки у Пикассо его собственной особой системы мифологии. Важно, однако, то, что в своем подходе к творчеству Пикассо Юнг пытался провести ту мысль, что по-настоящему понять это творчество можно, только соотнося мир картин художника не с самой по себе внешней реальностью и даже не с внутренним миром его сознания, но с более глубокими – говоря юнговским языком: архетипическими – пластами душевной жизни человека. И (что, быть может, еще важнее): соотнося этот мир с попыткой художника – внутри и через свое творчество – «освоить» эти глубины бессознательного и, тем самым, обрести свободу по отношению к нему, продвинуться по тому пути личностного развития, который Юнг называл «индивидуацией».
Юнг пытался наметить своеобразный генетический подход к творчеству Пикассо. Он пытался рассматривать работы Пикассо разных периодов, их образное и сюжетное содержание, колорит и даже некоторые особенности их формальной организации в соотнесении с теми основными стадиями индивидуации, которые уже были установлены к тому времени, – установлены исходя из анализа, прежде всего, огромного клинического, но также и этнографического, культурологического и исторического материала. Возможно, из-за краткости юнговской статьи или, может быть, в силу особого маргинального ее характера юнговский анализ представляет скорее наложение на Пикассо ряда уже готовых и универсальных схем, нежели попытку понимания творчества этого художника во всей уникальности его духовного пути и его творческой личности. Подобный анализ – а он потребовал бы огромного кропотливого и вдохновенного труда с привлечением обширного материала как творчества самого Пикассо, так и более широкого духовного горизонта нашего времени и истории, – подобный анализ и сегодня остается делом будущего. Пикассо – один из самых сложных, но и самых интересных и серьезных художников нашего времени – того заслуживает. Понимающая встреча с его творчеством и с его личностью – воистину «инициальное испытание» для каждого ищущего человека.
Курт Левин и проблема эксперимента в психологии [8]
Курт Левин, ярчайший представитель экспериментальной научной психологии, по сути дела – человек, который изыскал возможность введения эксперимента в совершенно новые, до того недоступные для экспериментального исследования области психологии – мотивации личности, затем – группы и групповой динамики и т. д., был не только первопроходцем, но и главным проводником естественнонаучной методологии в психологию. Причем – уже в серьезной, современной форме.
Парадокс в данном случае, однако, – как, впрочем, и в случае ряда других крупнейших психологов-методологов науки и, в частности, Л.С. Выготского – состоит в том, что К. Левин, который дал, быть может, лучший и по сей день методологический анализ естественнонаучной парадигмы исследования и, что главное – утверждал эту парадигму в психологии, считая, что психология может стать действительно наукой, только соответствующим образом изменив свой способ мышления с «аристотелевского» на «галилеевский», то есть только предельно точно и грамотно ассимилировав введенную Галилеем парадигму естественнонаучного метода, – парадокс заключается в том, что в своей реальной исследовательской практике именно К. Левин стал реализовывать такой тип исследования, который никоим образом не укладывается в начертанные им же самим рамки естественнонаучного эксперимента. Чтобы эксплицировать этот парадокс, зафиксируем основные черты эксперимента.
В данном контексте важно, что у Курта Левина – а он был, безусловно, одним из самых тонких и глубоких в методологическом отношениии исследователей в истории психологии – всегда присутствовало ясное и конкретно-историческое сознание жесткой связи эксперимента со всей методологией и, больше того – со своеобразной «идеологией» естествознания Нового времени, послегалилеевского естествознания.
Каковы основные черты естественнонаучного экспериментального метода?
Прежде всего, следует сказать, что научное экспериментальное исследование, как бы это утверждение ни показалось неожиданным в такой формулировке, есть всегда исследование некоторого идеального объекта, заданного в теории с помощью или через особого рода знаковую конструкцию – модель объекта. Естественнонаучные знания вырабатываются и, ближайшим образом, должны относиться к этим идеальным объектам; в форме законов формулируются знания именно об этих идеальных объектах.
Что такое «свободное падение» тела, которое изучал Галилей (а он изучал, в строгом смысле слова, именно «свободное падение» тел, а не случаи падения тех или иных реальных, конкретных тел в тех или иных реальных же условиях)? «Свободное падение» – это особый идеальный случай движения тела, причем нужно было бы добавить: «физического» тела, то есть тела как оно существует для физики, в его особом, опять-таки – идеализированном представлении, идеальный случай движения физического тела, который нигде в мире реальной практики не встречается и встретиться не может. Итак, естественнонаучное знание – это знание законов поведения неких идеальных объектов; но помимо знания законов должно быть также знание условий реализации этих идеально-объектных представлений через процедуру эксперимента.
Что такое эксперимент? Это особого рода инженерная деятельность, благодаря которой техническим путем обеспечивается приведение в соответствие идеальному объекту теории реального объекта: через направленное изменение последнего, а не наоборот, как это обычно думают. В каком-то смысле можно даже сказать, что идеальный объект как бы «изготовляется» в процедуре эксперимента или что эксперимент – это процедура, с помощью которой предпринимается попытка реализации, то есть воплощения в реальности идеальных объектных представлений, как своего рода «проектов», или «сценариев» реальных событий. В этом, кстати, коренится внутреннее родство экспериментального естествознания и современной техники (в случае психологии – психотехники): одно, по сути дела, является оборотной стороной другого.
При этом – и здесь мы встречаемся со второй принципиально важной чертой естественнонаучного исследования, с одним из основных допущений естественнонаучного метода – объекты изучения тут должны быть реализованы именно как «природные», естественно существующие объекты, то есть как объекты, в своем существовании совершенно независимые от какой бы то ни было человеческой деятельности, в частности, от научно-исследовательской деятельности и от знания, которое в рамках этой деятельности получается. Или, с другой стороны, можно было бы сказать – фиксируя важную особенность естественнонаучного знания и его отношения к представляемым в знании объектам изучения, – что естественнонаучное исследование нацелено на получение такого знания об изучаемом объекте, которое в конце концов давало бы возможность построить реализуемое в эксперименте представление о некоем естественном объекте, то есть об объекте, не предполагающем никакого знания или какой бы то ни было человеческой деятельности в качестве непременного условия возможности самого своего существования. Не только не предполагающем, но и принципиально исключающем! Одной из самых фундаментальных предпосылок естественнонаучного исследования является требование, чтобы ни акт получения знания об изучаемом объекте, то есть само научное исследование, в частности эксперимент, ни факт получения знания не изменяли и не могли, не должны были изменять законов существования объекта. Подчеркну, что речь идет здесь именно о законах, а не просто о «траектории движения» объекта, что имеет место в некоторых неклассических ситуациях в современном естествознании, в связи с чем можно было бы вспомнить известный гейзенберговский «принцип неопределенности» или что-нибудь подобное, но в данном случае речь идет не просто об изменении объекта, но именно о смене законов его жизни, а этого при естественнонаучном исследовании не должно происходить ни в коем случае. Идеальные объекты изучения естественных наук существуют только через задающие их – как правило, математические – модели и в «сырой» природе они нигде не встречаются. В природе нет ни «свободного падения», ни «математического маятника», ни «идеального газа». Иначе говоря, наука занимается всегда исследованием своего рода «препаратов» – того, что существует in vitro, «под стеклом», «в пробирке», и существует – и только и может возникнуть и существовать – исключительно благодаря той сложнейшей системе человеческой мыследеятельности, обеспечивающей это существование, которой и является современное научное экспериментальное исследование.
Отсюда, кстати, прямо вытекает такое драматическое положение, что, как правило, существует вопиющий разрыв между этими идеальными объектами изучения естественных наук и реальными объектами человеческой практики.
Итак, в естественнонаучном эксперименте исследователь пытается создать, причем искусственным, инженерным путем, условия, при которых становится возможной реализация некоторого идеального и естественного типа события.
Таковы в свете современной методологии науки основные черты естественнонаучного исследования экспериментального типа. Но так они выступали и в специальных методологических работах К. Левина (см., например, его «Закон и эксперимент», 1927).
Теперь я могу сформулировать критический тезис: К. Левин в своих «экспериментальных» исследованиях имел дело всегда с исторически складывающимися, «динамическими», то есть развивающимися ситуациями. Я сказал: «развивающимися», и здесь необходимо сделать специальные пояснения, потому что слово «развитие» здесь имеет совершенно особое значение, принципиально отличающееся от того, с которым мы встречаемся в естествознании. В естествознании, говоря о развитии, мы имеем в виду всегда только естественный, природный процесс, который совершается безотносительно к какому бы то ни было знанию о нем или исследованию его.
С принципиально иным положением мы встречаемся в нашем случае: развитие здесь – это всегда «не-естественный» процесс, имеющий непременную искусственную компоненту – специально организуемого нашего (исследователей) действия, выполнение которого только и позволяет осуществиться развитию.
Подобного рода действия можно было бы назвать «психотехническими действиями» в самом широком смысле этого слова, то есть действиями «над психикой», действиями, благодаря которым достигается направленное преобразование психического аппарата человека или трансформация режима его функционирования, причем подчас такое преобразование, которое ведет к радикальному изменению законов жизни изучаемого объекта, что представляется мне исключительно важным.
Мы видели, что естественнонаучное знание относится всегда к некоторому «естественно существующему» объекту, то есть такому объекту, который по самой своей идее естественнонаучного исследования не только не предполагает этих знаний о нем в качестве необходимого момента или условия своего существования, но, напротив, принципиально исключает такой случай: знание в естествознании стоит всегда в принципиально внешнем отношении к представляемому в нем объекту, «не входит», не включается в него и, больше того, не может входить. Оно лишь отражает изучаемый объект, фиксирует для познающего законы жизни изучаемого объекта, само ничего не меняя в этой жизни, в этих законах. «Акт (и самый факт) получения знания об объекте в принципе не должен менять законов жизни этого объекта» – это и есть основная метологическая максима естественнонаучного метода, основная предпосылка всякого естественнонаучного исследования.
Применительно же к рассматриваемому случаю мы должны зафиксировать принципиально иное отношение, которое устанавливается между знанием и тем «объектом» (личностью, эмоцией, сознанием, мотивацией), который представляется в этом знании, и, соответственно, в силу именно этого обстоятельства, совершенно иное отношение между фактом и актом получения знания и объектом, между исследуемым объектом и его исследованием.
Полученное в исследовании знание об исследуемом объекте включается затем в жизнь этого объекта и, как правило, приводит к радикальной трансформации траектории его движения, такой радикальной, что происходит просто смена законов, по которым осуществляется это движение. То есть в данном случае факт получения знания – прямо в противоположность тому, что мы говорили о естественнонаучном исследовании, – принципиально в каждом случае приводит к изменению законов жизни объекта. Но это означает, что вся традиционная методология естествознания оказывается принципиально неприемлемой при изучении подобного рода образований.
Следует осознать (прежде всего в плане нашей методологической рефлексии) необходимость перехода к совершенно новому, особому типу исследования, которое с самого начала ориентируется на полноценные и специально организуемые формы практики. Главным в этих формах практики должно стать то психотехническое действие или система психотехнических действий, с помощью которых вы собираетесь вносить планомерное преобразование (в частности развитие) в жизнь своего объекта – объекта изучения. Таким образом, психотехническое действие выступает в качестве особого органа внутри самой психотехнической практики, обеспечивающего решение основных задач: накопления опыта внутри этих практик, передачи опыта из одной системы практики в другую и целенаправленного развития этих практик. Именно система психотехнического действия, в конце концов, – и это последний мой тезис – и должна выступать в качестве той минимальной единицы анализа, с которой должен в данном случае иметь дело исследователь. Пафос здесь состоит в том, что в качестве объекта изучения мы должны брать не естественные процессы функционирования психического аппарата, а вот эти системы психотехнических действий, то есть действий по трансформации, преобразованию этого аппарата или трансформации режима его функционирования.
Проблема характера: статический или динамический подход? [9]
Характерология находится в состоянии глубокого, затяжного и, по некоторым признакам, безнадежного кризиса. Столкновение разных точек зрения в современной характерологии – это не полемика между различными направлениями в рамках одной, уже сложившейся научной дисциплины, но, по сути, борьба различных психологий, которые не способны не только к продуктивной дискуссии, но и просто к более или менее полноценному пониманию друг друга. Полемика здесь – что во многом демонстрирует и сегодняшняя дискуссия – напоминает скорее «коллективный монолог» по Пиаже, когда участники не слышат друг друга и при этом не отдают себе отчета в том, что не слышат, пребывают в иллюзии, что говорят об одном.
«Характер» как научный предмет не сложился, не сформирован. Действительный методологический статус существующих характерологических представлений не прояснен. Большинство этих представлений сложились вне рамок собственно научной психологии, но – в психологии практической в качестве особого органа соответствующих (прежде всего психотерапевтических) практик, в силу чего имеют в первую очередь инструментальный – психотехнический – характер. Они были лишь внешним образом заимствованы научной психологией, но – вследствие непонимания их действительного статуса, с одной стороны, и собственной (по сути – естественнонаучной) ориентации научной экспериментальной психологии – с другой, – не были и не могли быть ею полноценно ассимилированы.
В отношении большинства бытующих в психологии характерологических представлений можно с уверенностью утверждать, что они не выдерживают никакой серьезной критики с точки зрения стандартов оценки «на истинность» собственно научного знания: им нельзя поставить в соответствие что бы то ни было существующее в реальности, и если они все же и имеют какой-то смысл и предметное содержание, то не как собственно научное знание, но, скорее, как особого рода мифологемы, обеспечивающие понимание на стороне психолога и психотерапевта, а также (и, быть может даже, прежде всего) – через развертывание тех или иных психопрактик, выполняющих функцию понимания и, благодаря этому, организации поведения «испытуемого» или пациента.
Характерология, как известно, ставит перед собой две основные задачи: 1) задание (в теории) основных типов характера, то есть построение типологии, и 2) установление, или «идентификация», заданных в теории – идеальных! – типов в эмпирических процедурах исследования (а точнее следовало бы говорить – обследования, «диагностики») в каждом отдельном случае. При этом – независимо от конкретного теоретического содержания – каждая характерологическая конструкция призвана обеспечивать индивидуально-целостное понимание актов поведения человека, а также – исходя из наблюдения и знания поведения человека в немногих и стандартных ситуациях – позволять прогнозировать, предсказывать его поведение в более широком круге жизненных ситуаций (в идеальном случае – во всей полноте возможных жизненно значимых ситуаций).
Отправляясь от идей, высказанных в ранних работах Выготского, следовало бы различать статический и динамический подходы к проблеме характера. В противовес статическому подходу, в рамках которого характер понимается как изначально заданная, неизменная и – в силу ее привязки к природной (физической) конституции человека – лишенная какого бы то ни было собственного смысла констелляция черт, «динамический» или «генетический» подход к характеру пытается проследить образование, психогенез характера, понять характер во внутренней логике его происхождения и развития, по сути – именно как особого рода психологическую «постройку» со структурой акта поведения. Причем в рамках динамического подхода – и по отношению к отдельным «чертам» характера, и по отношению к его конституции в целом – имеет смысл не только вопрос «почему?», предполагающий ответ «потому, что», то есть ответ, апеллирующий к неким (важно: все же собственно психологическим) «причинам», в духе, положим, фрейдовских конфликтов, лежащих в прошлом человека, но также – и, быть может, даже прежде всего – вопрос: «для чего?», то есть вопрос, предполагающий ответ: «для того, чтобы», апеллирующий к будущему человека, в духе, скажем, адлеровских «глобальных жизненных целей».
В рамках динамического подхода, стало быть, не только правомерен, но и должен быть поставлен «во главу угла» вопрос о «смысле» – как отдельных черт характера, так и его конституции в целом (причем, опять же, не только в ключе вопроса: «почему?» – почему, скажем, человек застенчив, – но также – как бы парадоксально или даже несуразно это ни звучало на первый взгляд – и в ключе вопроса: «для чего?» – «для чего человек застенчив?»). Впрочем, после работ Э. Берна едва ли покажется странной попытка подойти к характеру с точки зрения идеи «игр взрослых», то есть как к особого рода локальным, ситуативным или более глобальным, жизненным «сценариям».
Если принимается «динамический», то есть психогенетический подход к проблеме характера, то следующий (и, во многом, критический в нашем контексте) вопрос – это вопрос о целом, которому только и можно приписывать «развитие» (то есть – автономное существование), и, соответственно, вопрос о том, в каком отношении к этому действительному целому стоит характер – его образование и «развитие». Иначе говоря, это вопрос о том, обладает ли характер автономностью, имеет ли он собственные законы образования и развития и, стало быть, допускает ли он (предполагаемое естественной наукой) законосообразное представление.
Динамический подход к проблеме характера, стало быть, требует заново – применительно к проблеме характера – продумать оппозицию понятий «индивид» и «личность». Приходится решительно возразить против бытующего в нашей психологии – как ни странно, в работах психологов, считающих себя «последователями Леонтьева», – отождествления леонтьевской оппозиции «индивид» и «личность», с одной стороны, и расхожей и (позволю себе напомнить не раз слышанные мной слова самого Алексея Николаевича) «вульгарной и дурацкой» оппозиции «биологического» и «социального» – с другой. В понимании «индивидного» Леонтьев прямо следовал за Выготским, который еще в ранних дефектологических работах сформулировал – многих и сегодня озадачивающий – тезис: «дефект как фактор психического развития ребенка – причем даже в случае таких, казалось бы, грубых “органических” дефектов, как врожденная слепота, ослабленный слух или умственная отсталость, – есть понятие социальное и (добавим мы теперь) культурное!». Так вот: «индивидное» по Леонтьеву есть понятие социальное и культурное! Это, конечно же, понятие не «биологическое», не «натуральное» – в смысле оппозиции «натуральных» и «культурных», то есть «высших» психических функций.
Достаточно указать здесь на очевидные примеры таких – бесспорно, «высших» – психических функций, как тот же фонематический, или же (любезный слуху Ю.Б. Гиппенрейтер) звуковысотный слух, которые вместе с тем принадлежат, как правило, индивидному, а не личностному в человеке – и только в отдельных и особых случаях (как, положим, в известном случае Пастернака) могут приобретать личностный смысл.
Но пафос введения оппозиции «индивидное»/«личностное» у Леонтьева состоял не столько даже в этом, сколько – в попытке показать (или, по крайней мере, указать на) несамостоятельность плана «индивидного» в общей «экономике» психической жизни человека и отсутствие прямой, непосредственной детерминации собственно личностных новообразований со стороны индивидного. Вспомним знаменитый леонтьевский (впрочем, опять же, только перефразирующий – быть может, менее известный, но не менее остроумный и убедительный – «мысленный эксперимент» Выготского) пример с «врожденным вывихом тазобедренного сустава». Но отсюда проистекает еще один смысл утверждения, что «индивидное» не есть природное: «индивидное» не есть нечто «автономное», в смысле существующего в человеке по неким естественным законам, и не есть нечто, действующее как естественная «причина». Применительно к проблеме характера это значит, что только в случае людей с блокированным личностным развитием план индивидного (и, в частности, характера) может – коль скоро он берется как индивидное – получать автономность; и, стало быть, только в этих – «вырожденных» – случаях позволительно рассматривать характер как некий самостоятельный предмет научного исследования. И здесь я хотел бы решительно поддержать мысль Б.В. Зейгарник об опасности, которая заключается в попытке базировать характерологические представления на клиническом материале. Если в разработке общетеоретических представлений о характере мы будем ориентироваться и исходить из такого «аномального» (подчеркну: не в специально клиническом, а как раз – в общепсихологическом смысле) типа развития человека, придавать тому, что здесь будем находить, общепсихологическую значимость и прикладывать это к «человеку вообще», то есть – к человеку в целом, то мы, конечно же (хотим мы того или нет), будем утверждать в качестве нормы человека – человека «частичного», в буквальном смысле: «выродков», «уродов» от действительно нормального, то есть «всего», «полного» человека, в случае которых и отношение между характером и личностью также будет аномальным. И, наоборот, если за норму человека взять – как того, вроде бы, и требует гуманистический подход – человека, условием и способом жизни которого является личностное развитие, то – мнимая! – автономность индивидного исчезает и только в этом случае мы получаем верную отправную точку для разработки проблемы характера.
Наконец, если проблема характера берется не в свойственном академической научной психологии – абстрактно-познавательном – ключе, но в контексте и в соотнесении с задачами той или иной психопрактики (будь то воспитание или психотерапия), то становится понятно, что нет и не может быть одной психологии характера, но только – много и разных, соответственно множеству и различию самих практик. Что, собственно, и имеет место в практической психологии характера. Но какая иная психология сегодня может претендовать на то, чтобы быть состоятельной перед лицом реальных, жизненно значимых проблем современного человека? При этом – в отличие от научной психологии – для практической психологии эту принципиальную множественность как самого феномена характера, так и психологии (множественность, которая, кстати, с необходимостью проистекает уже из собственно культурно-исторического взгляда на человека) следует признать симптомом не кризисного состояния нашей науки, но как раз – нормы.
Культурно-историческая теория Л.С. Выготского и современная психология [10]
«…Несмотря на привычность всего того, что продолжает стоять перед нашими глазами и что мы продолжаем слышать и читать, ничего этого больше нет, это уже прошло и состоялось, огромный, неслыханных сил стоивший период закончился и миновал. Освободилось безмерно большое, покамест пустое и не занятое место для нового и еще небывалого /…/ для того, что подскажет жизнь новых чисел и дней.
Сейчас мукою /…/ будет /…/ неспособность совершенно оторваться от понятий, ставших привычными, забыть навязывающиеся навыки, нарушить непрерывность /…/, освобождается пространство, неиспользованность и чистоту которого надо сначала понять, а потом этим понятым наполнить. /…/ заменять это, единственно нужное, старыми мелочами – близоруко и бесцельно».
Б.Л. Пастернак (из письма Н.А. Табидзе от 11 июня 1956 г.)
...
Содержание
Предисловие
Задачи и метод работы: проблема исторического понимания
Ситуация в современной психологии и задачи анализа культурно-исторической теории Выготского
Истоки культурно-исторической теории: психология искусства
Истоки культурно-исторической теории: дефектология
Методологическая программа построения «новой психологии»
Основные идеи культурно-исторической теории
Проблема метода в культурно-исторической психологии: альтернатива естественнонаучной методологии
Заключение. На пути к конкретной психологии человека
ЛитератураПредисловие
Многих на хребте земли мы почитаем живыми, а они мертвы, и многих во чреве земли мы считаем мертвыми, а они живы.
Абу-ль-Хасан аль-Харакини
Во мнении последующих поколений отечественных и зарубежных психологов Выготский был прежде всего предтечей ряда ведущих концепций в современной отечественной психологии: общепсихологической теории деятельности А.Н. Леонтьева и теории планомерного формирования умственных действий П.Я. Гальперина, нейропсихологии А.Р. Лурии и теории психического развития ребенка Д.Б. Эльконина, современной дефектологии и т. д., – был одним из основоположников советской марксистской психологии и родоначальником одной из наиболее блестящих и влиятельных школ в ней. И такое ретроспективное историко-психологическое определение места и – даже из приведенного перечня очевидного – исключительного значения фигуры Выготского для истории отечественной психологии безусловно верно и отражает реальную судьбу учения Выготского в последующем развитии психологии.
Однако вместе с тем, чем дальше мы отдаляемся от того времени, когда жил и творил сам Выготский, чем в большей степени мы способны дистанцировать последующую историю психологии, вплоть до ее сегодняшнего дня, тем в большей мере мы понимаем, что тот интеллектуальный и общедуховный потенциал, который заключается в отдельных идеях и ходах мысли Выготского, в его концепции в целом, во всем его творчестве и личности, не только до сих пор до конца не использован и не истрачен, но во многом еще даже сколько-нибудь адекватно и полно не выявлен, не опознан и не оценен. Мы стоим, по-видимому, в преддверии своеобразного «второго рождения» Выготского и второй жизни его концепции, – жизни, которая, возможно, впервые только по-настоящему и откроет нам (а возможно, открыла бы и самому Выготскому) подлинный смысл и действительное значение сделанного им в психологии и ту – быть может, совершенно неожиданную – судьбу, которая ожидает эту концепцию в будущем. Вместе с тем это будут также новые – и имеющие, по-видимому, исключительное значение для современной психологии – перспективы ее развития.
Радикализм Выготского был столь глубок, что даже от самых смелых своих современников, общепризнанных новаторов и революционеров в психологии двадцатого столетия – К. Левина и Э. Толмана, В. Келера и Ж. Пиаже – он ушел на дистанцию, оказавшуюся равной – в масштабах развития научного сознания – нескольким десятилетиям. Более того, даже от наиболее близких ему исследователей, закладывавших основания новой, марксистской психологии, – П.П. Блонского и С.Л. Рубинштейна, равно как и от ближайших его учеников и последователей – А.Р. Лурия и А.Н. Леонтьева – в перспективе прошедшего после смерти Выготского полувека – он все больше удаляется по характеру основных своих идей и ходов мысли почти на то же расстояние.
Идеи культурно-исторической теории, деятельность Выготского и его группы, особенно в 30-е годы, оказывали заметное влияние на формирование и развитие молодой советской психологической науки. Однако настоящая жизнь идей Л.С. Выготского началась лишь после его смерти. Протекшие с тех пор десятилетия неузнаваемо изменили весь облик мировой психологии. Беспрестанно рождались и умирали все новые и новые концепции и школы, неизмеримо вырос методический арсенал психологии, бесконечно расширился круг ее исследований и фактов. Многое из того, что составляло лицо психологии даже два-три десятилетия назад, сегодня безнадежно устарело, сдано в архив и кажется архаизмом, тогда как культурно-историческая теория Выготского прочно занимает сегодня место одной из наиболее сильных и перспективных глобальных программ развития психологии. Больше того, нет ни одного сколько-нибудь значительного направления современной отечественной, а в последние годы – и мировой психологии, которое не испытало бы – в той или иной форме – решающего влияния идей культурно-исторической концепции. Культурно-историческая теория глубоко и необратимо вошла в самый фундамент современной психологической мысли. Сегодня поэтому она меньше, чем когда бы то ни было, нуждается в искусственной реанимации и пропаганде. Напротив, нужда в углубленном освоении культурно-исторической теории Выготского, в раскрытии горизонтов, которые она завоевала для развития психологии, исходит ныне от самой современной психологии и особенно – от тех ее областей, которые именно в наши дни переживают период бурного – и имеющего, по-видимому, самые далеко идущие последствия для будущего всей психологической науки – развития. Отличительной чертой этих областей является тесная связь психологического исследования и психологической теории с теми или иными формами практической работы с психикой, сознанием, личностью человека, с задачами организации и направленного развития разного рода психопрактик. Именно здесь психология стоит перед необходимостью радикальной перестройки всей своей методологии. Для правильного ее самоопределения в новой ситуации исключительное значение имеет критическое освоение истории психологии.
Перефразируя М.М. Бахтина ( Бахтин , 1975, с. 451), однако, можно было бы сказать, что историки психологии сводят – проходящую красной нитью через все последние десятилетия – борьбу принципиально новой методологии психологического исследования с традиционными формами естественнонаучного мышления и все явления – говоря словами Выготского – прогрессирующей «гуманизации» психологии [11] к борьбе отдельных школ и направлений. За поверхностной пестротой и шумихой истории психологии не видят больших и существенных судеб психологии и психологической практики, ведущими героями которых являются, прежде всего, типы методологий и различные культуры мышления или рациональности, а направления и школы – героями только второго и третьего порядка [12] .
Именно поэтому в данной работе нас интересует не отдельная концепция – культурно-историческая теория Выготского сама по себе, не направление и школа, но – стоящий за ней и ею реализуемый и выражаемый, принципиально новый способ мышления и тип рациональности, как он выступает на фоне традиционных форм мысли и прежде всего – естественнонаучной методологии экспериментального типа.
Мы попытаемся восстановить основные проблемы культурно-исторической психологии и характерные для нее ходы мысли в их разработке. Исключительное значение для их понимания имеют подчас факты биографии и духовной эволюции Л.С. Выготского. И они будут привлекаться нами в той мере, в какой они были доступны нам и помогали раскрыть – или по-новому осветить – те или иные стороны его работы.
Конкретный и «объективный» анализ сознания человека в его «вершинных» проявлениях – сознания человека, живущего серьезной и напряженной духовной жизнью, человека, самым способом существования которого является его личностное развитие, человека, ищущего пути для своего духовного освобождения, – таковы ориентации и установки Выготского как исследователя и мыслителя. И ничто не находилось в таком разительном контрасте с ними, как современная ему жизнь и психология – вне зависимости от школ и направлений. Отсюда – трагизм [13] его судьбы как ученого и человека, и отсюда же – высокий пафос творчества.
Эта книга – не о Выготском (серьезная научная биография Выготского – выдающегося исследователя и незаурядной личности – еще ждет своего автора) и даже не о культурно-исторической теории как таковой (хотя некоторые аспекты ее формирования и развития, ее исторического значения и судьбы и рассматриваются нами). Это – вообще не историческая работа, это – работа не о прошлом психологии, но – о ее сегодняшнем дне и о ее будущем. Это есть попытка – через анализ культурно-исторической теории и размышление над ее статусом и судьбой – самоопределиться в ситуации, сложившейся в современной отечественной и мировой психологической науке, продвинуться в осознании и продумывании фундаментальных ее проблем и в поиске путей их разрешения, в формулировке глобальных перспективных целей и ценностей психологической работы, в уяснении – словами Выготского – «зоны ближайшего развития» психологии и ее будущего облика. Иначе говоря, предлагаемая работа по своим задачам и характеру прежде всего – методологическая.
Такое понимание задач не могло не наложить отпечатка на характер текста. Многие линии обсуждения, уместные в рамках собственно историко-психологического исследования, мы были вынуждены отсечь или, иногда – лишь наметить. Большие массивы материала, собранного нами, остались за рамками книги. Вместе с тем, в силу современного состояния как историко-критических, так и собственно методологических разработок фундаментальных проблем психологии и ее истории, целый ряд вопросов остался до конца не проясненным, а подчас и просто не обеспеченным ни в части материала, ни в части средств и способов его анализа.
Говоря словами Пастернака, вынесенными в эпиграф к работе: перед современной психологией «освобождается пространство, неиспользованность и чистоту которого надо сначала понять, а потом – этим понятым наполнить». Попыткой такого понимания и является анализ культурно-исторической теории Выготского, представленный в данной книге. Это новое пространство освобождается прежде всего, конечно, в силу объективной логики развития ситуации, перед которой ставит сегодня психологию сама жизнь.
Однако сказать только это и сказать только так – было бы лишь половиной правды и означало бы консервацию традиционного, характерного для академической науки понимания отношения между наукой и «запросами практики», между психологией и жизнью, – понимания этого отношения как для психологии полностью пассивного, когда психология будто бы должна лишь «отвечать на» эти запросы, никак не участвуя в их формировании (и правильном осознании). Между тем суть дела и состоит как раз в том, что все пространство мыследеятельности для психологии, причем – не только в плане исследования, но и в плане практики – определяется в конечном счете «от психологии», то есть наличными, выработанными в ней средствами и способами освоения тех или иных ситуаций и даже самого видения их.
Раскрытие завоеванного культурно-исторической теорией для психологии – нового и требующего освоения – пространства мыследеятельности (исследования и практики) есть поэтому также и способ понимания своеобразия ситуации, складывающейся в современной психологии, и путь самоопределения психологии в этой ситуации, но, тем самым – также и самого формирования этой ситуации и управления последующим ее развитием.
Задачи и метод работы: проблема исторического понимания
Из толстых книг нельзя узнать ничего нового. Толстые книги – это кладбище, где погребены идеи прошлого.
Л. Ландау (запись беседы)
Умейте отпечатки ящеров будущего
Раскапывать в слов камнеломне
И по костям строить целый костяк.
Мы у прошлого только в гостях,
Будущее наш дом.
В. Хлебников (неоконченная поэма 1922 г.)
Время торговцев старьем миновало.
Джалаледдин Руми
В одной из новелл Х.Л. Борхеса ( Борхес , 1984) автор от лица друга некого Пьера Менара – писателя (естественно, вымышленного) – ведет рассказ о нем и об оставшемся от него архиве, в котором, среди прочего, он будто бы обнаружил фрагменты незавершенного романа – романа, который называется ни больше ни меньше, как «Дон Кихот». Можно было бы думать, что этот роман современного писателя представляет собой еще одну вариацию на тему бессмертного шедевра Сервантеса, ну, положим, что-то подобное одноименной пьесе М. Булгакова или другим сочинениям того же рода, авторы которых, дабы приблизить своих героев к современности, заставляют их не только говорить иным, чем у Сервантеса, языком, ставят их в новые ситуации или дают свои версии и интерпретации классическим сюжетным ходам, но подчас даже выбирают совершенно иных героев, эпоху, фабулу и т. д., то есть, по существу, пишут просто другой роман, только в том или ином внутреннем плане приводимый автором в соответствие роману великого испанца (напомним здесь, в частности, что, например, «Идиот» по мысли самого Достоевского в одном из своих главных внутренних планов должен рассматриваться как такая вариация «Дон Кихота»). Но парадокс, с которым мы сталкиваемся в случае «Дон Кихота» этого Пьера Менара, состоит в том, что текст его – по свидетельству Борхеса, повторим, якобы только обнаруживающего его в архиве писателя, – полностью, буквально, с точностью до запятых повторяет слово за словом роман Сервантеса! Причем это не «переписанный» рукой Менара текст Сервантеса – что, быть может, мы еще как-то и могли понять, вспоминая гоголевского Акакия Акакиевича, – но именно заново написанный текст. Это для нас – уже совершенно немыслимая история. И даже если допустить, что такое вообще возможно, то совершенно непонятным оказывается смысл такой работы. Зачем же еще раз писать того же самого «Дон Кихота», кому и для чего это нужно? И что есть этот «Дон Кихот» Пьера Менара как таковой? Но послушаем, что по этому поводу говорит сам Борхес.
«Сопоставлять “Дон Кихота” Менара с романом Сервантеса, – замечает Борхес, – значит делать для себя открытия». Замечание не менее парадоксальное, чем ситуация, к которой оно относится, ибо непонятно, какие же открытия можно делать, сопоставляя два совершенно одинаковых текста?! «Последний, – продолжает Борхес, – например, пишет («Дон Кихот», часть первая, глава девятая): “Истина, мать коей – история, соперница времени, хранительница содеянного, свидетельница прошедшего, поучательница и советчица настоящего, провозвестница будущего”».
Борхес продолжает: «Составленное в XVII столетии, составленное непросвещенным гением Сервантеса, это перечисление – лишь риторическая похвала истории. Менар же, напротив, пишет: “…Истина, мать коей – история, соперница времени, хранительница содеянного, свидетельница прошедшего, поучательница и советчица настоящего, провозвестница будущего”». «История – мать истины, – глубокомысленно замечает Борхес, – поразительный вывод! Менар, современник Уильяма Джемса, определяет историю не как ключ к пониманию реальности, а только как ее истоки. Историческая правда для Менара – не то, что произошло, а то, что мы считаем происшедшим. Финальные дефиниции – “поучательница и советчица настоящего, провозвестница будущего” – откровенно прагматичны». Конец цитаты из Борхеса.
Важно не конкретное содержание этих резюмирующих высказываний Борхеса – важна сама идея. Идея же состоит в том, что, читая один и тот же текст, – а Борхес дважды прочел один и тот же текст, – читая его сегодня (в случае с «Дон Кихотом» – 300 лет спустя после его первого написания, а в случае с Выготским – спустя полвека), мы, по сути дела, читаем совсем другой текст.
Мы «приговорены к своему времени» и к своей – нынешней – ситуации и не можем уйти от нее, тем более – не можем полностью перенестись в чужую и далекую от нас эпоху, даже если бы мы этого и захотели! [14] И в этом, отчасти, по мысли Борхеса, суть проблемы исторического понимания и ее интерес для философа. Ибо, говорит в другом месте той же новеллы Борхес, разбирая методу, с помощью которой Менар пытался писать «Дон Кихота», первоначально Менар действительно намеревался стать как бы вторым Сервантесом, изучив досконально его личность, его жизнь, его время, историю его работы над романом и т. д. и т. п., – словом, сделать то, что пытается делать всякий традиционно воспитанный историк, чтобы «вжиться» в свой предмет, в данном случае – «вжиться» в Сервантеса и как бы «перевоплотиться» в него. Но Менар очень быстро отказался от этого пути, и не потому, говорит Борхес, что – как мы могли бы предположить тут – задача «перевоплощения» слишком трудна или даже – нереализуема или же – что ее решение все равно не способно привести к желаемому результату, но как раз наоборот – потому-де, что очень скоро она стала казаться Менару слишком простой и малоинтересной! Стать Сервантесом и написать «Дон Кихота», решил Менар, это невесть какое достижение. И это – неинтересно и бессмысленно. А вот написать «Дон Кихота», не превращаясь в Сервантеса, но оставаясь самим собой и пытаясь оставаться в своей ситуации, и к тому же – написать при этом не еще одного (то есть – другого) «Дон Кихота» и даже – не того же самого (то есть «Дон Кихота» Сервантеса), но «просто» «Дон Кихота», как просто «Дон Кихота» писал сам Сервантес, – «Дон Кихота» как такового – вот это задача, которая чего-то да стоит! При этом, однако, воспроизвести – в контролируемых условиях своей работы – спонтанное творение «непросвещенного гения» Сервантеса!
Подобно «Дон Кихоту» «культурно-историческая психология» – вещь возможная, но не неизбежная. Она – творение гения Выготского [15] . Мы же в своем анализе должны сделать ее феноменом «воспроизведенного сознания», то есть заставить пройти через горнило контролируемой организации нашего собственного мыследействования в современной ситуации.
Что значит эта притча Борхеса в контексте проблемы понимания Выготского и его культурно-исторической теории и, соответственно, в контексте проблемы метода такого понимания и метода анализа работ Выготского?
Она означает, прежде всего, что с самого начала необходимо отказаться от попытки «написать Выготского» («культурно-историческую» теорию Выготского), «перевоплотившись» в самого Выготского, и отказаться – в ситуации самого Выготского – как и Менар в случае Сервантеса – не потому, что это слишком трудно или даже невозможно (хотя пусть кто-нибудь попробовал бы это сделать), но, как раз, напротив – потому, что это неинтересно и лишено смысла!
Перефразируя Борхеса, можно было бы сказать: написать культурно-историческую теорию сегодня, «став Выготским», – это невесть какое достижение и к тому же – дело, никому не нужное и неинтересное. А вот написать культурно-историческую теорию сегодня – и не «свою», но «вообще»! – не переставая быть собой, оставаясь перед своими собственными проблемами и не выходя из своей ситуации, – это дело, достойное того, чтобы им заняться, дело, которое чего-то да стоит.
Отсюда – особые ограничения и позитивная идея метода чтения Выготского, – метода, который мы и будем пытаться последовательно реализовывать в этой работе [16] . Мы не можем – и не должны – читать Выготского сегодня так, как его читали его современники и даже – как бы вызывающе это, быть может, ни звучало – читать и понимать Выготского так, как он сам себя читал и понимал. Оговоримся только: читал и понимал – в свое время. Ибо если только хотя бы на минуту вообразить, что автор культурно-исторической концепции каким-то чудесным образом реанимирован и оказался в ситуации, которая сложилась в современной психологии, и задуматься над тем, какую позицию он занял бы в ней сейчас, какие взгляды стал бы отстаивать и каким образом сам стал бы излагать свою концепцию сегодня, то, по-видимому, следует предположить, что едва ли это было бы догматическим повторением известных нам классических формул его теории. Даже если бы он попытался просто воспроизвести свои прежние идеи и ходы мысли, он должен был бы высказать их сегодня совершенно иначе: чтобы сказать сегодня то же самое, он должен был бы говорить нечто другое – нечто, подчас существенно отличающееся от известного нам по его сочинениям.
Он удивил бы нас еще больше, если бы попытался ответить на вопросы, которые поставила перед нами современная ситуация в психологии, – если бы, иначе говоря, он продолжил сегодня разработку своих идей.
И, конечно, наиболее радикальными изменения его взглядов были бы в том случае, если бы он просто дожил до наших дней.
Не услыхали бы мы тогда от Выготского нечто не просто новое, но – немыслимое и невозможное с точки зрения нашего (но также и его собственного – прежнего) представления о его теории? Невозможно сомневаться в том, что так бы оно и было! Ибо иное означало бы, что автор культурно-исторической теории умер еще до своей смерти, поскольку – чем еще, как не интеллектуальной и духовной смертью назвать невозможность ни на йоту выйти за границы, начертанные своею же собственной мыслью? В случае Выготского это абсолютно невероятно.
В каком-то смысле можно было бы даже сказать, что «угадать» действительного Выготского сегодня значило бы примерно то же, что попытка самого Выготского угадать себя будущего – того, каким бы он мог стать через разделяющие нас полвека.
Конечно, чего-то изменения коснулись бы при этом в большей мере, тогда как что-то другое осталось бы почти неизменным. Есть основания полагать, что незыблемыми оказались бы как раз предельные цели и ценности Выготского как ученого и человека, тогда как ряд формулировок его концепции и, что важно – быть может, как раз методологическая рефлексия собственной работы, ее «самосознание» претерпели бы при этом радикальные изменения. К этому привело бы не только развитие методологии науки, особенно – в последние три десятилетия, но также, как нам представляется, и внутренняя логика развития самой культурно-исторической психологии, последовательное продумывание ряда основополагающих для нее собственных предпосылок и следствий.
Вопрос о различных типах исторического понимания, понимания задач исторического анализа есть вместе с тем, естественно, и вопрос об исторических этапах развития и формациях самого исторического мышления. Иначе говоря, можно было бы развертывать «историю истории психологии», основные этапы которой и вычленялись бы соответственно смене типов исторического понимания. Иначе говоря – соответственно смене типов методологии исторического исследования.
Какой должна быть история психологии, или каким должно быть само историческое мышление, в рамках которого впервые только и стала бы возможной история психологии – психологии как культурно-исторической дисциплины?
Мы не задумываемся над тем, возможна ли вообще история психологии – психологии, понимаемой как культурно-историческая дисциплина – в рамках традиционного типа исторического исследования, по-видимому, только потому, что не отдаем себе отчета – ни в принципиальных особенностях такого рода психологии, радикально отличающих ее от дисциплин естественно-научного ряда, ни в ограничениях, также принципиального свойства, которые накладывает на работу историка традиционный способ исторического мышления.
В действительности же, подобно тому, как это имеет место и по отношению к методу самой психологии, история психологии также должна отказаться от традиционной парадигмы исторического мышления (исследования), и отказаться также в силу чисто внутренних причин – в силу осознания принципиальных особенностей ситуации исторического исследования в сфере психологии, понимаемой как культурно-историческая дисциплина.
Действительное понимание как отдельных положений, идей и ходов мысли, так и концепции в целом предполагает в каждом случае, прежде всего, ответ на вопрос: решением какой проблемной ситуации пытались они стать, или иначе: какая мыслительная (и более широко – духовная) работа совершалась, была выполнена при введении того или иного положения или при построении теории в целом?
Такое понимание с необходимостью требует «самоопределения» исследователя в своей собственной ситуации [17] . Требует – но также этим его самоопределением и управляет.
Исследование в таком случае – через реконструкцию мыслительной (и, шире – духовно-личностной) работы, стоящей за анализируемой теорией (или – за тем или иным отдельным теоретическим построением), через восстановление соответствующей проблемной ситуации – приводит к самоопределению исследователя в его нынешней ситуации, постановке его собственных проблем, поиску и разработке его собственных мыслительных средств и способов действия и т. д., – словом, исследование в таком случае оказывается включенным в некоторое более широкое целое – в развертывание собственной мыследеятельности исследователя в его нынешней ситуации.
Но тогда – и это обстоятельство имеет принципиальное значение – исторический анализ какой-либо концепции с необходимостью содержит также и анализ своей собственной мыследеятельности. По сути дела, именно сама историческая работа, само исследование, по необходимости включенное в более широкий контекст развертывания сегодняшнего социо-, культуро-, психо– и т. д. технического действия, а не сами по себе анализируемые теории, и должны рассматриваться в качестве действительной единицы анализа. Исторический анализ, который хотел бы быть «чисто» историко-психологическим, который – быть может, в качестве основной своей задачи – не ставил бы задачу развития самосознания современной психологии, не содействовал бы самоопределению психолога в современной ситуации его профессиональной работы, исторический анализ, который не был бы включен в раскрытие перспектив возможного развития психологии, – такой исторический анализ был бы подобен тем «деньгам для покойников», которые, как сообщает В. Шкловский ( Шкловский , 1983), печатали в Китае в средние века, чтобы обеспечить безбедное существование в загробном мире. Предоставим мертвецам хоронить своих мертвецов.
Историческое исследование не может быть беспристрастным, и даже только исследованием, но – в качестве внутреннего своего горизонта – с необходимостью должно иметь «выслушивание и реализацию некоторого «потребного будущего». В нашем случае это мотивировано не только соображениями общеметодологического порядка, но также и тем, что именно так к анализу истории – и не только психологии, но и других дисциплин – подходил и сам Выготский. Ибо подобно тому, как, по наблюдению В. Гюго, почти во всех пьесах Шекспира – кроме «Макбета» и «Ромео и Джульетты» (то есть в 34-х из 36-ти!) – есть «драма в драме», есть «вторая драма», повторяющая первую, основную, и, стало быть, есть как бы «двойное действие», так и почти во всех крупных работах Выготского есть как бы «исследование в исследовании», есть «второе» исследование, в известном смысле «повторяющее» первое и основное, – есть историческое исследование. Но это второе, историческое исследование всегда вставлено в рамки первого, основного – методологического или иногда предметного – «работает на него», ориентировано на его задачи. В этом смысле Выготский никогда, ни в одной из своих работ – даже в тех, что прямо посвящены анализу того или иного факта истории психологии или той или иной психологической концепции – не был (и по самой сути своей позиции как исследователя – не мог быть) «чистым» историком психологии. Хотя и его фантастической эрудиции, и его способности к глубокому и точному постижению основных положений разбираемых концепций, остроте и подчас убийственной силе его критики, почти всегда при этом сохраняющей ироническую легкость и даже особое изящество и оттого – только более неотразимой, – всему этому наверняка позавидовал бы любой, самый именитый историк психологии.
В своих многочисленных историко-критических работах, дающих в целом широкую панораму развития психологии – как современной Выготскому, так и отстоящей от него подчас на несколько веков, – Выготский выступает прежде всего как методолог и философ, стоящий перед задачей поиска своего пути в психологии, разработки своей собственной программы построения новой психологии. Понятия прошлого, равно как и будущего, суть для него только проектные формы организации его собственного, направленного на теорию, а не на историю, мыследействования и знания. Каждая анализируемая Выготским историческая ситуация определяется им относительно задач его собственного мыследействия в современной ему ситуации. Как и наоборот – анализ исторической ситуации становится способом самоопределения Выготского в этой его собственной, современной ему ситуации, организации его мысли и действия в ней. Таковы уже историко-критические главы «Психологии искусства», таков – по своему статусу – «Исторический смысл психологического кризиса», таковы многочисленные критические статьи конца 20-х – начала 30-х годов, такова, наконец, и рукопись его незаконченного трактата об эмоциях.
Формируя новое представление о психологии, пытаться – исходя из него – по-новому понять то, что было в истории или в других, современных Выготскому концепциях, но и, наоборот – анализируя наиболее значительные ходы и направления психологической мысли в прошлом и в современности – попытаться ответить на вопрос: что есть психология и – быть может даже, прежде всего – чем она может и должна быть, – вот задачи, которые решает в этих работах Выготский.
Мы сказали, что Выготский никогда не был собственно историком психологии, но можно обратить этот тезис и утверждать, что именно Выготский и был действительным историком психологии, если под историей психологии разуметь не ту полностью отделенную от самой психологии и ее развития и стоящую в совершенно внешнем к ней отношении дисциплину, которую традиционно называют этим словом, но, напротив – такую форму исторического исследования, которая с самого начала конституируется и выступает в качестве особого – внутренне необходимого, но вместе с тем всегда лишь несамостоятельного – органа самой психологии, ее самоорганизации и развития.
В отличие от «историографии», дающей лишь эмпирическое описание «фактов» как бы «самих по себе» [18] , вне их «функционального значения», то есть вне их собственно исторического смысла с точки зрения того или иного исторического (социо– и культуротехнического) действия, – собственно «история», то есть теория истории, теоретическая реконструкция истории – «историология» – всегда решающим образом определяется «ракурсом» этой реконструкции, и прежде всего – ее «исходной точкой» (современной ситуацией) и ее «склонением» (новым состоянием, которому «исправляются пути»). Иначе говоря, действительная единица исторического анализа с необходимостью включает в себя не только «прошлое», но также настоящее и будущее и, что главное, устанавливается относительно некоторого (подлежащего также специальной реконструкции) действия – организуемого в настоящей ситуации ввиду целей, лежащих в будущем. Такое понимание дела историка, на наш взгляд, и было бы реализацией деятельностного подхода в историко-психологическом исследовании [19] . История при этом членится соответственно границам такого рода «действий» (социо– и культуротехнических действий) или, иначе говоря, она членится на «такты исторического развития».
История психологии (как и история любой науки) с этой точки зрения должна пониматься, по существу, как история социо– и культуротехнических действий, сменяющих друг друга и взаимодействующих друг с другом [20] . История психологии тогда есть также и исследование тактов ее развития, одним из механизмов осуществления которых само это их историческое исследование с необходимостью выступает. В этом смысле не лишен основания вопрос: есть ли – и может ли быть – история у «истории психологии» или же: история есть – и только и может быть – лишь у самой психологии (несамостоятельной частью которой она выступает)? Иначе говоря, можно ли помыслить членение истории «истории психологии» (соответствующее тактам ее развития), отличающееся от членения истории самой психологии (соответственно тактам ее развития)? Историю вообще – и историю психологии в частности, – быть может, и способен писать только тот исследователь, который занимает – или, во многом через самое это писание истории, – пытается занять определенную позицию в современности, в современной ситуации, или, иначе говоря – способен самоопределиться в ней [21] . Важно еще раз подчеркнуть, что действительно историческим (то есть – исторической критикой) «историческое» исследование делает не только и даже – не столько «привязка» его к анализу современной ситуации в психологии, не столько то, что оно своей отправной точкой делает анализ этой ситуации и исходит из него (одновременно им определяясь и его амплифицируя), но также и прежде всего – то, что оно – в качестве решающего условия самой своей возможности – предполагает интенцию на трансформацию и, далее – самое действие (культуро– и социотехническое действие) по трансформации наличной ситуации, то, что оно является «функциональной частью», или «органом», этого действия, обеспечивая его организацию и реализацию, и, тем самым, до известной степени уже предполагает некую реорганизацию психологии, некий новый идеал психологии и, соответственно – некую новую систему предельных целей и ценностей для психологической работы [22] .
Можно было бы сказать, что и наоборот – по отношению к определяющим его «программам» развития психологии историческое исследование выступает в качестве своего рода механизма их опровержения и, стало быть – их развертывания. Можно было бы даже сформулировать принцип, в соответствии с которым право на существование должны иметь те и только те проекты новой психологии, программы перестройки психологии, которые проходят – и выдерживают – такое испытание «историей» психологии («снимают» ее в себе, а не упраздняют). Это обстоятельство и специфицирует понятие собственно «развития» психологии, в отличие от просто «построения другой» психологии, «смены парадигм» и т. д.
Забегая вперед, можно было бы сказать, что – в соответствии с ходом мысли Выготского – история есть (и только и может быть) лишь «у» новой психологии (в смысле: «чья история? – история новой психологии»), но существует она – эта история – внутри и как часть понятой по Выготскому «общей психологии», то есть – методологии психологии (см. далее главу о методологической программе Выготского). «История психологии» как часть «общей психологии» должна, во-первых, давать ответ об условиях возможности «новой» психологии, во-вторых, она должна быть по сути «исторической критикой» психологии (в том самом смысле, в котором «критикой политэкономии» является марксова «история политэкономических учений» в рамках «Капитала») и, наконец, в-третьих, история психологии должна давать «распредмечивание» психологического знания, то есть «приводить» его к живым формам мыследействования.
Последнее означает, что история психологии должна всякое находимое ею «знание» брать не только и даже – не столько в отношении к его «объекту», но прежде всего – в отношении к той живой и исторически конкретной форме мыследеятельности (исследовательскому мышлению и практическому действию), внутри которой эти знания вырабатывались в качестве решения соответствующей проблемной ситуации, но также – и употреблялись впоследствии для ее организации и реорганизации.
Это означает, далее, что история психологии должна располагать адекватными средствами и способами представления и анализа соответствующих исторических форм исследовательской мыследеятельности (а как мы увидим далее в связи с анализом современной ситуации в психологии – также и различных форм практик). А еще прежде она (история психологии) должна обладать адекватным представлением о действительных единицах своего анализа. В качестве таковых, как мы уже говорили, ближайшим образом должны рассматриваться отдельные акты исследовательской мыследеятельности, которые далее оказываются лишь несамостоятельными частями прежних социо– и культуротехнических действий, а эти последние, их анализ, в свою очередь – лишь моментами самоопределения исследователя в современной ситуации.
Понять Выготского – значит сделать его партнером в размышлениях о тех проблемах, перед которыми оказываемся мы в своей собственной работе в ситуации, которая складывается в современной психологии. Сделать работу, выполненную Выготским, условием возможности своего собственного мышления и работы в психологии сегодня.
Иначе говоря – попытаться построить некую единую кооперативную структуру мыследеятельности, в рамках которой работа Выготского в его ситуации обеспечивала бы и делала возможным построение нашего мыследействования в нынешней ситуации, решение наших нынешних задач, как, впрочем, и наоборот, – наша работа (как это ни парадоксально, должно быть, звучит по отношению к «прошлому»), выполняемая в современной ситуации в психологии, выступала бы при этом в качестве необходимого условия возможности его, Выготского, мышления и действия в его исторической ситуации! Последнее обстоятельство следовало бы особо подчеркнуть, поскольку оно означает, что только благодаря нашему мыследействованию в современной ситуации в психологии культурно-историческая теория впервые приводится к своему действительному историческому существованию в психологии! (а не только – в нашем абстрактном, отделенном от задач мыследействования понимании).
Иметь дело с Выготским сегодня так, чтобы, тем самым, иметь дело с самими собой, со своей собственной ситуацией, со своими собственными сегодняшними проблемами. Перефразируя слова современного мыслителя о Канте, можно было бы сказать, что Выготский мыслил о том, о чем он мыслил, в ореоле немыслимого, незнаемого. Он мыслил внутри незнаемого и немыслимого, оставляя тем самым место для нашего собственного мышления.
Смысл (и исключительное значение) работы, проделанной Выготским, и состоит сегодня в том, что своим мышлением он высвобождает место для нашего мышления и действования в современной ситуации в психологии.
Отметим, быть может, неожиданную параллель между тем типом исторического исследования и, соответственно, понимания фактов истории психологии, который мы намечаем в своем анализе культурно-исторической теории, и некоторыми принципами толкования сновидений. Как бы далеки и различны ни были на первый взгляд эти области, эта параллель не кажется нам ни внешней, ни случайной. Напротив, можно думать, что она не только позволяет оттенить особенности нашего подхода к анализу концепции Выготского, но и, наоборот, проливает свет на некоторые существенные стороны самих сновидений. Поскольку сновидения – в каких-то чрезвычайно важных отношениях – должны рассматриваться как действительно исторические феномены нашей психической жизни – как особого рода выражения и моменты нашего индивидуально-исторического существования и, как таковые, в своем сущностном отношении к нашему прошлому и нашему будущему – и должны раскрываться их анализом и толкованием. Смысл сновидения – всегда исторический смысл. В контексте данной работы, естественно, не место обсуждению природы сновидений. Скажем только, что подобно тому, как в случае толкования сновидения задача его анализа состоит отнюдь не в том, чтобы дешифровать то в содержании сновидения, что – лишь в замаскированном виде – представляет уже известное и понятное самому сновидцу, но – как раз в том, чтобы «вскрыть» или впервые продуктивно установить (не только для толкующего сновидение, но также, и прежде всего, для самого сновидца) нечто такое, переданное через его содержание, что прежде сновидцу известно не было и даже больше того – до и без этого анализа и толкования в принципе не могло быть известно и доступно его пониманию, установить, стало быть, нечто такое, что только благодаря анализу и толкованию сновидения и может быть приведено к своему психологическому существованию, только и может стать впервые реально действующим фактом психической жизни человека, его истории и его психического развития, – подобно этому и тот исторический анализ культурно-исторической психологии Выготского, попытку которого представляет данная работа, должен привести к установлению такого ее содержания и исторического смысла («исторический» смысл при этом, как мы говорили, устанавливается прежде всего относительно современной ситуации и потому соотносится не с ее прошлым, но с будущим), который не только не был известен самому автору анализируемой концепции, но принципиально и не мог быть ему известен, не мог войти в его собственную рефлексию и понимание. Интересный вопрос, который может быть поставлен в этой связи, – вопрос, опять же, имеющий аналог в случае толкования сновидений, – это вопрос о том, мог ли быть понят этот анализ самим анализируемым автором, если бы он был сообщен ему, и если – да, то при каких условиях или, иначе – каким образом наша интерпретация его работы, его концепции могла бы быть доведена до его понимания? По-видимому, тут было бы совершенно недостаточно одного только «расширения ситуации» за счет развертывания более широкой исторической перспективы, включая и сегодняшний день психологии, но потребовалась бы также и, быть может, прежде всего перестройка самой методологической рефлексии, смена средств ее организации. (Конкретный смысл этого тезиса, надеемся, станет ясен в дальнейшем.) Иначе говоря, скорее всего, было бы совершенно недостаточно просто поставить Выготского в современную ситуацию в психологии и, в этом смысле – сделать его нашим современником. Необходимо было бы еще передать ему иные, новые средства организации рефлексии, видения ситуации и далее – средства самоопределения и организации своей мысли и действия в ней.
Но параллель со сновидениями может быть продолжена и еще в одном, важном отношении. Подобно тому, как вся уникальность сновидений – как материала для понимания нашей психической жизни – проистекает из того, что они не только позволяют обнаружить – через их толкование – некоторые скрытые проблемы и конфликты психической жизни, но также – и это главное – получить указание на возможный путь и способы разрешения и преодоления этих проблем и конфликтов, – так и действительно исторический анализ должен не только вести к осознанию проблем, перед которыми стоит психология сегодня, но также – и намечать возможные ходы в поиске их решения. Причем – опять же, как и в случае толкования сновидений, – исторический анализ должен пытаться превращать, «переводить» возникающие в ситуации разрывы и конфликты в «проблемы для роста», то есть обеспечивать развитие психологии и управлять им.
Ситуация в современной психологии и задачи анализа культурно-исторической теории Выготского
Быть современником – значит творить свое время, а не отражать его. А если: «отражать», то не как зеркало, а как щит!
М. Цветаева
Так как это есть главный пункт во всем трактуемом вопросе, то полезно будет дать несколько примеров, чтобы облегчить ясное понимание его.
Галилей (Беседы. День четвертый)
Разумный всадник заботится о стойле для коня, но не спит в нем сам.
Джалаледдин Руми
Для определенности выберем какую-либо одну из областей современной психологии и на примере анализа ее попытаемся показать некоторые общие черты, характерные и для целого ряда других областей.
Творчество: исследование и практика
Возьмем ситуацию, которая сложилась в современных исследованиях творчества, в частности в психологии творчества, во всяком случае – в тех ее областях и направлениях, которые представляются наиболее интересными и перспективными.
Прежде всего, нельзя не отметить тот факт, что само творчество стало сегодня, если можно так выразиться, «массовой формой деятельности», массовой профессией. Если когда-то сфера творческого труда была привилегией немногих избранных индивидов (так, историки науки говорят, что в начале 17-го века во всей Европе можно было насчитать всего несколько десятков ученых), то в наше время их многие и многие тысячи, если не миллионы. И это число неуклонно растет. И подобное происходит, конечно, не только в области научного или – особенно – технического творчества (изобретательства), но и в различных областях художественного творчества – искусства и литературы.
Почему это обстоятельство представляется важным, почему оно, на наш взгляд, существенно определяет ситуацию, которая складывается сегодня в исследованиях творчества и, в частности, в психологии творчества? Из него проистекает, что прежних способов «культивирования» творческих способностей оказывается уже недостаточно. Если прежде можно было надеяться, что всегда найдутся те несколько десятков, или сотен, или даже тысяч, которые в силу случайных обстоятельств окажутся пригодны к творчеству и будут задействованы в сфере творчества, в современной же ситуации, как выясняется, уже нельзя полагаться только на счастливый случай и на «естественный отбор», то есть рассчитывать, что необходимое число таких случаев всегда будет обеспечено естественным «нормальным распределением» соответствующих качеств в человеческой популяции. Того, что может дать подобного рода «нормальное распределение», сегодня уже явно недостаточно.
Возникает задача целенаправленной подготовки людей к работе в сфере творчества, «воспитания творческих способностей» и «творческой личности» в целом, равно как и задача эффективного управления самим процессом творчества, достижения наиболее продуктивных режимов его осуществления. Иначе говоря, встает задача создания целой сети особым образом организованных практик творчества и воспитания творчества, которая гарантировала бы его максимально эффективное осуществление в действительно массовых масштабах.
И нужно сказать, что здесь уже многое сделано. Если ограничиться только сферой так называемого «творческого мышления» или решения творческих мыслительных задач, то, как известно, уже давно – по крайней мере с конца 30-х годов – складывается целый ряд весьма эффективных и подчас уже достаточно сложно специальным образом организуемых «практик творчества» или – как их чаще всего называют – техник «стимуляции творчества». Это такие – ныне уже классические – практики подобного рода, как, например, «мозговой штурм» Осборна, «сенектика» Гордона и «морфологический анализ» Цвики на Западе или «алгоритм изобретения» Альтшуллера – у нас (см. их обзор, к примеру, в статье В. Даниловой, 1976).
Это, конечно, только наиболее известные. Сейчас их гораздо больше, и перечисленные выше, возможно, не являются сегодня ни самыми интересными, ни самыми сложными.
Но даже самые простые практики подобного рода чрезвычайно эффективны, они позволяют добиваться подчас прямо-таки невероятных результатов в решении серьезных, настоящих, практически значимых творческих задач в самых разных областях человеческой мысли и деятельности и потому завоевывают себе большую популярность. Важно, однако, отметить то обстоятельство, что, несмотря на успешность этих практик, уже давно – и особенно остро сегодня – фиксируется целый ряд очень серьезных проблем, принципиально неразрешимых внутри самих этих практик, по крайней мере в том виде, как они существуют на сегодняшний день. Какого рода эти проблемы? В рамках данной работы ограничимся указанием только на некоторые из них.
Прежде всего, это проблемы извлечения и аккумуляции опыта этих практик, а также проблема передачи опыта, накопленного в одной какой-либо системе практики организации творчества, – в другие.
Основной – если не единственной – реальной формой воспроизводства практик стимуляции творчества в пространстве и во времени, а вместе с тем – и извлечения и «передачи» опыта организации этих практик является своеобразное «о-способление» отдельных людей через непосредственное, живое их участие в «сессиях», или «стажах», – поначалу в качестве рядового «участника» этих групп, затем – «ассистента» и, наконец – «ведущего». Описание же этого опыта, которое обычно дается в специальной литературе по стимуляции творчества, оказывается недостаточным даже для того, чтобы составить хоть сколько-нибудь ясное и полное представление о соответствующих практиках, тем более – для того, чтобы обеспечивать их воспроизведение. Это описание может «заговорить» только для того, кто уже имеет опыт участия в группе. Оказывается, что внутри существующих практик организации творчества нет и, что еще более важно – не может быть создано необходимых форм рефлексии опыта и знаньевой его фиксации [23] .
Но еще большие трудности обнаруживаются при обращении к задаче направленного и контролируемого развития как отдельных практик организации творчества, так и соответствующей сферы разработок в целом. И вместе с тем эти три задачи: аккумуляции, передачи и направленного развития опыта практик организации творчества – это критические сегодня, уже и с чисто практической точки зрения, задачи.
Таким образом, тех знаний об организации творчества и о самом творчестве, которые существуют и вообще могут быть получены в рамках ныне существующих практик организации творчества, оказывается принципиально недостаточно для решения целого ряда основных – и критически важных с точки зрения самих этих практик – задач. Или, иначе говоря: те знания, которые мы находим и только можем найти сегодня в сфере практик организации творчества, оказываются принципиально дефициентными по отношению к решению целого ряда задач самой же этой практики.
Естественным в такой ситуации представляется, на первый взгляд, обращение к собственно научным исследованиям творчества и, в частности, к психологии творчества. И действительно, попытки подобного рода не раз предпринимались прежде и – вновь и вновь – возобновляются и сегодня. Однако практиков-организаторов творчества, обращающихся за помощью к научной психологии творчества ждет жестокое разочарование [24] . При всей основательности и строгости (часто – мнимой) представлений современной научной психологии творчества, при всей изощренности и рафинированности ее методического арсенала, она оказывается принципиально неспособной сказать хоть что-нибудь ответственное и дельное по поводу действительных проблем, с которыми сталкивается практика организации решения реальных творческих задач. Знания о творчестве, получаемые в академической научной психологии, – пусть и на иной лад, чем представления, существующие внутри самих практик, – но также оказываются неудовлетворительными. Прежде всего, они оказываются безнадежно оторванными от жизни, далекими от тех реальных, чрезвычайно сложных ситуаций и форм реального творчества, с задачей эффективной организации которых имеют дело в своей повседневной работе психотехники-практики.
На первый взгляд это может показаться невероятным или, по крайней мере, удивительным. В действительности же в этом не только нет ничего удивительного, но, как оказывается, другого в случае научного исследования экспериментального типа и, соответственно – того типа знаний, которые получаются в нем, не бывает и в принципе быть не может. Почему так? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к анализу того особого типа исследования, которое обычно – совершенно некритически – считается единственно возможным и единственно полноценным, – к анализу научного исследования экспериментального типа, как оно сложилось в классическом галилеевском естествознании. Ибо коль скоро мы всерьез спросим себя: «А есть ли вообще какие-то другие – помимо естественнонаучной – парадигмы экспериментального исследования?», то – если только мы при этом будем употреблять термин «эксперимент» не в каком-то неопределенном и ни к чему не обязывающем смысле, но – в строгом смысле, то должны будем признать, что это и есть тот самый смысл, который еще на заре европейской науки Нового времени был придан этому слову в трудах основоположников классического естествознания – естествознания современного типа, и, прежде всего – в трудах великого Галилея. И нужно сказать, что у тех – немногих – психологов, которые в истории нашей науки были наиболее продвинутыми в методологическом отношении, подчас даже – сами давали себе труд предпринять серьезное методологическое исследование проблемы эксперимента на материале истории наук, как это в свое время сделал Курт Левин – один из самых тонких и глубоких в методологическом отношении исследователей в истории психологии, – у них всегда присутствовало ясное и конкретно-историческое сознание этой жесткой связи эксперимента со всей методологией и, можно было бы даже сказать, с «идеологией» естествознания, и естествознания именно Нового времени – послегалилеевского естествознания [25] .
Могут варьировать и усложняться конкретные методические схемы или, как их принято сейчас называть, «планы» эксперимента, их может быть много разных – сошлемся на известное руководство Готсданкера ( Готсданкер , 1983), но основные принципы и методологические рамки эксперимента остаются незыблемыми – это методологические принципы и рамки естествознания, естественнонаучного эксперимента. Ибо в строгом смысле слова никакого другого эксперимента никогда не было и быть не может. Даже у Вундта, в интроспективной психологии, был тоже естественнонаучный эксперимент, и никакого другого быть не могло. Мы намеренно формулируем этот тезис предельно резко и не без некоторого пафоса, чтобы показать, что та критическая или даже – кризисная ситуация, которую мы находим в современной академической психологии творчества, – хотя сложилась она далеко не сегодня и можно сказать, что имеет место быть затянувшийся на несколько десятилетий, то есть «хронический» кризис, который, правда, проходит, как выразился однажды один исследователь, на фоне убеждения в полном благополучии, – что кризисная ситуация в современной академической психологии сложилась именно в результате ее ориентации на методологию естественнонаучного исследования экспериментального типа.
Действительно, каковы основные черты естественнонаучного экспериментального исследования?
Прежде всего, нужно сказать, что экспериментальное исследование – как это утверждение, быть может, не покажется неожиданным в прямой формулировке – имеет дело как с, собственно, «объектом изучения» – всегда с неким идеальным объектом – объектом, заданным в теории через особого рода семиотическую (как правило – математическую) конструкцию – модель объекта. Экспериментальное исследование есть исследование именно идеального объекта – подчеркнем это, – а вовсе не какого бы то ни было реального объекта, с которым можно иметь дело в мире практики, включая и практику эксперимента и соответствующие «объекты оперирования».
Ведь что такое «свободное падение» тела, которое изучал Галилей? А изучал он – в строгом смысле слова – именно «свободное падение» тел, а не случаи падения тех или иных реальных тел в реальных же условиях! «Свободное падение» есть особый идеальный случай или «тип» движения тела, к тому же – «физического тела», тела, как оно существует «для физики», то есть в его особом, опять-таки идеализированном представлении, – есть такой идеальный случай движения физического тела, который нигде в мире реальной человеческой практики не встречается и встретиться не может. Это, так сказать, «марсианский» случай. «На Земле» ему ничто не соответствует и соответствовать не может!
На первый взгляд – невероятный тезис. Ведь научные представления «проверяются», специально «испытываются на истинность», то есть на соответствие реальности, и как раз этой цели – их проверки на истинность, на соответствие реальности вроде бы и служит эксперимент! Так – с точки зрения расхожего самосознания естествознания. Это, однако, сказал бы Маркс, только «желтые логарифмы» естественнонаучной идеологии. А что есть эксперимент на самом деле? И в каком смысле он может «проверять» представления, существующие в научной теории, и может ли он вообще это делать? «Соответствие знания объекту?» Но – что чему соответствует в случае естественнонаучного экспериментального исследования? И что реально означает достижение этого соответствия, и каким образом оно достигается?
На деле, оказывается, все прямо противоположно этому расхожему представлению о сути естественнонаучного метода. Ибо что такое эксперимент? С точки зрения современных науковедческих представлений (см., например: Ахутин , 1976; Розин, Москаева , 1968; Розин , 1976, 1981) эксперимент – это особого рода инженерно-техническая деятельность, – «инженерно-техническая» не в том, конечно, смысле, что тут приходится иметь дело с обслуживанием разных приборов и приспособлений, но в том, что именно особым инженерно-техническим путем – через проектирование и изготовление определенных искусственных «объектов» здесь как раз и достигается соответствие между планом теоретических представлений (идеальных «объектов изучения») и планом реальных объектов (реальных «объектов оперирования»). Причем решающе важным является то, что соответствие это достигается как раз через – опосредованное специальной «производственной» деятельностью – изменение реального объекта, через его «подтягивание» к объекту идеальному. Иначе говоря, эксперимент инженерно-техническим путем обеспечивает приведение в соответствие идеальному объекту теории реального объекта исследовательской «практики» – через направленное изменение последнего, а не наоборот, как это обычно представляется. В каком-то смысле можно сказать, что реальный объект как бы «изготавливается» в процедуре эксперимента в соответствии с запечатленным в модели представлением об идеальном объекте изучения. Или: что эксперимент – это процедура, с помощью которой предпринимается попытка реализации, то есть воплощения в реальности идеальных объектных представлений.
При этом – и здесь мы встречаемся со второй принципиально важной чертой естественнонаучного исследования, с одним из основных допущений естественнонаучного метода – объекты изучения естествознания должны быть реализованы именно как «природные», естественно существующие объекты, то есть объекты, в своем существовании совершенно независимые от какой бы то ни было человеческой деятельности, и в частности – от научно-исследовательской деятельности и от знания, которое в рамках этой деятельности получается. Фиксируя принципиально важную особенность естественнонаучных знаний и их отношения к представляемым в этих знаниях «объектам изучения», можно сказать, что естественнонаучное исследование нацелено на получение такого знания об изучаемом объекте, которое, в конце концов, давало бы возможность построить реализуемое в эксперименте представление о некоем естественном объекте, то есть объекте, не предполагающем и не включающем никакого знания или какой бы то ни было человеческой деятельности в качестве необходимого условия своего существования. Не только – не предполагающем, но и – принципиально исключающем!
Действительно, одной из самых фундаментальных предпосылок всякого естественнонаучного исследования является требование, чтобы ни акт получения знания об изучаемом объекте, то есть научное исследование, и в частности эксперимент, ни самый факт получения такого знания не изменяли и в принципе не могли и не должны были бы изменить законов существования объекта. Следует подчеркнуть, что речь здесь идет именно о законах, а не просто о «траектории движения» объекта. Можно бы вспомнить тут известный физический «принцип неопределенности» или что-нибудь подобное (см., например: Гейзенберг , 1975, или вышедшую недавно чрезвычайно интересную, хотя в некоторых отношениях, на наш взгляд, и спорную статью советского физиолога и психолога И.М. Фейгенберга ( Фейгенберг , 1985)), но повторим: тут речь идет не просто об изменении объекта, но о смене законов его жизни, а этого – при естественнонаучном исследовании – не должно быть ни в коем случае.
Итак, в естественнонаучном эксперименте исследователь пытается создать – причем искусственным инженерно-техническим путем – условия, при которых, как говорил Левин ( Lewin , 1927), становится возможной реализация некоторого естественного типа события. По существу, можно было бы сказать: ученый строит самый изучаемый объект и ближайшую совокупность условий его существования (которая подчас может быть и не такой уж ближайшей – вспомним современные синхрофазотроны или что-то им подобное), «машину», внутри которой впервые только и становится возможной реализация этих особых типов событий и, далее, можно было бы добавить – что важно с точки зрения осуществления исследований, – не только реализация, но и проявление или обнаружение этого типа событий и его регистрация, а также и то, что это – именно тот тип событий, который соответствует модели, задающей конструкцию идеального объекта изучения. Ибо, повторим: изучается тут всегда некий идеальный объект и знания, – естественнонаучные знания, которые получаются в экспериментальном исследовании, получаются в рассуждениях на математических моделях и ближайшим образом должны относиться именно к идеальным объектам изучения. В форме законов фиксируются знания именно об идеальных объектах. Но, кроме того, всегда еще должна быть фиксация условий реализации этих идеально-объектных представлений через процедуру эксперимента. То есть, по сути, даже и сами эти так называемые «естественнонаучные» знания – неоднородны, они с необходимостью включают фиксацию не только природных законов, которым подчиняется жизнь изучаемого объекта (естественнонаучные знания в узком смысле), но также и инженерно-технические или технологические знания, фиксирующие условия, при которых в реальности посредством специальной инженерно-технической деятельности – эксперимента – могут быть обеспечены условия реализации соответствующих, задаваемых законами, естественных типов событий. И для сути естественнонаучного исследования второе является ничуть не менее – а если делать акцент на опытном характере естественнонаучного исследования, то даже, быть может, и более важным моментом, нежели первое. И тот же К. Левин, у которого проблеме закона и эксперимента в психологии посвящена отдельная большая работа ( Lewin , 1927), не только прекрасно это понимал, но и сам неоднократно подчеркивал. Забегая вперед, однако, необходимо сказать, что парадокс в случае К. Левина, – впрочем, как и в случае других крупнейших психологов-методологов науки, включая, как мы увидим, и Л.С. Выготского, – состоит в том, что сам К. Левин, давший, по-видимому, лучший и по сей день методологический анализ естественнонаучной парадигмы исследования, причем не только применительно к психологии, но и в общем виде [26] , – несмотря на то, что именно К. Левин дал лучшее методологическое обсуждение проблемы естественнонаучного эксперимента и, что главное, продвигал эту парадигму в психологию как единственно научную, полагая, как известно, что психология может стать действительно наукой, только соответствующим образом изменив свой способ мышления на «галилеевский», то есть – предельно точно и грамотно ассимилировав данную Галилеем парадигму естественнонаучного исследования, – так вот, на деле, в своей реальной исследовательской работе именно К. Левин одним из первых стал систематически реализовывать совершенно новый, особый тип исследования [27] , никоим образом не укладывающийся в начертанные им же самим рамки естественнонаучного экспериментального метода [28] .
Все сказанное о сущности естественнонаучного исследования может вызывать сопротивление только в силу того, что психологи до сих пор воспитываются (по большей части – стихийно) в особой ценностной установке по отношению к науке, к научному знанию. «Научное» – это что-то вроде «знака качества». В этом слове для ученого (как и для обывателя) присутствует сильная оценочная составляющая. Научное исследование – это не просто один из возможных типов исследования, это – в каком-то смысле – высший тип исследования, «самый объективный», «самый глубокий», «самый надежный», «самый развитый и сложный», наконец, и т. д. И, соответственно, «научное знание», опять же, не просто один из возможных типов знания, но – высший род знания, «лучшее» знание и даже, быть может, единственно только по-настоящему «истинное» и «подлинное» знание. Для многих: «научное знание» – синоним «знания» вообще.
Зафиксировав для экспериментального исследования основные черты естественнонаучной парадигмы, попытаемся ответить на вопрос о том, какие же роковые для академической психологии творчества последствия проистекают из факта принятия ею этой парадигмы исследования в качестве основной и доминирующей – последствия, которые можно было бы рассматривать в качестве корня тех злоключений, которые эта психология творчества испытывает при столкновении с запросами реальных практик организации творчества.
Первое, что мы уже обнаружили, – это то, что наука, естественнонаучное исследование имеет дело всегда с изучением особого рода идеальных объектов. И, как правило, существует огромный зазор между этими идеальными «объектами изучения» естественных наук и реальными объектами человеческой практики. Идеальные объекты изучения естественных наук существуют только через задающие их, чаще всего – математизированные – модели и в «сырой» природе нигде не встречаются. В природе нет ни «свободного падения», ни «математического маятника», ни «идеального газа», ни даже облюбованной Выготским «паровой машины» Карно. Наука занимается исследованием своего рода «препаратов» – того, что существует in vitro, «под стеклом», «в пробирке», и существует – и только и может возникнуть и существовать – исключительно благодаря той сложнейшей системе, обеспечивающей существование человеческой мыследеятельности, которой и является современное научное экспериментальное исследование.
В этом смысле, прямо вопреки самосознанию науки, ее идеологии, ее объекты являются всегда искусственными, «сделанными», созданными человеческой деятельностью объектами – «артефактами» исследования – и, больше того, – объектами, которые независимо от этой деятельности и вне нее существовать не могут [29] . Именно самая исследовательская деятельность создает условия, при которых становится возможной реализация заданного в схеме идеального объекта «естественного» типа события.
Эту мысль можно пояснить и на примерах из истории психологии. И, кстати, эти примеры с очевидностью показывают, что среди психологов – и в прошлом, и поныне – отсутствует адекватное понимание сути экспериментального метода, и только из-за этого целые главы истории психологии излагаются в совершенно искаженном виде. Обратимся к так называемой проблеме «ощущения» в интроспективной психологии, то есть в психологии, которая является, как известно, первой в истории психологии версией экспериментальной научной психологии.
Проблема состоит в установлении действительного статуса того, с чем в своих исследованиях, в своих интроспективных экспериментах имели дело представители интроспективной психологии: Вундт, Титченер и другие. Что такое те «первоэлементы» сознания, которые они пытались выделять с помощью интроспективной процедуры, или иначе: какова природа данных классической формы самонаблюдения, так называемой «аналитической интроспекции»? «Объективны» они или нет? Существуют эти первоэлементы или это фантомы? Сами интроспективные психологи, понятно, ни секунды не сомневались в «естественном» существовании этих своих «первоэлементов», смотря на них примерно так, как физик или химик может смотреть на свои атомы. Ведь и для химика «атомы» – это, конечно же, естественно существующие, природные вещи. Проблема, правда, возникала уже внутри самой интроспективной психологии в силу того, что разные исследователи подчас существенно расходились не только в способах теоретического описания этих первоэлементов, например в формулировке соответствующих законов «поведения» их, но даже в том, какие элементы следует выделять и сколько их существует: у одних было четыре и таких-то, у других – только три и других. Собственно, это обстоятельство прежде всего и оказалось тем, что в наибольшей степени компрометировало интроспективную психологию, приводило к сомнению в объективности ее данных и, как следствие, к обвинению ее в «субъективизме» и «ненаучности». Хрестоматийные, со времен первых бихевиористов и до наших дней сотни раз уже, должно быть, воспроизведенные ходы в критике интроспективной психологии! Но и в самом деле: разве приведенные соображения не есть приговор интроспективной психологии как науке? Оказывается – вовсе нет! И можно утверждать прямо обратное: зафиксированная ситуация как раз и является прямым доказательством «научности» интроспективной психологии! Серьезный современный анализ истории интроспективной психологии должен был бы показать, что интроспекционизм «вымер» вовсе не потому, что он был «ненаучным», «не выдержал проверку на объективность» и т. п., – такого рода представление, до сих пор бытующее даже в лучших и отечественных, и зарубежных исследованиях по истории психологии, является совершенно ошибочным, выдает полное непонимание ни того, что такое наука, ни того, чем действительно был интроспекционизм, и оно до сих пор не развенчано, должно быть, только потому, что, будучи сциентистским мифом, то есть особой, идеологически выгодной для науки рационализацией подлинных ее проблем, оно отвечает сциентистской ориентации самой современной психологии.
На самом деле интроспекционизм «вымер» как раз в силу той самой безнадежной оторванности от жизни, от задач анализа реальных, практически значимых форм психической жизни человека, о которой мы говорили в отношении академической психологии творчества (и это должно было бы послужить предостережением ей и ее сторонникам), равно как, конечно, и в силу скандальной допотопности своей философской и методологической базы, вопиющая и одновременно воинственная вульгарность которой компрометировала интроспективную психологию в глазах серьезных философов того времени. Это, кстати, прекрасно показывает Выготский в своей замечательной ранней методологической работе «Исторический смысл психологического кризиса», правда, нужно заметить, подчас вопреки тому, что он сам прямо говорит. Оторванность же от жизни в случае интроспективной психологии была обусловлена как раз тем, что она пыталась последовательно реализовывать экспериментальную естественнонаучную парадигму исследования. При том, правда, что классические интроспекционисты вроде Вундта и – еще в большей степени – Титченера придерживались таких представлений об объекте изучения («непосредственном опыте сознания», его элементах, структуре и т. д.), которые могли быть реализованы в интроспективном эксперименте лишь при создании особой – чрезвычайно искусственной и весьма сложной – системы условий, – условий, которые достигались благодаря специальной и весьма рафинированной культуре интроспективного эксперимента, включая, в частности, и специальную длительную психотехническую подготовку самих испытуемых, формирование у них совершенно особой, отсутствующей у человека «с улицы» способности самонаблюдения и режима самонаблюдения. Вот этого-то как раз и не понимали ни сами интроспекционисты, ни их критики. И, надо признать – не понимают до сих пор. Критики обвиняли интроспективных психологов в «субъективизме», и те – в силу своего натуралистического взгляда на природу интроспекции – не знали, что ответить, тогда как основной факт лежал на поверхности: интроспективные данные, получаемые в одном каком-то центре – при соответствующей, культивировавшейся именно здесь, способности самонаблюдения, – были очень устойчивыми и вполне воспроизводимыми! Да и мы сейчас – если бы только прошли соответствующий психотехнический тренинг самонаблюдения и были поставлены перед теми же экспериментальными ситуациями – дали бы, скорее всего, те же самые результаты. Другое дело, что пройди мы этот тренинг не в Корнеле у Титченера, а в Гарварде у Джемса или даже в Лейпциге у Вундта, мы приобрели бы совершенно другую способность самонаблюдения и дали бы, соответственно, совершенно иные показания. Но это говорит только об одном: способность самонаблюдения и, особенно, в той форме, в которой она практиковалась как «интроспекция» в узком смысле слова в качестве метода интроспективной психологии, вообще не есть «естественная» психическая способность, но есть – всегда – искусственно построенная «культура» психической деятельности, и эти культуры могут быть разными.
В этом смысле «ощущения» интроспекционистов не фантомы, не «артефакты», в обычном «ругательном» смысле слова – они вполне реальны как факты и воспроизводимы: как «факты» они существуют и, как говаривал тот же А.Н. Леонтьев, «в качестве таковых – “сырых” фактов – они ничем не хуже (но и не лучше!) любых других фактов». «Не существуют» же они совсем в другом смысле: как «элементы», из которых можно пытаться складывать какое-то более сложное целое, например, «образ» восприятия, как то предполагали интроспективные психологи, которые, как известно, были «атомистами». Это хорошо понимали уже гештальтпсихологи, когда говорили, что «ощущения» интроспекционистов – реальны, как факты они существуют, только это не элементы, из которых складывается сложный образ восприятия, но полноценные, хотя и элементарные случаи восприятия, получаемые в очень искусственных, лабораторных условиях, – случаи, чрезвычайно далекие от тех, с которыми мы имеем дело в жизни, то есть это получаемые «под стеклом» препараты, самым своим существованием обязанные сложнейшей исследовательской деятельности. И только в этом – неоценочном, указывающем на их действительную «природу» – смысле они «артефакты», то есть искусственные, «сделанные» факты. Но ведь в этом – нейтральном, констатирующем – смысле и всякий опыт, к которому ведет эксперимент, тоже есть артефакт.
Итак, с точки зрения обычно выставляемых критериев, интроспективная психология была как раз научной и, в этом смысле, обычная ее критика – несостоятельна. Другое дело, если мы задумываемся над тем, возможно ли вообще экспериментальное исследование естественнонаучного типа по отношению к той реальности, с которой имела дело интроспективная психология, – реальности сознания, – осмысленна ли, или с самого начала обречена на неудачу попытка естественнонаучного изучения сознания.
Именно в этом отношении тот проект построения психологии по образу и подобию естественнонаучных дисциплин, который был принят основоположниками интроспективной психологии, с самого начала оказался нереализуемым, ошибочным. И именно в силу этого интроспективная психология не только никогда не была, но и в принципе не могла быть наукой. Но так ведь никто из историков психологии вопрос не ставит. И далее: в этом смысле нет и никогда не было никакой естественнонаучной психологии сознания, потому что ее и не могло быть никогда! [30] Потому что естественная наука экспериментального типа в принципе не может иметь дела – если только она понимает то, что делает, и то, что может делать, то есть обладает адекватной методологической рефлексией, чем, правда, психология никогда не могла похвалиться, – с такого рода образованиями, как человеческое сознание [31] .
Почему так? Тут следует обратиться, быть может, к самому критическому пункту рассуждения, а именно – к вопросу о тех существенных особенностях подлежащей изучению реальности, которые и делают в принципе неприменимым естественнонаучный экспериментальный способ исследования и невозможным получение об этой реальности знаний естественнонаучного типа. И, далее, необходимо обратиться к вопросу о том, в рамках какого типа методологии можно пытаться строить исследование этой реальности и какого типа исследованием должно быть исследование, чтобы быть адекватным этой реальности и, стало быть, единственно возможным, вообще возможным.
Начнем с вопроса о типе знания, которое должно давать исследование, и о характере отношения этого знания к представляемому в нем изучаемому объекту.
Для естественнонаучных знаний характерно то, что эти знания относятся к некоторому «естественно существующему» объекту, то есть объекту, который по самой идее естественнонаучного метода не только не предполагает в своей конституции этих знаний о нем в качестве необходимого условия своего существования – даже фраза эта несуразна для естественнонаучного сознания, – но, напротив, принципиально их исключает. Знание в естествознании стоит всегда в принципиально внешнем отношении к представленному в нем объекту, «не входит», не включается в него и, больше того, не может входить. Оно лишь «отражает» изучаемый объект, фиксирует для познания «законы» жизни изучаемого объекта, само ничего в этой жизни и в этих законах не меняя. Акт, и самый факт получения знания об объекте в принципе не должен – потому что, если это действительно естественный объект и действительно «объективное», научное его исследование, – и не может – менять законов жизни этого объекта. Это и есть фундаментальная методологическая максима естественнонаучного метода.
Мыслители, стоявшие у колыбели современного европейского естествознания и, во многом, сами формировавшие его основные принципы, прекрасно это понимали. Например, у Декарта мы не раз можем встретить утверждение (затем предельно ясно развернутое Кантом), что собственно научное исследование возможно только там и в той мере, где всякие ссылки на сознание, знание, волю и т. д. полностью «вытравлены» из объекта изучения (см.: Мамардашвили , 1984). Естествоиспытатель может вести свое исследование, только будучи убежден в том, что этим своим исследованием он не изменяет самого объекта, по крайней мере в том, что касается «законов» его жизни, но лишь «открывает» эти законы и фиксирует их в знаньевых формах. Так обстоит дело в естествознании. А что имеет место в случае изучения таких вещей, как творчество (или сознание, личность)?
Уже внутри самой академической психологии творческого мышления мы снова и снова встречаемся с такими «неклассическими» ситуациями исследования, которые – как правило, вопреки убеждению самих исследователей – по сути дела не укладываются в рамки естественнонаучной парадигмы мышления.
Ярчайший пример такого рода исследований – это классические в области психологии творческого мышления исследования К. Дункера. Эти исследования, как известно, выполнялись на материале особого рода «задач на догадку». Помимо прочего – помимо того, что они должны были вызывать полноценный процесс творческого мышления по Дункеру, – они должны были еще вызывать этот процесс в особой форме – в такой форме, когда в этом процессе с необходимостью появлялись бы «внешне выраженные части» – то, что Дункер и называл «рассуждением вслух».
Испытуемый начинает «проговаривать ход решения задачи» – не потому, что ему дали такую инструкцию (хотя инструкция «говорить все, что приходит в голову, постараться все проговаривать вслух, не бояться говорить глупости и т. д.» и дается), но потому, что сами задачи с необходимостью требуют, «провоцируют» испытуемого на то, чтобы решать их в форме «проговаривания» своего решения.
Сам Дункер полагал, что процесс решения такого рода задач, например известной его задачи с Х-лучами [32] , развивается естественно, просто от «столкновения испытуемого с задачей» и что, для того чтобы он осуществлялся, достаточно, чтобы испытуемый прочел условия задачи и ухватил смысл конфликта, чтобы сам факт конфликта выступил перед ним с достаточной очевидностью, – что тогда и будет развертываться процесс решения этой задачи, который, в конце концов, приведет к ее решению. Но внимательный анализ работ Дункера показывает, что процесс решения такого рода задачи не может быть закончен, не может быть доведен до конечной точки, если в этот процесс решения задачи испытуемым не будет в особой форме вмешиваться сам экспериментатор. Это не обязательно должны быть подсказки. Это может быть «критика», что всегда было в экспериментах Дункера, но что считалось несущественным моментом в процедуре этих экспериментов.
Если в качестве первого решения испытуемый предлагает пустить лучи через пищевод, то экспериментатор может возразить для начала, что пищевод – не прямая трубка, по которой можно пустить лучи в желудок. Испытуемый в ответ может предложить использовать некий «волновод» и по этому волноводу провести лучи в желудок. На это экспериментатор может заметить, что опухоль не обязательно лежит против выхода пищевода в желудок. На что испытуемый – предложить использовать не волновод, а «микроманипулятор» с точечным источником облучения, провести его в желудок, правильно сориентировать там по отношению к опухоли и так решить задачу. Экспериментатор может вновь возразить, что опухоль может находиться не на внутренней стенке желудка, а на наружной или что Х-лучи будут проходить через опухоль дальше и все равно будут облучать здоровые ткани. Тут испытуемому придется отказаться уже от самой идеи решения, связанной с использованием пищевода в качестве «свободного пути в желудок», и искать какую-то иную.
Произошло бы все это продвижение испытуемого в решении задачи, если бы не было критики его решений со стороны экспериментатора? С очевидностью – нет. И в этих экспериментах сплошь и рядом так и бывает: испытуемый – если его собственная критическая способность недостаточно развита – «застревает» на каких-то промежуточных шагах решения задачи, полагая, что задачу он уже решил, тогда как на самом деле он едва-едва продвинулся в ее решении.
Таким образом, уже из анализа этого классического исследования Дункера становится понятно, что в качестве действительной единицы анализа здесь нельзя рассматривать «отдельно взятого» испытуемого, поскольку его работа, его продвижение в решении задачи не обладает самостоятельностью, не имеет собственных законов.
Такой минимальной единицей в данном случае оказывается диада «испытуемый – экспериментатор», – диада, которая и реализует тот процесс «доказательства и опровержения», который описан и проанализирован в современных исследованиях по методологии науки, прежде всего – в замечательной работе Имре Лакатоса ( Лакатос , 1967), и который только и ведет к решению задачи.
Главное, однако, в данном случае заключается даже не в том, что в качестве минимальной единицы, которую только и можно рассматривать в качестве самостоятельно существующего целого, исследователь вынужден переходить к рассмотрению некоторой более широкой ситуации, некоторой более крупной единицы анализа, включающей уже не только испытуемого, но также и экспериментатора. Ведь можно было бы думать, что ошибка традиционного представления и этого и подобных ему исследований состоит лишь в неправильном выборе «размера» единицы анализа, в неверном проведении границ целого, вследствие чего – и в силу только этого – в качестве объекта изучения берется то, что на самом деле является лишь несамостоятельной – и уже потому не обладающей автономным существованием и не имеющей собственных законов жизни – частью более широкого целого. И что стоит только провести эти границы целого правильно, стоит только верно выделить единицу анализа, как сразу же можно будет восстановить возможность естественнонаучного – то есть естественного и законосообразного – представления изучаемого объекта, можно будет восстановить возможность проведения в отношении изучаемого объекта естественнонаучного подхода.
Суть дела, однако, в данном случае и состоит в том, что те действительные целые, те минимальные «единицы анализа» изучаемого объекта, к которым тут приходит исследователь, пытаясь «правильно провести границы», оказываются – по самой своей «природе» – таковы, что в принципе исключают всякую возможность их «природного», то есть естественнонаучного, представления, ибо целостности эти всегда с необходимостью включают – и именно в качестве своего центрального, конституирующего их как таковые, звена – некоторые специально, с помощью особых приемов и средств организуемые, психотехнические действия по трансформации психического аппарата испытуемого и режима его функционирования. Причем, опять же, как это имеет место уже в том простейшем случае, который представляется ситуацией дункеровского исследования, подвергаемая трансформации или реорганизации форма психической деятельности сплошь и рядом оказывается уже «интерсубъектной» («интерпсихической», как говорил Выготский), что – в соответствии как раз с культурно-исторической теорией – характерно и вообще для всех исходных и основных форм собственно человеческой психики.
Итак, уже в случае самых что ни на есть классических академических исследований «экспериментального» типа мы встречаемся – причем как с принципиальной и неустранимой их особенностью – с фактом включения в структуру объекта изучения (в случае Дункера – в описание процессов решения творческих задач) момента специальной искусственной их организации и реорганизации с помощью особого рода психотехнических средств. Но с особой очевидностью обнаруживается это в случае разного рода практик «стимуляции творчества». Ибо что такое «мозговой штурм» или «сенектика», как не особого рода практики реорганизации мыслительной работы ввиду вполне определенных целей и задач и исходя из вполне определенного видения ситуации, которая берется как основная для проведения психотехнического воздействия. Важно при этом, что в случае этих практик берутся уже достаточно сложно артикулированные формы коллективной мыследеятельности, имеющие дело с реальными – сложными и практически значимыми – творческими задачами. Эти особого рода практики организации коллективного решения задач реализуются с помощью целой системы специальных средств и процедур, которые можно было бы назвать «психотехническими» средствами и процедурами, или даже – благодаря целой «технологии» работы с психикой, обеспечивающей регулярное достижение – подчас весьма высоких – конечных показателей.
Нужно сказать, правда, что психология творчества не находится здесь в каком-то особом положении. Подобного рода ситуацию можно зафиксировать во многих и самых разных областях современной психологии. Причем – как раз в тех, которые, быть может, наиболее перспективны и наиболее бурно развиваются – будь то современная психология сознания, которая основана на разного рода «психотехниках» работы с сознанием, или же психология личности, теснейшим образом связанная с практиками психотерапии и «психологического консультирования».
Ибо что же такое «тренинговая» группа, как не особая форма психотехнической практики, внутри которой складываются особые культуры коллективной жизни (общения, совместной деятельности и т. д.), благодаря которым, в конце концов, и достигаются вполне определенные, до известной степени заранее предвидимые и ожидаемые психотехнические эффекты – эффекты изменения, трансформации психики, сознания, самосознания – эффекты, на достижение которых с самого начала и нацелена работа группы.
Или что такое психоанализ, если не мощная и детальнейшим образом разработанная психотехническая система, затрагивающая множество различных планов и сфер человеческого существования, берущая человека на разных уровнях и в разных измерениях. Можно сомневаться в психотерапевтическом эффекте психоанализа, но то, что он ведет к радикальным перестройкам личности человека, его сознания, потребностно-мотивационной сферы, его установок и даже – его психосоматического статуса, – это факт, не подлежащий сомнению.
Или что такое, наконец, и сама психология – даже отдельных, традиционных, вплоть до самых элементарных функций (таких как «внимание», «память», «психомоторика» и т. д.)? Даже до «внимания» психология сегодня добирается в психотехническом повороте! Мы знаем, что сегодня существуют особого рода чрезвычайно эффективные практики воспитания новых форм внимания – таких, которые в обыденной жизни у человека не складываются и стихийно сложиться не могут.
Итак, подобного рода ситуацию можно обнаружить во многих областях современной психологии, и то, что было сказано о творчестве, – только частный случай.
То, что современная научная психология творчества, будучи неспособной схватить принципиальную особенность своего предмета, целиком ориентирована на естественнонаучную парадигму исследования, ведет, однако, не только к ее оторванности от реальных практик организации творчества и, в результате – к ее несостоятельности перед запросами практики, но также и наоборот – эта ее естественнонаучная ориентация ведет к тому, что – со своей стороны – психология творчества оказывается совершенно неспособной к адекватной рефлексии этих практик и, как следствие этого, неспособной ни к эффективной ассимиляции опыта, уже накопленного этими практиками, ни даже – к релевантной его природе критической его оценке. Хотя при этом среди психологов сегодня трудно найти честного и серьезного исследователя, который не признавал бы огромного и даже уникального значения этого опыта для научной психологии.
Здесь, опять же, можно было бы сослаться на авторитет Курта Левина, который – правда, в связи с проблемами психологии личности – неоднократно обсуждал вопрос об отношении между научной и практической, жизненной психологией. В частности, еще в середине 30-х годов в специальной работе ( Lewin , 1937) он пытался соотносить свою «топологическую психологию» с психоанализом Фрейда. Но для Левина это был только частный случай рассмотрения более общей проблемы – проблемы соотношения академической экспериментальной психологии и психологии, связанной с психотехнической практикой, в данном случае – с практикой психотерапии и, конкретно – с психоаналитической практикой.
Что же писал – еще 50 лет назад – Курт Левин – этот ярчайший представитель методологии естественнонаучного эксперимента в психологии, человек, который, по сути дела, изыскал для психологии возможности для введения этой парадигмы исследования в совершенно новые области – исследования мотивации, личности, затем и группы, групповой динамики и т. д., – иначе говоря, инициатор и главный проводник этой методологии в психологии, причем, как мы отмечали выше, в серьезной, современной форме? При всех преимуществах экспериментального исследования, говорит Левин, в том, что касается строгости и точности (то есть возможности количественных результатов), способов верификации знаний и т. д., необходимо все же признать, что экспериментальной психологии нужно развиваться еще многие десятилетия до того момента, когда она сможет иметь дело с теми проблемами, с теми ситуациями, с которыми уже давно, регулярно и эффективно имеет дело психоанализ. Почему так? Левин указывал примерно на те же самые обстоятельства, о которых говорилось выше, и прежде всего – на принципиальную для естественнонаучного исследования установку на анализ идеальных случаев и, стало быть, лабораторных препаратов от реальных, жизненно значимых случаев. «Должны пройти десятилетия», полагал Левин. Но пять десятилетий уже прошли, а существенных сдвигов не наблюдается. Больше того, парадоксальным образом по мере развития – бурного развития – научной психологии тот разрыв между нею и психологией практической, о котором говорил Левин, не только не сократился, но только еще более вырос.
Ситуация же для психологии – социальная и социокультурная – сейчас такова, что ждать даже несколько десятилетий психология уже не может себе позволить. Она вынуждена – просто для того, чтобы «выжить», – в ближайшее же время радикально изменить сложившееся положение. И прежде всего – в том, что касается лучшей стыковки психологических исследований с решением практических задач.
Итак, с одной стороны, практики творчества – в том виде, как они сложились и существуют, – страдают, сказал бы Выготский, дремучим «фельдшеризмом», то есть недостаточной теоретической оснащенностью, недостаточно прозрачны для понимания, не обладают полноценной в методологическом отношении и адекватной рефлексией. А с другой стороны, научная психология творчества – в своих собственных экспериментальных исследованиях – страдает крайним «академизмом», безнадежно далека от задач практики организации творчества и потому ничего не может дать этой практике, а в силу того, что она ориентируется на естественнонаучную парадигму исследования, она к тому же и не способна схватить принципиальную особенность того, с чем имеют дело эти практики, понять, что то, с чем они имеют дело, имеет совершенно особую природу, принципиально отличную от естественнонаучного «объекта», вследствие чего научная психология не способна также и ассимилировать опыт этих практик или даже полноценно его осмыслить.
Эти два обстоятельства формируют по-настоящему кризисную ситуацию в современных исследованиях творчества. Но, как уже говорилось – и не только в исследованиях творчества. Во многих областях современной психологии есть ощущение кризиса, причем кризиса именно методологического, есть ощущение того, что какие-то принципиальные затруднения проистекают из недостаточно адекватного осознания собственно методологических проблем, перед которыми оказывается сегодня исследователь.
Заметим в конце, что такой диагноз ситуации, сложившейся в современной психологии, в частности – в современной психологии творчества, очень близок к тому, который в свое время, еще в середине 20-х годов, ставил в работе «Исторический смысл психологического кризиса» Выготский. Многое из того, что было сказано выше, можно было бы сказать в виде цитат из этой замечательной работы. С той, правда, оговоркой, что сам Выготский при этом не всегда до конца понимал то, что он действительно делает. В этом, однако, нет ничего удивительного. И в этом случае необходимо признать справедливость правила, что осознание, актуальная методологическая рефлексия сплошь и рядом отстают от «реальной методологии» – методологии, фактически реализуемой в самой практике исследовательской работы.
Истоки культурно-исторической теории: психология искусства
Я, однако, не отчаиваюсь в возможности показать вам, что в том и другом случае происходит одно и то же. Я постараюсь проследить этот процесс, кажущийся мне достаточно сложным, и думаю, что смогу, разъясняя ваши сомнения и возражения, осветить вопрос так, что узел можно будет считать если не совсем развязанным, то хотя бы несколько распутанным.
Галилей (Беседы. День шестой)
Для понимания становления Выготского как мыслителя, а стало быть – для выявления предельных целей и ценностей его работы в психологии, именно ранние его исследования, исследования, составляющие «предысторию» культурно-исторической концепции, представляются решающе важными. Ибо именно в этих ранних исследованиях Выготского этот план предельных целей и ценностей его работы представлен развернуто и явно. Затем, в последующих работах, он прогрессивно редуцируется и выступает лишь в качестве не всегда легко просматриваемого – однако всегда присутствующего и всегда исключительно важного – фона его мысли. Действительно, если его «Гамлет» весь пронизан напряженным поиском внутри феномена человека, который берется в критических, пограничных ситуациях его существования, если в «Психологии искусства» духовно-личностная проблематика затрагивается еще во многих главах работы, а в «Педагогической психологии» – в значительной части последней главы, то уже в «Историческом смысле психологического кризиса» ее обсуждению (правда, в весьма концентрированном виде) отводится всего лишь последняя страница [33] , а в более поздних работах Выготского, работах, представляющих каноническую версию культурно-исторической теории, прямое обсуждение проблем философии человека почти полностью отсутствует, «выносится за скобки» и может только косвенно вычитываться из анализа того, как обсуждаются Выготским другие, уже собственно предметно-психологические проблемы. В это время лишь в письмах к близким друзьям, в некоторых заметках «для себя» Выготский продолжает развивать по-прежнему волновавшие его «метафизические» мысли.
Эти личные документы, по большей части еще не опубликованные [34] , с очевидностью показывают, что и в эти годы – стало быть, всегда – работа Выготского как собственно психолога, которая, на первый взгляд, в это время полностью поглощала его – и которой он отдавался самозабвенно, со страстью истинного фанатика, – для самого Выготского, тем не менее, имела смысл не сама по себе, не втискивалась в прокрустово ложе самодовлеющего – собственно научного – психологического познания человека, выступала не как самоцель, но находила свое место лишь внутри некоторой более широкой философской и «антропологической» рамки – в контексте задачи духовного освобождения и обновления человека, радикального его психического и духовного перерождения и развития. Именно это было делом жизни Выготского, а не узкопредметная работа. Каков «образ» человека, который был реализован Выготским в его культурно-исторической психологии? Только ответ на этот вопрос может дать ключ к пониманию его концепции и, вместе с тем – его жизни и личности.
Разбор ранних работ Выготского можно начать с небольшого пассажа из трактата «Исторический смысл психологического кризиса», в котором Выготский обсуждает проблему метода в психологии и пытается дать сопоставительный анализ собственно экспериментального метода и того, который он называет «объективно-аналитическим».
Выготский пишет: «Сходство (анализа. – А.П. ) с экспериментом сводится к тому, что и в нем (то есть в эксперименте! – А.П. ) мы имеем искусственную комбинацию явлений (то есть особую инженерно-техническую постройку. – А.П. ), в которой действие определенного («природного». – А.П. ) закона должно проявиться (лишь. – А.П. ) в наиболее чистом виде. Это есть как бы “ловушка для природы”, анализ в действии (то есть анализ, выполненный в форме внешнего познавательного действия. – А.П. )» ( Выготский , 1982, с. 406). Отметим выражение Выготского: «ловушка для природы». «Но, – продолжает Выготский, – такую же искусственную комбинацию явлений (то есть искусственное «техническое» устройство, «аппарат», «машину», – в случае психологии, как мы увидим дальше, знаковую, семиотическую «машину», предназначенную для выполнения определенной – опять же: в случае психологии – «психотехнической» – работы. – А.П. ), только путем мысленной абстракции (лучше было бы сказать: «идеализации». – А.П. ), мы создаем и в анализе (ср. выражение: «аппарат анализа». – А.П. ). Особенно это ясно, – продолжает Выготский, – в применении тоже к искусственным (то есть собственно «техническим». – А.П .) построениям. Будучи направлены не на научные, а на практические цели, они (тем не менее также. – А.П. ) “рассчитаны” на действие определенного психологического или физического закона».
Обратим внимание на идущее дальше, совершенно немыслимое, на первый взгляд, перечисление. «Таковы, – пишет Выготский, – машина (…! – А.П. ), анекдот, лирика, мнемоника, воинская команда».
На первый взгляд, приведенное перечисление представляет собой нечто подобное той классификации живых существ, о которой повествует одна из новелл Борхеса, где якобы цитируется «некая китайская энциклопедия», в которой говорится, что «животные подразделяются на: а) принадлежащих Императору, б) бальзамированных, в) прирученных, г) молочных поросят, д) сирен, е) сказочных, ж) бродячих собак, з) включенных в настоящую классификацию, и) буйствующих, как в безумии, к) неисчислимых, л) нарисованных очень тонкой кисточкой на верблюжьей шерсти, м) и прочих, н) только что разбивших кувшин, о) издалека кажущихся мухами». «Предел нашего мышления – то есть совершенная невозможность мыслить таким образом – вот что открывается нашему взору, восхищенному этой таксономией», – справедливо замечает приводящий ее в одной из своих работ французский философ М. Фуко ( Фуко , 1977, с. 310).
Разбирая эту экзотическую таксономию и пытаясь понять, в чем же именно состоит вся ее «немыслимость» для нашего сознания, М. Фуко глубокомысленно замечает, что она кроется не в содержании отдельных рубрик, не в том, что в перечне говорится о «сказочных существах», поскольку они в качестве таковых и обозначены, «а в предельной близости к бродячим собакам или к тем животным, которые издалека кажутся мухами», – она кроется в том, что «именно сам алфавитный ряд (а, б, в, г), связывающий каждую категорию со всеми другими, превосходит всякое воображение и всякое возможное мышление» ( Фуко , 1977, с. 32). Действительно, как можно понять этот ряд, где через запятую, рядом поставлены: «машина (имеется в виду машина в буквальном смысле, к примеру – паровой котел), … анекдот (!), лирика (!), мнемоника (!), воинская команда (!)»? Воистину – перечень, достойный борхесовской «китайской энциклопедии»!
Но продолжим чтение Выготского. «Здесь перед нами, – пишет Выготский, – “практический эксперимент” (то есть «эксперимент», «ловушкой для природы» в котором служит то или иное техническое устройство, по своему первому, прямому назначению выполняющее чисто практическую функцию, скажем, та же, облюбованная Выготским «паровая машина». – А.П. ). Анализ таких случаев (точнее было бы: «анализ в таких случаях». – А.П. ) – эксперимент готовых явлений (то есть познание, развертывающееся как бы в противоходе к нормальному в случае обычного эксперимента: не от теоретических гипотез к опытной «ловушке для природы» – путь «синтеза ловушки» и, соответственно – события, но, напротив – от всегда уже готовой, преднаходимой в виде «машины» ловушки и соответствующего события – к реконструкции предполагаемых ею – в качестве условий возможности ее действия – физических или психологических законов – путь «анализа ловушки». – А.П. ). По смыслу, – продолжает Выготский, – он («практический эксперимент». – А.П. ) близок к патологии – этому эксперименту, оборудованному самой природой, ее собственному анализу. Разница только в том, что болезнь дает выпадение, выделение лишних черт, а здесь – наличие именно нужных, подбор нужных, но результат – тот же самый».
И далее: «…Каждое лирическое стихотворение – есть такой эксперимент. Задача анализа – вскрыть лежащий в основе природного (явная описка – должно быть: «практического». – А.П .) эксперимента закон».
В этой цитате, как нам представляется, в наиболее концентрированном виде содержится не только основная идея «Психологии искусства» Выготского, но и основная идея его культурно-исторической теории в целом. Обратить на это внимание важно потому, что на первый взгляд может показаться, что культурно-историческая теория Выготского возникает как-то вдруг.
Вроде бы до середины 27-го года нет ни одного ясного, четкого, вразумительного заявления идей культурно-исторической теории, а всего несколько месяцев спустя – в самом начале 28-го года – выходит известная программная статья «К проблеме культурного развития ребенка», в которой не только намечены основные темы и сформулированы – причем почти в окончательной, канонической форме – основные идеи культурно-исторической теории, но даже и ход рассуждения, композиция этой работы будут затем многократно воспроизводиться в более поздних работах Выготского. В противовес этому следует со всей определенностью сказать, что было бы ошибкой думать, будто культурно-историческая теория родилась вдруг и сразу – в готовом и окончательном виде.
Основные ходы мысли, которые составят потом основное содержание этой концепции, можно обнаружить у Выготского очень рано. Прежде всего, конечно, в его дефектологических работах: они непосредственно предшествуют созданию культурно-исторической теории. Но также и еще раньше – в рамках его «Психологии искусства» и в его «Кризисе». Возвращаясь к приведенной цитате, следует еще раз обратиться к мысли Выготского, что каждый из элементов перечня: машина, анекдот, мнемоника, воинская команда, лирическое стихотворение – это, по Выготскому, – «ловушка». В случае физической машины – того же парового котла – «ловушка для природы», для «физики». В случае же «машины» знаковой, семиотической – того же мнемотехнического приема или лирического стихотворения – «ловушка для психики»!
Однако между «ловушками для физики» и «ловушками для психики» есть одно чрезвычайно важное различие
Это различие – оно представляется принципиальным – состоит в том, что в случае «ловушек для природы» то, что в эти ловушки захватывается и «ловится», всегда уже предполагается наличным – во всяком случае, так обстоит дело с точки зрения самого естествоиспытателя. Анализируя физическую машину – как, например, Карно в свое время анализировал паровую машину, – можно попытаться реконструировать те физические законы, которые стоят «за ней» и как бы реализуются в самом ее устройстве и принципе действия, а стало быть, через анализ ее устройства и действия могут быть извлечены. То, что «ловится», – «природа» с ее физическими законами – предполагается всегда уже наличным и существующим до создания и «срабатывания» машины и независимо от этого. Физические – и вообще природные – закономерности лишь обнаруживаются и проявляются в своем действии в данном механизме. Только благодаря тому, что каким-то образом – «заранее»: «реальная физика»! – происходит как бы «учет» этих законов, мы и можем построить соответствующую машину – работающую машину. Так обстоит дело в случае физики.
В случае же психологии, в случае «ловушек для психики» с самого начала имеет место принципиально иная ситуация.
Для разъяснения обратимся – в качестве параллели – к случаю Декарта. Декарт в своей работе – работе философа – тоже пытался строить особого рода ловушки. Его конструкция «когито» – известная его формула: «мыслю, стало быть – существую», как мы сейчас понимаем, – вовсе не силлогизм, но особого рода текст, произнося который мы оказываемся в такой точке сознания, в которой мы можем обладать – причем именно через и на время понимающего произнесения этого текста – некоторым абсолютно достоверным «знанием». В этом смысле декартовская формула – это «ловушка» для чего-то «абсолютно достоверно существующего».
Но если мы спросим себя: «Та точка сознания, в которую мы при этом попадаем, – существовала ли она до чтения нами этого текста Декарта и без чтения этого текста?» Если поставить этот вопрос прямо, то можно с удивлением обнаружить, что ответ должен быть отрицательным: сознание, которое в своем тексте вроде бы уже только «описывает» Декарт, сознание, которое после Канта будет называться «трансцендентальным сознанием», – оно, парадоксальным образом, до этого его «описания» и до чтения этого описания, как оказывается, не существует. Сознание, которое в этом тексте описывается, – оно впервые только и порождается (или «устанавливается» в нас) в результате или в акте чтения этого текста, его описывающего.
Декартовская формула «когито», стало быть, тоже есть особого рода семиотическая «машина» – «ловушка для сознания», – но: какого сознания? – того, которое впервые только через выделывание и срабатывание этой «ловушки» и устанавливается!
И это означает, что декартовское – «когитальное» – сознание является особой искусственной «культурой сознания», которой до Декарта, до написания им своих текстов нигде в природе не существовало.
И если декартовская формула «когито» – это ловушка для сознания, то – ловушка для такого сознания, которого до выделывания и срабатывания этой ловушки не было.
И, стало быть, психика, которую исследователь пытается реконструировать через анализ такого рода «ловушек», или знаковых «машин», – это всегда уже «трансформированная» психика – психика, трансформированная подключением к человеку, носителю психики, специальных «насадок», дополнительных инструментов.
В конце приводившегося выше фрагмента Выготский говорит о том, «как бесконечно усложняют, утончают наше исследование аппараты, насколько они делают нас умнее, сильнее, зорче». Иначе говоря, Выготский здесь высказывает идею усиления, «амплификации» естественных способностей человека посредством дополнительных «приставок», «усилителей», «амплификаторов», в качестве которых и выступают особого рода – знаковые – машины, такие как «анекдот, лирика, мнемоника, воинская команда». Через анализ этих машин, как мы уже сказали, непосредственно можно иметь дело всегда уже только с трансформированной психикой – с «психикой» в самом широком смысле слова, включая и сознание, и даже прежде всего – сознание, ибо для Выготского проблема сознания и, соответственно – метода анализа сознания – это первая и основная проблема, его «grundproblem». Подчеркнем еще раз, что именно эта, уже трансформированная психика и является той «первой реальностью», к которой приводит анализ обеспечивающих эту трансформацию «машин». К этому, принципиально важному тезису нам придется еще вернуться при обсуждении проблемы метода культурно-исторической психологии в общем виде.
Зафиксировав в самом предварительном виде своеобразную «первоидею» или, точнее было бы сказать даже – «первоинтуицию» «объективно-аналитического» метода у Выготского, можно уже прямо обратиться к его психологии искусства и посмотреть, как эта «первоинтуиция» реализуется и развертывается на материале анализа конкретных вещей искусства, самых разных по жанру литературных текстов, поскольку, как известно, Выготский в своей «Психологии искусства» имеет дело исключительно с художественной литературой.
Прежде всего мы обнаруживаем совершенно необычное понимание самой идеи «психологии искусства» – понимание, которое было парадоксальным для психологии того времени, каковым, впрочем, оно остается и сегодня. Традиционно «психология искусства» рассматривается как особая область или даже отрасль психологии – прикладной психологии, – в случае которой исследователь, используя те или иные общепсихологические приемы и методы исследования, а также уже полученные в психологии – как в общей психологии, так и в других ее отраслях – в социальной, этно– и даже в медицинской психологии (психоанализ) – знания законов и представления о механизмах работы психики человека, пытается применить их, «приложить» к исследованию феноменов искусства, будь то процессы художественного творчества в узком смысле слова, то есть процессы создания произведения искусства, или же процессы восприятия вещей искусства читателем, слушателем, зрителем. Итак, во-первых, традиционно понимаемая «психология искусства» – это только «приложение» психологии к особому «материалу» – материалу искусства, художественного творчества и, во-вторых, это сфера эмпирических исследований, опять же – в традиционном для психологии смысле – эксперимент (чаще всего – лабораторный) или же различные формы наблюдения. Это – сфера исследований, имеющих дело с конкретными эмпирическими субъектами – субъектами творчества или восприятия результатов этого творчества – живыми людьми или даже – «испытуемыми». И, по общему убеждению, именно это обстоятельство и делает эти исследования собственно «психологическими».
«Психология искусства» Выготского была во многом как бы «ортогональной» этим традиционным представлениям. Во-первых, она не была эмпирической психологией в обычном смысле – она не имела и, по самой своей идее, не должна была иметь дела ни с каким эмпирическим исследованием – безразлично: «лабораторным» или «полевым» – живых людей, опять же, безразлично – создающих или воспринимающих произведения искусства. И, во-вторых, она не была и, опять же, по основному своему пафосу – не могла быть «прикладной» психологией, то есть лишь прилагающей уже наработанное в психологии к анализу искусства, но, напротив, должна была стать совершенно уникальной сферой исследований человека, дающей такое «знание» о нем, которое принципиально невозможно получить ни в какой другой сфере исследований и даже вообще – ни в каких «эмпирических» исследованиях человека!
Поскольку это должны быть «знания» о «человеке возможном», «опыты о человеке» с точки зрения того, чем он может быть и, стало быть, должен еще стать, а не о человеке, каким он уже есть, «наличном» человеке.
И именно это обстоятельство делает знание о человеке, его психике, сознании, личности, которое может быть получено в «психологии искусства», совершенно уникальным. Попытаемся проследить основной ход мыслей Выготского.
Выготский настаивал на том, что исходной точкой анализа в психологии искусства должна быть «сама вещь искусства». Он настаивал на том, что именно особого рода анализ самой вещи искусства, анализ, нацеленный на установление ее особой «функциональной структуры», – только такой анализ и может позволить перейти затем ко второму шагу исследования – к реконструкции того устройства психического аппарата человека, который данной вещью искусства «предполагается» – предполагается в качестве условия возможности самого ее существования в качестве таковой, то есть «вещи искусства».
Действительно, для того чтобы та или иная вещь искусства была воспринята вообще и была воспринята именно как вещь искусства, воспринимающий должен обладать вполне определенной психической и, более широко, душевно-духовной организацией.
Только по отношению к этой организации данная вещь искусства может выжить. Выготский как раз эту психическую организацию, которая стоит как бы «за» самой вещью, ею предполагается, и предлагал реконструировать в рамках психологии искусства.
Здесь нужно отметить несколько важных обстоятельств. Во-первых, та психологическая организация, которая может быть получена в такого рода реконструкции, – это, конечно, не психологическая организация какого-то эмпирического человека, который здесь и сейчас стоит перед картиной, или сидит над «Гамлетом», или слушает симфонию Бетховена. Эта организация не совпадает с эмпирической организацией никакого конкретного живого человека. Означает ли это, однако, что тем самым психология искусства, по Выготскому, должна быть в каком-то смысле абстрактной дисциплиной? Не должна ли она в таком случае упираться, в конце концов, в некоторые абстракции, в лучшем случае приводя нас к некоторому «идеальному» читателю, зрителю, слушателю, то есть – такому, какого в принципе нигде нет и быть не может?
Выготский показывал в своих конкретных анализах – в «Гамлете», прежде всего, но также и – в «Легком дыхании» и в других главах своей «Психологии искусства», что такого рода анализ приводит к совершенно конкретным реконструкциям плана психологической реальности.
Но, вместе с тем, оказывается, что этот план не совпадает с эмпирическим. Разъясняется это просто. Если мы имеем дело с действительно настоящей вещью искусства, то та психическая и духовная организация, на которую она «рассчитана», вообще еще не является наличной среди людей.
Бетховен, когда он написал свою 3-ю симфонию в самом начале XIX века, «не имел ушей», которые могли бы эту вещь слышать. Можно уверенно утверждать это, несмотря на то, что среди современников Бетховена были Гегель или Гете. Если бы даже мы сейчас не располагали прямыми свидетельствами того, что и как слышали в этой музыке современники композитора, мы и тогда могли бы с уверенностью настаивать на том, что они явно не могли «по-настоящему» слышать эту музыку – слышать так и то в ней, как и что можем слышать в ней сейчас мы. И это не потому, что мы были бы слишком высокого о себе мнения, но потому, что «не зря протекли» те века, о которых говорит Борхес в связи с романом Менара.
И дело здесь не столько в том, что наши «уши» – в узком смысле слова – продолжали «расти» с тех пор и, пройдя через всю последующую историю музыки – пройдя через Вагнера, новую Венскую школу и современную музыку, – они необратимо изменены и «устроены» иначе. Что это так, нетрудно убедиться. И они, стало быть, будут воспринимать музыку Бетховена иначе – даже в узкомузыкальном смысле.
Дело, прежде всего, в том, что и в плане общей душевно-духовной организации мы отличаемся от современников Бетховена. И именно это, прежде всего, связано с теми борхесовскими «веками», которые прошли со времени создания бетховенской музыки. Прежде всего, в этом ее – собственно человеческом содержании мы можем воспринимать, слышать ее сейчас так, как не могли воспринимать и слышать современники Бетховена.
Но если мы все-таки действительно слышим ее сейчас так, как мы можем ее сейчас слышать, то можно сказать, что Бетховен, создавая эту вещь, как бы «предполагал» – по крайней мере, как одну из возможных – ту душевно-духовную организацию, которая могла возникнуть, установиться десятилетия, а быть может – и столетия спустя. Симфонией Бетховена – в качестве условий возможности ее полноценного восприятия – «предполагается», «имеется в виду» – можно было бы сказать: «интенционально», если бы это слово в гуссерлевской версии феноменологии не «имело бы в виду» только нечто всегда уже наличное, предданное – симфонией Бетховена имеется в виду некая вполне определенная душевно-духовная конституция человека, а стало быть – некая душевно-духовная работа человека с собой и проходимый этой работой путь – путь реального исторического душевно-духовного развития феномена человека, включая и развитие его собственно «музыкального сознания». И, наконец, не только «предполагает» и «имеет в виду», но также и – что в контексте «психологии искусства» Выготского решающе важно – участвует в этом развитии, исправляет пути приходу Нового человека.
Сознание «сдвинулось»! Сознание – вещь историческая. И если даже сейчас звучит та же самая симфония Бетховена, то, входя в круг другого – современного – сознания, она оказывается, по сути, уже другим – иным и по своему душевно-духовному, и даже по узкомузыкальному содержанию – произведением, нежели то, что звучало при жизни ее автора.
Больше того – как бы вызывающе и кощунственно, быть может, это ни звучало, – нужно признать, что даже и сам Бетховен не слышал и не мог слышать свое детище во всей его действительной глубине и многомерности. Как не понимал «по-настоящему» Шекспир своего Гамлета.
В последнем случае существует один любопытный симптом или индикатор этого – соотнесенного с духовным содержанием произведения – движения сознания. Этот индикатор – перевод [35] .
Почему переводы «Гамлета» даже конца прошлого – начала нашего века безнадежно устарели? Почему читать их сейчас почти невозможно? Не потому, оказывается, что они дальше от Шекспира в буквальном, филологическом смысле, – как правило, напротив, легко убедиться, что чаще всего они гораздо ближе к точному академическому подстрочнику, чем, несомненно, лучший современный перевод – перевод Б.Л. Пастернака. Что это так – что педантичный академический критик может найти немало поводов упрекнуть именно этот перевод в неточностях, в вольности, в отступлении от буквы Шекспира и – что, быть может, даже еще более интересно – от исторического, но опять же в узком, академическом смысле, ее «духа», – в этом можно убедиться, просмотрев переписку Пастернака с выдающимся знатоком Шекспира – М.М. Морозовым по поводу пастернаковских переводов «Ромео и Джульетты» и «Гамлета» (Переписка М.М. Морозова с Б.Л. Пастернаком, 1970). Почему же тогда перевод Пастернака бесконечно сильнее, чем прежние, часто безупречные по точности и к тому же нередко заслуживающие чрезвычайно высокой оценки в том, что касается их абстрактного поэтического качества? Потому, что бесконечно сильнее – как качественно иное, новое, небывалое и прежде невозможное – сознание, которое «за» этим переводом стоит, сознание, в горизонте которого он выполнен, скрепами которого он держится, сознание, которое и есть, по сути, последнее и, как приходится признать, незыблемое его основание и оправдание. Сознание – и узкопоэтическое, и личностно-человеческое, сознание, которое современно той своей вневременностью, которую сообщает ему только поэтический гений. Пастернаковский «Гамлет» ближе к подлинному – и единственному! – Шекспиру, ибо он раскрывает в нем условия возможности нашей собственной духовной жизни, нашего собственного духовного развития, расширяет горизонт нашего собственного сознания, «амплифицирует» его. Или, говоря словами Выготского: устанавливает для нас как людей некую «зону ближайшего развития», тем самым вновь помещая («возвращая») вещь искусства в ту точку, где вновь и вновь рождается [36] человек как духовное существо, но, вместе с тем – туда, где одновременно заново рождается и где только и может располагаться настоящее произведение искусства. И это, по-видимому, есть единственная возможность подключиться к «подлинному» смыслу вещи искусства.
То же, по существу, делает всякий большой художник-исполнитель – дирижер, пианист, актер.
Искусство, при таком его понимании, есть своего рода лаборатория, в которой осуществляется поиск внутри феномена человека – поиск человека возможного и грядущего и, что чрезвычайно важно – человека, который собственно только через этот поиск и внутри него, благодаря духовному усилию и работе, в этом поиске совершаемым [37] , и может рождаться или: вновь и вновь воз-рождаться (подобно фениксу – из пепла).
Выготский считает даже, что эта лаборатория чем-то подобна алхимической: здесь происходит почти чудо, подобное чуду «претворения воды в вино», – чудо духовного преображения человека, перерождения его, как бы перехода в новое духовное «тело».
Это есть попытка раскрытия горизонтов или, используя термин Выготского, той «зоны ближайшего развития», духовного развития человека, которая может быть им реализована, хотя, возможно, никогда и не реализуется. И это есть набросок путей развития человека.
Понимая это, мы совершенно особым образом начинаем смотреть на сами вещи искусства, прежде всего – в плане функций, которые они выполняют по отношению к нашей психической, и шире, душевно-духовной жизни.
В силу сказанного, каждая вещь искусства есть особого рода «орган» – психического и духовного – развития человека. Орган, или «приставка», которыми человек восполняет себя до того целого, которое только и может развиваться, в качестве какового человек только и может осуществлять свое развитие [38] .
И эта мысль, в свою очередь, ведет к пониманию того, что первой реальностью, с которой должна иметь дело подобного рода психология искусства, является, по существу, как раз реальность трансформации, или преобразования психической и духовной организации человека. Преобразования с помощью особого рода инструментов или органов – вещей искусства, – преобразования, которое можно представлять себе даже как особого рода «действие», – действие, которое условно можно было бы назвать «психотехническим действием». Психотехническое действие – в полноте его состава – и оказывается той единицей анализа, с которой должна иметь дело подобного рода психология искусства.
Но что собственно делает подобного рода анализ психологическим? Не секрет, что Выготского подчас обвиняют в том, что в своих работах по психологии искусства он вообще не психолог, утверждая, что его так называемая «психология искусства» – это что угодно, только не психология. Быть может, это – интересные и профессионально выполненные литературоведческие или семиотические исследования, быть может, даже его «Гамлет» – это маленький и глубокий философский трактат, но психология тут – ни при чем.
Нам представляется, однако, что эти исследования – именно психологические и что психологическими их делает особый ракурс, в котором берется вещь искусства, когда рассматривается в своей особой – психотехнической – функции как особого рода орган для выполнения психотехнической работы – работы, которая открывает возможность радикальной трансформации психики, сознания, личности человека.
И это – единственная возможность для исследований такого рода быть психологией. Однако такой подход может быть реализован не только по отношению к искусству, но и по отношению к другим семиотическим образованиям.
Если не понимать психотехнику узко – только как то, что касается устройства глаз и ушей, но иметь в виду также и развитие мыслительных способностей, сознания, способности понимания и т. д., то даже математические построения можно рассматривать в психотехническом ракурсе. Достаточно напомнить о складывающейся у математиков способности непосредственно «видеть» 4– и даже n-мерные объекты, – способности, которая у математиков возникает «стихийно», в результате систематической профессиональной работы с особыми математическими объектами, однако, как оказывается, с помощью особых регулярных психотехнических процедур может формироваться, воспитываться и у обычных «смертных», пусть и в самых простых формах. То же самое, впрочем, можно сказать и про художников, систематически работающих в системе «обратной перспективы» – иконописцев или, как ни парадоксально, также и у кубистов.
Пример реализации психотехнического подхода можно найти в юнговской «Психологии и алхимии». Как известно, эта работа состоит из двух частей. В первой части Юнг на материале анализа более тысячи (!) сновидений пытается дать реконструкцию психологического развития одного из своих пациентов. И когда Юнг раскрывает процесс душевно-духовного развития личности, процесс достижения человеком душевно-духовной зрелости – то, что он называет процессом «индивидуации», и фиксирует при этом особый символический язык, в котором этот процесс выполняется, в частности – в материале сновидений, а потом берет алхимические тексты и пытается их анализировать, но не как историк науки, не как «донаучную фазу развития химии» (с этой точки зрения вся алхимия представляет собой коллекцию каких-то несуразностей, такого же толка, как «флогистон»), но пытается рассмотреть их с психотехнической точки зрения, то обнаруживает поразительные вещи. Оказывается, если посмотреть на алхимическую символику или даже на некоторые алхимические формулы с такой психотехнической точки зрения, то есть – как на инструменты, с помощью которых не только наука развивалась, но человек пытался себя прорабатывать и развивать как духовное существо, то можно обнаружить поразительные параллели с символикой сновидений. Алхимические построения, стало быть, не фикции, каковыми они выступают в естественнонаучном ракурсе, то есть в прямом отнесении к тем физическим объектам, которые ими вроде бы имеются в виду, нет – они реальны, но в инструментальном, психотехническом повороте.
Каково отношение такого рода психологии искусства к самому искусству, к жизни самих вещей искусства? Ведь можно задать вопрос: «А зачем вообще нужна психология искусства?» Ибо если вещь искусства действует на нас сама по себе и производит свой «психотехнический» эффект благодаря своей собственной конституции, то зачем еще рядом с ней должна быть психология искусства? И, вообще, – какое бы то ни было исследование искусства? И даже: «Не убивает ли любой анализ само произведение искусства?»
«Гамлет» начинается у Выготского с различения двух типов понимания. С одной стороны – понимание, которое убивает вещь искусства, замещая ее собой. Это – «объясняющее» понимание, которое устраняет тайну действия вещи искусства, создает иллюзию полной ее прозрачности для рационального сознания.
Однако Выготский намечал и иной тип понимания, на который и ориентирована его «Психология искусства», – понимание, доставляемое таким анализом вещи искусства, который не замещает ее собой, но всегда остается «при ней». Такой анализ является как бы продолжением вещи искусства, он подобен некой «приставке», с помощью которой мы можем «амплифицировать», усилить свое понимание вещи.
Не имея возможности подробно и развернуто продолжить эту мысль Выготского, укажем лишь на параллели в некоторых других областях психологии, в частности – в психологии сновидений, где существует та же проблема отношения анализа и толкования сновидения к самому сновидению, взятому в его психотехнической функции в психической жизни. Как показывает практика психотерапии, толкование сновидений есть продуктивная работа в плане понимания сновидений и действия их в нас.
Если последовательно держаться второго из намеченных Выготским типа понимания и выполнять анализ искусства так, чтобы он лишь амплифицировал действие самой вещи искусства, то тогда, во-первых, подобного рода анализ оказывается возможным и, во-вторых, в нем нет ничего «разрушительного» для самой вещи искусства.
Можно пойти дальше и настаивать на том (опять же совершенно аналогично толкованию сновидений), что решающе важным при этом оказывается даже не столько структура вещи искусства сама по себе (которая, повторим, является лишь искусственным «органом», «приставкой», «насадкой» к наличной психической и шире: душевно-духовной организации человека в контексте выполнения им духовной работы), и даже не понимающий анализ этой вещи (в рамках психологии искусства), обеспечивающий, помимо прочего, как бы «стыковку» этой «приставки» с наличной психической и духовной организацией человека, но прежде всего, конечно, план самой духовной работы («переживания» в смысле Василюка, 1984), по отношению к которой вещь искусства, пусть и амплифицированная ее анализом, является только как бы своего рода пространством условий возможности ее совершения – пространством, где может развертываться некое «духовное странствие» (или иногда, быть может – приключение).
В этом смысле всякая вещь искусства существует только для человека, встающего на путь духовной работы, выбирающего себя в качестве духовно свободного и развивающегося существа. Это следует специально подчеркнуть, ибо из того, как была представлена суть «психологии искусства» Выготского, можно было бы заключить, что есть некий автоматизм, некая непременность и неотвратимость действия вещей искусства в нас или через нас в плане нашего развития в ту или другую сторону.
На самом деле, конечно же, такого нет, и если человек находится перед большой вещью искусства и достоин [39] этой вещи искусства, то каждый раз он находится, прежде всего, перед ситуацией самоопределения, или выбора – выбора себя перед вещью искусства в качестве того или иного существа.
И здесь, конечно, все зависит от того, что сам человек делает – как свободное, нравственное, духовное существо. Он должен совершить усилие – духовное усилие просто, чтобы возобновлять себя, длить в качестве человека. Здесь нет механической связи. Но вместе с тем подлинная вещь искусства – коль скоро она все-таки понята (здесь можно напомнить знаменитое седьмое письмо Платона) – обладает своего рода «принудительностью» действия, делая «выбор» человека «безосновным» – «стою здесь, не могу иначе!», что, собственно, и конституирует план его духовно-личностного бытия.
«Психология искусства», как ее намечает Выготский, стало быть, и еще в одном – чрезвычайно важном отношении – оказывается совершенно уникальным типом исследования. Эта уникальность состоит в особом, невозможном для традиционных научных исследований, отношении, которое устанавливается между нею, психологией искусства, и изучаемым в ней «объектом», то есть самим искусством, жизнью его вещей в нас.
Исследование каким-то образом все-таки включается в жизнь самих вещей искусства. Психология искусства – и эта мысль была намечена самим Выготским в рамках его, по сути, уже культурно-исторической психологии искусства – стоит не во внешнем отношении к самим вещам искусства и к их жизни среди людей. В результате анализа, который в ней выполняется, эта психология искусства помогает, во-первых, эксплицировать те новые формы жизни и того нового человека, которые в себе вырабатывает, «вынашивает» само искусство, и, во-вторых, «исправляет им пути».
В этом смысле эта психология искусства продвигается еще на один шаг дальше по сравнению с самыми перспективными направлениями современной психологии, в частности – по сравнению с современной гуманистической психологией. Как известно, пафос этого направления состоит во многом в том, чтобы перейти от изучения «среднего» человека – который всей предшествующей психологией и принимался за норму – к изучению «исключительных», «выдающихся» личностей – личностей, стоящих как бы «на переднем крае» психического и духовного развития человечества. По мысли гуманистических психологов: пытаясь анализировать эти исключительные случаи, мы можем наметить перспективу развития человека вообще. Но если гуманистическая психология хочет иметь дело пусть и с «выдающимися», но все-таки – уже наличными случаями, то психология искусства в том ее понимании, которое мы находим у Выготского, позволяет пойти дальше и развернуть психологию – как к действительной «норме» человека – к человеку возможному, которого вообще еще нигде нет среди людей, но который может и потому должен быть, который еще только грядет.
Перефразируя мысль Т. Адорно касательно понятия «нормы музыкального восприятия», следовало бы утверждать, что психическая и духовная организация человека, к которой приводит исследователя культурно-историческая психология искусства, – это психическая и духовная организация человека «одаренного и непрестанно работающего над своим развитием». Ориентация на такого человека и, соответственно, установка на «овладение» процессом развития человека – это одна из центральных ценностей для культурно-исторической психологии вообще.
Итак, анализ «Психологии искусства» не только обнаруживает целый ряд мыслительных ходов, уже совершенно эквивалентных ряду принципиальных положений собственно культурно-исторической психологии Выготского (особенно в том, что касается метода исследования, но также и – видения «природы объекта» изучения), но также – что, быть может, не менее важно – позволяет зафиксировать наиболее глобальные и фундаментальные для всего мышления Выготского, для всей его работы в психологии – цели и ценности, установки и ориентации его как исследователя, мыслителя и личности. Это, во-первых, установка на «вершинное» в человеке или, говоря словами Достоевского – на «человека в человеке», то есть на человека в перспективе его развития, – взгляд на человека, на его психическую и духовную организацию с точки зрения того, чем вообще может быть человек, взгляд также с точки зрения путей, которые существуют для него в плане достижения этого возможного его состояния, путей, которые раскрываются, в частности, искусством и психологией искусства.
Истоки культурно-исторической теории: дефектология
Если мы хотим изучить что-нибудь действительно глубоко, нам нужно исследовать это не в его «нормальном», правильном, обычном виде, но – в его критическом положении, в его лихорадке и страсти.
И. Лакатос (Доказательства и опровержения)
Второй важной линией интересов раннего Выготского, подготовившей его культурно-историческую психологию, является дефектология, углубленный анализ Выготским проблемы компенсации дефектов психического развития ребенка.
Выготский рассматривал психическое развитие детей с такими дефектами, как врожденная слепота, глухота, умственная недостаточность и т. д., то есть дефектами, казалось бы, чисто соматическими. И вот уже в первых работах Выготского начала 20-х годов мы встречаем парадоксальный, на первый взгляд, тезис, что ключ к решению проблемы детской дефективности лежит в понимании того, что «всякий дефект есть понятие социальное». Если помнить, какие дефекты имел при этом в виду Выготский, тезис этот представляется совершенно несуразным. И современники действительно недоумевали: «Помилуйте, – говорили они, – как же так, ведь это же – чисто органические поражения: врожденные дефекты или последствия родовой травмы или же – перенесенного инфекционного заболевания. Любой серьезный клиницист это скажет. Разве не так?»
Бесспорно, отвечал Выготский, если смотреть на эти дефекты с обычной клинической точки зрения, прежде всего – с точки зрения их происхождения, анатомической и физиологической природы и т. д. Однако если брать эти дефекты не сами по себе, но в контексте психического развития ребенка, с точки зрения их роли в психическом развитии ребенка или, если угодно, как фактор психического развития ребенка, то оказывается, что они действительно имеют социальную природу.
В самом деле – как то пытался показать Выготский – дефект в каком-то смысле даже и не существует для ребенка до тех пор, пока он не «засекается» им в плане конкретных деятельностей, связывающих его с другими людьми, или, иначе говоря, в плане его реальных социальных отношений с другими людьми, прежде всего, конечно, с ближайшими людьми из его окружения, с его родителями, сверстниками, воспитателями или учителями. Это утверждение Выготского представлялось, наверное, не менее шокирующим, чем первое. И тем не менее оно также предельно точно и верно.
Поясняя его, Выготский предлагал мысленный эксперимент. Выготский был непревзойденным мастером мысленного эксперимента, то есть умел отыскивать каждый раз такие «воображаемые» ситуации, исход испытания в которых был очевидным, а следствия из него были далеко не очевидны и при этом – имели далеко идущие последствия.
Представьте себе, говорил Выготский, что мы живем через сто или даже через пятьсот лет, когда, с одной стороны, мы уже настолько хорошо и полно понимаем законы психического развития ребенка с дефектом, а с другой – располагаем столь безграничными средствами и возможностями для – позвольте подчеркнуть это – внешней компенсации дефекта, то есть средствами соответствующей организации социальной ситуации жизни и развития ребенка, что он нигде – ни в плане своих отношений с другими людьми, ни в плане своих деятельностей не «наткнется» на свой дефект, не почувствует своей ущербности, несостоятельности: никто не укажет ему на этот дефект пальцем, никто не станет дразнить его или, наоборот, чрезмерно его опекать, тем самым, опять же, намекая и подчеркивая его неполноценность и т. д.
Будет ли ребенок при таких условиях – в плане его психических особенностей, складывающихся в ходе его развития, – иметь такие черты, которые были бы как-то обусловлены фактом наличия у него дефекта? Ответ – очевиден: нет!
В плане своего психического развития ребенок в этом случае, грубо говоря, ничем не будет отличаться от нормального ребенка. Во всяком случае, среди психических новообразований, возникающих в ходе его психического развития, не будет ничего такого, что было бы – прямо и непосредственно – обусловлено наличием у него того или иного – сколь угодно грубого и органического по своей этиологии – дефекта. Иначе говоря, в психологическом смысле, с точки зрения психического развития ребенка, его дефекта в этом случае и в самом деле как бы просто не существует.
Подчеркнем: не существует – не только и не столько в субъективном смысле (хотя тезис справедлив и в этом отношении: такой ребенок никогда не узнает о своем дефекте, о том, что он чем-то отличается от других людей), но и прежде всего – объективно, в плане реальных последствий для его психического развития. В этом смысле дефекта не существует не только как «фактора» психического развития ребенка, но и как «факта» его жизни и деятельности, причем первое обусловлено последним.
Но ведь это и значит, что дефект – как фактор психического развития – есть понятие «социальное».
Больше того, легко показать, что не только самый факт психологического наличия или отсутствия дефекта, но и его психологическая структура будут определяться тем, в каких связях и отношениях деятельности этот дефект ребенком засекается, а также – что, быть может, не менее важно, по крайней мере, в нашем контексте, то есть с точки зрения прослеживания истоков культурно-исторической теории, – и тем, какие социальные и культурные приемы и средства компенсации этого дефекта предлагаются ребенку со стороны общества, в плане его обучения и воспитания. Это было ясно Выготскому с самого начала и неоднократно отстаивалось им в полемике с различными механицистскими представлениями его современников.
Ключ к пониманию ребенка с дефектом, по Выготскому, лежит в раскрытии возможностей социальной и культурной компенсации дефекта. Это положение уже предельно близко последующим представлениям культурно-исторической концепции. У Выготского была достаточно развернутая программа совершенно конкретных прикладных разработок в области дефектологии – программа, до сих пор до конца еще не реализованная, программа, которая делала акцент на организации совместной деятельности ребенка с дефектом с другими людьми, со взрослыми. Уже в ранних работах у Выготского появляется мысль о том, что компенсация дефекта может идти по линии создания – как он говорил – «экстрацеребральных связей», то есть связей, которые замыкают ребенка с миром не напрямую, не накоротко, а через другого человека. Причем он говорил здесь не только о буквальном замещении дефектного органа ребенка здоровым органом другого человека. Хотя такое возможно, и это уже является яркой демонстрацией справедливости его тезиса. Действительно, слепой ребенок может смотреть на мир глазами другого человека. И именно в силу того, что глаз тут оказывается только органом, с помощью которого реализуются те или иные формы социальной жизни и деятельности ребенка, этот орган может быть заменен у него – его дефектный орган может быть заменен полноценным органом другого человека. Не в том, конечно, буквальном смысле, который может возникнуть сегодня в связи с широкой практикой «пересадки органов», но в смысле организации кооперации с другим человеком. Больше того, если это – так, то не обязательно, компенсируя недостаток слепого ребенка, обеспечивать ему этот недостающий нормальный здоровый глаз. Грубо говоря, можно организовать эту компенсацию на разного рода «обходных путях».
Здесь у Выготского впервые проступает одна из лейтлиний его последующей культурно-исторической концепции – мысль о возможности своеобразного социального и культурного «усиления», «амплификации», «достраивания» человека и его деятельности до полноценных форм – полноценных, конечно, всегда по отношению к тем задачам, которые стоят перед человеком. Ведь «неполноценным» в каком-то смысле может быть и не обязательно человек с дефектом. Выготский настаивал на том, что всякий ребенок, коль скоро ситуация его психического развития с самого начала является ситуацией социальной, предъявляющей к нему достаточно высокие требования, постоянно ощущает свою дефициентность, нехватку чего-то самого главного для успешного осуществления требуемых от него форм деятельности. И компенсация этой неполноценности как раз и может, по мысли Выготского, происходить на путях оснащения его особыми искусственными «приставками», или «органами», с помощью которых он уже может построить требуемые формы психической деятельности.
Методологическая программа построения «новой психологии»
Метод – значит путь, мы понимаем его как средство познания; но путь во всех точках определен целью, куда он ведет. Поэтому практика перестраивает всю методологию науки.
Л.С. Выготский (Исторический смысл психологического кризиса)
Как отмечает один из крупнейших современных исследователей в области методологии науки Т. Кун ( Кун , 1977, с. 108 и др.), «достоверные проверки (той или иной парадигмы научного мышления) с помощью наблюдения <…> не обеспечивают никакой основы для выбора между ними», для предпочтения той или иной из них. В этих условиях одним из решающих факторов, определяющих выбор (и в частности – смену) парадигм, оказывается возникающее в научном сообществе осознание кризиса, кризисного состояния, в котором находится та или иная область исследований.
Отсюда: «приведение» научного сообщества к осознанию кризиса должно рассматриваться в качестве важного элемента культуротехнического действия, то есть направленного изменения парадигм мышления исследователей. Заметим, «осознание кризиса», самая форма его становится не только фактором, стимулирующим и мотивирующим смену парадигм, но также и до известной степени определяющим направление этого изменения.
В связи с этим исключительное значение приобретает теория кризиса (как в ее общелогическом, так и в конкретно-методологическом плане, то есть – применительно к задаче анализа той или иной конкретной ситуации в науке) и в частности вопрос об отличении собственно кризисного состояния от нормальной критики наличных парадигм.
Выготский сравнивал свой анализ кризиса психологии с изучением течения соматического заболевания. Через разделение болезни и реакции, «здорового» и «больного» он пытался перейти к формулировке «диагноза» и «прогноза», то есть к решению вопроса о природе и исходе этого кризиса.
Теория кризиса, по Выготскому, должна дать: а) конкретно-исторический и б) методологический анализ кризиса. Она должна представить кризис не как борьбу отдельных психологов, но вскрывать то, что «за» ней стоит.
Ставя задачу раскрытия ближайших «причин» и движущих сил кризиса, Выготский делает важную оговорку: «Мы, – пишет он, – останавливаемся лишь на движущих силах, которые лежат внутри нашей науки, оставляя все другие в стороне» ( Выготский , 1927, с. 386). Тем самым Выготский, прежде всего, открыто противостоит тем исследователям, которые сводили возникновение и существование кризиса к чисто внешним по отношению к психологии обстоятельствам: социальным, идеологическим и т. д. То, что включается далее Выготским в перечень движущих сил кризиса, одновременно позволяет нам, стало быть, решать также и вопрос о границе психологии.
Выготский был принципиально не согласен с теми, кто утверждал, что кризис пришел в психологию извне, был искусственно в нее привнесен, что будто бы это некоторые лица затеяли реформу науки, что якобы это новая официальная идеология потребовала пересмотра науки и т. п. В самой же психологической науке якобы все было спокойно и благополучно, как – с иронией замечает Выготский – в минералогии. Что якобы в самой психологии не было никаких объективных оснований ни для какого кризиса. Такая точка зрения действительно верно передавала самосознание большинства русских академических психологов начала века и первых послереволюционных лет – всех этих, по выражению Выготского, «профессоров и экзаменаторов, организаторов и культуртрегеров», из-под пера которых не вышло ни одной сколько-нибудь самостоятельной и значительной работы. Российская психология тех лет действительно представляла собой глухую научную провинцию.
В Европе и Америке одна за другой рождались новые психологические школы и направления: вюрцбургская школа и психоанализ, бихевиоризм и гештальтпсихология, психотехника, социальная психология и т. д. Они вели ожесточенную борьбу и с прежней интроспективной психологией и между собой. Однако эти бушевавшие в мировой психологии бури не доходили до тихой гавани узкоакадемической русской психологии. Немудрено, что ее представители вообще отрицали наличие кризиса в самой психологии.
Но и в мировой психологической науке немногие даже крупные исследователи поднимались до действительно осознания характера кризиса и его причин. Для большинства из них он заключался, как правило, в напряжении, которое возникло между их собственными, всегда «правильными и передовыми» взглядами и всей остальной психологией.
Характеризуя положение в психологии, Г. Эббингауз отмечал, что относительно всех главных вопросов ведутся нескончаемые споры, нет никакого единого и прочного основания ни для серьезной теоретической работы, ни для достоверных эмпирических исследований. Есть не много направлений в одной науке, но много различных наук (психологий). Не борьба различных альтернативных гипотез и точек зрения внутри одной науки, но – борьба глобальных, различных по типу, часто даже – исключающих друг друга наук. Так, к примеру, психоанализ, интенциональная психология сознания и рефлексология, поясняет Выготский, это, по сути, различные типы наук, каждая из которых к тому же стремится стать общей психологией. Стремится, но – не может.
Ибо, как указывал цитируемый Выготским Л. Бинсвангер, одна из характеристик или даже причин кризиса в том-то и состоит, что у психологии нет своей – адекватной ее природе и состоянию – методологии и, больше того – «она сама не способна ее сейчас создать».
Откуда же может быть взята эта методология или: как она может быть создана?
У Бинсвангера, в то время неокантиански ориентированного мыслителя, ответ вполне определенный и однозначный: она может быть «извлечена» из анализа истории науки [40] . Либо – из анализа истории самой психологии, либо даже – из анализа истории других наук, особенно тех, что уже перешли в посткризисное состояние.
Нельзя не отметить целого ряда неявных, но чрезвычайно важных допущений воспроизведенного рассуждения. Прежде всего, можно было бы проблематизировать неоднократно использованное и в общем виде, и в виде частных квалификаций убеждение в том, что при рассмотрении кризиса в психологии (подобно тому, что можно было бы говорить в отношении других дисциплин, особенно естественного ряда) следует говорить именно о науках и различных типах все же – наук.
Действительно, могут быть сформулированы (и уже во времена Выготского были высказаны) серьезные сомнения в том, что в качестве наук в узком и строгом смысле слова можно рассматривать такие хотя бы дисциплины, как «психоанализ» или «интенциональная (то есть, по существу, феноменологическая) психология».
Во всяком случае, как это будет разъяснено ниже, можно сомневаться, что понятие «науки» в случае некоторых областей психологии или даже, быть может, сферы психологии в целом означает (и вообще может означать) то же самое, что в рамках естествознания. Ибо, как мы опять же попытаемся показать это дальше, возникают чрезвычайно серьезные методологические возражения против того, чтобы считать психологию человека естественной наукой.
Но если психология не является естественной наукой, то можно ли рассчитывать извлечь «прототип» для построения новой психологии из анализа истории естественных наук (включая и историю психологии, коль скоро она также строилась прежде как естественная наука)?
И далее: если даже симптомом кризиса психологии и считать существование многих, не интегрированных в один научный предмет психологий, то означает ли это, что его разрешение и преодоление должны лежать на пути «восстановления» (на деле же – впервые достижения, ибо такого состояния психологии на самом деле никогда не было) однопредметного состояния психологии, то есть вообще – на пути научно-предметной интеграции (организации) сферы психологического знания и психологической работы?
И, наконец: если и обращаться в этом случае к истории науки, то каким должно быть само «историческое исследование», чтобы оно могло позволить ответить на поставленные методологические вопросы?
Главный вопрос для Выготского – это вопрос о природе вражды между различными течениями в психологии. Главная оппозиция: внутрипредметный или межпредметный характер конфликта? И, соответственно – каков характер требуемой для его преодоления работы: предметно-теоретический или же – собственно методологический [41] . Есть ли кризис – момент и событие в развитии психологии как научного предмета или же – в развитии более широкой сферы психологической работы?
Движущая сила кризиса, по мысли Выготского, лежит в развитии «прикладной» (или, вернее было бы сказать: «практической») психологии, что «приводит к перестройке всей методологии науки на основе принципа практики». Этот принцип «давит на психологию, толкая ее к разрыву на две психологии» – академическую, «объяснительную», ориентированную на эксперимент и на установление законов, то есть на получение знаний типа естественнонаучного, и – «понимающую», стремящуюся не столько «объяснить», сколько понять и овладеть, а затем и – изменить, перестроить те или иные реальные, практически необходимые и значимые формы человеческой мыследеятельности.
Он же – этот принцип практики – должен обеспечить, по мысли Выготского, также и правильное развитие новой психологии. «Практика и философия (практики) становятся во главу угла» ( Выготский , 1982, с. 393).
«Высшая серьезность практики, – писал Выготский, – живительна для психологии. Промышленность и войско, воспитание и лечение оживят и реформируют науку <…>; психотехника <…>, которая привела бы к подчинению и овладению психикой, к искусственному управлению поведением» должна стать целью такой психологии ( там же , с. 389).
Симптомом того, что позиция Выготского при анализе ситуации в психологии – не пассивно-отражательная, но активно-деятельная, что его анализ кризиса выполняется в рамках реализации определенного социо– и культуротехнического действия по отношению к психологии, – симптомом этого и является то, что задача анализа кризиса формулируется в «телеологическом» ключе.
Так, ставя вопрос о природе вражды между дисциплинами, конституирующей ситуацию кризиса, и о разрешимости разъедающих психологию противоречий, Выготский пишет: «Нужно построить теорию кризиса так, чтобы дать ответ и на этот вопрос» ( там же , с. 377). Это характерное «так, чтобы» неоднократно появляется на страницах работы Выготского при обсуждении вопроса о способе представления ситуации в психологии. Не столько «потому, что», сколько – «для того, чтобы» или «так, чтобы» – вот доминирующий ракурс рассмотрения ситуации у Выготского.
Это означает, что теория кризиса – даже в той части, которая касается квалификации ситуации в психологии как кризисной и, тем более, дальше, при обсуждении вопроса о природе и движущих силах кризиса – развертывается Выготским «телеологически», то есть – исходя из позитивно сформулированной цели (построение конкретной и «объективной» психологии сознания человека и, вообще – высших форм его психической деятельности) и, до известной степени уже прорисованного, идеала, или «проекта» такой психологии, сформулированного, по крайней мере, в языке ряда требований, которым она – эта «новая психология» – должна удовлетворять.
Выготский как бы снова и снова спрашивает: каким образом следует представлять ситуацию в психологии, или: выставлять ее в рефлексии, в специальной реконструкции для последующего анализа, чтобы единственно возможное ее решение лежало на пути к той новой психологии человека, идею которой он пытается наметить. «Метод, – позволим себе повторить слова Выготского, вынесенные в эпиграф, – значит путь, мы понимаем его как средство познания; но путь во всех точках определен целью, куда он ведет. Поэтому практика перестраивает всю методологию науки» ( там же , с. 388).
Подчеркнем только, что это нисколько не означает субъективизма и произвольности развертываемой таким образом теории кризиса. Напротив, в мыследеятельностной ориентации именно то, что теория кризиса делает возможной реализацию проекта новой психологии, и является доказательством ее «объективности» и «необходимого характера», словом, ее «истинности». Ибо эта теория кризиса – и по отношению к Выготскому это следует особо подчеркнуть – выступает как момент его самоопределения в ситуации его методологической работы в психологии, или иначе: как момент организации его собственного мыследействования, осуществления определенного социо– и культуротехнического действия по реализации проекта «новой психологии».
Теория кризиса, стало быть, сама выступает у Выготского с самого начала как важнейшая часть «общей психологии», то есть особой методологической дисциплины, призванной ответить на вопрос об условиях возможности построения новой научной психологии сознания, о «пространстве» этой работы, то есть о способе ее организации.
«Общая психология», по Выготскому, во-первых, должна ответить на вопрос: каковы условия возможности объективной психологии конкретного сознания человека – человека, решающего задачу своего духовного освобождения, человека, совершающего определенную духовную работу, усилие, – развивающегося человека. Во-вторых, она должна ответить на этот вопрос для ситуации, в одном решающем пункте принципиально отличной от той, которую имела в виду классическая трансцендентальная философия. Кант обсуждал вопрос об условиях возможности естественнонаучного мышления – коль скоро оно существует – уже существует, уже реализовано в культуре математического естествознания, то есть пытаясь эксплицировать «реальную философию» этой культуры и практики мышления исходя из уже наличных, реализованных и – реализованных до и независимо от этой работы по экспликации условий его возможности и даже, быть может, лишь при условии (как «одного из» вскрываемых условий его возможности) этой независимости. Иначе говоря, при условии абсолютно внешнего отношения между этой работой по вскрытию условий возможности его существования и самым его существованием.
Ситуация же, для которой «общая психология» по замыслу Выготского должна дать ответ на вопрос об условиях возможности конкретной психологии сознания развивающейся личности, как раз и характеризуется прежде всего тем, что это – вопрос об условиях возможности принципиально новой психологии – психологии, которой еще нет, и – именно «коль скоро ее еще нет», и даже больше того: коль скоро с точки зрения методологии всей прежней психологии ее не может быть!
Таким образом, «общая психология» тут должна стать не философией уже существующей культуры и практики мышления и мыследействия, каковой был классический трансцендентальный рационализм по отношению к уже существовавшим и как бы в себе его уже неявно содержавшим практикам научного мышления, но – философией еще не-сущего и пока не-возможного мыследействования. «Общая психология» должна была стать методологией поиска и реализации абсолютно новых форм мышления и исследовательской деятельности.
И, в силу этого, устанавливаемые такой методологией условия возможности этой новой психологии оказываются в совершенно новом отношении к самой этой психологии – к ее возможности, к возможности ее существования, к ее существованию. Это отношение уже более не может быть внешним: новая психология не является и не может быть – в самой возможности своего существования – независимой от установления условий ее возможности. В самый состав этих условий ее возможности с необходимостью включается создание особой методологии и установление – в рамках этой методологии – условий ее существования [42] .
В-третьих, ответ на вопрос об условиях возможности новой психологии должен даваться, по мысли Выготского, через анализ истории психологии (но также и – других наук, причем, в случае Выготского – в отличие, скажем, от реализовавших, по сути, этот же методологический ход Бинсвангера и Левина, – не только и даже не столько дисциплин естественнонаучного ряда, сколько собственно гуманитарных дисциплин, и прежде всего – исторических и филологических. В силу этого «общая психология» должна осуществляться в форме «критики» психологии – «критики», как неоднократно подчеркивал сам Выготский, в том самом смысле, в котором «критикой» политэкономии был марксов «Капитал».
И, наконец, в-четвертых: принципиально важно, что этот ответ на вопрос об условиях возможности новой психологии должен, по Выготскому, даваться в рамках «общей психологии», которая, стало быть, выступая в качестве своеобразной методологии новой психологии – методологии поиска и развертывания ее, вместе с тем, не вырождалась бы в «логику» психологического познания (наподобие обычных науковедческих концепций), но при этом по-прежнему «оставалась» бы также и собственно психологией в узком и строгом смысле слова.
В этом смысле и наша работа о культурно-исторической теории Выготского также должна рассматриваться как работа, выполненная в рамках «общей психологии» по Выготскому, то есть – как попытка через особого рода «критический» («критика психологии»!) анализ истории психологии (а именно – самой культурно-исторической теории и сопряженных с нею в современной ситуации течений и концепций) установить систему условий возможности некой «новой» (с точки зрения доминирующей в современной научной психологии парадигмы исследования) психологии. Психологии, реализующей совершенно новый тип рациональности, равно как и новую, неклассическую культуру исследовательского мышления, и новый тип исследовательской практики, в рамках которых впервые стало бы возможно иметь дело с теми особыми «объектами» [43] , перед необходимостью регулярного исследования которых ставит современную психологию как логика развития разного рода практик работы с психикой, сознанием, личностью человека [44] , так и имманентная логика развития целого ряда ведущих областей самой современной психологии.
Наконец, еще одной характерной чертой «общей психологии», как она виделась Выготскому, является то, что ни уже существующая психология, ни психологическая практика эту «общую психологию» сами создать не могут, не способны породить ее «из себя».
«Новая психология» – будучи, по мысли Выготского, методологией «психотехники», или «философией практики», способной отвечать на запросы практики и «овладевать» ею, – должна давать принципиально новые по типу – по своему содержанию и форме – психологические знания. Она, эта «новая психология», должна задавать некое единое пространство мышления и действия, единообразно охватывающее как исследование, так и практику. Практику, которая прежде – в традиционной научной психологии – была внешней психологии, лежала принципиально вне ее. Развертывание этого единого пространства мыследеятельности – охватывающего как собственно психологическое исследование, так и разного рода психотехнические практики, – по сути дела, и должно рассматриваться в качестве главного завоевания «новой психологии», долженствующей, таким образом, расширить поле рациональности, восстановив ее в новой, «неклассической» ситуации, где она утрачивается для традиционных способов мышления.
Чтобы включить в сферу рационального не только новые, «неклассические» ситуации исследования, но также – что было уже совершенно чуждо прежней научной академической психологии – и ситуации, возникающие в разного рода практиках [45] работы с психикой, психология должна изменить самый тип своей рациональности, перейти к новому, во многом – альтернативному традиционному, то есть естественнонаучному, способу мышления и исследования.
Тем самым, сама эта новая психология и должна быть ответом на кризис в психологии, быть разрешением хронической кризисной ситуации, сложившейся в ней.
Следует подчеркнуть, что, ближайшим образом, разрешение кризиса следует ожидать не от создания «общей психологии», но именно от разработки самой «новой психологии».
«Новая психология», по мысли Выготского, в отличие от интроспективной психологии, должна быть, прежде всего, «объективной наукой», однако – в отличие от бихевиоризма – наукой о сознании (психике, личности). В отличие от всей прежней академической психологии, «новая психология» должна быть наукой о сознании (психике, личности) – не в тех «абстрактных», искусственных, лабораторных, вырожденных формах, с которыми по необходимости только и можно иметь дело в эксперименте, но – с теми формами, с которыми имеют дело реальные практики психотехнической работы с сознанием (психикой, личностью) человека. Иначе говоря, «новая психология» должна иметь дело не с искусственными препаратами от человека, создаваемыми в эксперименте, но с «естественными» организмами и органами сознания, складывающимися в практике, она должна быть – в одном слове – «конкретной» психологией человеческого сознания.
Наконец, в силу принятых Выготским предельных целей и ценностей психологической работы – как поиска пути к «новому человеку», иначе говоря – в силу не созерцательной, чисто познавательной (в традиционном смысле) установки, но – установки психо– и шире: «человекотехнической» – новая психология должна стать наукой не о ставшем, наличном сознании человека, но – о сознании и личности становящихся, находящихся в «переходе», в трансформации, или, иначе говоря, о сознании и личности развивающегося, духовно растущего человека, человека, совершающего работу по своему развитию и духовному освобождению. Напомним в этой связи приведенный выше парафраз тезиса Адорно: «нормой должна стать личность человека незаурядного, одаренного и непрестанно работающего над своим психическим и духовным развитием».
«Новая психология», стало быть, должна быть способна «овладевать» практикой – в плане как теоретического осмысления ее и создаваемых тем самым новых путей ее организации и реорганизации (ход «от науки – к практике»), так и ассимиляции опыта, в ней накопленного (ход «от практики – к науке»).
Выготский пытался показать, что даже такую фундаментальную, на первый взгляд, оппозицию – которая была предметом чрезвычайно острых дискуссий в психологии того времени, – как оппозиция «субъективного» и «объективного» методов – в той форме, в которой эта оппозиция совпадала с разделением психологии на интроспективную и поведенческую, – нельзя в действительности считать решающей.
Интроспекционизм и бихевиоризм, утверждал Выготский, растут из одного корня. И тот, и другой полагают, что наука может изучать только то, что доступно непосредственному восприятию. Разница состоит лишь в том, что одни, доверяя внутреннему «глазу души», пытаются строить всю психологию применительно к его свойствам и границам его действия, тогда как другие, напротив, не доверяя ему, хотят изучать только то, что можно пощупать настоящим глазом.
«Необходимость принципиально выйти за пределы непосредственного опыта, – писал Выготский, – есть вопрос жизни и смерти для психологии» ( Выготский , 1982, т. 1, с. 347). Психология должна преодолеть представление о том, что непосредственный опыт (безразлично: внутренний или внешний) является единственным источником и естественным пределом научного познания.
Одно из условий выхода психологии из кризиса и перехода к истинно научной психологии состоит в том, чтобы психология перешла к «косвенному» методу познания.
«Психологии, – писал Выготский, – еще предстоит создать свой термометр» ( там же , т. 1, с. 351), то есть найти способ «объективации» (вернее было бы сказать: «экстериоризации») изучаемой ею психической реальности. Ей, далее, необходимо разработать метод анализа, истолкования этих объективированных форм существования психики, то есть способ воссоздания, реконструкции психического плана по его «косвенным выражениям» на основе прежде установленных «закономерностей».
В отличие от телескопа, «термометр», по мысли Выготского, есть уже не прямое «продолжение» и усиление наличной у человека способности («зрения»), или, строго говоря, даже – есть уже не прибор, лишь улучшающий условия для срабатывания некоторой естественной способности, непосредственно предназначенной для отражения данного параметра, но есть аппарат, по существу «замещающий» недостаточную для данной задачи естественную способность («восприятия температуры»), или даже – есть аппарат, впервые делающий возможным косвенное – опосредованное прибором – восприятие некоторого, вообще прямо не наблюдаемого и не воспринимаемого параметра.
Иначе говоря, аппарат этого рода как бы восполняет, компенсирует дефициентность способности восприятия не прямо – не за счет трансформации (достраивания) самой этой дефициентной способности, – но «на обходных путях», в «обход» ее – за счет переключения деятельности на другие способности, которые – в совокупности с этой искусственной приставкой – дают возможность косвенного восприятия нужного параметра.
При этом оказывается уже возможным иметь дело не только с такими – в известных пределах и с определенной точностью все же «непосредственно воспринимаемыми» – параметрами, как температура тела, но с параметрами, непосредственно вообще не воспринимаемыми – такими, например, как концентрация некоторых газов или характеристики тех или иных физических полей. Но главное здесь все же даже не в том, может или нет соответствующий параметр непосредственно восприниматься естественной способностью человека, но в том, как, каким образом он воспринимается с помощью дополнительного амплифицирующего аппарата, или – куда и в какой функции «подключается» этот аппарат: непосредственно к соответствующей дефициентной естественной способности для ее прямого «продолжения» или же, напротив, к некоторой совершенно другой способности, в границах своего естественного функционирования вообще не предназначенной к «отражению» данного параметра (зрение – температуры), не «предназначенной» для компенсации – с помощью ее амплифицирующего действия – исходной, дефициентной способности [46] . Уже из сказанного нетрудно усмотреть родство рассуждений Выготского при обсуждении проблемы косвенного метода в психологии с теми ходами его мысли, которые мы рассматривали при разборе его дефектологических работ. И это, конечно, не случайно. По существу, в обоих случаях мы имеем дело с одной и той же ситуацией, только в одном случае она взята в чисто практическом, «психотехническом» ракурсе, в контексте проблемы компенсации «реальных» дефектов – в узком, специальном, клиническом смысле этого слова, тогда как в другом – в сугубо методологическом плане проблемы создания функционального органа для осуществления исследовательской деятельности, то есть – в плане проблемы объективного метода в психологии. Это обстоятельство имеет исключительное значение с точки зрения того уникального для психологии решения проблемы объективного метода, которое мы находим впоследствии в рамках собственно культурно-исторической теории.
Это парадоксальное с точки зрения традиционной, естественнонаучно ориентированной экспериментальной психологии и, воистину, революционное решение, как мы увидим, будет состоять в попытке намеренного соединения и даже – совмещения этих двух основных планов или линий: плана психотехнического и плана собственно исследовательского.
Основные идеи культурно-исторической теории
«…Не систему, а программу, не весь круг вопросов, а центральную его проблему имели мы все время в виду и преследовали как цель».
Л.С. Выготский (Психология искусства)
Известно, что Выготский начинал лекцию по памяти с демонстрации своей «феноменальной» памяти. Он просил аудиторию называть ему длинный список слов – несколько сотен – и записывал их на доске. Затем отворачивался от доски и в любом порядке – спереди назад, сзади наперед, с середины – этот ряд воспроизводил. Понятно, слушатели бывали поражены такой необычайно сильной памятью.
У Выготского, однако, не было «феноменальной» памяти в обычном смысле слова, то есть – естественной «эйдетической» памяти, подобной, например, той, что была в случае Шерешевского, описанном А.Р. Лурией в его «Маленькой книжке о большой памяти».
Каким же образом тогда Выготский, не обладая никакой особенной природной памятью, ничем в этом отношении не отличаясь от своих слушателей, тем не менее, мог решать такие сложные мнестические задачи?
Оказывается, дело заключалось в том, что Выготский использовал при запоминании особые вспомогательные приемы и средства, использовал специально разработанную «мнемотехническую систему».
Блестяще зная историю всемирной литературы, он составил для себя длинный список наиболее крупных писателей от античности и до его дней, расположив их в хронологическом порядке, и твердо запомнил его. Это и была его «мнемотехническая система». А затем каждый раз, когда ему нужно было запомнить предлагаемый слушателями список слов, Выготский «прицеплял» каждое очередное слово к соответствующему имени из списка писателей и, таким образом, с легкостью запоминал и его, и его порядок в последовательности других слов. На первый взгляд может показаться, что такой прием не только не облегчает, но, напротив, усложняет задачу – нагрузка на память лишь возрастает: вместо того, чтобы «просто» запомнить ряд слов, нужно теперь запомнить еще и связи каждого из этих слов с фамилиями из списка! Но – парадоксальный с точки зрения обыденного сознания – факт состоит в том, что если готова подобного рода мнемотехническая система, то запомнить с ее помощью даже такой невероятный по объему материал не составляет уже особого труда.
Больше того, действительные трудности, напротив, начинаются там, где человеку, имеющему такую мнемотехническую систему, нужно нечто, однажды запомненное с ее помощью, забыть. Оказывается, что «стереть» этот, однажды запомненный список слов невероятно трудно. Он может держаться в памяти годами, и, естественно, если человек хочет еще раз воспользоваться той же самой мнемотехнической системой – а заготавливать каждый раз новую систему слишком накладно, – то возникает непростая задача стереть запомненное. Интересно, что здесь также существуют специальные приемы, которые, в отличие от первых – «мнемотехнических», – называются «летотехническими» – по имени той мифологической реки подземного мира – «Леты», которая, в соответствии с представлениями древних греков, давала переправлявшимся через нее душам умерших забвение.
Чем интересна эта история? И почему Выготский начинал лекцию о памяти с демонстрации своей «феноменальной» памяти? Потому что как раз сердцевиной культурно-исторической теории самого Выготского и является учение об особой, специальной знаковой организации всех собственно человеческих форм психики, или – как называл их сам Выготский – «высших психических функций», и памяти человека – в том числе. Основным тезисом культурно-исторической теории применительно к проблеме памяти и является утверждение, что спецификой высших, собственно человеческих форм памяти является то, что они имеют особую «опосредствованную» структуру и что в качестве средств организации памяти выступают всякого рода мнемотехнические приемы и средства, то есть особые знаки и знаковые системы, выработанные, как правило, в истории и присваиваемые каждым отдельным индивидом в ходе его психического развития.
Программа Выготского предполагала прежде всего радикальный пересмотр границ собственно «психологического»: психология теперь должна была заняться анализом того, что с традиционной точки зрения «психическим» не являлось – мнемотехнических приемов, систем письма и счисления, разного рода схем, произведений искусства, феномена моды, в частности костюма, и т. д. Даже особая культура так называемых «мушек», которые европейские модницы в прежние века наносили себе на лицо, дабы соответствующим образом организовать внимание собеседника, – даже она должна была теперь войти в круг явлений собственно «психологических», то есть – подлежащих психологическому анализу.
Используя аналогию между знаком в его инструментальной функции и орудием, Выготский, однако, с самого начала пытается указать и существенные различия между ними. Главнейшее отличие знака от орудия Выготский видит в том, что если орудие – в соответствии еще с классической гегелевской формулой – помещается между человеком – субъектом операции – и внешним преобразуемым объектом, опосредствуя воздействие человека на предмет деятельности, – то знак опосредствует прежде всего отношение одного человека к другому (в частности, отношение человека к самому себе, как к другому) [47] .
Иначе говоря, знак всегда выступает в качестве средства организации действия по «овладению» человеком своей психикой (сознанием, личностью), то есть – как средство организации «психотехнического действия» (или «сигнификативной операции», как говорил сам Выготский).
Важно также и то обстоятельство в осуществлении сигнификативной операции, что, по Выготскому, она всегда представляет собой прежде всего акт овладения самим знаком (акт «изготовления» знака в его инструментальной функции) и – только в меру и в результате этого – также и акт овладения человеком поведением (своим или другого человека) ( Выготский , 1928).
Две основные и тесным образом взаимосвязанные задачи встают перед такого рода психологией:
1) реконструкции строения некоторой «машины» (средства, органа), но – машины, взятой со стороны ее психотехнической функции по отношению к процессу реорганизации (и в частности, развития) поведения, психики, сознания человека (человека, понимаемого в безличном, что, однако, не значит – абстрактном плане);
2) реконструкция – по описанной «машине», через анализ ее «функциональной (то есть психотехнической) структуры» – того преобразования психики, сознания, которое данная «машина» призвана произвести, в расчете на которое она строилась и «употреблялась».
«Машина» должна браться при этом именно как средство реорганизации психики, сознания. В качестве такого рода машин Выготский и предлагает рассматривать «знаки» и разного рода «знаковые системы».
Эти семиотические машины в их психотехнической функции вырабатываются в истории, фиксируются в культуре и передаются от поколения к поколению благодаря специально созданным каналам «трансляции» (системе обучения и другим специальным институтам).
Общие идеи культурно-исторической теории можно пояснить на проблеме памяти. Если попытаться проследить, как формировалась память человека в истории, то можно увидеть, что самое ее рождение связано с фактом обращения человека – для организации своей памяти – к изготовлению и употреблению особых искусственных мнемотехнических средств. Первоначально в качестве подобных средств могут выступать такие примитивные вещи, как «зарубки», «узелок на память», затем самые начальные формы письма (того же «узелкового») и т. д.
Чрезвычайно соблазнительная задача – просмотреть подробно эволюцию этих мнемотехнических средств. Если даже ограничиться планом тех только средств, которые связаны с письменностью, то и здесь эта история может быть намечена чрезвычайно расчлененно, причем со многими, как бы параллельными линиями, которые можно отыскать в разных культурах или у представителей разных эпох.
Насколько разнообразны системы письма, даже существующие поныне, тем более – находимые в прошлом, можно видеть из специальных исследований по истории письма. Достаточно сказать, что в приложении к одной из наиболее известных работ такого рода, где даются лишь различные виды письма, приводится не более не менее, как 419 (!) образцов ( Фридрих , 1980). Трудно даже представить себе это прямо-таки фантастическое богатство материала. Начинается этот перечень образцов как раз с тех самых примеров «огненного письма» батаков, «палочек вестников», а дальше – уже знаменитого перуанского «кипу» (или «квипу»), то есть «узелкового» письма, того самого, которое приводит А.Н. Леонтьев в своем раннем, выполненном еще целиком в рамках культурно-исторической концепции, исследовании памяти.
Уже в этой, ныне классической леонтьевской работе достаточно подробно прослеживаются различные направления, по которым может идти развитие психотехнических, в данном случае – мнемотехнических – средств.
Два основных измерения здесь – это прогрессирующая в истории дифференциация средств и их специализация, то есть – все более жесткое закрепление за каждым из знаков специального и достаточно устойчивого значения.
Специфика подхода Выготского к проблеме памяти заключалась в том, что в развитии памяти, как и в развитии любой другой собственно человеческой «высшей психической функции», он пытался различить две основные линии – естественную, или натуральную, и – искусственную, или культурную, причем переход от первой ко второй и связывался Выготским с изготовлением и использованием для организации памяти специальных знаковых средств.
Соответственно такому пониманию природы высших форм памяти человека строилось в рамках культурно-исторической теории и их экспериментальное исследование.
Общая схема подобного рода экспериментов получила, как известно, название «методики двойной стимуляции».
Почему эта схема эксперимента называется «методикой двойной стимуляции»? Прежде всего потому, что в этих экспериментах используются «два ряда стимулов». Жаргон, которым пользуется здесь Выготский, естественно, – лишь дань времени, и на самом деле, когда Выготский говорит слово «стимул», он имеет в виду, конечно, уже совсем не то, что вкладывали в это слово бихевиористы. Выготский говорит о «стимулах-объектах», с одной стороны, и «стимулах-средствах» – с другой, различая их, прежде всего, функционально, то есть по их положению – функциональному месту – в структуре соответствующего акта психической деятельности. «Стимул-объект» – это то, «на что» направляется акт деятельности, то, с чем работает испытуемый, тогда как «стимул-средство» – это то, «с помощью чего» он организует свою работу, направляет акт своей деятельности.
В случае исследования памяти эксперимент в исходе своем был чем-то похож на классические эксперименты Эббингауза. Испытуемый должен был запомнить либо слова, либо даже – бессмысленные слоги, которые последовательно предъявлялись ему через постоянный временной интервал. В одной из двух основных серий испытуемый и работал точно так, как это было в экспериментах Эббингауза: слушал, старался запомнить, а потом должен был воспроизвести. И результаты получались похожими на те, которые мог бы получить Эббингауз. Но вторая серия экспериментов принципиально отличалась от первой, и отличалась она, прежде всего, тем, что в помощь испытуемому – в качестве вспомогательных средств запоминания – предлагался второй ряд «стимулов» – карточки с рисунками. Карточек в этом эксперименте было ровно в два раза больше, чем слов, и испытуемому намекали на то, что он может воспользоваться этими карточками для запоминания предложенных слов. Экспериментатор смотрел, как происходит это использование вспомогательных средств, происходит ли оно вообще, и если все же происходит, то – что меняет в процессе запоминания.
Итак, первое «измерение» этого эксперимента связано с наличием двух серий – с наличием или отсутствием плана вспомогательных средств. Второе же «измерение» связано с попыткой просмотреть эту проблему в генетическом плане. Леонтьев брал испытуемых разных возрастов, начиная от дошкольников и кончая взрослыми, и пытался выяснить, как по-разному испытуемые разных возрастов используют вспомогательные средства для организации своей памяти.
Результаты этого эксперимента графически могут быть представлены в виде знаменитого «параллелограмма развития». Нижняя кривая представляет результаты серии без использования внешних вспомогательных средств, а верхняя – с применением этих средств.
Главный факт в данном случае заключался в резком подъеме верхней кривой – соответствующей серии с применением вспомогательных средств – на участке от дошкольного возраста к младшим школьникам. Психологический анализ показывает, что этот крутой подъем как раз и обусловлен тем, что если дошкольники практически не могли еще адекватно воспользоваться вспомогательными карточками (и есть возраст, когда эти карточки не только не помогали, но даже мешали детям запоминать слова), то младшие школьники были уже способны достаточно эффективно использовать карточки для организации своей памяти.
Второе примечательное явление состояло в том, что при переходе от младших школьников к подросткам и взрослым наблюдался крутой подъем уже нижней кривой, представляющей серию эксперимента без применения вспомогательных карточек, и объяснение его состоит в том, что память человека в этом возрасте становится уже внутренне опосредствованной, что является результатом процесса «интериоризации», или «вращивания».
Может сложиться впечатление, будто все эти, ныне общеизвестные вещи чрезвычайно просты, что называется, «морально исчерпали себя», и сегодня могут представлять для психологии разве только исторический интерес. Это, однако, глубоко неверно.
Проблема метода в культурно-исторической психологии: альтернатива естественнонаучной методологии
Для меня первый вопрос – вопрос метода, это для меня – вопрос истины.
Л.С. Выготский (Письмо к А.Р. Лурии от 5 марта 1926 г.)
Я принужден писать так, как будто я имею дело с темой, которой до меня еще никто не касался.
Р. Декарт (Страсти души)
Можно с полным правом сказать, что только теперь открылись двери для новых исследований, которые могут иметь результатом множество новых удивительных заключений и выводов, если в будущем этим предметом займутся другие ученые.
Галилей (Беседы. День четвертый)
В культурно-исторической теории мы имеем дело с совершенно особым типом исследования, и Выготский был здесь действительно первопроходцем, он дал начало совершенно новой линии исследований в психологии, подлинная революционность и исключительное значение которой начинает осознаваться только сейчас. По-видимому, и сам Выготский, а еще меньше – его современники (как последователи, так и противники) – едва ли в достаточной мере отдавали себе в этом отчет. Должны были возникнуть специальные методологические средства анализа и описания сложных форм человеческой мыследеятельности, в том числе и научно-исследовательской, чтобы данная сторона работы Выготского могла быть адекватно понята.
Основная идея генетического метода в культурно-исторической теории
Обычно полагают, что в экспериментах Выготского исследуются высшие психические функции (в частности, как мы говорили ранее, высшие формы памяти человека). На самом же деле непосредственно исследуются здесь не сами высшие психические функции человека, но – собственно процесс их генезиса, образования.
В силу принятой самим же Выготским методологии, он не имел права говорить ни о чем другом, кроме как об этом «процессе генезиса» новых форм психической жизни человека. В силу принципов генетического эксперимента, вопрос о том, что реорганизуется, что существует до реорганизации, иначе говоря, вопрос о природе «натуральных» форм психики, на первом этапе исследования оказывается запрещенным.
Основной принцип генетического метода – как он последовательно реализуется в психологии Выготским, – принцип, который неоднократно прямо формулируется в его работах, – состоит в том, что изучать нечто вообще можно только до тех пор, пока не заканчивается процесс его становления, или иначе – только прослеживая процесс его генезиса. Как только то или иное психологическое образование сложилось, генезис его завершился, всякий доступ к его изучению оказывается закрытым.
Если это так, то, например, прямо – в обход и до исследования образования высших форм памяти – ничего нельзя сказать о тех исходных – «натуральных» – формах, которые предполагаются наличными у испытуемого и которые и претерпевают реорганизацию в ходе этого генезиса. Все, что можно фиксировать в такого рода экспериментах, это, во-первых, какого рода средства передаются испытуемому для реорганизации его психической деятельности и, во-вторых, как эта реорганизация происходит. План самого преобразования – это «первая реальность», с которой может непосредственно иметь дело исследователь. Все остальное является уже результатом его теоретической реконструкции. Исследователь может ставить перед собой задачу восстановить те исходные формы психической деятельности, которые реорганизуются. Но при этом он должен отдавать себе отчет в том, что не может наблюдать их непосредственно. Он не имеет прямого доступа к ним и может только ретроспективно пытаться их реконструировать, ближайшим образом фиксируя и анализируя только самый процесс генезиса.
Итак, психолог начинает свое исследование с предположения о том, что он будет изучать именно реорганизацию психической функции, причем – по самому смыслу культурно-исторической концепции – такую реорганизацию, которая изменяет самые «законы» функционирования психики (хотя самое понятие «закона» становится здесь проблематичным). Выготский постоянно настаивает на том, что переход к высшим психическим функциям радикально трансформирует самый тип их регуляции, психологические законы, которым они подчиняются.
Установка на исследование развития психики является стержневой в рамках культурно-исторической концепции. В каком-то смысле можно сказать даже, что в рамках этого подхода ничего кроме развития психики и не изучается.
Психотехническое действие как единица анализа в культурно-исторической теории Выготского
Само слово «развитие» в случае культурно-исторической теории имеет совершенно особое значение, принципиально отличное от того, который оно имеет в естествознании. Естествоиспытатели тоже говорят о «развитии». Можно говорить о развитии организма в онтогенезе. Можно говорить о развитии в плане эволюции. Можно говорить о развитии в геологии и даже в физике. Так, в космологии говорят о «развитии вселенной» и это выражение не режет слух. Однако в естествознании, говоря о развитии, всегда имеют в виду естественный, природный процесс, который по отношению к знанию о нем и к исследованию его находится в таком же положении, что и всякий естественный объект изучения, – процесс развития понимается здесь абсолютно независимым от какого бы то ни было знания о нем или от его исследования.
С принципиально иным положением мы сталкиваемся в случае культурно-исторической психологии. Тут можно было бы утверждать, что развитие осуществляется только в силу того, что кем-то – к сожалению, мы не имеем возможности обсудить этот чрезвычайно интересный и практически не разработанный вопрос о «субъекте развития» – осуществляется некое особое, специально выстраиваемое действие, выполнение которого только и дает развивающий эффект, только и позволяет осуществиться развитию. Развитие тут, стало быть, происходит только в той мере, в которой совершается некоторое действие, направленное на развитие, то есть здесь «нечто» развивается только в силу того, что его «развивают». Иначе говоря, развитие в данном случае – это всегда «не-естественный» процесс [48] , «процесс», имеющий непременную искусственную компоненту – компоненту специального психотехнического действия. Следовало бы говорить здесь об особого рода действиях по перестройке или реорганизации психологического аппарата или режимов его работы. Еще раз: подобного рода действия можно назвать «психотехническими» действиями, имея в виду указанный выше предельно широкий смысл этого термина.
Психика человека «сама по себе» – хотя трудно даже представить, что это могло бы означать в конкретном случае, – по мысли Выготского, не имеет своих собственных законов развития и больше того – вообще не обладает развитием.
Психическое и духовное развитие человека происходит всегда за счет некой психотехнической работы, с помощью особых – вырабатываемых в истории и закрепляемых в культуре в самых различных, подчас весьма неожиданных и экзотических формах – «психотехнических действий», то есть «действий над психикой», действий по трансформации психики с помощью специальных искусственных знаковых средств.
В соответствии с точкой зрения культурно-исторической теории Выготского собственно человеческий способ «регуляции» поведения и психики всегда с необходимостью включает специально построенное действие – первоначально разделенное между людьми, а затем выполняемое и отдельным человеком – по «выделыванию» и последующему употреблению особых знаковых объектов в функции средств и способов овладения человеком своей психической деятельностью, ее организации и реорганизации.
Именно эти «сигнификативные акты» (как называл их сам Выготский), или, иначе говоря, особые «психотехнические действия», то есть действия, посредством которых достигается трансформация психического аппарата или изменение режима его функционирования, а не сама по себе, если воспользоваться выражением К. Леви-Стросса, «сырая» психика [49] , и должны, при последовательном проведении культурно-исторического подхода, рассматриваться в качестве «объекта» и «единицы анализа» в психологии [50] .
Первой реальностью для исследователя в культурно-исторической психологии является не «психика» испытуемого, но – само действие по перестройке психики! Если принимать во внимание только «полюс испытуемого» и не учитывать факта искусственной перестройки психики с помощью специально изготовленных и особым образом употребленных знаковых средств, то будет упущено главное.
Никакого естественного процесса на полюсе испытуемого здесь нет. Есть только определенная последовательность, ряд актов реорганизации его психики, его поведения. Последовательность «тактов развития»!
Это – во многом парадоксальное и для современной психологии – положение лишний раз показывает, насколько радикальным – и до сих пор до конца не осознанным – было намеченное в культурно-исторической теории изменение облика психологической науки (ср. соответствующие места второй главы «Истории развития высших психических функций» и других работ Выготского).
Итак, в качестве «объекта изучения», в качестве минимальной единицы анализа в культурно-исторической психологии выступают не естественные процессы функционирования психического аппарата, но – системы психотехнических действий, то есть действий по трансформации, преобразованию этого аппарата или – по изменению режима его функционирования и, в частности, – по обеспечению собственно развития.
«Закон Эдипа» и возникновение неклассической ситуации исследования в культурно-исторической психологии
В случае особого рода развивающихся [51] образований, с которыми имеет дело культурно-историческая психология, мы должны зафиксировать принципиально новое отношение, которое устанавливается между «знанием» и тем «объектом» – «тактом развития психики», – который оказывается представлен в этом знании и, соответственно, – совершенно новое отношение между фактом (и актом) получения знания и изучаемым объектом, то есть между исследуемым объектом и его исследованием.
Особенность возникающей здесь ситуации можно условно зафиксировать в виде «закона Эдипа» (не следует смешивать его с фрейдовским понятием «комплекса Эдипа»).
В.Я. Дубровский, который впервые в свое время сформулировал этот «закон Эдипа», имел в виду одну действительно удивительную особенность хорошо известной античной истории об Эдипе – мифа, а затем и знаменитой трагедии Софокла. Эта история, как мы помним, начинается со страшного пророчества по поводу рождения героя, царского сына – пророчества, по которому он должен убить своего отца и жениться на собственной матери, то есть нарушить два, пожалуй, самых главных табу, с незапамятных времен конституирующих нравственное сознание человека. И вот, с того момента, как было получено это пророчество, сначала жизнь родителей героя, а затем и его собственная жизнь направлены прежде всего на то, чтобы избежать исполнения этого предсказания. Но каким-то роковым образом (а античная трагедия и есть, как мы знаем, прежде всего «трагедия рока») – по воле как бы даже незримо действующих злых сил – чем больше стараются герои своими действиями избежать и отвратить от себя свою участь, тем вернее и неотвратимее пророчество сбывается.
Эта связь настолько явная, что можно даже спросить себя (пусть бы даже по отношению к софокловской трагедии этот вопрос и был неуместным): что было бы, если бы герои не пытались избежать предсказания, не предпринимали бы этих отчаянных усилий отвратить от себя рок, – произошли бы предсказанные события? Быть может, к собственному изумлению, мы должны будем ответить на него отрицательно: в таком случае все эти ужасные, накликанные пророчеством события скорее всего никогда не произошли бы. Ибо они в каком-то смысле действительно были ими «накликаны», то есть они свершились только в силу того, что герои имели «знание» о том, как должна сложиться их судьба, в силу того, что было получено, а затем и передано героям определенное знание об их судьбе, о грядущих, ждущих их событиях. И только в силу того, что это знание «сработало», что оно определенным образом было включено в жизнь и действия людей (заметим: в ту жизнь, события которой и были представлены в этом знании), оно, это знание, оказалось «истинным». Если бы не было этого знания о роковых событиях или если бы знание не было передано и включено в действия героев, то, по всей видимости, предсказанных событий могло и не произойти или даже: они наверняка не произошли бы [52] .
Встречаясь с такими особыми случаями развития, с такого рода развивающимися объектами, когда развитие совершается в силу осуществления специальных, в частности «психотехнических» действий, мы оказываемся в ситуации, во многих отношениях родственной той, что имеется в виду «законом Эдипа».
Полученное в исследовании знание об исследуемом объекте включается затем в жизнь этого объекта (подчеркнем: того самого объекта, знанием о котором оно является, который в этом знании представлен) и, как правило, приводит к радикальной трансформации траектории его движения, столь радикальной, что происходит смена законов, по которым осуществляется это движение. Иначе говоря, в данном случае факт получения знания – в противоположность тому, что имеет место в случае естественнонаучного исследования, – приводит к изменению законов жизни объекта.
Развитие – по самому понятию – есть такой процесс изменения, который касается изменения самих законов существования объекта. Вспомним «узловую линию мер» диалектики. Законы, по которым живет объект, изменяются. Это и есть развитие.
И если процесс развития обеспечивается за счет включения в его состав особого типа знания – это значит, что знание в данном случае оказывается в парадоксальном отношении к объекту. Знание, в конце концов, включаясь в жизнь объекта, изменяет законы его жизни. Но это ведь и есть тот объект, который в этих знаниях описывается, представляется. Иначе говоря, они – эти знания, – с одной стороны, по-прежнему относятся к своему объекту наподобие того, как относится к своему объекту естественнонаучное знание; но – с другой стороны, они стоят уже не во внешнем к нему отношении, но, напротив, как бы в него «внедряются» и с необходимостью приводят к изменению законов, по которым он начинает двигаться дальше.
Фиксируя эту ситуацию, мы фиксируем принципиальное различие двух типов объектов – объектов, с которыми имеет дело естественнонаучное исследование, осуществляемое в форме эксперимента, с одной стороны, и объектов, с которыми имеет дело культурно-историческая психология, – с другой [53] .
Итак, отличительной чертой «неклассической» ситуации исследования в психологии является то, что получаемое в этом исследовании знание оказывается включенным внутрь самого изучаемого объекта или, иначе – знанием о таком объекте, элементом структуры которого является само это знание (и, соответственно – исследование, дающее это знание).
Важно отметить при этом, что самое это знание тоже оказывается в целом ряде своих характеристик принципиально отличным от знания естественнонаучного типа – знанием из горизонта иной, отличной от естественнонаучной, культуры рациональности.
Во-первых, как мы уже отмечали, это – знание, которое позволяет не исключать, но с необходимостью включать исследование в самую структуру объекта изучения, и включать именно в качестве необходимого условия его существования.
Во-вторых, это «включение» возможно только в силу того, что «включенное» знание оказывается знанием «действенным», «производящим эффект» (через организацию соответствующей мыследеятельности), ибо ведь «включить», в данном случае, и должно означать: сделать его – знание – функционально значимым, то есть производящим эффект [54] .
Проблема объективного метода в культурно-исторической психологии
Можно было бы сказать, что в тех неклассических ситуациях исследования, которые обнаруживаются в целом ряде областей современной психологии, утрачиваются условия возможности мышления и рационального исследовательского действия, утрачиваются самые основания рационального поведения исследователя. С точки зрения классического, единственно известного психологии идеала рациональности – естественнонаучного идеала – эти ситуации предстают как ситуации «иррациональные», как ситуации, где всякая возможность рационального действия оказывается блокированной, а мысль – парализованной.
С этой точки зрения предпринимаемый анализ культурно-исторической теории Выготского (в совокупности с намеченным анализом ситуации в современной психологии) нацелен на то, чтобы позволить восстановить рациональность ситуации исследования, восстановить условия возможности мышления и рационального исследовательского действования и в этих новых, неклассических ситуациях исследования.
Это достигается, как мы увидим, за счет радикальной трансформации схемы метода, но одновременно также и трансформации самого идеала рациональности.
Итак, невозможность дать естественнонаучное (законосообразное) представление объекта изучения в психологии человека со стороны метода обусловлена вовсе не тем, что исследователь просто неправильно устанавливает границы целого, которое одно только и могло бы позволить дать автономное его представление. Нарушение этого общего требования системно-структурного (структурно-функционального) подхода само по себе, естественно, еще не ведет ни к каким радикальным следствиям ни в плане способа представления объекта, ни в плане метода его изучения. В этом случае достаточно было бы пересмотреть принятое представление о границах действительного целого, с которым имеет дело исследователь, или, иначе говоря, нужно было бы всего лишь правильно установить действительную единицу изучения в ее границах.
Так, в разобранном примере исследования Дункера следовало бы тогда лишь перейти от рассмотрения – в качестве такой единицы – работы по решению задачи отдельным испытуемым к представлению о диаде «испытуемый – экспериментатор» как о подлинном «субъекте» процесса решения задачи. И тогда – можно было бы думать – возможность законосообразного представления изучаемого объекта полностью восстанавливается.
В действительности же, однако, суть дела состоит не в ошибочном проведении границ изучаемого целого, но в принципиально неверном представлении о самой его природе.
Так, в случае дункеровского исследования суть дела в том, что изучаемый процесс решения задачи – даже если, и именно в том случае когда, мы выбираем в качестве единицы изучения процесс решения задачи, происходящий в диаде «испытуемый – экспериментатор», – что этот изучаемый «процесс» [55] в принципе не допускает естественного, законосообразного представления. То есть он не допускает естественнонаучного представления прежде всего потому, что в качестве внутренне необходимого своего конституента он включает самую процедуру его «изучения», то есть по сути дела работу экспериментатора в качестве психотехника, которая, радикальным образом изменяя ход решения задачи, существенно определяет жизнь «изучаемого объекта». Причем устранить это систематическое и радикальное изменение «объекта изучения» в процедуре его изучения вследствие психотехнической работы «исследователя», устранить присутствие «экспериментатора» в составе изучаемого процесса принципиально невозможно. Это обстоятельство уже с необходимостью требует не только поиска совершенно нового, отличного от естественнонаучного, способа теоретического представления изучаемого объекта, но также и с предельной остротой ставит проблему метода исследования – метода, который в такой ситуации позволил бы сохранить «объективность» исследования.
Можно было бы думать, что невозможность законосообразного натурального представления объекта в психологии связана только с моментом «вмешательства» в его жизнь акта исследования, то есть что она касается только включенного в исследование объекта, «объекта в ходе его изучения», но что в своем «независимом» от исследования состоянии, «вне» исследования, «сам по себе», «будучи взят как таковой» объект изучения живет все же «естественной жизнью» (как то, опять же, предполагается идеологией естествознания), чем и можно оправдывать попытку представлять его в теоретическом плане как естественный законосообразно живущий объект.
Дело, однако, заключается в том, что подобного рода вывод о невозможности натурального представления объекта изучения вытекает – как мы пытались указать на это выше – также и из анализа принципиальных особенностей («природы») самого изучаемого объекта и, прежде всего – из того, что он является культурно-историческим и развивающимся образованием.
Иначе говоря, натуральное представление изучаемому объекту нельзя дать не только в ситуации его исследования, но также и – вне нее (то есть и в онтологическом, а не только в гносеологическом плане).
Парадоксальность положения в данном случае состоит в том, что эти, ведущие к радикальным выводам, особенности изучаемого объекта уже давно и регулярно фиксировались исследователями, причем именно не как периферические, но как центральные его черты, однако из этого ни разу не были последовательно, до конца прослежены принципиальнейшие следствия (особенно поразительным это является в случае Выготского).
На первый взгляд, то, что не только в контексте исследования, но и по самой своей «природе» объект изучения не позволяет устранить включенности в него особых действий по его трансформации, ведущих к изменению «законов» его жизни, – это обстоятельство окончательно закрывает всякую возможность объективного исследования, делает проблему объективного метода в психологии высших и конкретных форм психической жизни человека совершенно неразрешимой, а ситуацию их исследования – совершенно безнадежной.
Однако на самом деле именно это критическое обстоятельство и оказывается «спасительным», именно оно и дает ключ к решению проблемы метода и тем самым – вновь восстанавливает возможность конкретной психологии человека.
«Ловушка для сознания» и проблема «артефакта»
Только то, что включено в исследование, – как это ни тавтологично на первый взгляд – может стать доступным исследованию. «То, что включено в исследование» – значит с неизбежностью – трансформировано. Можно было бы – ради достижения объективности исследования – пытаться «очистить» объект изучения, насколько возможно редуцируя этот артифицирующий момент исследования. По этому пути и направляет психолога методология естественнонаучного исследования [56] .
В действительности, как мы пытались показать выше при анализе естественнонаучного эксперимента, прямо вопреки исходной установке и намерению, этот путь ведет к работе с чрезвычайно искусственными, далекими от конкретных объектов практики препаратами.
Можно, однако, используя принципиальное родство единицы исследования (исследовательской мыследеятельности) и единицы изучаемого объекта (то, что он построен по типу психотехнического действия), пойти с самого начала по радикально иному, прямо противоположному пути, пытаясь как раз максимально усилить артифицирующий вклад самого исследования в «естественную», то есть независимую от исследования, но всегда уже все-таки – «психотехническую» жизнь объекта изучения. Иначе говоря, можно попытаться «естественную» – то есть стихийную, практическую форму психотехники – максимально заместить, «вытеснить» (и именно – за счет самого исследования и получаемых в нем знаний) чисто «искусственной», исследовательской формой психотехнического действия, – формой, «открытой» для исследователя и им контролируемой. По этому пути, по сути дела, и идет культурно-историческая теория.
Метод культурно-исторической психологии действительно следовало бы назвать «методом артефактов», если бы слово «артефакт» не несло в себе, прежде всего, резко отрицательного оценочного значения. Быть может, лучше поэтому называть его «методом продуктивной амплификации», или «методом продуктивной ловушки», используя разобранную выше идею особого рода «ловушек» – «семиотических машин, аппаратов», которую – по аналогии с «ловушками для природы», «машинами» в узком смысле слова – предлагает Выготский при обсуждении проблемы объективно-аналитического метода в психологии ( Выготский , 1927, с. 406).
Строго говоря, самый способ выражения, язык, на котором исследователь вынужден говорить здесь, условен. Действительно, говоря в привычной манере: «проблема объективного анализа сознания», «объективирующий метод» исследования, «экстериоризация и анализ» как путь исследования и т. д., мы тем самым неявно допускаем, будто уже есть, налично нечто, что мы должны лишь извлечь, обнаружить в доступных для последующего анализа формах. Будто уже есть нечто – сознание, психика, – существующее до и независимо от «анализа», «объективации», «экстериоризации» и т. д. Больше того, такой способ говорения представляется не только естественным и само собой разумеющимся, но даже и – единственно возможным и адекватным установке на объективное исследование реальности. Действительно: как вообще можно говорить не только об объективном исследовании чего бы то ни было, но даже вообще об исследовании, если «подлежащее исследованию» – уже до и независимо от какого бы то ни было его исследования и, тем более, от результатов этого исследования – не существует, не предполагается уже существующим.
Как мы уже отмечали, в рамках естественнонаучной методологии – это основная предпосылка всякого исследования, условие получения объективного знания, в каком-то смысле даже – условие самой возможности естественнонаучного способа мышления. Ибо в противном случае исследование лишается объективности, оно имеет дело не с действительными фактами, но – с «артефактами».
Понятие «артефакта», носящее в рамках естественнонаучной методологии сугубо оценочный характер, и призвано зафиксировать ту явно «скандальную» для естествоиспытателя ситуацию, когда по ошибке он принимает за проявления жизни исследуемой реальности – «природы» – то, что оказывается только искусственными эффектами его же собственной исследовательской деятельности. Нет, пожалуй, ничего более одиозного для ученого, граничащего с кошмаром и проклятьем, чем «артефакт» исследования! [57]
Но «ловушка для сознания», как мы уже говорили, как раз и «ловит», «захватывает», «обнаруживает» для анализа нечто такое, что только благодаря созданию и срабатыванию этой ловушки – то есть только благодаря и в ходе исследования и анализа – впервые вообще и приводится к своему существованию.
В этом смысле такой «метод продуктивной ловушки» всегда и с неизбежностью, регулярно дает исследователю исключительно «артефакты», то есть – факты, самым своим появлением обязанные их «исследованию» и получению «знания» о них!
И это – можно утверждать – не только факты, единственно возможные для исследователя в сфере психологии – психологии сознания, но также и личности, мышления и вообще всяких высших, собственно человеческих форм психической деятельности человека, но – также и факты, на получение и анализ которых как раз исследование в этом случае должно быть с самого начала и нацелено!
Положение дел, несовместимое с самыми фундаментальными принципами естественнонаучного исследования, в сфере конкретной психологии человека должно быть возведено в принцип исследования и «поставлено во главу угла». Именно к такому, более чем парадоксальному с точки зрения самосознания исследователя естественнонаучной ориентации, выводу с необходимостью приводит анализ культурно-исторической концепции Выготского.
В каком-то смысле можно было бы сказать, что «продуктивная ловушка» – это ловушка, ловящая самое себя и вместе с тем – оказывающаяся и после «срабатывания» парадоксальным образом чем-то большим, чем она сама была «до» этого срабатывания и «вне» него. Иначе говоря, подобного рода ловушка – это прибор, ловящий нечто не вне себя, но «на себе» и на своей работе.
Если воспользоваться противопоставлением, введенным самим Выготским, можно было бы сказать, что «ловушка для природы» подобна «телескопу», лишь продолжающему в своей амплификации естественную способность человека, тогда как «ловушка для сознания», или «продуктивная ловушка» – сродни «градуснику».
«Экстериоризация» и метод культурно-исторической психологии
«За всеми высшими функциями и их отношением, – пишет Выготский в работе 1929 года, – стоят генетически социальные отношения, реальные отношения людей. Отсюда: принцип и метод персонификации в исследовании культурного развития, то есть разделения функций между людьми, персонификации функций: например, произвольное внимание – один овладевает – другой овладеваем. Разделение снова надвое того, что слито в одном (ср. современный труд), экспериментальное развертывание высшего процесса (произвольного внимания) в маленькую драму» ( Выготский , 1986, с. 54).
Мы привели этот выразительный пассаж, в котором с исключительной даже для Выготского ясностью центральная идея метода его культурно-исторической психологии формулируется именно как идея метода «экстериоризации» (в данном случае – в форме «драматизации»), для того чтобы подчеркнуть, что «экстериоризация» понимается здесь не только как чисто методический ход, позволяющий исследователю «вернуться» к генетически исходным формам высших психических функций (которые, как мы знаем, по Выготскому, суть всегда интерпсихические функции). Прежде всего, «экстериоризация» понимается тут в своем «психотехническом» измерении – как акт радикальной реорганизации психики человека с чертами подлинной (и неустранимой) «продуктивности». Акт «экстериоризации» «выводит наружу» для исследователя такую форму (культуру) психической деятельности, которой до и без этого специально организуемого акта «исследовательской», вроде бы – чисто «познавательной» – деятельности вообще не существовало и существовать не могло, которая только благодаря этой акции «экстериоризации» впервые устанавливается, приводится к своему существованию.
Иначе говоря, в идее экстериоризации [58] , в понимании Выготского, мы обнаруживаем все основные черты того общего метода «ловушек для сознания» (психики), которые мы уже обсуждали ранее в связи с «объективно-аналитическим методом психологии искусства» и проблемой объективного метода в психологии сознания.
И в данном случае решающе важным оказывается установленное ранее принципиальное различие между «ловушками первого рода» («ловушками для природы») и «ловушками второго рода» («ловушками для сознания»). То обстоятельство, что культурно-историческая психология должна иметь дело именно с последними – с «ловушками для сознания», ибо именно они и являются, по сути дела, объектом ее изучения, ведет к чрезвычайно важным следствиям.
Так, уже отсюда проистекает принципиальная неприменимость в рамках культурно-исторической психологии естественнонаучной парадигмы исследования, как мы то уже отмечали в связи с разбором «психологии искусства» Выготского и к чему мы еще вернемся непосредственно ниже.
Здесь же заметим, что в подобной ситуации оказывается не только исследователь, работающий в рамках культурно-исторической психологии в узком смысле, но – также и психолог, работающий в традиции «общепсихологической теории деятельности». Ибо понятие «экстериоризации», трактуемое в плане метода, и в ней занимает центральное место, принимая лишь другую конкретную форму, реализуясь в понятиях «опредмечивания» и «распредмечивания» деятельности.
И тут – чрезвычайно важный в методологическом отношении – продуктивный характер «опредмечивания» не был достаточно последовательно продуман ни самим создателем этой концепции, ни его современными последователями, равно как и критиками.
Психология, единицей анализа в которой выступает система психотехнических действий – система, включающая не только непосредственно самую акцию преобразования психики, но также и те сложнейшие кооперативные и коммуникативные связи и отношения мыследеятельности, которые обеспечивают осуществление и организацию этой акции, – такая психология с необходимостью является «психологией распредмеченного знания» (или, точнее сказать – «предметно-распредмеченного»).
Иначе говоря, она оказывается психологией, имеющей дело со знанием, «извлеченным» из его прямого отношения к объекту и взятым в его существенном отношении к некоторому более широкому целому системы мыследеятельности, – целому, внутри которого это знание производится и обращается, существуя лишь как несамостоятельный элемент этой системы, но, вместе с тем – целого, которое, в свою очередь, само только благодаря получению и употреблению этого знания и может осуществляться и развиваться.
Иначе говоря, психология, единицей анализа в которой выступает система психотехнического действия, в некоторых отношениях выступает сходной с «общей психологией» по Выготскому, отличаясь от нее, правда, в том, что имеет дело не с анализом уже преднаходимых психотехнических действий, но – с анализом действий, которые лишь благодаря этому «их» анализу и в зависимости от его характера и результатов осуществляются.
Здесь важно – психотехнических действий, осуществляемых «здесь-и-теперь» и, стало быть, в зависимости от знания о них, получаемого в их анализе [59] , – в отличие от преднаходимых, всегда уже осуществленных в прошлом и, значит, безотносительно к их анализу и исследованию [60] .
Понятие «психотехнического описания» объекта
Особый тип знания, с которым мы встречаемся в данном случае, реализует особый тип описания объекта изучения – описания, которое можно было бы назвать «психотехническим» описанием, то есть описанием, нацеленным не на фиксацию законов естественной жизни объекта, но – на фиксацию условий возможности направленного его преобразования. Иначе говоря, «психотехническое» описание – это описание объекта не в его автономном существовании, существовании, независимом ни от какой человеческой мыследеятельности, и в частности – от его изучения, но, напротив, описание объекта именно с точки зрения задачи, а также средств и способов его направленной трансформации – трансформации посредством и внутри самого исследования объекта. Или кратко: «психотехническое» описание – это описание объекта с точки зрения системы психотехнического действия.
Подобного рода описание изучаемого объекта можно встретить не только в случае культурно-исторической теории. Таковы, например, психоаналитические описания, в чем отдавал себе отчет уже К.Г. Юнг, когда он развертывал, в частности, свое учение о пути духовного роста личности, или – процессе «индивидуации», или же – свою версию психологии сновидений.
Подобного рода описания, правда, уже не «психотехнические» в узком смысле слова, можно встретить и в философии. Именно так – то есть с точки зрения фиксации условий возможности трансформации «объекта» мысли – строятся, например, описания человеческих «страстей» у Декарта и у – столь близкого Выготскому – Спинозы. Они описываются с точки зрения преобразования их (и всей духовной организации человека) в направлении овладения ими (и, соответственно – «очищения интеллекта», делающего возможным «истинное познание»), в направлении полного духовного перерождения и освобождения человека.
Еще раньше последовательное проведение психо– и сотеро-технической точек зрения реализуется в платоновском учении о «теле» и его «умирании» [61] .
Парадоксальным выражением этого особого ракурса описания может служить признание того, что «страсти» и, соответственно – «тело», как они рассматриваются этими мыслителями, существуют далеко не у всех людей, но начинают существовать только для тех, кто встает на путь особой духовной работы и лишь внутри нее и в ее контексте. Иначе говоря – как мы отмечали выше, при разборе некоторых мыслей Выготского о системном характере высших психических функций, сформулированных им в черновых заметках ( Выготский , 1929, с. 62) – и здесь определяющими самую природу и закономерности жизни тех или иных отдельных психологических образований (у Выготского – сновидений, различных форм психопатологии и др.) оказывается та – более широкая – рамка, внутри которой эти психологические образования выступают, а также место, которое они там занимают. Такой рамкой в рассматриваемых случаях выступает тот или иной тип специальной психотехнической и духовной работы, переживания ( Василюк , 1984).
Исследование и практика
Главным в идее метода культурно-исторической психологии является то, что исследование должно быть непосредственно и органически включено в практическое – психотехническое – действие. И включено так, чтобы практика с самого начала и намеренно развертывалась в такой форме, которая не позволяла бы ей осуществляться без этого включенного в нее исследования. Причем это включение, или «внедрение», себя в практическое – психотехническое – действие должно в конце концов обеспечиваться самим же исследованием!
То есть – в противоположность основной установке естественнонаучного метода, состоящей, как мы отмечали, как раз в том, чтобы в конце концов получить такое знание об объекте изучения, которое позволило бы исследователю реализовать в эксперименте представление объекта, полностью исключающее всякое знание о нем и всякое познание его в качестве необходимого условия его существования, – формулируемое нами понимание метода культурно-исторической психологии ориентирует исследователя на получение (на каждом шаге исследования) такого знания об объекте изучения, которое дозволяло бы развертывать такую форму практики (психотехнического действия), которая бы с необходимостью предполагала в качестве необходимого условия самого ее существования (опять же – непрерывное) получение знания о ней и ее исследование.
Иными словами, исследование в данном случае должно быть всего лишь особым образом экстериоризированной частью самой же системы психотехнического действия, внутренней функциональной частью, непосредственно включенной в качестве таковой – части, функционального «органа» – в самую систему практического (психотехнического) действия.
При этом, как мы уже говорили, самый этот момент включения исследования внутрь психотехнической практики – его осуществления и, соответственно, получения нового знания об этой системе практики как о единственно реально существующем целом, о действительной единице изучения, – самый этот факт «включенного» характера исследования в культурно-исторической психологии является «продуктивным» по отношению к жизни исследуемого объекта – соответственно тому, что исследование тут является продуктивной «ловушкой для сознания», которая, как мы разъясняли это понятие выше, «ловит» нечто, чего до того не существовало, что лишь благодаря срабатыванию этой ловушки впервые только и приводится к своему существованию.
Заметим, что с точки зрения классической культуры рациональности подобного рода схема метода представляется глубоко противоречивой и потому невозможной и недопустимой.
В частности, традиционный способ мышления с необходимостью должен «обнаруживать» тут «дурную бесконечность» развертывания схемы метода, невозможность ее «замыкания», остановки движения по ней: исследование практики (включающей это исследование) предполагает исследование исследования (практики, включающей это ее исследование) и т. д. до бесконечности!
Стоит, однако, только попытаться продумать стоящие за подобным рассуждением допущения, чтобы поймать себя на том, что в нем, по существу, реализуется прежний способ мышления и способ представления ситуации исследования: исследование – на каждом шаге развертывания этого рассуждения – по-прежнему представляется совершенно внешним по отношению к исследуемому – «прогрессивно разбухающему» при этом – объекту изучения.
На самом же деле, в культурно-исторической психологии оно – именно «внутреннее». А то, что в рамках прежнего способа мышления тут с неизбежностью возникают парадоксы и апории, и указывает на то, что вместе со сменой основной схемы метода должен также смениться и самый тип рациональности – самый способ мышления и представления рассматриваемой новой – «неклассической» – ситуации в исследовании.
Направление движения, которое здесь намечается, а именно – построение исследования внутри особым образом организуемых психотехнических практик, это направление и должно обеспечить решение перечисленных выше, при анализе ситуации в современной психологии, задач, в частности – задачи аккумуляции опыта различных практик и обеспечивания его передачи из одной практики в другую.
Конечно же, и в рамках психотехнической парадигмы иследования проблемы – и, быть может, даже только более трудные и важные проблемы – еще остаются, но они уже становятся доступными обсуждению, и возникает надежда если не на их решение, то, по крайней мере, на какую-то разработку, тогда как при естественнонаучном подходе они оказываются принципиально неразрешимыми.
Почему? Во-первых, потому, что каждая система психотехнического действия, даже каждый акт осуществления такого действия оказываются предельно индивидуальными. И обычные практико-методические знания, которые получаются в одной системе, оказываются в принципе непереносимыми в другую. Все оказывается предельно ситуативным. Каждый, кто участвовал в тех же тренинговых группах или в тех или иных практиках «стимуляции творчества», не может не согласиться, что происходящее там – каждый раз уникально, что оно происходит «здесь и теперь» и повторить его, воспроизвести невозможно. «Мастером» мы и называем человека, который предельно четко улавливает особенности ситуации и предельно точно и адекватно «по ситуации» и действует.
Мастер, конечно, накапливает опыт. Когда он проведет 25 групп, он скорее всего будет действовать более эффективно, чем после проведения двух. Хотя некоторые, даже самые крупные практики, отрицают это. Так, например, Роджерс в своей книге о группах ( Rogers , 1970) прямо говорит о том, что он – крупнейший в мире авторитет в этой области – гораздо чаще, чем начинающий «ведущий», оказывается в положении, когда не знает, что делать; и какой-нибудь начинающий «ведущий» зачастую более эффективно находит выход в ситуации, чем он.
Но даже если допустить, что накапливание индивидуального опыта такого «ведущего» или участника группы и происходит, то передать этот опыт за границы непосредственных участников группы – передать его через знание – оказывается невозможным. Если рассказывать о групповых занятиях тем, кто никогда не был в группе, – тем, кто никогда не имел этого опыта изнутри, то рассказ этот производит, как правило, странное впечатление. Слушатели не могут даже понять, как это серьезные люди, с серьезными задачами – вплоть до задач своего личностного развития – могут играть в эти «детские» игры. Ибо, по рассказам, группы представляются совершенно никчемным и совершенно никуда не ведущим занятием, и после того, как участники рассказали, чем они занимались, кажется, что они скорее всего обманывают, с таким пафосом говоря о том, как много они получили из опыта групповой работы. Если в данном случае давать обычные описания естественнонаучного типа, то есть описывать процессы в группах как естественно протекающие по определенным законам процессы, то такое описание оказывается совершенно неспособным передать опыт работы группы.
Однако если перейти к выработке и использованию некоторого иного типа знаний – знаний, которые выступают не в функции пассивного «отражения» жизни некоторого естественно существующего объекта, но – в особой инструментальной – психотехнической функции, то есть знаний, существующих прежде всего внутри самой же этой психотехнической практики, знаний, позволяющих получить особого рода – «экстеризованные» в знаниях – формы существования самого изучаемого процесса, знаний, в которых соответствующая психотехническая практика живет и осуществляется, только через них и благодаря им существуя, – то в такого типа знаниях можно уже будет не только фиксировать опыт этих практик и пытаться обеспечить его передачу, но, быть может, также – с опорой на них – пытаться решать задачу направленного развития практик.
Заключение. На пути к конкретной психологии человека
Они подобны плющу, который поднимается не выше деревьев, его поддерживающих, и даже часто, достигнув вершины их, спускается вниз; мне кажется, что подобно этому идет вниз, то есть спускается ниже уровня простого невежества, тот сорт учеников, который не довольствуется взглядами учителя, а подсовывает ему все, что возможно, – разрешение многих проблем, о которых он ничего не говорил и, быть может, никогда не думал. Эти люди пробавляются темными понятиями, с которыми можно очень удобно философствовать, очень смело говорить и бесконечно спорить; они кажутся мне слепцами, которые хотят без вреда для себя бороться со зрячим и для этой цели сходят в самую глубь совсем темного подвала; они должны радоваться тому, что я не издаю своих принципов философии, потому что они настолько просты и очевидны, что сделай я это, я, так сказать, открыл бы окна и напустил бы света в тот подвал, куда они спустились для того, чтобы драться.
Р. Декарт (Рассуждения о методе)
Если бы мы прочли каждое слово Платона и Аристотеля, то все же – без уверенности в собственном суждении не сделали бы и шагу далее в философии; обогатились бы только наши исторические сведения, а не наше знание.
Р. Декарт (Правила для направления духа)
Разделяемый большинством исследователей творчества Выготского предрассудок (который по убеждению этих исследователей является выражением действительно исторической точки зрения на его концепцию) состоит в том, чтобы рассматривать культурно-историческую теорию как шаг на пути к чему-то другому в контексте «непрерывного прогресса психологической науки». Это могут быть отдельные идеи и достижения современной психологии или же та или иная современная концепция в целом (скажем, «общепсихологическая теория деятельности» или «теория планомерного формирования умственных действий»). Чрезвычайно характерны в этом отношении некоторые работы, представленные в сборнике материалов конференции по Выготскому (Научное творчество Л.С. Выготского, 1981).
Между тем проницательными исследователями творчества Выготского все чаще фиксируется «неравномощность» культурно-исторической теории и тех концепций, «ступенькой» к которым она якобы является. Неравномощность – в пользу первой. Так, В.В. Давыдов ( Davydow , 1982), рассматривая отношение между культурно-исторической теорией и общепсихологической теорией деятельности, ставит под вопрос расхожее представление о теории деятельности как о теории, в которой основные идеи культурно-исторической психологии Выготского получили якобы свое современное развитие и разработку, резонно обращая внимание на то, парадоксальное с этой точки зрения обстоятельство, что в рамках этой «более развитой» теории (равно как, добавили бы мы, и в рамках других современных общепсихологических концепций) не оказывается, в частности, достаточных категориальных средств для адекватного анализа ее «предтечи», в силу чего в данном случае не удается применить методологический принцип «обратного хода», в соответствии с которым, как известно, «анатомия человека оказывается ключом к пониманию анатомии обезьяны». Культурно-историческая теория не есть такая «обезьяна» на пути к какой-нибудь современной теории, но – в лучшем для них случае – она должна рассматриваться как современный им «человек».
Но понимал ли сам Выготский истинное значение того, что он сделал в психологии? По-видимому, какое-то достаточно высокое сознание исключительности своего вклада в психологию, глубокая и твердая убежденность в верности избранного пути, отчасти даже – миссионерская одержимость и ощущение своей «призванности», ангажированности своим делом, о котором он нередко прямо так и говорит в нарицательной форме в письмах к соратникам: «что касается нашего дела», дела, о чистоте которого он почти болезненно печется, всякую угрозу которому или неудачу в осуществлении которого чрезвычайно остро переживает как свою личную (письмо к А.Р. Лурия от 26 июля 1927 г. и другие, письма к А.Н. Леонтьеву от 15 апреля 1929 г. и от 2 августа 1933 г.). И рядом с этим подчас соседствуют чрезвычайно резкие суждения и оценки уже сделанного, осознание «убивающей незначительности» того, что уже «успето» по сравнению с бесконечностью задач (письма к А.Н. Леонтьеву, рукопись 1929 г. – см.: Выготский , 1986 и др.).
И все же поразительно, до какой степени Выготский не осознает своего открытия в психологии, не отдает себе отчета в действительных масштабах произведенного им переворота в развитии психологической мысли, насколько подчас робко и нерешительно проводит он свои самые оригинальные идеи, пытаясь во что бы то ни стало «вписать» их в довольно плоские и примитивные рамки традиционного психологического мышления своего времени, не решаясь до конца порвать с живущими в психологии предрассудками и подчас обессмысливающими его самые смелые построения штампами массового сциентистского сознания, только по привычке и в силу давно утраченной живой философской культуры мысли, доходящего до вопиющей безграмотности и воспроизводящего самые вульгарные и допотопные схемы и представления, нередко прямо-таки парализующие мысль самого Выготского.
Даже у Выготского, как видим, существовали «ножницы» между его «реальным философствованием» внутри революционной практики его работы как исследователя и его специальной и прямой методологической рациональной рефлексией.
Естественно, ограниченность последней – в силу ее реальной сцепленности и замыкания на практику работы, ее управляющего действия по отношению к последней – не оставалась без последствий и для самой этой исследовательской и психотехнической практики. Известный разрыв между практикой своей исследовательской работы и методологическими схемами ее рефлексии Выготский подчас остро ощущал. Это одна из интимнейших тем его размышлений.
Порой ему как будто бы даже было совершенно ясно, что основные черты той новой психологии, которая отчасти уже была реализована в его собственной концепции и практике его работы, еще скрыты от адекватного методологического понимания, что тот «Капитал», о необходимости создания которого для построения психологии нового типа он так проницательно и глубоко говорил в своей ранней работе «Исторический смысл психологического кризиса», все еще не написан. Он, однако, твердо верил, что рано или поздно он будет написан, и не терял надежды довести свою мысль до этой критической точки – точки самого радикального переворота во всем строе психологического мышления, точки, знаменующей, по сути, разрыв со всей предшествующей психологической традицией и начало некоторой совершенно новой линии развития психологии из совершенно нового начала.
Можно понять упование Выготского на «правильное понимание» его концепции – упование исследователя, практически не понятого современниками, во многом именно из-за отсутствия, и не только у них, но и у самого Выготского (а также, добавим мы, вообще в методологической культуре – и того времени, и целые десятилетия спустя!) – отсутствия методологических представлений и средств рефлексии, адекватных и, если можно так выразиться, равномощных самой уже реализуемой исследовательской и практико-методической работе.
Большинство классических работ зрелого Выготского в этом отношении – потрясающий исторический документ, живая стенограмма истории психологии двадцатого столетия – «большой истории» психологии, ее истории по самому крупному счету, и – в самый критический, переломный момент ее развития, знаменующий переход к совершенно новой и до сих пор еще по-настоящему не только не освоенной, но и не опознанной формации психологического мышления, формации, в рамках которой de facto существует современная психология – коль скоро этот переход для нее уже завоеван культурно-исторической теорией Выготского, но которого она еще практически не ощутила, не сделала для себя необходимых выводов и реально продолжает существовать во многом так, как если бы его вовсе и не было, как если бы «ничего не случилось».
В рукописи Выготского конца 1929 года, которая самим Выготским, по-видимому, не предназначалась для печати и представляет собой ряд черновых набросков и заметок к его центральной работе «История развития высших психических функций», после резюме первой ее части, через которую красной нитью проходит обсуждение задач и отличительных черт конкретной психологии человека, автор делает невероятное для современного читателя заявление: «Моя история культурного развития, – пишет он, – [есть только] абстрактная [!] разработка конкретной психологии» ( Выготский , 1986, с. 60).
Это заявление действительно невероятно, ибо оно сделано в то время, когда главное детище Выготского – его культурно-историческая теория – в основном уже завершила свое становление. Она приняла, по существу, ту свою зрелую и классическую форму, в которой мы знаем ее и сегодня.
Заявление это, содержащее прямую и решительную оценку Выготским своей концепции только как переходной и во многом еще компромиссной формы реализации идеи конкретной психологии человека, не только свидетельствует об исключительной свободе и критичности Выготского в оценке своей работы (и в этом отношении – по глубине и радикальности мысли – оставлявляет далеко позади всех, даже самых смелых своих критиков), но намечает также и то направление, в котором видел Выготский «генеральную линию» и перспективу дальнейшего развития своей культурно-исторической психологии.
Направление это можно было бы определить, прежде всего, как радикальное преодоление «академизма» традиционной психологии, как решительный отказ от классической естественнонаучной парадигмы исследования, в рамках которой – как мы уже говорили – исследователь, по сути дела, обречен на то, чтобы всякий раз создавать – в рамках особой инженерно-технической деятельности – «эксперимента» – определенные искусственные условия, при которых только становится возможной реализация заданного в модели – идеального и законосообразно живущего – «природного» объекта изучения, – объекта, который в сопоставлении с реальными «объектами» практик – будь то практика обучения или воспитания, психотерапии или психологического консультирования (сравни: «педологическая клиника детства» у Выготского) – оказывается всегда только своего рода «вырожденным» искусственным лабораторным «препаратом» – чрезвычайно далеким от реальной жизни случаем.
Это направление, далее, можно было бы охарактеризовать как переход к совершенно новому типу исследования, которое – в силу фундаментальных особенностей своего «объекта» – культурно-исторического и развивающегося объекта, – равно как и вытекающих из этого принципиально новых требований метода – экстериоризации и анализа, – само должно осуществляться в рамках и в форме того или иного психотехнического действия, или – возможно даже – целой психотехнической практики, выступая при этом в качестве необходимого ее «органа», обеспечивающего развертывание этой практики, ее реализацию, воспроизведение и, возможно, также – ее направленное развитие.
Остается лишь заметить, что подобного рода проект радикальной перестройки психологии остался во многом нереализованным не только в рамках культурно-исторической теории Выготского, но и вообще – в последующем развитии психологии.
Мы закончим воспроизведением приведенных в свое время А.Н. Леонтьевым ( Леонтьев , 1967, с. 29–30) маргиналий Выготского на полях тома истории философии К. Фишера, посвященного Декарту.
К. Фишер пишет: «…В преобразовании (системы идей) различаются свои прогрессивные ступени, на важнейшие из которых мы сейчас укажем. На первой ступени, составляющей начало, руководящие принципы преобразовываются по частям».
Пометка Выготского на полях: «Мое исследование!»
«Но если, – продолжает К. Фишер, – несмотря на эти изменения в основаниях системы, задача все-таки не разрешается, то нужно подняться на вторую ступень и заняться полным преобразованием принципов…»
Пометка Выготского: «Задача будущего».
«Если преследуемая цель на новом пути все еще не достигнута… Тогда должно сделать задачу разрешимой через изменение основного вопроса, преобразование всей проблемы: такое преобразование есть переворот или эпоха».
Пометка Выготского: «Задача отдаленного будущего».
Этот своеобразный документ, справедливо замечает А.Н. Леонтьев, не только свидетельство внутренней научной скромности Л.С. Выготского, но и свидетельство его необыкновенной способности думать в плане больших перспектив науки. Нельзя не присоединиться к заключающим этот комментарий словам А.Н. Леонтьева: «Сейчас в психологии это еще более необходимо, чем когда бы то ни было прежде».
Позволим воспроизвести соответствующий абзац работы К. Фишера полностью:
«Но и в преобразовании (системы) различаются свои прогрессивные ступени, на важнейшие из которых мы сейчас укажем. На первой ступени, составляющей начало, руководящие принципы преобразовываются по частям, чтобы они соответствовали своей задаче.
Этим достигается крайняя граница школы, и еще вопрос, принадлежит ли совершенный прогресс школе или нет.
Но если, несмотря на эти изменения в основаниях системы, задача все-таки не разрешается, то нужно подняться на вторую ступень и заняться полным преобразованием принципов; в этом случае уже нет сомнения, что старая школа совершенно оставлена.
Если преследуемая цель на новом пути все еще не достигнута, то очевидно, что недостаток, то есть как бы ошибки вычисления, следует искать не только в формулировке принципов, но и в самой задаче, в постановке последней, так сказать, в данных вычисления. Тогда должно сделать задачу разрешимой через изменение основного вопроса, через преобразование всей проблемы: такое преобразование есть переворот или эпоха».
Используя эту, остановившую на себе внимание Выготского, схему движения систем мысли К. Фишера, можно задать два вопроса: 1) по отношению к какой предшествующей системе (и в каком плане, измерении ее) выстраивает свою оппозицию, самоопределяется сам Выготский? и 2) как располагается (локализуется) по отношению к этапам, намечаемым этой схемой, последующая история психологии?
Пытаясь ответить на первый из этих вопросов, следовало бы особо подчеркнуть, что это не была (как то не раз отмечал и сам Выготский – см., к примеру: Выготский , 1927, с. 381 и др.) оппозиция тем или иным конкретным психологическим предметам или даже – психологическим направлениям или школам: интроспекционизму или бихевиоризму, рефлексологии или гештальтпсихологии и т. п., или это была оппозиция не самим по себе этим течениям как таковым, в их прямом предметном содержании, но – оппозиция стоящим за ними системам мысли или, по существу, некой одной, как на то указывал и Выготский, системе мысли. Это была оппозиция определенному, реализуемому этими течениями, способу мышления, или типу методологии.
Как мы пытаемся показать в данной работе, та предшествующая формация мышления, которой культурно-историческая теория реально составляет оппозицию и альтернативу, есть традиционное естественнонаучное мышление и, соответствующий естественнонаучному подходу, тип методологии исследования.
Обращаясь ко второму вопросу, то есть пытаясь «заполнить» соответствующие ячейки, места в намечаемой К. Фишером функциональной схеме перехода от одной формации мысли к другой и принимая приведенную выше локализацию в этой схеме самим Выготским собственной теории, как она сложилась ко времени смерти ее автора, приходится признать, что вся последующая история развития психологии до сих пор не выходила за пределы второй фазы преобразования предшествующей формации мышления, по существу не затрагивая самой формулировки исходной задачи....
X (предшествующая система мысли)
А (первая фаза преобразования: «культурно-историческая теория»)
В (последующее развитие культурно-исторической теории в психологии)
С (данная работа)
Y… (последующая за культурно-исторической теорией эпоха мысли)
Намечаемая в данной работе радикальная переформулировка исходной задачи исследования состоит, как мы отмечали, в том, чтобы с самого начала строить исследование таким образом, чтобы знание, получаемое в нем, позволяло развертывать такую форму психотехнической практики (последняя является «объектом», к которому относится, о котором вырабатывается данное знание), которая с неизбежностью предполагала бы это знание и доставляющее его исследование в качестве необходимого условия самого своего существования и развития.
Иначе говоря, задача состоит в развертывании такого типа исследования, которое входило бы в качестве органа в тело самого изучаемого в нем «объекта».
Культурно-историческая теория Л.С. Выготского (как и всякая большая теория) подобна городу.
Городу, в котором есть широкие новые проспекты и старинные узкие, известные лишь старожилам, улочки, есть шумные и людные площади и тихие и пустынные скверы, большие современные здания и маленькие, доживающие свой век дома.
Возможно, отдельные его части располагаются не в одном плане, но тогда как одни поднимаются над землей, другие уходят под землю и вовсе не видны. По сути дела, это как бы еще один, второй город, находящийся с первым, наземным, в тесных и сложных, но для многих глаз совершенно незримых связях. И над всем этим еще ходит солнце, а по ночам стоят звезды. Иногда проносятся смерчи и ураганы, порой подолгу идут дожди и «небо тучами закрыто». Ни на минуту не прекращаясь, бурлит жизнь, праздники сменяются буднями. Город меняется, растет и перестраивается: сносятся целые кварталы, на новое место перекочевывает его центр и т. д.Если прибегнуть к такому сравнению – наша книжка о культурно-исторической психологии – это путеводитель всего лишь по одному, и должно быть, одному из самых коротких и прямых маршрутов, – маршруту, который пролегает по большей части по главным и хорошо известным улицам и площадям.
Путеводитель, который, возможно, будущим исследователям будет напоминать средневековые карты мира – не только тем, что он выполнен в «эгоцентрических» координатах, где «пуп земли» – всегда то место, где стоит сам картограф, но также и тем, насколько неточным, искаженным, а подчас – фантастичным окажется он в изображении отдельных кварталов и картины города в целом.
Даже и выбранный маршрут приходится проделывать быстро, в основном даже не пешком, а в автомобиле, едва поспевая крутить головой, только догадываясь, что рядом – и слева, и справа – проходят другие улицы и маршруты, сокрушаясь, что, быть может, как раз самое интересное и важное – то, чем живет сам город и чем он славится среди других городов, остается где-то в стороне.
Культурно-историческая теория Выготского сегодня – это странный, не похожий на обычные города, город. Он одновременно живой, очень молодой и современный и – старый, полный руин и наполовину занесенный пылью и пеплом. Город, который бурно растет и строится и в котором ведутся археологические раскопки. Город, многие улицы которого еще даже не названы, а главная площадь – как будто бы надежно скрыта от чужого взгляда. Город, история которого хранит много тайн. Город, у которого большое будущее. Город, которому суждено еще стать не только местом паломничества, но и столицей.
Литература
Маркс К., Энгельс Ф . Соч. Т. 23
Маркс К., Энгельс Ф . Соч. Т. 46. Ч. 1.
Бахтин М.М . К методологии гуманитарных наук // Бахтин М.М . Эстетика художественного творчества. М., 1979. С. 361–373. (Есть переиздания.)
Борхес Х.Л . Юг. М., 1984. 176 с.
Василюк Ф.Е . Психология переживания. Анализ преодоления критических ситуаций. М., 1984. 200 с.
Выгодская Г.Л., Лифанова Т.М . Лев Семенович Выготский // Всесоюзная конференция «Актуальные проблемы истории психологии». Ереван, 1984. С. 111–115.
Выготский Л.С . К психологии и педагогике детской дефективности // Собрание сочинений: В 6 т. М., 1983. Т. 5. С. 62–84.
Выготский Л.С . Психология искусства. 2-е изд. М., 1968. 576 с. (Есть переиздания.)
Выготский Л.С . Исторический смысл психологического кризиса // Собрание сочинений: В 6 т. М., 1982. Т. 1. С. 291–436.
Выготский Л.С . Проблема культурного развития ребенка // Педология. 1928. № 1. С. 58–77. (Есть переиздания.)
Выготский Л.С . История развития высших психических функций //Собрание сочинений: В 6 т. М., 1983. Т. 3. С. 5—222. (Есть переиздания.)
Выготский Л.С . Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства // Собрание сочинений: В 6 т. М., 1983. Т. 5. С. 257–311.
Выготский Л.С . Проблема сознания // Собрание сочинений: В 6 т. М., 1962. Т. 1. С. 156–167.
Выготский Л.С . Мышление и речь // Собрание сочинений: В 6 т. М., 1982. Т. 2. С. 5—361. (Есть переиздания.)
Выготский Л.С . Проблема умственной отсталости // Собрание сочинений: В 6 т. М., 1983. Т. 5. С. 231–256.
Выготский Л.С . Из записных книжек Л.С. Выготского // Вестник Моск. ун-та. Сер. 14, Психология. 1977. № 2. С. 89–95. (См. в настоящем сборнике.)
Выготский Л.С . Из записных книжек Л.С. Выготского // Вестник Моск. ун-та. Сер. 14, Психология. 1982. № 1. С. 60–67. (См. в настоящем сборнике.)
Выготский Л.С . [Конкретная психология человека] // Вестник Моск. ун-та. Сер. 14, Психология. 1986. № 1. С. 51–64. (См. в настоящем сборнике.)
Давыдов В.В . Значение творчества Л.С. Выготского для современной психологии // Советская педагогика. 1982. № 6. С. 84–87.
Декарт Р . Метафизические размышления // Декарт Р . Избранные философские произведения. М., 1950. (Есть переиздания.)
Декарт Р . Избранные произведения. М., 1950. 712 с.
Зинченко В.П . Идеи Л.С. Выготского о единицах анализа психики // Психологический журнал. 1981. № 2. С. 118–133.
Зинченко В.П., Мамардашвили М.К . Изучение высших психических функций и эволюция категории бессознательного // Развитие эргономики в системе дизайна: Тезисы докладов Всесоюзной конференции. Боржоми, 1979. С. 270–282.
Зинченко В.П., Мамардашвили М.К . Проблема объективного метода в психологии // Вопросы философии. 1977. № 7. С. 109–125. (Есть переиздания.)
Иванов В.В . Очерки по истории семиотики в СССР. М., 1976. 302 с.
Кант И . Трактаты и письма. М., 1980. 709 с. (Есть переиздания.)
Кун Т . Структура научных революций. М., 1977. (Есть переиздания.)
Кун Т . Замечания на статью И. Лакатоса // Структура и развитие науки. М., 1978. С. 270–283.
Лакатос И . Доказательства и опровержения. М., 1967.
Лакатос И . История науки и ее исторические реконструкции // Структура и развитие науки. М., 1978. С. 203–269. (Есть переиздания.)
Лакатос И . Ответ на критику // Структура и развитие науки. М., 1978. С. 322–333.
Левина Р.Е., Морозова Н.Г . Воспоминания о Л.С. Выготском // Дефектология. 1984. № 5. С. 81–86.
Леонтьев А.Н . Л.С. Выготский // Леонтьев А.Н . Избранные психологические произведения: В 2 т. М., 1983. Т. 1. С. 18–21.
Леонтьев А.Н . Об историческом подходе в изучении психики человека // Психологическая наука в СССР. М., 1959. T. 1. С. 9—44. (Есть переиздания.)
Леонтьев А.Н . Борьба за проблему сознания в становлении советской психологии // Избранные психологические произведения: В 2 т. М., 1963. Т. 1. С. 22–30.
Леонтьев А.Н . О творческом пути Л.С. Выготского (вступительная статья) // Выготский Л.С . Собрание сочинений: В 6 т. М., 1982. Т. 1. С. 9—41.
Лифанова Т.М . Библиография трудов Л.С. Выготского // Выготский Л.С . Собрание сочинений: В 6 т. М., 1984. Т. 6. С. 360–375. (Есть переиздания.)
Лурия А.Р . Этапы пройденного пути. М., 1982. 184 с. (Есть переиздания.)
Мамардашвили М.К . Анализ сознания в работах Маркса // Вопросы философии. 1968. № 6. С. 14–25. (Есть переиздания.)
Мамардашвили М.К . Обязательность формы // Вопросы литературы. 1976. № 12. С. 134–137. (Есть переиздания.)
Мамардашвили М.К . Классический и неклассический идеалы рациональности. Тб., 1984. 82 с. (Есть переиздания.)
Найдиффер Р . Психология соревнующегося спортсмена. М., 1981.
Научное творчество Л.С. Выготского и современная психология. М., 1981.
Переписка М.М. Морозова с Б.Л. Пастернаком по поводу перевода шекспировских трагедий // Мастерство перевода. 1969. М., 1970. (Есть переиздания.)
Печчеи А . Человеческие качества. М., 1985. 312 с.
Пузырей А.А . Психология личности и психотерапевтическая практика // Материалы V Всесоюзного съезда Общества психологов СССР. М., 1983. (См. в настоящем сборнике.)
Пузырей А.А . Психотехническое действие как единица анализа в психологии творчества // Методологические проблемы организации проектирования. М., 1986. (См. в настоящем сборнике.)
Пузырей А.А . «Герника» Пикассо: опыт психологического анализа, (депонированная рукопись), 1986. (См. в настоящем сборнике.)
Радзиховский Л.А . Список работ о Л.С. Выготском // Выготский Л.С . Собр. соч.: В 6 т. М., 1984. Т. 6. С. 381–393.
Розин В.М . Опыт изучения научного творчества Галилео Галилея // Вопросы философии. 1981. № 5. С. 73–85.
Сартр Ж.-П . Очерк теории эмоций // Психология эмоций. Тексты. М., 1984. С. 120–137. (Есть переиздания.)
Спиноза Б . Трактат об усовершенствовании разума // Спиноза Б . Избранные произведения. М., 1957. Т. 1. 631 с. (Есть переиздания.)
Стеценко А.П . Выготский и проблема значения // Научное творчество Л.С. Выготского и современная психология. М., 1981. С. 148–151.
Тутунджян О.М . Труды Л.С. Выготского в Северной Америке // Научное творчество Л.С. Выготского и современная психология. М., 1981, С. 158–161.
Фридрих И . История письма. М., 1930.
Фуко М . Слова и вещи. М., 1977. 488 с. (Есть переиздания.)
Холопова В.Н., Холопов Ю.Н . Антон Веберн. Жизнь и творчество. 1984. 319 с.
Цзен Н.В., Пахомов Ю.В . Психотехнические игры в спорте. М., 1985. 161 с. (Есть переиздания.)
Щедровицкий Г.П . Общая идея метода восхождения от абстрактного к конкретному // Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании. М., 1975. С. 161–169. (Есть переиздания.)
Adorno Th . Einleitung in die Musiksoziologie. Fr./M., 1962. (Есть русский перевод.)
Children’s Learning in the «Zone of Proximal Development» / Ed. B. Rogoff & J.V. Wertsch. San Francisco, 1984.
Davydow V.V . – In: Levitin K . One is not born a Personality. Moscow, 1982. (Есть русский перевод.)
Dobkin S.F . – In: Levitin K . One is not born a Personality. Moscow, 1982. (Есть русский перевод.)
Hentig H . Magier oder Magister? Ьber die Einheit der Wissenschaft im Verstadigungsprozess. Stuttgart, 1972.
Jung C.G . Psychologic und Alchemie. Zьrich, 1944.
Lewin K . Gesetz und Experiment in der Psychologie. В., 1927. (Есть русский перевод.)
Lewin K . Psychoanalysis and topological Psychology // Bulletin of Menninger Clinic. Vol. 1. N. 6. 1937.
Rogers C . On encounter Groups. N.Y., 1970. (Есть русский перевод.)
Schedrovitsky G.P . – In: Levitin K . One is not born a Personality. Moscow, 1982. (Есть русский перевод.)
Wertsch J.V . Vygotsky: the social formation of Mind. Cambr., Mass., L., 1985.
Проблема метода в культурно-исторической теории [62]
1. В культурно-исторической теории (КИТ) мы имеем дело с особой «неклассической» ситуацией исследования и с совершенно новым типом исследования, подлинная революционность и исключительное методологическое значение которого для современной психологии в достаточной мере до сих пор еще не осознаны.
2. В силу основного принципа генетического подхода, принятого в КИТ, изучение того или иного психологического образования возможно только через прослеживание его генезиса и развития, возможно только, пока процесс его становления не закончен. Исследователь, стало быть, может (и должен) иметь дело в данном случае с изучением не столько даже самих по себе «высших психических функций» (ВПФ), сколько, собственно, с процессом их генезиса; и уж тем более запрещенным при этом оказывается прямой вопрос о том, «из чего» образуются ВПФ (то есть вопрос о так называемых «натуральных» психических функциях). И в том и в другом случае ответ может быть получен только в «реконструкции», на втором шаге исследования, отправной точкой которого может быть только самый процесс генезиса.
3. По смыслу основных положений КИТ образование и развитие ВПФ суть не естественные процессы, но всегда с необходимостью включают искусственный, специально выстраиваемый акт организации (или реорганизации) психического аппарата человека или изменения режима его работы, что достигается с помощью выделывания и употребления в инструментальной функции специальных знаковых «объектов-средств».
4. Из сказанного следует, что не сама по себе «сырая» (К. Леви-Стросс) психика человека или какие-то «естественные» процессы ее трансформации, но именно эти искусственные акты организации психики – «сигнификативные акты», как называл их сам Выготский, или, можно было бы сказать, особые системы «психотехнических актов», то есть действий над психикой с целью ее преобразования и овладения ею с помощью особых «техник», специальных знаковых приемов и средств, и должны рассматриваться в рамках КИТ в качестве действительной единицы анализа в психологии человека.
5. В силу этого в КИТ возникает принципиально иное – по сравнению с естествознанием – отношение между изучаемым объектом и знанием о нем, между фактом и актом получения знания (внутри «такта организации психики») и жизнью изучаемого объекта. В отличие от классического естественнонаучного исследования, где изучаемый объект не только не предполагает никакого знания о себе или познания себя в качестве необходимых условий своего существования, но, напротив, принципиально исключает их (в соответствии с основной максимой естественнонаучного метода акт и факт получения знания об изучаемом объекте не должны – ибо если он действительно объективен, то и не могут! – изменять законов жизни этого объекта); в случае КИТ ситуация исследования такова, что акт (и факт) получения знания об изучаемом объекте не только не может не изменять законов его жизни (всякий случай преобразования натуральной психической функции в «высшую», «культурную» есть тем самым радикальное изменение ее законов!), но с самого начала предполагает и «нацелен» на такое изменение. Иначе говоря, в КИТ и знания об изучаемом объекте, и познание его с необходимостью оказываются включенными в изучаемый объект в качестве внутренних условий самого его существования.
6. С точки зрения традиционной методологии естествознания в подобной «аномальной» ситуации утрачивается всякая возможность объективного исследования и рационального мышления. Анализ КИТ же позволяет эксплицировать содержащуюся в ней методологическую программу радикальной перестройки психологии, которая обеспечивала бы восстановление возможности рационального мышления и объективности исследования в той «неклассической» ситуации, которая имеет место не только в КИТ, но также и в целом ряде важнейших областей современной психологии (и, прежде всего, конкретной практической психологии личности и сознания).
7. Основная идея «объективно-аналитического» метода в КИТ, который, отталкиваясь от мысли Выготского, можно было бы назвать также «методом артефактов», или «методом продуктивной амплификации», или же «методом продуктивной ловушки», состоит в том, чтобы – вопреки основной установке естествознания – стараться не исключить (или хотя бы, по возможности, максимально редуцировать) момент артификации в исследовании, но, напротив, попытаться предельно его усилить, в идеале – полностью заместить неустранимую (и для исследователя – нежелательную) спонтанную («естественную») – в исследовании не создаваемую и не контролируемую практическую форму психотехнического действия – чисто искусственной и исследовательской формой, максимально открытой для исследователя и им контролируемой.
8. «Ловушка для психики» (сознания, личности), в отличие от используемых в естествознании «ловушек для природы» (см.: Выготский . Собр. соч. Т. 1. М., 1982. С. 406), является «продуктивной» в том смысле, что всегда «ловит» на себе и обнаруживает для анализа то, что до и независимо от срабатывания – а как правило, и выделывания – этой «ловушки» не существовало и не могло существовать, что лишь благодаря срабатыванию ловушки впервые в своем существовании (но – существовании «автономном», не по законам психотехнического действия!) устанавливается.
9. «Метод продуктивной ловушки» в КИТ является только реализацией общей идеи «экстериоризации», позволяющей исследователю «вернуться» (в действительности, «возвращение» тут – только метафора: продуктивность ловушки!) к генетически исходным и сущностно основным формам изучаемой ВПФ (которые, по Выготскому, суть всегда «интерсубъектные» формы – откуда идея «драматизации» как частного случая экстериоризации).
10. В качестве радикальных следствий сказанного можно было бы указать на новый тип описания изучаемого объекта, который следовало бы назвать «психотехническим описанием», то есть описанием с точки зрения фиксации условий возможности достижения необходимого преобразования психики, а также – новый тип отношения между исследованием и практикой (в данном случае – «психотехнической практикой» в широком смысле слова).
Приложение первое Л.С. Выготский Конкретная психология человека [63]
Конец 20-х годов для Льва Семеновича Выготского – время интенсивной теоретической и экспериментальной разработки основных положений его культурно-исторической теории психики человека. Позади лежало относительно спокойное и, несмотря ни на что, счастливое первое пятилетие его московской жизни после переезда в 1924 году из Гомеля – время становления его как психолога, невероятно стремительного восхождения его звезды, когда за считанные годы этот совсем еще молодой человек из никому не известного провинциального учителя превратился в одну из ведущих и наиболее ярких фигур в молодой советской психологии, исследователя с непогрешимым научным авторитетом, окруженного группой молодых и тоже талантливых, восторженно преданных ему учеников, исполненного высокого сознания своей миссии в развитии науки, полного идей, замыслов и планов, большей части которых, однако, из-за преждевременной смерти ученого не суждено было осуществиться.
Словно бы предчувствуя это, Выготский работал все эти годы много и быстро. Из-под его пера одна за другой выходили большие работы, составляющие ныне корпус культурно-исторической концепции и уже давно вошедшие в золотой фонд отечественной и мировой психологической литературы. Почти каждая из них исподволь подготовлялась предварительными набросками и заметками, которые Выготский делал по большей части «для себя», не предназначая их для печати. Но и эта своеобразная «внутренняя речь» Выготского, в силу общей его поразительной способности жить и делать все в своей жизни сразу «набело», без «черновиков», представляет собой, как правило, самостоятельные, связные и вполне законченные тексты.
Такова и публикуемая ниже рукопись Выготского 1929 года из его семейного архива, любезно предоставленная дочерью ученого – Г.Л. Выгодской.
Эта работа не только позволяет заглянуть в «творческую лабораторию» замечательного мыслителя, почти со зримой ясностью увидеть процесс кристаллизации ключевых положений культурно-исторической теории, хорошо известных по классическим работам Л.С. Выготского начала 30-х годов, но содержит также и целый ряд оригинальных идей и ходов мысли, которые не получили разработки в последующих работах.
В этом отношении публикуемые заметки Л.С. Выготского проливают новый свет на некоторые фундаментальные положения его концепции, представляя их подчас в таком ракурсе, который делает их предельно актуальными и для современной психологии.
Близость отдельных тем, формулировок и примеров, а до известной степени – также и общей логики построения публикуемого текста к работе «История развития высших психических функций» (особенно второй ее главы) позволяют рассматривать данную рукопись в качестве предварительного наброска, эскиза главного труда Выготского, правда, скорее всего, не той канонической версии его, которая общеизвестна по первой публикации 1960 года и недавней перепечатке в третьем томе собрания сочинений, но более раннего и краткого, до сих пор еще не опубликованного варианта работы, который хранится в семейном архиве ученого.
В данной публикации сохранены особенности синтаксиса и все выделения оригинала. Орфография же приведена в соответствие с современными нормами. Многочисленные сокращения восстановлены при расшифровке рукописи. Все вставки в тексте, взятые в прямые скобки, а также все сноски и примечания, если это не оговаривается особо, принадлежат автору вступительной статьи.
...
А.А. Пузырей
Л.С. Выготский
[Конкретная психология человека]
NB: Слово история (историческая психология) у меня означает 2 вещи: 1) общий диалектический подход к вещам – в этом смысле всякая вещь имеет свою историю; в этом смысле Маркс: [есть только] одна наука – история (Архив, с. X) [64] , естествознание = история природы, естественная история; 2) история в собственном смысле, то есть история человека. Первая история = диалектический, вторая – исторический материализм. Высшие функции в отличие от низших подчинены историческим закономерностям в своем развитии (ср. характер у греков и у нас). Все своеобразие психики человека в том, что в ней соединены (синтез) одна и другая истории (эволюция + история). То же в детском развитии (ср. 2 линии) [65] .
Конструктивный метод имеет 2 смысла: 1) изучает не естественные структуры, а конструкции, 2) не анализирует, а конструирует процесс (contra [66] метод застижения врасплох – анализ, тахистоскоп; contra систематический метод вюрцбуржцев). Но познавательная конструкция в эксперименте соответствует реальной конструкции самого процесса. Это основной принцип.
NB: Бергсон (см. сб. Челпанову, 109) [67] . Интеллект и орудия.
...
Интеллект – инстинкт
_________________
орудия – органы
В психологии человека тоже homo faber [68] .
Орудия вне себя, органы в себе.
Сущность интеллекта – в орудиях. Инстинкт – способность использовать и строить организованные [69] инструменты; интеллект – инорганизованные. Свои достоинства и недостатки.
Но психологическая конструктивная деятельность (воля) есть нечто принципиально новое – синтез той и другой деятельности, ибо создаются с помощью внешнего – неорганизованного – средства органические конструкции, функции в мозгу, строятся инстинкты. Ср. Ухтомский: система неврологических функций – есть орган. В этом смысле человек при помощи инструментальной деятельности строит новые органы, но органические.
Жане (кн. 6 с. 425 [70] ) называет величайшей иллюзией неотличение речи от других реакций (приспособлений к природе). Это ошибка Уотсона: речь = двигательный навык, как плавание и игра в гольф. Именно не такой: проблема вербализованного поведения – центральная проблема всей истории культурного развития ребенка.
NB: Мы знаем общий закон: раньше средство воздействия на других, потом на себя. В этом смысле всё культурное развитие проходит 3 ступени: в себе, для других, для себя (ср. указательный жест – вначале просто неудавшееся хватательное движение, направленное на предмет и обозначающее действие; потом мать понимает его как указание; потом ребенок начинает указывать). Ср. Ш. Бюлер: портрет ребенка с указательным жестом [71] . Это уже для себя. Ср. Marx: Петр и Павел [72] . Через других мы становимся собой. В чисто логической форме сущность процесса культурного развития в этом и состоит. Marx: о классе [73] . Личность становится для себя тем, что она есть в себе, через то, что она прежде являет свое в себе для других. Это есть процесс становления личности. Отсюда понятно, почему с необходимостью все внутреннее в высших функциях было внешним: то есть было для других тем, что ныне есть для себя. Это центр всей проблемы внутреннего и внешнего. Ср. проблему интериоризации у Жане и Кречмера (Бюлера): перенос отбора, пробования внутрь (и при этом не замечают того, что отбор производит сама личность). Не эта внешность имеется в виду у нас. Для нас сказать о процессе внешний значит сказать социальный [74] . Всякая высшая психологическая функция была внешней – значит она была социальной; раньше чем стать функцией, она была социальным отношением двух людей. Средства воздействия на себя – первоначально средство воздействия на других и других на личность.
В общей форме: отношение между высшими психологическими функциями было некогда реальным отношением между людьми. Я отношусь к себе так, как люди относились ко мне. Размышление – спор (Болдуин, Пиаже); мышление – речь (разговор с собой); слово, по Жане, было командой для других; подражание, изменение функции привело его к отделению от действия (3, с. 155 и след. [75] ) [76] . Оно есть всегда команда [77] . Поэтому – основное средство овладения. Но откуда волевая функция слова у нас, почему слово подчиняет себе моторные реакции? Откуда власть слова над поведением? – Из реальной функции командования. За психологической властью слова над психологическими функциями стоит реальная власть шефа и подчиненного. Отношение психологических функций генетически соотнесено с реальными отношениями между людьми: регуляция словом, вербализованное поведение = власть – подчинение.
Отсюда: речь [78] центральная функция – социальной связи + психологическое средство. Ср. непосредственное и опосредствованное отношение с людьми. Отсюда экскурс: подражание и социальное разделение функций, как механизм модификации и трансформации функций.
Отсюда пример Леонтьева с трудом: то, что делают надсмотрщик и раб – соединяется в одном человеке: это механизм произвольного внимания и труда.
Отсюда тайна волевого усилия – не мускульного, не духовного – сопротивление организма команде.
Отсюда недооценка у меня роли шепота, секрета и других социальных функций. Я игнорировал внешнее отмирание речи.
Отсюда у ребенка шаг за шагом можно проследить эту смену в себе – для других – для себя в функциях речи. Раньше всего слово должно обладать смыслом (отношением к вещи) в себе (объективная связь, а если ее нет – ничего нет); затем мать его функционально использует как слово; затем ребенок.
Пиаже: появление спора = появление речевого мышления. Все формы речевого общения взрослого с ребенком позже становятся психологическими функциями. Общий закон: всякая функция в культурном развитии ребенка появляется на сцене дважды, в двух планах – сперва социальном, потом психологическом, сперва между людьми как категория интерпсихологическая, затем – внутри ребенка. Ср.: la loi du decalage [79] у Piaget. Это – к произвольному вниманию, памяти etc., etc. Это – закон.
Ср. указание другому, себе; коготь рыси – другому – себе;
Ср. письмо – себе во времени и другому; читать свою записку – писать для себя – значит отнестись к себе как к другому. Etc., etc. Это общий закон для всех высших психологических функций.
Конечно переход извне внутрь трансформирует процесс.
За всеми высшими функциями и их отношением стоят генетически социальные отношения, реальные отношения людей. Homo duplex [80] .
Отсюда принцип и метод персонификации в исследовании культурного развития, то есть разделения функций между людьми, персонификации функций: например, произвольное внимание: один овладевает – другой овладеваем. Разделение снова надвое того, что слито в одном (ср. современный труд), экспериментальное развертывание высшего процесса (произвольного внимания) в маленькую драму. Ср. Полицер: Психология в терминах драмы [81] .
Слово социальный в применении к нашему предмету имеет много значений: 1) самое общее – все культурное социально; 2) знак – вне организма, как орудие, средство социальное; 3) все высшие функции сложились в филогенезе не биологически, а социально; 4) самое грубое значение – их механизм есть слепок с социального. Они – перенесенные в личность, интериоризованные отношения социального порядка, основа социальной структуры личности. Их состав, генез, функция (способ действия) – одним словом их природа – социальны. Даже будучи в личности превращенными в психологические процессы, – они остаются quasi-социальными. Индивидуальное личностное – не contra, а высшая форма социальности.
Парафраз Магх’а: психологическая природа человека – совокупность общественных отношений, перенесенных внутрь и ставших функциями личности и формами ее структуры [82] . Marx: о человеке как genus [83] ; здесь – об индивиде.
Культурное развитие = социальное развитие не в буквальном смысле (развитие свернутых задатков, а часто – извне; роль конструкции, свертывание развитых форм, ср. произвольное внимание, роль экзогении в развитии). Скорее – переход структур извне внутрь: иное отношение онто– и филогенеза, чем в органическом развитии: там филогенез заключен в потенции и повторяется в онтогенезе, здесь реальное взаимодействие между фило– и онтогенезом: человек как биотип не необходим: чтоб в утробе матери развился человеческий детеныш, эмбрион не взаимодействует с зрелым биотипом. В культурном развитии это взаимодействие – основная движущая сила всего развития (взрослая арифметика и детская, речь etc.).
Общий вывод: если за психологическими функциями стоят генетически отношения людей, то: 1) смешно искать особые центры для высших психологических функций или верховных функций в коре (лобные доли – Павлов); 2) надо объяснять их не из внутренних, органических связей (регуляция), а извне – из того, что человек управляет деятельностью мозга извне, через стимулы; 3) они суть не естественные структуры, а конструкции; 4) основной принцип работы высших психических функций (личности) – социальное по типу взаимодействие [84] функций, ставшее на место взаимодействия людей. Наиболее полно они могут быть развернуты в форме драмы. Экскурс: в конструктивной деятельности сближение стимулов соответствует сближению мозговых процессов, двум формам нервной деятельности: 1) доминанте (катализации) и 2) ассоциации – соответствуют: 1) указание, усиление, ударение и 2) мнемотехника (узелок) [85] . Сближая предметы (стимулы), я сближаю нервные процессы (реакции); действуя вовне, я овладеваю (управляю) самими внутренними процессами. Что значат все организации, регуляции (Басов), структуры по сравнению с этим наивысшим типом овладения – конструктивной деятельностью. Природу произвольного внимания и всякой высшей функции нельзя вывести из индивидуальной психологии. Ср. проблему Autosuggestion [86] и XYZ [87] .
Полный пересмотр неврологии высших процессов. Локализация функций, а не центров.
[Листок XYZ] NB! Бергсон: память отличает дух от материи. Наличие духа необходимо вообще для всякого интенционального процесса (направленность на прошлое); мы не считаем безразличным для психологического процесса его психическую сторону с несравнимым ни с чем отношением к предмету, но не чистый дух и, главное, – не этим двигательная память отличается от недвигательной. Есть переходные формы, а между духом и материей их нет. Переходная форма – мнемотехника. Сам Бергсон сближает память духа и мнемотехнику, а Бюлер мнемотехнику с памятью шимпанзе. Вот положение: направленность на определенный единственный раз заучивания может быть, а памяти (воспоминания) нет. Ср. узелок и мотив (я: [знаю, что есть] три черты мнемонических и не знаю, что [они] значат). Ergo: направленность – обязательный спутник воспоминания, а самостоятельный компонент высшего запоминания (результат указующей, опосредствующей роли знака).
NB: К социальной природе высших психических функций
Функции слова по Жане раньше разделились и распределились, между людьми, потом у личности. В индивидуальном сознании и поведении невозможно было бы ничего подобного. Раньше из индивидуального поведения выводили социальное (индивид реагирует наедине и в коллективе, подражание обобществляет индивидуальные реакции). Мы из форм коллективной жизни выводим индивидуальные функции. Развитие идет не к социализации, а к индивидуализации общественных функций (превращение общественных отношений в психологические функции – ср. речь, социальное prins [88] ). Вся психология коллектива в детском развитии в новом свете: спрашивают обычно, как тот или иной ребенок ведет себя в коллективе? Мы спрашиваем: как коллектив создает у того или иного ребенка высшие функции? Раньше предполагали: функция есть у индивида в готовом, полуготовом или зачаточном виде – в коллективе она упражняется, развертывается, усложняется, повышается, обогащается, тормозится, подавляется etc. Ныне: функция сперва складывается в коллективе в виде отношения: детей, – затем становится психологической функцией личности. Спор. Раньше: у каждого ребенка есть мышление, из их столкновения рождается спор. Ныне: из спора рождается размышление. То же обо всех функциях [конец листка XYZ].
К постановке основных проблем коллективной психологии (детской) на этой основе: все наоборот тому, как делается.
Ср. заметку на стр. XYZ.
Различать:
Непосредственное и опосредствованное (через знак) отношение к другим. Непосредственно невозможно применить к себе. Опосредствованно – можно. Вначале, следовательно, знак помещается между объектом и субъектом, как орудие. Позже – между мной и моей памятью. Стимул-объект операции не есть объект воздействия стимула-орудия: это главнейшее отличие знака от орудия. Объект воздействия инструментального стимула – мозг.
...
Схема 1: субъект – орудие – объект
Схема 2: субъект – знак – субъект
Схема 3: субъект – знак – мозг
Конструкция тем отличается от инструментальной операции (Werkzeugdenker) [89] , что она двупланна, двуобъектна:
...
субъект1 – знак – субъект2 – объект
Если субъект1 и субъект2 в одном лице, то у операции всегда два объекта: мозг и объект психологической задачи (запомнить etc.). В сущности, это обусловлено тем, что S не [есть] орудие (то есть не физически действует), а что задача психологически воздействует (не на предмет, а на поведение). Если объект – чужой мозг, то все легко. Трудно, когда объект – свой мозг.
Надо отказаться от скрытого отождествления психологической операции и моторной (запомнить = схватить).
Таким образом, инструментальная операция есть всегда социальное воздействие на себя, при помощи средств социальной связи и раскрывается в полной форме социального отношения двух людей. Раньше мы учитывали: объект операции, орудие. А ныне – и объект воздействия стимула. Стимул не действует на объект операции. Замыкающий и исполнительный механизм – воля – результат социальных отношений: приказ, условие («один кричит, другой сражается» – Жане).
Между чем и чем вдвигается знак: между человеком и его мозгом. Он поддерживает операцию, направленную на объект. Но его объектом является сама операция, нервный процесс. Итак, основа инструментальной операции – соединение Петра и Павла в одном лице. Отношение stimul’a-объекта и stimul’a-средства – [это отношение: ] натурально психологического и искусственно построенного.
Социогенез – ключ к высшему поведению. Здесь мы найдем психологическую функцию слова (а не биологическую). Социогенетический метод.
Автостимуляция – частный случай (чрезвычайно своеобразный) социальной стимуляции: socio-personnelles [91] – по Janet (ср. функция общения в размышлении – Наторп).
Сигнификация: человек извне создает связи, управляет мозгом и через мозг – телом. Внутреннее отношение функций и слоев мозга, как основной регулятивный принцип в нервной деятельности, заменяется социальными отношениями вне человека и в человеке (овладение чужим поведением), как новым регулятивным принципом. Но как вообще возможно создание связей и регулятивных отношений между центрами и функциями извне? Эта возможность дана в двух моментах (их встрече): 1) механизм условного рефлекса (он, по Павлову – мозговой механизм, по Ухтомскому – орган! – конструируется извне) и 2) факт социальной жизни, то есть изменения природы; ergo [92] и природных связей, и взаимодействия особей иного порядка, чем общение иных предметов. Отсюда – три ступени: 1) условный рефлекс – механизм, созданный извне, но = копия природных связей, соответствует пассивному приспособлению; 2) домашние животные (раб?), сам человек = домашнее животное (Турнвальд) [93] = пассивное образование связей извне; 3) активное участие в завязывании связей + автостимуляция, как частный случай социальной стимуляции. Ср. instrumentum vocale, semivocale и mutum [94] – Последний соответствует активному приспособлению к природе = психологии человека. Вопрос упирается в личность. Павлов сравнивает нервную систему с телефоном, но все своеобразие психологии человека – в том, что в нем в одном существе соединены телефон и телефонистка, то есть – аппарат и управление им человеком. Через механизм условного рефлекса природа управляет человеком, но природные связи могут обусловить любые и всевозможные связи поведения, кроме изменения самой природы. В природных связях не заключена необходимость работы и трудовой деятельности.
Что такое телефонистка (элиминируем механистичность сравнения и знак +)? Скажут: душа, психея, недаром телефонистка. Ср. Stern: Injen. + Maschine [95] . He то. Правда, нельзя понять деятельность любого нервного аппарата без человека. Это мозг – человека. Эта рука человека. В этом суть. Например, жребий, узелок – телефонная связь, замкнутая телефонисткой [96] .
Идея Павлова в том и заключается, чтоб показать, что то, что думали – делает телефонистка (душа), делает сам аппарат (тело, мозг). Так, Ergo: телефонистка – не душа. А что? Социальная личность человека. Человека как члена определенной общественной группы. Как определенная социальная единица. Как существо в себе – для других и – для себя. Ср. Lichtenberg и др. Мне думается и: я думаю [97] . Проблема я: как надо сказать и ребенок: я (Пиаже). Все развитие в том, что развитие функции идет от мне к я. Ср. Levy-Bruhl: J’en reverai [98] . Кстати: личность меняет роль отдельных психологических функций, систем, слоев, пластов, устанавливая такие связи, которых в биологии личности нет и не может быть. Не отношение подкорковых центров к корковым, а социальная структура личности определяет господство тех или иных слоев. Ср. сон и вождь кафров: 1) у животных функция сна иная, 2) у него [у вождя кафров] через общественное значение сновидений (затруднение необъяснимое etc., начатки магии, причинности, анимизма etc.) сон приобрел регулятивную функцию: что он увидит во сне – то он сделает. Это реакция личности, а не примитивная; 3) отношение сон / будущее поведение (регулятивная функция сна) сводится генетически и функционально к социальной функции (маг, совет волхвов, толкователь снов, кто-то, кто бросает жребий – всегда разделено на два лица). Затем соединяется в одном лице. Реальная история телефонистки (личности) – в истории Петра и Павла (ср. Маркс: о языке и сознании) [99] – в перенесении социального отношения (между людьми) в психологическое (внутри человека). Роль имени у примитива, у ребенка, у [100] .
Самое основное заключается в том, что человек не только развивается, но и строит себя. Конструктивизм. Но contra интеллектуализм (ср. художественная конструкция) и механизм (ср. смысловая конструкция).
Задача психологии – изучение реакций личности, то есть связей типа сон = регулятивные механизмы. Роль религии etc. Каждой идеологии (общественной) соответствует психологическая структура определенного типа – но в смысле субъективного восприятия и носителя идеологии, но в смысле конструкции пластов, слоев и функций личности. Ср. кафр, католик, рабочий, крестьянин. Ср. мои идеи – [отношение] структуры интересов к социальной регуляции поведения. Ср. [101]
Мыслит не мышление, мыслит человек. Это исходная точка зрения [На полях] Фейербах / Деборин – Гегель, XXVI [102] .
Что такое человек? Для Гегеля – логический субъект. Для Павлова – сома, организм. Для нас – социальная личность = совокупность общественных отношений, воплощенная в индивиде (психологические функции, построенные по социальной структуре).
[На полях] Человек есть для Гегеля всегда сознание или самосознание XXXVII [103] .
Идем дальше. Кафр мог: J’en reverai, ибо он активно видит сон, мы говорим: «мне снится». Ergo: бывает и «мне», и «я» во всякой функции, но это реакции примитивные (пассивно-личные) и личности (активно-личные).
Еще дальше. Раз человек мыслит, спросим: какой человек (кафр, римлянин с omen [104] = сон, рационалист Базаров, невротик Фрейда, художник etc, etc.). При одних и тех же законах мышления (ср. Гефдинг: законы ассоциации и мысль), процесс будет разный, смотря по тому, в каком человеке он происходит. Ср. не природные (кора, подкорка etc.), а социальные связи мышления (его роль у данной личности). Ср. роль сна. Не все равно – кто видит сон, какой человек. Можно: 1) видеть сон с «Я» и с «мне», 2) по-разному и то, и другое. Надо изучать и то, и другое: основа конкретной психологии – связи типа: «сон/кафра» [105] . Абстрактной – связи типа: сон = отреагирование (Фрейд, Вундт etc.) наличных раздражителей.
(Здесь, в идее социальной личности, раскроется несомненно роль психики. Возможен ли товар = сверхчувственная вещь (Маркс) без психики? Сущность психики с положительной стороны (с негативной – недоступность другим = внутреннее восприятие, непространственность) интенциональное отношение к предмету. Деборин: мышление без содержания пусто. (Ср. Кант: пусты и слепы. Следовательно, изучая мышление, мы изучаем отношение к предметам). [с] XXVI: [106] «Если под чистым мышлением понимать свободную от всяких чувственных восприятий деятельность разума, то чистое мышление есть фикция, ибо мышление, освобожденное от всех представлений, есть пустое мышление»… «Ведь понятия суть не что иное, как переработанные восприятия и представления. Словом, мышлению предшествуют ощущения, восприятия, представления и т. д., а не наоборот. Да само мышление, в смысле высшей его способности образования понятий, категорий является продуктом исторического развития». Ср. логическое устройство речи [с] XVI–XVII [107] . Экскурс: Я есть социальное отношение меня к себе самому.
Дальше прямо: Гете: проблему сделать постулатом (Ср.?? [108] проблему творческих синтезов gsttheorie [109] сделала постулатом). То же я с личностью. Она первичное, что созидается вместе с высшими функциями.
Отношение сон / будущее поведение (регулятивная функция сна у кафра) есть опосредствованная всей личностью (то есть совокупностью общественных отношений, перенесенных внутрь) связь, а не непосредственная.
Изучение этого у ребенка.
Экскурс! Ср. Полицер: психология = драма. Совпадение: конкретная психология и Дильтей (о Шекспире) [110] . Но драма действительно полна такого рода связей: роль страсти, скупости, ревности в данной структуре личности. Один характер разложен на два у Макбета – Фрейд.
Драма действительно полна внутренней борьбы невозможной в органических системах: динамика личности есть драма.
Ср.: сон кафра / будущее поведение.
Во сне жена изменила (Отелло) – убить: трагедия. Драма всегда борьба таких связей (долг и чувство, страсть etc.). Иначе не может быть драмы, то есть столкновения систем. Психология «гуманизируется».
Прямо. Роль среды. Для биологии: фактор фенотипических изменений. Механизмы готовы и [лишь] в количестве изменяются. Социальные связи действуют в качестве природных (ср. домашнее животное). Но это верно лишь для элементарных функций. И они (например, восприятие структур, формы etc.) не всегда общи у всего человечества. Но если много в элементарных функциях есть общего – это потому, что есть у всех социальных групп и классов много общего. Не то – высшие: если признать, что органы создаются извне, регуляция мозга извне, личность = сгусток общественных отношений, связи типа «сон кафра» извне, динамика личности = драма, то социогенез – единственно верная точка зрения, то есть механизмы созидаются в среде (конструкции).
Конспект: Личность – совокупность общественных отношений. Высшие психические функции создаются в коллективе. Связи типа: «сон кафра». Содержание личности. Личность как участник драмы. Драма, личности [111] . Конкретная психология.
[На полях] Функции меняют свою роль: сон, мышление, практический интеллект.
Моя история культурного развития – абстрактная разработка конкретной психологии [112] .
Заключение: Реальная история телефонистки и аппарата: перенесение общественных отношений внутрь. Телефонистка и аппарат – это только особо сложно регулируемая деятельность (регулятивный принцип). Личность: особые формы регуляции.
[На полях] 12.IX.1929
...
Нет постоянно закрепленной иерархии функций
Мышление – эмоции – инстинкты
Мышление – грезы – сон
etc., или вроде того.
Ergo: нет закрепленной воли. Хоть есть естественный диапазон возможностей у каждой функции, определяющий сферу ее возможных ролей.
Сравни: природные данные актера (амплуа) определяют круг его ролей, но, все же каждая драма (= личность) имеет свои роли. Commedia del’arte: закрепленные роли, играют амплуа (Коломбина, Арлекин etc.), которые меняют драму, но роль одна и та же = самой себе. Драма с закрепленными ролями = представление старой психологии. Новая: в круге амплуа – изменение ролей. Сон в драме (личности) кафра – одна роль, у невротика – другая: герой и злодей, любовник.
Например: мышление у Спинозы – господин страстей. У Фрейда, у аутиста – слуга страстей. Это знают психиатры. Иначе говоря, схематически:
...
1) структура мышления – страсти
2) структура страсти – мышление
[На полях] Оперировать функциями как далее несводимыми единствами. Ср. Павлов о физике и торможении.
Психиатры это хорошо знают. Все дело в том, кто мыслит [113] , какую роль, функцию в личности выполняет мышление. Аутистическое мышление от философского отличается не законами мышления, а ролью (этика или онанизм).
Я: о психологии ролей. Ср. Полицер: драма. Социальная роль (судья, врач) определяет иерархию функций: то есть функции изменяют иерархию в различных сферах социальной жизни. Их столкновение = драма. Ср. мою схему интересов [114] . Подобная может быть создана для отдельных сфер поведения (Lewin). Сравни схемы (схема 3):
...
1) Судья (профессиональный комплекс):
иерархия 1: мышление – страсть:
«как человек сочувствую, как судья – осуждаю». Ср. медаль + расстрел??
2) Муж (семейный [комплекс]):
иерархия 2: страсть – мышление:
«знаю, что она плоха, но я ее люблю»,
3) Драма: [сложный комплекс]:
мышление – страсть
страсть – мышление
«знаю, что плоха, но люблю,
сочувствую, но осуждаю» – что победит.
Задача: у подростков и в тиэн: (конкретная психология) изучать отдельные сферы поведения (комплекс профессиональный etc.), структуру и иерархию функций там, их отношение и столкновение.
Идеал: вот так построен профкомплекс у московского рабочего etc.
Сравнительный метод. Общая патология.
Общие законы сна, мышления (снятая категория) принимают своеобразную форму в разных иерархиях личности. Маркс: без знания отличительных черт – логистика. LIII [115] .
Басов: характер организованности. Это отличает науки (механику, химию, биологию, социологию etc.). При этом особый тип организации принимается за первичное понятие: тело, вещество, организм, социо etc.
Телефонистка + аппарат – особый тип организованности, первичное понятие высшей психологии [116] . Развивается не только аппарат, но и телефонистка. То и другое вместе: все своеобразие детского развития.
Когда я говорю, что телефонистка + аппарат – особый тип организованности + саморегуляции, то эта регуляция ничуть не мистичнее и не ближе к душе, чем регуляция высшей нервной деятельности мускулов etc., но механизм сложнее: там одна часть тела – другие; то, что регулирует, и то, что претерпевает регуляцию, разделено; А регулирует В; но здесь человек, как социальное существо (А) регулирует В (свое поведение или деятельность мозга). Новая и своеобразная регуляция и организация процесса – я хочу только сказать, что без человека (= телефонистки) как целого нельзя объяснить деятельность его аппарата (мозга), что человек управляет мозгом, а не мозг человеком (социо!), что без человека нельзя понять его поведение, что психологию нельзя излагать в понятиях процессов, но драмы. Когда Полицер говорит: трудится человек, а не мускул – этим сказано все. Это можно сказать обо всем поведении человека. Три положения дополнительно:
1) Разница между душевнобольным и здоровым и между разными душевнобольными не столько в том, что а) у душевнобольных нарушены законы психической жизни или b) есть то (новые образования), чего нет у здоровых (опухоль). Скорее – у здоровых есть то же, что у больных: бред, подозрения. Beziеhungswahn [117] навязчивые идеи, страх etc. Но роль всего этого, иерархия всей системы разная. То есть на первый план выдвигается и регулятивные функции получает другая функция, не та, что у нас. Не бред отличает душевнобольного от нас, а то, что он верит бреду, повинуется, а мы нет. Ср. сон кафра.
Во всяком случае, это так об истериках, невротиках etc. В другой ситуации завладевает другая система: истерик с врачом и дома.
2) У Фрейда: связь сна с сексуальными функциями не первичная, а связь типа «сон кафра»: у невротика сон обслуживает сексуальное влечение. Но это не общий закон, а закон для невротика. У кафра – сон [имеет] иные функции. У аутиста мышление – иное. Это – закон конкретной психологии (то есть частный hic et nunc [118] ), а не общий. Ошибка Фрейда в том, что он принимает одно за другое [119] .
3) В развитии ребенка происходит такое смещение систем типа «сон кафра». Сон у годовалого, 7,15,70-летнего человека – не одна и та же роль. Часто инфантильное не исчезает, а теряет свою роль, место, значение. Например, при культуризации у кафра сон потерял бы значение. Перемещение роли = перемещение внимания (то есть центра структуры) – ср. Adler. Психоанализ и Individuale-psychologie [120] основаны бессознательно на этом.
Общее: психология гуманизируется. Наряду с зоопсихологией возникает homopsychologie [121] , с научной психологией животных – психология человека. В этом смысл статьи Полицера. В этом суть «драмы». В этом смысл психологии человека.
[На полях] В предисловие к психологии человека.
Психология животных: [так относится к] психология человека = [как] фитосоциология и зоосоциология: [относится к] социология человека. Басов: психология человека внутри животных неверна. Полицер – нет общей формулы психологии животных и человека. Ессе homo [122] .
Какая связь между тремя идеями: телефонистка, инструментальный акт и социальная структура личности? – Человек воздействует на себя по социальному способу. Здесь уже дан способ овладения поведением и средства (то есть инструментальный акт). А телефонистка и есть идея особой формы регуляции по этому способу.
1) Человек воздействует на человека – необходимо извне, при помощи знаков.
2) Человек воздействует на себя – извне и при помощи знаков, то есть по социальному способу.
3) Наряду с внутримозговой регуляцией поведения выдвигается автостимуляция, как частный случай социальной стимуляции (телефонистка управляет аппаратом). Нельзя аналогизировать все поведение с деятельностью аппарата. Но аппарат + человек [123] .
Приложение второе: Ольга Седакова «Сеятель очей». Слово о Л.С. Выготском [124]
Одно из последних стихотворений Велимира Хлебникова, «Одинокий лицедей», передает опыт трагического отрезвления художника – в самом деле трагического, потому что оно напоминает поворотный момент классической трагедии, «узнавание»:
И с ужасом
Я понял, что я никем не видим,
Что нужно сеять очи,
Что должен сеятель очей идти!
Не только Хлебников, с безумной решительностью ушедший в открытый океан своего сознания от берегов обыденных языковых и смысловых привычек, но любой, и куда более консервативный, по видимости, автор может испытать этот ужас собственной невидимости. Вот он сообщает нечто, по его мнению, новое и чудесное (как Бетховен, по преданию, сказавший: «Если бы люди по-настоящему услышали мою музыку, они стали бы счастливы»), но оказывается, что дело не только в его предмете, но и в глазах, которые могут воспринять его (в случае Бетховена – в ушах, что в общем-то неважно, поскольку речь идет не об оптическом зрении и не об акустическом слухе). Его почитают шарлатаном, показывающим зрителю что-то вроде платья голого короля.
Невидимость, ужаснувшая Хлебникова, всегда грозит искусству: современное искусство невидимо для своих современников, прошлое – для потомков, и никакой престиж «классики» не спасает Пушкина или Шекспира от невидимости этого рода. Неувиденность и непонятость, необдуманно суровый суд «жизни» или «общества» над искусством, «правды» над «поэзией», – вероятно, не ряд случайных недоразумений, а проявление какой-то реальной закономерности. «Есть вечная вражда между большим созданием и жизнью», как сказал Рильке. Невидимость, может быть, и есть лицо творчества – и, больше того, все, что сразу и охотно видимо, может быть, к творчеству в серьезном смысле и не относится.
Сам автор, как бы он ни был аналитически и культурно вооружен, фатально не может стать «сеятелем очей» для собственных образов. Особенно наглядно это в том случае, когда он всерьез предпринимает такую попытку, – как Данте, комментирующий собственные сонеты и канцоны в «Новой Жизни», или Т.С. Элиот – «Бесплодную землю». Потому что дело не в истолковании отдельных «темных мест» или общих установок, дело не в «шифре» и, соответственно, в «расшифровке». Дело в другом. Огромная часть смысла стихов (как и музыкальных, и пластических созданий) заключена в том, что они обращены к абсолютно понимающему адресату, понимающему больше, чем сам автор. Любой средневековый собор, всех деталей и хитростей которого ни по отдельности, ни в общей соотнесенности никакой человек никогда не увидит, наглядно показывает эту другую адресованность произведения искусства. Но таково по существу и «самое простое» восьмистишие Пушкина!
Тот, кто окажется в этой точке обращенности произведения, в точке его доверия, уже не будет просить посторонних объяснений. В этом случае и можно говорить о «появлении глаз»: о создании или нахождении в себе зрителя и собеседника вещи.
В связи с этим образом «сеятеля очей», по которому тосковал Хлебников, и вспоминается Л.С. Выготский. Я, пожалуй, не знаю более плодотворного и практического подведения к искусству как человеческому феномену, чем труды Выготского. Несомненно, всякий традиционно предметный, филологический или искусствоведческий анализ подводит к нему, поскольку имеет дело с формой. Способность отвечать на смысл искусства, взыскуемые «глаза» для него самым тесным образом соотносятся со «схватыванием» формы. Но предметный анализ обычно кончается на описании формы как замкнутой системы связей, контрастов, повторов, пропорций и т. п. Если форма в нем размыкается, то обычно в сторону тех или иных свойств эпохи, биографии автора и т. п., то есть в сторону внешних по отношению к самому событию творчества, а главное, бывших вещей.
Роль предметного исследования в диалоге сочинения и читателя – роль скорее отрицательная: такой анализ предостерегает от слишком узкого и эгоистического приспособления искусства к себе или себя к искусству, от того рода чтения, каким читали роман о Ланцелоте дантовские Франческа и Паоло – или как читали «Вертера» его подражатели. Филолог учит читать иначе, читать «не от себя лично», не применяя прямо к собственным обстоятельствам, – и часто может перестараться в этом. Ведь стихия соучастия неотделима от искусства. Читатель, каким его имеет в виду произведение, – не эрудит, который со стоическим бесстрастием систематизирует свою коллекцию: «А, понятно, это типичный стереотип романтизма! А это, по Аарне – Томпсону, сюжет номер такой-то». Для такого читателя не стоило бы писать баллады и рассказывать сказки. Его приглашают в путешествие и ждут от него не отстраненности, а соучастия, только соучастия точного и гибкого. Соучастие в жизни формы, где она предстает как особый психический опыт, особая деятельность.
Выготский предлагает идею открытой формы, forma formans, разомкнутой внутрь и в будущее, создающей в человеке того нового по отношению к его данности человека, который и воспримет, примет ее смысл. Идея возможного, будущего или вечно рождающегося человека как субъекта творчества и его адресата – главная тема анализов Выготского. В сущности, он предлагает нам оправдание творчества как основной деятельности человеческой психики. В художественном творчестве, в работе со свободной жизнью формы, по Выготскому, психика не борется с собственным прошлым (травматическим прошлым, как у Фрейда, сублимируя или маскируя его) – она строит свое будущее, свое постоянное рождение. «Каждая вещь искусства, о чем бы она ни говорила, повествует о своем рождении», – заметил Пастернак. Выготский по-своему дополняет эти слова. Автор вещи искусства приводит нас в место своего внутреннего рождения, рождения нового человека, которого в нем не было до этого опыта, человека, создающего эту вещь – или создаваемого ею. Зритель, если соучастие его адекватно, переживает в нем собственное рождение, рождение других возможностей, других «глаз».
Первый известный опыт анализа искусства, который, как это обычно бывает с людьми большой мысли, уже заключал в себе, в сущности, все то, что впоследствии развивалось, аргументировалось, переводилось на другой выразительный язык, Л.С. Выготский предпринял очень рано: это было его гимназическое сочинение о Гамлете, о его знаменитой «бесхарактерности», о «нереалистичности» его характера. Предмет и вызвал, вероятно, эту общую догадку Выготского, переворачивающую евклидову психологию (вообще-то говоря, антропологию). Гамлет – «вещий герой» старой саги – сохранил свои «другие» свойства и в драме Шекспира. У Гамлета нет характера, потому что он поговорил с Призраком. Призрак Отца открыл ему не только прошлое, но нечто посерьезнее. Узнав реальность невидимого и призрачность видимого, Гамлет вышел за границы опыта, который можно разделить с другими. С тем, что получилось у него на месте характера после такого свидания, делать в обыденном мире, в мире характеров уже нечего. Вот, собственно, и все. Можно сказать, что Шекспир (а в его лице искусство) и стал автором психологической теории, антропологии Выготского.
В истории вражды других героев пьесы с Гамлетом (и в недоумении «реалистической» критики по поводу его поведения) и можно, вероятно, обнаружить ключ к вечной вражде того, что обыкновенно называется «жизнью», с тем, что называется «искусством». Это вражда завершенного, бывшего, неоспоримо и всеми видимого, очевидного – с возможным, рождающимся и невидимым. Творчество невидимо как будущее. Творчество понимается у Выготского не как один из видов специализированной деятельности человека (изготовление эстетических вещей) – но как общая антропологическая альтернатива человеку, обреченному на собственную наличную данность, на «возможное для него». На внутреннюю жизнь, сведенную к рефлексам и реакциям на разнообразные агрессии внешней среды и ранние травмы. На рост личности, который кончается, по существу, в раннем детстве. Тема искусства и тема Выготского – человек возможный. С определенной позиции это значит – человек невозможный.
Культурно-историческая психология как школа [125]
В своем по необходимости кратком выступлении я хочу сказать о некоторых принципиальных проблемах метода исторического исследования и, прежде всего, о предельных целях и ценностях исторической работы применительно к психологии и, ближайшим образом, к культурно-исторической теории Выготского.
Начну с той проблемы «объективности» исторического исследования, о которой так много говорили сегодня. Конечно, можно, в соответствии с привычным для нас выражением, пытаться и здесь выделять некий «сухой остаток», то есть, по сути, реализовывать столь привлекательный для обыденного сознания и подкупающий своей простотой и понятностью позитивистский подход. Но не оказывается ли такой «сухой остаток» только жалким мертвым прахом и не превращается ли при этом историк в «мертвеца, хоронящего мертвецов»? Такая ли история нужна жизни и может быть ответственной перед жизнью? Такая ли история – в нашем случае история психологии – нужна психологу в его попытке самоопределения в современной ситуации и в поиске путей к отвечающей этой ситуации Новой психологии? Нет, в случае исторического исследования предельной ценностью должна быть не объективность в обычном – по сути, в естественнонаучном – смысле слова, предлагающая получение знания о неких (мифических, конечно!) независимо от этих знаний и процедур их получения законосообразно существующих объектах, – такой предельной ценностью должна стать причастность исторической работы и самого историка Делу достижения действительной жизни и – в этом смысле – достижения реальности.
Выготский сегодня интересен для нас, поскольку, размышляя над тем, что он делал – именно делал – по своим предельным интенциям, а не писал или даже «изучал», мы можем пытаться – в своей уже, нынешней ситуации – искать свой путь, ибо «следовать» и тут значит: искать не следы учителя, но – то, что он искал – путь к Новой психологии, психологии действительной жизни и действительного человека. Именно тогда наши устремления совпадут с устремлениями самого Выготского: «История психологии, – записал он однажды, – есть, по существу, история борьбы за психологию в психологии». Все, что нужно – это вдуматься, продумать до конца эти удивительные слова. Конечно же, история борьбы за психологию в психологии – это, прежде всего, история борьбы за психологию человека в психологии. А далее вопрос: какого человека? Отвечая словами любимого героя Выготского: «человека в полном смысле слова»! То есть – «полного», «всего» человека, во всей полноте его существа и жизни, включая и духовные измерения. В рамках этого выступления я не имею возможности говорить более развернуто ни о таком понимании человека, ни о проистекающих из него требованиях, которым должна отвечать психология, ни, тем более, об основных ее особенностях и чертах. Что-то об этом можно найти в моем прошлогоднем выступлении на круглом столе в «Вопросах философии» [126] . Хочу сказать только, что Выготский не только указывает «путь» к этой Новой психологии действительного человека, но есть своего рода «пятая колонна» этой Новой психологии в психологии современной. Прежде всего, его ранние работы, такие как «Психология искусства» и, особенно, быть может, «Гамлет», представляют – пусть и эскизные – образцы и версии такой психологии. И я бы решился утверждать, что эти, наиболее важные для психологии сегодня работы Выготского по-настоящему еще не прочитаны. Будучи вынужден на этом и закончить выступление, я хотел бы сказать несколько слов по поводу понятия «школы». Я решительно не согласен с тем, что школа определяется «научной программой». Во всяком случае, то, что следовало бы связать с именем Выготского, можно рассматривать как «школу» в гораздо более глубоком и серьезном смысле, в том смысле, в котором это слово берется иногда по отношению к большим духовным движениям. Конечно, же «платонизм», к примеру, продолжал существовать и искусственно культивироваться еще многие столетия после того, как исчез живой духовный импульс, давший ему начало. Но если при этом и была еще «школа», то только в средневековом смысле «схоластики». И, в связи с этим, критический для историка по отношению ко всякому значительному движению вопрос состоит, прежде всего, в том, что представлял собой тот исходный духовный импульс, который дал движению «начало», а также и, быть может, прежде всего: существует ли и присутствует ли еще этот импульс сегодня? «Существует и присутствует», конечно, не как «вещь», но в том смысле, что он и для нас сегодня может быть – всегда заново – возобновлен и выведен – в этом-то как раз и должен участвовать сам историк! – в сегодняшний день, в нашу ситуацию. Может ли он лечь «во главу угла» и нашего собственного дела. Если, конечно, таковое есть у нас. Благодарю за внимание.
Интериоризация, экстериоризация и метод культурно-исторической психологии [127]
Мой учитель Георгий Петрович Щедровицкий говорил мне: «Андрей, в Вашем выступлении не должно быть больше одной мысли». Но я с тех пор так и не научился следовать этому золотому правилу. Вот и сегодня, я думаю – учитывая формат этого выступления, – будет все-таки полторы или две мысли.
Мы собрались накануне дня рождения Выготского, и уже поэтому уместно повернуть разговор в сторону Выготского. Но дело, конечно, не только в этом, но в том, что проблему интериоризации и по существу следует продумывать «от Выготского». Поскольку я опоздал и не слышал выступления Ислама Имрановича, я могу только догадываться о том, что он говорил, но я точно знаю, о чем он не говорил, и попробую сказать об этом.
Случайно – поверьте – у меня под рукой (после сегодняшних занятий со студентами) оказалась страничка из Выготского. И я подумал, что она чрезвычайно удобна, чтобы сценировать мое краткое выступление. Это знаменитое место из «Исторического смысла психологического кризиса», где Выготский обсуждает проблему метода научной психологии. Он говорит здесь о том – как вы, должно быть, помните, – что психология должна искать этот свой метод на пути косвенного метода. Отталкиваясь от современных ему работ по методологии науки и, ближайшим образом, опираясь на одну из ранних работ Бинсвангера, он пытается сформулировать свою идею в такой запоминающейся форме. Все «быть или не быть», говорит он, научной психологии определяется тем, сможет она или нет найти свой «градусник». Этот странный на первый взгляд тезис в контексте рассуждения Выготского становится очень понятным. Выготский обращает наше внимание на то, что все науки, которые достигли к тому времени строгости собственно научного метода, складывались на пути косвенного метода. Отсюда и появляется «градусник»: между исследователем и тем, что он исследует, всегда вставляется некий особый предмет – инструмент или средство, – который и позволяет выполнять исследование. Причем инструмент этот не продолжает прямо наличную у исследователя способность наблюдения – градусник не продолжает прямо мою способность чувствовать тепло и различие температуры, но он замещает эту способность и позволяет выполнять соответствующие измерения на другом – «обходном» – пути. Вот в этом контексте Выготский и формулирует задачу для психологии.
И вы уже догадываетесь, даже если вы не читали этого места у Выготского, что таким «градусником» для психологии, по Выготскому, и оказывается знак.
Но из этого для психологии проистекают очень неожиданные последствия. Последствия, которые ведут к радикальному различию между ситуацией исследования, в которой оказывается психолог, и той, что имеет место в естественных науках.
И вот здесь уместно прочесть буквально один абзац из этой работы Выготского (страница 406 из первого тома собрания его сочинений). Разъясняя свою идею косвенного метода в психологии, Выготский называет его в этом месте «объективно-аналитическим».
Он пишет: «Сходство объективно-аналитического метода с экспериментальным сводится к тому, что и в нем (то есть в эксперименте. – А.П. ) мы имеем искусственную комбинацию явлений, в которой действие определенного закона должно проявиться в наиболее чистом виде. Это есть как бы “ловушка для природы”, анализ в действии». Обратите внимание на эти замечательные слова: «ловушка для природы» и «анализ в действии». «Такую же искусственную комбинацию явлений, – продолжает Выготский, – только путем мысленной абстракции, мы создаем в анализе. Особенно это ясно в применении также к искусственным построениям. Будучи направленными не на научные, а на практические цели, они рассчитаны на действие определенного психологического или физического закона». И дальше идет это знаменитое перечисление, которое я уже приводил в своей книжке: «Таковы, – пишет Выготский, – машина, анекдот, лирика, воинская команда». Под «машиной» Выготский имеет здесь в виду машину в буквальном смысле слова – паровой котел, ближайшим образом. Понятно, почему в случае Выготского появляется именно этот тип машин – он же был туберкулезником, – тогда как в случае Эйзенштейна на этом месте всегда стоял ткацкий станок, поскольку ведь что такое «текст»? – «текст» – это «ткань». Парадоксальным образом у Выготского тут в одном ряду с паровым котлом стоят … «анекдот, лирика, воинская команда»!
«Здесь (то есть в случае «техники» в самом широком смысле этого слова. – А.П. ), – пишет дальше Выготский, – перед нами “практический эксперимент”. Анализ таких случаев – эксперимент готовых явлений. По смыслу он близок к патологии – к этому “эксперименту”, оборудованному самой природой, к ее “собственному анализу”. Разница только в том, что болезнь дает выпадение нужных черт, а здесь, наоборот, наличие именно нужных. Каждое лирическое стихотворение есть такой “эксперимент”. Задача анализа – вскрыть лежащий в основе эксперимента закон».
Чтобы прояснить эту мысль Выготского до конца – она мне представляется исключительно, критически важной, – я возьму такую воображаемую ситуацию. Представьте себе, что прямо сейчас к нам сюда опускается какая-нибудь летающая тарелка, с нее высаживаются пришельцы и захватывают какие-нибудь образцы нашего мира в свои капканы. Например, этот вот мой – упаси господь, конечно! – диктофон. А потом где-то там, на своей далекой звезде они пытаются – исходя из этих образцов, из тех «проб» нашего мира, которые они взяли, – пытаются реконструировать наш мир и понять, что же он из себя представляет.
Понятное дело, что для начала – чтобы вообще все это было возможно – они должны понять назначение этой штуки и ее принцип действия, то есть понять ее как некий технический аппарат. Исходя из этого понимания, они могут развернуть план нашей деятельности и шире – нашего жизненного мира, коль скоро этот аппарат занимает там какое-то место, выполняет какую-то роль.
Вы смотрели, наверное, эти потрясающие фильмы про каких-нибудь динозавров, где не только они сами с ошеломляющей убедительностью анимированы, но и весь мир, в котором они жили, тоже восстановлен. Исходя из чего? Ведь все, что от них осталось – это только кости, да и то, чаще всего, не все. А вот, оказывается, можно выполнить такую невероятно полную реконструкцию.
И первый шаг анализа, по Выготскому, всегда должен состоять именно в этом – в развертывании мира деятельности, общения, взаимодействия – собственно человеческого мира. Но если вы внимательно следили за мыслью Выготского в прочитанном мною фрагменте, то могли заметить, что он говорит тут о чем-то большем. Он говорит, что эти самые пришельцы, исходя из анализа собственно технического устройства – которое само уже есть «анализ в действии», – могут развернуть не только мир нашей деятельности, но и физику нашего мира! Ведь для того – резонно сказал бы Выготский, – чтобы этот прибор вообще работал, работал безотказно, как и работает японская техника, он должен целиком и полностью соответствовать и реализовывать в своем устройстве и принципе действия все основные физические законы нашего мира. Отправляясь от техники, стало быть, мы можем – в принципе – реконструировать не только наш собственно человеческий мир, но и физику этого мира! Поэтому-то Выготский и говорит, что каждый такой аппарат – сам по себе – есть уже «анализ в действии», есть «ловушка для природы» в буквальном смысле слова.
А дальше он пытается опрокинуть все это на психологию. Он хочет сказать, что равно так, как есть «ловушки для физики» – особые технические инструменты и средства: машины, механизмы и т. д., – точно так же есть и «ловушки для психики». Это также «механизмы», «машины», «аппараты», только они – другие и они соотносимы не с преобразованием мира физического, а с преобразованием мира психического – в широком смысле слова. Так он тут и пишет: «Таков, например, мнемотехнический прием». Мы завязываем узелок на память, и платок с завязанным на нем узелком становится особого рода «инструментом» и «средством» – если не «машиной», то «механизмом», – через анализ функциональной структуры которого можно развернуть не только мир деятельности и человеческий мир в широком смысле слова, но и попытаться также реконструировать устройство и законы психики человека, которой и соответствует – в своем назначении, устройстве и принципе действия – этот узелок на память. Для того чтобы он сработал в психике в своей инструментальной функции, он должен соответствовать основным законам функционирования этой самой психики. И если он сработал-таки, то, исходя из анализа функциональной структуры этого инструмента и средства, мы можем выполнить реконструкцию самой психики.
Вот, как мне кажется, в чем состоит та совершенно гениальная и до сих пор свежая, неистраченная идея Выготского, которая лежит в истоках культурно-исторической психологии. Ведь, как мы знаем, «Кризис…» был написан до формулировки в явном виде идей культурно-исторической психологии. Но, как это ни парадоксально, эти идеи там уже присутствуют и, по сути дела, они сформулированы тут, пусть и в неявном виде, даже более радикально и сильно.
Что из всего сказанного проистекает в отношении метода психологии? Здесь я включаюсь в дискуссию, которая происходила.
Ситуация, в которой оказывается исследователь, реализующий «объективно-аналитический» метод, обнаруживает признаки неклассичности. Неклассичность эта состоит, прежде всего, в том, что исследователь не может «вытравить», исключить из ситуации исследования своего там присутствия. И можно было бы сказать даже более решительно: он не может исключить своего присутствия в том, что он изучает, в самом, как говорят, «изучаемом объекте», причем – существенного присутствия, присутствия, не просто изменяющего состояние или траекторию движения изучаемого объекта, а изменяющего законы, по которым он живет.
Заметим, что «задним числом» подобного рода неклассичность обнаруживается не только здесь, но и во многих других ситуациях исследования в психологии, причем – в самых, казалось бы, «классических», собственно экспериментальных, начиная с самого рождения психологии как науки. Если бы было время, можно было бы показать «на пальцах», что она возникает даже у Вундта, поскольку «факты», которые получает исследователь в интроспективном эксперименте, определяются не только внешней – психофизической – ситуацией, но также и той особой формой самонаблюдения – «интроспекции» в узком смысле, – которая всегда специально ставится у каждого испытуемого и которая только и может быть признана методом интроспективной психологии. Испытуемый ведь не должен делать «ошибки стимула» и должен достигать той «действительной» психической реальности – «непосредственного опыта сознания», – которая собственно и изучается в интроспективном эксперименте. Человек «с улицы» не может выполнять требуемой тут формы самонаблюдения и, стало быть, не может давать полноценного интроспективного отчета.
В еще большей степени эту неклассичность можно было бы показать на таких классических психологических экспериментах – так называемых, стало быть, экспериментах, – которые мы можем найти в гештальтпсихологии, например, у Дункера или у Левина. Парадокс, опять же, состоит в том, что Левин – исследователь, который, быть может, как никто другой, глубоко продумал и пытался утвердить в психологии естественнонаучную парадигму исследования, – в своих собственных исследованиях порождал эти вот неклассические ситуации, но не видел и не хотел видеть этого. Ведь, например, тот же «гнев» в эксперименте Дембо конечно же не может возникнуть из-за того, что нельзя дотянуться до какого-то там цветочка, который стоит на столе, не выходя за границы квадрата на полу. Никакой фрустрации сама по себе эта исходная ситуация не создает и создать не может. Фрустрацию создает экспериментатор, реализуя очень тонко рассчитанную многоэтапную стратегию психотехнического взаимодействия со своим испытуемым. Это он «заводит» испытуемого в ситуацию фрустрации, загоняя его в конце концов «в угол». И это присутствие экспериментатора – присутствие его, по сути, как психотехника – нельзя исключить из ситуации, поскольку оно оказывается решающе важным. Но, быть может, еще более важным обстоятельством является здесь то, что сам экспериментатор, не менее «творчески» присутствующий в эксперименте, не «прозрачен» для самого себя и, стало быть, «учет» его присутствия – даже если мы и принимаем его значимость – не может быть выполнен без развертывания такого же полноценного исследования, что требует введения следующей позиции исследователя, в отношении которого следовало бы признать то же самое и так далее. То есть последовательное проведение естественнонаучной методологии по отношению к этим неклассическим ситуациям с неизбежностью ведет к «кошмару бесконечного регрессивного спуска».
Но если с точки зрения естественнонаучной методологии все эти обстоятельства являются пусть и неизбежными, но досадными неудобными моментами психологического исследования, которые исследователь пытается если не устранить, то по крайней мере редуцировать, то у Выготского как раз они, можно было бы сказать, ставятся во главу угла. Момент артификации для естествоиспытателя – это самый большой скандал, который может встретиться в его работе. У Выготского же и в случае метода культурно-исторической психологии эта артификация оказывается как раз тем, что только и позволяет реализовать по отношению к ее собственному и, по сути, единственному «объекту изучения» – процессу генезиса и развития так называемых «высших психических функций» – научный метод исследования.
И здесь я подхватываю высказанное в дискуссии чрезвычайно важное замечание о внутреннем соотношении интериоризации и экстериоризации. Что позволяет Выготскому реализовать научный – в его понимании – метод исследования в ситуациях, которые оказываются изначально и неустранимо неклассическими? Это позволят ему сделать особое представление о «природе» самой психологической реальности, представление о том, что исходными и основными формами собственно человеческой психики являются «интерпсихические», или, быть может, лучше сказать «интерсубъектные» – разделенные и распределенные – по крайней мере, между двумя людьми, – формы психической деятельности. Я хочу обратить на это внимание. Выготский здесь решительно расходится со всей последующей традицией понимания интериоризации в нашей психологии. Едва ли нужно напоминать знаменитую формулу Выготского, что всякая психическая функция появляется на сцене дважды: сначала она выступает как разделенная и распределенная между двумя людьми и только потом, в результате процесса интериоризации, или «вращивания», она становится достоянием отдельного индивида. Здесь ничего не говорится о переходе «извне внутрь» в обычном смысле слова. Понимание соотношения внешнего и внутреннего, которое реализуется в формуле Выготского, решительно противостоит тому, которое было в интроспективной психологии или в ортодоксальном бихевиоризме, то есть тому, что в методологическом отношении соответствует сенсуальному позитивизму в духе Маха. Для Выготского интериоризация – это переход от распределенных между людьми форм совместной деятельности к таким, по отношению к которым субъектом может стать отдельный человек. Для Выготского это вопрос «субъективации», или «высвоения» деятельности. Так, например, в случае детской ролевой игры, даже когда ребенок реализует правило поначалу не по отношению к себе, еще не умея подчинить этому правилу свое собственное поведение, а обращая его к другому – к другому ребенку или даже ко взрослому, – для Выготского это уже есть интериоризованная форма и – что принципиально важно – уже именно высшей психической функции. Психика для него начинается не там, где возникает «умственный» план, как для П.Я. Гальперина, – разделенная и распределенная между двумя людьми функция есть уже высшая психическая функция, причем, повторю – в своей исходной, но также и основной форме.
Почему это важно? В случае культурно-исторической теории онтологический и методологический планы оказываются невероятно крепко сбитыми. Выготский и не мог найти никакого другого решения вопроса о научном методе, если бы не опирался при этом на свое представление о природе того, что он изучает. А его психология в качестве исключительного предмета своего исследования и имеет генезис и развитие высших психических функций. А этот процесс – в своей исходной и основной форме – есть процесс всегда интерпсихический, или интерсубъектный. И именно это – то есть особая форма экстериоризации психики – и позволяет исследователю изначально включать самого себя – и именно в качестве психотехника – в ситуацию исследования, не нарушая при этом (по своему понимаемых) принципов научного метода. Но тем самым по сути дела Выготский тут решительно преодолевает естественнонаучную парадигму исследования и разворачивает психологию в сторону новой – «психотехнической» – парадигмы исследования.
«Натуральное» в культурно-исторической психологии [128]
Начну с одного «анекдота» – не в нашем смысле, а в том, какой это слово имеет у французов – с одной курьезной истории, которая однажды со мной приключилась. Когда я еще был на четвертом курсе, то с подачи одного приятеля мне заказали несколько статей для Большой советской энциклопедии. А кроме того подсунули небольшой, на страничку текст, уже написанный, об этой самой интериоризации, – просмотреть его и подправить. И потом, когда я в следующий раз пришел в редакцию, то редактор – Ю.Н. Попов – спросил меня: «Ну и что Вы думаете по поводу того текста?» «В принципе, – ответил я, – статья неплохая, но она имеет чисто историко-психологический характер, не отражает современного состояния проблемы, современных дискуссий…». На что редактор мне сказал: «Ну тогда напишите, как Вы сами это понимаете». И я написал свою статью. Но когда я свой вариант принес и его приняли, я все-таки спросил: «А та-то статья чья была?» – «Да какой-то там Гальперин ее написал». – «Но это же скандал! – воскликнул я. – Это же ведь и есть крупнейший специалист в этой области!» Я-то прекрасно это понимал, и в своей заметке я как раз гальперинскую точку зрения и попытался представить, поскольку как раз ее-то – как это ни парадоксально – и не было в статье самого Петра Яковлевича. Правда, Михаил Григорьевич Ярошевский, который тогда уже, наверное, предчувствовал недоброе в отношении меня, он так мой текст отредактировал, что в нем осталось еще меньше, чем было в первоначальной гальперинской статье.
К чему я этот анекдот привожу? К тому, что в том тексте Петр Яковлевич, как и в этой статье, ограничился при обсуждении самого понятия интериоризации только тем, что предшествовало ему: французская социологическая школа, Выготский и т. д. И это не из скромности и не потому, что он был просто осторожный человек. А потому, что его понятие интериоризации – и, я думаю, Гальперин это прекрасно понимал – было ортогонально тому, что можно было найти у Выготского. Об этом я пытался сказать в прошлый раз, но, по-видимому, это не прозвучало должным образом.
Для Выготского «интерпсихические» функции – это есть уже собственно психические функции. А для Петра Яковлевича это – только начальная точка процесса формирования «умственных действий» и это еще не есть психическое. Он всегда настаивал на том, что собственно психическое возникает только в конце процесса интериоризации, когда к тому же исходное предметное действие изменяется по всем четырем классическим параметрам.
Теперь я попытаюсь сформулировать основную свою мысль.
Я начну с ответа на реплику Анатолия Николаевича (Кричевца) и – в противовес ему – скажу, что как раз для практика – психолога и психотехника – предельно ясное понимание принципиального различия двух стратегий, или парадигм исследования – классической естественнонаучной (назовем ее вслед за Левином «галилеевской»), то есть собственно экспериментальной стратегией, и той, которую условно можно было бы назвать «исследованием через практическое – психотехническое – действие» – именно для практического психолога понимание различия этих стратегий имеет исключительное, критическое значение.
Своеобразным эпиграфом к тому, что я хочу сказать, я поставил бы слова, которые слышал однажды от Георгия Петровича Щедровицкого. Это были, конечно, шутливые слова, в которых он в такой шутливой форме пытался определить в дискуссии суть деятельностного подхода. «Когда, – сказал он, – встречаются мужчина и женщина и если у них что не так, то всегда мужчина виноват! Это и есть основной принцип деятельностного подхода».
Если вы последовательно придерживаетесь той стратегии действий, которая была определена культурно-историческим подходом… – только я хочу быть здесь понятым правильно: то, что я сейчас скажу, я говорю лишь в контексте сегодняшней дискуссии, это не то, на чем я сам стою и что я пытался бы отстаивать как свое место, – мне вообще кажется, что нужно искать не выбор между двумя этими альтернативами и не эклектическое их соединение, а некое «третье место», но об этом сегодня я говорить не буду, – так вот, если держаться контекста сегодняшней дискуссии, то следовало бы со всей решительностью сказать, что если исследование формирующего типа, то есть исследование через формирование, или исследование через практическое психотехническое действие развертывается успешно, то никакого места апелляции к «природе», к «физике», к «натуральному» не возникает и возникнуть не может. «Натурального» в таком случае как бы и не существует. «Природа» начинает «торчать» лишь тогда, когда в последовательной реализации этой стратегии, то есть в психотехнической работе, возникают сбои и разрывы.
А вот эти разрывные ситуации в работе практика, но одновременно, быть может, также и исследователя через эту практику формирования, могут интерпретироваться по-разному.
Они могут интерпретироваться деятельностно, то есть браться в отнесении к той самой психотехнике, посредством которой мы развертываем процесс формирования, и здесь – перефразируя Георгия Петровича – следовало бы сказать: ну что ж – значит, плохо формируем! Значит, нужно пересмотреть ту психотехническую стратегию, с помощью которой мы что-то пытались делать. Надо ее улучшить, и тогда опять эти сбои исчезнут. И тогда мы опять будем добиваться положительных результатов без того, чтобы что-то «торчало».
А можно развернуться на сто восемьдесят градусов и сказать, что вот здесь-то и начинает «торчать» природа, как то, что мы уже не можем ассимилировать в рамках формирующей стратегии. Если нам не удается ассимилировать разрыв в рамках формирующей стратегии, то мы получаем контрпример не только по отношению к нашему конкретному психотехническому действию, но и против самой стратегии. Но всегда при этом: вы не смогли, а я смогу. И главное здесь даже не то, что природа здесь то торчит, а то ей места не оказывается, а то, что даже если природа и начинает «торчать», то она начинает «торчать» через эту нашу психотехническую работу и, стало быть, – так, как это «торчание» определяет сама психотехническая работа. И если мы иначе начинаем действовать, то она и иначе начинает «торчать». И даже если мы затем начинаем развертывать нормальную научную, то есть естественнонаучную стратегию, отправляясь от этого разрыва, то мы будем развертывать свое исследование очень по-разному в зависимости от того, от какого разрыва и внутри какой психотехнической работы мы начинаем идти. Человек «рассекается» на «культурно-историческое» и «природное» в нем относительно психотехнической работы с ним. Даже если физика и возникает в рамках формирующей стратегии, она возникает всегда «на втором шаге» и относительно формирования.
Опыт самопознания Михаила Зощенко: психология искусства как зона ближайшего развития практической психологии личности [129]
После ряда архивных публикаций последнего времени творческая судьба и личность Михаила Михайловича Зощенко привлекают исключительное внимание самого широкого круга читателей.
Стали известны подробности трагического перелома в жизни писателя после постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года «О журналах <Звезда> и <Ленинград>» и одноименного доклада А.А. Жданова, в которых наряду с рассказом «Приключения обезьяны» уничтожающей критике подвергалась также и повесть «Перед восходом солнца». Печатание ее было прервано, в результате чего впервые в полном виде повесть была опубликована лишь в 1987 году в третьем томе собрания сочинений М.М. Зощенко, вышедшего в издательстве «Художественная литература» и сразу же ставшего библиографической редкостью.
Таковы, можно сказать, внешние обстоятельства, в силу которых существует большой и неудовлетворенный читательский интерес к повести М.М. Зощенко «Перед восходом солнца».
Есть, однако, и внутренние основания для обращения к серьезному анализу этого произведения, причем – анализу не только литературоведческому, но и собственно психологическому.
Повесть М.М. Зощенко «Перед восходом солнца» занимает совершенно особое положение не только в творчестве писателя (сам М.М. Зощенко, как известно, склонен был считать ее самой значительной и удачной своей вещью), но и в истории всей отечественной, а быть может, и мировой литературы двадцатого века.
В силу новаторских особенностей этого произведения для адекватного его понимания литературоведом и рядовым читателем необходим серьезный и профессиональный анализ с точки зрения современной психологии.
В случае повести Зощенко «Перед восходом солнца» мы имеем дело не только с выдающимся литературным произведением, где, по слову самого писателя, ему впервые удалось «заговорить своим голосом», но также и с потрясающим психологическим и нравственным документом, в котором со всей силой мастерства большого художника слова, с редким человеческим мужеством и почти профессиональной психологической последовательностью представлен уникальный опыт самопознания человека, – человека, незаурядного как личность и щедро творчески одаренного, человека сложного и благородного, человека, силой поначалу недоступных его пониманию причин поставленного на грань духовной и даже физической катастрофы, но все же нашедшего в себе силы предпринять попытку своего физического и духовного спасения, попытку – почти в буквальном смысле – ре-анимации, прежде всего – душевной и духовной, в, казалось бы, безнадежной ситуации своей «клинической смерти» как человека.
Зощенко победил и выстоял в качестве Человека, человека с большой буквы, и потому его опыт самопознания, который запечатлен в повести «Перед восходом солнца», значим для каждого человека, но особенно – для того, кто сам находится в кризисной ситуации и ищет выход. Он важен также для человека, только вступающего в жизнь. Вот почему повесть Зощенко, быть может, прежде всего адресована молодым читателям и их воспитателям – учителям и родителям. В этом, так сказать, непосредственно-практическая – психогигиеническая и психопрофилактическая – ее ценность.
Чтение повести – счастье встречи с человеческой добротой и мудростью, но также и – испытание для читателя, который, найдя в себе ответную добрую волю и мужество, будет вознагражден волнующим опытом углубления своего самопознания. Опытом, быть может, не всегда простым и безболезненным. Чтение повести требует от читателя деликатности по отношению к открытой душе писателя, чтобы быть достойным того доверия к читателю, с которым она написана, и той боли, которой сам Зощенко оплатил свой «Опыт о человеке». Проводником в том внутреннем странствии, которым может стать чтение повести, и должен быть этот психологический комментарий.
Вместе с тем он будет и попыткой ввести работу Зощенко в «оборот» современной психологии, прежде всего – психологии личности, которая именно в наши дни переживает драматический поворот от академических исследований к конкретной и практической психологии, психологии, состоятельной перед лицом реальных, жизненно значимых проблем человека, во всей их сложности и многомерности.
Многолетний опыт использования повести в рамках семинарских занятий со студентами психологического факультета МГУ показывает важность ее разбора и в плане профессиональной подготовки будущих практических психологов и психотерапевтов.
* * *
Задача этих заметок, своеобразного психологического комментария к повести, не в том, чтобы «объяснить» ее, сделать чтение более простым и легким, освободив читателя от необходимости самому вдумываться в прочитанное.
Напротив, комментарий по возможности будет оставаться «при» самой повести, рядом с ней, лишь содействуя углублению ее понимания, выявляя ее возможности как непосредственно для «расширения сознания» читателя, продвижения через ее чтение в собственном самопонимании и понимании других людей, так и – что представляется нам важным в современной социокультурной ситуации – для формирования более адекватного представления о современной психологии.
В этом отношении чрезвычайно важен урок, который можно извлечь из работы Зощенко – как своеобразного опыта подобной конкретной и жизненной психологии человека – не только в отношении традиционной академической научной психологии, несмотря на всю свою строгость и основательность далекой от жизни, но также – на примере психоанализа – и в отношении тех, по-своему очень эффективных направлений практической психологии, которые, тем не менее, не выдерживают критики в своей претензии на «всего» человека.
Это особенно важно в ситуации, когда для самого широкого круга читателей открывается прямой доступ к различным направлениям современной практической психологии и психотерапии, в каждом из которых некритически можно видеть уже готовую и во всех отношениях удовлетворительную конкретную психологию, не затрудняя себя размышлениями о том, какого рода представления о человеке за этой психологией стоят и, стало быть, какой культурно-исторический тип человека, его психической организации она пытается утверждать как нормальный, желательный или даже единственно возможный.
* * *
Первый вопрос, который встает перед читателем повести Зощенко, даже если он не профессиональный психолог, а просто вдумчивый и серьезный читатель, пытающийся отдавать себе отчет в прочитанном, – это вопрос о том, с чем мы имеем дело в «случае Зощенко».
Сразу же отпадает версия, которую в объяснение своей истории навязывает читателю сам Зощенко, снова и снова в резюме, заключающих отдельные части книги, пытающийся представить ее в терминах «строго научной» физиологии «высшей нервной деятельности» Павлова. Не может не броситься в глаза явная нарочитость объяснений, их монотонный заклинательный характер, их абстрактность и примитивность.
Конечно же, эти «объяснения» не могут служить даже в качестве вводимого задним числом теоретического осмысления проделанной автором и представляемой в тексте работы.
Даже если допустить состоятельность этих физиологических представлений внутри их собственной области, то есть по отношению к искусственным лабораторным ситуациям в анализе поведения животных в знаменитых павловских экспериментах, в данном случае они оказываются уже своеобразной «физиологической мифологией», дающей лишь видимость объяснения, объяснения, далекого от научности и к тому же чрезвычайно абстрактного, редуцирующего всю многомерность и сложность выступающих в работе Зощенко феноменов к примитивным, оглупляющим даже животных схемам. Только очень наивный читатель, в равной мере совершенно не искушенный ни в современной психологии человека, ни в самой павловской теории, только читатель, склонный искать «простые объяснения», не выходящие за его наличное разумение и не требующие никаких усилий для понимания книги, только читатель, ищущий той простоты, которая, по пословице, хуже воровства, пожалуй, и мог бы удовлетворяться подобными «объяснениями», закрывающими вопросы, делающими дальнейшее их обсуждение излишним.
Но в еще меньшей степени, чем на объяснение уже проделанной Зощенко работы, эти представления могут претендовать на роль ариадниной нити, которая действительно могла вести автора сквозь лабиринты его сознания и бессознательного. Иначе говоря, в еще меньшей мере, чем объяснение результатов проделанной Зощенко работы, павловская теория способна дать объяснение самой работе, ее ходу, ее логике, тем паче – выступать реальным инструментом ее выполнения.
Верил ли сам Зощенко в силу подобных объяснений? Однако вне зависимости от этого несомненно, что действительной путеводной нитью и эвристикой, которая стоит за всем ходом его истории и реально определяет каждый отдельный ее эпизод, является психоаналитический метод. Причем как в анализе своего собственного случая, так и во многочисленных попытках понять загадочные судьбы других людей – известных и безызвестных «собратьев по несчастью» – Зощенко не только обнаруживает высокий «профессионализм» и редкую даже для специалиста-психоаналитика проницательность и трезвость мысли, но, больше того, своим анализом он поднимает ряд проблем, неизвестных ортодоксальному психоанализу фрейдовского типа, проблем, до осознания которых психология доходит только в самое последнее время. В этом особая ценность и поучительность зощенковской работы – не только для рядового читателя, но и для современной психологии личности и психотерапии.
Нас не должно смущать почти полное отсутствие каких бы то ни было явно формулируемых психоаналитических понятий и представлений. Не они как таковые определяют лицо психоаналитической работы. В конце концов, и в профессиональном психоанализе теоретические представления могут не выступать в явном виде в коммуникации между терапевтом и пациентом, образуя только неявный фон психоаналитической работы. Психоаналитик, как правило, избегает того, чтобы представлять пациенту ход анализа даже в таких, ставших уже расхожими (и потому – только менее приемлемых для живой и содержательной коммуникации) терминах, как «комплекс Эдипа», «регрессия», «защита», «сопротивление» и т. п. По большей части он помогает пациенту восстановить и проследить вполне конкретные (в терминах его индивидуального и потому уникального опыта) смысловые связи и отношения. Хороший психоаналитик сознательно избегает общих, «пустых» в коммуникации ярлыков и абстрактных терминов, и тем не менее – и именно благодаря этому – он осуществляет именно психоанализ и психоаналитическую интерпретацию.
Зощенко и здесь обнаруживает завидное мастерство, заставляя «заговорить» почти «сырой» биографический материал. На первый взгляд его текст – только коллаж из фактов внутреннего и внешнего опыта, но даже если и так, то – коллаж отнюдь не случайный, а строжайшим и точнейшим, единственно возможным образом «выстроенный». Коллаж, самой своей структурой себя интерпретирующий и, тем самым, создающий некий язык и, соответственно, метатекст, который и позволяет (в обход каких бы то ни было прямых, явных, рефлексивных и теоретических, понятийных фиксаций) коммуницировать некие косвенные метасмыслы – то, что психоаналитическая теория прописала бы уже по ведомству «бессознательного».
У Зощенко, в отличие от традиционной психоаналитической работы, нет теоретического метаязыка, в терминах которого «переписывался» бы конкретный процесс анализа, замещая этот живой процесс. Создаваемая им композиция рассказа о том или другом случае (наррация – сказали бы сегодня) каждый раз такова, что она лишь делает прозрачным, выявляет для понимания некий, в каждом случае предельно конкретный психологический смысл симптома, образа сновидения, загадочного события биографии. Этот рассказ ближе по типу к тому, что Флоренский называл «символическим описанием» в противовес традиционно понимаемому естественнонаучному объяснению [130] .
Вместе с тем его можно было бы рассматривать и как реализацию того – опять же альтернативного «объясняющему» в духе естественнонаучного мышления – типа понимания, который обсуждал на примере разбора шекспировского «Гамлета» Л.С. Выготский [131] .
Зощенко и здесь, в плане конкретной работы, парадоксальным образом оказывается впереди психоаналитической мысли своего времени.
Впрочем, в этом, быть может, и нет ничего удивительного: всякий честно и последовательно выполненный опыт самопознания всегда больше любой, сколь угодно сложной и рафинированной теоретической схемы.
Это показывают и те немногие работы самого Фрейда, в которых он анализирует конкретные единичные случаи. Можно указать на его работу «Из истории одного детского невроза», быть может, лучшую его работу, отличающуюся редкой даже для основателя психоанализа тонкостью и многомерностью мысли. Чего стоит одно только обсуждение проблемы так называемых «вторичных фантазий», которое сразу же ставит фрейдовскую мысль, отделенную от нас многими десятилетиями (работа на языке оригинала вышла в 1917 году), в эпицентр наиболее интересных современных дискуссий вокруг психоанализа.
* * *
Психосоматика – это, еще недавно такое непривычное и непонятное, слово все чаще встречается не только на страницах специальных медицинских и психологических изданий, но и в литературе, рассчитанной на самый широкий круг читателей.
Чаще всего, правда, говоря о психосоматике, имеют в виду соматические расстройства, вызванные действием неблагоприятных психологических факторов, таких как единичные и кратковременные сильные душевные потрясения, психические травмы, шок, связанный с той или иной жизненной катастрофой, или же, напротив, действующее в течение длительного времени психическое напряжение, стресс и т. д. В этом случае психические факторы по своей роли и механизму действия встают как бы в один ряд с чисто физическими факторами. Так что говорят о психогенной «причине» того или иного соматического заболевания, но не о «смысле» (или даже «умысле») его. Между психическим фактором и тем или иным клиническим симптомом при этом предполагается чисто внешняя причинно-следственная связь, наподобие той, что существует между явлениями физическими. Значительно реже встречаются попытки посмотреть на соматический, клинический симптом с точки зрения его внутренней, собственно «психологической» конституции, попытаться в самом соматическом симптоме увидеть некое особое психологическое измерение, вскрыть смысл и своего рода психологическую «целесообразность», увидеть его – симптома – своеобразное «для того, чтобы» или «ради того, чтобы».
Для психолога болезнь – даже на первый взгляд чисто телесная болезнь – будь то экзема или хроническая пневмония, паралич ноги или расстройство желудка, гипертония или даже опухоль – выступает сплошь и рядом как особого рода психологическая постройка в душе человека – постройка с определенным смыслом, возникающая ввиду достижения некой цели, как попытка найти выход из иначе безвыходной ситуации, как последний шанс разрешить иначе неразрешимые проблемы, одним махом разрубить узлы, которые завязывались в жизни человека, быть может, долгие годы.
Иначе говоря, для психолога даже соматическая болезнь может иметь структуру акта поведения, преследующего определенную цель и использующего подчас сложнейшую систему организованных средств и способов ее достижения.
Но не есть ли такая парадоксальная картина только плод разгоряченного воображения, род профессиональной мании психолога, стремящегося повсюду видеть действие скрытых от сознания и сугубо психологических сил? К несчастью, эта столь невероятная на первый взгляд картина очень часто оказывается верной – именно она соответствует действительной реальности болезни. Целая вереница драматических историй, кончающихся иногда удачно, иногда же катастрофой и гибелью, проходит перед нашим взором и в повести Зощенко.
Остановимся, почти наугад, на какой-нибудь одной из них. Самой короткой, самой простой. И последуем за Зощенко в попытке понять ее скрытый смысл, разгадать загадку той беды, которая постигла человека. Вот «бедный Федя», герой одноименного рассказа, – студент-математик, который вместе с Зощенко оказался на Кавказе на производственной практике.
Совершенно неожиданно Федя заболел экземой. Болезнь началась на подбородке и перекинулась на щеки. И надо же было случиться такому несчастью! Только при его невезении, восклицает бедолага, могло стрястись такое: ведь болезнь началась буквально на следующий день после того, как любимая девушка призналась ему в ответном чувстве! Конечно же, теперь Федя не может показаться на глаза своей знакомой. Врачи пытаются лечить экзему мазями и кварцевым светом. Но болезнь не только не отступает, но усиливается. Она заходит настолько далеко, что возникает опасность общего отравления крови – сепсиса. Федя не может выходить из дому. Ему грозит настоящая гибель.
Спасает героя только то, что вскоре он должен вернуться в Петербург. Загадочным образом болезнь – так же неожиданно, как и началась, – стала стихать. Уже на второй день пути Феде стало лучше. Багровые пятна на щеках поблекли. К концу же пути его лицо было уже почти совсем чистым.
Молодой человек не расстается с зеркальцем. С радостью видит он, что болезнь оставляет его. С грустью говорит он о своем несчастье: на что ему теперь здоровье, если он из-за болезни потерял ту, что полюбил.
«Несчастный случай», «трагическое невезение», преследующий его «злой рок» – так осознает сам бедный Федя то, что произошло с ним на Кавказе.
Обратим внимание прежде всего на тот оттенок «пассивного претерпевания», «страдательного положения», в свете которого герой видит свою болезнь. Воистину это – несчастье, которое свалилось на его невезучую голову, злой рок, преследующий героя. Болезнь воспринимается, и, заметим, не только самим молодым человеком, но и окружающими, и даже врачами, как чисто физическая, соматическая болезнь. Соответственно такому пониманию врачи пытаются бороться с ней – мазями, кварцевым светом. И разве они не правы? Ведь экзема и в самом деле – чисто телесная, кожная болезнь. Ее причины можно искать в расстройстве гормональных и обменных процессов в организме, происходящем совершенно независимо от сознания и воли больного. Даже восточный йог едва ли мог бы по произволу вызвать у себя подобные физиологические сдвиги. Приходится признать, что в каких-то случаях каждый из нас способен сделать со своим телом нечто такое, что и не снилось восточным йогам! Конечно же, только «сделать» – непроизвольно, бессознательно, часто вопреки сознательным намерениям.
Точнее следовало бы говорить, что это не мы делаем, но – «что-то» (или «кто-то», какая-то сила или инстанция в нас) – помимо и в обход нашей воли, «анонимно», незримо и независимо от нашего сознательного Я вызывает глубокие и серьезные изменения – расстройства – в работе нашего организма.
Герой истории не лицедей, он совершенно искренно воспринимает свою болезнь как то, что «с ним происходит», по отношению к чему он абсолютно бессилен, что в своем возникновении и развитии никак не зависит от его сознания, от его Я.
Пусть в данном случае мы не можем идти в своем анализе сколько-нибудь далеко. Даже по сравнению с другими короткими историями, приводимыми Зощенко, материал данной истории очень неполон.
Мы ничего не знаем даже о ближайших основаниях конфликта. Мы можем только догадываться – по аналогии с историей самого Зощенко и другими случаями – о том, что могло лежать за страхом Феди перед женщинами и за его стремлением во что бы то ни стало избегать контакта и развития отношений с ними.
Но, быть может, эти основания оказались бы совсем иного рода. Они могли бы оказаться только выражением стремления – самого по себе парадоксального и требующего прояснения – избегать всякого контакта с другим человеком, вне зависимости от того, женщина это или мужчина. Парадоксальным особенно в случае людей, которые остро переживают свое одиночество и, казалось бы, ничего на свете не хотели бы так сильно, как появления в их жизни глубокой и подлинной, душевной и духовной, связи с другим человеком. Тем не менее именно эти люди как будто бы специально так сценируют свою жизнь, чтобы надежно исключить из нее всякую возможность возникновения такой связи, как если бы как раз в ней видели они самую большую и страшную угрозу. Подобного рода случаи нередко встречаются в терапевтической практике.
Какие бы основания ни стояли за конфликтом разбираемой истории, буде он раскрыт, их незнание не мешает обозреть общую картину и увидеть в ней некую универсальную ядерную схему.
На примере истории Феди мы видим, что имеет смысл задавать вопрос не только и не столько о соматических причинах той или иной, на первый взгляд чисто соматической болезни, соматического расстройства, клинического симптома, но также – и, быть может, прежде всего – об их смысле, об их «для чего?», о «преследуемых» болезнью «целях» и отыскиваемых ею путях и средствах их достижения.
Повторим: чисто соматический симптом в психологическом плане может иметь структуру полноценного акта поведения, нацеленного на разрешение некоторой трудной и даже, как правило, на самом деле – неразрешимой для человека конфликтной ситуации.
Более того, на примере этой истории мы видим и тот характерный способ, которым психосоматический симптом – эта подчас сложнейшая психологическая постройка – пытается достичь разрешения конфликта. Поскольку сплошь и рядом приходится иметь дело с реально неразрешимой ситуацией, то с помощью симптома оказывается возможным достижение лишь видимости, иллюзии разрешения той проблемы, которая лежит в основании конфликта. Во внешнем – социальном – плане это решение выступает в виде блокады неприемлемого действия; во внутреннем – психологическом – как «бегство от сознания» и как маскировка того обстоятельства, что эта блокада – дело рук самого человека.
И именно потому, что в психологическом отношении у болезни может быть не только свое «потому что» – причина в обычном клиническом, естественнонаучном смысле, отсылающая, как правило, к тем или иным неблагоприятным обстоятельствам жизни пациента в его прошлом (иногда далеком, включая даже врожденные и наследуемые факторы), – но также свое «для того чтобы» – те преимущества в жизни, которые человек может получить только благодаря болезни, только через болезнь. Именно поэтому болезнь так цепко и держится за человека (по сути, следовало бы говорить: человек держится за болезнь), поэтому-то ее, как правило, так трудно выбить из него даже самыми сильными и современными медицинскими средствами.
Иногда нельзя отделаться от впечатления, что человек в подобных случаях некоторым «десятым чувством» все же воспринимает действительный смысл происходящего, все понимает, что происходит, но закрывает глаза на свое понимание, пытаясь убедить себя и других в иной, выгодной для себя, позволяющей принять найденное решение, версии.
Один из самых типичных и, по-видимому, действенных способов сделать это – попытаться найти такую форму разрешения конфликта или такую его интерпретацию – так выставить положение дел для себя и для других людей, – чтобы событие, которое оказывается разрешением конфликта (симптом, в данном случае – экзема), выступило как нечто совершенно независимое от его воли, сознания, действия – как то, что с человеком стряслось (как бы «неожиданно и невероятно», а нередко – и против его воли, вопреки его желаниям и стремлениям).
«Если бы не это!» – человек пытается уверить терапевта, что, если бы не эта «напасть», он был бы вполне счастлив и что он многое бы дал, чтобы его освободили от этого его страдания. На самом же деле, как выясняется, ни за что не держится он так крепко, как за свое несчастье, ибо оно есть его единственный, пусть неудачный, мучительный способ справиться с иначе неразрешимой ситуацией. Ибо как жить «с ним», пусть и страдая, он знает, а вот – без него… Предложите такому человеку некий волшебный способ устранить его страдание – такой, в который он хотя бы на миг поверил, и вместе с радостью и надеждой увидите на его лице страх и растерянность, готовность к защите и бегству. Ибо на самом деле он действительно не знает, как бы он смог жить без этого своего страдания; он должен был бы тогда не только оказаться вдруг лицом к лицу со своей самой страшной проблемой, но также и отказаться от целого ряда других преимуществ, которые научился извлекать в жизни, в отношениях с другими людьми, прежде всего – со своими близкими, из самого существования болезни. Нет, лучше уж навсегда остаться со своим недугом, мукой, пусть даже расстраивающей и отравляющей всю жизнь, каждую ее минуту, а заодно и жизнь других, близких и любимых людей (в этом зачастую лежит если не главный, то важный дополнительный мотив держаться за свою болезнь!). Пусть все это, только бы никогда не встретиться с чем-то (с чем именно, человек, как правило, ясно не знает) настолько страшным, невыносимым, недопустимым, что, кажется, в сравнении с этим бледнеют все прочие его страдания.
Парадоксальным образом человек всеми силами сопротивляется лечению, сопротивляется, конечно, бессознательно, даже и не подозревая об этом; сознательно же – и вполне искренно – он, напротив, готов пойти на все, только бы избавиться от болезни, которая причиняет ему страдания, разрушает самые важные жизненные планы, а иногда – ставит его на край физической гибели.
* * *
Работа Зощенко представляет собой «реальную критику» современной научной психологии – критику «естественнонаучного разума», до сих пор почти безраздельно доминирующего в ней. Эта «реальная критика» дается у Зощенко в неявном виде и потому должна быть эксплицирована с помощью адекватной рефлексии, соответствующего методологического анализа.
При сопоставлении с работой Зощенко прежде всего становится очевидным «академизм» научной психологии – то, что вся ее методическая строгость и теоретическая основательность могут быть реализованы в отношении лишь очень искусственных и упрощенных лабораторных ситуаций изучения человека и, соответственно, получаемые в этой психологии знания без натяжек могут быть отнесены лишь к очень искусственным лабораторным «препаратам» от реального человека – от его личности, сознания, психики вообще. Реальный человек «не вмещается», «не втискивается» в прокрустово ложе даже самых просторных психологических лабораторий. Подчас это прекрасно понимают и сами психологи. Самые честные и проницательные из них.
В свое время выдающийся немецкий психолог Курт Левин, сопоставляя результаты своих, составивших эпоху в развитии экспериментальной психологии исследований с психоанализом, не мог не отметить их несоизмеримость. «При всех преимуществах экспериментального научного исследования, – признавал К. Левин, – экспериментальной психологии нужно развиваться еще многие десятилетия, прежде чем она сможет иметь дело с теми большими, реальными, жизненно значимыми проблемами человека, с теми ситуациями, с которыми уже давно, повседневно и чрезвычайно эффективно работает психоанализ». Эти слова сказаны К. Левином в середине 30-х годов. «Многие десятилетия» уже прошли, но мы и сегодня должны были бы повторить их и даже, быть может, с большим основанием. И, конечно же, с гораздо большим пафосом. Ибо никогда еще вопрос о состоятельности психологии перед лицом реальных жизненных проблем человека не звучал с такой остротой, как сегодня, не становился для нее в буквальном смысле вопросом жизни или смерти.
Сопоставление с психоанализом, с другими направлениями неакадемической, «ненаучной» – практической – психологии позволяет не только зафиксировать в предельно четком виде проблему «экологической валидности», то есть жизненной значимости научной психологии, но также и раскрыть действительные методологические основания ее принципиальной ограниченности.
Сколь бы неожиданным и трудно приемлемым ни было сказанное для сциентистски ориентированного сознания психологов, основания эти в конечном счете лежат в самом способе их мышления и методе исследования, которые как раз и позволяют психологии достигать строгости и объективности «подлинной науки». Потому-то так трудно преодолимы академизм научной психологии, ее безнадежная оторванность от жизни, что они – только оборотная сторона принятого ею образца науки – естественнонаучной экспериментальной парадигмы исследования.
Принятая современной научной психологией ориентация на естественнонаучную парадигму не только не позволяет ей самой быть конкретной психологией реальных проблем человека, но также и делает для нее невозможной сколько-нибудь полноценную ассимиляцию того уникального опыта работы с этими проблемами, который накоплен различными направлениями современной практической психологии, в частности – в психоанализе и во многих других направлениях современной психотерапии.
Как показывает современная критическая литература о том же психоанализе, научная психология не способна даже адекватно осмыслить опыт психоанализа – опыт, во многом уникальный и невозможный в рамках «лабораторной» научной психологии и потому – особенно для нее ценный. Критика психоанализа со стороны научной психологии по большей части совершенно несостоятельна, ибо она исходит из абсолютно неверного, но с неизбежностью вытекающего из естественнонаучного способа мышления понимания самой природы психоанализа и принципиальной специфики «неклассической» ситуации исследования в психоанализе.
Однако, как ни велико значение работы Зощенко в плане «критики естественнонаучного разума» в психологии, пожалуй, еще большую важность ее разбор мог бы иметь для анализа фундаментальных проблем самой практической психологии, и в частности – того же психоанализа. К сожалению, нам придется ограничиться лишь самыми простыми и предварительными замечаниями, остановившись только на одном частном, хотя и исключительно важном, примере.
Возьмем понятия «болезни» и «здоровья». Для обыденного сознания, да, пожалуй, и для практической психологии, для различных направлений современной психотерапии эти понятия имеют пусть и разное содержание, но вполне устойчивые и однозначные ценностные «маркеры»: здоровье – что бы мы при этом ни имели конкретно в виду – здоровье души или тела, есть всегда безусловное благо, то, к чему нужно стремиться, что нужно сохранять, беречь. А болезнь – особенно тяжелая, серьезная, тем более угрожающая жизни – всегда несчастье, беда, безусловное зло, то, что следует любой ценой устранить, от чего любыми способами и, по возможности, скорее освободиться. Избавление человека от болезни, от недуга, от страдания, возвращение ему прежнего здоровья, то есть возвращение его к прежней, «здоровой» – до болезни – жизни, устранение последствий болезни, – это ли не есть задача и дело терапии, это ли не означает излечение от болезни?
Но действительно ли это столь уж несомненные вещи? Не подводит ли нас их видимая очевидность? Нас, просто людей – в понимании того, что происходит с нами или с нашими близкими, в нашем желании предпринять какие-то действия, быть может, – с самыми серьезными и далекими последствиями. Нас, психологов и психотерапевтов – в нашей профессиональной работе, в наших попытках как-то помочь тем, кто обращается за помощью.
Вернемся к финалу истории с «бедным Федей». Экзема прошла. В данном случае прошла сама, каким-то загадочным образом – только от того, что герой сел в поезд, который уносил его все дальше от места, где приключилось с ним несчастье, где осталась любимая им девушка. Разве в данном случае не следует согласиться с «бедным Федей» и признать его болезнь «величайшим в его жизни несчастьем»? Вспомним к тому же – болезнь, которая не только расстроила его роман, но и едва не стала причиной его физической гибели. Не следует разве радоваться вместе с героем, что опасная, коварная и, казалось, уже неизлечимая болезнь наконец-то покинула его, радоваться тому, что герой снова здоров? Равно как и печалиться вместе с ним и сожалеть, что неожиданное выздоровление произошло только, когда он расстался с любимой, когда уже не было никакого проку от его здоровья, досадовать, что врачи – своими мазями и процедурами – не смогли справиться с болезнью вовремя, не смогли еще до отъезда Феди вернуть ему прежнее здоровье и тем самым сделать возможным его счастье с любимой?
Но действительно ли исчезновение экземы (симптома) означает в случае Феди выздоровление? Здоров ли он теперь, если считать, что тогда, когда его покрывала экзема, он был болен? И действительно ли экзема нашего героя есть только кожная болезнь, доставляющая ему страдания, расстраивающая важные жизненные планы и даже в какой-то момент угрожающая его жизни? И даже: не был ли Федя ближе к действительному здоровью, страдая от экземы, нежели от нее освободившись? И не следует ли сказать, наконец, что он никогда не был в столь опасном и действительно нездоровом состоянии, чем снова став совершенно «здоровым»?!
Что за странные, казалось бы, несуразные вопросы! Вспомним, однако, разбор случая «бедного Феди», который мы выполнили, отправляясь от догадок Зощенко. Он позволяет сказать, что по своему ближайшему (но уже скрытому от сознания) психологическому смыслу экзема была только способом разрешить конфликт между двумя несовместимыми в реальной жизни героя стремлениями: добиться близости с любимой девушкой и во что бы то ни стало избежать ее.
Конфликт, повторим, не осознанный героем и неразрешимый для него как сознательно действующего существа. Иначе говоря, экзема была только особой «косвенной» формой выражения, «текстом», записанным на непонятном для сознания языке психосоматики, через который пытался сказаться некий важный для самопонимания героя смысл.
Уже осознание самого конфликта, его непосредственного содержания – важная задача. Но это только первый шаг самопознания, только начало. Что стоит за каждой из составляющих конфликта? В частности, почему герой не может принять так сильно им желаемой и вроде бы естественной и не имеющей ничего предосудительного возможности близких отношений с любимой и отвечающей ему взаимностью девушкой? Почему он не может осознать своего вроде бы на поверхности лежащего страха? Откуда все это взялось в его жизни? Что мешает ему освободиться от страха? Для чего ему «нужен» этот страх? И т. д. и т. п.
«Симптом, – сказал как-то Лакан, – это место, где хранится истина о человеке!» Если так, что за потаенная истина о нашем герое была записана в его экземе? Приходится признать, что теперь – когда он снова «здоров», когда он «выздоровел» неким «чудесным» образом – мы уже, конечно, не узнаем об этом.
Не узнает и сам герой, если только болезнь не вернется снова, быть может, в другой ситуации и в другой, быть может, более тяжелой форме. Он – здоров? Даже в узком, буквальном смысле мы не могли бы сказать этого: болезнь отступила, стала внешне невидимой, но она, конечно же, не оставила героя, но только спряталась, притаилась.
Но главное даже – в другом, в том, что неопознанным, непонятым и потому психологически действенным, существующим осталось то, что лежит в основании симптома: самый конфликт. И где гарантия, что завтра, даже если блокирована прежняя форма его проявления, он не обнаружит себя каким-то иным, быть может, не менее неприятным образом? Нет, то, что произошло с Федей, конечно же, не излечение. В лучшем случае это всего лишь переход «болезни» из острой формы в форму латентную и хроническую. Или, быть может, даже – скрытый прогресс болезни, образование все новых – до поры до времени невидимых – психологических и соматических «метастазов». «Излечение» героя – только внешнее и потому особенно коварное благополучие. Похоже, что звенел «будильник», который пытался нашего героя пробудить. А случайные и, на первый взгляд – «счастливые» обстоятельства (отъезд домой) этот будильник «выключили», позволив ему и дальше спать и видеть приятные сны. Это-то мы и поспешили назвать «выздоровлением»!
Не есть ли такое «выздоровление» – в той критической жизненной ситуации, в которой мы застаем героя, – нечто более далекое от действительного здоровья, чем пытавшаяся его разбудить, поставить перед необходимостью понять что-то важное в жизни, болезнь? Не есть ли это чудесным образом «свалившееся» на него «здоровье», даже если иметь в виду чисто внешние – физические, соматические последствия, – не есть ли оно своего рода «здоровье-к-смерти»? А «злополучная экзема», окажись она способной пробудить героя, напротив – «болезнь-к-жизни»? Заметим, в психологическом смысле последнее должно было бы означать – «к-Новой-жизни», то есть – к своего рода «второму рождению» героя, рождению его в качестве действительно свободного и, в этом смысле, действительно здорового существа.
Определение человеческих состояний в терминах одномерной оппозиции «здоровья» и «болезни» оказывается совершенно недостаточным.
С точки зрения возможного значения для последующей судьбы человека, для его психологической истории, стало быть, также и с точки зрения психотерапии, приходится задавать вопрос: о каком здоровье (соответственно – болезни) идет речь: о здоровье (болезни) «к смерти» или «к жизни»?
Записав возможные сочетания в виде матрицы,
получаем четыре основных случая, переходы между которыми и задают основные типы событий – как в спонтанной динамике душевной жизни, так и в случае психотерапии.
Схема возможных переходов между основными состояниями:
– возможные спонтанные переходы;
– переходы под действием традиционной психотерапии;
– переходы под действием психотерапии, ориентированной на личностный рост.
Но можно пойти дальше и спросить: а был ли наш – теперь уже «вдвойне бедный» – Федя, который, как выясняется, и освободившись от болезни, не стал здоров, даже и ценой потери любимой девушки не смог «вернуть» себе здоровье, – а был ли он здоров до того, как заболел? В том-то и дело, что нет! Не потому заболел он экземой, что влюбился, но потому и не мог полюбить, не «заболев экземой», что еще до встречи с девушкой был «нездоров», не «ис-целен», то есть – не жил «из» целостности своего существа, ибо, быть может, никогда и не был «целен» – душевно.
Да, быть может, сказал бы читатель, скорее всего так оно и есть, так и должно быть у человека, который, как Федя, не понял того, что с ним происходит, не понял своей болезни. Как жаль, что все это произошло тогда, когда Зощенко еще не мог догадаться, что происходит с его знакомым, не мог сказать ему об этом и тем самым исцелить его. Не мог сделать того, что делал не раз впоследствии (что мы находим в «Неожиданном финале», «Истории молодой женщины» и в других историях), когда он до конца понял – до конца? понял? – свою собственную историю и исцелил себя самого – исцелил?
Можно было бы думать – и именно к такому представлению ведет нас сам Зощенко, – что уж в этих-то случаях (но особенно – в его собственном) исцеление действительно состоялось, что тут мы вправе употреблять слова «излечение», «здоровье» без каких бы то ни было оговорок. «Разум побеждает болезнь!» – эти слова всем пафосом повести хочет начертать Зощенко как итог своего поиска, как вывод из опыта самопознания, подтвержденного анализом многих других случаев.
Как бы хотелось поверить в эти воодушевляющие слова, в эту «похвалу и оправдание разума», поверить в то, что наконец-то – в границах столь хорошо понятного и доступного каждому человеку образа психотерапии, предполагающего у человека лишь добрую волю, готовность к подобному опыту самопознания, настойчивость и мужество в движении по этому пути, – что здесь-то, наконец, и найден ключ к исцелению человека, к исцелению его души, а тем самым – во многих случаях – и к исцелению тела, коль скоро, как мы видели, даже очень серьезная и неизлечимая иными средствами соматическая болезнь вдруг, как по мановению волшебной палочки, отступает и оставляет больного. К сожалению, мы покривили бы душой, если бы остановили свой разбор повести Зощенко на этом месте, как бы нам ни хотелось, подобно ее автору, закончить разговор с читателем на высокой и оптимистической ноте. В конце концов, нам, пожалуй, и удастся сделать это, только оптимизм наш окажется связанным не с темой разума (в том смысле, как он понимается Зощенко), но с другой, не менее высокой темой. Но чтобы достичь этого, необходимо сделать еще несколько шагов, даже всего, быть может, только один, но решительный шаг. Иначе мы не смогли бы с чистой совестью расстаться с автором, подобно тому, как он расстается со своими героями, доходя в каждом случае до самого конца в попытке понять их истории, отыскать действительные условия исцеления.
Действительно ли тот путь самопознания, который предлагает психоанализ – во всяком случае психоанализ в той его классической фрейдовской версии, в которой он и реализуется в повести Зощенко, – действительно ли он дает, способен дать действительное и полное исцеление человека – и душевное и телесное – даже в том случае, когда он проводится удачно и доводится до «самого конца», до самых «исходных», лежащих, как правило, в далеком прошлом пациента, чаще всего в детстве, точек психогенеза его страданий? Хотя уже и это требует не только мастерства, но и времени (психоанализ, как правило, очень длительная и требующая всего человека, всех его душевных сил работа) и, наконец, просто удачи, ибо психоанализ – это работа не рутинная, а творческая, как со стороны терапевта, так и особенно – пациента.
Казалось бы, разве не происходит исцеления в описанных Зощенко историях, в его собственном случае? На этот вопрос необходимо дать вполне определенный отрицательный ответ. Как показывают материалы биографии писателя, в частности представленные в архивных публикациях последних лет [132] , самоанализ Зощенко, выполненный им в 20-е годы и представленный в повести «Перед восходом солнца», не дал ему полного исцеления. Ни полного, ни окончательного. Болезнь возвращалась. В особенно тяжелой форме – в последние годы его жизни [133] .
Но дело даже не в этом. Допустим, что случаи полного исцеления в результате психоанализа встречаются. Хотя повторим еще раз: трудно указать во всей огромной психоаналитической литературе до конца убедительные и безусловные примеры подобного рода удачных исходов. Даже самые выдающиеся образцы психоаналитической работы – в частности, знаменитые случаи из практики самого Фрейда, – как оказывается, не способны служить примерами полного излечения.
Да что – Зощенко! Что случаи пациентов Фрейда! Даже сам основатель психоанализа, который, как известно, всю жизнь вел интенсивный и серьезный самоанализ, который был – по оценке некоторых крупнейших представителей психоаналитического движения – главным делом жизни Фрейда, а для истории психоанализа (и чем дальше, тем больше) – делом не менее важным, чем разработанная им техника и теория психоанализа, – даже и сам Фрейд так и не смог достичь с помощью психоанализа своего собственного – полного – освобождения и исцеления! В одной из работ, появившихся к тридцатилетию со дня смерти Фрейда в 1969 году, была предпринята попытка показать, что самый день смерти (!) Фрейда неслучаен, причем – именно с точки зрения теории самого Фрейда: он глубоко мотивирован одной фундаментальной, но так до конца и не разрешенной психологической проблемой самого Фрейда, проблемой, кстати, неоднократно обсуждавшейся им в его работах по отношению к другим людям. (См., например, замечательный фрейдовский очерк: «Об одном воспоминании раннего детства Гете».)
Но дело, повторим, даже не в этом. Пусть бы даже случаи полного психоаналитического исцеления были возможны, встречались. Как, однако, понять то, что в одних случаях излечение достигается, а в других, казалось бы, не менее удачных и с точки зрения психоанализа безупречных – нет? Чем обусловлены эти различия в результатах? Можно ли их представить в терминах самой психоаналитической теории, или же, для того чтобы сделать это, надо выйти за границы собственно психоанализа и перейти к рассуждению в совершенно иных понятиях? Но – каких?
Как это ни парадоксально, необходимо признать, что внутри самого психоанализа нет оснований для различения удачных и неудачных случаев! Мы имеем в виду, конечно, не неудачи в результате грубых и очевидных ошибок в работе психотерапевта, но безупречные с точки зрения самого психоанализа случаи. У всякого, пытающегося отдать себе отчет в своей работе и честно мыслящего психоаналитика поэтому не может не возникать чувства глубокой профессиональной неудовлетворенности. Неудовлетворенности, в чем-то подобной той, что, по признанию Фрейда, возникла у него в связи с суггестивными методами работы, неудовлетворенности, которая, как говорит сам Фрейд, и явилась одним из главных импульсов к поиску нового – психоаналитического – метода терапии, метода, который позволял бы терапевту работать, по возможности, с живым пониманием своей работы, ее хода, ее «механизмов», и в частности – с пониманием того, почему в одних случаях терапия дает поразительные результаты, а в других, казалось бы сходных случаях, оказывается абсолютно неэффективной.
Складывается впечатление, что что-то очень важное – быть может, даже – главное из того, что определяет исход всей работы, ее терапевтическую эффективность, и вместе с тем – то, что могло бы быть основанием для удовлетворительного понимания терапевтом своей работы, – не учитывается традиционным психоанализом, лежит за его границами.
По отношению к действительному целому терапевтической работы, внутри которого только и можно было бы предполагать возможность подлинного исцеления, классический психоанализ (и чем более последовательный и безупречный, тем – в большей мере!) является принципиально неполной, нецельной («врач – да ис-целися сам!») терапией.
Психоанализ или вовсе не хочет видеть и иметь дело с духовно-личностным измерением человеческого существования, или же если и принимает его во внимание, то пытается редуцировать это измерение к собственно психическому, «душевному». Он не только настаивает на автономии сферы психического по отношению к духовному, но и пытается показать несамостоятельность, «производность» духовно-личностного по отношению к психическому. В этом смысле классический психоанализ является радикальной формой психологизма, психологистического редукционизма.
Еще при жизни Фрейда, и во многом внутри самого психоаналитического движения, хотя и в оппозиции фрейдовской версии психоанализа, начала складываться альтернативная концепция психотерапии, которая ставила во главу угла именно духовно-личностное измерение в человеке и задачу высвобождения «духовного человека» в человеке.
Психотерапия, ориентированная на духовного человека, «человека пути», не только имеет дело с другим человеком, у которого «всё другое» по сравнению с «беспутным» (именно последнего имеет в виду традиционная психотерапия, и в частности – психоанализ) – другая, как мы видели, болезнь и другое здоровье, но также, как можно было бы показать, другие сновидения и другие эмоции, другая память и другая воля, – психотерапия, ориентированная на «человека пути», это также и другая психотерапия.
В классическом психоанализе имеет место неразрешимая проблема двойственности действия каждого акта интерпретации: с одной стороны, нет другого способа вызвать самый терапевтический процесс, направлять и контролировать его протекание, иначе как через коммуникацию пациенту того понимания ситуации, которое складывается у терапевта, тех скрытых смыслов симптомов, воспоминаний, сновидений, ассоциаций и т. д., которые терапевту удается установить в результате анализа. Но, с другой стороны, вследствие того же самого процесса передачи пациенту своих интерпретаций терапевт с неизбежностью «раскрывает свои карты» перед пациентом, давая тем самым в его руки эффективное средство защиты против попытки проникнуть в тайники бессознательного, в суть его проблем и конфликтов. В каждом отдельном случае вместе с самым серьезным и искренним сознательным стремлением пациента освободиться от страдания, наряду с установкой на излечение, появляется и сильнейшее противодействие ему – то, что Фрейд называл сопротивлением. Каждая интерпретация, говорил Фрейд, – «палка о двух концах». И психотерапевт должен очень хорошо чувствовать, когда, в какой форме и в какой мере он может приоткрыть пациенту уже достигнутое понимание его проблем, чтобы одновременно не дать ему – его «бессознательному» – только более эффективное, чем прежде, средство и способ защиты.
Итак: вне коммуникации раскрываемых в интерпретациях смыслов психоанализ осуществляться не может, причем не только в психотерапевтическом плане, но и в плане собственно познавательном. Вне этой коммуникации смыслов, раскрытых на предыдущем шаге анализа, становится невозможным следующий шаг, дальнейшее продвижение «в глубь бессознательного» пациента. Но тем самым создается опасность более эффективной защиты, сопротивления. И в случае классического психоанализа эта психотехническая двусмысленность интерпретации – возможность как бы автономного, внеситуативного существования смыслов, порождаемых психоаналитическими интерпретациями, вне здесь-и-теперь установившегося понимания, – возможность как положительного, так и отрицательного их использования, с прямо противоположными установками и последствиями, – все это в случае классического психоанализа является неизбежным.
В отличие от этого в психотерапии, ориентированной на духовного человека в человеке, в терапии, которую можно было бы назвать «психа-гогикой» – «душе-вождением», «душе-веди́нием» (в том смысле, в котором музыканты говорят о голосо-ведйнии), то есть в случае терапии, которая помогает человеку в поиске его пути и в следовании по нему, – в такой терапии двойственность психотехнических эффектов его самопознания исчезает. Она становится невозможной в силу особой природы реализующегося тут процесса понимания. «Понять» здесь означает – высвободить место для прихода и действия в человеке некой силы, которая способна вести к трансформации, преображению его существа, к его «второму рождению» в новом измерении его существования, в Новой жизни.
Понимание, стало быть, здесь также – другое. Оно, во-первых, предельно ситуативно и действенно, а во-вторых – событийно. В том углубленном смысле этого слова, который связывается сегодня с диалогической концепцией понимания, разработанной М.М. Бахтиным. Кратко его можно было бы выразить, перефразируя замечательную по своей афористичности цветаевскую формулу любви: «Понять, – сказали бы мы, – значит позволить другому быть, чтобы принять из-быток»! Впрочем: перифраз или парафраз? Не есть ли здесь понимание как бы особый род любви? Оговоримся: не той любви, которую мог бы иметь тут в виду психоанализ, говоря о феномене «перенесения». «Перенесение», точнее – положительная его составляющая: «любовь в перенесении» – это особый, искусственный – вызванный к жизни самой психоаналитической процедурой – вид привязанности, «влюбленности» пациента в терапевта (впрочем, как известно, есть и «контрперенесение»), который в форме здесь-и-теперь разыгрывающихся отношений к терапевту лишь воспроизводит, повторяет все существенные случаи привязанности пациента к близким ему людям в прошлом. В этой «психоаналитической любви», стало быть, «все старое» – только то, что «уже было».
Соответственно такой природе «любви в перенесении» и задача психоаналитика состоит, прежде всего, в том, чтобы распознать и идентифицировать «объект» чувства пациента среди значимых персонажей драмы его прежней жизни. «Любовь в перенесении», стало быть, целиком из прежней жизни пациента. И психотерапевт, который пытается работать с «перенесением» – поддерживая его, используя для достижения терапевтических целей (а Фрейд считал, что «перенесение» не только неизбежно в каждом случае психоанализа, но и необходимо, что это мощнейший рычаг, с помощью которого терапевт может сломить сопротивление анализу), – такой терапевт намеренно (но вместе с тем и неизбежно) ограничивает психоаналитический опыт тем, что только бесконечно воспроизводит и продолжает опыт прежней жизни пациента. Это соответствует основополагающим представлениям классического психоанализа о природе болезни и путях излечения, в соответствии с которыми в центр ставится работа с прошлым человека. «Освобождение» следует искать в прошлом человека и можно найти, не выходя за границы этого прошлого. Нынешний невроз пациента коренится в его прошлом. Как правило, в весьма отдаленном прошлом. Чаще всего – в событиях раннего детства. Это прошлое и нужно «возвращать», «воспроизводить» в процессе психоанализа в форме «перенесения». Итак, в психоаналитической «любви в перенесении» – «по определению» – нет ничего такого, чего бы не было в прежней жизни пациента. Мир психоанализа – это мир, в котором «всегда уже всё случилось»! Психоаналитик лишь воспроизводит «всё старое».
Понимание же в психагогике – поворачивая цветаевскую формулу – всегда впервые приводит к бытию то, что этим бытием изначально дано пониманию как его основание, – Другого, Друга! Это – не любовь-обладание, но – говоря словами Роджерса – «любовь с раскрытыми руками», любовь-творчество в самом строгом и серьезном смысле этого слова: любовь-преображение, преображающее «приведение» к бытию. Высвобождение места для бытия другого. Но одновременно (как необходимое условие этого) – высвобождение места для своего собственного бытия в понимании другого. Вспомним цветаевское: «принять из-быток», то есть «при-быль», «при-рост» бытия. «Понимание-любовь» здесь – радикально продуктивно, ибо оно означает самым радикальным образом понятый «прирост» как прирост бытия! «Се, творю все новое» – вот слова, знаменующие природу той силы, которую высвобождает понимание-любовь. И еще раз – одновременно на обоих полюсах: пациента и терапевта – со-бытие!* * *
Традиционная психотерапия (включая и классический фрейдовский психоанализ), не знающая различения «человека пути» и «бес-путного» человека, не кладущая это различение – как исходное и основное – во главу угла своего понимания человека, не различает, конечно, и понятий «здоровья-к-жизни» и «здоровья-к-смерти», равно как и «болезни-к-жизни» и «болезни-к-смерти». В силу этого она не знает и не может знать ни самих этих состояний, ни переходов между ними.
Позитивные состояния из «матрицы основных состояний» (в данном контексте важно прежде всего позитивное состояние «болезнь-к-жизни») – это не естественные состояния, но такие, которые впервые устанавливаются только в результате «срабатывания» особого рода «ловушек», высвобождающих для этих состояний место.
Поэтому внутри терапии, не знающей различения позитивных и негативных значений здоровья и болезни, соответствующие состояния не могут возникнуть, а если они все же и возникают, то не благодаря этой психотерапии и даже не просто независимо от нее, но – вопреки ей, то есть возникают как результат усилия, работы, предпринимаемой человеком или какой-то силой в нем, противодействующей всему ходу и самому «направлению» этой терапии, противостоящей ей.
Сама же традиционная терапия оказывается не нейтральной относительно различения позитивных и негативных состояний (как можно было бы думать, коль скоро она их просто не различает), но – действующей на стороне негативных состояний, то есть оказывается консервирующей «бес-путного» человека, обывателя в человеке и утверждающей его как «норму» человека вообще.
Первым делом психотерапии, установленной на действительное ис-целение человека – то есть на присутствие и действие его в своей жизни «из целости» своего существа, – должна быть попытка перевести «болезнь вообще» (то есть болезнь, как она первоначально существует для пациента и как она только и известна традиционной психотерапии, в частности психоанализу) в «болезнь-к-жизни» и – лишь затем – «разрешение» ее в здоровье, которое только в этом случае и может быть «здоровьем-к-жизни».
Известная в эзотерических духовных движениях основная трехчленная формула «работы над собой», гласящая: «пробудиться – умереть – родиться!», в терминах матрицы основных состояний реализуется в представлении о движении (внутри терапии) – как от исходной точки – из характерного для сознания «бес-путного» человека состояния «болезни вообще» через приведение к осознанию фундаментального различия «здоровья-к-жизни» и «здоровья-к-смерти» («пробуждение») к состоянию собственно «болезни-к-жизни» («умирание») и, наконец, к состоянию «здоровья-к-жизни» («рождение» – «второе рождение»). «Умирание» пробужденного существа и есть «высвобождение места» для прихода и действия силы, преображающей «ветхого» человека в человека Нового, что и ведет к подлинному «ис-целению», то есть восстановлению цельного, полного «человека в человеке».
«Болезнь-к-жизни» – при последовательном ее углублении, вынашивании – есть, конечно, не что иное, как petite mort – «маленькая смерть», как говорит в одном из писем Выготский, – смерть при жизни, смерть в этой жизни и вместе: смерть для жизни – Новой. «Маленькая» же она потому, что, как правило, затрагивает лишь часть существа человека, пусть и важную. Иногда «болезнь-к-жизни» – целый ряд таких «маленьких смертей», через которые приходится пройти человеку, «пережить» их, дабы обрести, наконец, возможность еще одного, пусть также «маленького», но обновляющего его рождения. «Переживание» – в том значении, которое все больше укрепляется в современной психологии, – как особого рода душевная и духовная работа, которую выполняет человек, преодолевая кризисную ситуацию, – и есть в наших словах: прохождение через «маленькую смерть» в направлении «второго рождения». Есть пусть «маленький, но «инициальный опыт». Имманентная направленность, внутренняя «интенциальность» переживания как раз и означает, что оно не может быть автономным по отношению к духовной жизни, чисто психическим феноменом, но есть момент и форма инициального пути.
* * *
Последняя проблема, которой следует коснуться в связи с повестью Зощенко, – последняя по порядку, но не по значению – это проблема отношения между психоанализом художника и его творчеством. Проблема, мимо которой не может пройти и сам Зощенко, проблема, которая нередко драматически остро стоит перед художником как вопрос «выбора»: достичь – с помощью психоанализа – исцеления, но, быть может, при этом лишиться самой способности творчества, или же, напротив, сохранить эту наиценнейшую для всякого художника способность, заплатив за нее физическим или душевным здоровьем, а возможно – и самой жизнью. Словом: здоровье или творчество? Вот та драматическая дилемма, перед лицом которой подчас оказывается художник. И художник, как правило, выбирает творчество! Вспомним выразительные слова Гессе, приводимые С.С. Аверинцевым в статье о Юнге: «Если мне предложат остаться со своим здоровьем, но лишиться Баха, или же остаться с Бахом, но навсегда лишиться здоровья, то я предпочту, конечно, Баха!»
Но действительно ли это реальная и неустранимая дилемма? Что-то в ней настораживает с самого начала – не есть ли сформулированные альтернативы те самые две протянутые руки, по которым, как известно, следует бить по обеим сразу?! И в самом деле, чего стоит то искусство, то творчество, от которого можно «излечить» психоанализом? И чего стоит то здоровье, которое нужно покупать ценой отречения от творчества, от искусства? Воистину, и то и другое не многого стоят! Тем не менее дилемма кажется реальной. Причем не только неискушенному в психологии и психопатологии художнику, но и самому что ни на есть искушенному в них психоаналитику. В чем же тут дело? На чем основывается это, как будто бы несомненное, убеждение в реальности такой альтернативы?
Оно основывается на вполне определенном понимании как сути психоаналитической терапии, так и природы самого искусства, творчества. И нужно признать, что психоаналитики «приложили руку» если не к введению в самосознание художников этого понимания, то во всяком случае – к его «научному» обоснованию и утверждению в массовом сознании. Такое представление об искусстве исходит, вероятно, из утверждаемой классическим психоанализом претензии на познание всего человека, из убеждения, что можно до конца исчерпать человека с помощью аналитического метода. По убеждению психоаналитика, «вскрываемые» им в ходе анализа и «разрешаемые» проблемы пациента и есть предельные проблемы, к которым – как к конечным объяснительным точкам – можно свести всю психическую и психосоматическую жизнь человека, отыскивая в них скрытые причины и источник душевной и духовной жизни, включая и творчество.
Соответственно этой претензии психоанализа на «всего» человека и творчество, и искусство рассматриваются в нем только как особые непрямые и «превращенные» формы выражения скрытых от сознания глубинных душевных конфликтов и сил, «зажатых» в сфере бессознательного, не находящих прямого выхода, – как их «сублимация», «возгонка» до приемлемых для сознания форм, как только своего рода сплошной «эвфемизм» бессознательного, подлинное содержание которого (а стало быть – и действительная подоплека искусства) в прямом и явном виде и вскрываются психоанализом. С этой точки зрения «опыты о человеке», которые содержит искусство, лишены какой бы то ни было уникальности, не способны добавить ничего существенно нового в раскрываемую психоанализом картину, принципиально не могут дать никакого прироста в познании человека. «В искусстве нет ничего сверх того, что – независимо от искусства и от какого бы то ни было анализа искусства – раскрывает непосредственный эмпирический психоанализ» – так можно было бы в виде максимы сформулировать эту точку зрения. Соответственно: психоанализ, вскрывая «подлинное» – скрытое в глубинах бессознательного – содержание искусства, раскрывая «действительный» смысл творчества, тем самым впервые дает им истинное объяснение.
И хотя можно было бы сомневаться уже в самой претензии психоанализа на «объяснение» искусства и творчества, ибо можно сомневаться в его претензии на «объяснение» чего бы то ни было вообще, сомневаться в том, что теоретические построения психоанализа и его конкретные интерпретации вообще могут – по самому их характеру – претендовать на статус «объяснений», даже и вне зависимости от того, будем ли мы тут иметь в виду искусство или же – тот материал, который получает психоаналитик от пациента в ходе психоаналитического сеанса [134] , – однако в данном контексте гораздо более важным представляется поставить под сомнение отмеченную ранее претензию психоанализа на «всего» человека, включая и его творчество, и, соответственно, поставить под сомнение самый тезис о том, что творчество и искусство не раскрывают в человеке – и не могут раскрыть! – ничего другого и большего по сравнению с тем, что о нем и так уже знает психоанализ.
Обладает или нет принципиальной уникальностью, несводимостью к психоаналитическому знанию о человеке тот «опыт о человеке», который дают искусство и, вообще, творчество, или же этот «опыт» может быть целиком и полностью редуцирован к психоаналитическому опыту – вот вопрос, от ответа на который воистину зависит не только «быть или не быть» психологии искусства и творчества как самостоятельным областям познания человека, зависит оправдание их существования с точки зрения прироста знания о человеке по сравнению с психологией обыденного, «коммунального» человека, но также, в определенном смысле, и оправдание самого творчества и искусства в их собственно духовном значении.
Возможен ли вообще иной взгляд на природу искусства и творчества и, соответственно, на природу самого человека, а также на место искусства и психологического анализа искусства в познании человека, иной подход в поиске путей к обновлению и исцелению человека?
Не только возможен, но вот уже более полувека как существует, и именно – в отечественной психологии. Мы имеем в виду культурно-историческую психологию искусства, созданную еще в 20-е годы Л.С. Выготским.
В рамках и без того затянувшегося послесловия мы не можем, даже кратко, дать связное изложение этой глубокой и непростой концепции. Всё, что мы можем позволить себе сделать, – воспроизвести лишь некоторые ее положения, с опорой на которые мы и завершим – по первому кругу – размышления над повестью Зощенко.
* * *
Прежде чем рассмотреть, как в рамках культурно-исторической психологии искусства решается проблема уникальности «опыта о человеке» в искусстве, отдадим себе отчет в том, какого рода опыт тут имеется в виду, в какой форме он представлен в самом искусстве и каким образом он может быть извлечен психологией искусства. Важно подчеркнуть, что речь идет не о том знании человека, которое в явном виде выражается художником, в частности писателем, в тексте художественного произведения как его содержание. В данном случае речь идет не об этом. И даже не о том втором, неявном содержании художественного произведения, которое может составлять скрытый «психологический подтекст» произведения – тот, который прежде всего и пытается «вскрыть» психоанализ, когда обращается к искусству, привнося, как мы говорили, это знание заранее, «со стороны» – из «опыта о человеке», полученного в психоаналитическом кабинете. Ни та психология, которая «вкладывается» автором в текст произведения и затем «вычитывается» психологией сознания, ни та, что реализуется в подтексте и извлекается психоанализом, – равно не могут удовлетворить нас. Обе они суть психологии обыденной – непреображенной – жизни и обыденного – уже наличного в этой жизни человека – опыта. Это – психология человека, как он существует до встречи с искусством и независимо от искусства, от данного произведения искусства, где он только поселяется автором как в комнате (или иногда, как у самого Зощенко, – в кунсткамере!) или в лучшем случае – где он отражается как в зеркале, которое, конечно же, тем лучше с точки зрения обычной психологии искусства, чем оно «правильнее» отражает этого обыденного человека. И даже если в так понимаемое «психологическое содержание» произведения и включается также и некое знание о самом творческом процессе и о человеке искусства, художнике – каким бы глубоким и драматичным оно ни было, – оно, подчеркнем еще раз, по-прежнему есть знание, полученное независимо от искусства и от психологического анализа искусства, и потому есть знание, не выводящее за границы человека, как он существует отдельно от искусства и от творчества.
По мысли же Выготского, психология искусства должна изыскать возможность взять человека именно в самой точке творчества, взять его, как он существует в творчестве и в искусстве, но – не в смысле «содержания искусства», а в смысле осуществления человеком себя в творчестве и в искусстве и через него. Единственная возможность для психологии достичь этого – как бы парадоксально на первый взгляд ни звучал этот тезис – состоит в том, чтобы решительно отказаться от попыток делать это непосредственно, пытаться как бы непосредственно «подсматривать», «подслушивать» процесс создания вещи искусства художником или процесс восприятия ее читателем, зрителем, слушателем. Но попытаться сделать это косвенно – через особого рода анализ самих вещей искусства!
Что же это, однако, за особый анализ? И кроме всего прочего, что вообще делает его собственно психологическим? Ведь сами по себе вещи искусства анализирует искусствовед или, коль скоро речь идет о литературных произведениях, литературовед. Где тут найти место для психолога? Многие психологи и сегодня считают, что в подходе Выготского теряется предмет собственно психологического анализа искусства, что психология тут вырождается в литературоведение или искусствознание, заменяется ими, что в случае Выготского – особенно в ранних его работах, до его прихода в научную психологию – вроде бы даже и понятно. И сегодня можно услышать, что Выготский был, конечно, выдающийся исследователь, но в своих работах по «психологии искусства» он был все же только литературоведом, но ни в коей мере не психологом.
Но в том-то и дело, что, дабы изыскать возможность новой психологии искусства, Выготскому пришлось решительно пересмотреть не только традиционные подходы к искусству в психологии, но также и даже, быть может, прежде всего традиционное понимание самого искусства – в его отношении к человеку и к жизни, равно как и представления о самом человеке, его «природе» в свете искусства, творчества. За психологией искусства Выготского поэтому стоит не современное ему литературоведение, но особая и во многом новая философия искусства и человека. Вещь искусства берется Выготским не «сама по себе», но – в отношении к человеку, безразлично – воспринимающему эту вещь или ее создающему, берется как своего рода «дополнительный» орган, который человек в себе выращивает или которым он себя «восполняет», «амплифицирует», тем самым как бы себя «продолжая за» свои не только физические, но и наличные психические границы, усиливая свои непосредственные способности видеть, понимать, чувствовать, переживать, мыслить и даже – творить. Искусственные «приставки» и «насадки» или, точнее – «органы» или, как сказал бы Флоренский: «органо-проекции» – подобно всяким инструментам и средствам, в которых человек объективирует и воплощает себя, оказываются прежде всего инструментами и средствами его собственной трансформации – тем «архимедовым рычагом» и той «точкой опоры» – вне наличного его существа, – с помощью которых он воистину может «повернуть Землю», то есть преобразить «ветхого человека» в себе. Без такого рычага и такой точки опоры он не мог бы выйти за пределы этого ветхого человека в себе; с их же помощью он может – хотя бы в малой толике своего существа – преодолеть его в себе, «претворяя себя» – в случае встречи с настоящим искусством – в Нового человека, то есть такого, которого до и вне восполнения и усиления его вещью искусства не только нигде не было, но и не могло быть.
В этом смысле на каждую вещь искусства можно бы посмотреть как на своего рода «ловушку» для Нового человека в человеке, которая – в отличие от обычных, физических ловушек – способна «ловить» (еще один парадокс с точки зрения обыденного сознания!) нечто такое, чего до «выделывания» и «срабатывания» этой ловушки нигде не было и быть не могло.
И, вместе с тем, это «впервые приведенное к существованию» меньше всего есть, в каком бы то ни было смысле, «производство», «изготовление» и т. п. – в духе технологического мифа о «производстве человека». Если уж с чем и сравнивать ту трансформацию человека, возможность которой открывает для него искусство, то ее следовало бы сравнить, скорее, с родами, повивальной бабкой при которых и оказывается искусство. Если позволить себе каламбур, то всякое серьезное искусство и есть прежде всего «повивальное искусство», искусство споспешествования рождению Нового человека в человеке. Говоря иначе – на греческий лад, словами Сократа, – искусство есть «майевтика» – не в том, относимом только к мышлению, рождению мысли, значении, которое традиционно вычитывается в диалогах Платона, но – в более широком и радикальном смысле – рождения человека вообще, духовного человека в человеке. Или – используя метафору самого Выготского – можно было бы говорить об искусстве как о своего рода душевной «алхимии», «алхимической лаборатории», в которой осуществляется чудо претворения «здешнего» человека, почти евангельское таинство «претворения воды в вино». Искусство, наконец, есть приведение – инициальным путем – к со-бытийному присутствию «моего Другого», как «со-бытия» мне, то есть приведение к присутствию самого бытия, или, иначе говоря: искусство есть «онто-гогика», есть майевтика рождения самого бытия
Психология же искусства – в понимании Выготского – не только раскрывает это таинство, но и сопричастна ему, продуктивно и творчески в нем участвует. Ибо вырабатываемые ею представления о человеке, вовлекаемом в радикальную трансформацию встречей с искусством, призваны не только и не столько «отразить» эту трансформацию, сколько и прежде всего – содействовать ее осуществлению. Они не замещают собой анализируемую вещь искусства, но, по сути, «стоят при» ней и одновременно – «при» воспринимающем ее человеке, помогая ему понять встречу с искусством как шанс для своей трансформации.
В свете понимания искусства как того, что открывает возможность присутствия и действия в жизни преображающей ее творческой силы – той самой, заметим мы, от которой берет свое начало и само искусство, – в свете такого понимания искусства иначе выступает и вопрос о «природе» человека. «Природа человека» – если вообще еще допустимо это почти оксюморонное сочетание – должна была бы означать теперь, в отличие от обычного смысла, не что-то, лежащее до и позади всех социокультурных определений человека и ими «преодолеваемое», но, напротив, нечто всегда еще только человеку предстоящее и на-стоятельное, на-сущное – в том евангельском смысле, в котором насущным – то есть грядущим и обетованным – является хлеб. «Природа человека» – всегда «впереди» его, уже наличного. Она есть не что-то «недо-человеческое», но в каком-то смысле – «за-» и «после-человеческое» в нем (в этом смысле употреблял на последней странице своего «Кризиса» – купированное редакторами при публикации в шеститомнике! – ницшевское понятие «сверхчеловека» Выготский) – то в нем, что трансцендирует все и всякие его внешние и преднаходимые – социальные и культурные – определения. «Природа человека» есть всегда нечто, только еще «должное прийти», – то, для чего всегда еще должно быть «высвобождено место».
Перефразируя современного философа, можно было бы сказать: человек приводит к бытию то, что от века дано ему бытием в качестве его «природы», – творчество!
Трудно оказаться ближе, чем в таком контексте, к этимологически изначальному и сокровенному, а ныне отделенному от сознания человека и им утраченному смыслу слова «природа», который оно имело не только в русском, но также и в латинском языке: «натура» и тут значила прежде всего нечто, связанное с родами и рождением. Мы и сегодня слышим соответствующий смысловой обертон в словах «натальный», «пренатальный», «постнатальный»; «натус» же значит «сын», также и в сочетании «Сын божий». «Природа человека», конечно, всегда именно «натура натуранс» – родящая, рождающая, «творящая природа», а не «природа сотворенная» – «натура натурата». «Природа человека» и есть та сила в нем, или, правильнее было бы сказать, та сила и есть «природа человека», которая рождает его в Новую жизнь, претворяя в вино Новой жизни воду прежней. Это и есть сила творчества.
* * *
Не есть ли тогда единственная возможность для психологии быть «естественной», то есть соответствующей действительной «природе человека», – попытаться стать «сверх-естественной», то есть сопричастной тому чуду «претворения воды в вино», творческого преображения самого человека и его жизни, которое одно только и может вести его к подлинному исцелению? Именно так! «Ис-целение» и есть «вос-становление» подлинной целостности человека, его полноты, вос-соединение его со своей истинной при-родой, есть его второе и новое рождение.
* * *
Как известно, сам Зощенко назвал свою повесть «Перед восходом солнца». «Повесть о разуме» – это произвольное и потому – только условное название второй части повести, которое дано ей при первой отдельной ее публикации в журнале «Звезда» в 1972 году. Оно, стало быть, не выражает воли автора. Тем не менее неожиданным образом оно соответствует как авторскому названию всей повести, так и ее содержанию. Не в том, конечно, «позитивном» смысле, который, скорее всего, пытались вложить в этот журнальный заголовок редакторы (возможно – соответствующий пониманию самого Зощенко). Вопреки попытке представить повесть как своего рода «апологию разума», реализующего себя в той версии современной «практической» психологии, которую представляет собой классический психоанализ, мы склонны видеть в ней, скорее, чрезвычайно характерное и поучительное выражение подлинной драмы этого разума, которую и можно было бы назвать «драмой неис-целенного разума».
Психология – психотехника – психагогика [135]
В работе представлены результаты последовательного методологического анализа современной ситуации в сфере психологии, ближайшим образом – практической психологии личности – в контексте задачи самоопределения психолога в этой ситуации – самоопределения ввиду определенного понимания предельных целей и ценностей его профессиональной работы.
Эти цели и ценности понимаются нами как поиск путей к конкретной психологии человека, которая: 1) была бы состоятельной перед лицом реальных жизненных проблем современного человека; 2) ориентировалась бы на человека, условием существования которого является духовная работа над собой, ведущая к его личностному росту; 3) была бы Путем для самого психолога и 4) могла бы быть включена в поиск новых форм жизни и Нового человека.
Самоопределение психолога в современной ситуации его работы реализуется в виде двух «критик психологии»:
1) «критики естественнонаучного разума», вскрывающей – через анализ основных версий естественнонаучной парадигмы исследования в психологии – ее принципиальные ограничения, которые не позволяют ей ни эффективно включаться в разного рода психотехнические практики работы с реальными проблемами человека, ни полноценно ассимилировать – внутри науки – опыт этих практик или даже – просто адекватно осмыслять его, ни, наконец, удовлетворительно справляться с теми «неклассическими» ситуациями, которые возникают внутри самой научной психологии;
2) «критики практического (психотехнического) разума», выявляющей реальное психологическое содержание различных современных психотехнических и, шире – антропотехнических практик работы с человеком, прежде всего – в том, что касается реальных ценностных ориентаций, которые доминируют в современных психопрактиках и, как выясняется, находятся в разительном противоречии с объявляемыми гуманистическими ценностями.
Предпринятая критика позволяет наметить контуры психологии нового типа, с самого начала включенной в те или иные практики духовной работы человека, рассмотреть особенности характерного для нее типа рациональности, а также ряд ключевых проблем этой психологии.
* * *
Обсуждение проблем так называемой «практической психологии» – почему «так называемой», станет ясно дальше, – будет развертываться, как было сказано, в контексте собственного самоопределения психолога (потом и в этом пункте придется сделать оговорки) в современной ситуации в психологии, а основная часть работы – выполняться в форме критики (или критик – как было сказано, их будет две) психологии. Важно подчеркнуть, что критики должны браться не сами по себе, но именно внутри и в рамках этого самоопределения. Это – исторические критики психологии, но не в том смысле слова «история», который, может быть, привычен психологическому сообществу, но в том, который можно было бы соотнести с христианской эсхатологией. И, в конце концов, все измерения критики (и собственно методологическое, и антропологическое и др.), равно как и попытка дать (в ходе развертывания этой критики) абрис новой – во многом альтернативной существующей (как научной, так и практической) психологии, – вся наша работа, в конце концов, будет включена в эту основную эсхатологическую рамку и ею будет определяться.
Первое, что надо сделать в контексте самоопределения, – объявить предельные цели и ценности своей работы.
Первая из них состоит в том, что психология – и сегодня это особенно важно для самого ее выживания в социокультурном контексте – должна, наконец, стать состоятельной перед лицом реальных проблем человека. То, что называется «научной психологией», – это по преимуществу экспериментальная дисциплина естественнонаучного типа. По необходимости это означает, что такая психология оказывается психологией лабораторных препаратов от человека. Беря человека только в лаборатории, она производит своеобразную редукцию всего, «полного» человека – «homo totus», как сказал бы Юнг, – к тому, что можно было бы назвать «homo in vitro», то есть «лабораторным человеком», но не в первоначальном смысле «лаборатории» как «места работы» – быть может также и – работы человека над собой (как, например, в случае алхимической лаборатории), но – отпрепарированным «человеком в пробирке». И когда академическая психология пытается выдавать себя за «психологию вообще» и говорить что-то по поводу реальных психологических проблем, то довольно быстро обнаруживает свою полную несостоятельность, причем тень этой ее несостоятельности падает на всю психологию – происходит, таким образом, дискредитация психологии вообще. Еще Выготский указывал на роковой «академизм» экспериментальной научной психологии.
Так называемая практическая психология – по самой своей природе и изначально – пытается иметь дело с человеком в реальных, жизненно значимых ситуациях его жизни и деятельности. Сплошь и рядом, однако, эта психология – отдает она себе в этом отчет или нет – производит другую, не менее страшную редукцию человека: не редукцию (как в случае научной психологии) к лабораторному препарату от человека, но – редукцию к человеку, которого можно было бы назвать «homo vulgaris» – обыденному, коммунальному, «вульгарному» человеку – «обывателю». Это – человек, в состав условий существования которого не входят собственно духовные измерения жизни. «Клиентом» (самое слово – из коммунального обихода!) практической психологии является обыватель; и та жизнь, в контексте которой эта психология берет человека, – это обыденная, коммунальная жизнь. Эта психология в социальном плане сознательно ставит себя в один ряд с другими коммунальными службами – такими как парикмахерская или баня – и пытается так же, как они, прямо соответствовать запросу клиента, вполне в духе «чего изволите?». Клиент же хочет только одного: чтобы психолог – психотерапевт, психоконсультант – его «обслужил», разрешил его проблемы и затруднения, по возможности, без его собственного в этом участия, чтобы, в конечном счете, максимально успешно и с удовольствием продолжить свою прежнюю жизнь – несмотря на или даже вопреки тому, что изнутри самой этой жизни его из этой жизни «выбивает». Это можно показать и на примерах самой рутинной работы практического психолога в обычных, повседневных, ординарных ситуациях. Но с особой очевидностью это обнаружилось в случае работы с людьми в экстремальных ситуациях, как мы наблюдали это в работе с пострадавшими от землетрясения в Армении.
Практический психолог часто даже не задумывается над тем, что он по существу делает и в чем состоят предельные цели и ценности его работы. На словах он, конечно же, исповедует гуманистические ценности и, как правило, даже не сомневается в том, что их-то он и реализует в своей работе. Нетрудно показать, однако, что чаще всего мы имеем дело всего лишь с особого рода «гуманистической идеологией», можно сказать – с «желтыми логарифмами» расхожего гуманизма. По большей части его – по-своему искреннее и участливое – вмешательство в качестве психотерапевта нацелено, в конечном счете, на то, чтобы помочь этим людям «вернуться» к полноценному существованию в их прежней жизни и продолжить ее так, «как будто ничего не случилось». Как будто бы и не было потери руки или ноги или потери своих близких, как будто бы и не было этого зрелища «конца света», которое многим из этих людей (а по сути – каждому из них) предоставило – дорого оплаченный ими, уникальный, быть может, последний – шанс понять что-то важное в себе, в своей жизни и, с опорой на это понимание, изменить. Психолог же, искренне желая «помочь» этим людям, вместо того чтобы помочь использовать этот шанс, «предает» его, соглашаясь действовать на стороне тех сил в человеке, которые – «в обход» этой возможности понимания – пытаются длить и укреплять его прежнюю жизнь, «консервировать» и защищать ее против «угрозы» изменения. Сама жизнь тут «поработала» на гуманистическую психологию, поставив человека в такую – воистину «пограничную» – ситуацию, в которой он мог бы получить настоящий «инициальный» опыт – опыт, открывающий возможность самопонимания, трансформации, личностного роста, – в ситуацию, путь к которой иначе пришлось бы специально искать в терапевтической работе, – сама жизнь тут открывает человека действию обновляющей и преображающей силы, а терапевт, как будто нарочно – пусть и не отдавая до конца себе отчет в этом, – действует как раз наперекор этой силе. Ортодоксальный психоанализ дает наилучший пример терапии, действующей подобным образом. Лучше всего это можно показать на разборе какого-нибудь конкретного феномена – например, того, что известен под именем перенесения.
Перенесение – возьмем только положительную его составляющую, то, что называется «любовью в перенесении», – это, как известно, особый искусственный, то есть вызываемый к жизни самой психоаналитической процедурой, вид привязанности, влюбленности пациента в терапевта, который в форме здесь-и-теперь разыгрывающихся отношений к терапевту воспроизводит все свои самые значимые привязанности к близким людям в прошлом. В этой психоаналитической любви – «все старое», все – только то, что «уже было». Задача психоаналитика и состоит в том, чтобы распознать и идентифицировать «объект» чувства пациента среди значимых персонажей драмы его прежней жизни. И если психотерапевт пытается использовать перенесение для достижения терапевтических целей, то он намеренно – но вместе с тем и неизбежно – ограничивает круг психотерапевтического опыта пациента только тем, что бесконечно воспроизводит и продолжает опыт его прежней жизни. В соответствии с психоаналитическим представлением о болезни и излечении нынешний невроз пациента коренится в его прошлом, как правило – в весьма отдаленном прошлом, чаще всего – в событиях раннего детства.
Этот общий упрек можно конкретизировать на разборе целого ряда основных понятий, которыми оперирует сегодня практическая психология. Возьмем, к примеру, существующие в ней представления о норме и патологии, о том, что считать болезнью, а что считать здоровьем, и соответственно – представление об излечении. Для традиционной психотерапии и соответствующей психологии характерно однозначное ценностное маркирование состояний здоровья и болезни. Болезни приписывается безусловно отрицательная ценность. Болезнь – это нечто, чего, по возможности, следует избегать, а коль скоро избежать все-таки не удается, следует постараться как можно скорее любыми средствами – «все средства тут хороши!» – устранить и, тем самым, вернуть человеку его здоровье, важно – прежнее его здоровье. Вернуть его к полноценной здоровой жизни – важно, опять же: к прежней жизни. Используя старую формулу Киркегора, следовало бы различать «болезнь-к-смерти», когда болезнь не открывает или даже, наоборот, закрывает для человека шанс продуктивной трансформации, «второго рождения», и, напротив, «болезнь-к-жизни», когда прохождение через болезнь является моментом продуктивным, когда болезнь является особой формой продуктивного переживания, своего рода «маленькой смертью» и пере-рождением. Русский язык позволяет закрепить это различие терминологически, говоря об «излечении» и «исцелении». «Ис-целение» – это и есть «возвращение» к цельному, или «полному», человеку, которое в целом ряде направлений современной психотерапии (от Роджерса до Юнга) провозглашается в качестве одной из фундаментальных ценностей. «Ис-целение» – это, стало быть, не есть возвращение к прежнему «здоровью» нецельного человека, но – приобретение нового здоровья через достижение невозможного прежде целостного состояния человека, через «возвращение» его к целостности его существа. Установленная на исцеление психотерапия должна перевести «болезнь-вообще», то есть болезнь, как она первоначально существует для пациента и как она только и известна традиционной психотерапии, в «болезнь-к-жизни» и лишь затем разрешить ее в здоровье, которое только в таком случае и может быть «здоровьем-к-жизни». Известная в эзотерических духовных движениях трехчленная формула такта работы над собой, гласящая: «пробудиться – умереть – родиться», внутри терапии означала бы движение от исходного состояния «болезни-вообще» через осознание различия «здоровья-к-жизни» и «здоровья-к-смерти» («пробуждение») и далее через состояние «болезни-к-жизни» («умирание») к состоянию «здоровья-к-жизни» («рождение», «второе рождение»). По отношению к этому рождению «болезнь-к-жизни» есть высвобождение места для прихода и действия в человеке силы, способной преобразить старого, прежнего, ветхого человека в нем в человека Нового. Действие этой силы и ведет к подлинному ис-целению, то есть к «восстановлению» цельного, полного, подлинного человека в человеке. «Частичный» человек по определению является уродом – в том замечательном цветаевском смысле, в котором она говорит: «Урод – это часть самого себя». Каждый раз, когда то, что на самом деле является только частью целого, пытаются выдать за целое, – порождают урода. И практическая психология, утверждающая частичного человека как всего человека, как человека «полного», выказывает свою небезобидность, ибо она не просто ориентируется на этого человека в познавательных интересах и «отражает» его в своих представлениях, но всем своим существованием она консервирует этого частичного и ублюдочного человека, утверждая его как единственно возможного человека, как норму человека. И противостоять этому очень трудно, ибо все окружение психолога, глобальная ситуация провоцирует его на такое видение человека и соответствующий способ работы с человеком. Действительно, в чем, например, реально могла бы состоять и как в социальном плане могла бы быть реализована альтернатива традиционной психотерапевтической работе в случае с теми же армянами? Что же – «общину», колонию создавать из тех, кто не может и не хочет продолжать жить прежней жизнью, ибо ведь действительно – где же им свою новую жизнь жить?! Пусть вопрос этот уже не совсем «по части психологии», пусть не дело терапевта «устраивать жизнь пациента», пусть человек сам должен решить, жить ли ему теперь «из» того – нового – понимания своей жизни, возможность которого открывает терапия, или же, как ни в чем не бывало, продолжать прежнюю жизнь, но все же и для психотерапевта вопрос этот не может не существовать, он не может от него «отмахнуться», и если терапевт хочет действовать ответственно, то он должен отдавать себе отчет во всей радикальности последствий своей работы. Нынешняя практическая психология, однако, принимает свой способ видения и работы с человеком не только в силу внешнего давления, но, прежде всего, потому, что иначе она просто и не может его видеть и не знает, как по-другому работать с ним. Есть какие-то принципиальные внутренние ограничения в видении человека, в понимании того, каким способом можно работать с ним, пытаясь достичь терапевтических целей, непреодолимые для современной практической психологии, которые, по существу, не позволяют ей, даже если бы она и захотела, быть другой. И ограничения эти проистекают, прежде всего, из той особой формы редукционизма, который связан с ориентацией на «частичного человека» и с неспособностью помыслить, увидеть и иметь дело с «полным человеком». Если пытаться нащупать и продумать альтернативу тому видению человека, которое характерно для практической психологии, ориентированной – как на норму человека – на обывателя, на человека, целиком погруженного в обыденную жизнь, условием существования которого не является внутренняя жизнь и работа над собой, то альтернатива эта должна была бы состоять в обращении психологии к человеку, которого следовало бы называть «духовным человеком» или «человеком пути» – в том смысле, в котором, положим, Михаил Чехов говорил о «пути актера», о «пути художника» вообще, то есть – в том самом смысле, в котором о «человеке пути» говорят во всех серьезных духовных движениях. Язык тут остро настроен и точно фиксирует важные оппозиции: по-русски не зря ведь говорят «беспутный» по отношению к человеку, потерянному в духовном, то есть собственно человеческом смысле. Альтернатива нынешней практической психологии и должна состоять в поиске психологии и психотерапии, ориентированных на «человека пути», «путевого человека», в поиске психологии и психотехники пути.
Но не означает ли такая переориентация практической психологии – принятие ею ценности пути по отношению к человеку, с которым имеют дело психопрактики, – не означает ли она одновременно тем самым также и утверждение этой же ценности пути по отношению к самому психологу и психопрактику? Не следует ли тогда искать такую психологию и психотерапию, о которых позволительно было бы говорить как о «пути психолога», в случае которых собственно профессиональная работа оказывалась бы также формой и способом осуществления этого пути? На наш взгляд, именно так и должно быть!
Нетрудно понять далее, что Новая психология должна иметь дело с человеком не наличным, а только еще должным прийти, с человеком искомым, грядущим, можно было бы сказать: «насущным» – в том евангельском смысле, в котором говорится о хлебе насущном. Насущный ведь означает здесь не «потребный», но обетованный, новый, «претворенный» хлеб. В этом именно смысле Новая психология сама должна быть путем к Новому человеку. Она должна быть такой, чтобы включиться в поиск этого «на-сущного» человека.
Вот те ценности, в свете которых и должна осуществляться критика практической психологии, «критика практического разума» в психологии, равно – в кантовском смысле и соответственно тому, что ранее было сказано о критике естественнонаучного («чистого») разума в ней. Критика эта должна быть нацелена на выявление присущего практической психологии особого типа рациональности, выступающего в качестве ее («трансцендентальных») условий возможности. По отношению к «естественнонаучному разуму», эта критика, по крупному счету, уже выполнена – прежде всего, в работах философов, вышедших из Московского методологического кружка, – Г.П. Щедровицкого, М.К. Мамардашвили, В.М. Розина и других, в наших работах, а также в целом ряде работ современной зарубежной философии науки: достаточно четко зафиксированы основные черты естественнонаучного типа рациональности, проанализированы его принципиальные изъяны и ограничения, вскрыты их последствия для психологии.
Что же касается «практического разума», то, по-настоящему, его критика только еще намечается. Говоря о критике практического разума в психологии, приходится иметь в виду, прежде всего, критику «психотехнического разума» или критику психотехники – техники работы с психикой в «лобовом», буквальном, редуцирующем смысле слова. Пример такого понимания психотехники можно найти даже в такой, по-своему замечательной работе, как книга Цзена и Пахомова «Психотехнические игры в спорте», ибо в ней – как это ни парадоксально для авторов, которые являются, так сказать, «психотехниками от эзотерики», – реализуется характерная для современных массовых форм психопрактики и соответствующей психотехнической «масс-культуры»! – попытка брать отдельные психотехники вне того более широкого контекста, в котором они рождались, и в котором они только и имеют смысл, и вне которого их отправление может вести к прямо противоположным результатам или быть, по крайней мере, непредсказуемым. Очевиден своеобразный «технологизм» такой позиции, в соответствии с которой техника – психотехника, взятая сама по себе, – «всё», а личностное присутствие психопрактика, психотерапевта и более широкая рамка работы – ничто. В противовес этому уместно напомнить слова Роджерса, сказанные им в ответ на вопрос о том, какими собственно «психотехниками» пользуется индирективная психотерапия, когда он – на удивление почтенной психологической публике – заявил, что хотя, конечно же, у него есть много разных «психотехник» и что они, быть может, даже и организованы в своеобразную «психотехнологию», но главное – не это. Главное лежит в совершенно другом измерении, а именно – в плане собственно диалогического личностного контакта, по отношению к которому психотехнический план терапевтического взаимодействия оказывается несамостоятельным. Как у хорошего пианиста техника – «в пальцах», он не думает о том, «как играть», но «вслушивается» в музыку, «выслушивает» ее своей игрой и открывает ей дорогу к уху слушателя. Подобно тому, как и все мы не думаем – как говорить, когда говорим, какие выбирать слова, грамматические формы и т. д. Это происходит как бы «само собой», а мы заняты при этом совсем другим, наша работа происходит в другом измерении, и, соответственно, единица, целостность этой работы – совсем другая, она не может быть редуцирована к плану инструментов и языковых средств, к «технике» в узком смысле слова. «Психотехника» в узком смысле слова является таким же уродом, как и тот частичный человек, к которому она прилагается: они друг другу соответствуют и, нужно признать, друг друга стоят. Психотехника в узком смысле может быть реализована только по отношению к частичному человеку, она ориентирована на него и соответственно его утверждает как норму и как единственно возможного человека. По отношению к «полному» человеку отправление психотехники в этом смысле слова просто-напросто абсолютно невозможно, – иначе можно было бы сказать: невозможна никакая попытка манипулировать человеком. Ибо что и есть эта «психотехника» в узком смысле слова, как не техника манипулирования человеком – его психикой, сознанием, личностью? Редукция, свойственная современной практической психологии, – это редукция к «вульгарному человеку», к человеку, лишенному собственно духовно-личностного измерения. Причем не нужно думать, что эта редукция не затрагивает и полюс самого терапевта. Разговор о Новой практической психологии и психотерапии поэтому следовало бы начинать с самого слова «практика». Ибо «есть практика и практика!» Редуцирующему взгляду на человека в практической психологии соответствует и редуцированное понятие «практики». Именно поэтому следовало бы говорить о так называемой «практической психологии». Когда в свое время Платон говорил о практике, он имел в виду не какие-нибудь коммунальные службы, не понятие из лексикона коммунальных работников, с которым соотносится так называемая «практическая» психология, но – «воспроизводящее самоё себя нравственное действие»! То есть свободное человеческое действие – собственно поступок. И хотя, естественно, Платон не мог говорить о «человеке насущном» в евангельском смысле, но уже и он имел в виду человека все-таки «иного», «нового», Человека, которого всегда еще нужно достигать, для которого нужно еще высвобождать место в этой жизни, чтобы ему было куда прийти, «где стать», и – осуществлять поиск этого человека. Самые интересные современные исследователи сплошь и рядом не дотягивают в этом отношении до Платона. В частности, М. Фуко, ставя в одной из последних своих работ задачу реконструировать то, как человек «конституирует себя в качестве субъекта моральной жизни», не понимает, что первый вопрос, который должен здесь возникнуть, это вопрос: в качестве субъекта – какой жизни? Этой или какой-то другой? Какого, собственно, человека он имеет в виду – «ветхого» или «Нового»? Всей логикой своей работы Фуко показывает, что он остается при «ветхом» человеке! Тогда как если иметь в виду такие формы духовной жизни, духовного движения, какие, например, имеются в виду в работах М. Чехова, то это – «Практика» совсем уже в ином, Новом смысле. Не следует ли вернуть категории «Практики» тот изначальный греческий, – как выясняется, большой и серьезный смысл, который она имела в работах (и – в практиках себя, своей жизни!) первых философов, закрепив это слово за такими формами духовной работы и внутреннего поиска, которые, в конце концов, ориентированы на высвобождение места Новому человеку в человеке.
И первый вопрос, который необходимо решить при поиске пути к Новой психологии, – это вопрос о Практике – о практике в строгом и, вместе с тем, изначальном смысле слова, о Практике, в которую эта психология должна быть включена, которой она была бы причастной. Решающим становится вопрос о выборе опорного типа практики, коль скоро такая практика уже существует, или – если ее нет – вопрос о ее развертывании, построении. То, с какой формой Практики сопрягает себя психология, решающим образом определяет то, какой она будет. Вместе с переходом от человека обыденной, коммунальной жизни к человеку, устанавливающему себя в качестве такового в тех или иных Практиках духовной работы, с неизбежностью должен произойти переход от «психотехники» в узком смысле слова к тому, что условно можно было бы назвать «психагогикой». Психотерапевт становится своего рода «ведущим» или «проводником» в неком духовном странствии, можно было бы сказать – «сталкером» – в том смысле, какой этому слову был придан фильмом Тарковского.
Это – что касается практической стороны, стороны самой психопрактики. Что же касается плана психологии, то тут становится проблематичным самое понятие «исследования» в строгом смысле слова. Быть может, здесь следовало бы говорить о «познании», или даже о «гнозисе», опять же – в прежнем, серьезном, эзотерическом его понимании. Соответственно, психолог становится «психогностом». А коль скоро «психогнозис» выступает теперь в контексте психагогики, то психолог оказывается, по необходимости, также и «годологом», или даже – «годогностом», то есть «прозревающим путь» или, быть может, точнее – помогающим другому прозревать, открывать свой путь и следовать по нему. Переход от «логии» к «гнозису» и «гностике» должен означать, прежде всего, смену установок или, если угодно – смену методологии: переход от установки на развертывание «теорий», от установки на конструирование «идеальных сущностей», от установки на «знание» – к установке на «видение», живое видение в ситуации – и, соответственно, на «повивание» духовных событий. Все основные проблемы психологии получают при этом совершенно иное освещение, в психагогической практической психологии предстают в совершенно новом свете. И, прежде всего, это касается проблемы понимания.
Понимание в психагогике, во-первых, ситуативно и действенно, а во-вторых – событийно. Событийно – в том углубленном смысле слова, который соотносится нами с диалогической концепцией сознания, предложенной Бахтиным. Перефразируя цветаевскую формулу любви, можно было бы сказать: «понять – значит позволить другому быть, чтобы принять избыток». Но перифраз тут или парафраз? Ведь понимание в психагогике и есть особый род любви. Не той, конечно же, какую, говоря о «перенесении», мог бы иметь в виду психоанализ. «Понимание» в психагогике, поворачивая цветаевскую формулу, приводит – всегда впервые – к бытию то, что этому пониманию изначально дано бытием – как его основание – Другого, Друга. Не «любовь-обладание», но «любовь – высвобождение к бытию», любовь-творчество, любовь-преображение, любовь как преображающее проведение к бытию. Понимание здесь есть высвобождение места для бытия Другого, но одновременно и тем самым – высвобождение места для своего собственного бытия (как условие возможности первого) перед Другим, внутри его, Другого, понимания. Понимание здесь также еще и – продуктивно, причем в радикальном смысле, ибо понимание здесь означает «при-рост самого бытия». И опять же – одновременно на обоих полюсах: пациента и терапевта. Это означает, что понимание здесь – со-бытийно. В свете представления о высвобождении в человеке преображающей его творческой силы по-новому выступает и вопрос о «природе» человека. «Природа человека» должна обозначать теперь не что-то лежащее «до и позади» социокультурных определений человека и ими (этими социокультурными определениями) преодолеваемое, то есть – «сырое», если воспользоваться словами Леви-Стросса, в противовес «вареному» – прошедшему через горнило культуры и истории. Напротив, Природа тут – это нечто, всегда еще человеку только предстоящее и настоятельное, «насущное» – в том евангельском смысле, о котором говорилось раньше. «Природа человека» всегда «впереди» его уже наличного. Она – не что-то «недочеловеческое», но скорее нечто «за-» и «послечеловеческое» в нем, для чего всегда еще только должно быть высвобождено место. Человек – еще раз поворачивая хайдеггеровскую формулу – приводит к бытию то, что от века дано ему бытием в качестве его «природы», – творчество. Трудно оказаться ближе к тому этимологически изначальному и сокровенному, а потом утраченному смыслу слова «природа» – причем не только в русском, но и в других, в частности в латинском, языках. «Natura» ведь – по своему первому значению – «рождение», «роды». Еще и сегодня можно слышать соответствующий смысловой обертон в словах «натальный», «пренатальный», «постнатальный». «Natus» – «рожденный», «сын», кроме прочего – и в сочетании «сын Божий». «Природа» человека, конечно же, – это всегда только natura naturans – родящая, рождающая, творящая природа, а не природа сотворенная, natura naturata. Природа человека и есть та сила в нем или, правильнее было бы сказать, – та сила и есть природа человека, которая рождает его в Новую жизнь, претворяет в вино Новой жизни воду жизни прежней.
Важно подчеркнуть, что намечаемая нами альтернатива современной психологии – это альтернатива одновременно и естественнонаучной парадигме мышления, характерной для экспериментальной научной психологии, но также – психотехнической парадигме, господствующей в практической психологии: это – «альтернатива альтернативе» – в противовес и тому и другому должно быть развернуто нечто «третье». Бытующее противопоставление научной и практической психологии по основанию их «теоретичности» – неверно и непродуктивно. Можно найти целый ряд таких направлений в современной практической психологии, которые в этом отношении не уступят самым рафинированным, самым разработанным научным концепциям. Трудно согласиться с расхожим убеждением, что принципиальное отличие практической психологии от научной в том, что она не обеспечена теорией. Если брать серьезные версии практической психологии, а не те доморощенные, карикатурные и смехотворные, в которых ее можно встретить у нас сегодня, если взять тот же психоанализ или такие современные направления, как транзактный анализ, психосинтез, гештальттерапию, не говоря уж о Юнге или Лакане, о Роджерсе или Дюркхайме, – везде можно найти основательно продуманные и детально разработанные теоретические представления. Неудовлетворительность многих направлений современной практической психологии проистекает не из отсутствия в ней теоретических представлений, но из того, что представления эти оказываются, по крупному счету, апологией уже наличного и, надо признать, «коммунального» человека – апологией обывателя. За немногими исключениями. Но принципиальное отличие их, как правило, не понимается. Если, к примеру, взять не ортодоксальный психоанализ, а юнговскую аналитическую психологию, то нельзя не видеть в ней особую версию гностической, эзотерической работы. Юнг – психолог, работа которого уже во многом отвечает тем ценностям, которые конституируют понятие «Практика» в собственном смысле этого слова, – аналитическая психология действительно включена в Практику в узком и строгом смысле слова. Во всяком случае, так это было для самого Юнга. Важно подчеркнуть, что в представлениях о человеке, бытующих сегодня в так называемой практической психологии, некоторые этажи или измерения духовной или душевно-духовной организации человека не просто отсутствуют, но этому отсутствию придается как бы даже некое принципиальное значение. Говорят, что психология и не должна выходить за рамки собственно психического, душевного. Сфера духовного – это не ее дело. Что, пытаясь иметь дело с духовным, она не просто даже изменяет себе, но и – делает нечто опасное. Психология должна быть «очищена» от духовного. Между тем исключительно важно понять, что без обращения к собственно духовному психология и психотерапия принципиально не могут обойтись. Можно было бы привести грубые, вплоть до психосоматики примеры того, что неучет этого измерения, попытка объявить его несущественным или даже несуществующим («объявить» здесь надо было бы взять в кавычки, поскольку это может быть установкой и самого носителя психики – клиента, пациента, – а не только работающего с ним психотерапевта) или хотя бы попытка утверждать автономию сферы психического ведет к довольно явным симптомам того, что что-то в человеке пытается этому противостоять. Это важно подчеркнуть психологу, поскольку в силу «вмененности» современному массовому сознанию штампов «технологического» и даже «производственного» мифа о человеке любые рассуждения о «Новом человеке» автоматически воспринимаются в духе идей «формирования нового человека», «инженерии человеческих душ» и, стало быть, оказываются безнадежно дискредитированными. Каждый практический психолог, однако, который имеет опыт соответствующим образом построенной работы, может убедиться в том, что в человеке действительно есть такая сила, которая борется за него как за человека по крупному счету, пытаясь задействовать и даже поставить во главу угла собственно духовные цели и ценности жизни. И работа терапевта заключается в том, чтобы помочь человеку, его «Я», от лица которого он живет в обыденной жизни, прийти в контакт с этой силой (началом, инстанцией) в нем и реализовать ее действие в этой жизни. Старая эзотерическая формула, как известно, гласит, что задача внешнего учителя состоит только в том, чтобы привести ученика в контакт с неким «внутренним» учителем в нем, после чего внешний учитель, по существу, уже не нужен. Принципиальная дефициентность современной практической психологии, в ее способе иметь дело с человеком, проистекает именно из недоверия к этой внутренней силе в человеке или даже из непризнания ее существования и действия в человеке, из игнорирования ее. Причем психология не то чтобы не хочет, но именно не может ее учесть. Тот тип рациональности, который она отправляет, не позволяет ей этого сделать – не позволяет должным образом помыслить человека, увидеть его, иметь с ним дело. Практическая психология во многом все еще не вышла из пут натурализма. Она и сегодня, по-прежнему, пытается реализовать интенцию на развертывание таких теоретических представлений, которые по существу родственны «моделям» – как они понимаются в естествознании – со всеми вытекающими отсюда последствиями. В случае же психологии, ориентированной на «высвобождающие», «психомайевтические», «психагогические» практики, самый тип теоретических представлений должен стать иным. Здесь мы приближаемся к тому, что Флоренский называл «символическим описанием». «Символическое описание» не замещает изучаемый объект, вставая в мышлении, в познании на его место, как это делает модель; «символическое описание» всегда остается «при» познаваемом, но одновременно также – и при прежних наших познавательных способностях, выступая в качестве «продолжения», «усилителя», «амплификатора» этих способностей, позволяя лучше видеть, слышать, понимать – важно: в самой реальности, в конкретной ситуации здесь-и-теперь. Эта «инструментальная» функция символического описания по отношению к живому познанию является самой главной. Строго говоря, эти «амплификаторы» познавательных способностей не столько даже производят некоторый эффект в нашем познании, сколько, опять-таки, только создают возможность, «шанс» для него, «высвобождают место» для некоторого события познания.
По отношению к символическому описанию обычные оценки теоретических построений на их строгость, например, по степени использования математики и т. д. оказываются неадекватными, несущественными. Для того чтобы то или иное теоретическое построение могло выступить в качестве эффективного амплификатора познавательных способностей, в качестве особого «аппарата», продолжающего и усиливающего «естественные» познавательные органы, оно вовсе не обязательно должно быть математическим. И наоборот, самая что ни на есть «математическая» теория, вроде максвелловской электродинамики со всеми ее двадцатью тремя уравнениями, в конце концов, может быть рассмотрена в качестве только «символического описания», которое могло бы выполнять – еще одна важная оппозиция – не столько функцию механизмического «объяснения», как в случае «модели», сколько – живого «понимания» (в случае Максвелла, как мы знаем, его же собственные математические – теоретико-полевые, то есть, по сути своей, альтернативные механизмическим! – построения не давали ему самому удовлетворительного понимания, и ему пришлось восполнять их собственно механическими (!) конструкциями – особым образом «протезировать» свою живую способность понимания, но – парадоксальным образом – так, чтобы как раз позволить ему не выходить за рамки собственно механизмического разума, куда его по существу «выталкивали» его же собственные – теоретико-полевые – математические модели). Само понимание здесь тоже имеет совершенно особый смысл. Обычно, говоря о понимании, имеют в виду нечто, стоящее в одном ряду с чем-то вроде эмпатического «сопереживания», «вживания», «заимствования» точки зрения другого и т. д. Понять до конца другого человека в этом смысле – значит, как говорил Достоевский, «стукнуться об дно», полностью «воспроизвести в себе» его душу. Не касаясь сейчас вопроса о методологической состоятельности такой концепции понимания, отметим лишь, что подобная концепция – как это, быть может, ни неожиданно для психолога – во многих ситуациях как раз практической работы просто нереализуема. Как, исповедуя подобную концепцию понимания, можно понять, скажем, наркомана? Если быть последовательным, нужно признать, что в рамках «эмпатической» концепции понимания сначала нужно было бы стать наркоманом, чтобы потом «с пониманием» работать с ним. Но ведь это, если тоже продумать до конца, означало бы: перестать быть терапевтом. По существу, буквально понимаемое «эмпатическое понимание» во многих – практически как раз наиболее важных случаях – оказывается абсолютно невозможным. «Понять» же в психагогике – значит: позволить Другому быть, высвободить место для этого Другого в неком со-бытийном хронотопе. Акт понимания здесь – это всегда двухсторонний ход навстречу, диалогическая встреча в со-бытии друг другу. И «символическое описание» должно быть, прежде всего, включено в понимание. Оно-то и должно «высвобождать место» для бытия другого, а точнее – для со-бытия другого мне. Оно должно быть в этом смысле «ловушкой» для бытия, для чего-то, что мы хотим впервые привести через это символическое описание к присутствию, вывести на свет, важно – вот здесь-и-теперь, в этой ситуации. Важно отграничить эту точку зрения от натуралистической, пусть на первый взгляд идея «высвобождения» и может иметь натуралистический привкус. Необходимо со всей определенностью подчеркнуть, что через эти акты понимания впервые приводится к присутствию, устанавливается – прежде всего, в бытийном, онтологическом смысле и только в силу этого – также и в гносеологическом – для познания, изучения – нечто, чего до выполнения этого акта понимания и вне его нигде и никогда не было и быть не могло. Причем самое это «приведение» – «прибыльно», «продуктивно» – в том радикальном смысле «прироста бытия», о котором уже говорилось ранее в связи с концепцией понимания и о чем в свое время, особенно в ранних работах по философии творчества и в «антроподицее» так настойчиво говорил Бердяев. «Дополнительным» к такому пониманию понимания – как «высвобождающего», «майевтического» понимания – было бы его понимание в терминах трансформации, пере-рождения, пре-ображения человека высвобождаемой в нем силой. В проблеме исцеления особенно важно не терять представления о двойственной «природе» или «начале» человека, дабы со всей определенностью отдавать себе отчет в горизонте возможностей и скромном месте терапевта, в том, что все, что может сделать терапевт, – это только помочь человеку высвободить в себе место для прихода Нового человека в нем. «Путь к другому человеку, – говаривал Платон, – лежит через другого в нем», то есть – через того Другого, Нового человека в нем, который всегда еще только должен прийти и которому майевтическая терапия – психагогика – должна «исправить пути».
Новые идеалы научности и путь практической психологии личности [136]
По отношению к психологии сегодня следовало бы провести двоякого рода критику. Критика естественнонаучного метода – только одна из этих двух критик, только половина дела. Столь же последовательно нужно было бы выполнить и критику «практического разума» в современной психологии, критику психотехники в тех формах, в которых она существует сегодня как массовая практика. Для психологии сейчас эта, вторая критика даже более существенна.
Что касается естественнонаучной парадигмы, то она уже достаточно обнаружила свою несостоятельность в психологии, причем как внутри самой академической научной психологии перед лицом ее имманентных проблем, так и в областях сопредельных – таких, например, как психоанализ или другие психопрактики, которые самой академической научной психологией помещаются вне науки, но которые ставят психологическую мысль перед лицом реальных проблем человека, перед лицом жизни.
Парадокс состоит в том, что как раз психологи, которые наиболее последовательно пытались утвердить в психологии естественнонаучную парадигму, в своих конкретных исследованиях снова и снова порождали такие ситуации для работы исследователя, которые в рамках естественнонаучного способа мышления осмыслены быть уже не могли. И для историка науки, для историка психологии было бы чрезвычайно интересно и поучительно на примере этих исследований проследить последствия применения методологической рефлексии, неадекватной природе исследовательской практики, для развертывания и судьбы самой этой практики. Причем это были, пожалуй, наиболее рафинированные в методологическом отношении исследователи.
Можно назвать хотя бы двух крупнейших представителей гештальтпсихологии: М. Дункера и К. Левина. Что касается Левина, свои первые крупные работы целиком посвятившего анализу развития естественных наук – ближайшим образом дисциплин биологического ряда, но также и физики, – то его авторитет как методолога и историка науки, причем прежде всего именно классического естествознания, был настолько высок, что не кто-нибудь, а сам В. Гейзенберг настойчиво советовал своим ученикам читать эти работы, чтобы лучше понимать, чем они занимаются и что на самом деле происходит в физике.
Стало быть, с одной стороны, Левин был исследователем, который не понаслышке знал, что такое естественнонаучный метод, и пытался внедрить его в психологию. В своей критике предшествующей психологии он пытался показать, что катастрофа, постигшая прежнюю, прежде всего – так называемую «интроспективную» психологию, то есть ту версию научной психологии, которую условно можно назвать «вундтовско-титченеровской», – проистекала именно из ошибочного понимания существа естественнонаучного метода, которое было реализовано в этой психологии. Левин был убежден, что реализация в психологии действительной, а не пародийной естественнонаучной методологии как раз и позволит преодолеть все проблемы и вывести психологию из кризиса.
Ошибочной, стало быть, Левин (как и целый ряд других крупнейших психологов нашего столетия, включая и Выготского, что, быть может, еще больший парадокс!) считал не саму ориентацию на естественнонаучный метод, но лишь ту конкретную версию его, которая была принята предшествующей психологией (версию, в которой, как он пытался показать, обнаружило себя вопиющее непонимание действительной сути естественнонаучного метода), и потому, стало быть, достаточно только установить это правильное понимание (что Левин и пытался сделать, опираясь на работы неокантианцев, прежде всего – Э. Кассирера) и внедрить его в психологию, как путь для нее будет найден.
Итак, с одной стороны, Левин выступает как убежденный и последовательный проводник в психологии естественнонаучного метода, причем действительно – в чрезвычайно серьезном и глубоком его понимании (работа Левина «Закон и эксперимент в психологии» (1926) до сих пор остается, пожалуй, лучшей работой по методологии естественнонаучного метода в психологии). С другой стороны, если проанализировать буквально любую из тех конкретных ситуаций исследования, которые складывались в экспериментах Левина, то каждый раз обнаруживаются такие особенности этих ситуаций, причем – принципиального и неустранимого характера, – которые делают всякую серьезную и до конца продуманную реализацию естественнонаучного метода в них абсолютно невозможной.
Первое, что обнаруживается при анализе экспериментов Левина, – это то, что в этих исследованиях невозможно «изъять» из ситуации эксперимента самого исследователя. Обнаруживается неустранимая включенность исследователя в ситуацию исследования – его исследовательских процедур, его понимания того, что происходит, его знания о том, что он изучает. Все это оказывается неустранимым элементом самой ситуации исследования и, стало быть, того «объекта», изучением которого занимается исследователь.
Поэтому в качестве «объекта изучения» тут должна выступать некая более широкая ситуация, охватывающая не только испытуемого, но и самого экспериментатора. Или же если в качестве такого объекта и рассматривать испытуемого, то это будет испытуемый, в которого – в ходе самого эксперимента – с помощью особых психотехнических процедур как бы уже «вложено» определенное видение ситуации, понимание каких-то ее сторон и происходящих событий, которые присутствуют у экспериментатора. Так или иначе, исследователь в этих экспериментах должен иметь дело со своим неустранимым присутствием в составе условий существования изучаемого объекта.
Допущение, при котором единственно только и можно вести исследование в такой ситуации, должно состоять в предположении как бы абсолютной прозрачности исследователя для самого себя. Это – та самая позиция «абсолютного наблюдателя», которую не раз обсуждал М.К. Мамардашвили. Конструкт «абсолютного наблюдателя» как раз и предполагает не только возможность полного и единомоментного обозрения всего поля отдельных опытов наблюдения изучаемого объекта из одной точки, но также (о чем задумываются меньше) – и абсолютную прозрачность наблюдателя для самого себя, предполагает для наблюдателя возможность поместить самого себя перед собой наряду с наблюдаемым объектом. Однако на самом деле исследователь в этих экспериментах – точно так же, как и испытуемый, – не может непосредственно знать – наблюдать и эксплицировать в знаниях то понимание ситуации, которым он располагает и на основе которого он строит свое исследовательское действие во взаимодействии с испытуемым, организуя его поведение. Тогда как по самой сути естественнонаучного метода исследователь не может не предполагать, что сделать это можно, по крайней мере, «в принципе».
Больше того, здесь все время присутствует наивное допущение, что видение ситуации, которым располагает экспериментатор, может, и опять же – непосредственно, как вещь, – передаваться испытуемому. При этом не учитывается тот «зазор» – та «дельта понимания», которая всегда есть между пониманием, которое существует в голове исследователя и – прямо или косвенно – передается испытуемому исследователем, и – тем, которое возникает у самого испытуемого и на основе которого уже он развертывает свое собственное поведение в ситуации.
Было бы полбеды, если бы неадекватная методологическая рефлексия никоим образом не влияла на само исследование. Но можно снова и снова убеждаться в том, что рефлексия эта оказывается роковой для жизни самих изучаемых феноменов.
Так обстоит дело внутри самой научной психологии. Попытка же распространить сциентистскую установку и на сопредельные с ней области, стремление и там использовать естественнонаучную методологию закрывает для нее всякую возможность адекватного понимания соответствующих феноменов, делает невозможным критическое осмысление и ассимиляцию внутри психологии того «опыта о человеке», который накоплен многочисленными психопрактиками. Это оказывается роковым прежде всего для самой психологии, лишая ее видения перспективы своего развития, приводя ее к «окукливанию» в себе, обрекая ее на оторванность от жизни, на прогрессирующую несостоятельность перед лицом действительных проблем реальной психической жизни человека.
Нужно заметить, что убежденность в адекватности и универсальности и даже – единственности сциентистски ориентированной, собственно естественнонаучной методологии сплошь и рядом характерна и для самих представителей сопредельных с научной психологией областей. В качестве примера можно указать на тот же психоанализ.
Даже самые крупные и рафинированные в интеллектуальном отношении современные психоаналитики, даже представители таких направлений современного психоанализа, как юнгианство или лаканизм – направлений, в которых в наибольшей степени реализуется понимание символической природы психоаналитической реальности и самих психоаналитических теоретических построений, – даже они всерьез озабочены изысканием условий возможности для превращения психоанализа в «науку», понимая, стало быть, психоанализ не как нечто – говоря словами самого Юнга – принципиально иное и большее, несоизмеримо более сложное, чем собственно наука (пусть даже самая строгая и развитая), но только еще как «пред-» или «недо-» науку – как то, что наукой только еще должно стать. К счастью для психоанализа, превращение его в науку до сих пор не удалось и, надо полагать, никогда не удастся, ибо это невозможно.
Присутствуя на одном Международном советско-французском симпозиуме по психоанализу, я лишний раз смог убедиться, что ни у кого из психоаналитиков сегодня нет ни тени сомнения в том, что психоанализ является наукой, а если даже в чем-то еще и не является, то нужно только еще немножко поднатужиться и он превратится-таки в безупречную науку.
Атмосфера этого симпозиума была такова, что было бы просто дурным тоном хоть в каком-то смысле усомниться в научности психоанализа. Ибо «ненаучность» – до сих пор что-то вроде ругательства. Один за другим поднимавшиеся на трибуну психоаналитики – и отечественные, и зарубежные – с пафосом говорили, что прежние времена безвозвратно прошли, что сегодня отношение к психоанализу совсем другое и т. п. Но в том-то и парадокс, что главным препятствием для радикального изменения отношения к психоанализу сегодня – соответственно действительной его природе – являются сами психоаналитики (да еще, пожалуй, горе-методологи науки), ибо общественное отношение к психоанализу изменилось, но их собственные мозги – нет.
Ни у кого из них не возникает вопроса: а должен ли вообще психоанализ быть наукой, может ли он наукой стать, для чего надо хотеть это сделать и т. д. И тупики, в которые заводит не только психолога-практика, но и теоретика естественнонаучная парадигма мышления, оказываются совершенно непроходимыми, безнадежными.
То, что большинству теоретических представлений психоанализа, даже самых фундаментальных – не только классического, фрейдовского, но и современного психоанализа – ничего в реальности не соответствует, это сегодня является очевидным, если не банальным, не только для внешних критиков психоанализа, но и для всякого думающего психоаналитика. Нет в природе таких вещей, как «эдиповский комплекс» или «комплекс кастрации», к которым, как к исходным точкам психогенеза невротического симптома, движется – и неизменно приходит-таки! – психоаналитический процесс, нет фрейдовских «инстанций личности»: «Я», «Оно», «Сверх-Я», нет тех «стадий развития влечений» и их трансформаций, которые описывает психоанализ, нет тех «законов» построения сновидений, с опорой на которые он строит их интерпретации, и т. п. и т. п.
С точки зрения стандартов оценки на истинность собственно научного знания, если теоретическим представлениям ничего в реальности не соответствует, то их следует отбросить и заменить более адекватными. И самые «продвинутые» и лояльные по отношению к психоанализу критики предлагают тут «не выплескивать с водой ребенка»: теоретические представления психоанализа, конечно же, нужно отбросить и заменить другими, более адекватными, но так называемую психоаналитическую «практику» оставить – как, безусловно, психотехнически эффективную, заслуживающую внимания и осмысления. Каверза, однако, состоит в том, что подобное разделение теоретических конструкций и практической работы – в случае не только психоанализа, но и любой психопрактики – абсолютно невозможно. Это обстоятельство и конституирует исходную для понимания природы психоанализа ситуацию. Фундаментальная ситуация психоанализа очень проста, а ключ к ее пониманию лежит очень близко, но почему-то до него не добираются.
Если мы действительно хотим понять, что такое психоанализ, мы и должны понять, как психоаналитик, опираясь в своей работе на такие представления о том, с чем он имеет дело – и как практик-психотехник, и как «исследователь души», – которым ничего в реальности не соответствует, тем не менее добивается поразительных и бесспорных – если не в психотерапевтическом, то, во всяком случае, в психотехническом отношении – результатов.
Стоит только прямо поставить этот вопрос, как сразу же намечается направление, в котором можно было бы искать на него ответ. Только, конечно же, если мы хотим понять первофеномен психоанализа, не следует апеллировать к стандартам науки. Вспомним замечательный эпизод из работы Леви-Стросса, где он описывает работу колдуна, причем колдуна, который в конце концов оказывается пойманным на обмане, разоблаченным. Его вывели на чистую воду, он признался в обмане и на коленях ползал и упрашивал, чтобы его не выдавали. Но ведь, отмечает Леви-Стросс как совершенно парадоксальный факт, колдун-то своего подопечного исцелил! Исцелил, несмотря на то, что в своем деле опирался на свои какие-то дурацкие, фантастические представления, и даже несмотря на то, что был просто откровенным шарлатаном и обманщиком.
Но ведь, быть может, и наоборот, не менее парадоксальным для того же современного рационального сознания должен был бы быть такой – конечно же, воображаемый – случай, когда больному – пусть бы даже с самым банальным гриппом – рассказали, что такое грипп с точки зрения современной медицины, то есть в рамках современной научной картины мира, – что это особая такая вирусная инфекция, что вирусы устроены так-то, что они поражают клетки так-то и так-то, что клетки реагируют на них таким-то образом, вырабатывая там какие-то антитела и т. д. и т. п. Даже если бы рассказ этот был бы предельно строгим с точки зрения современной науки и даже если бы больной смог понять все то, что ему сказали, вряд ли у кого-нибудь возникла бы мысль, что подобного рода описание оказало бы терапевтическое действие и смогло бы привести к исцелению больного. Парадокс, стало быть, состоит в том, что психотехнически эффективными оказываются такие описания, которые по своему статусу являются мифологемами. Тот же Леви-Стросс показывает, что по своему действительному статусу фрейдовская конструкция «эдиповского комплекса» – это не объяснительное представление по отношению, скажем, к античному кругу мифов об Эдипе – как думал сам Фрейд и как до сих пор наивно полагают многие его читатели, – но только еще один вариант из того же самого ряда. Психоаналитическая конструкция «эдиповского комплекса» сама является мифологемой, по сути совершенно эквивалентной тем античным мифам об Эдипе, на «рациональное» и даже «научное» объяснение которых претендовал сам Фрейд.
Те, кто предлагают отделить – в случае психоанализа – «зерна от плевел» – план «практической», психотехнической работы от плана «теоретических» представлений, выдают свое полное непонимание природы психоаналитической работы, равно как и обнаруживают неискорененную вмененность своему сознанию сциентистской идеологии.
Нужно, наконец, раз и навсегда понять, что теоретические представления психоанализа нельзя «вытравить» из самих психоаналитических феноменов, что самые «факты» психоанализа являются всегда и необходимо «арте-фактами», то есть «сделанными», произведенными внутри самой психоаналитической работы и вне нее – невозможными. Буквально каждый шаг психоаналитической работы – и, стало быть, весь опыт психоанализа, весь материал, который психоаналитик получает от пациента, – насквозь и необратимо, неустранимо пронизан и «пропитан» психоаналитическими интерпретациями, которые сами, в свою очередь, строятся – хочет того критик психоанализа от психологии (и даже сам психоаналитик!) или не хочет – в свете и «под знаком» тех или иных теоретических представлений. И тут не должно вводить в заблуждение встречающееся у психоаналитиков (у Фрейда, а вслед за ним – у Лакана) предложение, приступая к психоанализу конкретного случая, «как бы забыть», «послать ко всем чертям» всю психоаналитическую теорию, начинать каждый случай анализа как бы с «чистого листа», двигаясь «только» по «ариадновой нити» метода. Даже если бы это и можно было сделать, все равно полностью освободиться от теоретических представлений было бы невозможно: они ведь уже стали «вторым» глазом и ухом психоаналитика, они – как техника у пианиста – уже «в его пальцах».
Можно было бы показать, как глубоко и полно все психоаналитические феномены, вплоть до, казалось бы, не поддающихся никакой регуляции сновидений и даже психосоматических симптомов, определяются в своей конституции и даже в том, что касается «законов» их жизни – если, конечно, тут вообще еще можно говорить о «законах» в каком бы то ни было определенном смысле слова, – как они определяются психоаналитическими интерпретациями, которые коммуницировал пациенту терапевт на предыдущих шагах анализа.
А нужно признать, что нет другого способа выполнять аналитическую работу, кроме как через передачу (прямую или косвенную) пациенту тех интерпретаций, которые выстраивает терапевт.
Стало быть, если на психоаналитика смотреть еще и как на исследователя, необходимо признать, что и тут и сам исследователь, и результаты его действий принципиально неустранимы из ситуации исследования, причем даже – в большей степени, чем в случае «неклассических ситуаций» внутри академических, собственно научных психологических исследований.
Иногда в этом месте указывают на параллель с некоторыми «неклассическими» ситуациями в самом естествознании, например, в квантовой механике. Указывают, однако, не столько для того, чтобы лучше понять, с чем мы имеем дело в случае психологии, сколько – с тем, чтобы попытаться изыскать возможность все же остаться внутри естествознания, пусть даже и неклассического. Посмотрим, насколько позволяет это сделать апелляция к физике.
Действительно, описанная ситуация в психологии напоминает ту, относительно которой в квантовой механике в свое время В. Гейзенбергом был введен знаменитый «принцип неопределенности», из которого проистекала недопустимая и немыслимая для классического естествознания необходимость включать в описание поведения изучаемого объекта (например, элементарной частицы) в ситуации его исследования (например, измерения какого-то параметра частицы – импульса или пространственных координат) и план самих приборов, с помощью которых производится исследование.
Параллель простирается и дальше и, опять же, в связи с чрезвычайно важным для психологии обстоятельством. По отношению к психологическим феноменам приходится формулировать и нечто вроде боровского принципа «дополнительных описаний». Подобно тому, как в квантовой механике оказывается невозможным дать единообразное, в терминах одного языка, описание плана изучаемого объекта – частиц и их взаимодействий (микромир) – и плана приборов (макромир), так и в психологии (в частности, в случае психоанализа, но также и в целом ряде исследований в научной психологии) оказывается невозможным дать единообразное описание плана изучаемых психических феноменов и плана психотехнических действий и средств, благодаря которым осуществляются трансформации психики человека и – через это! – ее изучение. Нельзя так непрерывно продолжить описание плана трансформируемых феноменов (аналог событиям микромира в физике), чтобы в том же языке описать и план психотехнических действий и средств их осуществления (аналог макроуровню физических приборов и операций измерения), и наоборот. Иначе говоря, полное описание «неклассической» ситуации психологического исследования требует как собственно «психологического», так и «психотехнического» описаний изучаемого «объекта», причем эти два типа описаний оказываются «дополнительными», «ортогональными», несводимыми одно к одному и невыводимыми одно из другого.
Что касается «принципа неопределенности», то в данном контексте важно подчеркнуть, что он говорит о влиянии эффектов измерения лишь на «траекторию» движения изучаемых объектов. И, конечно же, не относится к «законам» их существования. Ни один физик не решится сказать, что он своим исследованием изменил законы, по которым живет, движется тот же электрон. Речь здесь не идет и не может идти об изменении законов жизни объекта, что, собственно, и означает, что изучаемый объект мыслится как «природный», естественно существующий объект. И даже самые смелые и радикальные современные физики, в своих самых смелых и радикальных рассуждениях – вроде приведенного пассажа из Уилера, – рассуждениях, которые, возможно, и сегодня шокировали бы не только обывателя, но и иного современного естествоиспытателя, имеют в виду все же лишь «состояния» изучаемого объекта, а не его «законы», не «тип события», как сказал бы К. Левин. Да и эти рассуждения они позволяют себе там, где это их ни к чему не обязывает. Ведь как собственно физик-теоретик тот же Уилер в своей «геометродинамике» продолжает традицию Эйнштейна, пытаясь реализовать строго детерминистский тип моделей.
Что же касается «принципа дополнительности», то здесь физика и сегодня не так радикальна, как того требует анализ ситуации в современной психологии. «Принцип дополнительности» Бора фиксирует то обстоятельство, что в принципе невозможно дать единое и единообразное описание – описание в терминах одного «языка» – как плана «изучаемого объекта» (положим, какого-то события микромира), так и плана «аппаратов и средств», с помощью которых ведется изучение объекта, притом что – как выясняется в силу «принципа неопределенности» – описание плана «аппаратов и средств» с необходимостью должно быть включено в описание объекта. Мы не можем так – непрерывно! – «продолжить» квантово-механическое описание, чтобы в тех же терминах описать и камеру Вильсона или отклонение стрелки вольтметра. И, наоборот, мы не можем дать описание явлений микромира в терминах макрообъектов, непрерывно продолжая описание плана приборов и операций измерения. «Дополнительность», собственно, и состоит в том, что мы неизбежно должны использовать два принципиально различных, «несоизмеримых» языка описания – один для «изучаемых процессов» в узком смысле, а другой по существу – для исследовательской деятельности.
Замечу, кстати, что в самой физике действительная фундаментальная «несоизмеримость», «ортогональность» планов «природного» и «технического» – «фюзиса» и «техне», сказал бы хайдеггеровский грек, – в рамках тотально реализуемого ею естественнонаучного мышления осознается только в «превращенной форме» принципа «дополнительности» микро– и макроописаний, то есть в форме, не выводящей ситуацию за границы все того же «фюзиса».
К тому же, формулируя свой «принцип дополнительности», Бор говорит лишь об «аппаратах и приборах», то есть только о внешней, опять же – физической – стороне научного исследования, об инструментах и средствах физического исследования, которые берутся при этом только в плане физических взаимодействий, но не в контексте всей исследовательской деятельности, не как собственно ее «часть» – внешневыраженная ее часть или ее экстериоризованная форма.
Если соотносить боровское решение с тем, что можно найти в истории психологии, то это – этап, соответствующий гештальтпсихологии, что, кстати, и хронологически близко эпохе рождения квантовой механики. И сами гештальтпсихологи – такие как Вертгеймер, Келер или Левин, это соответствие прекрасно чувствовали и понимали.
Мне кажется, что сегодня в психологии должны быть сделаны решительные шаги в осознании того, что не только план аппаратов, приборов и средств, но весь полный состав научно-исследовательской деятельности, включая способы понимания, процедуры рассуждения (лакатосовские «доказательства и опровержения»), способы образования понятий и построения «моделей», организации психотехнического действия и развертывания «исследования» внутри него, – все это в равной мере должно быть включено в «описание» ситуации исследования, или, если позволительно так сказать, в описание «объекта изучения».
Именно психологи должны и могут быть здесь первопроходцами, поскольку для современной психологии – это вещи, с которыми и исследователь и психопрактик сталкиваются каждый день, и отыскание возможности мыслить и действовать в этих «неклассических» ситуациях для психологии сегодня – воистину вопрос жизни и смерти.
Итак, не просто аналогия, но глубокое и существенное родство неклассических ситуаций в физике и в психологии – налицо и бесспорно. Означает ли это, однако, что и для психологии нужно искать возможность – по образу и подобию физики – удержать себя в рамках естествознания, в границах естественнонаучного метода? Даже если не обсуждать вопрос о том, насколько это удается самой физике – в чем многие современные физики и методологи науки крепко сомневаются, – можно было бы настаивать на том, что в целом ряде областей психологии «неклассичность» ситуаций исследования – настолько более радикального толка, что уже не оставляет никаких надежд на ассимиляцию этих ситуаций в рамках естествознания, во всяком случае – естествознания традиционного типа.
Прежде всего, пользуясь словами Леви-Стросса, следовало бы сказать, что первой реальностью, с которой исследователь имеет дело в психологии, является реальность не «сырой», но «вареной» психики. Или же, если воспользоваться термином Выготского, можно было бы сказать, что такой первой реальностью для психолога является реальность высших психических функций, а не натуральных.
Можно было бы показать, что не только в ситуациях, возникающих в психоанализе или в других психотехнических практиках, не только в таких квазиэкспериментах, как исследования Левина или Дункера, но даже и в собственно психофизических ситуациях, где научная психология, казалось бы, в наибольшей степени приближается к идеалу строгого и точного естествознания, где открывается возможность наиболее полно и последовательно реализовать естественнонаучную методологию, – даже и там момент «переваривания» психики, момент психотехнического изменения изучаемой психики самими процедурами исследования – неустраним, и это обстоятельство не позволяет даже и тут реализовать естественнонаучный метод во всей его строгости и чистоте. Больше того, нетрудно показать, что самую логику развития экспериментирования в психологии, в частности развития планов экспериментов – от самых простых ко все более и более сложным – по-настоящему можно понять только, если рассматривать их в контексте возобновляющихся попыток преодоления – снова и снова «вылезающих» – контрпримеров против реализации естественнонаучной парадигмы исследования, попыток уложить в прокрустово ложе естественнонаучного мышления неукладывающиеся в него, все более и более сложные, неклассические ситуации. И опять: до конца эти попытки не удаются даже внутри психофизики.
Итак, неклассические эффекты «включенного исследования» неустранимы, и, стало быть, реальность, с которой должен иметь дело исследователь в психологии, – это реальность «вареной» психики или реальность «высших психических функций». Поэтому глубоко не случайно, что именно те теоретические и методологические представления о психологии, которые с самого начала пытались (насколько могли) это обстоятельство как-то учитывать, пытались как-то схватывать принципиальную неклассичность ситуации работы психолога как исследователя, и прежде всего – та же культурно-историческая теория Выготского, – что именно они сегодня выходят на первый план и образуют перспективу развития для психологии, ибо только они дают ей возможность адекватного осмысления этих неклассических ситуаций и, тем самым, восстанавливают условия возможности исследовательской работы вообще, поскольку иначе – если исследователь остается последовательным естествоиспытателем – такого рода неклассические ситуации должны вызывать у него прямо-таки паралич мысли и действия, ибо основное условие естественнонаучного исследования как раз и состоит в требовании независимости изучаемого объекта от каких бы то ни было процедур его изучения и, тем паче, от знаний, получаемых в исследовании. Подчеркнем еще раз: речь тут идет именно о «законах» жизни изучаемого объекта, а не просто о «траектории» его движения: собственно законы должны быть независимы – как от актов исследования, так и от знаний, которые исследователь в этих актах получает. Это, действительно, основная и обязательная предпосылка всякого естественнонаучного исследования.
Сказанным можно было бы и ограничиться в том, что касается первой из двух критик психологии – «критики естественнонаучного разума», и – по необходимости, совсем уже кратко – сказать о второй критике – «критике практического разума» в психологии.
Эта критика состоит во многом в критике ценностной ориентации современной психологии, прежде всего – практической психологии.
Всякий человек, если он хочет осмысленно заниматься каким-то делом, должен начинать со своего собственного самоопределения. И самоопределение это должно касаться, прежде всего, предельных целей и ценностей его работы. Для меня таких ценностей четыре. В направлении реализации их, как мне кажется, и должна двигаться психология, должен осуществляться поиск новой психологии, психологии будущего. Кто-то может выставить другие предельные ценности и – в соответствии с ними – искать иной, соответствующий им тип психологии.
Для меня это, во-первых, установка на «дельную» психологию, то есть – такую, которая могла бы иметь дело с реальными проблемами современного человека. С этой первой ценностью и сопряжена, по сути, критика естественнонаучного разума в психологии, поскольку строго экспериментальная психология оказывается далекой от живой жизни, будучи – по самой своей сути – обреченной иметь дело только с абстрактными лабораторными препаратами от человека, но никогда – с конкретным человеком в реальной жизни.
Во-вторых, психология должна быть такой, чтобы она могла иметь дело с «полным» человеком, со «всем» человеком во всей полноте его существа – с человеком, который является не только душевным, но и духовным существом, условием самого существования которого является духовная жизнь, работа над собой, или, говоря иначе, человеком пути.
Третья ценность состоит в том, чтобы и для самого психолога его профессиональная работа могла стать формой серьезной духовной жизни, работы над собой, собственного личностного роста. Чтобы можно было говорить о «пути психолога», или терапевта, подобно тому, как Михаил Чехов мог говорить о «пути актера», то есть такой форме своей профессиональной работы – актера над ролью или режиссера с актером, – которая была бы, вместе с тем, и путем его собственного духовного поиска и работы над собой. Практический психолог и терапевт не только может, но и должен – просто для того, чтобы быть таковым! – идти «путем психолога».
И, наконец, если продумывать до конца эти, уже сформулированные ценностные установки, следует прийти и еще к одному требованию: Новая психология должна включиться в поиск Нового человека, причем «нового» с большой буквы – в большом, евангельском смысле этого слова. Среди гуманитарных дисциплин сегодня можно найти немного таких, которые бы последовательно и всерьез пытались и могли включиться в поиск такого рода. С этой последней ценностной установкой связан целый ряд радикальных методологических требований, с которыми следует подходить к психологии, равно как и целый ряд фундаментальных проблем, которые должны быть разрешены при ее построении. Если задавать другие исходные предельные цели и ценности, то, естественно, и все последующее движение будет выглядеть иначе.
Основная методологическая проблема состоит в том, чтобы найти для психологии и для психотехники некий «третий путь» – между Сциллой «натурализма» и Харибдой «технологизма», то есть психотехники, понимаемой в духе психотехнологии, то есть психотехники, за которой стоит своеобразный технологический или «производственный» миф. Массовые формы психотехники оказываются своеобразной «психоинженерией», когда психолог и психотехник – всерьез, буквально – претендуют на то, чтобы быть «инженерами человеческих душ», проектирующими должное их устройство и реализующими эти свои (или какие-то чужие) проекты в специальных «психотехнологиях». За этим стоит, конечно, не только определенное видение человека, определенная – на поверку оказывающаяся только «оборотной стороной» натуралистической – «антропология», но и соответствующий способ мышления о человеке и, наконец, тип рациональности вообще. Именно его и должна иметь в виду вторая критика психологии – критика «практического разума». Парадоксальная, на первый взгляд, связь и внутреннее родство технологизма с натурализмом и с проектировочными установками симптоматически дает себя знать в выдвижении им – всегда определенного и даже (через апелляцию к «норме») единственно возможного и приемлемого «идеала человека» – идеала, в соответствии с которым и строится работа с человеком, призванная этот идеал «воплотить».
Однако стоит только культурно-исторически расширить горизонт, как сразу же обнаруживается, что идеалов таких может быть не один, но много, как – много и соответствующих им психопрактик и «культур психической деятельности».
Здесь, правда, возникают вопросы. Казалось бы, такая – культурно-историческая – точка зрения ведет к релятивизму, тогда как каждый практически работающий психолог и по своему опыту знает, и в психотерапевтической литературе находит указания на то, что в человеке есть некая загадочная сила, которая «болеет» и борется за него по крупному счету, которая как бы «ведет» его, не оставляя места произволу шагов и релятивизму направления. Если, конечно, человек открыт ее действию. С человеком не все можно «сделать». В какой-то момент в нем что-то начинает сопротивляться. Причем формы сопротивления могут быть самые разные. И, кстати, психопатология, которая нередко возникает при доморощенных попытках двигаться по каким-то «эзотерическим» путям под руководством самозванных учителей, представляет собой форму реакции – «здоровой» реакции – против такого – по сути также извне навязываемого – движения. Что-то в человеке действительно сопротивляется тому, что он делает. И можно и в этом случае вспомнить замечательную фразу Ж. Лакана, что «симптом – это место, где хранится истина о человеке». Только сам Лакан понимает это «храниться» – психоаналитически, пытаясь аналитически «раскручивать» симптом, с помощью регулярной аналитической процедуры «извлекать» или даже реконструировать его смысл, – как всегда, уже готовый и записанный в симптоме и лишь требующий своего «извлечения». Пытаясь к тому же увидеть в нем только «косвенное выражение» некого «комплекса» или «неразрешенного конфликта». То есть «психоаналитическая истина» о человеке – это всегда кем-то уже записанная в нем, «готовая» истина, некое уже отправленное «послание», которое нужно только – причем психоаналитику! – регулярным образом «извлечь», «вычитать» в симптоме и передать пациенту. В эту лакановскую формулу, однако, можно было бы вложить иной – более глубокий и верный смысл. Действительно: можно ведь пытаться выслушать и, стало быть, следует выслушивать не только и не столько нечто нездоровое, больное, то есть – всегда уже наличное, «ветхое» в человеке, но и, напротив, и даже прежде всего – нечто, что только еще должно прийти в мир, нечто, чего до этого выслушивания нигде и никогда не было, что всегда еще только должно быть «раскрыто» – как абсолютно Новое. То есть можно пытаться вести человека, говоря словами Мамардашвили, к «новому опыту сознания», помогать ему проходить через «точки второго рождения», что, быть может, только и способно давать человеку действительное ис-целение, то есть позволять ему – быть может, впервые достигать, обретать подлинную целостность и полноту своего существа и – уже в качестве только «побочного результата» – освобождаться от своих прежних страданий.
«Исцелиться» и означало бы тогда: понять-таки – и опять же: впервые – «истину», которая «хранилась» в симптоме, но понять ее как своего рода «пророчество» об обретенном человеком «откровении». «Пророчество» же – это не то же самое, что естественнонаучное «предсказание». В отличие от предсказания, из пророчества нельзя непрерывным образом вывести – рационально, аналитически «дедуцировать» – хранимое им откровение. Сколько бы мы аналитически ни раскладывали «пророчество» по содержанию, как бы его ни расчленяли, как бы в него в лоб ни всматривались, мы откровения, о котором это пророчество пророчествует, не обнаружим, из него этого откровения не вычитаем – как какого-то готового уже послания нам.
«Пророчество» ведь само устанавливается в качестве такового только «задним числом», ретроспективно, «эн-тел-ехически», то есть только «от» свершающегося «откровения» – того, о котором, как мы тогда понимаем, оно и было пророчеством.
Есть вещи, сказал один учитель, для понимания которых необходимо изменить бытие, необходима, как говорили прежде, «перемена ума», нужно попасть в некий особый «топос» – место, где понимание впервые только – и единственно там – и становится возможно. Прежде всего нужно – внутренней работой – «высвободить место» для Нового опыта сознания или, как евангельскими словами предпочитал говорить Мераб Константинович: «исправить пути» для «идущего навстречу» откровения. Но и тогда: оно может прийти, а может и не прийти. Ибо оно не берется, не захватывается, как вещь, но принимается как дар. Им нельзя обладать, но можно только ему – со-бытийно – позволить быть, чтобы – как дар – принять (по известной цветаевской формуле любви) «из-быток». И его можно «выслушать» – в том смысле, в котором можно «выслушать» строчку нового стихотворения, то есть, конечно же, не буквально, не как до этого выслушивания где-то уже записанное послание, но, вместе с тем, и не как «созданное» им. Через выслушивание «исправляются пути» к вступлению в этот мир, к присутствию и действию в нем некоего нового духовного существа, в со-бытийной встрече с которым и получается послание.
Можно было бы коснуться целого ряда других – неявных, характерных для естественнонаучной мысли – допущений, которые следовало бы специально обсудить. Взять хотя бы понятие «гуманитарных наук». Нередко дисциплины называют «гуманитарными» буквально – по тому месту, где люди деньги получают, а не по каким-то серьезным методологическим соображениям. Но в слово «гуманитарный» можно вкладывать и строгий – продуманный в духе современной философии и методологии – смысл. И тогда «гуманитарность» некоторых дисциплин, которые по привычке – необдуманно и безответственно – называют гуманитарными, окажется весьма сомнительной.
И какие-то из нынешних, так называемых «гуманитарных», дисциплин окажутся при этом дальше от действительной гуманитарной науки, нежели некоторые развитые дисциплины естественнонаучного ряда. Так, например, – как бы это ни показалось парадоксальным – в свете известной работы В. Паули к действительно гуманитарным наукам следовало бы отнести кеплеровскую небесную механику и, напротив, отказать в этом современной академической научной психологии.
«Критика практического разума» в психологии должна развертываться по двум направлениям: с одной стороны, это критика образа человека, который стоит за современной практической психологией, а с другой – это критика самого понятия «практики».
Человек, которого имеет в виду современная практическая психология, – всегда «частичный» человек. А поскольку этот частичный человек выдается ею за всего человека, то эта психология, по сути дела, вынуждена утверждать – по замечательному определению М. Цветаевой – «уродов от человека».
В силу своей абстрактности, в силу того, что она имеет дело лишь с лабораторными препаратами от человека, академическая научная психология – безобидна. Разве только деньги мы на нее тратим, как налогоплательщики, за чей счет ученые мужи (а нынче в основном – ученые дамы) удовлетворяют свое личное любопытство. Практическая же психология отнюдь не безобидна, поскольку она не просто ориентируется на этого частичного человека, но – всей практикой своей работы – его консервирует, утверждает как норму человека, как единственно возможного человека. При этом как раз и оказывается удобным убеждение в том, что есть только одно «правильное мышление», одна «правильная логика» и что это – именно то мышление и та логика, которую господь бог соизволил дать традиционной естественно-ориентированной науке. Тогда как если попытаться реализовать здесь хотя бы ту же культурно-историческую точку зрения на человека, то следовало бы уже признать, что зачастую только условно можно называть одним словом то, что психопрактики имеют в виду, говоря о «человеке». Подобно тому, как у эскимосов, кажется, есть 154 разных слова для обозначения разного снега, и для человека – если психолог действительно хочет мыслить конкретно – следовало бы придумать 154 разных слова, чтобы не называть одним словом совершенно разные существа. Разные – в смысле своей душевно-духовной конституции и «законов» внутренней жизни.
И в этой-то связи следовало бы «восстановить» в их прежнем достоинстве некоторые важные сегодня для психологии слова, и – одним из первых, быть может, – слово «практика». Когда Платон говорит о практике как о «воспроизводящем самое себя нравственном деянии» или когда Фуко – апеллируя к Платону как к исходному пункту развития подобного взгляда на человека – говорит, что человек воспроизводит себя в качестве такового лишь благодаря внутренней работе над собой, работе, включающей и психотехнический план, но к нему не сводимой, – или когда он в своей «генеалогии субъекта» ставит вопрос о том, как человек внутри особого рода практик работы над собой конституирует себя в качестве «субъекта нравственной жизни», то, конечно же, и Платон и Фуко «практикой» называют не просто психотехническое «воздействие на» человека, но имеют в виду некие более широкие контексты жизни – жизни человека как духовного существа, его духовного пути. «Практиками» – в этом большом смысле слова – являются, прежде всего, конечно, те или иные формы эзотерической работы человека над собой. Но и «по сю сторону» можно найти примеры подобного рода Практик. В частности, так можно смотреть на искусство. И в ранних работах Выготского искусство рассматривается именно как такого рода Практика духовной работы человека над собой. В этом смысле ранние работы Выготского по «психологии искусства» могут быть рассмотрены сегодня как прообраз и парадигма того нового типа психологии, которую и можно было бы без оговорок называть «гуманитарной», как – говоря словами самого Выготского – своего рода «зона ближайшего развития» для современной психологии. И эту «гуманитарную» психологию следовало бы отличать от так называемой «гуманистической», которая на словах выставляя высокие гуманистические идеалы, на деле – своим реальным способом иметь с человеком дело – не только, сплошь и рядом, их перечеркивает, но и самым своим существованием закрывает для современной психологии возможность стать действительно психологией Человека, человека с большой буквы, человека «обетованного», стало быть, психологией пути к Человеку, психологией духовного – то есть инициального – опыта, психологией практик духовной работы.
«Гуманитарная психология» и должна извлекать те «опыты о человеке», которые есть в такого рода практиках, начиная от различных эзотерик и кончая искусством, равно как и эксплицировать ту «реальную психологию», которая также уже существует внутри этих практик, но существует в них в неявном и непрямом виде. Гуманитарная психология, которая в этом смысле является, по необходимости, также и феноменологической психологией, призвана извлекать и эксплицировать эти «опыты о человеке» в качестве «продолженного откровения» о человеке – для усиления его самопонимания.
И следующий шаг движения к полноценной гуманистической психологии должен состоять в попытке психолога встроиться в существующие практики работы с человеком, если они уже есть и если они допускают такое «встраивание», или же попытаться развернуть новые практики, но так, чтобы с самого начала быть включенным в них и влиять на их развертывание, а затем – извлекать и анализировать те опыты о человеке, которые в этих практиках получаются.
И последнее. Соответственно типам этих практик получаются не просто различные «психокультуры», «культуры психической жизни», но и – разные типы человека. И, стало быть, – соответственно этим разным типам человека – с необходимостью должны развертываться и различные типы психологии. Нет и не может быть одной психологии человека, ибо нет и не может быть одного человека. Первый фундаментальный водораздел проходит между обывателем и человеком духовной жизни, человеком пути. А, далее, различия устанавливаются соответственно типам этих путей. Так, можно показать, что различные типы психологии должны соответствовать манипулятивным способам работы и тем, которые условно можно назвать «майевтическими», – им должны соответствовать радикально различные типы как теоретической концептуализации, так и методологии практической работы с человеком. И они, в конце концов, упираются в радикально различные образы человека.
Манипулирование и майевтика: две парадигмы психотехники [137]
Хотя я долго думал над названием этого выступления, но то, на котором остановился, не вполне меня устраивает: оно не схватывает основного его «пафоса». Мне остается надеяться, что он станет ясным из того, что я скажу.
По первоначальному замыслу сегодняшнее выступление должно было быть второй частью единого выступления, первую часть которого я попытался реализовать вчера. Не вполне удачно, поскольку вчера мне не удалось в полной мере развернуть содержание фрагмента, который должен был составить своего рода «пропедевтику» сегодняшнего выступления. И потому, строго говоря, мне приходится от того намерения отказаться. Однако, я думаю, какая-то связь между этими двумя выступлениями все же сохраняется, и в чем-то сегодня я буду опираться на то, что сказал вчера. Вместе с тем, я надеюсь, что то, что я буду говорить сегодня, можно будет понять и тем, кто вчера меня не слышал. Если, конечно, это вообще можно понять.
Присутствуя на вчерашнем заседании, я вдруг обнаружил, что в этой почтенной аудитории бытует мнение, что мои размышления над Выготским не имеют якобы никакого отношения к «реальному» Выготскому и к «истине» о Выготском. Еще и поэтому я решил изменить первоначальный сценарий выступления. Я хочу показать, что я Выготского тоже читал, читаю и, надеюсь, умею читать! Поэтому я решил сегодня прочесть перед вами вслух и разобрать два небольших отрывка из одной его ранней работы. И я вот тут сидел и, можно сказать, с «замиранием сердца» слушал и предыдущего докладчика, и уважаемого председателя, поскольку «про себя» все время думал: доберутся они до тех текстов, которые я заготовил, или нет? А они, будто дразня меня, близко ходили. Но, к счастью, все-таки не добрались. Так что я могу прочесть их. И по существу все, что я буду делать дальше, – это и будет попыткой чтения и понимания нескольких, расположенных буквально на соседних страницах, абзацев, как вы уже должно быть догадались, все той же работы Выготского «Гамлет». А еще точнее – его «Предисловия» к ней.
Эти страницы представляются мне исключительно важными не только для понимания самой этой работы Выготского, или даже вообще – для понимания «внутреннего импульса», который стоит за его ранними работами, и для понимания судьбы, которую этот импульс претерпел в последующем творчестве Выготского, но, более того, они представляются мне исключительно важными для понимания некоторых критических моментов в нашей нынешней ситуации в психологии и в сфере психопрактики, в частности в психотерапии.
И здесь – к сожалению! – я никак не могу согласиться со словами, сказанными сегодня по поводу Выготского нашим председателем, Ф.Е. Василюком, в качестве его «отповеди» Ярошевскому, поскольку приходится признать, что то понимание человека, которое можно найти в «поздних» работах Выготского – если только это слово приложимо к творческому пути мыслителя, оборвавшемуся в «роковые» не для одного гения 37 лет! – понимание человека, которое обычно и связывают с именем Выготского, апеллируя к его классическим работам, составляющим корпус «культурно-исторической» концепции, это понимание человека безусловно является редуцированным и «вырожденным» – что и позволяет (при желании или из-за неспособности увидеть иное) некоторым (если не большинству) исследователям творчества Выготского характерные с ним манипуляции, – но! – но, как я заметил бы с самого начала, – и это, собственно, и определяет пафос обращения к ранним, опять же, как полагает большинство исследователей, не имеющим никакого отношения к психологии, работам Выготского, – это понимание человека является «вырожденным» и редуцированным прежде всего по отношению к ранним работам самого Выготского.
Ибо Человек (так и хочется это слово брать тут с большой буквы), который имеется в виду или – я бы сказал даже – который нащупывается, улавливается, который ищется ранними работами Выготского, – он, говоря словами Гамлета, сказанными им, если помните, о своем отце, «человеком был, и в полном смысле слова!»
Хотя, строго говоря, уже и между самими этими ранними – близкими и по содержанию, и по времени написания текстами, положим, между тем же «Гамлетом» (в той его второй, более поздней версии, которой мы располагаем, ибо была, как мы знаем, еще и первоначальная, более ранняя версия, которая до сих пор не опубликована) и соответствующими главами «Психологии искусства», тоже есть существенное различие.
И уже здесь «направление», в котором происходят изменения – а по мере того, как мы продвигаемся к собственно культурно-исторической психологии, к тому Выготскому, за которого мы его и «держим», изменения эти все больше и больше нарастают: это направление ко все более и более откровенной психологистической интерпретации человека, всей его душевно-духовной жизни.
Я имею в виду здесь вовсе не то – как подчас утверждают, – что есть «два» разных Выготских в том смысле, что психологом был лишь второй, «поздний» Выготский, создатель собственно «культурно-исторической теории психического развития», или, по крайней мере, Выготский, переступивший границу современной ему психологии (получавший зарплату в Институте психологии). Тогда как первый, ранний Выготский – это Выготский-филолог, Выготский-литературовед или литературный критик. Причем к раннему относят, как правило, не только Выготского «Гамлета», но также – и Выготского «Психологии искусства», полагая, что даже эта его работа, строго говоря, еще не психологическая, но филологическая, литературоведческая, если вообще и имеет, то очень косвенное к психологии отношение.
С этим как раз я никак не могу согласиться. И попытаюсь показать, что, наоборот, именно эти, ранние работы Выготского – и, быть может, прежде всего его «Гамлет», – это работы, содержащие уникальные опыты «реальной психологии» человека.
Только «опыты» эти должны быть еще «извлечены», и искать их следует у Выготского не там, где их обычно ищут, не там даже, где сам Выготский их полагает, и – что с этим связано и что, быть может, еще более важно – искать их следует не как опыты той или такой психологии, о которой говорит сам Выготский, когда он там говорит о психологии, и не в рамках той психологии, которую мы знаем и имеем в виду, говоря о психологии сегодня, но как опыты той и в рамках такой психологии, которой не было во времена Выготского и которой – мы должны, если хотим читать эти работы Выготского, это признать – нет и сегодня.
Ибо – это «опыты», в которых сегодня можно усматривать прообраз, искать парадигму некой будущей психологии человека, психологии, к которой сегодня еще нужно прокладывать путь.
Так что если и следовало бы говорить, что ранние работы Выготского «не психологические», то только в том смысле, что они не принадлежат ни современной Выготскому, ни сегодняшней психологии, но открывают дорогу будущей психологии, а нынешней – противостоят, составляют ей альтернативу.
И противостоят ей не как принадлежащие какому-то другому – уже сложившемуся – научному предмету, то есть не со стороны, скажем, того же литературоведения, но именно со стороны психологии, но – психологии, которой еще нет, которая только еще должна сложиться.
Со стороны психологии – забегая вперед – не наличного уже человека, но того и такого, которого тоже, как это ни парадоксально, еще нет, и, больше – как мы увидим – которого «всегда (!) еще» нет, или, точнее: который всегда еще «не есть», не существует, не присутствует. Человека, стало быть, который – как и сама эта психология – (всегда!) только еще должен прийти, человека, наконец, которому эта психология, кроме прочего (а в число этого «прочего» входит и искусство!), и должна, и могла бы открывать дорогу.
«Психологизм», о котором я говорю и который обнаруживается уже в ранних собственно психологических работах Выготского, связан, стало быть, не с переходом его от филологии к психологии, но с типом самой психологии, в рамкой которой он пытался развертывать работу, связан с его попыткой как психолога занять «объективирующую» установку по отношению к психике и провести принцип «объяснения», характерный для той версии психологии, «научной психологии», которую Выготский с самого начала и выбирает, по крайней мере – прямо, явно. А он, как справедливо вчера сказал об этом В.М. Розин, действительно выбирает здесь именно естественнонаучную установку и ориентацию.
После этих предварительных замечаний перехожу к чтению текста Выготского, чтобы в словах самого Выготского – этих удивительных словах «Предисловия» к его «Гамлету» – найти разъяснение, ближайшим образом, оппозиции двух способов чтения или двух типов понимания литературного текста, а по существу – оппозиции двух типов психологии, психологического мышления и соответственно двух стратегий работы – не только исследования, но также – и вот тут появляется основной тематизм моего сегодняшнего выступления – также и двух различных стратегий практической работы, в частности – в той же самой психотерапии. Двух стратегий практической работы, или – двух типов психотехники. Которые, в свою очередь, соотносятся с принятым образом человека, соответственно – с принятым пониманием характера самой психологии.
Не помню, из какого издания я вырвал эти листы. Кажется, все-таки – из второго. Разумеется – издательства «Искусство». Думаю, нет нужды разъяснять, почему этот текст Выготского следует брать в одном из двух изданий издательства «Искусство».
Здесь на страницах 347 и 348 Выготский разъясняет идею своего способа работы, своего способа чтения «Гамлета», или, если угодно, идею своего «метода» – идею того, что он называет методом «читательской критики».
Располагай мы такой возможностью, следовало бы сказать о глубоко неслучайном, конечно же, появлении в самом названии метода этого – казалось бы такого ни к чему не обязывающего и даже, по видимости, как будто бы самоумаляющего исследователя, аналитика текста, «снижающего» его претензии до уровня «только читателя» – слова «читательской». Из дальнейшего станет ясно, что на деле это означает не больше не меньше, как указание на особого рода «феноменологическую» установку, реализуемую при этом способе чтения, то есть указание на то, что именно живой опыт «чтения» и «непосредственного» читательского понимания текста как решающий и исходный пункт ставится «во главу угла» нового метода. Так что «литературная критика» действительно оказывается при этом – нельзя не поразиться этому буквальному совпадению с соответствующей (также вынесенной автором в заголовок его знаменитого программного текста) формулой М.К. Мамардашвили: литературная критика оказывается – пусть и «расширенным», и «усиленным», «амплифицированным» соответствующими «аппаратами» анализа или «извлечения опыта», но все же – только «продолженным» актом чтения!
Итак, Выготский говорит об основной своей установке в чтении и понимании «Гамлета», пытаясь передать – на тех страницах, которые я сейчас буду читать, – ее внутренний пафос и новизну через сопоставление с установкой, характерной для традиционной литературной критики. Следует с самого начала сказать, однако, что проводимое тут Выготским различение и противопоставление двух способов чтения текста или двух радикально различных типов понимания целиком и полностью сохраняет свое значение и для психологии.
Я должен ограничиться двумя небольшими фрагментами, вырывая их при этом из контекста и к тому же – дабы избежать повторения – снова и снова прерывая их чтение и разбивая их своими замечаниями и комментариями. Надеюсь, однако, что это позволит нам раскрыть и проследить мысль Выготского, позволит – вслед за ним, вместе с ним – выслушать и продумать поднимаемые им здесь вопросы в их неустранимой реальности, в их значении и для нас сегодня, для современной психологии и психопрактики, в частности и для психотерапевтической практики, позволит им прозвучать.
Ну что ж, как ни оттягивай, а вот она настала, эта минута: начнем-таки читать Выготского.
«Все критики, – пишет Выготский, имея в виду предшествующую традицию литературной критики и ее метод чтения, – так или иначе, рационализировали Гамлета, то есть…».
Это «то есть» исключительно важно, и уже оно заставляет вставить хотя бы краткую реплику по поводу понимания самой этой «рациональности». Выготский, конечно же (как мы увидим дальше), не отказывается от нее вовсе, но всем ходом своей мысли приводит нас к необходимости «поставить ее под вопрос». Поставить под вопрос – как само собой разумеющийся и единственно возможный – тот тип «рациональности», который стоит за традиционным – «объясняющим», как скажет Выготский чуть дальше, – типом чтения и понимания.
Иначе говоря: есть «рациональность» и «рациональность»! И тот поворот в понимании метода, который намечает Выготский, происходит на такой «глубине», что затрагивает, по сути, самую идею «рациональности» и требует ее пересмотра. К сожалению, это все, что я могу позволить себе тут сказать.
Итак: «…рационализировали Гамлета, то есть старались найти понятную связь». Слово «понятную» выделено здесь самим Выготским и, как мы увидим, соотносится с неким, опять же – вполне определенным – типом «понятности» и, соответственно – типом «понимания», дающего эту «понятность»: с редуцирующим, сводящим к уже «понятному и известному» типом понимания.
«…старались найти понятную связь событий, хода действия, свести (так! – А.П. ) фабулу и образ Гамлета на ряд <уже> (вставки в угловых скобках – мои. – А.П. ) понятных и известных (так! – А.П. ) представлений – психологических, историко-литературных, биографических, этических, исторических и так далее».
Обратим внимание на этот перечень. Важно, стало быть, не то, к каким представлениям, из каких научных предметов: к «психологическим» или, скажем, к «этическим» представлениям происходит «сведение» – вспомним то, что я говорил о «психологизме», – важно то, что к ним, к этим представлениям «старались свести»! А дальше у Выготского следует выразительное тире, по сути еще одно «то есть» – <то есть>, заключает он, «…объясняли Гамлета».
«Здесь <же>, – продолжает Выготский, намечая в оппозицию традиционной литературной критике свою стратегию чтения «Гамлета», – впервые критическое истолкование исходит, кладет в свою основу, берет отправной точкой <как раз> необъяснимость связи событий и самого образа Гамлета».
Итак, «необъяснимость» трагедии – как живой и непосредственный опыт чтения, восприятия трагедии – берется тут как отправная точка для всей последующей работы понимания – это во-первых. А дальше следует то, что составляет «нерв» «методы» чтения и понимания, реализуемой Выготским, и, далее, то, что составляет критический момент реализуемого Выготским понимания трагедии и текстов искусства, произведений искусства вообще и, по существу, даже – «природы» той реальности, которая открывается искусством, с которой человек встречается в откровениях, даваемых искусством. «Необъяснимость», или – как предпочитает дальше прямо говорить Выготский – «тайна», утверждается при этом не только как исходная, отправная точка понимания трагедии, но также и как последняя, предельная его точка, и далее – как неустранимый пониманием – бытийный – феномен.
«И другие критики, – говорит тут Выготский, – признавали “темноту” трагедии, но они старались ее преодолеть. Там было “несмотря на”, и “и все же” здесь (то есть у самого Выготского. – А.П. ) это (то есть исходная «темнота» трагедии. – А.П .) поставлено во главу угла».
«Таинственность и непонятность, – продолжает Выготский, – не покрывала, обволакивающие снаружи “туманом” трагедию (то есть внешним и вторичным для самой трагедии образом «затемняющие» ее. – А.П. ), которую надо разглядеть только через них («сквозь» и «поверх» их «завесы», но не «в них», то есть все те же: «несмотря на» и «все же». – А.П. ) или отбросив, преодолев их, – как во всей <предыдущей> гамлетовской критике, но <она, эта таинственность и непонятность, как раз и есть> – самая сердцевина, внутренний центр трагедии.
Не простое (или понятное) облечено в темноту, но <как раз наоборот> – тайна обставлена персонажами, диалогами, действиями, событиями, в отдельности – почти понятными, но в такой непонятной расстановке, в такой связи, которой потребовала тайна».
Это заключающее первый фрагмент текста Выготского слово «тайна» есть, по существу, одно из центральных, ключевых слов не только прочитанного абзаца, но и всей работы Выготского: оно знаменует одну из предельных и основных для мысли Выготского интуиций – то, что воистину ставится этой мыслью «во главу угла» – и в плане метода чтения, и в плане фундаментальной интуиции реальности, понимания «того, что на самом деле есть» – того, что не просто даже можно считать безусловной реальностью, но реальностью именно – предельной, «последней» реальностью!
В этом фрагменте уже намечена оппозиция двух радикально различных способов чтения и понимания, двух различных стратегий работы с текстами. Обозначим ее условно как оппозицию «секрета» и «тайны».
«Секрет» – по самой этимологии этого слова, означавшего первоначально (в латинском языке) «отделенное», «изолированное», то есть «изъятое» из связей целого: откуда уже дальше – нечто «спрятанное», «сокрытое», и только еще дальше – нечто, в свою очередь уже – прячущее, скрывающее. Скрывающее оставшуюся часть целого. Скрывающее ее в ее действительном смысле. Или – лишающее ее смысла, возможности связного обозрения и понимания и – именно из-за разрыва связей, выпадения отдельных звеньев. Безразлично при этом – связей, «естественно» выпавших, или же намеренно исключенных, или даже, быть может, исключенных с маскировкой этого исключения.
Не так ли, положим, ортодоксальный фрейдовский психоанализ представляет работу «вытеснения» и образование невроза? Разве и для него «раскрыть секрет» невроза пациента не означает – восстановить нарушенные связи целого, вернуть – в «сознание» пациента, в круг его сознательного опыта – «вытесненное»? Обратим внимание на одну чрезвычайно важную черту этого – как мы видим, характерного отнюдь не только для психоанализа! – способа «восстановления» утраченного смысла, на особенность самой идеи и стратегии, метода понимания и, соответственно, на важную черту самого «секрета». Ибо феномен этот в своей конституции – как, собственно, и любой другой – и определяется способом «его» понимания (слово «его» тут приходится брать в кавычки, поскольку «секрет», конечно же, не пред-лежит как вещь, не предшествует «его» пониманию!), определятся методом установления, или: «восстановления», отыскания скрытого, «спрятанного» смысла. Восстановление связей «отделенного» (или: реконструкция «утерянного», а часто даже – уничтоженного, «спрятанного»), иначе говоря: «возвращение» отделенного – целому, ведет в случае «секрета» к его «упразднению», ведет к тому, что в качестве такового «секрет» уже перестает существовать. Понимание, достигаемое через это восстановление связей с целым – или, лучше, быть может: связей целого, – с необходимостью означает, стало быть, исчезновение, «испарение» «секрета» как такового. Внутри восстановленных связей целого «секрет» уже перестает быть «секретом», внутри связного целого ему нет и не может быть места! Бытие чего-то в качестве «секрета», с чего мы и начинали, держится этой именно его «отделенностью», держится нарушением связей и «связности» целого.
И как «естественно» в этом месте возникает у нас недоумение и вопрос: а разве это не так? не всегда так? Не таково разве всякое «понимание», понимание «вообще»?
Нет, говорит Выготский, нет и еще раз: нет! Если мы, говорит Выготский, действительно хотим иметь дело с шекспировским «Гамлетом», если мы, понимая, с чем мы имеем дело, пытаемся читать и понимать его, то первое, что мы должны понять, это как раз то, что мы должны отказаться от привычного, как бы «вмененного» нам способа чтения и «понимания», должны «поставить под вопрос» и проблематизировать «самоочевидность», универсальность и «единственно-возможность» стоящего за этим понимания самого «понимания»! И не только проблематизировать, но и наметить альтернативное понимание и стратегию «понимания». Но Выготский идет тут даже дальше – он пытается не просто наметить идею другого, альтернативного способа и типа понимания, но и реализует ее в своем конкретном опыте чтения и понимания «Гамлета»!
Вот – действительный масштаб того, что здесь делает Выготский по отношению ко всей предшествующей традиции, и традиции не только и не столько даже литературоведческой: чтения «Гамлета», но традиции, собственно, герменевтической, философской – всей прежней традиции понимания того, что есть «понимание»!
И в этом смысле, Выготский на самом деле не только не переоценивает, но недооценивает, по-настоящему не понимает масштаб того поворота, который он тут совершает. Ибо поворот этот располагается не внутри литературной критики, но внутри философии и методологии.
И нужно сказать, что в этом своем содержании и значении поворот этот и до сих пор совершенно не продуман и не понят. Не «усвоен» и нами – не только не ассимилирован, но даже и не принят во внимание современной психологической мыслью. В уяснении действительного – методологического и философского – смысла этого поворота и в демонстрации его исключительного значения для современной – прежде всего практической – психологии я и вижу пафос своего выступления, этого опыта чтения Выготского.
Итак, «секрет» допускает «разгадку» – в принципе полную и рациональную разгадку, допускает или даже: предполагает свое «разоблачение» и «требует» его (отсюда, как сказал бы К. Левин, его особый «характер требования», то беспокойство, которое от него исходит). И, вместе с тем, «секрет» всегда – нечто такое, что, будучи понято, по сути, перестает существовать, существовать в качестве такового – «секрета», в качестве чего-то «непонятного», загадочного, закрытого для рационального сознания. Понимание «секрета» упраздняет его «реальность»; понятый или «раскрытый» секрет как таковой уже не существует. Существует же теперь – как некая «позитивность» понимания – его «разгадка», некий позитивный, лишенный «характера требования», обращенности к нам, «вопрошания», ясный и прозрачный для рационального сознания, ему «соразмерный» смысл.
«Секрет» – это то, что содержит или, наоборот, что «держит», на чем «держится» всякий детектив – обычный, «нормальный» детектив, который всегда содержит загадку, с самого начала уже имеющую или предполагающую свою разгадку или известный – и именно рациональный – «ответ». И тут оказываются справедливыми слова про напускаемый автором «туман» и про «покров тайны», который он до поры до времени набрасывает на происходящее, про «таинственность и непонятность», которые являются только литературным «приемом» или «техникой» (запомним это ключевое слово, к которому мы еще вернемся), являются элементом особой хитрости, или «уловки» – почти в буквальном смысле, – с помощью которой автор «улавливает» нас и на протяжении многих страниц удерживает «при» своем тексте, не позволяя нам от него оторваться.
Но в конце концов мы всегда хлопаем себя по лбу: «ах, вот оно, оказывается, в чем дело!», и все вдруг становится ясным и обозримым. Если что теперь и непонятно, то только то, как это автору удавалось так долго держать нас в состоянии непонимания, в напряжении, так долго «водить нас за нос» и «морочить нам голову». Как это мы раньше не догадались, в чем дело, не смогли разгадать. Такое понимание «тайны» предполагает и соответствующий способ чтения и понимания текста – с установкой на раскрытие «тайны» как на ее «разоблачение», «развенчивание», то есть – с установкой на ее устранение в качестве таковой: «понимание» тайны в этом случае означает по сути дела всегда замещение ее неким другим, позитивным рациональным смыслом, дающим ее разгадку и тем самым ее уничтожающим.
Тут я на некоторое время оторвусь от текста Выготского.
Не правда ли, есть что-то очень знакомое в этой, характерной для традиционного литературоведения, концепции «понимания»? Где-то мы уже встречали ее в психологии.
Действительно, не таково ли то же психоаналитическое «понимание»?
Разве «понять», скажем, сновидение не означается тут (что бы ни говорилось при этом в высокой психоаналитической теории об «иррациональной» природе бессознательного, манифестирующего себя в сновидении, и о соответствующих «механизмах» образования сновидения, в терминах, положим, так называемых «первичных процессов», которые сами, как мы сейчас прекрасно понимаем, суть только рационально объективированные, «спроецированные» – говоря на языке самого психоанализа – типичные случаи синтагматических связей поверхностного плана самих текстов рассказов сновидений, есть только своего рода «поэтика» текстов сновидений), – разве «понять сновидение» не означает для психоаналитика – ортодоксального, фрейдовского психоаналитика (хотя, честно говоря, хотел бы я услышать от кого-нибудь – и не только по поводу психоанализа вообще, включая и лакановский психоанализ, но и вообще по поводу психотерапии, по поводу каких бы то ни было форм психопрактик – хоть что-то членораздельное и, главное: реализуемое на деле, в работе толкования, о каком-то ином способе «понимания»!), – разве «понять» не означает тут именно заместить (выстраиваемым в ходе анализа, в ходе толкования) текстом интерпретации исходный «текст» сновидения!? Разве интерпретация не есть тут всегда своего рода «перевод» на «язык» рационального сознания исходного – «таинственного и непонятного» – «иррационального» рассказа о сновидении?
Рассказа, который уже и сам, надо было бы заметить, не только не совпадает с собственно сновидением, но оказывается – вследствие соответствующей работы толкования и через нее – заступающим место собственно сновидения. Рассказа, который сам уже обращается в анализе «вместо» сновидения в его собственном и – как мы сейчас догадываемся – «продуктивном» существовании в общей «экономике» нашей внутренней жизни. Этого «просто рассказа о» сновидении, который и сам уже, как мы это прекрасно сейчас понимаем, является всегда определенным – и, внутри анализа, невероятно изощренным и всегда уже всем ходом анализа особым образом «поставленным» (как ставят голос) – способом интерпретации сновидения. Рассказа, стало быть, так или иначе «подающего» сновидение – сообразно ближайшей и более широкой ситуации. «Рассказа сновидения», наконец, который сам уже – говоря словами Бахтина – есть всегда определенный способ «сценирования» (прямо-таки по Берну!) ближайшего события общения между пациентом и психоаналитиком.
Итак, характерный для литературной критики способ чтения и понимания текста, о котором говорит Выготский, характерен также и для фрейдовского психоанализа. Больше того – это способ понимания, доминирующий (если не единственно известный) и в современной психологии. Способ понимания, который оказывается сущностно соотнесенным и с определенным, также доминирующим сегодня типом психотехники.
Этими несколькими фразами мне приходится ограничиться в прослеживании параллели между ситуацией, обсуждаемой Выготским, и ситуацией в современной психологии и психопрактиках. Замечу только, что за рассмотренной концепцией «понимания» стоит, конечно, определенное понимание самой «рациональности».
Возвращаюсь к сказанному Выготским. Второй, альтернативный способ чтения и понимания, которого предполагает держаться сам Выготский, как раз и ставит феномен тайны «во главу угла», как раз и пытается брать именно «тайну» в качестве исходной, отправной точки для развертывания работы понимания, но также, как я уже сказал, и предельной, последней ее точки – точки, в которую понимание должно также снова и снова «возвращаться», или, быть может, лучше было бы сказать: которой оно снова и снова должно еще достигать – как «последней» и «истинной» реальности.
Задача понимания состоит здесь, стало быть, не в том, чтобы разоблачать таинственное, рассеивая его, как только снаружи обволакивающий и скрывающий понимаемое «туман», но, напротив, в том, чтобы утвердить «тайну» как таковую в ее неустранимости и реальности, то есть понять «тайну» не как то, что извне скрывает и заслоняет понимаемое, но, напротив, как то, что является внутренне самому понимаемому присущим и, больше того – его существом и корнем – тем, в чем или «из чего» понимаемое получает оправдание своего существования, достигает его подлинности. Чуть дальше Выготский прямо говорит об этом.
Интерпретация в этом случае, кроме прочего, оказывается в совершенно ином, нежели обычно, отношении к понимаемому: она не «замещает» исходный текст, не встает на его место, но пытается держаться как бы «при» нем, выступая только в качестве «проводника» к нему, или, что то же: выступая в качестве того, что открывает понимаемому дорогу, дает ему возможность «выйти» нам навстречу.
Интерпретация, стало быть, оказывается только дополняющим и усиливающим, «амплифицирующим» наше понимание органом (или – «приставкой», «насадкой»), но, важно – амплифицирующим «в сторону», «в направлении» самого понимаемого. То же самое можно было бы сказать и иначе, «в приведении» к понимаемому, – к сожалению, сегодня я не имею возможности развернуть этот очень сильный и красивый ход, намечаемый в работах некоторых современных авторов, в частности М. Бланшо, – «интерпретация» амплифицирует само понимаемое, «доводя его до кондиции», открывая для него возможность нам сказаться или даже: ему – нас – понять! Это «Гамлет» меня понимает! – так, что позволяет мне достичь реальности и полноты моей жизни! Это «Гамлет» меня понимает, ибо он «лучше», полнее понимает меня, чем я сам – без, вне него. Именно поэтому всякое полноценное, «адекватное» природе большого, настоящего искусства, понимание – сущностно «продуктивно», оно само есть «творчество» – и в самом строгом и большом смысле этого слова – не психологическом даже, но – собственно бытийном; и – именно поэтому уже – оно не может осуществляться через «сведение» к уже известному и понятному.
Нельзя не услышать здесь, пусть и в неявном еще проведении, основную тему будущей культурно-исторической теории, нельзя не усмотреть в этих размышлениях Выготского ход, путь к идее «инструментальности»; но нельзя не признать одновременно также, что эта идея инструментальности берется здесь совсем в другом ракурсе, выступает в другом смысле, нежели в работах Выготского, составляющих канонический корпус текстов собственно культурно-исторической психологии. Об этом я, быть может, еще успею сказать несколько слов чуть дальше.
Здесь же я хотел бы заметить только – это важно для дальнейшего, – что «интерпретация», или «чтение» (что здесь – одно и то же), в данном случае никоим образом не «производит», не «порождает» смысл текста. «Интерпретация» тут, в конце концов, лишь дает возможность «заговорить» самому тексту, высказать то, что он говорит; высказать это, быть может, в более артикулированной – что, однако, не значит: в более ясной и понятной для рационального сознания – форме.
И вот теперь – второй фрагмент: «Исходная точка – миф Гамлета, реальность Гамлета».
Стоящая в этой фразе запятая исключительно важна: вычитываемая благодаря ей смысловая эквивалентность «мифа» и «реальности», равно как и прослеживание других контекстов употребления слова «миф» в данной работе Выготского позволяют воздержаться от того, чтобы «вчитывать» в него привычные нам сегодня значения. И хотя из слов самого Выготского следует, казалось бы, что понятие «мифа» занимает особое, ключевое положение в данной работе, специфицируя новизну его подхода: «Собственно, настоящий краткий этюд, – пишет на предыдущей странице Выготский, – есть опыт истолкования трагедии как мифа, опыт, – с пафосом замечает он, – в шекспировской критике первый», однако, собственно понятие «мифа» в данной работе не только не вводится Выготским в явном виде, но и не может быть реконструировано из его «употреблений», в силу, мягко говоря, весьма вольного его употребления. Так или иначе, важно то, что мы можем подставлять вместо него такие его смысловые эквиваленты в рассуждении Выготского, как «реальность», «последняя реальность» нашей жизни, «мистическая реальность», или: «первая реальность» трагедии и, соответственно, «первичная данность» ее чтения, понимания, или даже: «символ», – эквиваленты, которые и позволяют развернуть действительные – не по словам, но по сути – мыслительные и шире: духовно-исторические рамки, в которых реально развертывается в данной работе мысль Выготского.
Итак: исходная точка чтения и понимания трагедии – это «миф» Гамлета, «реальность» Гамлета, это – «необъяснимая первоначальная данность, – продолжает Выготский, ставя важную запятую, означающую здесь «то есть»: то есть – реальность трагедии, которая убедительна (именно как «реальность» неустранимая и «последняя» реальность, то есть реальность, сообщающая «убедительность» и всему остальному. – А.П. ), властно покоряющая необъяснимой силой художественного гипноза (оставим это слово на совести Выготского. – А.П. ) и внушения.
Из этой мистической (так! – и каждый, кто читал «Гамлета» Выготского, должен понимать, что слово это в контексте данной работы нагружено предельно серьезным и ответственным смыслом, к которому уже и «миф» не подходит, ибо «мистериальность», о которой тут идет речь – мистериальность христианского толка, – уже совершенно иного ряда и свойства. – А.П. ) – из этой мистической реальности трагедии, – продолжает Выготский, – вырисовывается как второстепенное все остальное: образы действующих лиц, фабулы, диалоги и т. д. Все это подчиняется главному. Европейская критика (по сути дела – хочет она того или нет – по реализуемому ею способу чтения, понимания. – А.П. ) оспаривает, разлагает, переводит, борется с трагедией».
Поразительные по проницательности и точности слова! Как точно и сильно говорит тут Выготский. И следует вдуматься в эти слова Выготского, чтобы понять их во всей их парадоксальной очевидности! Обычный способ чтения и понимания по сути дела упраздняет феномен трагедии как таковой, замещая его тем или иным рациональным, редуцирующим, «объясняющим» толкованием. Этими немногими – такими, казалось бы, простыми и такими неопровержимыми словами – Выготский подписывает приговор всей прежней литературной критике, показывая ее с самого начала обреченность в ее попытке понять феномен трагедии. Но ведь, положа руку на сердце, теми же словами он подписывает приговор не только ей, но также и всей, по сути дела, психологии – и не только академической «научной», но также и «практической», равно как и самим «психопрактикам» – в их претензии на действительное понимание человека, всего человека, или: полного человека, ибо ведь и она – как бы парадоксально и невероятно, на первый взгляд, это ни звучало и что бы она при этом ни писала на своих знаменах! – и она реально «оспаривает» и «борется» (так!) с человеком – с человеком «в полном смысле слова», с «человеком трагедии», с «человеком мистерии», – и не в каком-нибудь «специальном» и «потустороннем» этой жизни смысле, но в самом, что ни на есть «посюстороннем» и имманентном ей смысле, борется с человеком как свободным и духовным существом, борется с «трагедией» – не шекспировской даже, но с трагическим и мистериальным пониманием самой жизни вообще, борется с «тайной» – не «мифом», но реальностью, последней реальностью жизни, с «тайной», которая – по слову другого трагического поэта – «одна только и дает нам жизнь!» – борется, как мог бы сказать сам Выготский, с «собственно человеческим в человеке».
Но вернемся к тексту Выготского и дочитаем немногие оставшиеся фразы.
«Здесь же, – говорит Выготский о своем подходе, и это важный пункт, позволяющий перекинуть мостик ко вчерашней дискуссии между В. Розиным и В. Собкиным, – здесь же просто факт художественного восприятия мифа шекспировской трагедии, ее мистической реальности, как правды реальности – последней, недоказуемой, ощущаемой <правды>: как правды (здесь позволю себе исправление в опубликованном тексте. – А.П. ), реальность победившей. <…> <трагедия> как художественное откровение мифа, реальности. Тема этюда: миф трагедии о Гамлете, принце Датском (теперь мы знаем: «миф» – читай: «мистическая реальность», «тайна». – А.П. ), миф как религиозная <…> истина, раскрытая в художественном произведении (трагедии)».
Позволю себе здесь остановиться и буквально двумя только штрихами обратить внимание на самое главное.
Во-первых, здесь у Выготского мы находим прямое указание на то, что в исходе предлагаемого им способа чтения и понимания текста стоит – как пишет Выготский – «просто факт художественного восприятия мифа шекспировской трагедии». Что и означает уже отмеченную ранее «феноменологическую установку», то есть означает, что не только исходным пунктом, но и своего рода «рамкой» – то есть «альфой и омегой» – такого рода чтения и интерпретации текста выступает живое «восприятие», «видение», «слышание» и что сама работа интерпретации действительно является только «продолженным актом чтения», то есть работой «приведения к» этому живому восприятию.
Еще раз: «интерпретация» – не замещает собой «интерпретируемое», не заступает его место, не «упраздняет» его, делая его собственное существование впредь по сути как бы уже избыточным, «излишним»; она – не «вместо него», но «вместе с ним»; интерпретация есть только «продолжение», «расширение», «углубление» понимаемого, читаемого текста; но все же она есть всегда только его «часть», его – исходного, читаемого, понимаемого текста – «орган», позволяющий ему «сказаться» – полнее, точнее, членораздельнее. Но все же – ему! А не «вместо него», не «за него» или даже «лучше него»!
Это важно в связи со вчерашней дискуссией, поскольку оппонент Вадима Марковича, как мне представляется, одновременно и прав, и не прав. Он – прав в том, что у Выготского как читателя анализируемых им текстов, – а «чтение», как мы видели, в ранних его работах, в силу реализуемой в них феноменологической установки, является исходной точкой для всего остального, – у Выготского как читателя и в его последующих работах, включая не только даже «Психологию искусства», но также и более поздние работы, нельзя отнять ни прежней глубины, ни тонкости, ни серьезности понимания. Иное дело – Выготский как «психолог», Выготский, извлекающий этот опыт чтения в рамках характерных для его собственно психологических работ способов анализа и концептуализации. И здесь – нельзя не признать этого – чем дальше, тем больше Выготский как исследователь как бы теряет контакт со своим же собственным живым опытом чтения и восприятия, его анализы уже не продолжают и не углубляют этот опыт, но, напротив, его заслоняют, искажают и редуцируют. Это, однако, особая – важная и поучительная, хотя и невеселая история.
Если вернуться теперь к прочитанному отрывку, то следует сказать, что текст тут таков – он настолько «плотный», концентрированный и вместе с тем исключительно важный по своему содержанию, что буквально каждое его слово требует обстоятельного разбора и комментария. Я имел возможность делать такой разбор, и даже не раз, прежде всего, в лекциях на факультете. Сейчас я не могу себе этого позволить, и мне хотелось бы сказать еще только несколько фраз, попытавшись связать этот свой опыт чтения Выготского с заявленной темой выступления.
Хочу обратить внимание только на одну еще фразу, или, правильнее сказать – «формулу» Выготского. Хотя она и не повторяется им больше и потому, как правило, не останавливает на себе глаз, но именно она, быть может, в наиболее концентрированной и точной форме выражает центральный, критический ход, или поворот, его мысли – именно эта формула не только дает «сценарий», позволяющий «уловить» и «разыграть», развернуть ход мысли Выготского, но позволяет сценировать также и один важный ход в нашей собственной мысли.
В прочитанном фрагменте есть удивительные выражения: «шекспировская трагедия как правда реальности», или, в другом месте – «…как правда нашей жизни».
Чтобы продвинуться к тому смыслу, в котором эти слова говорит здесь Выготский, – смыслу, который можно установить из контекста и из общей «интенции» его рассуждения, – я возьму в качестве «ключа» то чтение входящего в эту формулу слова «правда», которое предложил в свое время Андрей Белый.
В небольшом тексте, помещенном в одном из выпусков редкого теперь, всего год выходившего в знаменитом издательстве «Алканост» (при участии А. Блока и А. Белого) альманаха «Записки мечтателей» – это 21-й год, – Белый предпринимает попытку (в контексте рассуждения, сюжета которого я сейчас касаться не буду) установить различие двух, обычно воспринимаемых как синонимы (по крайней мере трудно различимых по смыслу) русских слов: «истина» и «правда».
Можно сказать, что он делает это в привычной сегодня, характерной, скажем, для работ Хайдеггера или Дерриды, «псевдоэтимологической» манере.
Почему «псевдо»? Да потому, что «этимология» эта сплошь и рядом не только не выдерживает никакой критики со стороны лингвистики и не озабочена своей состоятельностью перед этой критикой, то есть своей «истинностью» – позволю себе поиграть на том различении «истины» и «правды», о котором говорю сейчас, демонстрируя его «в деле» на нем же самом, – но и, как правило, вполне отдает себе отчет в своей проблематичности, а подчас даже вызывающе бравирует этим, ибо хорошо понимает свою действительную задачу: быть «правдивой» и соответственно понимает свой действительный статус – инструментальный статус, то есть понимает свое назначение: быть не столько «истинным» знанием о реальном положении вещей – о том, что и как есть на самом деле, – сколько служить особого рода средством, специально выстраиваемым «аппаратом» для рождения некоего нового опыта мысли, понимания.
Квазиэтимология эта, стало быть, не «о том», что «есть», но «для того, чтобы» нечто могло родиться в мысли, начать быть.
И вот, прямо-таки «в соответствии» с духом такой «квазиэтимологии», А. Белый и пытается провести различение «истины» и «правды». Для первого слова он принимает – по крайней мере, в то время довольно утвердившееся (этой этимологии, к примеру, придерживался в своем «Столпе и утверждении истины» такой авторитетный исследователь, как Павел Флоренский) – возведение слова «истина» к корню «есть»: «истина», стало быть, это – «естина», «то, что есть».
С точки зрения современных лингвистических представлений эта этимология является ложной. Но это еще куда ни шло. Но вот для второго слова – для «правды» – Белый предлагает нечто совсем уже невероятное – невероятное и с точки зрения обыденного сознания, и с точки зрения обычных языковедческих представлений и ходов анализа, – однако, как можно показать, глубоко мотивированное характером его, – как мы знаем, антропософского – ума, идеями характерного для антропософской мысли «гетеанизма» (к сожалению, здесь я не имею возможности разъяснять это понятие – за его разъяснением можно обратиться к работам Рудольфа Штейнера или же Карена Араевича Свасьяна).
Итак, «истина» – это «то, что есть», то, что говорится о «сущем». Но «сущее», «то, что есть», замечает Белый, «не последнее». Что это значит? Что же «дальше» – «за» сущим, «за» тем, что есть?
И вот тут-то и начинается «гетеанизм» Белого, тут-то и начинают торчать его «антропософские уши». А что он делает? А он берет слово «правда» и проделывает с ним неожиданную «операцию»: он… разбивает его на три части! Ну, вы можете догадаться, на какие: «пра» – «в» – «да».
Что касается «да», то Белому не составляет особого труда указать на семантическую эквивалентность – с точки зрения русского языка (но не только русского) – этого слова (части исходного слова, взятого как корень, лексема) всё тому же слову «есть», утверждению существования: сравните в тавтологическом, «удвоенном», стало быть, утверждении существования в выражении: «да будет!».
Пусть так. Но что же дальше? Ну, «в» – это указание на определенное пространственное отношение. На то, стало быть, что нечто имеет место в «да», то есть – в «сущем».
И вот тут критический пункт. Что же тогда это «пра»? Как толковать это «пра», которое «в» «да»? И вот тут-то Белый – в духе гетеанизма, свойственного антропософскому мышлению (а он был, как вы знаете, серьезным, глубоким антропософом), – пытается опереться на гетевскую идею «пра-феномена» и интерпретировать это «пра», которое в «да», – как некое «пра» всякого феномена, всякого являющего себя сущего – как то «пра-место» или «пра-лоно», внутри которого все, что начинает быть, приходит к своему существованию, рождается.
Я сказал эти слова, и кто-то, быть может, уже услышал в них буквальное повторение одной из платоновских формул «идеи»: «Идея, – говорит Платон, – это то, стоя в чем, все, что должно начать быть, приходит к своему существованию». Поразительно, не правда ли? Оказывается, не только у Белого начинают торчать гетеанские уши, но и у самого Гете – платоновские!
Но это – замечание в сторону. Для нас же важно, во-первых, что платоновская «идея» (а заодно с ней и гетевский «пра-феномен») оказываются не «картинкой», как то мы обычно себе представляем, но – «местом», «топосом», и, во-вторых, «топосом рождения», рождения «из» бытия, бытийным лоном.
«Правда», стало быть, по мысли Белого (а – из-за чего я все это и говорю – совершенно в том же смысле говорит о «правде» – о «трагедии как правде нашей жизни» – и Выготский!), – «правда» и есть то самое «место, стоя где» – в контексте формулы Выготского можно было бы добавить: стоя где «реальность», или наша жизнь – какая она «есть» – приходит к своему подлинному существованию, то есть претерпевает то самое «таинственное», «мистериальное» преображение, которое подобно – как говорит Выготский – евангельскому чуду превращения воды (этой жизни) в вино (жизни Новой).
Что значит этот опыт чтения текста Выготского в контексте объявленного в названии выступления тематизма?
В современной психологии можно найти различные толкования психотехники. Доминирует в ней «буквальное», инструментальное понимание, в соответствии с которым «психотехника» – это техника тех или иных «действий над» психикой, действий, нацеленных на «производство» соответствующих ее изменений: трансформаций ее «устройства», режимов ее «функционирования», на обеспечение определенного направления ее «развития» и т. д. и т. п.
«Воздействие» понимается при этом в буквальном смысле, то есть предполагается, что с психикой человека, с его сознанием, личностью, эмоциями и т. д., – вопрос, допустимо ли перечислять все это через запятую, при этом даже не обсуждается, – что со всем этим можно проделывать такие дела, как «организация», «управление» (что означает всегда по сути: манипулирование), равно как и – «формирование», то есть преобразование извне с помощью особых знаковых средств.
Нельзя отрицать, что такое понимание психотехники как раз и характерно для хрестоматийной версии «культурно-исторической теории» Выготского – для ее «зрелой», или «развитой», формы. Однако – хочу подчеркнуть это и, собственно, это-то я и пытался сегодня продемонстрировать – этому буквальному – манипулятивному – пониманию психотехники (а именно с ним, как нетрудно понять, соотносится и так называемая «общепсихологическая теория деятельности»), – этому пониманию психотехники решительно противостоят ранние работы самого Выготского (при том, что собственно «психотехнический» ход мысли, психотехнический «коперниканский» переворот психологической мысли в них, как я также пытался показать, уже отчетливо присутствует – пусть еще и не в явно сформулированном виде). И это особенно ясно видно в работах Выготского, посвященных анализу искусства, то бишь, по большей части – анализу литературных произведений.
Ведь, конечно же, не только в собственно «Психологии искусства» или в соответствующих пассажах из «Исторического смысла психологического кризиса» (здесь эту идею «психотехники» мы находим уже в явно сформулированном виде), но также – как я сейчас это по сути дела продемонстрировал своим чтением, – также уже и в «Гамлете» есть эти психотехнические планы, но! Но если в той же «Психологии искусства» Выготский говорит, что феномен искусства, «чудо искусства» подобно евангельскому чуду претворения воды в вино, то – ясное дело – всякая буквальная психотехническая интерпретация его концепции искусства должна быть сразу же отброшена.
И мне хотелось бы в конце своего выступления сказать, что собственно «психотехническому» – в узком и буквальном смысле этого слова – пониманию психотехники, которое, к сожалению, нередко связывается не только с работами самого Выготского, но и с моей работой о культурно-исторической психологии, которая, как я не раз слышал, рассматривается в качестве прямо-таки «манифеста» психотехнической парадигмы в психологии, «психотехнической» именно в этом, буквальном, «лобовом» понимании «психотехники» как техники производства изменений психики, целенаправленной и извне ее трансформации, – этому пониманию психотехники следует противопоставить – во всяком случае, в тех областях психологии и психопрактики, где мы ищем возможность иметь дело с «полным человеком» – с его сознанием, личностью, поступком – о чем так много говорили вчера, – мы должны противопоставить другую версию психотехники (если только вообще идея и даже самое слово «психотехника» при этом еще могут сохраняться).
И этому, как мне представляется, есть, по крайней мере, два основания.
Во-первых, буквально понимаемая идея психотехники по отношению к тем феноменам, о которых я сейчас говорил, – по отношению к сознанию, поступку, личности – абсолютно нереализуема. Нереализуема в силу самой «природы» этих феноменов – в силу того, что все эти феномены суть, в конце концов, феномены свободы.
Собственно «человеческое в человеке» – и на этом стоит в своих ранних работах Выготский – начинается там, где начинается свобода!
В соответствии с этим пониманием человека в том же «Гамлете» мыслится отношение между богом и человеком. Бог тут, по сути дела, и есть та сила, которая позволяет человеку занять свое, незаместимое место в бытии – место, где никто вместо него быть не может, «стоя где» он только и может сделать то, что он должен делать и что не только «за» и «вместо» него никто сделать не может – даже и самый господь бог! – но что никто не может с ним даже и разделить – работу, которую он должен выполнить, ответственность, которую он должен на себя принять.
Но ведь если только это принять всерьез и попытаться последовательно продумать, то под вопрос окажутся поставленными многие представления и идеи современной психологии и психопрактик, включая, быть может, – да простит меня почтенный председатель – и идею синергийной психотерапии – если только ее понимать в обычном, положим – в том же исихастском ключе, то есть все же более или менее буквально.
Тут, естественно, возникает вопрос: как же тогда вообще представлять себе присутствие другого – в более спокойном и сниженном случае, скажем – того же терапевта для пациента?
Как представлять себе это присутствие психотерапевта в коммуникации с пациентом внутри терапевтической работы, если, с одной стороны, мы понимаем, что оно является если не решающим, то все же существенным моментом этой работы, но, с другой – мы отказываемся от того, чтобы представлять его в схемах буквально понимаемого психотехнического действия, то есть как «воз-действие», или пусть даже и «со-действие»?
Если мы понимаем, что это «присутствие» – которое и есть особый род «понимания», осуществляемого терапевтом (о чем я пытался говорить пару лет назад, выступая на международной конференции по психотерапии, организованной нашим сегодняшним председателем), – если это «присутствие» терапевта в ситуации и должно, по сути дела, позволять другому – пациенту – проходить в ту самую точку его уже незаместимого присутствия, в точку свободы, в которой и становится возможным то, что можно назвать поступком – а поступок есть феномен свободы.
И если мы понимаем, что реальность поступка и есть для терапевта та действительная или даже – последняя и единственная реальность в рамках психотерапии, на события в плане которой терапия, казалось бы, и должна быть ориентирована, «нацелены» усилия терапевта, – события, которые, быть может, единственно только и имеют действительный и «оправдывающий» все остальное смысл.
И если мы понимаем, наконец, что реальность эта – «виртуальная» реальность. Не в том, правда, смысле, который этому слову чаще всего придают сегодня, но, опять же, в исходном и собственно методологическом смысле, который это слово получило в свое время в физике. А там оно было введено для того, чтобы зафиксировать особый, неклассический характер ряда феноменов, которые не допускали представления их как налично существующих (вне зависимости от «природы» этого существования), то есть как существующих до, вне и независимо от тех актов «исследования», внутри, через и лишь «на время» выполнения которых эти феномены впервые только и устанавливаются в своем присутствии. Нельзя не заметить, правда, что само понятие «исследования», как раз предполагающее (на что указывает корень этого слова) присутствие в качестве наличного – до и независимо от акта исследования – некоего «следа» изучаемого, что самое это понятие становится при этом не вполне уже адекватным и приемлемым в прежнем и буквальном содержании. Про «виртуальные» феномены, стало быть, можно было бы сказать – парадоксальными и, на первый взгляд, даже грамматически «неправильными», но в действительности безупречными в языковом отношении и невероятно точными – словами Мераба Константиновича, что они, эти феномены, в каком-то смысле, никогда «не были, не есть и не будут» – как наличное, как «вещь».
Так вот: о «поступке» как о феномене «свободы» следовало бы говорить как о феномене «виртуальном», или как о феномене, принадлежащем «виртуальной реальности», то есть – опять же, по слову того же М.К., – принадлежащем «миру, в котором всегда еще (!) ничего не случилось», миру, который сам – и всегда впервые – только и устанавливается вместе с (перво)событием «в» нем (парадокс, однако – еще один парадокс! – состоит в том, что «мир» этот, тем не менее, всегда «один и тот же», «тот же самый» мир).
«Поступок» есть то, что впервые и устанавливается в своем бытии только «через» и внутри определенного рода «ответа на» него (как можно «отвечать на» то, что «не есть»?!) – понимающего ответа, или собственно «понимания».
«Понимание» и высвобождает то место, «топос», о котором говорит Выготский в своих словах о «Гамлете» как о «правде нашей жизни», – «топос», где может произойти, свершиться событие свободы.
Но коль скоро поступок – это событие свободы, то «понимание» его не определяет (тем паче, не пред-определяет) и не может определять: не может – по самой его «природе».
Итак, проведение буквально понимаемой психотехнической установки по отношению к феноменам свободы оказывается невозможным. Вчера я говорил об этом по отношению к феномену мысли, но то же самое можно сказать и о феномене поступка. Реализация буквально понимаемой психотехнической установки по отношению к поступку невозможна.
Но можно было бы сказать, что такая установка с самого начала была бы также и «бесцельной» – по самому существу, по внутренней, смысловой конституции этих феноменов она была бы внутренне противоречивой, просто-напросто не способной достичь своей цели. Если только психотерапевт вообще понимает, с чем он имеет дело и что он должен пытаться делать.
Ведь то, с чем он должен иметь тут дело, то, рождению чего – как «психомайевт» – он должен помогать и способствовать, ради высвобождения чего к бытию он и должен работать, – это феномены, которые как таковые могут быть рождены только самим пациентом. Которые, как я говорил, «сделать» и «произвести» за и вместо другого человека нельзя – нельзя без того, чтобы тем самым не лишить их – как таковые – их смысла и статуса, без того, чтобы тем самым они в самый момент своего «рождения» не перечеркивали бы сами себя, не «стирали» бы себя в качестве таковых.
«Запределивая» эту мысль, можно было бы сказать: если бы Христос на кресте все уже «за меня» сделал – в смысле моего спасения, – как раз тогда я бы «пропал», именно тогда для меня – как духовного существа – оказалась бы закрыта всякая возможность спасения. Больше того, была бы закрыта возможность всяких событий, имеющих какой бы то ни было духовный смысл, – и, опять же, как это ни парадоксально, – именно в устанавливаемом евангелием смысле: как событий «второго присутствия» – в этом мире, в этой моей жизни – Христа.
Точно так же – о чем я говорил вчера, – как и в случае «мысли», понимаемой как феномен свободы: если тот же Мераб Константинович – своей мыслью – все уже «за меня» сделал, все уже «за меня» продумал, не оставляя или даже: не «высвобождая» – впервые! – своей мыслью место для моей мысли (а «мысль», говорит М.К., это и есть «то, что дает место другой мысли», «мысли» и больше – ничему, «дает место» и больше – ничего!), – так вот: если он своей мыслью все уже за меня сделал и, тем самым, «избавил» меня от необходимости самому пытаться помыслить в ситуации, в своем незаместимом месте в бытии – в том месте, куда я как раз его мыслью, быть может, и «поставлен», возможность пройти куда, быть может, именно его мысль для меня и открыла – тем, правда, как я говорил вчера, что сделала мысль в моей ситуации, мою мысль, но, тем самым – и мысль вообще, коль скоро я мыслю невозможной, абсолютно невозможной, настолько невозможной, что все же «помыслить» означало бы тогда: дать самой своей мыслью, «возможностью этого невозможного» дать заново абсолютно новый, как и самая мысль так же до того невозможный, ответ на вопрос: «что есть мысль?» и «что значит мыслить?» – если бы, я говорю, это М.К. за меня сделал, то вот тогда я бы «пропал» – в смысле возможности мыслить, а стало быть – и читать и понимать его тексты, коль скоро это – мыслительные тексты, тексты мышления.
К сожалению, не только по отношению к текстам М.К., но также и по отношению к текстам Выготского (и по отношению к ним, как легко понять, даже в большей степени, поскольку они не столь «жесткие», не столь «сопротивляющиеся» любому другому – «в обход мышления» – способу чтения) мы имеем, по большей части, как раз такие попытки чтения, которые избавляют нас от необходимости мыслить. От того, чтобы самим проходить в точки собственной незаместимости, от того, чтобы «присутствовать» в самом чтении и понимании текста в качестве свободного – мыслящего и поступающего – существа. Чтобы, тем самым, – этим своим чтением – раскрывать и реализовывать те возможности для рождения мысли, поступка, которые для нас созданы текстами, мыслью М.К. или мыслью Выготского.
И тем, кстати, реализовывать – а через «извлечение опыта» и понимать! – то понимание «мысли», «поступка», равно как и самого «понимания», которые «содержат» их работы.
Но я давно уже «перебрал» свое время. Здесь я закончу. Спасибо!
Ведущий: Пожалуйста, вопросы Андрею Андреевичу!
Вопрос: Вчера Вы говорили о том, что в культурно-историческом подходе нет никакого, выдерживающего критику, «представления об истории» и даже – что в ней нет и не может быть места для собственно «исторического». Вы при этом никак не отнеслись к тому представлению об «истории», которое у Выготского все-таки было, ничего о нем не сказали, никак его, пусть критически, не разобрали. И, насколько я помню, в своем сегодняшнем выступлении Вы обещали как раз ко всему этому вернуться и все это прояснить.
Точно так же Вы обещали вернуться к разговору о методологических представлениях об истории Г.П. Щедровицкого и М. Фуко, которых вчера Вы только слегка коснулись. Но сегодня не было этого обещанного продолжения. Это во-первых.
А во-вторых, – уже в своем сегодняшнем выступлении – Вы сказали, что у Выготского в его «Гамлете» помимо филологического есть еще особое, собственно «психологическое» – не «психологистическое», как Вы это подчеркивали, но именно «психологическое» – чтение шекспировской трагедии. Мне осталось непонятным, что это значит? Что делает подход Выготского собственно «психологическим»? И чем этот собственно «психологический» подход отличается от «психологистического»?
А.П.: Спасибо. Попробую ответить на Ваши вопросы. Вы правы: я не выполнил данные вчера обещания. В силу изменения сюжета сегодняшнего выступления, о чем я сказал вначале, я отказался от продолжения того разговора об «истории», об «историческом», который затеял вчера. По крайней мере – в явном виде. Хотя, скажем, все то, что я говорил сегодня о феномене «поступка» – по сути дела есть продолжение разговора об «историческом», поскольку «поступок», как я отмечал сегодня, – это феномен в существе своем «исторический». Мне хотелось ответить на критические выпады в мой адрес, прозвучавшие вчера, и я решил радикально изменить сюжет, а тем самым, по необходимости, – и тематическое содержание сегодняшнего выступления. И по крупному счету, мне кажется, это было правильное решение. Оно позволило мне сделать выступление более конкретным и «локальным» и тем довести до конца хотя бы одну – основную – линию рассуждения. За счет того, правда, на что Вы справедливо указываете, что намечавшиеся прежде линии и ходы оказались при этом «усеченными». Надеюсь, когда-нибудь мне еще представится возможность их развернуть.
Второй Ваш вопрос представляется мне исключительно важным и принципиальным, касающимся самого существа того, о чем я сегодня говорил.
Что делает ранние работы Выготского имеющими все-таки отношение к психологии? И почему я говорю, что при этом в них Выготскому удается избежать психологизма? Психологизма, свойственного и современной Выготскому, и нынешней психологии. Психологизма, которым нередко грешат и последующие, собственно психологические, работы самого Выготского.
«Психологизм» – в соответствии с традиционным образом психологии как «объясняющей» дисциплины – начинается там, где исследователь пытается дать тому, что изучает, некое объектное, причинное, объясняющее представление.
И хочу повторить то, что сказал по этому поводу вчера: строго говоря, в психологии и сегодня нет никакой другой парадигмы, кроме объясняющей и детерминистической – в прежнем, традиционном, то есть по существу – естественнонаучном смысле, нет никакой серьезной – всерьез продуманной и основательно развернутой – альтернативы все той же методологии классического естествознания.
В этом смысле в ранних работах – в частности и прежде всего в «Гамлете» – Выготский ни в коем случае не «психологист»; здесь он не ищет причинного объяснения трагедии в терминах так понимаемой – то есть естественнонаучной – психологии. Здесь он не пытается апеллировать к научной психологии того времени, к уже существующей психологии, не пытается внешним образом «заимствовать» из нее соответствующие, уже готовые, объяснительные представления и свести к ним (или, что то же, из них «вывести») реальность трагедии. Что он, казалось бы, должен был делать, не будучи, как вы помните, по образованию психологом, и что, скажем, делал в своих работах по анализу искусства тот же Эйзенштейн. И на первый взгляд тут даже как будто бы парадокс: «непсихолог» Эйзенштейн в своих работах по анализу искусства – даже в анализе собственного творчества – оказывается в большей степени «психологом» и – коль скоро он ориентируется при этом на современную ему научную психологию (прежде всего – на гештальтпсихологию), но также и на психоанализ (главным образом – ортодоксальный, фрейдовский психоанализ) – он с неизбежностью оказывается также и в гораздо большей степени психологистом, нежели Выготский. Даже – Выготский более поздних его работ: «Психологии искусства» и работ по психологии творчества актера. Даже уже будучи психологом по профессии, Выготский оказывается в меньшей степени «психологом» – в смысле психологии своего времени и, тем самым – меньшим психологистом, нежели «искусствовед» (в своих теоретических работах) и живой практик художественного творчества Эйзенштейн.
Вот это важно понять, чтобы понять то, что я говорю. Понять, что вот Эйзенштейн действовал как психологист, поскольку он брал те или иные – пусть иногда и переосмыслявшиеся, но все-таки всегда уже готовые – схемы объективирующего объяснения, полученные из изучения человека вне творчества (положим, в рамках того же психоанализа, хотя, вообще говоря, не так уже и важно – откуда), а к тому же, зачастую, и в лаборатории, то есть на «препаратах» от человека, брал эти схемы и пытался – через призму этих схем – понимать, а, точнее говоря, именно – «объяснять» феномены искусства. Тогда как у Выготского, как я пытался показать, мы находим движение, в известном смысле прямо противоположное, работу, которая по своей сути является особого рода феноменологией. Отправной точкой здесь выступает живой опыт чтения и понимания текста, а исходящая из него работа интерпретации есть только попытка «извлечения» этого опыта, есть только его, этого опыта, «продолжение» – есть только «расширенный акт чтения», только артикуляция, углубление этого опыта.
И потому «опыт чтения» тут есть не только исходный, но также и конечный пункт анализа. Именно к нему с необходимостью «возвращает» (а по сути, как я говорил, впервые «приводит») интерпретация, именно его, этот опыт чтения, она для нас «открывает» – как «тайну». Интерпретация здесь, как я говорил, не «вместо» анализируемого опыта (как «вместо» него и во внешнем к нему отношении стоящее – «объективность»! – «объяснение»): она не «вместо» него выдаваемая «истина» о нем – «истина», которая как бы уже «больше», чем самый опыт, и которая делает самый опыт уже как бы «излишним».
Подобно тому, как делает излишним самое сновидение его психоаналитическое толкование. Которое для психоаналитика также «больше» самого сновидения, ибо оно «полнее», «прямее», «яснее» и «правильнее», нежели само сновидение, выговаривает «действительный его смысл» и «лучше» раскрывает потаенную «истину» о человеке, чем само манифестирующее эту истину сновидение, в силу чего толкование и должно замещать собой и делать уже ненужным дальнейшее обращение к самому сновидению, и что, быть может, даже еще более важно – ненужным и невозможным самое его, сновидения, существование: растолкованное сновидение психологически – как психологически реальный, то есть действующий, факт жизни пациента и самого терапевтического процесса – уже перестает существовать.
Для сравнения скажем: не так, но прямо «наоборот» – для Юнга. И не так – для Выготского. Больше того, толкование здесь уже – не столько даже «толкование опыта», сколько «толкование для опыта», то есть оно открывает возможность «нового опыта» – опыта чтения, опыта понимания, вообще «опыта». «Опыта», который выступает при этом как то, проходя через что сам читающий, понимающий становится иным, из чего выходит измененным, новым.
И этим уже намечается ответ на вопрос: что делает это чтение психологическим.
Потому как это чтение ведь и в самом деле, вроде бы, может быть и литературоведческим или философским – взять хотя бы работы о Прусте М.К. Что же делает то чтение, о котором я говорю, собственно психологическим? А то, что это чтение всегда имеет «вектор», или «измерение», которым оно обращено к «психике», или «душе», самого читающего. Психологическим делает его то, что это чтение открывает возможность особого рода «работы», соответственно – «извлечения опыта», благодаря чему с душой этой что-то происходит, благодаря чему душа претерпевает катастрофический анаморфоз, или, говоря словами М.К.: проходит через точку своего «второго рождения».
«По отражениям в нем, в этом чтении, в этом опыте, – говорит М.К., – я исправляю путь своей жизни»! «Исправляю путь» здесь, конечно же, несет также и новозаветный смысловой обертон: «исправьте пути!». «Исправляю путь своей жизни» означает здесь, конечно: «исправьте пути жизни новой»! И потому своей поразительной, только что прочитанной нами формулой: «“Гамлет” есть правда нашей жизни» Выготский говорит, конечно же, то же самое! Слово «правда» ведь тут, кроме чтения Андрея Белого, или, точнее даже: взятое нами через чтение этого слова Белым, будучи «продолжено», продумано дальше, до конца, с необходимостью приходит и к этому смыслу «правления».
Важно только при этом ясно понимать, что «правление» здесь не имеет, конечно, в виду (и не может иметь!) «действие» по отношению к чему-то наличному и предлежащему как вещь, но означает только высвобождение пути тому, что приходит – про-ис-ходит – через это «второе рождение», через самое со-бытие «второго рождения» и только благодаря ему.
То есть чтение это является «психологическим», поскольку тут имеет место «психотехническое». Но «психотехническое» в смысле ранних работ Выготского – так понимаемая «работа души», – конечно же, не укладывается в прокрустово ложе психологистических представлений, не сводимо к тому, что может быть представлено в терминах «объективирующей» психологии.
Больше того: критически важным для нового способа работы (о чем я говорил вчера, разбирая то понимание истории – как «истории мысли» и «истории настоящего», – которое реализует в своей идее «генеалогии», или «генеалогической критики» М. Фуко) оказывается то, что не только представления, которые развертываются исследователем (это-то есть или, по крайней мере, должно быть и в любом научном исследовании), но самая его мысль с необходимостью вовлекается в радикальную, «катастрофическую» трансформацию. Но главное, что в такое «приключение» вовлекается и самая душа читающего.
Вопрос: Если можно тогда – в дополнение ко второму вопросу. Вот Вы говорите, что Выготский каким-то образом позволяет читающему его тексты – через это чтение – иметь дело со своей «душой». И это при том, что он не использует психологического языка и, больше того: при том, что, как мы знаем, никакой «души» в психологии давно уже нет, что «душу» психология, еще до того как стала наукой, уже потеряла. Еще Лейбниц говорил, что потеря эта уже произошла, это как бы известный факт. Так о какой «психологии» здесь вообще может быть речь? То, что можно найти у Выготского, – это может быть мыслительное, «философское», это может быть «мистическое» или какое-то другое видение: но только не «психологическое»!
А.П.: Дело тут, как Вы понимаете, не в словах. Ваши вопросы, мне кажется, проистекают из того, что та – альтернативная современной научной – психология, которую можно искать или «продолжать», идя от ранних работ Выготского, – она для нас еще и сегодня – «неведомая психология». И даже, быть может, во многом – странная и немыслимая психология.
Вчера, к примеру, шокирующими прозвучали мои слова в заключительной дискуссии, что культурно-историческая психология не является, научной, и больше того: не может и не должна быть наукой. Представьте себе, и сегодня, оказывается, наше сообщество шокируют эти слова. При этом, конечно, мы не задумываемся над тем, что они, эти шокирующие нас слова, значат. Не задумываемся, положим, над тем, что сами образы науки могут быть разными, что их может быть много, что само понимание рациональности также может быть различным и что, быть может, одновременно с поиском этой новой психологии, нового ее образа и соответствующих стратегий работы психолога следует искать также и новые образы науки, и новые формы рациональности.
Вы, как мне кажется, исходите в своем вопросе из того понимания психологии, которое лежит в прошлом, за нашей спиной; тогда как я – через чтение Выготского – призываю смотреть вперед, в будущее и искать такую форму психологии, которая могла бы иметь дело со всеми теми феноменами, о которых я говорил, оставаясь при этом все же рациональной дисциплиной, – но, быть может, уже при новом понимании самой рациональности; продвигаться в сторону психологии, которая могла бы служить основанием также для осмысленных и, я бы все же сказал – рациональных (но уже в новом понимании рациональности) способов практической (в частности – психотерапевтической) работы. Словом, речь тут идет о психологии, которая еще только должна прийти.
Вопрос: Есть некая линия, которую обозначил как раз Мамардашвили и которую, как мне кажется, представляет также и Доброхотов, который тоже про Декарта писал. Эта линия и есть новый рационализм, который и дает мораль, и дает свободу. Декарт это понял. Выготский это не смог понять. До Спинозы он не дошел. А Декарта не понял.
А.П.: Это, собственно, не вопрос, а замечание. Но, в силу его, как мне представляется, исключительного значения, я позволю себе на него отреагировать.
Я не хотел бы останавливаться на взаимоотношениях между Выготским и Декартом, хотя, должен признаться, тут Вы меня «задели», это особая – действительно особая и непростая тема. И я в свое время говорил, что не следует публиковать эту незаконченную работу Выготского об «аффекте и интеллекте» – не следует публиковать ее, по крайней мере, в «шеститомнике»; с той «подачей», которую там этой работе сделали, когда она выступает чуть ли не как итог и вершина развития мысли Выготского и даже как его своего рода «завещание». Тогда как по крупному счету это очень слабая, а местами – просто беспомощная работа, в которой Выготский подчас прямо-таки на себя не похож. Работа, которая не только не продвигает дело Выготского, но и просто не делает ему чести: случается – это просто наспех и к тому же с ошибками, целыми страницами переписанный К. Фишер, который и без ошибок-то сегодня, простите… Словом, подчас эта работа Выготского выглядит сегодня просто скандально. И следовало бы сказать, что ее публикацией мы дискредитируем Выготского как мыслителя, если бы… если бы Выготский и тут не оставался все-таки Выготским! И в этой работе есть сильные ходы мысли, к которым и сегодня следует относиться серьезно, которые и сегодня лежат в «зоне ближайшего развития» мысли вообще и нашего чтения Декарта, в частности. Вот что за отсутствием времени я сказал бы по теме «Декарт и Выготский», не соглашаясь, стало быть, тут с одномерной оценкой Выготского.
Что же касается, так сказать, «Декарта философов», то и тут я никак не могу согласиться с Вами: с попыткой отождествить или сблизить чтения Декарта, предложенные М.К. и Доброхотовым, – при всем моем уважении к любимому Вами философу.
Я сказал бы, что М.К. решительно противостоит всем другим, даже самым интересным и серьезным современным чтениям Декарта, включая и хайдеггеровское. А знай Вы о моем отношении к Хайдеггеру, Вы могли бы уже не волноваться за Доброхотова. Противостоит им, прежде всего, в том, что касается понимания «свободы» у Декарта или, лучше, быть может, сказать: в понимании феномена «картезианской свободы» – коль скоро есть уже такой термин, закрепленный в современной философской мысли предисловием Сартра к юбилейному изданию «Метафизических размышлений» 1946 года. Вот как раз в этом, в понимании «нерва» декартовской мысли, в понимании феномена «картезианской свободы» – а говорить здесь, действительно, следует не о «понятии» свободы у Декарта, но именно о феномене картезианской свободы как таковом, имея в виду не то только и не столько то, «о чем» говорил Декарт, сколько – то, что он, так сказать, «практиковал» самой своей мыслью, что, в свою очередь, в случае Декарта должно означать также и: своей жизнью, – так вот, в понимании этого феномена «картезианской свободы» (что оказывается очень непростой для современной мысли вещью) М.К., сказал бы я, прямо-таки вызывающе, скандально одинок!
И если мы обратимся к его доступным уже сейчас для чтения заметкам к лекциям о Декарте, мы не раз будем просто ошеломлены всей невероятностью тех ходов мысли, которые М.К. тут себе позволяет. Тут есть, скажем, один пассаж – очень необычный для М.К., избегавшего каких бы то ни было «резюме», пассаж, в котором он как раз пытается буквально в одном абзаце «резюмировать», как он сам выражается, философию Декарта.
«Всю философию Декарта, – говорит он, – можно резюмировать в немногих (как выясняется – в трех. – А.П. ) тезисах».
Что же это за тезисы? «Мир, – пишет М.К., – в котором рождается мысль (вместо «мысли» тут можно поставить: «страсть», «поступок», всякое свободное человеческое действие, даже: «человек» и так далее. – А.П. ), – это мир, в котором всегда еще ничего не случилось». (!)Слова эти – если бы только у нас хватало воображения, чтобы конкретно их продумать, – не могут не ошеломлять. Причем, быть может, прежде всего даже в нравственном смысле. Попытайтесь хотя бы на миг представить себя в этом мире – в «мире, где всегда еще ничего не случилось»! В мире, где ведь также и «никого не случилось». Никого! Никого из других людей – даже и самых дорогих и близких, – как, между прочим, и… нас самих – прежних!
Больше того, М.К. приводит дальше слова самого Декарта (!), который говорит: «Я не уверен даже, что господь бог в этом мире предшествует мне…» (!)
Немыслимые, безумные слова! Не так ли? Но слова, которые, между прочим, так понятны в свете мыслей самого М.К. о понимании мыслительных текстов, о чем я уже говорил сегодня. Подобно тому, как понимание другой мысли, «встреча» с нею возможны только «изнутри» своей собственной – всегда «без-основно» и каждый раз заново, здесь-и-теперь рождающейся – мысли, возможны только в «со-бытии» ей, – точно так же и с господом богом, говорит Декарт, мы можем встретиться всегда уже только «из-отсюда» – из некоторого «со-бытия» в мире, где еще ничего не случилось, то есть – из со-бытия-богу в мире свободы. В мире, где, стало быть, нет не только никакой предшествующей мысли – даже своей собственной, но вчерашней – где даже и Бога нет – опять же: как предшествующего и предопределяющего мою мысль, мой поступок, о чем, по сути дела, я и говорил, имея в виду духовный смысл «события Голгофы».
И здесь опять-таки возникает неразрешимый для нашей мысли парадокс, или даже – разрушающая нашу рациональность апория: с одной стороны, как на то указывал в свое время еще Бахтин, «мир, в который приходил и из которого ушел Христос, не есть уже мир, в котором его никогда не было»; а вместе с тем – если я понимаю, что именно Христос как раз впервые и ставит меня в эту точку свободы, что именно он своим – вторым, всегда уже только вторым! – присутствием и позволяет мне пройти в ту точку абсолютной моей незаместимости, где я должен сделать то, что только я один – и сам – могу сделать, где никто – даже и сам Бог – не может разделить со мной моей задачи, моей работы (что, собственно, и конституирует ситуацию поступка), то, спрашивается: каким образом для меня вообще при этом присутствует, может присутствовать бог? Или, иначе: каким образом – по отношению ко мне и здесь-и-сейчас, вот в этой точке, где я впервые могу выполнить свое свободное действие, присутствует, может присутствовать мир, «в который приходил и из которого ушел Христос»?
Он ведь, как мы понимаем, не может присутствовать как просто «след», или «эффект», или еще как-нибудь в этом роде – в этом мире ведь ничего еще не случилось! В том числе и «события Голгофы» – как уже бывшего, происшедшего события – тоже всегда еще не случилось!
И все это, как вы понимаете, вовсе не абстрактные размышления, но попытка только в абстрактной – а лучше сказать: в символической – форме (то есть на предельных для мысли ситуациях) продумывать вопросы, перед которыми мы оказываемся – часто не отдавая себе в этом отчета – в ситуациях повседневной своей практической, профессиональной работы, и в частности в ситуациях психотерапии.
Разве не должны мы заново продумать, положим, даже самое понятие «помощи», самое понимание конечных целей, и адекватных им способов своей работы, и даже, быть может, самого характера своего «присутствия» в ситуации «психотерапии»? Если только мы действительно хотим – всерьез, не на словах, но на деле – реализовывать в своей работе «гуманистическую» парадигму, то: что значит, например, принципиальный отказ (и не по каким-то внешним, «этическим», скажем, соображениям, но в силу невозможности и «бесцельности» соответствующих стратегий по отношению к тем феноменам – свободного и личностного действия, поступка, – с которыми мы при этом должны иметь дело), – принципиальный отказ от всякой попытки не только даже прямого «манипулирования» другим человеком (как, впрочем, и самим собой – перед ним, что понять нам, быть может, уже труднее!), но также и вообще безусловный отказ от всякой попытки проведения по отношению к другому буквально понимаемой стратегии психотехнического «действия», то есть отказ от всякой, буквально понимаемой попытки что бы то ни было «делать с» другим человеком, за него, вместо него. А что же тогда мы должны, можем себе позволить делать – если вообще еще: «делать» – и как?!
Благодарю за внимание.
Cogito ergo sum: что сказал Декарт? [138]
Знание, которое – я, есть знание свободы (а свобода неотделима от знания, и от бытия в свободе нельзя переступить к представлению о ней), но она – недоказуемая само-очевидность. И никак не существует (в прошлом или будущем), никогда еще не была, и никогда не будет (вечное возвращение), и ничего не производит. Она производит лишь себя, то есть еще свободу, большую свободу.
М.К. Мамардашвили
Хотя по названию выступления в нем вроде бы не предполагается прямой связи с психологией, но, поскольку я выступаю перед психологическим сообществом, то я эту связь попытаюсь все-таки устанавливать.
Мое сообщение поэтому будет развертываться как бы в двух планах: в одном, как это и заявлено, я буду продвигаться в своем чтении Декарта, в своей интерпретации (насколько она – моя, мне еще придется сделать оговорки) основного хода декартовой мысли, а во втором – буду пытаться извлекать следствия из этого для современной психологии.
По отношению ко всякому большому мыслителю – стало быть, и по отношению к Декарту – могут реализовываться две принципиально различные стратегии чтения.
В соответствии с одной, которую можно было бы назвать «приручающей», или «адаптирующей» стратегией, мы пытаемся приспособить читаемый текст к своему пониманию, к своей мысли – важно: к тому способу понимания и мысли, которым мы уже располагаем; мы стараемся так читать текст, чтобы избежать необходимости эту свою мысль менять, чтобы позволять ей оставаться прежней, той же самой, себе равной. По существу, такая стратегия чтения есть всегда попытка сведения, редукции читаемого текста к уже известному, понятному; есть попытка чтения в обход своей собственной мысли. По отношению к тексту настоящего философа такой способ чтения является «убийственным», по сути дела – упраздняющим, перечеркивающим его как собственно мыслительный текст.
В соответствии с другой, альтернативной стратегией чтения, которую только и можно было бы называть «мыслительной», мы, напротив, должны быть ориентированы на то, чтобы в этом чтении, через него пытаться извлекать импульсы и отыскивать возможности для высвобождения, рождения своей собственной мысли; должны пытаться вы-слушивать нечто окликающее, призывающее, будящее нашу собственную мысль, приводящее ее в движение, вовлекающее ее в трансформацию; словом, тут мы ищем и пытаемся стоять, удерживать себя в таком режиме чтения, когда оно не могло бы происходить, совершаться вне и в обход нашей собственной мысли, требовало бы и предполагало бы ее как свое условие.
Если воспользоваться словами одного современного эзотерического мыслителя, можно было бы сказать, что из всякого чтения можно сделать «буфер», то есть нечто такое, что позволяет нам «амортизировать удар», исходящий от чьей-то другой мысли, позволяет нам оставаться теми, что мы есть, продолжать «спать», хотя и делать вид при этом, что мы уже пробудились и живем и действуем так, «как если бы» мы действительно стали другими, изменились, то есть имитировать мысль, действие, понимание; а можно сделать из этого чтения «будильник». Я хочу предложить вам такой опыт чтения Декарта, который открывал бы возможность – через это чтение – искать, извлекать будящую нашу собственную мысль силу.
Нужно сказать, что эти две альтернативные стратегии чтения можно обнаружить, конечно же, не только по отношению к самому Декарту, но, как это ни невероятно, и по отношению к тем его современным, самым радикальным прочтениям, которые, казалось бы, не оставляют уже никакой возможности для прежних, адаптирующих его к нашей мысли, толкований. Ближайшим образом я, конечно же, имею в виду Мераба Константиновича Мамардашвили и его «Картезианские размышления». Невероятно, но даже их пытаются читать так, чтобы можно было – без особых усилий и без каких бы то ни было особых катастрофических для нее последствий – «вписать» Декарта (а заодно и самого Мераба Константиновича) в современную психологию. Этому я попытаюсь решительно противостоять. И как раз ввиду этого своего намерения я буду опираться в своем движении на некоторые ходы мысли Мераба Константиновича. То есть тем самым я попытаюсь показать, что и они, как и мысль самого Декарта, не входят ни в какие ворота современной психологии.
То, что психология преуспела при этом в выделывании «буферов», видно из того сознания «нормальности» и благополучия или даже «бурного прогресса» и «стремительного движения вперед», которое характерно для голов психологов. Как не повторить тут слова Выготского, сказанные им о психологии много десятилетий назад: вокруг бушуют катаклизмы, рушатся веками незыблемые устои – устои мысли, конечно, и сознания, – самый феномен человека поставлен под вопрос и проходит через точку тотальной своей катастрофы, а в психологии «все тихо и спокойно, как в минералогии»! Будто и в самом деле ничего не случилось.
И как не вспомнить тут слова уже и Декарта, сказанные им в известном, хотя бы в пересказе Мерабом Константиновичем, письме к принцессе Елизавете, когда в ответ на жалобы этой молодой особы на бедствия своей жизни и болезни, вслед за самыми что ни на есть участными и нежными словами утешения, Декарт вдруг, резко меняя тон письма, замечает, что, вообще-то говоря, всего того, что можно было бы принимать за действительные причины этих страданий и болезни, на самом деле просто не существует! Если мысли обо всем этом, говорит Декарт, вызывают слезы, одни только слезы, то всего этого просто не существует! Ибо то, что действительно существует, достижение – в понимании, в мысли – того, что действительно существует, производит совершенно иные действия!» Какие «действия»? – «Перемену ума»! Радикальную трансформацию. Включающую, быть может, даже и исцеление! А если все остается на своих местах и в ответ «слезы, одни только слезы», это значит, что реальность не достигается, что понимание остается при «видимости», не выводит за границы фантомного, выдает это фантомное за реальность.
Позволю себе утверждать, что бытующее в современной психологии понимание ситуации, даже и в тех случаях, когда оно принимает уже форму «сознания кризиса», не выводит ее за границы фантомного, почему оно в лучшем случае «производит слезы, одни только слезы»! Бытующие в психологии формы мысли – методологической, философской мысли – не позволяют ей достичь полноценного понимания ситуации, кризиса – в его существе, в его реальных основаниях. Попробуем же с помощью Декарта в эту сторону продвинуться.
Итак: что же сказал Декарт? Конечно же, не самими по себе теми несколькими словами, которые составляют эту знаменитую формулу: «cogito ergo sum», если брать ее в ее латинском варианте, – положим, в тексте декартовских «Метафизических размышлений», которые, как известно, были написаны по-латыни. Можно взять ее в собственной декартовской французской ее версии, можно привести ее в русском переводе. Мне представляется несущественным, в какой языковой и речевой версии мы эту декартовскую формулу возьмем, – и это именно потому, что ее понимание, ее смысл не извлекаются из нее самой. Хотя, конечно, та или иная форма – положим, форма, приобретаемая при переводе на другой язык, в том числе и на русский, – иногда может затруднять понимание, толкать на неправильный путь. Положим, появление в этой формуле личного местоимения или даже самого этого «мыслю» – как, впрочем, и «существую», если они читаются через призму вмененных нам сегодня значений, то есть, опять же, вне контекста живой декартовой мысли, может сбивать нас с толку, закрывать возможность понимания, возможность продвижения «в сторону Декарта», в сторону его мысли, мысли вообще. Положим, встретившись с формулой: «(я) мыслю, стало быть, (я) существую», можно было бы вроде подумать, что мы имеем дело с фигурой силлогизма, с «умозаключением», с «логическим выводом», «доказывающим» к тому же существование не чего-нибудь, а – «я», с незамедлительным проецированием в это «я» всех и всяческих своих обычных психологистических ассоциаций. Сегодня, однако, это было бы лишь курьезом. Сегодня, после, опять же, разъяснений в этом месте Мераба Константиновича, а до него, как, быть может, вы знаете – Мартина Хайдеггера, к примеру, в его «Немецком нигилизме», доступном ныне и в блестящем переводе Владимира Вениаминовича Бибихина, а до него – о чем вы, быть может, не знаете – уже и у старика Канта (недавно, когда мне пришлось, как раз в связи с подготовкой к изданию лекций Мераба Константиновича о Канте, довольно много «полазить» по Канту, я вдруг с удивлением обнаружил и у Канта, и не где-нибудь, а в «Критике чистого разума», правда, в составе той первой редакции текста, которая теперь приводится только в приложениях, прямые указания на это), – сегодня, говорю я, конечно же, никому уже не придет в голову понимать декартовскую формулу как силлогизм.
Понятно, далее, – и особенно понятно это должно быть психологам, – что речь тут вообще должна идти, как я уже сказал, не об этих словах Декарта, взятых сами по себе, – они ведь являются только как бы «фокусом», в котором сходится и из которого расходится множество самых разный линий, своего рода «замком свода» очень непростой и долго возводимой Декартом постройки, критической точкой длинного и драматичного рассуждения, – точкой, которая вне этого рассуждения невозможна, хотя при этом, о чем я еще надеюсь сказать, критической или «катастрофической» эта точка является еще и в том смысле, что – подобно тому, как сама по себе эта формула, по своему «содержанию» не есть «вывод», – точно так же и в контексте декартовского рассуждения, по своему «рождению», она также ни из чего не выводима, не следует, в том числе и из самого этого рассуждения. Она не продуцируется этим рассуждением, но вместе с тем невозможна вне него; она «производится» и «существует» – а стало быть, и может быть прочитана, понята – только внутри этого, более широкого целого движения рассуждения, в частности внутри маниакально проводимого тут Декартом знаменитого его «радикального сомнения».
Понята не только и не столько даже в движении «от» этого уже пройденного пути, но скорее – в направлении «к» нему, в том смысле, что через эту формулу все рассуждение впервые, наконец, собирается в некое целое, организуется или даже так: через эту формулу в этой точке движения собирается и «извлекается» опыт всего предыдущего движения, пути, проходимого рассуждением, и так, что рассуждение тут впервые – и к тому же в коммуникации, то есть давая место другой мысли, – само становится мыслью, достигает «точки мысли».
Но если так – а это именно так! – то тогда: и это еще не все, не последнее. Ибо опыт, об извлечении которого тут идет речь, есть тогда даже не только и не столько опыт рассуждения «самого по себе», – хотя при таком взгляде на вещи «концы» самого рассуждения, то есть как раз рассуждения «как такового», рассуждения в его существе, оказываются «вне» его: рассуждение как таковое парадоксальным образом оказывается «больше самого себя» (что означает, конечно, только, что оно есть «символ»!), «выходит за» свои пределы, то есть пределы, очерченные границами текста, не совпадает с текстом, оно как таковое не может быть ни сведено к тексту, ни выведено из него, – «опыт рассуждения» тут – это по сути «опыт, извлекаемый рассуждением», через рассуждение, с помощью него, но опыт прохождения определенного пути жизни, хотя, быть может, пути – как говорил однажды об этом Мераб Константинович – и «выправляемого» по «его отражениям в зеркале рассуждения» текста. Рамку понимания декартовой мысли задают не границы текста его рассуждения, но путь его жизни, опыт прохождения которого этим декартовским рассуждением извлекается и который тем самым «выправляется». А каков путь жизни Декарта, что это за путь?
Когда два года назад я оказался в Париже и в один из первых дней заглянул в собор Сен Жермен де Пре, то, конечно же, первым делом попытался найти то место в стене правого нефа, где, как я знал, покоится прах Декарта. Мой французский друг, который был со мной в тот вечер и который, понятное дело, не раз бывал в этом соборе, тем не менее, не знал об этом, чем был немало смущен и – должно быть, дабы как-то реабилитировать себя в моих глазах и компенсировать это свое «скандальное невежество» – не преминул спросить, знаю ли я, что здесь захоронено только тело Декарта: «только» – не в смысле покинутости его декартовой душой, но в смысле отделенности от него головы! Тут уж пришел мой черед раскрыть рот! Оказывается, голова Декарта, отделенная в свое время от тела, находится ныне где-то совсем в другом месте и плавает, бедная, заспиртованная в банке!
Эта дикая, конечно, для нас сегодня история представляется, однако, каким-то невероятно точным зловещим символом того, что и мы сегодня делаем по отношению к Декарту, пытаясь читать и понимать его. Ведь и мы сегодня – отдаем мы себе в этом отчет или нет – пытаемся по сути производить над Декартом, над декартовой мыслью подобного рода искусственную и, я бы сказал, не менее дикую и кощунственную вивисекцию: и мы пытаемся отделить «голову», «головное» содержание декартовой мысли от ее «тела» – от реального опыта его философствования. Декарт для нас поэтому – олицетворение почти математического рационализма в философии, маньяк формально понятого метода, прежде всего, «философ науки», естествознания, если даже не собственно математик и естествоиспытатель «в духе Бюхнера и Молешотта». «Головной рационалист». Это – Декарт-то, декартовская мысль! Мысль, внутренний пафос которой, ее нерв – всегда, с самого начала, с самого рождения Декарта в качестве Декарта, с тех самых, переломивших жизнь Декарта дней «нойбургского уединения», когда он, по собственному признанию, пережил откровение, ровным светом озарившее всю его жизнь, каждое ее событие, – откровение, которое вывело-таки его, наконец, на путь и свет которого никогда не покидал его, – это декартовская-то мысль, внутренний нерв которой всегда лежал в предельно напряженном и серьезном внутреннем же, духовном и, бесспорно, во многих отношениях – эзотерическом поиске!
Опять же неважно, насколько убедительны или, напротив, безосновательны многочисленные попытки напрямую связать Декарта с той или иной эзотерической традицией; доказать принадлежность его к тем или иным тайным духовным орденам, положим, к тому же ордену розенкрейцеров. Дело не в этой внешней принадлежности или «посвященности» Декарта, но – в основном внутреннем тоне, настрое и не всегда до конца раскрываемой самим Декартом внутренней направленности его мысли.
Задумаемся, к примеру, над тем, что составляет внутреннюю тему его метафизических медитаций. Декарт ведь тут не просто «маньяк» сомнения или он – маньяк сомнения лишь постольку, поскольку он, прежде всего, «маньяк реальности», поскольку он «ушиблен» пониманием фантомности того, что люди по обыкновению принимают за реальность, обреченностью прежних, традиционных форм мысли и познания бесконечно вращаться в кругу только «видимости» и желанием найти путь и способ вырваться за границы этого фантомного мира, прийти в контакт с несомненно существующим, с реальностью – подлинной реальностью, реальностью, в которой был бы возможен не только и не столько опыт познания «природы», физического познания, но и опыт постижения присутствия бога и встречи с другим человеком. В этом смысле Декарт, говоря словами Достоевского, был «реалистом в высшем смысле слова». Он ищет возможность мысли, которая могла бы иметь дело с истиной, устанавливать истину, раскрывающую действительно сущее.
И, между прочим, размышляя об этом, Декарт снова и снова прибегает к характерным эзотерическим символам, в частности, к тому же символу «сна» – сна не в обыденном и не в каком-нибудь современном психологическом, положим, психоаналитическом смысле, но – «сна» как универсального символа того состояния, в котором постоянно, «беспробудно» пребывает человек не только и даже, как раз, не столько, когда он спит в обычном, обыденном смысле этого слова, но и тогда, когда, как он полагает, он «бодрствует». Равно как и – к символу «пробуждения», перехода в некое «третье» состояние – которое «ни сон, ни бденье», в обычном, обыденном смысле. В своей знаменитой процедуре методического сомнения Декарт и пытается показать, что ввиду поиска абсолютных достоверностей опыта, по отношению к последовательно проводимой процедуре радикальной критики разума, критики опыта, то состояние, в котором мы, люди, обычно находимся и которое мы и называет дневным и бодрствующим сознанием, на самом деле ничем не отличимо от сна.
Декартовская формула cogito, как я имел уже случай в свое время об этом сказать, – это своего рода «ловушка» – «ловушка для сознания», но: для какого сознания? Парадоксальным образом – для того, такого сознания, которое через «выделывание» и «срабатывание» этой ловушки cogito впервые только и устанавливается, может установиться (ловушкой оно не производится или: если и «производится», то только в хайдеггеровском смысле «про-из-ведения», вы-ведения на свет, но никоим образом – не порождения, не создания, не индуцирования), то есть ловушкой для такого – скажем: «когитального» сознания, – которого, стало быть, «до» Декарта, без или даже: вне этой его когитальной ловушки нигде никогда не было и быть не могло! Но и «после» Декарта «быть» тоже не могло, ибо оно, это сознание, вообще не может «быть» – в обычном опять же смысле «существования», – оно не длится, не существует естественно наподобие вещи, почему Мераб Константинович и говорит о нем, что в каком-то смысле (а это «в каком-то» означает тут по сути: в любом, каком бы то ни было обычном, привычном нам смысле «существования»!) сознание – это нечто, чего не существует, или (по необходимости нарушая грамматическую правильность – правильность и ориентированную на обычное, «нормальное» языковое сознание в понимании слова «существование»), точнее следовало бы сказать: «сознание есть то, “что” не есть», не существует, не может «существовать» в обычном смысле. Вот уж, действительно, ловушка cogito – это прямо-таки ловушка для той самой даосской черной кошки, которую, как известно, не так-то легко поймать в темной комнате, особенно когда там ее нет! А если мы действительно хотим понять, что такое это декартово когитальное сознание, мы должны прежде всего понять, что оно не «существует»! «Нигде» и «никогда» – ни «до» Декарта, ни «после», а точнее: «вне», помимо, в обход этой его «ловушки cogito». И ни в «темной» комнате (обычный «сон»), ни в «светлой» (обычное «бодрствование», «сознание»)! Но если продолжать этот образ: оно – это новое, «когитальное сознание» – и есть та кошка, «уловление» которой оказывается и творящим: «да будет свет!», – творящим «свет», но также и «комнату», а по сути, как это ни парадоксально опять же, и самого «ловца»!
Еще раз: у Декарта в его «принципе когито» речь идет с самого начала о том, что устанавливается в некоем «третьем месте», о некоем «третьем состоянии» – не важно, как мы будем его называть: «объективным сознанием», «сверх-сознанием», «расширенным сознанием», или, как сказал бы я: «виртуальным», или же, наконец, просто «когитальным». Важно то, что Декарт тут имеет в виду и ищет это «третье»!
И тут необходимо сказать об одной особенности декартовского рассуждения, его «метафизических размышлений», если можно так выразиться, по их статусу в их отношении к самому опыту его мысли, к событиям его мысли. Можно думать, что декартово рассуждение, особенно в тех случаях, когда мы встречаем его в его наиболее развернутой форме, как в случае тех же «Метафизических размышлений» – и комментаторы именно в этом дружно усматривают уникальную особенность этого декартовского текста, – что оно представляет собой что-то вроде «прямого репортажа» или «стенографического отчета» о проделанном им живом опыте мысли. Репортажа, отчета или описания – важно: ретроспективно рассказывающего «о» – о выполненном уже опыте мысли, об уже пройденном пути – Декартом и: до и независимо от этого – только уже повествующего о случившемся – рассуждения, текста. Нам предлагают видеть в «Метафизических размышлениях» только стенограмму декартовой мысли – точно так же, положим, как в соответствующих эпизодах джойсовского «Улисса» – стенограмму знаменитого «потока сознания».
Нет ничего более ложного и далекого от понимания действительного статуса декартовского текста! Как, впрочем, и джойсовского.
Точно так же, как текст романа Джойса есть, конечно же, чрезвычайно изощренная искусственная семиотическая конструкция, предназначенная не для того, чтобы стенографически передать, тем паче – «описать», какой бы то ни было и в чьем бы то ни было опыте имевший место быть «поток сознания», тем паче – обыденного сознания, и к тому же – обывателя (пусть по сюжету романа это и так!), но – для того, чтобы дать читателю, внутри и через чтение – понимающее чтение, – и не локально этого фрагмента, но – романа в целом, – дать условия возможности для его, читателя, – нового! – опыта сознания, опыта, невозможного до и без этого чтения и уже потому радикально отличного от его обыденного опыта и тем паче – от опыта дублинского обывателя начала века, – точно так же, говорю я, и текст рассуждений Декарта – это не стенограмма, пусть бы даже и им самим сделанная, некоего опыта мысли, пусть бы даже и его, декартовой мысли, но – не менее изощренно и сложно выстроенный «аппарат», аппарат cogito – сложнейшая, воистину почти уже и нерукотворная «ткань» – прямо по первоначальному смыслу слова «текст», – аппарат, призванный создать условия возможности для рождения нового опыта мысли, мысли ближайшим образом – читателя, и: опыта – нового, но тем самым и через него – в со-бытии коммуникации с читателем – также и опыта его собственной, декартовой мысли. Именно так – я не оговорился, – а не наоборот!
Рассуждение Декарта – только все тот же «сценарий», то есть текст, «сценирующий» (прямо по слову Бахтина) событие мысли – в коммуникации – читающего этот текст.
То есть если это и «описание», то не «описание опыта», но «описание для опыта», описание, создающее условия для нового опыта мысли. Или: если это и «описание опыта», то такое описание, которое позволяет «извлечь» этот опыт как опыт мысли, то есть – как дающий место другой, новой – моей, читающего это «описание», мысли – и через событие этой, новой мысли. То есть если это рассуждение и «описание», то не в каком-нибудь другом, но только в смысле «символического описания» по Флоренскому.
Итак: текст рассуждений Декарта – это особый инструмент, «выделанный» Декартом для того, чтобы создать возможность – в коммуникации с читателем этого текста (текста, который как таковой сам – через и внутри этого чтения впервые и возникает), читателем, которого этот текст еще должен встретить, найти (быть может: «в ином столетии»!), – в этом отношении текст этот подобен записке в бутылке, брошенной в море, то есть и тут все то же: «имеющий уши да услышит!» – текст рассуждений – это инструмент (хотя, быть может, осмотрительней было бы говорить тут более нейтрально: «то, что открывает возможность», «дает место») «извлечения опыта» мысли, вот теперь уже – его, декартовой мысли. И снова: через рождение нового опыта мысли.
«Нового» – должно означать тут: не просто отсутствовавшего в прежнем опыте или даже невыводимого из него, но – такого, который в прежнем опыте был принципиально невозможен и, с точки зрения этого опыта, немыслим!
И он оказывается возможным, далее, только при том, что вместе с ним – в том же акте, или событии, мысли – конституируется, устанавливается и абсолютно новый «субъект» этого опыта. И важно понять, что именно он, этот новый субъект опыта, и имеется в виду в формуле cogito этим словом «ergo».
Ergo в декартовской формуле cogito, стало быть, – это вовсе не наше обыденное «Я», это вовсе не субъект нашего обыденного опыта, нашего обыденного сознания. Это, стало быть, – вовсе не то, что имеет в виду какая бы то ни было эмпирическая психология, не то, что она вообще только и может иметь в виду.
Это нечто, лежащее «по ту сторону» некой точки «перелома», «катастрофы» – не только «субъекта» даже и поля его опыта, но – мира, бытия. «По ту сторону» – не в смысле «перехода» в другой, но наряду с прежним где-то уже существующий «параллельный» мир, но в смысле «выхода» – как говорит в одном месте Мераб Константинович – в «мир, где еще ничего не случилось» и который сам не предшествует этим событиям, или точнее: этому событию рождения мысли и мыслящего. Опять же, не важно, как мы этого нового субъекта будем называть: «когитальным», «трансцендентальным» или, положим, «виртуальным» субъектом – тем более, что непонятно еще, какой смысл мы должны вкладывать сегодня в каждое из этих понятий. Важно то, что речь тут должна идти о субъекте, который конституируется вместе и внутри самого когитального опыта, то есть опыта «абсолютно несомненно существующего», – о субъекте, для которого этот опыт только и возможен. И с этим как раз и связана мысль Декарта, что опыт встречи с несомненно существующим, с подлинной реальностью, опыт истины и возможен только для другого, отличного от обычного нашего – для нового, пробужденного сознания, возможен, стало быть, лишь для того, кто «очнулся», восстал из того «обморока сознания», которым является наше обычное дневное, так называемое «бодрствующее» сознание, возможен только для того, кто переходит в это самое «третье место», «третье состояние».
(Председательствующий выразительно указывает на исчерпанность времени, отведенного на выступление.)
Что ж, тогда оставшиеся точки моего движения придется действительно лишь обозначить, тем более что некоторые из них я уже имел случай в других местах и по другим поводам проговаривать развернуто. Кое-что я даже пропущу, чтобы иметь возможность остановиться еще буквально на двух-трех вещах.
Нередко сейчас вспоминают слова Мераба Константиновича – очень красивые слова, – сказанные им как-то о мысли, что «мысль – это то, что дает место другой мысли». При этом, правда, почему-то никогда не договаривают эту фразу Мераба Константиновича до конца, в котором, быть может, и было все дело. «Мысль, стало быть, – говорил Мераб Константинович, – это то, что дает место другой мысли… – а дальше он выдерживал небольшую паузу и заканчивал фразу совершенно невероятным образом:…тем, – продолжал он, – что делает эту мысль абсолютно невозможной!» Дать место мысли, стало быть, можно только сделав ее – что важно: другой мыслью же – абсолютно невозможной, «немыслимой».
Этот тезис невероятно важен для понимания Декарта, для декартовского понимания мысли, но также и для понимания того, что происходит в мысли самого Декарта, как развертывается, движется, чем является мысль самого Декарта. Тезис этот указывает на дискретность, «дис-континуальность» – как сказал бы Фуко – «катастрофическую» прерывность поля событий мысли, мыслительного опыта. Чего уж точно не следует делать, так это предполагать за декартовским рассуждением некое «дедуктивное» развертывание мысли, всерьез «выведение» одной мысли из другой. Мысль Декарта если и «развертывается», то – говоря языком современной математической «теории катастроф» а ля Рене Том – развертывается как серия тотальных «катастроф» мысли. Тезис, кстати, который, казалось бы, должен быть таким понятным нам, психологам, вышколенным на классических гештальтистских исследованиях творческого мышления, но который, однако, нам почему-то так трудно принять по отношению к Декарту.
Точки, где возможен опыт мысли, – это всегда точки нашей абсолютной незаместимости, точки, где мы в своей мысли, в своем действии оказываемся незаместимы ничьей другой мыслью, ничьим другим действием. Это, собственно, и есть точки свободы. А мысль, по Декарту, – это феномен свободы. Как поступок; то же, что поступок; или даже: тоже поступок, мысль – это поступок. Рождаясь в ситуации абсолютной своей невозможности, мысль требует не только радикальной «перемены ума», но и столь же радикальной трансформации всего нашего существа, заново, «вторым рождением» установления себя в качестве «субъекта» этой мысли.
Мысль – феномен свободы, что в понимании Декарта означает, правда, не только то, что она «безосновна», то есть не имеет никаких внешних себе оснований, не определяется ничем «извне», но также – и то, что, «случаясь», свершаясь, имея место (в этом топосе нашей незаместимости), она выполняется при этом единственно возможным образом, устанавливается в своей неизбежности, необходимости и непременности, – «парадокс» декартовского понимания свободы, а стало быть, и мысли, отмеченный ровно полвека назад Сартром в предисловии к подготовленному к предыдущему «круглому» юбилею Декарта – к его 350-летию – изданию его «Медитаций». Это собственно и есть феномен «картезианской свободы». Здесь и лежит основная интуиция Декарта, и сегодня трудная для прояснения – прояснения, не упраздняющего, но, напротив, утверждающего в неустранимой, и даже в каком-то смысле – «последней» реальности этот феномен свободы.
Поэтому-то Декарт и сегодня «оставляет место» для нашей мысли, будит ее, обращается к нашему пониманию. Так что следовало бы даже говорить, быть может, что это не столько «мы понимаем» Декарта, читая его, сколько, напротив, он, Декарт – своим текстом, читаемым нами, своим рассуждением – «понимает нас» – «по-нимает» нас «в мысль», «в свободу», то есть «высвобождает место» и «исправляет путь», позволяет нам пройти в те топосы нашей собственной незаместимости, где для нас впервые только и открывается возможность нашей собственной мысли и нашего собственного свободного действия.
Все эти ошеломляющие и сегодня черты декартовской мысли, конечно же, абсолютно невозможны для современного психологического мышления – парадоксальны или даже явно «скандальны» для него, для него неприемлемы, не могут быть в него «встроены» или им ассимилированы (разве что в качестве «патологии» или даже явной «клиники»). И это глубоко симптоматично для понимания современного состояния самой психологии. Не следует ли, наконец, обратить внимание на тот невероятный и имеющий роковые последствия для психологии факт, что современная психология, причем не только наша, но и мировая – вся! – прошла мимо современной философии, мимо главных событий современной философской мысли, тем самым, конечно, закрыв для себя возможность и современного чтения классической философии, и в частности Декарта.
Но дело, естественно, не в Декарте. Понять, что декартовская мысль (равно, впрочем, как и бахтиновская, хайдеггеровская или мерабовская мысль!) действительно несовместима с ее, психологии, собственным мышлением, задуматься об основаниях этого, равно как, быть может, и о том, какой должна была бы быть психология и как должно было бы измениться ее собственное мышление, чтобы оно могло соответствовать серьезной современной философской мысли, не быть «допотопным» – в буквальном смысле этого слова, – все это важно, прежде всего, для самой психологии, если она действительно не хочет выпасть из большой истории человеческой мысли и – что, быть может, не менее важно – если она хочет быть состоятельной перед лицом задач, которые ставят перед ней сегодня жизнь и те серьезные формы практик, которые действительно имеют дело с реальными проблемами современного человека, хочет вместе с ними участвовать в поиске возможностей для человека сегодня выстоять и исполниться в качестве человека, а это значит – участвовать в поиске нового человека.
Но вернемся к нашему герою. Всякий пророк всегда и везде возвещает не о чем другом, как о смерти. Религиозный пророк – о смерти бога. И фраза – скандально известная фраза – «бог умер» не принадлежит только Ницше. Причем возвещает он не о смерти какого-то, положим, прежнего только, «старого» бога или других, «чужих» богов, но о смерти Бога – бога вообще, то есть своего, нашего бога. Возвещает, стало быть, о том, что мы должны искать бога, путь к богу – новому и неведомому богу – в ситуации абсолютной невозможности этого. Невозможности не внешней, – положим, социальной или индивидуально-биографической, – но внутренней, существенной, онтологической невозможности и немыслимости этого. «Где погибель, однако, там и спасение…» – только в этой ситуации мы и можем надеяться его найти.
Подобно этому всякий большой, то есть, попросту: настоящий философ, – а Декарт, конечно же, из их числа, – каждый большой философ (хочет он того или нет, отдает он себе в этом отчет или нет) самым своим философствованием, своей мыслью возвещает и знаменует конец, или «смерть», философии. Опять же: не какой-то, положим, прежней, предшествовавшей ему философии, но – философии как таковой. «Мысль – это то, что дает место другой мысли…»!
Как возможна мысль – мысль как таковая, философствование – после Декарта? После Канта, после Хайдеггера, после Фуко, после Мамардашвили! И чем должна быть мысль, чтобы после них, сегодня – и именно как философская мысль, то есть мысль как таковая, собственно мысль, – она вообще была возможна? Ибо в каждой точке своей истории мысль не только должна искать возможность ответить на ситуацию, то есть возможность исполниться, сбыться, но вместе с тем – тем самым и каждый раз заново – давать ответ на вопрос: что есть мысль? что значит мыслить? И именно перед этими вопросами – ответы на которые каждый из нас должен искать на свой страх и риск, дабы продолжать мыслить, – и ставит нас сегодня, четыре века спустя после рождения мыслителя, мысль Декарта. Это вопрошание, это место, которое открывает эта мысль для нашей собственной мысли, – и есть, по существу, то, что говорит нам Декарт, если, конечно, мы попытаемся его услышать, решимся откликнуться на брошенный нам через века декартовой мыслью вызов. Если сможем на него ответить. Спасибо.
25 ноября прошлого года исполнилось шесть лет со дня смерти Мераба Константиновича Мамардашвили. Вечером в тот день я проводил занятия на психологическом факультете МГУ. Имя М.К. было знакомо студентам, на одном из предыдущих семинаров мы разобрали даже его тбилисскую лекцию о психоанализе.
Мне захотелось принести в этот день и послушать со студентами какую-нибудь кассету с записью голоса М.К.; из того, что у меня было, я выбрал последнюю, XV лекцию о Декарте.
Студенты с энтузиазмом приняли мое предложение и, как мне показалось, были явно захвачены началом лекции. Я видел лица, которые на глазах преображались. Однако следовать за мерабовой мыслью было, по-видимому, непросто. В ответ на вопрос: как слышно? кто-то сказал: слышно-то нормально, но вот понятно – не очень.
Стало ясно, что нужно останавливать запись и пытаться пояснять сказанное М.К. Не без колебания принял я такой поворот дела: «синхронное комментирование» мерабовой мысли – приключение рискованное.
Я благодарен участникам семинара за атмосферу доверия и открытости, за встречную работу понимания. Я признателен одному из них за предоставление магнитофонной записи этого занятия. Публикуемый текст, как правило, близко следует ей. Лекция М.К. также дается по фонограмме, а не по ее публикации в книге. Это показалось мне необходимым.
Важно даже не то, что именно эта лекция звучала в тот вечер в аудитории и в ответ на нее возникали мои размышления. Не важно и то, чьих рук это было дело: редактора или самого М.К., по заверению издателя успевшего подготовить к печати две последние лекции, – важны последствия «редакции» текста.
Особая, почти физически ощутимая сила живой мерабовой мысли, «живой» не в каком-нибудь «образном» и «лирическом», но в строгом и мыслительном – причем именно мерабовском – смысле: «живой» – значит такой, которая всегда может быть иной, которая абсолютно свободна – кроме прочего и по отношению – к чужим ли, к своим собственным – ожиданиям и требованиям, в том числе и требованиям «правильности» и «понятности»; мысли, движущейся непредсказуемо и, вместе с тем, единственно возможным образом; мысли – по слову Мераба Константиновича о декартовой мысли, – каждый раз целиком ставящей себя на карту; особое, свойственное этой мысли личностное присутствие в ней самого мыслящего; постоянно возобновляемое усилие, которым он держит себя в точке ее рождения, – все это несет явные, иногда – существенные потери при переходе от фонограммы, даже уже и переданной текстом, к ее «отредактированной», «выправленной» – что нередко означает буквально: «спрямленной», более «правильной», «нормальной» – версии.
Давно, впрочем, известная и едва ли имеющая ответ загадка мерабовой речи и мысли. Мысли – свободной и – дающей свободу, коль скоро она позволяет мыслящему установиться в со-бытии-тому, чему эта мысль, пытаясь быть на него ответом, высвобождает дорогу.
...
Немногое позволяет, и притом редко, указать на себя указанием, которое высвобождало бы ему дорогу.
Мартин Хайдеггер
...
Без смысла знак указующий мы и только.
Фридрих Гельдерлин
Мераб Мамардашвили: Давайте начнем. Настала все-таки черная пятница, и вот попытаемся как-то пережить ее.
Теперь вы, конечно, после прошлого занятия, вернее, тех последних вещей, которые я говорил, понимаете, почему понятие и проблему страстей у Декарта, его психологическое учение я беру в контексте освобождения – и в этом контексте мне приходилось сопоставлять Декарта с Лейбницем и Спинозой – теперь это более-менее вырисовывается. Пойдемте дальше.
Я хотел бы сказать следующее, особенно в связи с той мыслью, на которой я кончил в прошлый раз, а именно что Декарт, имея в глубинах своей онтологии вот это переживание длительности, которую нужно держать, и тогда впереди тебя самого образуются свободные, но неизбежные состояния, – вот этот внутренний нерв философии Декарта, он проглядывает везде, через разные окошечки разных мыслей по разным поводам, в том числе и в страстях, и мы вот эту мысль завершили фактически формулировкой Декартом того, что можно было бы назвать одним из основных исторических законов.
Андрей Пузырей: Феномен свободы, свободы в декартовском ее понимании, «картезианской свободы» – это действительно немыслимая вещь. Начать с того, что в терминах свободы – как это ни парадоксально на первый взгляд – Декарт говорит не о чем-нибудь, но об установлении математической истины!
Акт установления математической истины и свобода – вещи, казалось бы, не просто не связанные друг с другом, но несовместимые: именно установление математической истины вроде бы следует считать чем-то предельно несвободным, необходимым, жестко детерминированным – чем? – другим математическим положением, уже доказанной теоремой, из которой данное положение «выводится», или системой принятых аксиом, или чем-то еще – важно: чем-то внешним самому устанавливаемому положению, извне его определяющим. Не это ли имеет в виду самая идея математического доказательства и представление о математической строгости?
И вдруг Декарт – не кто-нибудь, но Декарт – ему-то, вроде бы, нельзя отказать в понимании этого – Декарт ведь был не только философом, но также и выдающимся естествоиспытателем и математиком и даже не просто выдающимся, но стоящим у истоков современного естествознания и математики: в его работах, собственно, и закладывались их основания, его трудами были созданы целые новые области математики, положим – та же аналитическая геометрия, – и вдруг Декарт говорит такую странную вещь, что математическая истина устанавливается, только и может устанавливаться, в точках свободы, или иначе, что акт установления истины, акт мысли есть феномен свободы и ничем другим быть не может!
С точки зрения обычного понимания и математической истины и свободы – совершенно невероятное, невозможное утверждение. В действительности, однако, если чему тут и следует поражаться, так это – точности и свободе самой мысли Декарта, ибо решиться сказать то, что говорит здесь Декарт, – на это нужна свобода, внутренняя свобода – свобода и все же еще: отвага. Поразительно, насколько точно схватывает Декарт существенную связь, сопряженность мысли и свободы!
Что значит для Декарта, что мысль есть феномен свободы? Прежде всего – что мысль не имеет, не может иметь вне себя никаких для себя оснований, что мысль безосновна, что это феномен полного внутреннего самоопределения. И вместе с тем, и именно в силу этого – абсолютно необходимый: коль скоро она вообще имеет место, она выполняется всякий раз необходимым и единственно возможным образом!
Но тогда самая идея «дедуктивного выведения», на которой – с точки зрения обычных представлений о математике, о математическом доказательстве, о математической строгости, а стало быть, и об истинности математических положений – и «стоит» математика (а тем самым, можно было бы заметить в скобках, и опирающееся на нее математическое естествознание), самая эта идея оказывается «подвешенной», поставленной под вопрос.
По сути дела, Декарт говорит, что никакого «выведения» в мысли нет и быть не может! Если мысль – это феномен свободы, если она рождается всегда в точке свободы, то есть там, где ничто извне определять эту мысль не может, в том числе, конечно, и наши прежние мысли или «результаты» наших прежних мыслей. Хотя тут становится уже непонятным, что, собственно, можно иметь в виду, говоря о «результатах» мысли, и могут ли быть вообще у мысли какие бы то ни было «результаты».
Мы еще вернемся к этому вопросу, пока же я позволю себе напомнить парадоксальную формулу, которую не уставал повторять Мераб Константинович: «Свобода, – говорил он, – “производит” только свободу и ничего больше!» Если мысль – это феномен свободы, то, конечно же, никакого «выведения» в мысли или выведения мыслей быть не может.
Все это настолько неожиданно или даже явно несуразно для обыденного понимания, что граничит для него прямо-таки с безумием, с бредом сумасшедшего. Однако почему? Прежде всего потому, конечно, что понимание мысли из свободы означает для обыденного понимания полный ее произвол, ибо «свобода» и означает ведь тут «произвол»: если мысль – это феномен свободы, то, стало быть, она – произвольна, стало быть, тогда я могу всякий раз «подумать» так, а могу иначе – по произволу. «Свобода» привычным образом соотносится с представлением о множестве альтернатив, о ситуации выбора, принятия решения и т. д. и т. п.
А Декарт в своем понимании свободы говорит: никаких альтернатив, никакого выбора! В точке свободы, картезианской свободы ничего такого нет и быть не может! Как ни парадоксально для обычного понимания, но, по Декарту, именно в точке свободы и только в ней – причем впервые – и постигается действительная и абсолютная необходимость и как раз полностью исключается какой бы то ни было произвол.
В психологии обыденное понимание свободы как «свободы выбора» воспроизводится при обсуждении проблемы воли, приводя к смешению этой проблемы с проблемой произвольности.
Мы говорим о выборе, но в точке свободы, картезианской свободы никакого выбора нет, ему там нет места, а есть каждый раз единственно возможным образом происходящее полностью внутреннее самоопределение.
Быть может, лучше всего это понимание свободы можно было бы выразить известной лютеровской формулой: «стою здесь и не могу иначе!» Это, возможно, нечто большее, нежели просто удачная параллель – тема «Декарт и Лютер» заслуживает специального продумывания. «Стою здесь и не могу иначе!» – трудно найти краткую формулу, которая столь же точно и полно, как эта лютеровская максима, выражала бы декартовское понимание свободы. «Стою здесь и не могу иначе» – это значит, что мы не определяемся в своем «стоянии» – в своем свободном действии, поступке (эта лютеровская максима есть также и самая точная и строгая формула поступка как феномена свободы), в своей мысли, но также и в своем чувстве (тут вступает тема «страстей», в особом, конечно, декартовом ее проведении: «страсть» по Декарту ведь – тоже феномен свободы!), в «повороте своего сердца», – ни в чем из этого, по Декарту, мы не определяемся ничем внешним (нужно ли говорить при этом, что к «внешнему» тут относится не только «внешнее» в буквальном, физическом смысле, но также и то, что обычно называется «внутренним», включая, положим, и психические феномены и в их числе и то, что психологи называют мотивами и что они по определению рассматривают в качестве конечных «причин» поведения).
Это «стояние» абсолютно безосновно, то есть – свободно. Иначе, если действие определяется чем-то внешним, то происходящее с нами – а с нами тогда нечто именно происходит, а не мы что-то делаем, – происходящее с нами уходит в бесконечную цепь причин и действий, неизвестно откуда приходящую, неизвестно куда уходящую, цепь причин и действий, внутри которой нет места свободе, нам нет места.
Да, говорит Декарт, такое бывает с нами, больше того: это и есть «нормальная», обычная человеческая ситуация, но – но только к свободе это не имеет никакого отношения.
Тут берет начало декартовская тема «автомата», который у Декарта означает не «механизм» в обычном смысле, как это думают, но все то, что включено в бесконечные ряды причин и действий (из чего проистекает, кстати, опять же – вопреки расхожему представлению, что декартовская точка зрения на животных – которые, по Декарту, суть только «автоматы» – сложнее и тоньше, чем самые современные взгляды, которые именно механистичны). «Автомат» у Декарта означает, стало быть, все то, внутри чего нет и не может быть места свободе (это «не может» – важно, ибо, хотя, положим, обычным человеческим состоянием и является состояние несвободы, но поскольку для человека всегда, в любом его состоянии есть возможность прохода в точку свободы, человек – не автомат).
Надо сказать, это весьма радикальный взгляд: так, с точки зрения Декарта, «автоматом» следовало бы признать и человека в большинстве современных психологических концепций личности, включая и так называемые «гуманистические».
Что такое эти «топосы свободы», в которых открывается возможность свободного действия, каким образом в эти места можно попадать, что возможность прохода в такие места открывает?
Это вовсе не «марсианские» вопросы, но, напротив, самые что ни на есть реальные, встающие в повседневной практической работе психолога, в частности в психотерапии, и вопросы критически значимые, тот или иной ответ на которые изменяет всю стратегию работы. Современная психология, включая и так называемую «психологию личности», по существу не признает феноменов свободы и не может признавать их, не перечеркивая тем самым самое себя: с этим она «стоит и падает», что бы она при этом ни говорила и ни выставляла в качестве своих лозунгов.
Признание же феноменов свободы ставит психолога или психотерапевта перед необходимостью заново продумывать вопросы о том, с чем он имеет дело, какие цели может и должен перед собой ставить и с помощью каких действий он может надеяться эти цели достигать. Возникает даже вопрос, может ли он вообще что-то «делать» – в прежнем, обычном смысле слова – по отношению к другому человеку, если никакое прямое извне определение событий, которые теперь должны иметься в виду в качестве целей психотерапии, невозможно? Может ли теперь терапевт вообще ставить какие бы то ни было конкретные цели? Что может значить «помочь» другому, но как свободному существу? Ведь «помочь» – как это ни парадоксально – нужно в том, что другой только сам может сделать, что «за» и «вместо» него никто другой сделать не может, не может даже его работы с ним разделить.
Само понятие «помощи» требует, стало быть, радикального переосмысления. Вне психологии и психотерапии понимание и тонкое обсуждение этой проблемы можно встретить в замечательной, хотя не простой для понимания и полностью до сих пор не опубликованной работе Андрея Белого «История самосознающей души».
Ясно одно, что прежнее, до сих пор доминирующее или даже единственно известное в психологии и в психотерапии понятие «помощи», целиком лежащее в рамках идеи «воздействия» – а именно так понимается психотехника как техника воздействия на психику человека с целью трансформации психического аппарата человека или режима его работы, – ясно, что такое понятие «помощи» оказывается уже несостоятельным, неадекватным пониманию человека «из свободы» как феномена свободы.
Декарт сказал бы: помилуйте, о чем вы говорите! О каком «воздействии» может идти речь по отношению к феномену свободы, – все, что вы можете «сделать с» человеком, сделать «за» и «вместо» него, никакого отношения к нему как свободному существу, к тому, что вы хотите помочь ему сделать, к его поступку не имеет и иметь не может! Все это «не про то» в человеке, все это не имеет ровно никакой собственно человеческой, духовной или личностной ценности!
А что имеет?
Чем должно быть самое присутствие терапевта в ситуации психотерапии и его действие в ней? Это реальный и открытый вопрос. Вопрос, на который на свой страх и риск – хочет он того или нет, отдает себе в этом отчет или нет – должен давать, не может не давать ответ – не столько словом, сколько делом – каждый терапевт. Даже Фрейд – пусть отрицательный – дает! Юнг – свой, и Роджерс – свой. Каждый.
Вот это декартовское понимание свободы надо «держать» – прямо по слову Мераба Константиновича: своим усилием, – понимание того, что свобода соотносима с возможностью прохода в топосы незаместимого – извне никак не определяемого – события, но события вместе с тем «неизбежного» – теперь мы понимаем, в каком смысле это говорится применительно к Декарту, к феномену «картезианской свободы», – события, которое происходит единственно возможным образом.
Конечно, коль скоро оно случается, если мы соответствующего топоса «достигаем», ибо единственная реальная проблема состоит в этом: попадаем мы в этот топос незаместимости или нет. Если попадаем, то попадаем и в лютеровскую структуру: «стою здесь, не могу иначе!» – «сердце поворачивается» единственно возможным образом, мысль выполняется единственно возможным образом, действие, поступок. Строго говоря: «поворот сердца» и мысль в этом их понимании, как феномены свободы, тоже – поступок.
Понять идею «картезианской свободы» – значит сопрячь две, казалось бы, несовместимые идеи: «свободы» и единственно возможного хода событий, «неизбежного».М.М.: Вот то, что я говорил о расцеплении и сцеплении, о том, что прямое приложение действия – волевого и рассудочного – к точке, в которой произошла «конкреция» психических сил и исторических тоже – то есть то же самое применимо и к истории, – такое прямое приложение сил, которое не позволяет ничего сделать, не позволяет двинуться вперед.
Речь идет прежде всего о создании рядом какой-то другой точки приложения сил. И «переток» сил на эту точку, может быть, расцепит «конкрецию» предшествующей точки, и мы двинемся вперед. То есть отношение Декарта к тому, что складывается стихийно, или естественно-исторически, и что древние называли «зависимыми происхождениями», оно, это отношение, Декартом четко проводится и на уровне мысли – помните, я говорил вам, что устанавливаемая «машина мысли» мыслит как машина, порождающая закономерные или – порождающая «законнорожденные» мысли.
Вот так же, как если бы вы построили такой инструмент, который был бы идеален в том смысле, что порождал бы только правильные гармонии. Порождает гармонии – инструмент, а не вы, но вы – установились! И внутри хода порождения инструментом гармоний, внутрь этого не врываются вещи, шаги другого происхождения
Это как бы вот древнее учение о стрельбе из лука – если вы знаете: «сатори» – это состояние, которое совершается не умственно и не аналитически, и в нем стрела точно летит в цель. Она летит, а не я двигаю ее своей шаговой мыслью. Но нужно установить «это», которое работает само потом.А.П.: Помните, я рассказывал как-то о женском финале по стрельбе из лука на последней олимпиаде – эту невероятную историю, как победительница, кореянка, дважды попадала не просто в десятку, но в небольшое отверстие для видеокамеры в самом центре мишени, то есть дважды попадала, можно сказать, в одну и ту же точку – точку, которую глаз даже и не видит, не может видеть, ибо стрельба ведется с расстояния в семьдесят метров, так что для того, чтобы узнать результат своего очередного выстрела, спортсменка должна смотреть в очень сильную подзорную трубу, – попала в точку при том, что стрельба ведется на открытом воздухе, когда малейшее дуновение ветра может отнести стрелу в сторону, не говоря о множестве других привходящих и случайных, неконтролируемых факторов, так что происходящее на ваших глазах становится чем-то просто сверхъестественным.
И мне невольно вспомнилась другая история, которую рассказывал когда-то о своих психотехнических занятиях со стрелками, правда уже из пистолета и нашей олимпийской сборной, Николай Цзен. Когда с какого-то момента некоторые из этих стрелков к своему собственному изумлению и даже испугу начинали видеть (!) как бы некий узкий «коридор», или «туннель», который связывал обрез ствола пистолета с десяткой мишени, и если они тогда нажимали на курок, то, опять же: видели (!), как по этому коридору начинала двигаться пуля, которая тогда, конечно – куда же ей деться! – неизбежно (опять эта «неизбежность») должна была угодить в десятку!
И важно теперь становилось уже не то, что делал стрелок руками (как при «обычном» прицеливании), но то, мог он или нет «поймать» соответствующее состояние, успеть поймать его за то небольшое время, которое отводится на каждый выстрел (не с этим ли были связаны те два «перецеливания», которые – к замиранию сердца болельщиков – позволила себе кореянка, не с попыткой ли попасть-таки в нужное состояние? – состояние, в котором возникал этот загадочный коридор, то есть с «настройкой», о которой говорит тут Мераб Константинович, который, кстати, мог знать эту историю если не от самого Цзена, то от кого-нибудь из общих знакомых).М.М.: Так вот и в страстях – я вам показывал, что сначала Декарт на уровне чистой физической физиологии показывает такие сращения, поддерживаемые и закрепляемые животными духами, а потом говорит о переключениях.
Помните, я говорил вам: сократить глаз, то есть зрачок, прямо нельзя – можно ведь только, глядя вдаль – расширился, поглядел ближе – сократился! А «захотеть» сократить или расширить нельзя. Хочешь расширить зрачок – найди дальний предмет, посмотри на него – он расширится.
И в страстях, говорит Декарт, то же самое. И вот он начинает обсуждать нашу печаль или нашу радость, или, иными словами: объекты печали и объекты радости.
Вы печальны – ну, с печалью вы ведь не справитесь: она как сокращение зрачка – не можете прямо: перестать быть печальными. Найдите другой объект – оставаясь печальными! – перенесите на него силу и внимание и: что-то произойдет.
И вот я хотел здесь как раз предупреждение сделать. Здесь вот идет – и в письмах и в «Страстях» великолепное совершенно изложение у Декарта, но оно обладает одним свойством: у меня было такое ощущение всегда, что есть, существует такая вещь, которую я называю: «блестящая поверхность мысли». Как есть какие-то драгоценные камни, особенно темные, чудовищного блеска и в то же время какой-то непроницаемости: они не имеют как бы глубины.
Эта «блестящая поверхность мысли» – производится, и мы можем воспринимать – ее.
Но некоторые поверхности бывают более блестящими. Скажем, некоторые афоризмы Шопенгауэра могут показаться красивее, чем блестящая поверхность мысли Декарта в трактате о страстях, которая очень такая там она – экономная, заземленная и имеет тон дружеской беседы, а не «производства афоризмов», поскольку в данной культуре принято «производить афоризмы»: в культуре Шопенгауэра уже принято «производить афоризмы» и от «артиста» – в широком смысле этого слова – ожидается, что он будет «производить афоризмы». Ну и один удачно это делает, другой – менее удачно.
Но за блестящей поверхностью мысли – ровной, гладкой и без глубины – есть что-то, что этот блеск рождает. Этот блеск рождается странным очень образом. Я приведу такой пример.
Фактически, я могу сказать так, что есть знание – вот можно что-то знать. А можно – мыслить! – знаемое, или: мыслить и знать.
Вот – «знать». Всегда люди знали, что «душа не имеет частей». Но они этого не мыслили! А Декарт – и знает и мыслит! Потому что вот, например, люди знали, что «душа не имеет частей» – по определению: нечто нематериальное, духовное и прочее и прочее не может иметь частей. Мы не можем наглядно представить себе соприкосновение души – с чем-нибудь или чтобы внутри себя соприкасались бы части. Все это знают. Значит, будем считать, что это есть какая-то «блестящая поверхность». Но редко кто помыслил свое собственное знание. Потому что, если помыслить это знание – а Декарт его мыслит, – оказывается, что нельзя допустить, чтобы существовала какая-нибудь «растительная душа». Потому что: «душа не имеет частей»! Нельзя помыслить, что есть «сензитивная душа» и что есть «разумная душа». Почему? Ведь «душа не имеет частей»!
Декарт мыслит и поэтому считает, что не может быть «сензитивной души». Если есть душа, то она – одна, она не имеет частей. Не может быть, чтобы была «сензитивная душа» и какая-то еще «разумная душа».В точке той, если мы в чувственности обнаружили то, что мы с правом называем «душой», то тогда, простите, это обязательно будет «свет, сразу охвативший все» – душа! – никакая: ни сензитивная, ни разумная – душа. Люди ведь говорили все время, что душа не имеет частей, что она не имеет протяжения, но – не мыслили. А Декарт мыслит это – действительно мыслит, – и поэтому правило «не-частности» души, то есть то, что она не состоит из «душей», у него вдруг получает действительное приложение, действительно позволяет ему идти, и сейчас мы увидим, куда он приходит с этим своим, с тем фактом, что он мыслит то, что знает и говорит, а не просто «знает и говорит».
И поэтому я хочу вам сказать, что за этой «блестящей поверхностью» нас должно интересовать то, что рождает этот блеск на самой по себе непроницаемой гладкой поверхности вот какого-то «агата» мысли, который представляет собой трактат о страстях.
А.П.: Странная опять мысль, прямо противоположная тому, что привычно думать. Трудно даже схватить мысль Мераба Константиновича, понять ее пафос.
А то, что он пытается сказать тут через Декарта, исключительно важно – не только для чтения Декарта, но и для понимания того, что такое мысль, – того понимания, которое пытается передать через свое чтение Декарта Мераб Константинович и которое он сам и реализует в этом чтении.
Важно и для понимания того, что мы сейчас делаем, слушая лекцию Мераба Константиновича, – для понимания того, что такое интерпретация такого текста, как текст лекции Мераба Константиновича, то есть текста мышления, мыслительного текста.
Однажды мы уже заговаривали об этом, и тогда я предлагал в качестве камертона, или образца ситуации чтения и понимания всякого мыслительного текста (а таковыми и являются по преимуществу, как на то не раз указывает Мераб Константинович, философские тексты), так вот, в качестве камертона я предлагал взять ситуацию чтения и понимания дзен-буддистских «коанов».
Подобно тому, как толкование коана должно удержаться от попытки непосредственно передать ученику какой бы то ни было «готовый» смысл, – не важно даже – «рациональный» или нет, важно: смысл, полученный вне, «в обход» живого и спонтанного – здесь-и-теперь – отклика самого ученика, полученный «за» него, вместо его собственного здесь-и-теперь незаместимого ответа на его уникальную ситуацию, – подобно тому, как, напротив, понимание коана может достигаться только «внутри» и через этот спонтанный и как мы говорили: безосновный отклик на ситуацию (причем понимание коана не замещает собой и не упраздняет понимаемый коан в его вопросе, не «закрывает» его в качестве такового, но, напротив, его утверждает в его – как открытого и незакрываемого вопроса – неустранимости), – подобно этому и интерпретация всякого мыслительного текста не только не должна пытаться дать его «понимание» в обход собственной – живой и спонтанной, рождающейся в точке свободы – мысли читающего, не только не должна пытаться проделать соответствующую работу вместо понимающего, избавляя его от необходимости собственной мысли, но, напротив, должна делать чтение и понимание текста вне и в обход этой собственной мысли читающего невозможными.
В этом смысле интерпретация должна делать понимаемый текст более «жестким», она должна «блокировать» или «отсечь» возможность его «эрзацного» понимания, возможность любого другого его понимания помимо понимания его как мыслительного текста, то есть текста для мысли, текста, высвобождающего для нее место – для мысли и ни для чего другого. В этом смысле интерпретация доводит мыслительный текст «до кондиции», то есть по возможности до такого «жесткого» состояния, когда он или может быть прочитан, понят как мыслительный текст, то есть только внутри и через мысль, или не может быть понят вовсе!
Опять же: как при чтении и понимании дзенских коанов. Когда задача толкования коана (как правило, вместе с «ответом» мастера, или учителя) состоит прежде всего в том, чтобы блокировать или, по крайней мере, дискредитировать понимания коана, которые возникают вне и в обход состояния пробуждения, или просветления – эквивалент мысли, – которому коан и его «правильное» чтение должны высвобождать место – опять же: ему – или ничему другому!
Интерпретации, которые бы так понимали свою задачу по отношению к мыслительным текстам, встречаются чрезвычайно редко. Последовательно выдержать соответствующий режим чтения очень непросто. Так удавалось читать философские тексты Хайдеггеру. Сегодня опыты такого рода чтения можно найти у Дерриды. И именно так читает Декарта Мераб Константинович, и это составляет основную трудность в понимании того, что он делает, в принятии его чтения Декарта, трудность, наконец, в чтении текстов самого Мераба Константиновича.
«Разъяснение» в обычном смысла здесь невозможно, недопустимо, было бы грубой ошибкой. Как все, что говорится в качестве толкования коана – если это делается правильно, если это делает настоящий учитель, – не устраняет и даже не уменьшает «непонятности» коана, но, наоборот, эту непонятность усугубляет, укрепляет и утверждает как неустранимую, и если поначалу ученик еще ищет достичь понимания коана привычными, находящимися в его распоряжении способами и средствами, если до поры до времени он еще надеется достичь этого понимания без своей радикальной трансформации, еще пытается разгадать «загадку» понимаемого текста с помощью готовых и универсальных «отмычек», то чем дальше он продвигается в действительном понимании коана, тем яснее понимает, что «отмычки» тут не работают. Тем самым текст коана оказывается более надежно «защищенным» от – или: более «закрытым» для – обычного его понимания, и тем яснее становится, что действительное (а в случае удачного коана и правильного его толкования – единственно возможное) понимание коана требует особого ответа, ответа, который должен стать для идущего по пути дзен – как и для Мераба Константиновича, как и для Декарта – всегда чем-то большим и другим, нежели «рациональный» в обычном смысле ответ, чем «дедуктивно» движущаяся мысль.
Которая, как мы говорили, для них даже и не есть мысль! Так, Мераб Константинович настаивал на том, что философская мысль, то есть «мысль по преимуществу», собственно мысль, в отличие, положим, от мысли математической (в обычном ее понимании), не допускает «фиксации» ее ни в каких промежуточных знаньевых формах.
Математическое рассуждение можно «снять» в формулировке теоремы или даже буквально – в математической формуле и следующий шаг делать уже отсюда. Следующий шаг при этом – что важно – не предполагает восстановления предыдущего, восстановления в явном, в актуальном виде. В математике всегда можно идти дальше «от знания», закрепленного в той или иной знаковой форме. Нет нужды каждый раз заново актуально восстанавливать доказательство теоремы или «упакованное» в формуле рассуждение, коль скоро можно взять «итоговую» формулировку, в которой они «удерживаются» в некой «снятой», как говорил Гегель, форме – в форме знания.
С философской мыслью – к сожалению или к счастью – это не проходит! Очередной шаг мысли нельзя получить «выведением»: мысль, по Декарту, ни из чего не следует – ни из чего внешнего себе, в том числе и из другой, предшествующей мысли, тем более – из «снятой» в знании мысли. Как, впрочем, и из мысли ничего прямо не проистекает, не выводится, не может следовать! В том числе и другая мысль: мысль не выводима из мысли. Мысль не выводима ни из чего другого, но, прежде всего – из другой мысли, поскольку из нее вообще ничто не выводимо!
Это-то все Мераб Константинович и поясняет на примере декартовского утверждения, что «нет многих, разных душ», рассматривая его в соотнесении с другим утверждением, что «душа не имеет частей». «Нет и не может быть разных душ» – нет, положим, «растительной», «животной» и «разумной» душ. Причем, говорит Декарт, это только иной способ сказать, что «душа не имеет частей».
Но ведь то, что «нет разных душ», не выводимо из того, что «душа не имеет частей»! То, что «нет разных душ», устанавливается в некоем не имеющем никаких внешних себе оснований, происходящем в точке свободы, акте, или событии мысли. Если суждение производится в мысли, то оно производится как необходимое, единственно возможное и абсолютно несомненное в своей истинности суждение, но вместе с тем – как суждение, для которого нельзя указать никаких внешних оснований, как суждение, не выводимое ни из чего другого, в том числе и из уже сформулированного в результате доказательства предыдущей теоремы положения.
Когда, однако, мы в эту точку рождения новой мысли попадаем, – если попадаем, – когда мы, положим, понимаем, что «нет и не может быть разных видов души, разных и многих душ», то одновременно, вместе с тем, в этом же акте, или событии, мысли мы понимаем также и то, что это есть только другой способ сказать, что «душа не имеет частей», то есть из точки своей мысли здесь-и-теперь мы подхватываем, восстанавливаем для себя или себе «возвращаем», вновь «обретаем» – тут вступает знаменитая прустовская тема «возвращения» или «обретения» утраченного времени – времени или, быть может: «откровения», – обретаем или – используя другую мерабовскую метафору: «чтения» – «читаем» из-отсюда, из данного события мысли – другую, прежнюю мысль.
Из точки события мысли: «нет разных душ» подхватываем и читаем: «душа не имеет частей», но никоим образом не наоборот – не из прежней мысли производим новую. Из точки вот этой, здесь-и-теперь имеющей место быть мысли: «нет разных душ» открывается также и несомненная истинность утверждения: «душа не имеет частей». И больше того: открывается также и понимание того, что это – одно!
Итак: не из прежней мысли «выводится» новая, но, напротив: «из-отсюда», из здесь-и-теперь выполняемого акта мысли – «читается» мысль прежняя, как и то, что новая мысль является ее «продолжением», или из нее «проистекает». Все это исключительно важно для понимания Декарта. Это своего рода нерв мысли Декарта и исток декартовского понимания того, что есть, как устроен мир. Этот ход мысли будет проводиться Декартом и в отношении страстей.М.М.: Еще одно мы должны помнить. Я не случайно, в предшествующих фразах не случайно у меня промелькнуло слово «культура». Мы должны помнить, что трактат о страстях имеет адресата. Он написан другу. Движение пера повиновалось диктату любви и дружбы к конкретному лицу, к принцессе Элизабет.
Он писал не потому, следовательно, что ожидалось в данной культуре, что Декарт, имея интересные мысли – уже какая-то оценка этих мыслей есть вокруг, как бы витает вокруг мыслителя, ему говорят: это же интересно, важно для культуры – пиши! Производи культурные ценности!
Декарту повезло – у него еще не было культуры, была только цивилизация, которая позволяла ему добиться – если он этого хотел, конечно, усилия все равно надо было применить, – добиться независимого досуга и покоя души. И если уж писать, то выполняется диктат дружбы. И поэтому – тон рассказа другу, о том вот как обстоят вообще дела.А.П.: По существу и здесь продолжает звучать тема мысли как феномена свободы, то есть мысли в декартовском ее понимании, причем тема эта проводится на материале собственной мысли Декарта.
Мысль – безосновна, она не имеет и не может иметь никаких внешних для себя оснований. Не может она их иметь – говорит тут Мераб Константинович, обращаясь к мысли самого Декарта, – кроме прочего и – в каких бы то ни было ожиданиях в отношении этой мысли или в отношении самого мыслителя.
Безразлично: в чьих ожиданиях – чужих, других людей или же в своих собственных и в желании им соответствовать, поскольку в последнем случае Желающий этим ожиданиям соответствовать по отношению к себе как мыслящему – мыслящему из свободы – выступает по сути как «себе Другой», как «свой Другой».
Мераб Константинович берет здесь реальную ситуацию философствования самого Декарта – она и тут оказывается в каком-то смысле «предельной» по своей чистоте и ясности – и пытается показать, как декартовская мысль рождается каждый раз «в» или «из» некоторой конкретной жизненной ситуации, из некоего всегда уникального здесь-и-теперь. Ситуации, настоятельно и неотложно требующей ответа, ситуации, от которой нельзя уклониться и которая не оставляет возможности отложить отклик, чтобы, положим, как-то к этому отклику «подготовиться».
Ситуация, кстати, родственная тем, в которых должен действовать практический психолог или психотерапевт, который в отличие от академического исследователя не может себе позволить отложить свое действие, положим, до тех пор, пока не выполнит необходимого для организации этого действия «исследования» и соответствующих «проектных разработок» или хотя бы обстоятельного размышления, и который, тем более, не может себе позволить вообще не отвечать на вызов ситуации, на обращение, исходящее в этой ситуации от Другого, – который не может не действовать, и действовать здесь-и-теперь. Действовать, наконец, предельно точно и полно отвечая – со-ответствуя – всей неповторимости, уникальности ситуации: своего присутствия перед другим и здесь-и-теперь!
Этой ситуации никогда прежде ни с ним, ни с кем другим не было, и из всего, что до того с ним или с кем-то другим было, «вывести» ее невозможно – невозможно заранее наперед ее «вообразить» и к ней «подготовиться», «вооружить» себя для действия в этой ситуации – ни прямо, ни косвенно: ни в смысле какого-то конкретного способа действия или по крайней мере адекватной «стратегии» действия, ни даже в смысле выработки у себя необходимых для успешного действия в этой ситуации качеств или развития каких-то определенных «способностей». «Не готовиться, но быть готовым!» – что-то вроде этой известной восточной формулы.
Так вот, вслед за Декартом и на примере его же, Декарта, собственной мысли Мераб Константинович пытается показать, что мысль – это всегда абсолютно конкретный отклик на каждый раз уникальную ситуацию, причем отклик – здесь-и-теперь.
С одной только, но решающей оговоркой, с одной решающей и непростой для понимания тонкостью, попытка ухватить которую как будто бы с неизбежностью ведет к «порочному кругу».
То, на что тут в ситуации откликается мысль, и даже само «видение» или понимание ситуации, которому мысль пытается со-ответствовать, – оно само, конечно же, не «предшествует» – как нечто наличное – этому на нее ответу, не предшествует мысли, но только уже внутри и через мысль, через этот «ответ», впервые и устанавливается!
Это кажется чем-то «противным» всякому рациональному пониманию, абсолютно невозможным, немыслимым, парализующим ум, недопустимой в нем ошибкой – «паралогизмом» разума, сказал бы Кант, – «отвечать» ведь, казалось бы, можно лишь на то, что уже существует – до и независимо от этого ответа, – что уже налично.
То же можно сказать и иначе. Мысль – это конкретный и здесь-и-теперь отклик на уникальную ситуацию. Но, опять же, парадоксальным образом – напомню недавний разговор о Мишеле Фуко, о его не менее парадоксальной на первый взгляд идее «истории настоящего», или «генеалогии», – мысль это есть отклик не на текущее и преходящее в ситуации как таковое, но – на «настоящее» – в смысле Фуко, – то есть как раз на непреходящее, или «вечное», – как говорит Фуко вслед за Бодлером, – в ситуации, в преходящем.
Теперь же, с учетом только что сказанного, следовало бы добавить: отклик на «настоящее», которое само этим «на него» откликом, то есть – мыслью, – впервые как таковое и «вы-слушивается», «при-водится к» существованию или, как говорил Мераб Константинович: «в» существование (хотя, быть может, лучше всего было бы говорить: «к присутствию»).
Мысль есть всегда такой отклик на ситуацию, который достигает непреходящего, что значит – реальности.
Конечно же, понятие «непреходящего», или «вечного», – как, впрочем, и все другие понятия, включая и понятие «реальности», – должны быть при этом введены заново: не просто даже прежний смысл их должен быть изменен, но самая их возможность должна быть восстановлена заново на новом основании. Поскольку в прежнем понимании они оказываются полностью лишенными смысла.
Положим, «вечное» нельзя уже представлять себе как пребывающую где-то, всегда себе равную вещь, – положим, как нечто, существующее вне времени или имеющее бесконечную длительность. Поскольку «вечное», или лучше все-таки: «непреходящее», парадоксальным образом оказывается не просто совместимым, но существенно, внутренне сопряженным с ситуативностью, незаместимостью, неповторимостью, уникальностью – с со-бытийностью самого «настоящего», равно как и откликающейся на него и его «вы-слушивающей», позволяющей ему установиться, исполниться, с-быться – мысли.
Казалось бы, как может быть непреходящим, или имеющим непреходящее значение, нечто, происходящее только здесь-и-теперь, вот в этой уникальной ситуации, которая никогда не повторится, не может повториться? Оказывается, однако, что в действительности, напротив, непреходящее значение имеют именно такие, и только они – однократные и уникальные события. Так же как, положим, общезначимостью и вообще: коммуницируемостью, как выясняется, обладают и только и могут обладать события, происходящие в топосах незаместимости и неразделимости. Как, в конце концов, и вообще: тем, что есть, существует, реальностью оказывается то, и только оно, что впервые только и устанавливается в присутствии «в» и «через» открывающий ему дорогу на него отклик, то есть – «виртуальное»!
Можно было бы сказать одним словом, если бы и его при этом не пришлось употребить в совершенно новом смысле: непреходящим значением, общезначимостью, коммуницируемостью и реальностью обладают – «исторические» – со-бытия.
Вы помните, как на одном из наших занятий, в связи с чьим-то вопросом, нам пришлось обратиться к некоторым ситуациям, о которых идет речь в евангелиях.
Слова, которые говорит Христос, он говорит всегда ситуативно: он говорит их всегда здесь-и-теперь, по отношению вот к этой уникальной ситуации, говорит в прямом обращении вот к этому человеку, вот в этом его незаместимом положении, – положении, в которое эти слова Христа, будучи услышаны, впервые человека и ставят, позволяют занять, позволяют ему пройти туда, где вместо и кроме него никто не может быть, пройти в ту точку – это, как вы понимаете, и есть «точка свободы» – «из-откуда» он только и может на это обращение к нему Христа ответить и стоя где он ни с кем этот свой ответ, эту свою при-званность и от-ветственность не может разделить.
«Призванность», «призвание» или «судьба» человека, как мы тогда говорили, и обретается человеком внутри такого, ни с кем неразделимого отклика на это, незаместимо к нему обращенное слово. С ними, стало быть, человеку всегда еще нужно воссоединиться, их «достичь».
Мы говорили тогда, что нечто подобное, как бы вызывающе это ни звучало, должен делать и психотерапевт: должен пытаться помочь другому найти путь, помочь пройти в эти «топосы незаместимости», или – свободы, – туда, где только он и сможет и где только он может сделать то, что должен сделать: совершить поступок. Помочь своим словом, действием, своим присутствием, наконец – и даже, быть может, прежде всего. Не «воздействием», не манипулированием, конечно.
Так вот, евангельское слово обладает непреходящим через века и тысячелетия значением: оно и сегодня и для каждого значимо, – его и сегодня можно слышать, и через тысячу лет. И это при том, а по сути следовало бы сказать: и это именно благодаря тому, что слово это – не только тогда, когда оно было однажды сказано, но и всякий раз, когда оно оказывается услышанным, – всегда говорится в некой уникальной, однократной, не допускающей ни воспроизведения, ни непосредственного дления во времени ситуации, и говорится каждый раз лично вот этому, в его незаместимом положении, человеку.
Как это возможно? Как возможна эта «поверх» ситуаций, «поверх» пространства и времени общезначимостъ этих, всегда ситуативных слов? Как возможно, что слова, сказанные лично кому-то и когда-то, имеют столь же прямое значение и для меня сейчас, в моей совершенно иной и незаместимо уникальной ситуации? Больше того: как возможно, что они и для меня-то сейчас могут иметь значение лишь в силу того, что они и тогда – другому, и мне – сейчас говорятся именно ситуативно и незаместимо лично?! И что лишь поскольку эти слова и для меня – сегодня оказываются тем, что здесь-и-теперь открывает мне возможность пройти в топос незаместимости, откуда – в ответ – мое сердце может повернуться, моя мысль может выполниться или мой поступок свершиться – безосновно и единственно возможным образом, – лишь поскольку, иначе говоря, они для меня – сегодня открывают возможность свободы, – лишь постольку и я их, эти сказанные две тысячи лет назад слова, вообще только и могу слышать, только в силу этого и я – сегодня могу встретиться, быть в со-бытии-говорящему их, сказавшему их две тысячи лет назад. «Христос впереди евангелия»!М.М.: А как обстоят дела? Сейчас вглядимся в этот трактат.
Сначала вглядимся в адресата, как в ту конструкцию – адресат есть конструкция, – которая вызывает и структуру трактата и мысли в нем.
Декарт привязан к принцессе, кроме того, долг дворянина – помочь ей, представителю злосчастного королевского дома.
И Декарт замечает, что «Вы ведь переживаете не столько Ваши собственные несчастья, сколько несчастья Вашей семьи и Ваших родных». Кстати, «переживать, – говорит Декарт, – несчастья и беды близких, а не свои – это высшая “affection”, высший вид привязанности и любви», – говорит он.
И вот здесь вот тот «исторический» – в кавычках! – ради бога, не думайте, что я действительно, вслед за Декартом формулирую «законы» – он тоже избегал этих велеречивых слов, – но просто я поясню, что есть общие структурные проблемы, – касаются эти проблемы нашей психологической жизни или эти проблемы касаются исторической жизни.
И когда я говорил, что, скажем, если стал человеком так, то уже не станешь больше человеком, если не развязать этот способ становления человеком, – поэтому в лоб нельзя сказать, положим, немцу в 30-х годах: перестаньте быть тем, что Вы есть, – прямо. Можно было только переключить. Потому что они стали людьми так, как могли стать. И эти люди оказались фашистами. Люди. Вот так они умели быть людьми.
И в «Страстях» говорится так – кончается тем, что эти рассуждения Декарт называет «смешными», – позвольте, я просто прочитаю вам одну страницу, если вы мне разрешите.
Он начинает очень просто: с причины болезни. Он говорит о том, что часто сам тот факт, что мы думаем о предметах печальных, упираемся в них лучом внимания и не отвлекаемся от них, сам он вызывает определенные изменения крови, определенные вот движения «животных духов» и так далее и так далее, которые закрепляются, и мы можем заболеть – от печальных мыслей – заболеть физически.
И тут он начинает говорить так – очень просто, спокойный тон, адресованный даме, к которой он привязан: «Самая обычная причина лихорадки, медленной лихорадки, есть печаль. И упорство судьбы, которая преследует Ваш дом – королевский дом, имеется в виду – поставляет Вам непрерывно сюжеты для раздражения или печали, которые так, настолько известны всем вокруг, что не нужно быть особенно умными и употреблять всякие сравнения и заключения, чтобы понять, что основная причина Вашего нездоровья и состоит вот в этих несчастьях, которые выпадают на Ваш дом.
И я боюсь, что нельзя будет от всего этого избавиться – то есть от нерасположенности тела, от нездоровья телесного, – разве что только силой Вашей добродетели (ну, «вертю» – это не «добродетель» в русском смысле слова, а в широком смысле слова – качества «доблесть»), разве что только силой Вашей доблести Вы смогли бы сделать свою душу довольной вопреки неудачам фортуны.
Я знаю, что было бы неблагоразумно уговаривать кого-нибудь быть веселым – того, которому фортуна все время посылает новые сюжеты для неудовольствия, и я вовсе не принадлежу к тем жестоким философам, которые хотели бы, чтобы их мудрец был бесчувственен».
Ну, замкните сразу это на античные идеи вот этой свиньи – содержательные идеи, конечно, но Декарт с ними во внутренней полемике, он вообще считал, что вся античная мудрость, касающаяся страстей, она настолько не годится ему, что он может добиться чего-нибудь толкового в рассуждениях только в той мере, в какой толковое, в какой эти рассуждения не будут похожи на рассуждения античных, не будут из них исходить. Так вот, вы помните стоический образ свиньи, которая сохраняла невозмутимое спокойствие во время бури на палубе корабля, – так вот: «Я вовсе не принадлежу к тем жестоким философам, которые хотят обязательно, чтобы их мудрец был бесчувственен.
Я также знаю, что Ваше Высочество не столько затронуто в том, что касается Его лично, а скорее в том, что касается интересов дома и лиц, к которым Оно привязано. Это я считаю доблестью, самой любезной из всех («aimable» – самой милой, любезной из всех).
Но мне кажется, что разница, которая есть между великими душами (или «большими» душами – по-французски можно сказать: «grand», по-русски нужно говорить: «великими», – значит, разница, которая есть между великими душами и низкими и вульгарными, – значит, с одной стороны: «великими душами», а с другой – «низкими и вульгарными»), состоит главным образом в том, что вульгарные души позволяют себе отдаться потоку своих страстей и не могут быть… и могут быть счастливыми или несчастливыми лишь в зависимости от того, хороши или плохи вещи, которые с ними случаются.
Тогда как другие (то есть «великие души») силой столь сильных и мощных размышлений, имея при этом страсти, и, может быть, часто даже более сильные, чем имеют обычные, или вот: низкие и вульгарные души, они вот остаются – силой рассуждения или силой размышления – остаются, тем не менее, хозяевами того, что с ними происходит, и даже из самих «affection» – из самих бед – делают своего слугу – превращают беды в своего слугу и тем самым работают (плохой перевод, конечно) – работают на совершенное счастье, которым они наслаждались бы в жизни. (Странно: счастье, извлекаемое из несчастья!)
Потому что, с одной стороны, рассматривая себя, считая себя бессмертными и способными на высшее удовлетворение, они, с другой стороны, зная, что присоединены к смертному и хрупкому телу, которое подвержено множеству всяких нездоровий и несчастий и неминуемо погибнет – то есть тело погибнет – в течение ближайших лет (!), они делают хорошо все то… все то, что в их власти такого, чтобы расположить судьбу к самим себе в этой жизни. Но при этом они так мало ценят это – то есть благоприятную фортуну в этой жизни по сравнению с вечностью, – что они не рассматривают события иначе, чем так, как мы рассматриваем комедию».
Помните, я еще в самом начале говорил вам, что если ты то-то, то-то и то-то и сделал, все равно ведь и жизнь твоя не может сложиться полностью, как ты ее желаешь, и люди вокруг остаются теми, какими были – глупыми и злыми, – и в мире ведь зло не исчезло, потому что ты проделал путь освобождения, и тогда остается один способ выскочить из этого – это рассматривать личные драмы как не более серьезные, чем драмы воображаемых персонажей, на несколько часов воплощенных на сцене. Мы и плачем и смеемся от них, мы переживаем, но мы ведь знаем – на фоне, что это – нереально.
Так вот, Декарт требует такого отношения к собственным личным драмам, как если бы я сам был бы своими этими драмами представлен, воплощен на несколько часов. Все – как я говорил вам в самом начале, – все не так серьезно.
Что повторял еще и потом, позже гораздо, и бедный Ницше.
Так вот, значит, рассматривать их не более, не иначе, чем мы рассматриваем комедии. И вот дальше очень интересно он говорит. «И поскольку… и так как печальные и жалобные истории – то есть рассказываемые в комедиях, в театре и так далее и так далее – так как вот жалобные и печальные истории, которые мы видим представленными в театре, нас так же развлекают, как и веселые, – печальные и жалобные истории нас так же развлекают в театре, как и радостные: действительно, если бы трагедия нас не «развлекала», то вряд ли мы ходили бы в трагический театр: развлекает! – и вот дальше мы увидим высокий смысл того, что Декарт называет «развлечением», – значит, дает нам столько же развлечения, как и веселые представления, хотя и исторгает из нас… из наших глаз слезы, вот точно так же и великие души, о которых я говорил, имеют удовлетворение в самих себе от всех вещей, которые с ними случаются, в том числе от тех, которые неприятны и невыносимы.
Так, чувствуя в теле своем страдание, они могут терпеливо выносить его и извлекать из этого испытания собственную силу, которая и будет их “развлечением” – в кавычках, конечно, «развлечением» – развлечением и радостью. Так же, как, видя своих друзей в какой-нибудь большой беде, они сочувствуют их несчастьям и делают все, что могут, чтобы освободить их от этого несчастья, и не боятся ради этого даже подставить себя смерти, если это понадобится.
Но, тем не менее, свидетельства, которые дает им собственное сознание того, что они этим самым исполняют свой долг и совершают высокое действие, эти свидетельства делают их более счастливыми, чем любая… более счастливыми, чем то несчастье, которое причиняют им боль и беда.
И, более того, даже великие удачи судьбы, выпавшие на долю великих душ, никогда их не опьяняют, с другой стороны, – то есть если из несчастий они извлекают то, о чем я сейчас говорил, а из “счастий” они не извлекают опьянения этими “счастьями”.
Помните, я говорил, что единственное зрелище, которое может пленить человека, это зрелище человеческой свободы, а не достижений. Зрелище того, что может человек, идя за какие-то пределы, поставив себя на карту в дерзком вызове судьбе, а не империя завоеванная, приобретенные богатства и так далее и так далее.
Так вот, они не опьяняются удачами судьбы и не делаются более наглыми, точно так же, как великие несчастья не повергают их наземь, и они не становятся настолько печальными от них, чтобы их тело заболело».
Мы видим, что Декарт при этом считал здоровье основой всей нашей жизни. Он говорил людям: будьте здоровыми! Об этом думайте. Будьте здоровы.
И он заключает: «Я боюсь, что этот стиль может показаться смешным (действительно, все, что я сказал, читая Декарта, может показаться смешным), если бы я писал это кому-нибудь другому (ну, как мы пишем вообще, чтобы опубликовать), но, – продолжает Декарт, – но поскольку я считаю, что Ваше высочество обладает в высшей степени благородной и высокой душой, то я надеюсь, что оно не сочтет наглым и смешным с моей стороны (так кончается письмо) вот все эти рассуждения».А.П.: Опыт, извлекаемый из страстей, определяется тем, как человек проходит через соответствующие состояния: в зависимости от того, как он это делает, как и что ему удается сделать, и извлеченный опыт оказывается разным.
Если, говорит Декарт в этом письме Елизавете, человек способен удержаться при том, что именно он в этом состоянии делает, при том, что с ним именно происходит, а не слипаться с внешними обстоятельствами, то он получает свободу над своими страстями.
Стало быть, все та же тема свободы. Но тут она берется иначе, с другой стороны.
В каждом положении, говорит Декарт, есть обстоятельства, изменить которые не в нашей власти, по крайней мере – не полностью в нашей власти. Конечно, в той мере, в которой мы что-то все-таки можем сделать, чтобы изменить ситуацию в нужную сторону, мы должны попытаться это сделать – сделать максимум того, что можем, и по отношению к тому, что не полностью зависит от нас, – изменить «внешний» план ситуации.
Граница между внутренним и внешним проходит в этом случае совсем иначе, чем обычно: «внешнее» тут – это все то, что не находится целиком в нашей власти, а таковым может оказаться и что-то в обычном понимании «внутреннее» – положим, наши желания или привычки, наши способности или предрассудки. В наших реальных возможностях изменить внешний план ситуации всегда есть границы – часто весьма тесные и жесткие, и мы никогда заранее не знаем и не можем знать, где эти границы пройдут в каждом случае. Но в каждой ситуации, говорит Декарт, всегда есть нечто, что целиком в нашей власти. И в каждом случае это и есть самое важное для нас в нашем положении или, быть может, даже единственное, что вообще для нас имеет значение – действительное, духовное значение. Что вообще только и есть «наше», «мое», а не чье-то чужое, – единственное, что стоит того, чтобы из-за него «переживать»: бояться не достичь или, достигнув, не суметь сохранить, потерять, – единственное, за что мы как люди, быть может, должны нести ответственность, что только и составляет действительные события нашей жизни, – единственное, опыт прохождения через что нас как людей в этой нашей жизни и конституирует. Этим, говорит Декарт, и является то, и только то, что целиком в нашей власти!
Есть ли вообще такое? Не только «вообще», утверждает Декарт, но в каждом нашем положении, каким бы трудным оно ни казалось, всегда есть такое – или, быть может, опять же следовало бы говорить: есть место для или даже: можно высвободить место для того – что целиком в нашей власти.
Мысль Декарта развертывается здесь в рамках собственно философии и светской, не религиозной философии, – но опять же: трудно найти лучший и более прямой ход к ее пониманию, чем «замыкающий» ее на максиме, которая решительным и парадоксальным образом отделяет любовь – в христовом ее понимании – от всего, что привычно этим словом называется, но что – в силу этой максимы – таковой не является и быть не может. Ведь и любовь в новозаветном понимании – это нечто такое, для чего всегда есть место! Поразительная, невозможная, если вдуматься, вещь. И: немыслимая! Такая же невозможная и немыслимая, как и свободное человеческое действие, поступок – в декартовском их понимании, – как и самая мысль.
Любовь – феномен свободы. Если я подставляю вторую щеку потому, что так где-то написано, пусть даже и в евангелии, пусть даже это и сказанные когда-то Христом слова, я по сути не выполняю его заповеди, но нарушаю ее, не предан его откровению, но его предаю, ибо делаю это не из открытой им для меня свободы, не из любви, но в обход ее, в обход своего со-бытия другому, делаю по предписанию.
Если, положим, я подставляю эту щеку, чтобы меня не ударили уже по голове или же чтобы что-то сделать «с» другим человеком, пусть бы даже «для» него: как-то на него воздействовать, чтобы в нем что-то там «перевернулось», чтобы он что-то там понял, «пробудился» и т. д. и т. п. – если, словом, я делаю это «для того, чтобы», с умыслом, с расчетом – а это ведь есть расчет, попытка манипулировать другим человеком (как, впрочем, одновременно всегда и – собой, в чем, быть может, труднее дать себе отчет) – вот она «психотехника»! – если так, то никакого отношения к христовой заповеди и к ее исполнению, к следованию ей и к действию по ней все это не имеет и иметь не может! Все это не про то и не туда, все это нужно блокировать. Все это прямо противоположно тому, что христовой заповедью имеется в виду: манипулирование ведь тут невозможно и оно тут бесцельно, оно не достигает и не может достичь тут своей цели – той, ради которой вроде бы предпринимается.
В мире моего действия при этом ни для любви, ни для свободы, ни для Христа, ни, стало быть, для меня самого как свободного, духовного существа – для человека в новозаветном его понимании – нет и не может быть места.
«Стою здесь, не могу иначе!» – вот точка, где, по мысли Декарта, начинается человек, где ему есть место. Вот если поворот щеки есть только «продолженный» поворот моего сердца – безосновный, ни из чего, даже из писаной христовой заповеди не проистекающий и, заметьте: из нее не «выводимый», ибо никто за меня и заранее не может знать и не может мне извне и заранее сказать, что я должен делать вот здесь-и-теперь, – никто, даже бог, – так вот, только тогда – как это ни парадоксально – я действительно выполняю христову заповедь, ибо это всегда – одна, все та же, единственная заповедь: любви, то есть: свободы.
«Нельзя даже, – говоря словами современного философа, – вежливым быть из вежливости»! Даже такая вот, казалось бы, чепуха невозможна. Ибо наше действие при этом перечеркивает само себя, не достигая точки свободы, точки поступка. Если я свое действие, которое я хотел бы найти вежливым – а для француза, да еще и дворянина, в случае Декарта, вежливость, или «вежество», как говорили прежде у нас, – это нечто такое, что складывает внутреннее его существо, – если я свое действие выполняю только из знания того, что такое «вежливость», желая лишь соответствовать известному мне представлению о вежливости, соответствовать ожиданиям других людей, – это не есть «вежливость», но только имитация или симуляция вежливости, это только, как сказал бы вслед за Декартом Мераб Константинович, лишь «обезьяна вежливости».
А Декарт – вежлив, и вежлив вежеством. И его письмо, которое читает Мераб Константинович, это попытка такого ответа на обращение к нему другого, друга – этой юной особы королевской крови, принцессы Елизаветы, или Элизабет, как на французский манер произносит ее имя Мераб Константинович, – которым или в котором Декарт пытается найти себя, «поймать» в точке того «поворота сердца», который и можно было бы назвать «вежливостью». Декарт здесь вежлив по отношению к Елизавете, и, кстати, поскольку он истинно вежлив, то вежлив несмотря на то, что он говорит в конце своего письма весьма резкие, жестокие даже и нелицеприятные слова – истинная вежливость их вполне допускает и даже в данном случае их требует, не «теряя при этом ни перышка», ибо она с необходимостью есть также искренность, честность и даже мужество.
Декарт вежлив тут не потому, что, будучи образованным и воспитанным человеком, а к тому же еще – дворянином, а еще и – французом, а еще и мужчиной, пишущим даме – молодой и очаровательной даме, и к тому же – королевской крови, – не потому, словом, что он искушен и искусен, знает толк в вежливости, – будь так, он был бы лишь «обезьяной вежливости», но нет ничего более немыслимого для Декарта, более ему «противного» (не в смысле «страсти» – подобное едва ли можно допустить в отношение Декарта, но в смысле чего-то противоположного его существу, его бытийной расположенности).
Здесь, кстати, во весь рост встает тот вопрос о соотношении подготовки к действию, пусть даже и через развитие, и – готовности, которого мы уже касались однажды в связи с обсуждением феномена поступка в свете ранних работ Бахтина и того видения человека в них, которое оказывается «ортогональным» всей современной психологии, включая и так называемую «гуманистическую».
«Подготовить» себя – в буквальном смысле этого слова – к действию в топосе свободы нельзя и даже, оказывается: чем больше мы пытаемся это делать, тем в большей степени заслоняем для себя эту возможность. Вплоть до того, что выстраиваем для себя таким образом нечто вроде «защиты» против «угрозы» необходимости действия.
И это прекрасно знают психотерапевты: можно всю жизнь «готовиться», тем самым не оставляя в жизни никакого места для того, чтобы, наконец, решиться действовать, мыслить, быть. Эта проблема, как мы о том говорили, возникает, конечно, и по отношению к самому терапевту.
Действительная «готовность» к действию в топосе свободы, как это ни парадоксально опять приходится формулировать, всегда предполагает, по существу, действие в ситуации абсолютной «неготовности» к действию, требуемому этой ситуацией, предполагает ситуацию абсолютной невозможности действия (понятное дело, что это целиком относится и к мысли).М.М.: Какая-то вот есть поразительная вещь в Декарте, которая, мне кажется, она испытывается любым человеком в той мере, в какой он хоть в какой-то степени вот так относится к своим страстям – в смысле извлечения: они неотменимы. Не только мои страсти, да и несчастья, которые со мной могут случиться, – неотменимы. Я не могу ладошечкой от них, взмахнув ладошечкой от них отстраниться.
Вот есть то испытание, и проходящее нитью через все, что говорит Декарт, испытание вот того особого состояния, в котором мы находимся, когда страдаем.
Это состояние – ну, очевидно, все его переживали – я бы его выразил так: состояние той особой какой-то прозрачности, почти что звонкой ясности, которую приобретают события, вещи, лица и суть дела в момент высокого страдания. Мир выступает в какой-то действительно совершенно звонкой, хрустящей прозрачности и четкости – как «невозможная возможность» и «схождение всего как надо».
И, очевидно, это одна из самых больших человеческих радостей. Ибо ты сам здесь – в точке, где «все сойдется». Так это понимает Декарт. И, очевидно, так понимаем и мы. Только часто, зная это, мы не мыслим это. И я не случайно с этого и начал.
Ну, видите, я ведь, вслед за Декартом, это страдание, вот его описал как-то, это состояние, – конечно, как и всякое состояние, оно не поддается описанию, а поддается, очевидно, лишь, как говорили позже: «эмпатическому пониманию».
Я описал его в тоне письма другу, то есть в тоне Декарта, а не в тоне последующей культурной роковой фигуры, которой стало «страдание» и вообще фигура «больного художника» в девятнадцатом, ну, после романтиков, после восемнадцатого века – в девятнадцатом и двадцатом веке, где болезнь как таковая и страдание культивируются ну фактически не как это вот состояние, о котором я сейчас говорил, а как «культурная фигура».
Когда Декарт говорит, то есть он не говорит, а – имея это – переживает, что есть особая радостная ясность в великом страдании, и мир становится особым, и ты: у тебя есть «эляция» радости в страдании, то он не имеет в виду, что нужно страдать для того, чтобы это было. Что нужно быть больным, хромым, косым – в смысле, конечно, умственном, духовном – в смысле всех этих причуд и навыков, которыми отмечали себя художники, узнавали взаимно в девятнадцатом и особенно в двадцатом веке. Так же как авгуры узнавали друг друга особого рода подмигиванием, так и вот такого рода символы узнавания появились и расцвели в двадцатом веке.
Ну, это для Декарта, это – культурный цирк. В культуре так «ожидается». А Декарт не хочет этого, он не имеет вокруг себя какие-то культурные ниши, которые пусты специально для того, чтобы Декарт собой заполнил эти культурные ниши, где уже расписано: все знаки того, как выглядит гений, какая мысль интересна, какая неинтересна, чем нужно заниматься и что нужно производить, чтобы как пчелка сидеть в посаженной тебе нише и, простите меня за выражение, «выкакивать» культурные ценности. К сожалению, в русском языке все слова определенного рода гораздо более вульгарны, чем эти же слова в других языках.А.П.: Без страстей, вне опыта страстей – и тут мы делаем важный шаг в понимании страстей у Декарта, – не проходя через опыт страсти, всегда – претерпеваемой страсти, человек не может ничего ни узнать и по-настоящему понять в своей жизни, ни даже, как ни парадоксально, опять же: достичь свободы.
Казалось бы, как раз страсти, захваченность ими и делает человека несвободным, мешает ему ясно видеть и трезво понимать, искажает мысль или даже делает ее невозможной. А Декарт всем своим учением о страстях говорит по сути – к сожалению, мы не успеем, должно быть, добраться до этого места в лекции Мераба Константиновича, – говорит поразительные слова: не от страстей, говорит он, нужно освобождаться, а от глупости!
Это не значит, однако, что страсти вообще и страдание, о котором идет речь у Декарта, в частности, нужно искать или пытаться специально, намеренно культивировать, чтобы тем самым «обеспечить» условия соответствующего «продуктивного» опыта. Конечно же, никакого «для того, чтобы», никакой преднамеренности, поиска и культивирования страстей быть не должно, да и не может – не может уже в силу самого декартовского понимания страстей в данном случае, понимания их как феноменов свободы. Как, впрочем, и в силу его понимания опыта и извлечения опыта.
Были и есть особые «культуры страдания», и не только в рамках той «романтической» традиции, которую имеет в виду Мераб Константинович. С ее особым образом «художника», который будто бы ничего путного не может сделать, если не проходит через опыт страдания – предельного, последнего страдания, на границе того, что вообще может вынести человек.
И тогда, вроде бы, если вы хотите быть художником, если хотите вообще на что-то серьезное, что касается творчества, рассчитывать, вы должны пройти через подобный опыт страдания, а если на вашу долю – к несчастью! – этого страдания не выпадает (хотя, конечно, трудно вообразить человеческую жизнь, в которой этого не было бы в избытке!) – не выпадает «в нужном количестве» или же оно не того «качества», то, вроде бы, не остается ничего другого, как его искать, его индуцировать или призывать и провоцировать.
Из страдания, из страстей делается допинг – и один из самых сильных и опасных допингов – для творчества. Причем не только для художественного творчества, но также, положим, и для той же философской мысли. В этом видится «обеспеченность» творчества – и прежде всего «нравственного» и «духовного» порядка – жизнью, реальным личным опытом художника или мыслителя, видится основание значимости творчества для других людей.
Дело при этом понимается так, что творец, через провокацию призывая на свою голову страдание – «за» и «для» других людей, неспособных на такой «эксперимент» в своей жизни, – «добывает» некий уникальный опыт и «откровение», принося себя, таким образом, в некотором роде в «жертву».
Допинг, однако, – это и всегда-то жульничество: попытка заполучить то, что тебе, в твоем нынешнем состоянии, не принадлежит, а тут это не только бесчестно, но и, как я уже говорил, бесцельно. Тут не только нельзя украсть, но нельзя даже ничего и «заработать» или «заслужить», нельзя «купить» или получить «в обмен» – вообще ничем нельзя обладать – ни чужим, ни своим. Да «своим» тут и не может быть ничто из того, что можно заработать и чем можно обладать – как бы парадоксально опять это ни звучало.
Парадокс, однако, еще и в том, что когда страдания действительно и неотвратимо выпадают нам в жизни, им в этой жизни не находится места. Чаще всего мы даже и не опознаем, не понимаем – в буквальном смысле этого слова: не можем «взять» – ситуацию как ситуацию страдания, что значит, конечно: не можем «взять» ее через и внутри со-ответствующего ей отклика на нее, не можем должным и всегда единственным образом на нее ответить – опять же, все из того же топоса свободы, то есть: любви.
Мы не можем открыться страданию, пойти ему навстречу, не можем пройти через него. Не можем даже встретиться с ним как с нашим страданием, что значит: со страданием вообще, ибо как феномен свободы, как то, что может рождаться только в топосах незаместимости, страдание может быть только нашим страданием – неразделимо нашим, но прежде: незаместимо, – а этого всегда еще нужно достичь!
Мы же «страдаем» чужими, «заемными», а потому, по Декарту, неподлинными, ненастоящими или даже, как он о том и говорит в письме, нереальными, фантомными страстями: «Ведь того, – пишет он Елизавете, – что вы принимаете за последнюю реальность своей жизни и истинную причину своих несчастий и страданий, на самом деле просто нет, не существует!»
Отчего, конечно, эти фантомные страдания не становятся менее мучительными. Но: пытка есть, непереносимая боль есть, а страдания, истинного страдания – как того, что открывает возможность опыта страдания, возможность извлечь опыт, – нет! «Если б ты знал страдание, ты бы уже не страдал!»
Истинный, духовный опыт страдания – а опыт, говорит Мераб Константинович, вообще можно извлечь только как духовный опыт! – опыт из той пытки, что с нами происходит, извлечь нельзя.
В этом месте нужно двигаться очень строго, как мы о том говорили, обсуждая тбилисскую лекцию Мераба Константиновича о психоанализе, когда нам пришлось не согласиться с Мерабом Константиновичем, всерьез и без оговорок полагавшим, что в психоанализе, внутри самой психоаналитической работы и благодаря ей создается возможность для «нового опыта сознания» пациента, опыта, который позволяет ему пройти через точку своего второго, духовного рождения.
Важно, конечно, подчеркнуть эти «внутри» и «благодаря». Вы помните, быть может, замечательную историю, как в дискуссии после моего выступления в парижском университете перед тамошними психоаналитиками один из них выразительно воскликнул: «Простите, но ведь психоаналитик – тоже человек!» Да, конечно: вне, независимо, а чаще даже – вопреки самой аналитической работе и с терапевтом, и с пациентом может произойти все что угодно.
Но собственно психоанализ – а Мераб Константинович имел тут в виду ортодоксальный фрейдовский психоанализ – как раз, напротив, если угодно, нацелен, установлен на то, чтобы во что бы то ни стало исключить возможность такого «нового опыта сознания», он ведется так, что такому опыту в психоанализе нет и не может быть места.
Если, конечно, говоря «новый опыт сознания», иметь в виду то понимание этого ключевого для Мераба Константиновича символа, которое реализуется им, положим, в «Лекциях о Прусте» или в тех же «Картезианских размышлениях»: если понимать опыт как то, что открывает возможность изменения, трансформации – радикальной или «катастрофической» трансформации, возможность «второго рождения»: в качестве свободного духовного существа, в качестве человека. Нельзя, не перечеркивая это понятие, говорить о «новом опыте сознания» в одном и том же смысле применительно как к Декарту или Прусту, так и к фрейдовскому психоанализу.
Все, что было сказано о страстях и страдании, можно повторить, как на то указывает и сам Мераб Константинович, также и по отношению к «норме» и «отклонению» или же по отношению к «здоровью» и «болезни» – опять же: в каком бы смысле мы их ни брали: физическом, психическом, нравственном и так далее.
Расхожее убеждение состоит тут в том, что для того, чтобы творить, нужно непременно отклоняться от нормы или даже просто быть больным, положим – психически больным, по крайней мере, «глубоким невротиком».
При этом, правда, не утруждают себя сколько-нибудь серьезными размышлениями о том, что это такое, каково происхождение тех представлений о норме и о здоровье, от которых «нужно» отклоняться, насколько они состоятельны в качестве таковых, насколько нормален так называемый – «среднестатистический» – «нормальный» человек, может ли этот «нормальный» человек быть «здоровым» и что в свою очередь могло бы означать тут «здоровье» и так далее. Быть здоровым для «интересного» человека – это «скандал»!
Нечто подобное имеет место и в психотерапии: у каждого пациента, или клиента, есть внутренняя проблема: быть «интересным» для терапевта – как, впрочем, и для других людей – в жизни, интересным благодаря своей болезни. Пациент держится за свою болезнь – и в жизни, и в рамках начатой психотерапевтической работы – помимо прочего потому, что боится, что если болезнь исчезнет, то терапевт потеряет всякий к нему интерес, что непонятно, о чем тогда говорить, чем тогда объяснить и оправдать – и для терапевта, и для других людей – необходимость его, терапевта, в нем участия (я не говорю о множестве других преимуществ, которые пациент извлекает, которых он может добиться только с помощью своей болезни и связанного с ней страдания, – словом, пациент знает им цену и дорого продает).
Болезнь пациента, его страдание – это особая его отметина, почти что – знак избранничества. Как часто и в случае художника или даже – как это, казалось бы, ни невероятно – мыслителя.
Страдание и болезнь оказываются одной из образующих образа, в котором он предъявляет себя и другим, и самому себе. Образа, на котором – словами Мераба Константиновича, которые вы сейчас услышите, – он «распинает» себя сам или позволяет распять себя другим, подталкивая и провоцируя их к этому. (Терапевты, надо сказать, зачастую весьма преуспевают в заколачивании гнутых гвоздей!)
Распинает себя всегда: «для того, чтобы…». Хотя, как мы говорили: это «для того, чтобы…» тут с самого начала «бесцельно» – оно не может достичь своей цели, ибо дело тут касается феноменов свободы. Но это также и излишне, ибо нет нужды искать это в жизни, поскольку жизнь каждого человека поставляет это в избытке. Когда бы только он был открыт ей, своей жизни. Когда бы он решился и если бы только смог жить своей жизнью, когда бы не был отделен от нее этими – ее и себя в ней – фантомными образами.
Образами, отделяющими его и от страдания – его страдания, которое не нужно искать, но от которого, напротив, нельзя уклониться, которое за и вместо него никто не может пережить и никто не может с ним разделить. В котором он абсолютно – не психологически, но метафизически – одинок, но также и свободен. И если бы только он мог «правильно» пройти через соответствующий опыт, извлечь его.
Размещая себя под фантомным образом себя, человек тем самым и свою жизнь располагает под знаком чужой и фантомной жизни – напомню наш разговор о дне смерти Фрейда: человек не только живет чужой, «заемной» жизнью, но даже и умирает чужой, «заемной» смертью! Он отделен от судьбы, от своего незаместимого призвания. И проблема не в том, чтобы «противостоять» судьбе и «выстоять» в этом противостоянии – не есть ли самая необходимость такого противостояния знак своего рода «одержания» человека не своей, чужой (или, строго говоря: ничьей, фантомной) судьбой? – но в том, чтобы впервые, быть может, с этой своей – то есть вообще – с судьбой соединиться и исполнить свое незаместимое и неразделимое предназначение.
Которое, конечно же, не следует представлять чем-то «предданным», но которое откликом на него «выслушивается» и впервые в жизнь «про-из-водится». Всего, что составляет реальность человеческой жизни, нужно еще, говорит Декарт, достичь, ко всему этому нужно еще найти дорогу и пройти, или, как предпочитает говорить Мераб Константинович: всему этому еще нужно «исправить пути» и дать вступить в нашу жизнь, дать этому в ней место. А что это за места, где этому – и нам! – есть место, всегда есть место и только там? Это и есть места свободы, картезианской свободы.М.М.: Я хотел бы сказать одну странную вещь, которая вам покажется странной и, может быть, даже своего рода богохульством, но я прошу вас правильно меня понять. Что есть вот в символе «распятия», крестового распятия, есть один оттенок, который у людей набожных исчезает, потому что они просто не осмеливаются это увидеть, а для философа – а я философ, а не набожный теолог, – а для философа эта мысль может открываться.
Символ «креста» есть ведь одновременно, кроме всего прочего, есть – «ирония» – конечно. Христос ведь распят, кроме всего прочего, я вам говорю, еще и на образе самого себя, то есть на образе того, что знали о нем окружающие, чего они от него ожидали и чего они от него требовали. Они требовали от него исцелений, требовали от него чудес, они его заперли в его же собственные поступки и мысли и ужасно обижались бы, если бы он вышел за рамки его же собственных поступков и мыслей, которые у них, окружающих, отразились, – они его заперли туда и распяли его на его собственном образе. А если человек захотел подумать что-нибудь другое, чем он думал до этого? – Нет, нельзя! Не выходи из образа! Хочешь пережить что-нибудь, поступить иначе – да нет! Не выходи из образа! Полили тебя драгоценнейшим благовонием – как же ты можешь позволить? Ты же – «Христос», ты же бедных должен спасать и лечить!
А он говорит: простите, подождите – я ведь уйду, а ваши «бедные» всегда с вами будут!
Я надеюсь, что вы помните эти сцены. Правда, недавно один великий представитель советской культуры, иммигрировавший, с гордостью признавался в том – потому что для него гораздо было важнее, чтобы его не обвинили в плагиате, чем оказаться… чем испытать стыд, что он вообще не читал евангелия, – что евангелия он прочитал – ему что-то шестьдесят с чем-то лет – только два года тому назад, а те мысли, о которых шла речь, это не важно какие, они пришли ему в голову гораздо раньше.
Живое, очевидно, тем-то и отличается от мертвого, что живое всегда может быть иным, то есть выскакивать… «слезать с креста» может живое.
Поэтому крест есть «ироническое» напоминание нам вот о том, что не надо загонять людей в их собственный образ, потому что этот образ – в наших головах, а загнав их в этот наш образ, мы их тем самым убиваем.
Но бывают культуры такие, или эпохи такие, или периоды такие, когда больше всего любят именно мертвых, поскольку они уже не могут выйти из своего образа и говорят все то, что мы говорим за них. И дерзости больше, или: иного – никогда не совершат.А.П.: «Распят на своем собственном образе», во-первых, означает тут, конечно: на том его, Христа, образе, который был, есть у людей, образе, которому, как они того хотят, он должен соответствовать, за пределы которого не должен выходить.
Если быть последовательным в продумывании декартовского понимания свободы, то следовало бы сказать, что в точках свободы вообще нет и не может быть никакого образа себя, – по крайней мере, в обычном его смысле и роли, образа, который бы предшествовал и предопределял соответствующее со-бытие как его «основание», как то, из чего бы событие проистекало.
И это потому, что мир, в котором оно имеет место, как говорит однажды Мераб Константинович, – это «мир, где ничего еще не случилось!» – поразительные своей немыслимой несомненностью слова, слова, не останавливающие нас и не повергающие в состояние шока только потому, что нашего воображения не достает здесь, чтобы взять их конкретно во всей полноте их прямого смысла и серьезности и продумать до конца все проистекающие из них следствия.
Выступая в свое время на вечере, посвященном Хлебникову, в дни его столетнего юбилея (стало быть, уже больше десяти лет назад), Ольга Александровна Седакова – сегодня, я думаю, быть может, самый значительный русский поэт, поэт, для которого, сказал бы я, и любая, самая смелая мерка не будет слишком большой, – среди уникальных черт хлебниковской поэзии назвала и ее абсолютную «безоглядность», полное отсутствие у Хлебникова какой бы то ни было оглядки на читателя, заботы о том, как его стихи будут поняты и будут ли они поняты вообще, отсутствие и даже невозможность в случае Хлебникова желания посмотреть на свои стихи «глазами читателя», встать на его место и тому подобное.
И нужно сказать, это действительно очень точно схваченная уникальная черта хлебниковской поэзии. Даже среди самых больших наших поэтов.
Известна выразительная отповедь Пастернака в ответ на восторженные слова, сказанные его другом Вильмонтом по прочтении «Тем и вариаций» – одной из самых замечательных поэтических книг Пастернака начала двадцатых годов. В ответ на совершенно искренние, конечно, уверения в том, что это лучшая пастернаковская книга, Пастернак воскликнул: «Ну, что Вы, Коля, тут меня доехало желание быть понятым!».
Пастернак понимает, что это желание является чем-то убийственным для поэзии, для творчества. Вот от этого-то желания «быть понятым», понятым «наверняка» или даже, быть может: «правильно понятым», желания, от которого, стало быть, в данном случае был не свободен даже Пастернак, по наблюдению Седаковой был абсолютно свободен Хлебников, свободен от стремления соответствовать каким бы то ни было ожиданиям читателей, свободен от вопроса: «а что они подумают?», свободен от всякого расчета, – вообще от чего бы то ни было внешнего самой поэзии.
Таковой, в понимании Декарта, должна быть, не может не быть и мысль, «тем более» – мысль. И именно об этом говорит здесь Мераб Константинович через этот свой «иронический» смысл образа распятия.
Конечно же, сам Христос в своем слове и действии был свободен и безосновен, – был свободен, стало быть, и от какого бы то ни было образа себя, в который он «загонял» бы себя и в котором по необходимости должен был бы выступать, и тем более был свободен от желания соответствовать ожиданиям других людей. Но люди были не свободны! И они распяли его на своем его образе.
Сам Христос был свободен – свободен, как Хлебников, или, если это вас шокирует, скажу: Хлебников, если только он вообще был свободен, был свободен, как Христос, и даже: был свободен свободой, которую открывает для каждого Христос, «отпуская» нас на свободу тем, что открывает своей заповедью любви – как мы говорили: особой, до того неизвестной и невозможной для человека, новой любви, которой, кроме всего прочего, «всегда есть место!» – открывает для каждого и из всякого его положения возможность пройти в точку своей незаместимости, возможность, стало быть, вступить в событие, которое всегда – со-бытие-ему, событие, в котором я обретаю его в живом – втором – присутствии мне как мое Ты. Человек – коль скоро он вообще свободен – действительно свободен, как Христос, ибо свободен в со-бытии ему. Со свободой, стало быть, как со «свежестью» – «второй», «второго сорта» не бывает! Она – или есть, или ее нету, – всегда, конечно – событийно. Вот и все.Стоит только чуть дальше продумать то, что говорит здесь Мераб Константинович, чтобы понять, что это вовсе не что-то само собой разумеющееся, очевидное, а тем более банальное.
Разве наше представление о боге – которое, казалось бы, никак не задевают и не ставят под вопрос эти слова Мераба Константиновича, – разве оно не предполагает, не подразумевает – как само собой разумеющееся и даже единственно возможное и допустимое – раз и навсегда неизменность, равенство самим себе тех истин, которые были однажды им высказаны, возвещенных им однажды откровений?
И разве «правильное» понимание сказанного не требует установления границ, за которые нельзя выходить в рамках этого понимания?
И если спросить, как это по сути и делает тут Мераб Константинович: простите, но если бы Христос пришел к нам сейчас, мог ли бы он сказать что-то новое? «Новое», то есть не просто то, что он не сказал тогда, положим, потому, что просто не успел сказать, ведь время его земной жизни было конечно и кратко, и даже – не просто то, что «невыводимо» (как мы о том говорили) из всего, что он-таки сказал и что известно нам по дошедшим до нас его «речениям». «Новое», действительно новое – это, прежде всего, быть может – нечто, прежде абсолютно невозможное, «немыслимое».
В данном случае это, положим, нечто противоречащее сказанному прежде, с ним несовместимое или даже, быть может, нечто прямо его собой «отменяющее».
Уже просто не включенное традицией в корпус канонических текстов Нового завета – апокрифы – должно быть поставлено под подозрение или даже решительно отвергнуто в качестве возможного слова Христа, тем паче – то, что не укладывается с очевидностью в рамки надежно, строго, доказательно выводимого из этого канона, и уж, конечно, все то, что открыто противоречит ему и оказывается с ним несовместимым – будь то с отдельными его текстами или «с его общим духом», положим, опять же: с установившимся на основе канонических текстов, их чтения и освященной авторитетными именами интерпретации, образом самого Христа, – отвергнутого как ересь, как лжеучение или даже, быть может, как слово антихриста!
Раз однажды истина была сказана, откровение возвещено, то дальше оно должно уже пребывать себе равным, оставаться неизменным – в виде канонического текста.
Канонизируются ведь и становятся той «печкой», от которой должны теперь впредь «танцевать» и люди и даже сам бог, – тексты!
Истина, откровение сказаны – раз и навсегда и полностью. Истина – окончательна, неизменна, и она – завершена, полна.
И все, что претендует теперь на истинность, должно быть отныне с этой однажды установленной истиной соотнесено. Как соотнесено? – Через все то же «сведение-выведение».
Знаньевое, по сути дела, всегда, то есть – опирающееся на предварительные интерпретации и знаньевые реконструкции – самих ли текстов и их смыслов или же построенных на их основе общих теоретических и онтологических картин, включая и образ «автора» – того, «кто говорит». Через «сведение-выведение», то есть, по сути дела – отождествление, предполагающее возможность непрерывного перехода внутри некоего смыслового пространства с наперед фиксированными границами. Пространства, допускающего свою обозримостъ, возможность его «просматривания» из одной точки во всех направлениях, то есть, иначе говоря, предполагающего – словами Мераба Константиновича – позицию некоего «абсолютного наблюдателя».
Только то, что можно свести к истинам канонических текстов или из них вывести, может в свою очередь также претендовать на истинность. Разве не так?
А Мераб Константинович – вслед за Декартом – говорит, по сути: простите, но, может быть, как раз наоборот: на «истинность» может претендовать только то, что является «неслыханным» – неслыханным не только в смысле неизвестности этого прежде, но прежде всего: невозможности, «немыслимости». Только то, что с точки зрения всего, что известно в качестве истины, – так можно было бы в виде своеобразной максимы сформулировать эту мысль, – является абсолютно, безусловно немыслимым, невозможным, – только это еще и может претендовать на то, чтобы оказаться истиной!
Иначе говоря, в каждом действительном акте, или событии, собственно мысли, на каждом своем шаге и каждый раз заново, проходя через точку тотальной своей «катастрофы» – в математическом смысле, в смысле современной теории катастроф, – то есть проходя через точку абсолютного разрыва (пространство опытов мысли – дискретно, дис-континуально), мысль не только восстанавливает самую свою возможность в ситуации абсолютной ее невозможности, в буквальном смысле – «немыслимости» (а в такой ситуации своей невозможности, как мы о том уже говорили, только и возможна мысль, рождение мысли), – каждое событие мысли, по сути дела, также и заново дает ответ на вопрос: что есть мысль, что такое мысль, коль скоро она «имеет место», – ответ, всегда радикально, также «катастрофически» изменяющий ее, самой этой мысли, понимание.
Ответ, выводящий мысль за границы того, что считалось мыслью прежде, размещающий ее «по ту сторону» этих границ – там, где прежде начиналась уже «не-мысль», то, что прежде нельзя было считать, называть «мыслью», что лежало за пределами мысли.
Больше того, если последовательно, до конца держаться того понимания мысли, которое через свои картезианские медитации устанавливает Мераб Константинович, то следовало бы сказать, что, по сути дела, каждое событие мысли – это такой ответ на вопрос: что такое мысль, который располагает себя «по ту сторону» всех и всяких границ, ибо самый вопрос о границах, которые не должна переступать мысль, чтобы вообще оставаться мыслью, – то есть основной вопрос трансцендентальной, или кантовской, критики мысли (хотя лучше осторожней было бы сказать: «кантианской» критики, то есть соотносимой с определенной интерпретацией или, опять же: «образом» Канта, на котором эта интерпретация «распинает» живую кантовскую мысль – в чем можно будет убедиться, когда, наконец, выйдут мерабовские лекции о Канте) – самый этот вопрос исходит из такого понимания мысли, которое мыслью самого Мераба Константиновича (а как он пытается показать: и мыслью Декарта) как раз решительно преодолевается!
Можно было бы сказать, апеллируя опять же к недавнему разговору о Фуко, в рамках которого я пытался разъяснить его понимание «генеалогии», что Мераб Константинович движется тут во многом в рамках «генеалогического» чтения Декарта, или «генеалогической критики» разума (или мысли), реализуя при этом и соответствующее понимание самой мысли. А каждому типу «критики» соответствует вполне определенное понимание самой мысли, и понимание, не внешним образом относящееся к самой этой мысли, но то, что участвует в самом «вы-ведении» соответствующего типа мысли «на свет», обеспечивает приведение ее к существованию.
«Генеалогической» критике (в противовес «трансцендентальной») соответствует как раз такое понимание мысли – и прежде всего: самой, выполняющей эту критику, мысли, – когда вопрос «быть или не быть» мысли упирается не в выяснение границ, которые эта мысль не должна переступать, чтобы не совершать «пре-ступления» против мысли, чтобы быть мыслью, но, напротив: раскрытие для мысли возможности быть иной, – предполагает, стало быть, такой анализ ее пределов, который позволял бы мысли их преодолевать, становиться по отношению к ним свободной.
Мысль, говорит Фуко, это работа мысли над собой, раскрывающая для нее возможность быть иной, – быть иной, чтобы быть со-временной, то есть способной откликнуться на уникальную ситуацию, выслушивая в преходящем непреходящее – «настоящее», быть откликом на него, достигать реальности.
Быть мыслью – а для мысли это значит, конечно, вообще: быть, – быть мыслью всегда значит для мысли: переступать свои собственные пределы и даже, как я говорил, искать возможность быть свободной – свободной не от каких-нибудь конкретных пределов, но по отношению ко всякому пределу, пределу как таковому, по отношению ко всякому ее «внешнему» о-пределиванию. «Быть» для мысли – значит искать возможности «быть иной», а не «всегда себе равной».
Все, что было сказано о «мысли», только более буквально, можно было бы сказать также и в отношение «человека», вскрывая тем самым, быть может, тот генеалогический исток или ту исходную – правовую, властную – ситуацию, по отношению к которой соответствующий тип мысли первоначально и сложился.
Традиционный способ вопрошания о человеке предполагает установление границ, которые человек не должен пре-ступать, чтобы не совершать «пре-ступления» (против своей «человечности») и, тем самым, оставаться человеком, – предполагает, стало быть, возможность «естественного» – вне и без вновь и вновь возобновляемого усилия – его дления, пребывания.
Самое наше представление о боге как о «совершенном существе», говорит тут по сути Мераб Константинович, должно быть поставлено под вопрос, коль скоро в соответствии с ним, вместе с утверждением обычного ряда «совершенств» – таких, положим, как всемогущество или всеведение, всезнание и проистекающая из этого способность высказать полную и окончательную истину, – вместе с тем и тем самым мы по существу отказываем богу в возможности сказать или сделать что-то новое! Не нам сказать и не для нас сделать, но – вообще или, можно было бы сказать – для себя новое. За человеком – художником, поэтом, философом даже мы такую возможность признаем, оставляем, причем не в субъективно-психологическом только, но именно в бытийном, в метафизическом смысле, но богу – и именно в силу его абсолютного совершенства – мы в этой возможности отказываем. Странно, не правда ли?
Не есть ли это опять все то же наше его, бога, «распятие» на нашем его образе? Пусть как будто бы и извлеченном из всего того, что он сказал. Есть образ Христа, извлеченный – «реконструированный» – из того, что он сам сказал, или из того, что о нем сказали в канонических текстах, и теперь все, что мы можем услышать или увидеть, мы соотносим с этим нашим его образом. В частности, относительно него мы оцениваем на истинность и ложность или, положим, на «аутентичность» – на принадлежность новонайденного или просто претендующего на это текста или отдельного высказывания – Христу.
Такой, извлеченный из текстов писания или, выражаясь яснее и честнее, «реконструированный» образ Христа, пусть бы и со всей возможной сегодня методической основательностью, оснащенностью, изощренностью и строгостью – и даже: чем в большей мере, тем с большей очевидностью, – есть образ, стоящий «за» и «после» самих текстов, скажем, текстов евангелия. Тогда как, если в одной краткой формуле резюмировать сказанное прежде, можно было бы сказать: Христос впереди евангелия! «Христос впереди евангелия» – в том смысле, что он из текстов евангелий не «выводим», равно как к ним не сводим: он – как и человек, со-бытийно стоящий перед ним, – не завершен, он всегда может сказать новое и даже, строго говоря: он всегда говорит, только и может говорить нечто абсолютно новое (опять же, прямо по своему же слову: «се, творю все новое!»).
Все эти рассуждения имеют, конечно же, не теологический, но символический характер: они есть только способ на этих «предельных», как выражался Мераб Константинович, предметах, «запределивая» мысль, попытаться «вывести» в нее в символической форме и так продумать вопросы, относящиеся к самой мысли, к ее существу. Способ сказать нечто существенное о нашей мысли и о нашем действии – «о» и «для».
Как соотносится, может соотноситься со сказанным в евангелии то, что говорится потом, говорится сейчас – причем именно и, быть может даже, прежде всего в тех случаях, когда это не есть попытка прямого «продолжения» – в той или иной форме интерпретации – сказанного там (что обычно имеют в виду, говоря о «религиозном» или «духовном» искусстве или о «религиозной» и «духовной» мысли, в частности – философии)?
Скажем, у Баха есть мессы, есть «страсти», есть собственно «духовные» кантаты, прямо предназначавшиеся для исполнения в храме и звучавшие там, а есть «Музыкальное приношение» или «Искусство фуги». Яснее это можно сказать, пожалуй, взяв не Баха, а Бетховена (у Бетховена тоже есть собственно «духовные» сочинения: «Высокая месса» или «Христос на Масличной горе», но как раз они являются вторичными по отношению к традиционным каноническим схемам, готовым смыслам) или, быть может, даже – не Бетховена, а Брукнера (последний – как Ван Гог, как Гельдерлин или Тракль – был «душевнобольным», и это обстоятельство заставляет вопрос о «духовном значении» или «духовном достоинстве» искусства и творчества вообще ставить со всей остротой и ясностью).
Можно ли допустить – в принципе! – хотя следовало бы настаивать на этом с предельной серьезностью, – что, положим, адажио ре-минорной бетховенской симфонии – сочинения сугубо светского, во-первых, и бетховенского, во-вторых, – а человеческий облик Бетховена для некоторых строгих судей от христианства оказывается весьма сомнительного свойства, – можно ли допустить, тем не менее, что это бетховенское сочинение несет «послание», которое по своему духовному содержанию есть не больше не меньше как «продолжение» христова откровения?!
То же самое можно было бы сказать и так: эта бетховенская музыка – могла бы она быть тем словом, которое мог бы сказать нам Христос, если бы он пришел к нам сегодня? Вопрос, который кажется не просто «странным», но кощунственным: «Как это? Не нужно путать одно с другим! Все слова, сказанные Христом, записаны в евангелиях. Все они уже давно и раз и навсегда сказаны. Вообще все уже сказано, откровение закончено, и оно нам дано» и т. д. и т. п.
А почему, собственно? Откуда это взяли? Почему так решили? В тех же евангелиях ведь сказано и о втором присутствии Христа и, между прочим, именно с ним, с этим вторым присутствием, с возможностью со-бытия нам Христа соотносится там новое понимание самого «духа» и «духовного». И все «быть или не быть» искусству – искусству, взыскующего духовность (равно как собственно и – мысли), зависит, стало быть, от того, допускаем мы или нет возможность непосредственного здесь-и-теперь, со-бытийного – второго – присутствия Христа, или, как сказал бы современный теолог: «керигмы», христова провозвестия в самом про-из-ведении искусства или мысли – в акте творчества. А это – так, и не иначе! Если только мы действительно всерьез хотим говорить о «духовном» в христианском смысле этого слова – в смысле слов самого Христа.
И критически важным оказывается при этом то, что весть, керигма, непосредственно присутствующая в произведении искусства или в мысли – и именно как христово провозвестие, в качестве такового, дабы быть таковым: христовым провозвестием, – должна быть, не может не быть именно новой! – в том строгом и радикальном смысле этого слова, о котором мы говорили раньше.
В этом смысле «Симфония для четырех валторн» Бетховена или «Красные виноградники» – обратите внимание, этого «сумасшедшего»! – Ван Гога, гимн – такого же сумасшедшего – Гельдерлина или жуткие «120 дней Содома» этого «извращенца» Пазолини, наконец, «Метафизические размышления» Декарта или «Лекции о Прусте» Мераба Константиновича – все это может быть «продолжением» христова откровения, «продолжением», выслушанным каждым из этих людей в своем незаместимом месте, высказанным из той точки свободы, откуда оно только и может быть сказано.
И, между прочим: то, что здесь может сказать Бетховен, Ван Гог или тот же Мераб Константинович – если только они действительно попадают в эти свои точки незаместимости и свободы, – этого не мог знать наперед даже бог! «За» них, «вместо» них, «без» них. Вы-водимое каждым из них в мир откровение оказывается каким-то «космическим» или, быть может, лучше сказать: «историческим» событием – оно в мир и может войти только вот через этого – незаместимого и ни с кем не могущего разделить своего призвания – человека.
Но вместе с тем это откровение и будет – и только оно и может быть – «продолжением» христова откровения, «продолженным откровением» – а откровение всегда есть «продолженное откровение».
И только из этой точки – здесь-и-теперь происходящего со-бытия откровения – я и могу «прочитать» откровение, записанное в евангелии, – всегда уже только «из-отсюда»! В этом смысле всякое откровение – это «утраченное откровение» (поразительные слова об этом еще одного безумца – Ницше – Мераб Константинович приводит в лекции о метафизике Арто), «утраченное» и вновь «обретенное» – каждый раз заново и новое, чтобы быть все тем же и одним. Тут вступает новая мерабовская тема: тема «Пруст» – так ее можно было бы назвать, а нам приходится остановиться.
Несколько камней для сада Дерека Джармена. Генеалогия сексуальности Мишеля Фуко и проблема нормы в психологии [140]
Гомосексуал не потому «ненормален», что отличается от гетеросексуала, но как раз потому, что ничем не отличается от него.
Мишель Фуко
Все последующее рассуждение будет развертываться в рамках «критики психологии», или «критики психологического разума», то есть в рамках критической проработки представлений и самого способа мышления, бытующих в психологии и в психопрактике. Точнее, следовало бы говорить «во множественном числе»: в рамках критик психологии, ибо их – по крайней мере три.
Первая – это критика «естественнонаучного разума» в психологии, естественнонаучной парадигмы исследования в психологии и ориентирующихся на нее форм психологии в составе психопрактик (подобных, положим, той же фрейдовской «метапсихологии»).
Вторая – это критика «психотехнического разума», психотехнической парадигмы, которая в последнее время все больше утверждается не только внутри разного рода психотехнических практик, прежде всего – в психотерапии, но также и как парадигма исследования в психологии.
Эти первые две «критики» сегодня не требуют уже особых разъяснений.
На третьей «критике», которую можно было бы назвать критикой «исторического разума», следует остановиться более подробно. Это – критика самой идеи истории, как она реализуется в рамках «истории психологии» по отношению к психологии, но также и – даже, быть может, прежде всего – как она реализуется внутри самой психологии, в ее понимании тех феноменов психической жизни человека, его сознания и личности, с которыми, собственно, психология и различные психотехнические практики и имеют дело. Потому как сами эти феномены сущностно историчны.
В этом плане можно реконструировать и критически продумывать то понимание «истории» и «исторического» вообще, которое уже налично в психологии и в практиках (точнее: которое «стоит за» ними, ибо оно, как правило, не эксплицировано), демонстрируя несостоятельность этих, уже наличных, бытующих в психологии форм «исторического разума». Несостоятельность не только перед лицом реального опыта истории, или: опыта реальной истории, которым располагают психология и психопрактики и который, в силу этого, как таковой (как опыт истории) не может быть извлечен, но – несостоятельность также и с точки зрения того понимания «истории» и «исторического», который завоеван современной исторической и философской мыслью, равно как и – с точки зрения современной «методологии» исторической работы (слово «методология» приходится брать тут в кавычки, пока без разъяснения причин).
А далее через эту критику можно пытаться нащупывать новое – и с точки зрения мышления, бытующего в современной психологии, во многих отношениях парадоксальное – понимание «исторического», сути исторической работы и самых форм исторической мысли, – понимание, которое не только позволяло бы полноценно извлекать уже реально присутствующий в психологии и психотехнических практиках исторический опыт, но – что, быть может, еще более важно – открывало бы возможность для опыта нового. «Нового» значит здесь: не только неизвестного ранее и из прежнего опыта невыводимого, но также и прежде невозможного (невозможного, кроме прочего – без и вне этого его «извлечения»). «Нового» и «исторического» здесь, стало быть, тоже – в новом, «немыслимом» прежде смысле.
Следует подчеркнуть радикальное различие этих двух типов понимания «исторического», по одну сторону помещая все те различные понимания исторического, которые уже бытуют в современной психологии, даже если иметь в виду самые «продвинутые» в этом отношении образцы, положим, ту же так называемую «культурно-историческую» психологию, а по другую – то новое понимание «исторического», которое еще только должно установиться в психологии, еще только должно быть усвоено психологической мыслью, что предполагает основательную критическую проработку этой мысли и ее радикальную трансформацию.
«Усвоено» – если полагать, что соответствующие образцы и прототипы его по крупному счету уже найдены современной мыслью – положим, в философии, в работах, скажем, Хайдеггера, Мамардашвили или того же Фуко. Возможно, однако, что это новое, должное прийти в психологию понимание исторического – через чтение и продумывание работ этих мыслителей, продумывание ввиду ситуации, сложившейся в современной психологии и в различных психопрактиках, – вообще впервые только еще и должно быть установлено.
Я сказал чуть раньше: «так называемую» культурно-историческую психологию, и это, должно быть, не могло не удивить. Действительно: разве эта – по крайней мере эта – психология не реализует действительно исторический взгляд на человека, и разве в ее случае – уж в ее-то случае – мы не можем говорить это слово «исторический» всерьез, без оговорок, не беря его в кавычки? Если уж не в ее случае, то в каком же тогда другом?
Парадокс, однако, – и для психологов, выпестованных в традициях этой школы, парадокс, должно быть, особенно невероятный, – состоит в том, что и в этой (повторю: так называемой «культурно-исторической») психологии нет сколько-нибудь разработанных представлений об «истории» и «историческом» – таких представлений, которые можно было бы в качестве таковых всерьез принимать сегодня.
И не только – «разработанных», но – никаких!
В одних случаях понятие «истории», по существу, не отличается от понятия «развития» (если только тут вообще есть понятие «развития»), в других же – как, скажем, в известном сочетании «история развития…» – слово «история» вообще означает не больше, чем просто «картина».
Больше того, можно было бы показать, что в «культурно-исторической» психологии не только нет идеи и разработанных представлений «истории», тем паче – образцов исторического анализа, но что современному пониманию «истории» и действительно «историческим» формам мысли в ней просто нет и не может быть места! Что они «выталкиваются» ею, как водой – масло.
Можно было бы показать, скажем, что самая идея «развития» высших психических функций, как она сформулирована в культурно-исторической теории, с идеей «истории» – в современном ее понимании – просто несовместима.
Иначе говоря, то понимание «истории» и «исторического», которые можно реконструировать в рамках «культурно-исторической» психологии (положим, отправляясь от реализуемого тут понимания «развития»), не выдерживает никакой критики с точки зрения современной исторической мысли, с точки зрения современного понимания истории; и наоборот: для «истории» и «исторического» – в строгом и современном смысле слова – в рамках культурно-исторической психологии нет и не может быть места!
Когда такого рода речи я позволил себе в свое время произнести перед почтенным психологическим сообществом – в рамках первого своего выступления на Международном конгрессе, посвященном столетию со дня рождения Выготского, – я почувствовал в публике явное замешательство. Оно вроде бы и понятно: услышать такое – вообще, да еще – на «солидной» международной конференции, посвященной юбилею создателя культурно-исторической теории, услышать, наконец, такое от меня – «отъявленного апологета» Выготского, – было от чего поднять уши, а подняв – им не поверить!
Но!
Но, во-первых, не в той ли «вызывающе апологетичной» книжке о Выготском, вышедшей десять лет назад, не только прямо уже было сказано обо всем этом, не только была предпринята попытка указать на причины этого и на последствия, проистекающие из этого для современной психологии, но и были намечены пути для движения психологии в сторону действительно исторической мысли?
И разве, во-вторых, серьезная конференция, посвященная творчеству, делу жизни одного из самых выдающихся мыслителей в истории психологии, – разве она должна быть благообразными поминками по мертвецу, а не попыткой так читать и понимать Выготского, так размышлять о сделанном им, чтобы этим чтением, этой своей мыслью о нем открывать для Выготского возможность сегодня – и всерьез – стать нашим собеседником в обсуждении нашей нынешней ситуации, в формулировке и продумывании наших сегодняшних – и самых критических – проблем?
И, наконец, главное: если все действительно так и есть и если только психология не на словах, но на деле хочет быть исторической дисциплиной – в серьезном и современном смысле этого слова, – разве первое для нее дело не состоит в том, чтобы со всей прямотой и ясностью отдать себе во всем этом отчет, принять и понять это и – исходя из этого понимания – попытаться продумать свою нынешнюю ситуацию и пути своего развития?!
Опыт преподавания убеждает в том, что новое поколение психологов в гораздо большей степени открыто для прямого критического разговора о самых острых проблемах нашей науки, и, обращаясь к ним, нет нужды говорить с оглядкой, а можно держаться существа дела, проводя эту первую линию рассуждения – линию методологической критики (или: критик, поскольку их оказывается – три) психологии, линию критики естественнонаучного, психотехнического и исторического «разума» в ней.
Критика эта, однако, особого рода. Ее особенность определяется установкой на «генеалогический» анализ психологической мысли и психопрактик. Это – установка (как разъясняет свою идею Мишель Фуко) на такую историко-критическую («археологическую») проработку тех или иных феноменов, на такой их анализ, который позволял бы внутри и через него снова и снова изыскивать возможность для работы со своей собственной, то есть с самой – ведущей этот анализ – мыслью.
Как вести методологический анализ, историко-критическую проработку тех или иных психологических представлений и различных форм практической работы так, чтобы внутри и благодаря этому анализу ведущая его «методологическая» мысль сама получала «импульсы» к изменению, приходила в движение, продвигалась вперед?
И вот тут-то и приходится заметить, что само слово «методология» при этом, как это ни странно, следовало бы брать в кавычки.
Поскольку для обычных, «нормальных» форм методологической работы, методологического анализа эта «генеалогическая» установка не только не является чем-то само собой разумеющимся, но оказывается, по существу, чем-то противоестественным, несовместимым с самой идей «методологии».
Обычная, «нормальная» методология, в частности – «методология науки», даже в лучших ее современных образцах (причем, вроде бы, по самой своей идее, в качестве условия своего существования) имеет прямо противоположную установку: методологическое мышление в ходе анализа своего «объекта» с необходимостью должно оставаться неизменным, всегда себе равным, не должно меняться.
Разве не с этим, собственно, связана самая идея «метода»? Ибо о каком же вообще «методе» можно говорить, коль скоро ведущая анализ мысль – в ходе этого анализа, на каждом его шаге – сама беспрерывно меняется, тем более – радикально, «катастрофически» меняется?!
К этой теме мы еще вернемся в самом конце нашего движения.
Итак, линия «генеалогии» (линия работы мысли, ведущей анализ психологии, над собой) – это вторая линия нашего движения.
А третья линия, которая по отношению к первым двум выступает особым способом их проведения, способом особой артикуляции и продумывания возникающих внутри первых двух линий движения вопросов, – это линия «чтения философии» (главным образом – современной философии), чтения «избранных мест» из работ современных философов.
«Генеалогическая критика» психологии, стало быть, будет выполняться нами через и в форме «чтения» – разбора и интерпретации – ряда мыслительных текстов, то есть в форме особого рода «герменевтики».
Внутри этой линии «чтения философии» мы обратимся, в первую очередь, к работам Мишеля Фуко, и прежде всего – к текстам, в которых разрабатывается одна из сквозных и центральных тем его мысли: тема «критики субъекта». В них эта тема продумывается Фуко в форме конкретной генеалогической критики феномена «человека желания», или «человека желающего», понимаемого им, как мы увидим, не столько в смысле особой исторической конституции человека, сколько в смысле особого сущностного «определения» человека, «человека как такового» – наподобие того, как его можно привычным образом определять, скажем, как «человека разумного», или как «человека производящего», или как-то еще.
Можно показать – апеллируя не только к очевидностям обыденного сознания, но также и к базовым представлениям, характерным для собственно психологического видения человека, для психологического мышления о нем, равно как и к «опытам о человеке», существующим в психопрактике, в разных ее направлениях (как классических, так и современных), – что взгляд на человека как на «человека желающего», как на «субъекта желания» не только является отправной точкой в разработке самых разных отдельных тем и проблем психологии, положим – психологии мотивации (что само уже кладется затем в основание разработки всех других тем и проблем, и не только в рамках доминирующей в отечественной психологии «теории деятельности»), но что такой взгляд на человека конституирует психологическую мысль о нем как таковую, является тем, с чем всякая психологическая мысль о человеке сегодня, и даже (если иметь в виду тот неизгладимый отпечаток, который наложил на нее – включая и те направления, которые, казалось бы, стоят к нему в оппозиции, – психоанализ): особенно сегодня! – с чем психологическая мысль «стоит и падает».
Нащупывая подступы к этой теме критики «человека желающего» и, стало быть, к чтению Фуко, мы воспользуемся некоторыми ходами мысли Доминика Фернандеса в его книжке об Эйзенштейне. Книжка эта во многом спорная – и в том, что касается интерпретации отдельных сторон и моментов творчества Эйзенштейна и даже корректности обращения с фактами – фактами его биографии (у нас еще будет повод сказать об этом), и в том, что касается общей ориентации этого, по крупному счету – психоаналитического, этюда.
Тем интересней отметить один важный ход Фернандеса в самом конце его книги, где он говорит о неоднозначности последствий собственной – самого Эйзенштейна – попытки самопонимания и разрешения своих психологических конфликтов с помощью психоанализа, то есть, в данном случае, самоанализа.
А следует сказать, что Эйзенштейн не только основательно знал современный ему психоанализ, но и владел им. Владел настолько, что своими конкретными опытами анализа искусства, художественного творчества – как других художников (можно указать, к примеру, на блестящий эйзенштейновский анализ Пиранези), так и своего собственного, – этими своими опытами анализа творчества (как, впрочем, и опытами анализа своей личности, своих собственных психологических проблем, включая и те, о которых ведет речь в своей книге Фернандес) Эйзенштейн, бесспорно, мог бы «дать фору» любому, самому крупному психоаналитику.
Важно при этом: анализа не только «ретро-», но и «про-спективного».
Поскольку даже тогда, когда по форме, по своему прямому и внешнему содержанию это, вроде бы, и был анализ уже готовых и даже чужих вещей искусства, то по своему внутреннему, часто косвенному, но действительному содержанию, по своему положению относительно его собственного творчества и своему значению для него – это есть всегда анализ, внутренне и по сути нацеленный не столько на понимание уже готовых вещей искусства и уже свершившихся (безразлично – своих или чужих) актов творчества, сколько – на понимание текущего, здесь и сейчас происходящего – и всегда своего! – творчества. Анализ поэтому, ориентированный всегда не столько на внешнее этому творчеству его «объяснение», сколько на то, чтобы открывать этому творчеству “дорогу”, его «высвобождать», позволять ему развертываться. Анализ, ориентированный, стало быть, не столько уже даже на «понимание творчества», сколько на «понимание “для” творчества», – анализ, «включенный в» творчество, обеспечивающий его, выполняемый художником для решения своих собственных, актуальных здесь-и-теперь творческих задач.
Так вот, говоря о неоднозначности последствий предпринятого Эйзенштейном самоанализа, Фернандес – пока в полном согласии с точкой зрения самого психоанализа, с точкой зрения Фрейда (в «прогрессивной», как выражается Фернандес, Фрейда «части») – отмечает прежде всего бесспорный и чрезвычайно важный «позитивный» – «освобождающий» – результат этого самоанализа.
Вскрывая смысл – «исторический» или «генеалогический» (в психоаналитическом, фрейдовском понимании этих слов) смысл всяких, в том числе и «отклоняющихся» (в данном случае – «гомосексуальных») форм психической жизни человека и соответствующей его психической конституции, то есть «прослеживая» их психогенез, как правило, уводящий – как к их истокам – к событиям далекого прошлого пациента, вплоть до событий его раннего детства, то есть интерпретируя «смысл» наличного у взрослого человека психологического феномена в терминах так представляемого процесса его образования, или «происхождения», – психоанализ, тем самым, «переписывает» этот смысл в терминах событий, за которые человек уже не несет, не может и потому не должен нести никакой, в том числе и нравственной, ответственности.
Не должен – не потому даже, что это, положим, такие – происходившие в детстве человека, происходившие, стало быть, с ним как с ребенком – события, ответственность за которые, как правило, должен нести не он сам, но скорее другие, взрослые люди, чаще всего его родители, – но также (и, быть может, прежде всего) потому, что события эти (по своему внутреннему для человека – для ребенка – смыслу, по смыслу, который эти события имели и, вообще, только и могли иметь тогда, когда они происходили) оказываются такими, по отношению к которым вообще неприменимы нравственные оценки, во всяком случае – нечто «вменяющие в вину» человеку оценки.
Психоанализ тем самым, говорит Фернандес, «выводит» человека из-под нравственного суда (или – само-суда!), «избавляет» его от проистекающего из этого «чувства вины» и – в этом отношении и смысле – его «освобождает».
Отметив вначале этот позитивный, имевший место и в случае Эйзенштейна, результат его самоанализа, Фернандес затем (и именно этот его ход сейчас важен!) – уже в противовес точке зрения психоанализа, в противовес, как выражается Фернандес, «косной», «консервативной» или даже: «реакционной части» Фрейда, реакционной стороне его мысли, которой Фрейд был обязан просто тому обстоятельству, что и он (как и все) был только человеком своего времени, вместе с другими некритически разделявшим множество (часто ему выгодных, а ныне очевидных) предрассудков обыденного (равно как и профессионального, корпоративного) сознания, – в противовес всему этому Фернандес предпринимает попытку наметить и утвердить во многом альтернативный взгляд на гомосексуальность: взгляд, радикально проблематизирующий, прежде всего, негласно стоящее за всем психоаналитическим подходом к феномену «гомосексуальности» представление о «норме» – ближайшим образом: о норме сексуальной жизни человека, но также – о норме его психической и личностной, в том числе и нравственной, конституции вообще.
Действительно, «несмотря на» все сказанное о «позитивной» стороне психоанализа гомосексуальности, психоанализ берет гомосексуальность не иначе как «перверсию»: с внутренней, психологической стороны – как «аномалию» (то есть как «а-но(р)малию») психического развития, как его, этого психического развития, патологический случай, и рассматривает гомосексуальную психическую конституцию как результат «патогенеза», а в плане внешнем, социальном – как феномен «отклоняющегося», «а-социального» поведения.
Отсюда, собственно, и проистекает практическая – как именно «терапевтическая» – установка психоанализа по отношению к человеку с гомосексуальной ориентацией. То есть установка не просто на «помощь» в разрешении его проблем, но именно – на «лечение», установка по отношению к нему как к «пациенту».
Если здесь и идет речь об «освобождении», то не в смысле достижения свободы «по отношению к» принятым человеком и допускающим сохранение формам жизни, – но всегда в смысле «освобождении от» его прежних, «неправильных», «отклоняющихся» установок, от его «аномальной» психической конституции. Об освобождении, стало быть, всегда в смысле «искоренения» ненормальных форм жизни или их трансформации в сторону «нормы», то есть – об их «нормализации». Иначе говоря, в психоанализе речь идет о «лечении» пациента как о приведении его к «норме» – к «правильной» его психической конституции и, соответственно, к «правильной» сексуальной ориентации и к «правильным» формам поведения или интимной жизни.
И важно сказать, что это действительно оказывается только другой стороной «того же» психоанализа – только другой, «оборотной» стороной одного подхода, одного взгляда, одного способа думать о гомосексуальности и иметь дело с ней.
Итак, психоанализ берет гомосексуальность как «а-но(р)малию», так представляет ее в теории «патогенеза» и, соответственно, так – как с «патологией» – имеет с ней дело в своей терапевтической практике.
А на каком, собственно, основании?!
Вот тут-то Фернандес и пытается проблематизировать точку зрения психоанализа. Он пытается сказать, что: никаких серьезных, тем более – своих собственных, внутренних для психоанализа – оснований; ничего, кроме некритически принятых Фрейдом в качестве чего-то «несомненного», а в действительности – весьма сомнительных по своему происхождению расхожих вмененностей обыденного сознания; ничего, кроме непродуманных, критически не проработанных (а может быть, даже – до конца и не опознанных) темных «очевидностей» (а по сути дела – очевидных предрассудков!) обыденного сознания; ничего, кроме – как сказал бы другой, ныне немодный мыслитель – «желтых логарифмов» сознания, то есть мифологем, идеологем обыденного сознания; ничего, кроме этого, и никаких других, кроме этих, с позволения сказать, «оснований» для принятых психоанализом представлений о «норме» у него (психоанализа) нет, а по существу, как мы увидим, – и быть не может!
Представлений, между прочим, – как можно было бы показать, – удобных и выгодных для «анализируемого» (казалось бы, этим анализом «разоблачаемого») обыденного сознания. И более того (как следовало бы заметить, забегая вперед и выходя уже за рамки критики психоанализа, намечаемой Фернандесом): таких представлений, принимая которые это сознание (быть может, вопреки своему явному намерению), а вслед за ним и психоанализ (опять же – вопреки провозглашаемым им, «фасадным» лозунгам) вступают в тайный сговор как раз с теми силами и инстанциями общества, которые эти представления и индуцируют, «встраивая» это сознание в свои стратегии, так что оно «обеспечивает» более эффективное их отправление и реализацию.
Итак, для психоанализа в случае гомосексуальности «психо-генез» есть всегда – «психо-пато-генез»!
В соответствии с точкой зрения ортодоксального психоанализа, гомосексуальная психическая конституция и соответствующие ей формы сексуальной жизни суть «аномалии», «перверсии», «извращения», суть отклонения от «нормы» – от нормы, в качестве каковой здесь принимаются гетеросексуальные установки и соответствующие формы отношений (к тому же в пределе – отношений между супругами в моногамном браке).
Но разве не так?! – мог бы искренно удивиться психоаналитик.
Простите, говорит Фернандес, но на каком все это, спрашивается, основании?! Это – «очевидно»? Это – «несомненно»? Да, но это ведь – «очевидности» Вашего, психоаналитического, сознания! Вот в моем, положим, – Фернандеса – сознании ничего подобного нет! Больше того: в моем – Фернандеса – сознании, между прочим, есть совсем иные очевидности!
На что, быть может, психоаналитик не преминул бы язвительно заметить (и тут вполне выражая точку зрения обыденного сознания), что это означает только одно: что сам этот господин Фернандес – не вполне нормален! Потому и «очевидности» у него – такие извращенные.
И, между прочим, он даже бы при этом и «угадал», оказался бы «прав» (опять же – в обыденном понимании «нормы»), поскольку в этом смысле Фернандес, как выясняется, действительно «ненормальный» – о чем сам он прямо и говорит, не скрывая своей собственной гомосексуальной ориентации.
Ага! – можно было бы сказать тогда, потирая ладошки, – теперь с этим господином Фернандесом все ясно! Поэтому-то он и «героев» для своих книг выбирает «соответствующих» – то Эйзенштейн, то Пазолини (а один из бестселлеров Фернандеса, вышедший в 1982 году и удостоенный одной из самых престижных не только во Франции, но и в Европе – «гонкуровской» – премии, действительно посвящен Пазолини), а следующую книгу он, должно быть, напишет как раз про этого Фуко!
С Фуко, я думаю, у Фернандеса возникли бы большие проблемы, но иного рода, нежели с Эйзенштейном; характер их станет понятен из дальнейшего. Что же касается Эйзенштейна, то под вопросом оказывается самая его «гомосексуальность»: тут еще, как выясняется, «бабушка надвое сказала»!
Эйзенштейн знал про эти о себе разговоры, и в одном месте он прямо пытается дать этим разговорам отповедь: много каких грехов, говорит Эйзенштейн, я за собой знаю, но только не этот! Чего-чего, но вот этого за мной, говорит Эйзенштейн, точно не водится!
И тут Эйзенштейну, как я уже говорил, следует верить. Не в смысле даже его искренности (хотя в ней также нет оснований сомневаться), но в смысле основательного знания им действительного положения вещей. Поскольку Эйзенштейн говорит это, проделав специальный анализ, на основе серьезного опыта самоанализа – а в этом, как я говорил, он кое-что понимал!
Фернандес – оставим это на его психоаналитической совести – по непонятным причинам игнорирует слова самого Эйзенштейна.
Этими своими словами, правда, Эйзенштейн подтверждает другой тезис Фернандеса (тот самый, который мы сейчас и обсуждаем): что психоанализ смотрит на гомосексуальность как на отклонение, извращение – как на то, что «очерняет» человека, в силу чего естественно – в том случае, когда ее у человека нет, а слухи ходят, что есть, – пытаться всеми возможными способами эти слухи опровергать и доказывать их ложность. Тогда как никому, конечно, не придет в голову опровергать (пусть бы даже и не соответствующий истине) слух о том, что он – страшно умный, или невероятно добрый, или даже – абсолютно «нормальный»! Касательно последнего, правда, сегодня нет полной уверенности: быть «абсолютно нормальным» сегодня – для «интересного» человека – скорее всего, «ненормально» и «неприлично», если не прямо-таки скандально!
Так вот, Фернандес пытается поставить под вопрос эту разделяемую психоанализом убежденность обыденного сознания в том, что гомосексуальность – это извращение, что это «ненормальная» форма жизни.
То, что такая убежденность есть действительно глубоко сидящая вмененность обыденного сознания, видно не только из приведенных слов Эйзенштейна. И здесь мало что изменилось даже и сегодня, несмотря на все происшедшие вроде бы «революции». Причем не только в головах рядового обывателя, но и в головах, казалось бы, самых что ни на есть «продвинутых» и радикальных современных интеллектуалов, и не наших только, но и западных, даже и тех из них, кто не мог не думать об этом серьезно и даже, быть может, заинтересованно, поскольку вопрос этот подчас есть вопрос, прямо такого интеллектуала касающийся.
Можно вспомнить один из фильмов Пазолини (весьма необычный фильм), который по-русски называется «Разговоры о любви», хотя этот перевод не вполне передает итальянское его название: «Комичи д’аморе» – это скорее публичный, открытый разговор о любви – «народный форум», «сходка», «собрание», «симпозиум».
Каждый фильм Пазолини – чрезвычайно интересен и ни на что не похож, но этот фильм и в самом деле особый: во-первых, он не игровой, но документальный, а во-вторых – хоть это и документальный фильм, но это не просто «подсматривание» за жизнью и «подслушивание» разговоров, но действительно попытка устроить нечто вроде этакого всенародного «симпозиума о любви», для чего Пазолини объезжает всю Италию, забираясь в самые глухие и «дикие» ее уголки, и всюду не просто появляется с камерой, но активно «сценирует» разговоры, тонко провоцирует своими вопросами, своим участием в разговоре неожиданно откровенные ответы людей и их диалоги между собой – диалоги подчас очень острые, задевающие каждого, что называется, «за живое», – вокруг самых острых и животрепещущих тем.
Будучи сам человеком гомосексуальной ориентации (о чем было известно его современникам – хотя, понятное дело, не тем простым итальянцам, с которыми он заводит свои разговоры в этом фильме), Пазолини, несомненно, не без связи с этим ввел в свой фильм самую тему гомосексуальности – а быть может, даже и вообще обратился к съемкам этого фильма. Понятно, что проблема гомосексуальности и, стало быть, проблема отклонений, или аномалий, в сфере сексуальной жизни, проблема отношения к этим отклонениям, а соответственно, и проблема «нормы» и «нормирования», – что все эти проблемы не могли не быть (как, забегая вперед, было и в случае Фуко, который, кстати, знал этот фильм Пазолини и написал хотя и краткую, но весьма заинтересованную и тонкую на него рецензию, относящуюся как раз ко времени его работы над первым томом «Истории сексуальности»), – понятно, что все эти проблемы не могли не быть собственными проблемами самого Пазолини и поэтому не могли не продумываться или даже «прорабатываться» и проживаться им в поиске их разрешения.
И вот, просматривая некоторые эпизоды фильма, нельзя не видеть, подчас даже с некоторой за него неловкостью, насколько сам Пазолини несвободен по отношению к этой теме гомосексуальности (что, понятное дело, делает для него невозможным и открытый разговор со своими собеседниками), нельзя не видеть, как он – боясь, чтобы его, упаси господь, не заподозрили в чем-нибудь неладном, – не только не пытается полемизировать со своими собеседниками, но старается не давать им хотя бы малейшего повода для подозрений в своем инакомыслии и не раз просто лжет, поддакивая своим собеседникам и упреждая своими репликами их возможные недоумения в ответ на тот или иной неосмотрительно заданный-таки им вопрос: нет, нет – только не подумайте, что…!
Ибо Пазолини прекрасно понимает (и мы, глядя на всех этих людей, понимаем тоже), что гомосексуальность – это нечто, настолько несовместимое с их обыденным сознанием, настолько для них неприемлемое, их пугающее и шокирующее, заставляющее их так отчаянно защищаться, что об этом просто невозможно, немыслимо с этими людьми заговорить.
Так вот, психоанализ, сколь бы это ни казалось невероятным – и именно это и пытается сказать Фернандес, – по сути дела, лишь систематизирует и закрепляет – «консервирует» – не что иное, как бытующие в обыденном сознании, устоявшиеся, «вмененные» ему, не отрефлексированные и критически не продуманные представления.
Давая им свое, претендующее на «научность» и «объективность» (причем – самого что ни на есть кондового естественнонаучного толка) обоснование, он утверждает их в качестве единственной – естественной и непреложной – «нормы».
Фернандес же пытается поставить под вопрос несомненность и непреложность этих, казалось бы, само собой разумеющихся представлений, проблематизировать их – их, а заодно и инкорпорировавшую их и их оправдывающую психоаналитическую мысль. В этом – исключительная важность ходов мысли и самого пафоса работы Фернандеса; в этом – ее бесспорная позитивность, ее эвристичность и продуктивность.
Фрейд во многом был человеком своего времени, с кучей предрассудков, подчас просто невероятных для нас сегодня по их «дремучести», с кучей непреодоленных, а зачастую и сегодня еще даже не вскрытых психоаналитической мыслью ее предпосылок, ее «априори», то есть – не вытекающих из психоаналитического опыта, но, напротив, его определяющих и предопределяющих представлений. Он был человеком весьма несвободным – в том, что касается его мысли, ее оснований, ее предопределенности, иногда – прямо-таки фатальной для психоанализа. Все это так.
Но тут-то и начинаются вопросы, ради которых мы, собственно, и обратились к работе Фернандеса, – вопросы, которые будут мостиком к чтению Фуко, к пониманию его мысли и, тем самым, – через чтение Фуко и через работу с его текстами, – вопросы, которые будут, могут стать также и инициацией работы над нашей собственной мыслью – перед лицом ее современных проблем.
Ибо уже случай психоанализа, взятого через призму его культурно-исторической (по типу – трансцендентальной) критики Фернандесом, но (забегая вперед) с еще большей ясностью – случай рассуждений самого Фернандеса, критически взятых уже через призму генеалогической критики психоанализа Фуко, – эти случаи, продумывание их приводят к пониманию того, что самая рефлексия фундаментальных предпосылок мысли, конститутивных эвиденций сознания требует радикальной трансформации этой мысли.
Уже попытка мысли отдать себе отчет в своих предпосылках предполагает ее вовлечение в работу над собой – работу, требующую не только усилия, но и отваги, поскольку такая работа требует от мысли всю ее целиком, требует, чтобы мысль целиком ставила себя на карту. Работа эта сопряжена для мысли с риском: она не только не гарантирует достижения цели, но не гарантирует даже благоприятного для самой мысли исхода этого ее «приключения»; не гарантирует прохождения мысли через точку своей тотальной «катастрофы», не только уже в нейтральном (в духе современной математической «теории катастроф»), но и в самом что ни на есть драматическом смысле – в смысле прямо-таки гамлетовского для нее вопроса: «быть или не быть» ей дальше как мысли. Вопроса о том, сможет она или нет собрать себя – заново и на новых основаниях, пройдя через точку своего «перелома», «разрыва». Как сказал бы Мераб Константинович: пройдя через точку своего «второго рождения» и в новом месте, или, если угодно: в новом мире.
Но вернемся к размышлениям Фернандеса о «норме» и попытаемся отдать себе отчет в стоящих за этими размышлениями – скрытых, по видимому, от самого Фернандеса – предпосылках его мысли.
Итак, первое, что пытается сделать Фернандес, развертывая свою оппозицию психоанализу, – это заставить признать «случайность» (или, точнее, следовало бы сказать – произвольность) принятых психоанализом и реально обращающихся в нем, «работающих» в его практике представлений о «норме». «Произвольных» – поскольку, забегая вперед, следовало бы сказать, что представления эти, быть может, как раз не случайны, но, напротив, глубоко мотивированы, но мотивированы не имманентным опытом самого психоанализа, а внешними по отношению к нему инстанциями и силами. Такими, в которые он оказывается встроенным в качестве одного из элементов, которые лишь используют культурную и историческую релятивность представлений о норме (в этом смысле – их «случайность») для того, чтобы реализовывать – с помощью многих и многообразных своих механизмов – то из этих представлений, которое позволяет им наиболее эффективно отправлять свои стратегии.
А дальше ход Фернандеса состоит в том, чтобы, продемонстрировав произвольность принятых психоанализом представлений о норме, выставить и утвердить в противовес им, как имеющие не меньшее право на существование, альтернативные представления – такие, в рамках которых как самые гомосексуальные отношения и формы интимной жизни, так и соответствующая душевная и телесная конституция человека выступали бы и признавались бы (и со стороны их носителей, и со стороны общества) в качестве нормальных, таких же «нормальных» («good as you» – как иногда «расшифровывают» самое английское слово gay»), как и общепризнанные в качестве таковых (и научно обоснованные, то есть: утвержденные и оправданные в качестве таковых, положим, тем же психоанализом) гетеросексуальные ориентации и отношения.
Вообще говоря, тип обоснования – как «аномальности», так и, напротив, «нормальности» гомосексуальности – сам по себе в данном случае неважен. Он может быть, конечно, совершенно отличным как от психоаналитического, так и, наоборот, от того, который применяет в полемике с психоанализом тот же Фернандес.
И случай психоанализа интересен и важен тут потому, что на его примере можно продемонстрировать – как мы это и увидим, обратившись к чтению Фуко, – одну чрезвычайно важную для психологов вещь: реальную «встроенность» в аппараты и механизмы власти, «ангажированность» властью «даже» – это «даже» тут приходится брать в выразительные кавычки, поскольку в действительности именно они-то и оказываются прежде всего ангажированными! – даже тех форм психологии и психопрактик, которые по своему самосознанию и по видимости, внушаемой ими вовне, являются, казалось бы, радикально противостоящими власти и ее механизмам, «борющимися» с ними, являются «революционными», а не «консервативными» (прошу прощения за эти, быть может, у кого-то вызывающие аллергию слова), – это во-первых; ну и, во-вторых, потому, что именно с ним, с психоанализом, оказываются соотнесенными те «альтернативные» – и столь характерные, опять же, для самых, казалось бы, радикальных «контр-культурных» движений в современном обществе – представления о «норме», которые, как выходит на поверку, по крупному счету не только не являются действительной альтернативой прежним представлениям, но, напротив, как и они, – сколь бы это ни казалось невероятным! – оказываются также «встроенными» в существующие стратегии власти, оказываются только способами и средствами, с помощью которых власть может более эффективно эти свои стратегии осуществлять.
Повторяю, в данном случае неважно, какие основания выставляются для доказательства «равноправия» гетеро– и гомосексуальности, для признания «нормальными» так называемых «отклоняющихся» форм поведения. Важно другое.
Важно, во-первых, – на что нацелено это доказательство, что, собственно, при этом защищается и отстаивается в своих правах, в праве на существование.
А нацелено это доказательство «равноправия» – на отстаивание права на существование уже наличных, массово существующих форм жизни и отношений.
Или, быть может, даже – «права на существование» тех форм жизни, которые выгодно культивировать и индуцировать различным силам в обществе, – выгодно в силу тех или иных, как правило, скрываемых, необъявляемых интересов: экономических (ибо с этим связана, как, скажем, с наркоманией, целая «индустрия» – «подпольная», «теневая», как у нас говорят, и даже, в значительной мере, криминальная, – «индустрия удовольствий», в которой «крутятся» немалые, если не сказать: огромные, деньги), политических, идеологических и т. д.
Уже тут следовало бы сказать: выгодно «властным силам», ибо власть, как мы сегодня понимаем, это всегда – нечто более широкое, нежели власть явная, тем паче официальная, чем та или иная группировка, стоящая у власти – в обычном, опять же, смысле. Явная власть сплошь и рядом является только прикрытием, маскирующим действительное положение дел. Причем, опять же, вопреки расхожим и выгодным для власти представлениям о ней.
И именно тут пролегает чрезвычайно важная и наиболее трудно ухватываемая пониманием граница между современным пониманием власти (в частности – или, быть может даже, прежде всего, – настойчиво проводимым Фуко) и привычным и понятным нам «марксистским» пониманием. Которое характерно, стало быть, – в чем убеждает разбираемый случай – отнюдь не только для марксизма и марксистов. Которое оказывается глубоко «въевшейся» в нас и трудно рефлексируемой идеей.
Мифологемой, понятное дело, – тем самым, опять же, марксовым «желтым логарифмом сознания», продуцирование которого только следует представлять себе теперь иначе, сложнее, чем это делал Маркс, – не в терминах, положим, «борьбы классов», но скорее в терминах – тотальных и тотально распределенных в обществе, или диффузных, как говорит Фуко, и к тому же: не или без-субъектных – «игр» (прямо-таки в духе Берна!), или же – как говорит однажды Фуко, вызывая шок и справедливый гнев своего этически озабоченного и бдительного оппонента, – в терминах «войны всех против всех». Некого «тотального сговора», ибо «игра» (или даже «война») есть всегда сговор – тотальный сговор, которым «повязаны» все участники, внутри которого и благодаря которому все они – все! – получают те или иные выгоды, свой навар». Каждый – свой, но непременно получают или, по крайней мере, рассчитывают получить.
Итак, важно, во-первых, что именно отстаивается в праве на существование: важно, что под видом абстрактного права на существование гомосексуальности «вообще» отстаивается всегда право на существование тех или иных конкретных форм гомосексуальной жизни, которые уже имеют место в обществе и которые (что бы тут нам ни говорили Фрейд или же, казалось бы, радикально противостоящий психоанализу в понимании «нормы» Фернандес) как раз и индуцируются и культивируются обществом, его механизмами власти, причем – как это ни парадоксально! – безотносительно к тому, признаются они этим обществом в качестве «нормальных» – или же отвергаются и даже преследуются как «аномальные», «отклоняющиеся» и даже как «преступные» или «греховные».
Во-вторых, важно, какие ближайшие (прямые) и более отдаленные (и, быть может, косвенные) последствия принятия того или иного представления о норме проистекают для самой гомосексуальности и ее носителей: сокрытие, подавление и, положим, стремление от нее освободиться, излечиться – или же, напротив, открытое и свободное ее отправление и утверждение как полноценной или, быть может даже, привилегированной формы жизни и отношений.
Важно, наконец, какие стратегии борьбы за свое существование – положим, борьбы с «преследующей» ее и «подавляющей» властью – развертывает гомосексуальность, ее носители и их сообщества (так называемые «сексуальные меньшинства»). Хотя, заметим в сторону, еще непонятно, кого тут держать за «меньшевиков», а кого – за «большевиков», особенно если иметь в виду не реализуемые в жизни явные формы поведения, но латентные – и зачастую бессознательные – установки и диспозиции.
Совершенно невероятная мысль тут состоит в том (что и пытается показать Фуко и что, конечно же, оказывается мыслью, абсолютно неприемлемой для здравого смысла обывателя; хотя, впрочем, – как мы видим на примере Фернандеса и психоанализа – и не только обывателя), что «борьба с властью» развертывается именно за те формы жизни, которые как раз этой самой властью и индуцируются, так что по некой жестокой иронии эти формы «борьбы с властью» – в смысле «против власти» – в действительности роковым образом оказываются как раз встроенными в стратегии власти, ассимилированными ими (если не ими индуцированными), оказываются только элементами скрытых стратегий и механизмов самой власти, то есть формами борьбы «вместе, заодно» с властью, а не «против» нее.
Здесь уже следовало бы самого Фернандеса спросить об основаниях его представлений о «норме»; представлений, из которых проистекает целая программа практических – в том числе психотехнических и социальных – действий.
Программа борьбы, во-первых, за «освобождение» – психологическое освобождение – самих желаний и лежащих в их основе влечений. И здесь свое место – место, стало быть, в единой, бросающей вызов обществу, освободительной по содержанию и прямо-таки «исторической» по значению борьбе – находит, вроде бы (как то показывает на примере Эйзенштейна Фернандес) и психоанализ, который психологически (а как следствие этого – также и этически) «оправдывает», реабилитирует гомосексуальные желания и влечения, представляя их психогенез как происходящий во многом независимо от человека и, стало быть, освобождая человека от всякой ответственности – прежде всего, нравственной – за эти «вмененные» ему (в обход его воли и даже сознания) влечения и желания. Во-первых, стало быть, программа борьбы против всякого рода внутренних, психологических барьеров и комплексов в связи с гомосексуальностью, борьбы за свободу – психологическую, внутреннюю.
А во-вторых, программа борьбы «внешней», социальной. Борьбы за возможность – так же открыто и свободно, безо всякой оглядки и страха и уж тем более безо всякого преследования и карающих санкций со стороны общества – отправлять гомосексуальные отношения, вплоть до полного «интегрирования» и «инкорпорирования» их в «тело» общества, вплоть до создания даже соответствующих социальных и правовых институтов, скажем, «гомосексуального брака и семьи» (со всеми проистекающими отсюда правовыми и прочими последствиями), вплоть до создания соответствующих каналов коммуникации, до формирования особой культуры и механизмов ее воспроизводства.
Стоит, однако, задуматься о действительных и зачастую скрытых основаниях всех этих рассуждений и действий, эксплицировать и «поставить под вопрос» тот образ человека, который за этими рассуждениями стоит, отдать себе отчет в том, откуда он, этот образ, взялся и чему (если не «кому») он служит – кому он реально, на деле выгоден, или: элементом каких стратегий власти этот образ является, и, стало быть, в какую «игру» дает согласие вступить и на чьей стороне находится тот, кто этот «образ» принимает – принимает как «истинный» или, быть может даже – как единственно возможный, отвечающий, положим, некой (безразлично: вечной и неизменной или же – претерпевающей изменения и исторической) природе, или сущности, человека.
И тут оказывается, во-первых, что это – вовсе не очевидный и не единственно возможный образ человека, но образ исторически случайный или, по крайней мере, исторически преходящий: образ, не имеющий для себя никаких внутренних (в данном случае – психологических, или психоаналитических) оснований, но некритически взятый откуда-то извне или даже: извне навязанный какими-то силами; образ, посредством которого эти силы только более эффективно манипулируют его носителями (а через них, быть может, – также и другими) и проводят по отношению к ним свои властные стратегии.
И, во-вторых, оказывается, что этим «образом» имеется в виду и утверждается в своей необходимости некий вполне определенный – и по своему содержанию, и по своему происхождению, и по своей принадлежности соответствующим стратегиям власти – исторический «тип» человека, а именно тот, который можно было бы назвать (по аналогии с обычными: человеком «разумным», или же человеком трудящимся», или же, положим, человеком «играющим») – «человеком желающим», или человеком «желания».
Действительно, разве не исходят разобранные нами рассуждения о гомосексуальности (причем важно: в равной мере – как Фрейда, так и, казалось бы, радикально противостоящего ему Фернандеса), разве не исходят они – как из чего-то несомненного, само собой разумеющегося – из представления о человеке как о существе прежде всего «желающем», то есть имеющем определенную конституцию «влечений» или, выражаясь более привычно для психологов, обладающем определенной конституцией или иерархией «потребностей» или «мотивов»?
Неважно при этом даже: как – в терминах этих «мотивов», «влечений» или «желаний» – будем мы в каждом отдельном случае эту гомосексуальность понимать: как «нормальную» психическую конституцию человека или же, напротив, как «аномальную», и какое представление будем ей при этом давать.
Можно было бы говорить – положим, в терминах анатомии и физиологии – о множественной «природе» человека (включая и признание возможности «аномалий» этой природы»). Можно говорить о множественности различных культур психической деятельности человека: подобно тому, как мы говорим, к примеру, о «даосской» или о «дзен-буддистской» культурах психической деятельности, можно было бы говорить и о «гетеросексуальной» и «гомосексуальной» культурах психической деятельности человека. Причем говорить об этом можно не только в терминах различий в социокультурной ситуации развития человека, но также и в терминах различий в индивидуальной «траектории» развития человека, различий психогенеза соответствующей культуры психической деятельности.
Психоанализ, собственно, это и делает: он пытается понять гомосексуальную психическую конституцию именно как складывающуюся в ходе длительного и драматического прижизненного развития особую «культуру психической жизни», понять ее в свете представления о чрезвычайной сложности процесса этого развития – процесса, проходящего многие фазы, на каждой из которых человека подстерегают коварные опасности. Так что удивляться, сказал бы Фрейд, следует не тому, что в ходе этого развития возникают отклонения от его «правильного» хода и различные аномалии, но тому, что эти отклонения и аномалии, в конце концов, появляются все же не так часто, как можно было бы ожидать, если даже – не тому, что они появляются не в каждом случае. Удивляться стоит тому, что бесчисленные «подводные камни» и «ловушки» вообще еще оставляют место для «правильных» и «нормальных» исходов этого процесса.
Психоанализ обнаруживает эти «подводные камни» и «ловушки» психогенеза, выделяет критические точки этого процесса, разрабатывает целую систему психотерапевтических ходов, с помощью которых можно устранить «аномалии» этого процесса развития и «выправить» его, и т. д. и т. п.
Однако в данном случае, повторяю, неважно, как смотреть на «природу» гомосексуальности. Важно, что во всех рассмотренных случаях «гомосексуальность» берется внутри одного фундаментального образа человека, который и можно было бы назвать «человеком желающим». Важно, что во всех рассмотренных случаях не ставится под сомнение самая организация человека в логике «желания».
Мы можем иметь одни желания или другие – гетеросексуальные или гомосексуальные, «нормальные» или «аномальные». Можем признавать за нормальные, опять же, те или, наоборот, другие. Но при этом всегда считается «само собой разумеющимся», что мы не можем (коль скоро мы – люди) – мы не можем, не переставая быть людьми, быть организованы как-то иначе, нежели в логике «желания» (или «влечения», или «потребностей»).
И не возникает даже вопроса о возможной «случайности» этой организации, о ее возможной исторической преходящести или культурно-исторической относительности, вопроса о возможности какой-то фундаментально другой – иной «нашей» – психической организации.
Даже самый разговор об этом кажется каким-то «марсианским» – «марсианским» почти в буквальном смысле: кажется, что в такой манере можно говорить разве что о психической организации каких-нибудь «инопланетян», существ из других миров, каких-то космических пришельцев, но ни в коем случае не людей.
Фундаментальная организация человеческого существа в логике желания, или в логике влечения, или в логике потребностей представляется чем-то от него неотделимым, с чем человек стоит и падает; кажется, что человек не может иметь иной фундаментальной психической организации, не переставая быть человеком!
Но разве не так? И разве не приходится признать, что вне этой предельной антропологической рамки, вне этой фундаментальной «онтологемы» мы просто вообще не можем ни думать о человеке, ни понимать его, ни работать с ним? Казалось бы, это настолько само собой разумеется, настолько бесспорно и несомненно, что если и может возникнуть какой-то вопрос, то лишь вопрос о том, как это вообще можно ставить под вопрос?!
И вот в этом месте начинается Фуко. Он предпринимает работу: огромную по объему, исключительную по сложности, требующую невероятных усилий, уникальной культуры и феноменальной силы и смелости мысли – смелости и к тому же особой, почти «маниакальной» ее (мысли) настойчивости и последовательности, почти мессианской веры в значимость своего дела и свою призванность. Нужно было быть воистину «маньяком» своего дела – не меньшим, чем в свое время был Фрейд, – чтобы вообще довести это дело до конца. Ибо оно не просто исключительное по своей сложности, требующее всей силы мысли гения, но и, казалось бы, невозможное, немыслимое, просто – «бредовое»!
Поставить под вопрос и попытаться показать не универсальность, не «всеобщность», но, напротив, частность и историческую случайность, преходящесть – и не тех или иных конкретных конституций «человека желающего», но самого феномена этого человека как такового, как исторического «типа» или, если угодно, – «формации» человека, больше того: возвестить о «конце», или «смерти» этого человека, а коль скоро мы мыслим его в качестве универсалии человека вообще (по сути – единственно возможную конституцию человека вообще) – то, стало быть, возвестить не больше не меньше, чем смерть «человека вообще», единственно известного исторического типа или феномена человека вообще, – нельзя не признать, что все это вполне тянет на самый отчаянный бред сумасшедшего, если не на что-нибудь большее!
Но и это еще не все. Фуко пытается провести и другую мысль – опять-таки: мысль невероятную, потрясающую все обычные представления об этом, посягающую на самые, казалось бы, несомненные очевидности человеческого сознания, на наши самые твердые представления об отношении между человеком и властью, о самом существе этого отношения и, в частности, на представление о характерном как будто бы для всякой власти «отношении подавления» сексуальной жизни человека (из чего, как мы знаем, исходит в своем понимании человеческой сексуальности и психоанализ) и особенно, конечно, – подавления «отклоняющихся» и «аномальных» форм человеческой сексуальности. Итак, в противовес обыденным и расхожим (но, опять же, как показывает случай психоанализа, отнюдь не только им!) представлениям об этом, Фуко пытается показать, что власть (не только «внешняя» по отношению к отдельному человеку власть, но также и «внутренние», инкорпорированные в самое душевно-духовное «тело» человека и действующие в нем самом формы власти!), что власть – причем с самого начала, как только ее «руки» добираются до человеческой сексуальности, как только контроль над этой стороной жизни людей становится важным для власти, а тем более для современных форм власти, – что власть осуществляет свои стратегии по отношению к человеку не столько (и даже: вовсе не!) через механизмы прямого контроля и подавления, но, напротив, через чрезвычайно многообразные и изощренные аппараты и механизмы индуцирования и взращивания, внедрения и пестования этих форм жизни человека (включая и так называемые «отклоняющиеся»!) и через культивирование соответствующей психической и даже соматической, собственно телесной, организации, конституции человека! Причем пресловутая «идея подавления» сама входит, оказывается включенной в состав этих механизмов власти и также индуцируется (или, по крайней мере, ассимилируется) самой властью!
Все решительно восстает против этой, как может показаться, нарочито «переворачивающей все с ног на голову» мысли Фуко – мысли, очевидным и вызывающим образом противоречащей несомненным фактам и реалиям жизни!
Разве мы не знаем, как совсем еще недавно даже просто прямой, «вслух» разговор о сексуальности и связанных с нею темах и проблемах – и не только об «отклонениях» и «извращениях», но вообще об этой стороне жизни – был абсолютно невозможен? Разве мы не помним тотального и самого жесткого преследования тех же гомосексуалов, целых кампаний по борьбе с этим «злом»? Разве мы забыли времена, когда анонимного доноса, зачастую откровенного навета, клеветы и даже одного только подозрения оказывалось достаточно не только для публичной травли человека, но и для его уголовного преследования? Ибо ведь совсем еще недавно гомосексуальность считалась не просто «отклонением» и «аномалией» – в нейтральном, положим, собственно клиническом смысле, – но и «моральным злом» и даже уголовно наказуемым «преступлением». Человек, обвиненный в гомосексуализме, мог провести годы в лагерях – чего стоит хотя бы история того же Сергея Параджанова! И если подобное можно было проделывать по отношению к такому – известному на весь мир – человеку, то что и говорить о многих и многих безвестных жертвах.
И разве, наконец, судьба не только того же «извращенца» Пазолини, фильмы которого не могли появиться на наших экранах, но и самого Фуко, книги которого у нас не переводились и даже в научных библиотеках лежали в «спецхране», – и все это не только из-за содержания, но также и из-за специфической одиозности самих этих фигур, – разве все это не доказывает «гипотезу подавления» и не опровергает тезис Фуко?!
Можно подумать, что Фуко только в очередной раз хочет во что бы то ни стало эпатировать публику, привлечь к себе внимание, снова сказать «нечто этакое», чтобы поразить того же обывателя, что все это не просто «несерьезно», но есть откровенная спекуляция на характерной как раз для обывателя жажде дешевой сенсации и к тому же, быть может, чрезвычайно опасная для нас нравственная и идеологическая – наверняка «заказанная» какими-нибудь тайными врагами, нашими и всего человечества, – диверсия.
Но дадим, наконец, заговорить самому Фуко. Я воспользуюсь выдержками из его работ, вошедших в сборник «Воля к истине», который был подготовлен к семидесятилетию со дня рождения Фуко Светланой Табачниковой и выпущен издательством «Касталь» в 1996 году.
Я ограничусь только теми фрагментами, в которых, быть может, наиболее выпукло представлена линия рассуждений Фуко, связанная с критикой «человека желания» и с обсуждением проблемы «нормы», с одной стороны, и с идеей «генеалогии», «генеалогического анализа» – с другой.
Конечно, чтение вырванных из контекста, и без того не легких для понимания текстов Фуко потребует, особенно поначалу, некоторого усилия и терпения, можно сказать: «кредита доверия» к автору; однако я думаю, что в конце концов даже и в этом случае можно получить удовольствие от следования за этой – редкой по силе, внутреннему драматизму и красоте – мыслью. Начнем с небольшого фрагмента из первого тома нашумевшей «Истории сексуальности».
«…Диспозитив сексуальности, – пишет Фуко, – следует мыслить, отправляясь от современных ему техник власти».
Едва начав читать Фуко, мы вынуждены остановиться. Первыми же словами Фуко оказываются эти странные для нашего уха слова: «диспозитив сексуальности». Что такое «диспозитив»?
Готовя перевод книги Фуко, мы долго ломали голову над тем, как передать это слово «диспозитив» по-русски. Я чуть было не сказал: это «французское слово», но ведь во французском языке – в тех контекстах и с тем значением, которое придает этому слову Фуко, – оно не встречается. В этом новом значении до Фуко его вообще не было.
Иными словами, слово это – по крайней мере, в семантическом отношении – и для французского языка является «неологизмом», причем довольно странным, режущим «слух», и слух не только неискушенного обывателя, но и самого что ни на есть рафинированного интеллектуала. Семантически слово это для французского уха не просто даже новое, но «дикое», «неправильное», опять же: «ненормальное». Во всяком случае, в том употреблении, которое придает ему Фуко, слово «диспозитив» и сейчас, по сути дела, – «чужое» для нормального французского языка.
В нем оно употребляется, как правило, в достаточно специальных контекстах и имеет, соответственно, весьма узкие значения. Оно может означать, например, «особую часть или раздел судебного приговора», или, скажем, «боевые порядки в нападении и обороне», или еще: «размещение или расположение различных элементов на сцене».
В наиболее общем смысле «диспозитив» означает «способ расположения частей внутри какого-либо механизма», его «устройство»; поэтому (кстати, как и в русском языке) оно может означать также и самый механизм – в смысле «устройства». «Устройство», или «приспособление», или «средство» – это всегда нечто, служащее «для того, чтобы», то есть – нечто, выполняющее определенную «инструментальную функцию», «назначение» внутри того или иного действия.
«Диспозитив», должно быть, и следовало бы переводить – по его первому и основному у Фуко смыслу – как «устройство», или «механизм», или «аппарат» (что и делают некоторые переводчики). Следовало бы, – если бы при этом, однако, мы не лишались возможности передавать одним и тем же словом также и другие – помимо первого – смыслы и тончайшие контекстные смысловые «обертоны» понятия «диспозитив» у Фуко. А у Фуко на этом подчас строится тонкая и важная смысловая игра. Не можем же мы делать это потому, что «вторые», «третьи», «энные» смыслы, смысловые «обертоны» русских эквивалентов слова «диспозитив» и самого этого слова во французском языке уже сильно расходятся.
Что, впрочем, и понятно, поскольку, принимая любой из этих русских эквивалентов, мы уже довольно далеко уходим от исходного значения, диктуемого самой морфологией этого (пришедшего из латыни) слова. Буквально – не этимологически даже (если иметь в виду реальную, историческую этимологию соответствующего французского слова в различных его значениях), но именно «морфологически» – слово «дис-позит-ив» должно было бы по-русски транскрибироваться как «рас-полож-…» – до этого места еще куда ни шло, но вот дальше начинаются проблемы, ибо соответствующий «морфологический диспозитив» (позволим себе эту игру) французского слова не позволяет продолжить начатое нами его переписывание в духе естественного для русского языка «рас-полож-ен-ия» (хотя это слово и схватывает некоторые из значений французского слова), а то продолжение, которое как раз должно было бы отразить важный оттенок инструментальности – что-то вроде: «рас-положи-тель» (хотя и оно далеко от точного соответствия), – совершенно дико и глухо для русского уха.
Поэтому мы решили, в конце концов, отказаться от поиска единого русского эквивалента слову «диспозитив», равно как и от другого (также бытующего среди переводчиков) варианта, когда в зависимости от контекста одно и то же французское слово «диспозитив» передается различными русскими словами или даже целыми выражениями, – и просто транскрибировать в русском переводе самое это французское слово, что в сравнении со вторым вариантом, благодаря сохранению одного и того же слова в различных контекстах его употребления у Фуко, позволяет читателю (внимательному и серьезному, предпринимающему работу понимания читателю) развернуть – через прослеживание и «собирание» различных контекстных употреблений этого понятия – нечто вроде известного в психологии «процесса образования искусственного понятия». Конечно, тех немногих отрывков, которыми я воспользуюсь, совершенно недостаточно для выполнения такой работы. Честно говоря, я не уверен, что для этого было бы достаточно даже и всего первого тома «Истории сексуальности», то есть, можно сказать, всего, что написано Фуко об этом «диспозитиве сексуальности» и с использованием этого понятия. Как это ни странно, Фуко действительно использует это понятие, по сути дела, в пределах только первого тома. Уже во втором томе (правда – отделенном от первого большим временным промежутком и написанном уже внутри совершенно другого, отличного от первоначального, общего плана работы) это, казалось бы, ключевое для Фуко в его анализе сексуальности понятие практически не употребляется.
В принципе, со стороны заключенной в понятии «диспозитива» идеи «инструментальности» понятие это должно быть близким и понятным психологам, воспитанным в духе идей культурно-исторической психологии.
С этой стороны «диспозитив сексуальности» есть не что иное, как та или другая, исторически складывающаяся, закрепляемая в культуре (в том числе, как мы говорили, и в соответствующей культуре, или культурах, психической деятельности) и в разного рода социальных институтах совокупность средств и способов… – до сих пор все так, как мы привыкли говорить, все понятно, но вот дальше в прочитанной фразе Фуко идут слова, маркирующие принципиальный водораздел между мыслью Фуко – самым «нервом» этой мысли, самой сутью его понимания сексуальности со стороны критического для Фуко отношения между сексуальностью и властью и понятным и привычным нам – как оказывается: «психологистическим» (что в данном случае означает с неизбежностью – намеренно искаженным, превратным, выгодным власти, то есть «идеологическим») – пониманием.
Какое продолжение или завершение прерванной мною фразы напрашивается? Ну, что-то вроде: «…совокупность средств и способов осуществления той или иной формы сексуальной жизни, сексуальных отношений». А как эту фразу закончил бы – в свете прочитанных уже его слов – сам Фуко? Фуко говорит: «диспозитив сексуальности следует мыслить, отправляясь от современных ему техник власти».
Что это значит в плане понимания самой идеи «диспозитива»? Для Фуко критически важно, что «диспозитив сексуальности» – как и всякий диспозитив, то есть «диспозитив» как таковой, по самому понятию! – если и есть «совокупность средств и способов» (включая и «культуры», «институты», «практики» и т. д.), то – вовсе не совокупность средств и способов «осуществления соответствующих форм человеческой жизни»; вовсе не относительно них он должен браться, рассматриваться в своей инструментальной функции, но – относительно осуществления, реализации тех или иных, каждый раз исторически конкретных, «современных ему», диспозитиву, как говорит Фуко, «…стратегий власти»!
В своей «инструментальной» функции, как оказывается, «диспозитив сексуальности» должен браться именно относительно современных ему – то есть тех, в которые он, собственно, и встроен, которые он и «обеспечивает», которым он и «служит», – стратегий власти!
Это означает, что сочетание слов «диспозитив сексуальности» следует понимать (как на то нас может провоцировать сама грамматическая форма этого выражения, этот двусмысленный, по крайней мере по-русски, «родительный падеж») не в смысле указания на «принадлежность», в духе вопроса: «чей?»: «чей диспозитив?» – ответ: «сексуальности!», но исключительно в смысле его «имени»: какой диспозитив? как его зовут? – ответ: его зовут «диспозитив сексуальности»! Ибо как раз в смысле «принадлежности» – в смысле «чей?», в смысле своего рода «права собственности» – он, «диспозитив сексуальности» (коль скоро он вообще – «диспозитив»), есть всегда «диспозитив власти», принадлежит ей, есть ее инструмент!
И здесь снова и снова приходится признавать, что в создании и реализации этих «инструментов власти» (безразлично: отдают они себе в этом отчет или нет) сплошь и рядом участвуют психологи и психотехники, в частности – психотерапевты.
Итак, говорит Фуко: «диспозитив сексуальности следует мыслить, отправляясь от современных ему техник власти»; и продолжает:
«Мне скажут: это значит удариться в историцизм – скорее поспешный, нежели радикальный; это значит замалчивать – в пользу феноменов и в самом деле изменчивых, но непрочных, вторичных и, в общем-то, поверхностных – биологически прочное существование сексуальных функций; это значит говорить о сексуальности так, как если бы секса не существовало».
Обратим внимание на это различение «сексуальности» и «секса» – различение, которое является для Фуко ключевым во всей его «Истории сексуальности», которое он пытается самым радикальным образом последовательно проводить. Мы поэтому будем дальше вновь и вновь к нему возвращаться и вместе с Фуко его продумывать. Здесь же я позволю себе только заметить, что для мысли Фуко важно, как мы увидим, что не только собственно «сексуальность», то есть те или иные культурно-исторически конкретные формы сексуальной жизни и сексуальных отношений, но также и самый «секс» – и даже как раз прежде всего и особенно «секс» (что, конечно, особенно парадоксально – если не просто «немыслимо» – с обычной точки зрения, берущей «секс» прежде всего, если не исключительно, как феномен биологический) – рассматриваются Фуко в составе «диспозитива сексуальности», то есть – в свете сказанного – как элементы, инструменты соответствующих стратегий власти по отношению к человеку. Итак, резонно предвидит Фуко возражение своих оппонентов, мыслить диспозитив сексуальности, отправляясь от современных ему техник власти, «…это значит говорить о сексуальности так, как если бы секса не существовало»; и продолжает:
«И вправе были бы мне возразить (тут в тексте Фуко приходится ставить «кавычки в кавычках», поскольку дальше следует прямая речь этих воображаемых оппонентов Фуко): “Вы намерены подробно проанализировать процессы, посредством которых были сексуализированы (ужасно звучит по-русски, но как сказать иначе?!) тело женщины, жизнь детей, семейные отношения и целая обширная сеть социальных отношений”».
В предыдущих главах своей книги Фуко подробно рассматривает каждый из этих основных планов «сексуализации жизни» – рассматривает обстоятельно, с обширным фактическим историческим материалом в руках; материалом зачастую уникальным – где он только его раскапывал?! В самых неожиданных порой местах: в старинных книгах, в редких специальных изданиях, а то и в самых что ни на есть «забытых богом» архивах отыскивал он самые невероятные факты, а иногда, наоборот, заставлял «заговорить», казалось бы, самые ничего не значащие вещи – каждый раз показывая, как все это выглядело, как действительно происходило (на протяжении столетий) индуцирование сексуальности и ее внедрение, пронизывание ею, все более и более интенсивное и полное «пропитывание» ею всех сторон жизни человека, проникновение ее в самые «глухие» и «темные» уголки его жизни.
«Вы хотите описать, – продолжает Фуко развертывать эти возражения своего воображаемого оппонента, – этот великий подъем заботы о сексе, начиная с 18 века».
Не так уж, оказывается, и далеко нужно отступить нам назад, чтобы проследить начало формирования той особой конституции современного человека, которую мы, собственно, только и могли бы назвать «сексуальной» – в строгом, культурно-исторически конкретном смысле этого слова, – сексуальной конституции современного человека «желания»: всего-то 18 век.
«…Этот великий подъем заботы о сексе, начиная с 18 века, и ту, все разрастающуюся, страстную настойчивость, с которой мы подозревали секс повсюду. Допустим. И предположим (даже)…» – продолжает развертывать свое рассуждение наш воображаемый оппонент Фуко, пытаясь построить для последнего «ловушку»; и вот тут, в следующих словах он формулирует («коварно» соглашаясь вроде бы даже его принять) основной тезис самого Фуко об отношении между сексуальностью и властью, – тезис, решительно противостоящий расхожей точке зрения, в соответствии с которой ведь, как мы говорили, отношение это действительно мыслится как отношение «подавления», «ограничения», «запрета», «цензуры» и т. д. и т. п. А что утверждает этот тезис Фуко?
И предположим, что и в самом деле механизмы власти применялись в большей степени для того, чтобы вызывать и “возбуждать” сексуальность, нежели чтобы ее подавлять».
Действительно, невероятный тезис! Его принятие, пусть даже и условное, пусть даже не без каверзы, в рамках коварного маневра, делает честь этому воображаемому оппоненту Фуко: решиться на допущение, не просто «немыслимое» с точки зрения здравого смысла, но как будто бы бросающее ему прямой вызов, должное действовать на него подобно красной тряпке на быка! Но что же дальше? А дальше – обещанная каверза и ловушка, а дальше – наш оппонент «раскрывает карты»:
«Но вот тут-то, – не без язвительной улыбки объявляет он, – вот тут-то Вы и остаетесь вблизи того, от чего – как Вы, наверняка, думали – Вы отмежевались. По сути дела, Вы указываете на феномены рассредоточения, укоренения и фиксации сексуальности. Вы пытаетесь показать то, что можно было бы назвать организацией “эрогенных зон” в социальном теле. Вполне может оказаться так, что Вы не сделали ничего другого, как только транспонировали на уровень диффузных процессов те механизмы, которые психоанализ четко выявил на уровне индивида».
Здесь, как мы видим, оппонентом Фуко предпринимается попытка «резюмировать» то, пусть с грехом пополам, но все же еще как-то приемлемое «позитивное содержание» концепции Фуко, редуцируя ее по сути дела лишь к «де-субъективации» сексуальности, к демонстрации «рассредоточенного», «диффузного» и во многом «анонимного» существования тех феноменов человеческой сексуальности, которые психоанализ, опять же, понятным и привычным для обыденного сознания образом описывал в терминах психической конституции «индивида».
Надо сказать, что если бы даже теория Фуко действительно «сводилась» лишь к этим идеям, то и тогда она была бы одной из самых смелых и радикальных альтернатив до сих пор повсеместно бытующим взглядам. Оппонент, надо думать, и соглашается (правда, в такой форме, будто бы в этой мысли Фуко и нет ничего особенного и радикального) признать эти идеи Фуко только для того, чтобы отвести наше внимание от действительно центральных, но, как кажется оппоненту, как раз не выдерживающих никакой критики положений. Не будем забывать, правда, что все это слова воображаемого оппонента Фуко – и нет ли в них собственного – и, быть может, прямо противоположного по своему смыслу – маневра самого Фуко? Он ведь, как мы понимаем, тоже «не лыком шит»! Но оставим эти догадки критикам Фуко. Мы же проследим до конца этот длинный выпад оппонента – куда же он клонит? А вот куда:
«Но Вы упускаете – победно заключает он, – как раз то, исходя из чего только и могла произойти эта сексуализация и от чего психоанализ – он-то как раз и не отрекается – а именно: секс!»
То есть «секс» как некое «природное», «биологическое» начало. За что ведь в расхожем мнении на Фрейда обычно и навешивают ярлык этакого отъявленного «биологизатора», сводящего якобы всю психическую жизнь человека, в конечном счете, к так понимаемому «сексу». Сегодня уже, должно быть, не нужно говорить, что это – вульгарное и как раз в главном совершенно неадекватное и даже вопиющее по своей несуразности, прямо противоречащее основному пафосу и смыслу психоанализа чтение Фрейда. Что действительный пафос и смысл фрейдовского психоанализа, напротив, как раз и состоит в неопровержимой демонстрации немыслимого с точки зрения биологической парадигмы – «автономного», полностью «отвязанного» от плана биологического, или природного, в человеке – существования собственно психических (а точнее было бы говорить: психосоматических), складывающихся в ходе уникальной прижизненной истории человека, проходящих целый ряд драматичных фаз в этом своем становлении – культурных и социальных – форм сексуальной жизни. Что если для «секса» еще и есть какое-то место во фрейдовском психоанализе, то это не более чем «бесконечно малая» – не имеющая ни размеров, ни содержания – точка. И это – в психоаналитической теории, во фрейдовской «метапсихологии» (вспомним тут фрейдовское рассуждение о «структуре влечения» и то – лишенное уже всякого позитивного содержания – понятие «источника влечения» в классической его работе «Влечения и их судьба»). В практике же работы психоаналитика для него, по сути, вообще уже нет места! Тут секс «оказывается уже просто избыточной гипотезой», подлежащей «усекновению» небезызвестной «бритвой Оккама» – нетрудно, должно быть, уже догадаться, какими фрейдовскими словами скажет об этом в ближайшей же фразе наш разгорячившийся «оппонент»!
Все это к тому, что «Фрейд» и «психоанализ» в этой автоинвективе Фуко если не «выдуманные» (из разряда тех, которые, если их нет, нужно выдумывать!) – «для сюжета», то во всяком случае – упрощенные, «одномерные». Впрочем, поскольку тут важно прежде всего понять самую мысль Фуко, самый ход его рассуждения, то «истинность лемм», как говаривал персонаж из книжки Лакатоса, оказывается несущественной. Итак, долгожданный конец:
«До Фрейда, – это все еще слова «оппонента», – пытались как можно более тщательно локализовать сексуальность – в сексе, в его функциях воспроизводства, в его непосредственных анатомических субстратах; ударялись в разговоры о биологическом минимуме: органе, инстинкте, финальности. Вы же занимаете симметричную и обратную позицию: для Вас остаются одни только эффекты без их опоры, оторванные от своих корней ветви, сексуальность без секса. Кастрация. И тут опять – кастрация!»
Ну, а в самом деле – что это за бред: «сексуальность без секса»?! И в самом деле, в пору прямо-таки учинить «психоанализ» этой подозрительной мысли, что и делает тут не без иронии, конечно, по отношению к тому же психоанализу Фуко: «…кастрация? Ну, конечно, кастрация! И тут опять – кастрация!» «Кастрация» – символическая, конечно. Впрочем, а какая другая – если только брать это слово не в обыденном, но в собственно психоаналитическом смысле слова – вообще бывает, может быть, кастрация?! В психоаналитическом смысле «кастрация» – это всегда ведь вещь символическая; она есть всегда, говоря словами Лакана, элемент «индивидуального мифа невротика» – и только! В данном случае особенность ее только в том, что это «кастрация» на уровне самого «дискурса о сексе», «кастрация», если так можно выразиться: «над» самим дискурсом о сексе.
Тут, к сожалению, в силу недостатка места, приходится делать большие купюры даже в этом фрагменте текста.
«То, что “сексуальность” не является областью, внешней по отношению к власти, областью, которой власть только извне бы себя навязывала, что “сексуальность”, напротив, является и эффектом и инструментом ее устройств, – это еще может пройти. Но вот “секс” как таковой, – разве он не является по отношению к власти – чем-то другим, тогда как для “сексуальности” он выступает как раз тем очагом, вокруг которого она распределяет свои эффекты?»
«Так вот, – говорит Фуко тут уже от себя, – эту-то идею “секса” как такового как раз и нельзя принимать без (критического) ее рассмотрения.
Действительно ли “секс” является “точкой закрепления”, на которую опирается в своих проявлениях “сексуальность”, или же он есть только некая сложная идея, исторически сформировавшаяся внутри диспозитива сексуальности?
Во всяком случае, – утверждает Фуко, – можно было бы показать, как эта идея “секса” сформировалась через различные стратегии власти и какую вполне определенную роль она там играла.
Можно видеть, как именно по тем основным линиям, по которым, начиная с 19 века, развертывался диспозитив сексуальности, как именно по ним и разрабатывалась идея, что существует нечто другое, нежели тела, органы, соматические локализации, функции, анатомо-физиологические системы, ощущения, удовольствия, – нечто другое и большее, нечто такое, что имеет свои собственные, внутренне присущие ему свойства и свои собственные законы – “секс”!»
Я уже говорил, что в предыдущих главах книги Фуко обстоятельно прослеживает как внутри каждой из четырех основных линий, или основных стратегий – стратегий власти, конечно, – «истеризации тела женщины», «сексуализации детства», «психиатризации извращений» и, наконец, «социализации репродуктивного поведения», – как постепенно конституировалась эта идея «секса» – конституировалась именно внутри «диспозитива сексуальности», то есть как элемент в составе аппарата власти.
Это, конечно, невероятно важный, можно сказать – принципиальный тезис, имеющий по сути не локальное даже, но всеобщее значение, тезис, касающийся «природы» тех «объектов», или той «реальности», с которой имеет дело психология (и не только психология, конечно!), реальности, которая выдается за «объективно» существующую, и «объектов», которым приписывается естественный, природный статус. Тогда как на поверку – в свете современного методологического анализа, подобного генеалогическому анализу, который здесь по отношению к сексу проделывает Фуко, – с очевидностью выясняется не «неестественный», «неприродный» характер этих «объектов» (хотя генеалогического анализа заслуживает – как показывает Хайдеггер в известной своей работе о сущности и понятии «фюзиса» у Аристотеля – и самая эта, некритически эксплуатируемая нами, идея «природы»!), но также, и прежде всего, их «внешний» по отношению к соответствующим наукам и даже специальным (скажем, терапевтическим) практикам – характер. Выясняется, что эти «объекты» формируются не внутри самих этих научных исследований, научных предметов или даже не внутри собственно психопрактик, но сплошь и рядом внутри и ввиду «нужд» и «интересов» различных стратегий власти в обществе.
Их существование в качестве «объектов» – объектов изучения или практического действия – оказывается производным и вторичным по отношению к их существованию в качестве элементов тех или иных диспозитивов власти и даже, быть может, маскирующим их действительное происхождение, их «генеалогию» и их действительный статус и подлинную роль в стратегиях власти. И располагай мы такой возможностью, можно было бы попытаться продемонстрировать это скандальное для психологии обстоятельство в отношении многих, если не большинства, самых, казалось бы, «твердо установленных» в этой науке вещей.
А из этого, далее, – и именно в силу того, что «объекты» эти берутся, а лучше сказать: «выставляются» самими науками и практиками в качестве якобы уже изначально предстоящих им, естественных и автономных в своем существовании объектов, – именно в силу этого и сами развертывающиеся по отношению к этим «объектам» исследования и практики также оказываются «втянутыми», вовлеченными в осуществление стратегий власти, «захваченными» властью и ее «диспозитивами», а честнее было бы сказать: позволяют власти проделывать над собой такое, вступая с нею в заинтересованный сговор и давая согласие на нее работать.
Причем «изнутри» самих наук или практик – опять же: вопреки их базовым мифологемам, или «идеологемам» и, прежде всего, фундаментальной ценности и идеалу – «научного познания», а заодно и основанию для понимания эффективности практики, – идее «объективной истины», ориентация на которую позволяет якобы науке и практике достигать «свободы от» власти, – сами позитивные науки за счет, через развертывание своих предметных исследований принципиально не могут не только «извлечь» себя из этой «повязанности» властью, из ее сетей, но даже, как мы можем в этом снова и снова убеждаться, даже просто отдать себе в этом отчет и принять это всерьез как некий критически важный факт. А не сумев сделать этого, они, вопреки своим прекраснодушным убеждениям, каждым своим шагом продвигаются не к «свободе» от власти, но, напротив, ко все большей своей «встроенности» в диспозитивы власти.
В силу чего они не только не являются «объективными», но и не могут стать таковыми – как бы парадоксально это ни звучало, – не переставая быть тем, что они есть (то есть частями «диспозитивов власти»), не изыскав возможности для своей радикальной трансформации.
Но для этого они и должны были бы выполнить тот «генеалогический» анализ (или» деструкцию», или «деконструкцию») своего «объекта», образец которого дает Фуко в своей Истории сексуальности», анализ, который, как я говорил, и должен вести к радикальной трансформации самой исследовательской мысли, трансформацию, как я говорил, «катастрофической», нарушающей этой мысли непрерывность. Трансформации, стало быть, предполагающей ее – этой мысли – готовность «начать все сначала» и на совершенно иных основаниях.
Готова ли к этому «психологическая» мысль? Если бы не недостаток места, следовало бы воспроизвести один чрезвычайно сильный пассаж из Фуко – его прямой и прямо-таки убийственный выпад против претензии позитивных наук (в том числе и психологии) на объективность, – который приводится в комментариях к нашей книге. Вернемся к основной линии рассуждений Фуко.
«Понятно, – говорит дальше Фуко, – что именно диспозитив сексуальности и устанавливает внутри своих стратегий эту идею “секса”: и в этих четырех главнейших формах – истерии, онанизма, фетишизма и прерванного коитуса – и выставляет он “секс” как нечто, подчиненное игре целого и части, первоначала и недостатка, отсутствия и присутствия, избытка и нехватки, функции и инстинкта, финальности и смысла, реального и удовольствия. Так, мало-помалу, сформировался корпус идей общей теории секса.
Так вот, эта теория, порожденная таким образом, выполняла ряд функций внутри диспозитива сексуальности, которые и сделали ее (теорию. – А.П. ) необходимой».
И вот дальше следуют исключительно важные слова Фуко. «Три из них были особенно важными. Понятие “секса” позволило, во-первых, перегруппировать в соответствии с некоторым искусственным единством анатомические элементы, биологические функции, поведения, ощущения и удовольствия, а во-вторых, позволило этому фиктивному единству функционировать в качестве каузального принципа, вездесущего смысла, повсюду требующей обнаружения тайны: “секс”, таким образом, смог функционировать как единственное означающее и как универсальное означаемое».
И в самом деле, разве идея «секса» – возьмем тот же фрейдовский психоанализ – не задает некую конечную точку понимания или даже – причинного объяснения, некий универсальный объяснительный принцип? Ведь точку зрения Фрейда можно было бы сформулировать в виде своеобразной максимы: мы действительно, по-настоящему, понимаем нечто – в рамках аналитической работы, но даже и вообще: в человеке – только тогда и в той мере, когда и поскольку мы можем раскрыть «второй», скрытый смысл понимаемого (будь то невротический симптом, сновидение, ошибочное действие или забывание намерения) в терминах «оттесненных» в бессознательное конфликтов, – конфликтов, снова и снова обнаруживающих свою эротическую, сексуальную подоплеку. То есть – если можем «свести» понимаемое, или требующее своего объяснения, или то, от чего мы хотим «освободить» пациента, к его сексуальной «основе», к его «либидозным корням».
«И, кроме того, – продолжает Фуко, – подавая себя однообразно – и как анатомию и как недостаток, как функцию и как латентность, как инстинкт и как смысл, – “секс” смог обозначить линию контакта между знанием о человеческой сексуальности и биологическими науками о воспроизведении рода: таким образом, это знание, ничего реально у этих наук не позаимствовав – за исключением разве что нескольких сомнительных аналогий и нескольких пересаженных понятий, – получило благодаря привилегии такого соседства некую гарантию квазинаучности…»
То есть, говорит Фуко, благодаря «обоснованию» своих положений «через» представления таких дисциплин, в «научности» которых, вроде бы, не возникает сомнений – а «настоящие» науки, понятное дело, это науки «естественные», – благодаря такому обоснованию и та же психология, или тот же психоанализ приобретают как будто бы – прежде всего, конечно, в своих собственных глазах, но также в глазах своих методологически наивных сторонников и даже – оппонентов! – некую видимость – конечно же, только видимость! – «научности».
«…Но, – замечает Фуко, – благодаря этому же соседству некоторые положения биологии и физиологии выступили в качестве принципа нормальности для человеческой сексуальности».
Вот мы и добрались в нашем чтении Фуко до темы «нормы».
Эта самая тема, или проблема, «нормы» и, соответственно, «отклонения», или «патологии», и прежде всего – по отношению к человеческой сексуальности, была для Фуко, конечно, вовсе не абстрактной, не академической – пусть бы даже и сколь угодно важной – проблемой, но, как понятно уже из немногих приведенных деталей его биографии, она была его собственной, личной, причем – чрезвычайно острой и серьезной, темой и проблемой.
Фуко был гомосексуалом и в молодости очень тяжело принимал и переживал это – настолько тяжело, что стоял уже на пороге психиатрической клиники, что пытался даже покончить с собой. И просто чтобы выжить, он должен был как-то разрешить для себя эту внутреннюю, личную проблему – и в глазах других людей, в «зеркале общего мнения», но также, как мы видим, и в его собственных глазах – проблему своей «отклоняющейся», «аномальной» или, быть может даже: «преступной» (по крайней мере – в «нравственном» смысле) психической организации.
И его чрезвычайно напряженные и настойчивые, проходящие красной нитью сквозь все его работы размышления над проблемой «нормы» – и в психологическом (или: психиатрическом), и в юридическом, и, наконец, в нравственном, собственно человеческом и духовном смысле, – это для него размышления над вопросом в буквальном смысле «жизни и смерти», над вопросом «быть или не быть» ему – как человеку и как философу.
Поскольку проблема эта легко и с необходимостью ставится в прямую связь не только с вопросом о внешнем – социальном и профессиональном реноме мыслителя, о его социальной и профессиональной «интегрированности» или, напротив, отверженности и маргинальности, но ставится также в прямую связь с вопросом о «достоинстве» – духовном и даже узко: мыслительном достоинстве – самого философствования.
Проблема эта весьма остро стояла для Фуко при жизни, и не нужно думать, что она не стоит по отношению к Фуко и сегодня, и не только по отношению к его персоне (вокруг которой, несмотря на ясное сегодня понимание исключительного положения и значения Фуко в современной философии, до сих пор существует ореол одиозности), но также и по отношению к его работам, к его мысли. Достаточно сказать, что до сих пор невозможно взять тему диссертации «по Фуко» и надеяться защитить ее в той же хваленой, а на поверку выходит – такой же, как и наш родной университет, консервативной Сорбонне.
Хотя вопрос этот в философии, или по отношению к философской мысли, возник вовсе не сегодня и впервые, конечно, не в связи с Фуко – вспомним «проблему Ницше» (в связи с его «безумием») или – усиленно муссируемое до сих пор спекулянтами от философии – «дело Хайдеггера» (в связи с его «сотрудничеством с нацизмом»), хотя начинать тогда уж, как нетрудно понять, следовало бы «с самого начала» – с Сократа!
Итак, проблемы, о которых ведет речь в своей «Истории сексуальности» Фуко, – это действительно его собственные, глубоко личные проблемы. Единственное только, чего при этом нужно во что бы то ни стало избежать – так это «психологизма», психологистической редукции. Избежать этого по отношению к Фуко, что значит – по отношению ко всякой философской мысли, к мысли вообще. Избежать попытки напрямую «выводить» философскую мысль – в ее темах, проблемах, в ее собственно мыслительном содержании – из так называемых – в терминах психологии обывателя понимаемых – «личных», или «психологических», проблем.
«Врете, канальи! Он и низок и ничтожен не как вы, иначе!» Внутри самой, ищущей на них ответ, их продумывающей мысли, – если только это действительно мысль, философская мысль, – в горизонте, посредством этой мысли осуществляющего себя, вновь и вновь проходящего через точку второго рождения, сознания и личности философа и самые эти проблемы выступают иначе. И, главное: как таковые – как проблемы Фуко, проблемы Хайдеггера или Ницше – они не предшествуют мысли (и поэтому уже, тем более, не определяют ее!), но внутри самой мысли, вместе и через самую эту мысль всегда впервые только и устанавливаются, начинают существовать, вместе с мыслью – рождаются.
Вновь и вновь приходится напоминать тут слова Томаса Манна, сказанные им в свое время о Достоевском: «Важно не то, какой болезнью болен человек, но то, какой человек болен этой болезнью»! Не в том, опять-таки, как раз еще понятном и приемлемом для обывателя смысле, что «гению» дескать, можно (или даже следует) позволить (или простить) то, что недопустимо для «обычного» человека, но – в том смысле, что в случае Достоевского, в случае всякого большого, настоящего художника или мыслителя, мы имеем дело только с теми же словами называемыми, а по сути дела – с совершенно иными феноменами и, повторю еще раз: с феноменами, не предшествующими и даже не существующими – в случае художника не существующими до создаваемой им вещи искусства, в случае мыслителя – до его мысли, – но как раз с такими, которые – внутри и через внутреннюю работу, которая с рождением этой вещи искусства, с этой мыслью, связана, – впервые только и «про-из-водятся», «выводятся в существование». Мы еще вернемся к этой теме, когда обратимся к тому ходу, который в проблеме «нормы» – «нормы» сексуальной жизни, «нормы» человека вообще – намечает сам Фуко в своем размышлении о «дружбе».
Продолжим, однако, чтение текста Фуко, прерванное этими отступлениями о «личном» характере и внутреннем пафосе его мысли на исключительно важном месте.
«Наконец, – формулирует Фуко свой тезис об отношении власти и сексуальности, – понятие “секса” обеспечило основное переворачивание: оно позволило обернуть представление об отношениях власти к сексуальности и явить эту последнюю не в ее существенном и положительном (то есть как именно от власти получающую самое свое существование и развитие. – А.П. ) отношении к власти, но как якобы укорененную в некой специфической и неустранимой инстанции, которую власть пытается, насколько может, себе подчинить; вот так, – заключает Фуко, – идея “секса” (именно: «секса»! – А.П. ) позволяет умолчать о том, что составляет “власть власти”…»
То есть умолчать о том, что позволяет власти властвовать над людьми, протягивать свои «щупальца» даже в эти, самые «частные», самые «личные» и самые, казалось бы, «труднодоступные», «недосягаемые» для нее области жизни, – добираться до этого и, больше того: благодаря этому, через это получать власть, еще большую власть и в других областях жизни – полнее, «плотнее» и эффективней властвовать вообще. То есть «власть власти», ее тайная, скрытая и маскируемая от нас ее сила, говорит Фуко, состоит в этой «фигуре умолчания». Состоит в «умолчании» о действительном отношении между властью и сексуальностью, – в том, что это «умолчание» власти удается. А удается оно – на что с пафосом и указывает Фуко – именно с помощью маскирующего действительное отношение и «пускающего нас по ложному следу» в поиске и понимании действительной «природы» человеческой сексуальности – понятия, или идеи, «секса»!
И вот – что и как – пишет дальше Фуко!
«“Секс”, – эта инстанция, господствующая, как нам представляется, над нами; эта тайна, которая кажется нам лежащей подо всем («под-лежащей», то есть «суб-станцией». – А.П. ), чем мы являемся; эта точка, завораживающая нас властью, которую она проявляет, и смыслом, который она таит; точка, у которой мы просим открыть нам, что мы такое есть, и освободить нас от того, что нас определяет (то есть, как мы полагаем, делает нас несвободными. – А.П. ), “секс” есть, без сомнения, всего лишь некая идеальная точка, которую сделали необходимой диспозитив сексуальности и его функционирование».
Как пишет Фуко! Трудно остаться спокойным, читая такие страницы! А у Фуко они, надо сказать, встречаются нередко.
Итак, «секс», говорит Фуко, есть только некая «идеальная» – а лучше, быть может, сказать: «мнимая» – точка, «мнимая» в том смысле, который понятию «мнимых величин» придается в математике или в оптике, когда говорят о «мнимом фокусе» линзы. Или, еще иначе – уже приводившимися словами Маркса – можно было бы сказать: «секс» – это только некий «желтый логарифм» сознания, «превращенная форма» сознания. То есть «секс» – это некое – особое по своей конституции – «образование сознания», или: образование – «мнимость» – некоего особым образом конституированного, особым образом «проработанного» сознания.
Конституированного, а стало быть, и «проработанного» – как вновь и вновь проводит эту мысль Фуко – в интересах, в составе и в «логике» соответствующего диспозитива власти. «Секс» – это «мнимый фокус», на котором «стягиваются», относительно которого «рас-полагаются» (вот оно, кстати, «рас-положение»), и – именно внутри соответствующего диспозитива власти (то есть внутри ее, «власти диспозитива сексуальности») многочисленные и множественные, как выражается Фуко, «эффекты сексуальности».
«Не следует представлять себе, – продолжает мысль Фуко, – какую-то автономную инстанцию “секса”, которая вторичным образом производила бы вдоль всей поверхности своего контакта с властью множественные эффекты сексуальности».
Обычно полагают, что «секс», как своего рода «суб-станция» («под-лежащее» – как чуть раньше говорил Фуко – всей нашей жизни), с одной стороны, и «власть» – с другой, вступают во взаимодействие – «конфликтное» взаимодействие, – а все «лежащие на поверхности» феномены сексуальности суть только вторичные проявления результатов, или эффектов – «поверхностных» эффектов, – этого взаимодействия, взаимодействия по большей части «скрытых», «глубинных», «сущностных» сил, или «пружин». Фуко же пытается опрокинуть эти, такие привычные и, казалось бы, столь основательно разработанные (вспомним тут, опять же, хотя бы фрейдовскую схему отношения между «Эго» и «Супер-Эго») представления.
«Напротив, – утверждает он, – “секс” является наиболее отвлеченным, наиболее идеальным и наиболее внутренним элементом диспозитива сексуальности, который организуется властью в точках захвата ею (властью. – А.П. ) тел (наших тел. – А.П. ), их материальности, их сил, их энергий, их ощущений, их удовольствий. Можно было бы добавить, что “секс” выполняет и еще одну функцию, которая пронизывает первые и их поддерживает. Роль на этот раз – более практическая, чем теоретическая. В самом деле: именно через “секс” – эту воображаемую точку (вот она – «мнимость»! – А.П. ), закрепленную диспозитивом сексуальности, и должен пройти каждый, дабы получить доступ к своей собственной интеллигибельности (поскольку он, этот “секс”, является одновременно и потаенным элементом и первоначалом, производящим смысл), к целостности своего тела (поскольку он является реальной и угрожаемой (в смысле как раз угрозы кастрации». – А.П. ) частью этого тела и символически конституирует его как целое), к своей идентичности (поскольку к силе импульса “секс” присоединяет единичность некой истории).
И вот в результате переворачивания, которое подспудно началось, без сомнения, не вчера, но уже в эпоху христианского пастырства плоти, мы сегодня дошли до того, что стали испрашивать нашу интеллигибельность у того, что на протяжении стольких веков считалось безумием, полноту нашего тела – у того, что долгое время было его клеймом и как бы раной, свою идентичность – у того, что воспринималось как темный напор без имени. Отсюда – то значение, которое мы ему придаем, тот благоговейный трепет, которым мы его окружаем, то усердие, которое мы вкладываем в его познание».
Тут приходится сделать еще одну досадную купюру, и дальше:
«Создав такой воображаемый элемент, каковым является “секс”, диспозитив сексуальности породил один из главнейших принципов своего функционирования: желание его иметь, желание получить к нему доступ, его открывать, его освобождать, артикулировать его в дискурсе, формулировать его в виде истины».
Мы видим, как у Фуко, наконец, соединяются все основные темы: «секса», его «желания», «освобождения», «познания» и артикулирования в дискурсе о «сексе».
«Самый “секс” он, – то есть диспозитив сексуальности, продолжает Фуко, – конституировал как нечто желаемое. И именно эта желаемость “секса” и связывает каждого из нас с предписанием его познавать, раскрывать его закон и его власть; именно эта желаемость и заставляет нас думать, что мы, наперекор всякой власти, утверждаем права нашего “секса”, тогда как на самом деле желаемость секса привязывает нас к диспозитиву сексуальности, который заставляет подниматься из глубин нас самих – как некий мираж, в котором, как нам верится, мы узнаем самих себя, – черное сияние “секса”».
«Ай да Фуко, ай да сукин сын!» – да, вот он – Фуко! Что тут еще сказать!
И теперь – последний кусок. Он уже не из первого тома» Истории сексуальности», как все предыдущие, а из «Предисловия» Фуко ко второму тому. Но и тут, к сожалению, приходится начинать не с начала, но делать купюру, из-за чего поначалу возникают небольшие неувязки.
«Изучение способов, которыми индивиды приводятся к признанию себя в качестве субъектов сексуальности, доставляло мне гораздо больше трудностей.
Понятие “желания” или понятие “желающего субъекта” представляло собой в то время если и не теорию, то по крайней мере общепринятую теоретическую тему. Само это принятие было странным: именно эту тему, пусть и в разных вариантах, можно было и впрямь обнаружить как в самом центре классической теории сексуальности, так и в концепциях, которые стремились себя от нее отделить; опять-таки – именно эта тема, казалось, была унаследована в 19 и в 20 веках от давней христианской традиции. Пусть как особая историческая фигура опыт сексуальности и отличается от христианского опыта “плоти”, все же, кажется, оба они подчинены принципу: “человек желающий”. Во всяком случае, трудно было анализировать образование и развитие, начиная с 18 века, опыта сексуальности, не проделывая по отношению к “желанию” и “желающему субъекту” исторической и критической работы. Не предпринимая, стало быть, “генеалогического анализа”».
Это все теперь должно быть понятно. И вот дальше следует чрезвычайно важное разъяснение:
«“Говоря генеалогия”, я имею в виду не создание истории следующих друг за другом концепций “желания”, “вожделения” или “либидо”, но анализ практик, при помощи которых индивиды приводятся к тому, чтобы обращать внимание на самих себя, чтобы себя дешифровывать, чтобы опознавать и признавать себя в качестве “субъектов желания”, вовлекая в игру некоторое отношение этих субъектов к самим себе, позволяющее им обнаруживать в “желании” истину их бытия – каким бы оно ни было: естественным или падшим».
То есть – генеалогический анализ должен иметь дело не с представлениями, но с самими практиками, являющимися элементами соответствующих диспозитивов власти.
В свете этого тезиса Фуко, должен быть понятным тот ход анализа, который реализуется нами в данном случае по отношению к психологии и психотерапии в связи с проблемой «нормы». Равно как и те опыты анализа – генеалогической критики – психологии и психопрактик, которые предпринимались нами прежде, в частности, по отношению к психоанализу. Психоанализ, как это подчеркивалось, должен браться не как совокупность представлений, но именно как «практика» (в «широком», правда, и нестрогом смысле слова, ибо в узком и строгом смысле слова, как мы пытались показать, психоанализ «практикой» не является), должен браться как практика, по возможности, во всей ее полноте. Что должно означать – как теперь понятно – не только то, что практику эту с необходимостью нужно брать со всеми ее внутренними, собственно психоаналитическими, психотехническими, «потрохами» (включая – уже в этом их качестве – и те самые, совершенно «несостоятельные» с точки зрения обычных критериев проверки на истинность, психоаналитические теоретические построения, которые внутри самой психоаналитической работы как раз и выполняют определяющую весь ход этой работы – а стало быть, и тот опыт, проходя через который пациент (как, впрочем, и терапевт) претерпевает соответствующую трансформацию – функцию, – инструментальную, психотехническую функцию) – во всей полноте, стало быть, не только в этом, скажем теперь – собственно «психотехническом» – смысле, но и в смысле «встроенности» самой психоаналитической практики в более широкие рамки соответствующих диспозитивов власти.
«Короче говоря, – продолжает Фуко, – идея этой генеалогии состояла в том, чтобы понять, каким образом индивиды приводились к тому, чтобы осуществлять на самих себе и на других некую “герменевтику желания”, для которой сексуальное поведение этих индивидов, без сомнения, было удобным случаем, но, конечно же, не исключительной областью. Стало быть, чтобы понять, как современный индивид мог получать опыт самого себя как “субъекта сексуальности”, необходимо было выявить сначала, каким образом западный человек в течение веков приводился к тому, чтобы признавать себя как субъекта желания».
Здесь мне придется закончить чтение Фуко. И попытаться в заключение буквально в нескольких фразах обозначить тот позитивный ход Фуко в обсуждении проблемы «нормы» и «отклонения» – не только «нормы» человеческой сексуальности, но и «нормы» человека и человеческой жизни вообще, – который был намечен им в небольшом по размеру интервью, которое незадолго до смерти он дал одному американскому «голубому» журналу.
По своему внутреннему содержанию это – очень личное и открытое интервью, потребовавшее от Фуко, надо думать, мужества и свободы – действительной внутренней свободы. Он, конечно же, прекрасно понимал, почему журналист именно к нему обратился со своими вопросами о гомосексуальности – понятное дело не потому только, и даже: вовсе не потому, что Фуко – автор пусть и «нашумевшей», но нашумевшей скорее «за глаза» книги, ибо вряд ли бы нашелся хотя бы один читатель этого журнала, который эту книгу прочел (из характера задаваемых журналистом вопросов можно заключить, что и он едва ли дал себе труд всерьез ознакомиться с ней!); и не для того даже, чтобы использовать уникальную возможность получить от самого автора доступное для широкой публики и вместе с тем авторитетное изложение основных его мыслей и взглядов. Ясное дело, что, прежде всего – потому, что Фуко сам есть «особый случай», или «экземпляр», гомосексуала и, тем самым, его рассуждения на эту тему должны обладать для читателей особой «пикантностью», а вместе с тем, поскольку случай Фуко – это случай особого, выдающегося человека и к тому же еще – философа, обладающего огромным авторитетом в интеллектуальном мире, то самая «демонстрация» его в качестве представителя этой «отверженной» части рода человеческого должна способствовать «самоутверждению» каждого гомосексуала как в своих собственных глазах, так и в глазах общества (установка, которая пронизывает, чтобы не ходить далеко, недавно вышедшее у нас в переводе «Жизнеописание ста наиболее выдающихся (так!) геев и лесбиянок» всех времен и народов, где Фуко, кстати, отводится весьма почетное место «под нумером тридцать вторым» (!?) сразу вслед за Марселем Прустом).
И до поры до времени забавно – но с какого-то момента это начинает вызывать тоску и даже раздражение, – как собеседник Фуко маниакально упорно пытается снова и снова повернуть беседу на эту наезженную дорожку. С Фуко, правда, этот номер не проходит, и он так же упрямо гнет свою, совершенно перпендикулярную линию.
А линия эта состоит в том, чтобы дать понять – не своему собеседнику уже даже: с какого-то момента Фуко приходится махнуть на него рукой, но – читателям, нам дать понять, что действительная проблема состоит тут не в том, чтобы добиться «равноправия» для гомосексуалов, не в том, чтобы заставить общество признать право на существование – и именно как «нормальных» – существующих форм гомосексуальных отношений, соответствующих форм жизни, не в том, стало быть, чтобы доказать, что они, эти существующие формы гомосексуальных отношений» такие же нормальные, как и гетеросексуальные, но в том, чтобы понять, наконец, как это ни парадоксально на первый взгляд, нечто прямо противоположное: что существующие формы гомосексуальной жизни – глубоко ненормальные и даже – патологические, больные, нездоровые формы жизни, – такие же ненормальные и даже патологические, как и… существующие формы так называемой «нормальной» и «здоровой», гетеросексуальной жизни!
В каком же это смысле?! – В том, который теперь, я думаю, должен быть хорошо понятен.
Включаясь в борьбу за права «подавляемых и преследуемых» властью социальных «меньшинств» – в борьбу, казалось бы «против власти», – на самом деле, говорит Фуко, мы делаем нечто такое, что позволяет власти нами в своих интересах манипулировать; вопреки тому, что мы думаем – а точнее: что хотят, чтобы мы думали, – мы прямо-таки «своими руками» и помогаем власти уловить нас в расставленные ее «диспозитивом сексуальности» невидимые сети, позволяем «встроить» себя в качестве винтиков в механизмы, которые как раз и обеспечивают наиболее эффективную реализацию стратегий власти.
Когда мы боремся за «освобождение» желаний и за их «свободную» реализацию, то следует еще спросить себя: за «освобождение» каких желаний, или даже: за реализацию чьих желаний мы боремся?!
Ибо не окажется ли при этом, что на самом деле мы будем бороться за реализацию чьих-то чужих «желаний» или, быть может, даже: чьего-то «желания» вложить в нас, навязать нам – как наше собственное и «витальное» – какое-то чужое и кому-то нужное в нас «желание»?!
Ведь, быть может, «желание» это не только не является «естественным» (все равно при этом, какой «природе» соответствующим – «нормальной» или же «извращенной»), но, напротив, будет как раз тем, таким, которое закрывает и даже по самой своей сути и предназначено закрывать для нас возможность эту – действительную – свою человеческую «природу» раскрывать и реализовывать в своей жизни, «исполняться» в своей жизни в качестве человека, что, в свою очередь, быть может, значит: исполняться в своем уникальном назначении, призвании, судьбе, их в своей жизни достигать, с ними себя, свою жизнь соединять – быть может: впервые и: снова и снова?!
Коль скоро мы будем бороться за то – и, конечно, «добьемся-таки» этого! – чтобы жить, исходя из этих «своих» – а на самом деле непонятно кем и с каким умыслом вложенных в нас, «вмененных» нам – «желаний», достигнем ли мы свободы? Эта реализация чьей-то чужой «воли» в нас, этого чужого желания, которым мы одержимы, этот его произвол в нас – это и есть «свобода»?
Фуко – в противовес всем и всяким «борцам за права» «секс-меньшинств» – хочет сказать, что гомосексуальные отношения ничем не отличаются от гетеросексуальных не в том «гейском» смысле, что они «ничем не хуже» гетеросексуальных, но как раз, наоборот, – в том, парадоксальном и, конечно же, неприемлемом для обыденного сознания смысле, что они «ничем не лучше» этих, так называемых «нормальных» и «здоровых», а на поверку – таких же глубоко «ненормальных» и «нездоровых» – гетеросексуальных отношений. От которых, как от той «печки», «танцуют» в понимании «здоровья» и «нормы» как заклятые враги гомосексуалов, так и рьяные их защитники.
Равно как и исходящие из расхожего представления о «норме» – казалось бы, прямо противоположные, и не на жизнь, а на смерть противостоящие друг другу, движения – «борьба против» и «борьба за» – на поверку, по сути своей, как оказывается, ничем не отличаются друг от друга!
И, подчеркнем еще раз, речь тут идет по сути уже не о «норме» сексуальных отношений, но о – стоящей за ней – «норме» человека вообще, то есть о некой тотальной и фундаментальной антропологической идее.
Существующие формы гомо– и гетеросексуальной жизни не отличаются друг от друга не только по их отношению к власти или их взаимоотношениям с властью (о чем шла речь до сих пор), но они не отличаются друг от друга – что для Фуко, как это выясняется из интервью, не менее важно или даже: что для него, в конечном счете, только и имеет значение! – не отличаются по их отношению к самому человеку: человеку в перспективе обретения им действительной свободы. Не столько уже «свободы от», свободы по отношению к власти, сколько: «свободы для» – для раскрытия человеком действительной своей «истины» (как выражается Фуко) или «откровения» о себе (в истории) и исполнения себя в качестве человека.
То, за что действительно стоит бороться, говорит Фуко, это не за существующие формы отношений – безразлично: гетеро– или гомосексуальные, – но, напротив, за их радикальную трансформацию, за новые формы этих отношений и вообще – жизни, которые нужно еще угадать и найти и которые были бы не только достойны нас как людей, но открывали бы для нас возможность – быть может, впервые – исполниться, «с-быться» в качестве человека, где человеку – что тут значит, по необходимости: новому и каждый раз заново рождающемуся человеку – вообще было бы место, – как сказал поэт: «было место, где жить».
Почему, когда я слушаю Бетховена, стою перед пейзажем Ван Гога, выполняю медитацию или, в конце концов, мыслю, я могу надеяться на то, что внутри этого и через это я смогу пройти в такую «точку» или в такое «место» – место, как мы говорили, своей абсолютной незаместимости, место, где я могу родиться в том самом декартовском мире свободы, где «всегда еще ничего не случилось», и где мне – именно мне! – «всегда уже есть место», и где, наконец, бог – мой бог! – «всегда невинен», – где я могу родиться, иначе говоря, в качестве свободного духовного существа, – почему тут – в искусстве, в медитации, в мысли – это все возможно, и почему формой такой жизни, такого духовного поиска – ничуть не хуже (вот она – новая «печка», от которой предлагает нам «танцевать», от которой только и соглашается «танцевать» в понимании «человека» и его «нормы» Фуко!), нежели слушание Бетховена, видение Ван Гога, чтение Пруста или самого Мераба Константиновича, – не может быть, не может стать… – вот только – что? – сказать все то же слово «сексуальность», «сексуальные отношения», или даже «близость», или что-нибудь в этом роде уже как будто бы тут и язык не поворачивается, – а собственно – почему?! Почему, – по сути, вопрошает тут Фуко, – мы пришли к тому, чтобы считать чем-то невозможным, несуразным или даже кощунственным это? Хорошо, назовем это «любовью», «дружбой»…
То, что мы начинаем тут искать слова и не находим их – слова, единственно адекватные и точно соответствующие тому, о чем мы тут начинаем говорить, – это, конечно же, не случайно: другого и не может быть. И по двум причинам.
Во-первых, в силу того, «о чем» мы тут пытаемся, должны говорить. А говорить мы должны о действительно новых формах жизни. Которых не было – никогда и нигде – прежде и даже: не могло быть! Которые, с точки зрения всего того, что в качестве таковых было известно и называлось соответствующими именами прежде, были невозможны и немыслимы. А появись – с необходимостью оказались бы для нас по ту сторону всего, что мы готовы были бы, могли бы себе позволить признать и принять в качестве таковых, признать, исходя из своих представлений о том, что это такое есть, чем это вообще может и должно быть, дабы не переставать быть тем, что оно есть, чем до сих пор оно было, дабы оно вообще еще могло бы называться тем же, прежним словом: «сексуальность», положим, или даже и «дружба».
Больше того, говоря поразительными словами Мераба Константиновича, сказанными им в связи с Декартом, в связи с декартовым пониманием «свободы» или, точнее: в связи с пониманием феномена картезианской свободы» (а стало быть, – и мысли», но также и «поступка», или «судьбы», или «любви» – любого из феноменов собственно человеческой, духовной жизни), – говоря этими странными словами Мераба Константиновича: то, о чем мы должны тут начать говорить, – это нечто, чего в некотором смысле не только нигде и никогда не было прежде, но также и нигде и никогда не будет и даже: нечто, что вообще «не есть»! Именно так – в такой «неправильной», или, опять же: «ненормальной», грамматической форме – следует говорить тут, «правильно» говорить тут: «то, что не есть». Здесь уже «норма» и «правильность» встают «поперек дороги» мысли – внешняя «нормальность» и извне диктуемая речи «правильность».
«Нормальность» и «правильность», внешние по отношению к самому акту свершающейся мысли, извне предписываемые ему – чем? – только, конечно же, не другой мыслью, ибо не только мысли невозможно ничего предписать извне, но и мысль ничему (и прежде всего – другой мысли!) не может ничего предписывать (и прежде всего – «норму», некое «так должно быть»!).
Тут, кстати, и для Мераба Константиновича и для Фуко лежит «основание» для утверждения принципиальной невозможности для мысли быть «ангажированной», или, что то же, иметь непосредственные последствия, или «порождать» что бы то ни было, кроме самой же – другой – мысли.
«Свобода, – как мы помним, – “порождает” только свободу»! Другую и, быть может, – «большую» свободу. Мы, конечно, помним эти невероятные слова Мераба Константиновича!
Все это сопряжено с тем или есть только другая сторона того, что в рамках этой развертываемой Фуко «Истории сексуальности» происходит радикальный пересмотр самого понятия «нормы».
То понимание «нормы», к которому нас подводит Фуко, по существу «перечеркивает» прежнее. Причем – что решающе важно – перечеркивает не прежнее даже «содержание» этого понятия, не прежнее понимание «нормы» чего-то – скажем, той же сексуальности – по ее содержанию, по ее конкретному культурно-историческому содержанию (положим, той же «сексуальности» – как гетеросексуальных отношений в моногамном браке), – но перечеркивает самое понятие «нормы», «нормы вообще», – вне зависимости от того или иного конкретного, культурно-исторического ее «содержания», – «нормы», стало быть, не только «прежней» и даже «всякой», но «нормы» «как таковой», по понятию!
Нельзя не усмотреть поразительной параллели, а по сути даже – тождества! – между этим генеалогическим анализом «нормы» у Фуко и анализом «ценностей» у Фридриха Ницше в его «генеалогии морали».
У Ницше речь ведь идет также не о пересмотре («переоценке») каких-нибудь конкретных ценностей – по их, положим, культурно-историческому содержанию, – но о «переоценке всех ценностей», то есть о радикальной «критике» (и именно – о «генеалогической» критике, то есть о критике через «вскрытие» происхождения – понятное дело: в свете определенной ключевой, «разоблачающей» идеи – знаменитой, хотя и редко правильно понимаемой – идеи «воли к власти») самого понятия, или о «генеалогическом разоблачении» самой идеи «ценности вообще», или даже: об «освобождении» мысли – философской мысли – от «привычки», от необходимости мыслить в категориях «ценности».
Конечно же, здесь мы не имеем возможности обратиться к этой захватывающей и чрезвычайно важной теме – теме «Фуко и Ницше», – важной, я думаю, не только для понимания мысли Фуко и ее «генеалогии», но в не меньшей мере, как ни парадоксально, также и для понимания мысли Ницше и ее «генеалогии».
Все, что я могу себе здесь позволить, это привести небольшую выдержку из большой, двухтомной хайдеггеровской работы о Ницше. Часть ее – под названием «Европейский нигилизм» – существует и в качестве самостоятельного текста. Он вошел – в замечательном переводе Владимира Вениаминовича Бибихина – в подготовленный им сборник работ Хайдеггера «Время и бытие».
Я хочу прочитать то невероятное место, где Хайдеггер, который, по понятным причинам (работа была написана Хайдеггером, когда Фуко, что называется, «под стол пешком ходил»), не мог читать Фуко, тем не менее, прямо-таки его словами передает ницшевское понимание действительного отношения между «ценностями» и «властью», понимание, поразительным образом совпадающее с только что разобранным нами пониманием отношения между «властью» и «сексуальностью» у Фуко.
«Поскольку метафизика Ницше, – пишет Хайдеггер (это страница 107 и самое начало следующей), – стоит “по ту сторону добра и зла”, пытаясь, прежде всего, выработать и занять эту позицию как принципиальную и основополагающую, постольку Ницше вправе называть себя “имморалистом”.
Этот титул, однако, никоим образом не означает, что мысль и настроение не-моральны в смысле занятия позиции против “добра” и за “зло”».
Кавычки Хайдеггера внутри цитаты предназначены подчеркнуть, что речь идет о категориях существующей морали – и в их конкретном, пусть в разных системах морали различном, содержании, и «ценности» берутся тут по их «положению» в общей «экономике» человеческой мысли и действия – по их, как сказал бы тут Хайдеггер, «метафизическому статусу», – по их «положению» в качестве «оснований» – последних и абсолютных, безусловных и несомненных оснований мысли и действия человека.
То есть, говорит Хайдеггер, «им-моральны» у Ницше не означает «противо-моральны», не означает оппозиции внутри существующей морали (на что, кстати, указывает уже и самая морфология соответствующего латинского по своему происхождению слова, в котором префикс «им-» означает не «отрицание» в смысле противо-стояния, оппозиции, то есть означает не «не-», не «противо-», но скорее «без» или «вне-» («по ту сторону», как предельно точно и артикулирует этот смысл сам Ницше). Почему я и позволил себе в бибихинском переводе вместо русифицированного префикса «не-» сохранить латинизированный «им-»). Итак, продолжает Хайдеггер:
«Без морали – значит (у Ницше. – А.П. ): “по ту сторону” добра и зла. Это, опять же, не значит: вне всякой законности и порядка, но значит: внутри нового полагания другого порядка против хаоса.
“Мораль доброго человека”, – продолжает Хайдеггер, – источник прежних верховных ценностей. Добрый “человек” полагает эти ценности как безусловные. Таким образом, они оказываются условиями его “жизни”, которая, будучи бессильной по отношению к власти, требует для себя возможности заглянуть в вышележащий сверхчувственный мир. (…)
“Добрый человек” этой морали есть, мысля метафизически, тот человек, который “ничего не подозревает” о происхождении ценностей, которым он подчиняет себя как безусловным идеалам. Это неподозревание о происхождении ценностей держит человека в стороне от всякого эксплицитного понимания происхождения ценностей, а именно, – и вот что дальше говорит Хайдеггер: от понимания этого держит человека в стороне неведение о происхождении «ценностей», – что они [эти ценности] суть установленные самою волей к власти условия ее собственного поддержания».
Поразительно! Тут, правда, можно было бы сказать: но ведь это же все-таки Хайдеггер! Нет – следует ответить резко: это – Ницше! Это именно сам Ницше, которому хайдеггеровское его чтение лишь позволяет заговорить, дает возможность говорить – сегодня и нам. Причем в данном случае к тому же – говорить его собственными словами, которые этим хайдеггеровским их чтением лишь поставлены в такой контекст, который и позволяет именно им самим, этому «слову другого», и – именно ему, каждый раз незаместимому и единственному, а не чему-то «вместо него» и расхожему, и к тому же – впервые, «всегда впервые» – здесь-и-теперь сказаться в со-бытии нам. В этом, заметим, собственно и состоит «интерпретация» – действительная интерпретация, интерпретация в хайдеггеровском ее понимании, интерпретация, не заступающая собой интерпретируемое, но напротив, впервые дающая ему место, интерпретация, «высвобождающая» интерпретируемое, «открывающая ему дорогу», как выражается где-то сам Хайдеггер (открывающая эту дорогу, между прочим, и тем, что она «расчищает завалы» на пути, образованные вмененными нам штампами понимания, блокируя их действие в нас).
«“Наивность”, – продолжает Хайдеггер, – равнозначна здесь “психологической невинности”, что значит, согласно ранее сказанному: незатронутость всяким пересчетом “сущего” и, тем самым, “жизни” с ее условиями, на волю к власти».
Этот «пересчет всего сущего и самой жизни на волю к власти» – центральная и зачастую так превратно понимаемая мысль Ницше – есть, конечно же, то же самое, что и «приведение» той же «сексуальности» к «диспозитиву власти», то есть рассмотрение ее в «приведении», в составе, как несамостоятельного элемента этого диспозитива власти.
При той, правда, существенной оговорке, что самая «власть» при этом рассматривается Фуко, конечно же, уже совершенно иначе, нежели у Ницше, который в этом месте располагается еще целиком в пределах традиционных и во многом даже вульгарно-психологистических представлений. Другое дело, что в отличие, положим, от Фрейда, этого «кондового естествоиспытателя середины девятнадцатого века в духе Бюхнера и Молешотта» – мы помним эту уничижительную характеристику, данную Юнгом, – у Ницше его вульгарный психологизм и даже биологизм проистекают в значительной степени из нарочито, вызывающе проводимой им установки на «снижение» и «снижающее разоблачение» традиционных ценностей.
«Поскольку такому “психологически невинному”, – следует заметить, что слово “психологически” в этом словосочетании, несомненно выдающее здесь у Хайдеггера скрытую реминисценцию с Кьеркегором, означает, конечно же, совсем другое, нежели в психологии, – (“наивному”) человеку происхождение ценностей из властного человеческого оценивания остается скрытым, постольку “наивный человек” принимает ценности (“цель”, “единство”, “цельность”, “истину”) так, словно они пришли к нему откуда-то, спустились с неба и сами по себе как таковые возвышаются над ним, и ему остается только склониться перед ними. “Наивность” как “незнание” (быть может, тут следовало бы сказать: «неведение», или даже: «игнорирование», что – по крайней мере, в русском языке – означает не просто «неведение», но также и «нежелание» знать: «не знаю и знать не желаю»!) о происхождении ценностей из человеческой воли к власти поэтому сама по себе “гипер-болична” (от др. – греч. hyper-bollein). “Добрый человек” пере-брасывает, не зная того, ценности через себя…»
Я опять позволяю здесь себе небольшие изменения в переводе Бибихина и хочу еще добавить, что среди значений греческого префикса «гипер-» есть также и столь излюбленное нашими философами – как Ницше, так и Фуко – значение: «по ту сторону», то есть «гипербола» значит, кроме прочего, также и «пере-брасывание» – в смысле «бросания (за-брасывания, про-брасывания) по ту сторону», «выхода за границу», «пре-ступания пре-дела» (последнее выражение, впрочем, как вы можете заметить, уже почти тавтологично).
«…И бросает их тому, что существует само по себе».
Эту «гипер-боличность», стало быть, можно было бы переводить еще и как: «пере-кладывание» (быть может, при этом как раз наиболее точно и полно схватывая тот смысл, который тут важен для Ницше) – прежде всего как перекладывание ответственности», что называется, «с больной головы на здоровую», и к тому же – что важно – как маскирующее действительное положение дел «пере-кладывание».
«То, что обусловлено единственно лишь самим человеком, он считает, наоборот, безусловным, обращенным к человеку с требованиями».
Обратим внимание на эту красивую и важную – больше, чем только словесную – игру Хайдеггера на словах «обусловлено» и «безусловным»: «обусловленное» и может стать (внешним) основанием нашего действия (или понимания и оценки), только будучи представлено как «безусловное».
Нельзя не заметить целого ряда «совпадений» – конечно же, не случайных и тем более – не внешних, между мыслью Фуко и Ницше. В конце концов, даже самое слово «генеалогия» – в том значении, в каком оно вошло в современную философию и снова и снова «расшифровывается» в ней (вспомним здесь хотя бы поворотную для мысли самого Хайдеггера его работу о Ницше), – самое это слово «генеалогия» в близком Фуко (хотя и не совпадающем – о чем, к сожалению, мы не имеем возможности говорить здесь) значении было введено в оборот философской мысли именно Ницше (конечно, в определенном «чтении» нами самого Ницше), и Фуко, по сути дела, «продолжает» – продумывает и развертывает – в своей идее «генеалогии» ходы мысли, намеченные именно Ницше!
Внутренняя близость этих двух мыслителей, однако, простирается, быть может, гораздо дальше совпадения отдельных мыслительных ходов и установок, – возможно, ее можно было бы проследить вплоть до предельных личностных ситуаций и до самых бытийных истоков мысли и дела жизни каждого из них, до существа жизненной драмы каждого из этих великих «потрясателей копьем» на сцене современной философии.
И можно говорить о своего рода парадоксе и загадке Фуко, состоящих в том, что как раз о тех двух мыслителях, которые, по его же собственному признанию, имели совершенно исключительное, ни с чем другим не сравнимое значение для его собственной мысли, причем именно «в паре» – один, прочитанный через другого: Ницше через Хайдеггера! – что как раз о них Фуко старательно избегал не только писать, но и говорить!
Он сам заговаривает об этом и пытается не столько даже «объяснить» этот невероятный факт, сколько впервые понять его сам, лишь в своем последнем, предсмертном, данном уже в больнице, интервью. И он пытается сделать это, исходя именно из того совершенно уникального отношения, в котором его собственная мысль находилась к их мысли.
А отношение это никогда не было и не могло быть сделано внешним, или «объективным» (чего потребовало бы намерение говорить или писать «о»), поскольку, говорит Фуко, его собственная мысль сама со-бытийно устанавливалась в нескончаемом диалоге с их мыслью, как, впрочем, и наоборот: их мысль «читалась» им, «выслушивалась», только приводясь к «существованию» его собственной мыслью, только вновь и вновь «обретаясь» им в ее со-бытийном присутствии мысли Фуко и через нее.
Фуко, по его признанию, не писал и не мог писать «о» них именно потому, что как раз эти мыслители были для него теми живыми собеседниками, во внутреннем диалоге с которыми и через него развертывалась и менялась его собственная мысль, разыгрывалась драма его собственной мысли и жизни. Красноречивое и исключительно важное для понимания Фуко признание!
То, что Фуко родился в один день с Ницше, имело для всей его судьбы – и как философа и как человека – совершенно исключительное значение, – не в каком-нибудь, конечно, «астрологическом» смысле или если и «астрологическом», то не буквальном, но гораздо более «тонком» и потаенном, можно было бы сказать – собственно историческом смысле: «под знаком» Ницше – Ницше, прочитанного «через» Хайдеггера – как под некой «путеводной звездой» действительно располагалась вся его мысль, вся его жизнь, можно даже сказать: произошло – происходило снова и снова! – его рождение как философа. В этом смысле Ницше – поистине «рождественская звезда» Фуко.
Возвращаясь теперь к самой «генеалогии», следовало бы, наконец, сказать, что вместе с радикальным поворотом в понимании того, «о чем» должна идти речь в случае «генеалогического анализа» – будь то анализа «сексуальности», или же «нормы» вообще, или же «ценности» – чего бы то ни было! – происходит также и не менее радикальный поворот в понимании того, «чем» должна быть самая эта речь, или «как» должен развертываться самый философский, мыслительный дискурс, чтобы быть именно «генеалогическим». Что значит, прежде всего: чтобы стоять в совершенно особом, можно сказать: уникальном отношении к самой выполняющей этот анализ мысли.
Ибо вести «генеалогический анализ» по Фуко и значит: реализовывать особое, новое по сравнению со всей прежней методологической традицией, отношение между этим анализом – чего бы он ни касался, – прежде всего, анализом происхождения, или, как говорит сам Фуко, «археологическим» анализом феномена – и самой ведущей этот анализ мыслью, опытом мысли.
Обычно «критический анализ» чего бы то ни было – положим, в нашем случае: «нормы» или: той же «Истории сексуальности», – анализ в обычном его понимании, пусть бы даже и в философии, пусть бы даже при этом (как у того же Ницше) и «генеалогический» анализ, – важно только опять же: при обычном, хотя и не обязательно даже расхожем его, Ницше, «чтении» – обычно «критический анализ», или просто: «критика», пусть бы даже при этом и означающая самое что ни на есть радикальное «разоблачение» анализируемого, его не-безусловного характера, разоблачение через раскрытие его происхождения, через «деструкцию» или через «де-конструкцию» анализируемого, – анализ, быть может, полностью лишающий анализируемое статуса «реальности», – даже такой, самым радикальным образом проводимый анализ может, тем не менее, оставлять или даже – при традиционном понимании «метода» – не может не оставлять саму выполняющую этот анализ мысль неизменной.
Ведь общепринятое – если не единственно нам известное – понимание «метода» как раз и предполагает (в качестве одного из сущностных его определений) его «устойчивость», или, если угодно: его «воспроизводимость».
Требование воспроизводимости метода является, по сути, только оборотной стороной «фундаментального» требования «воспроизводимости» (в пространстве и времени поля «опытов») «результатов» всякого, претендующего на «объективность», или на «объективную значимость», исследования, или «опыта».
Действительно, требование «воспроизводимости результатов» не имеет смысла, если оно не предполагает – в качестве своего «само собой разумеющегося» условия – «устойчивости», или «воспроизводимости» самого метода, то есть воспроизводимости самой процедуры или определенным образом организованной совокупности процедур исследования.
Наконец, в рамках «классического» идеала рациональности «объективность» всякого – в том числе «научного» – исследования (соответственно – «метода») предполагает также «устойчивость», или всегда, во всех точках поля опыта, абсолютное себе равенство (то есть, опять же: полную, строгую «воспроизводимость») и самого познающего «субъекта» – его «непрерывность» и его «тождество себе» в его фундаментальной «конституции» – в том, положим, что касается структур его «сознания», типа «понимания», самого типа «рациональности» отправляемой им мысли.
В рамках «классического» идеала рациональности эта рассмотренная нами тройная «воспроизводимость», или, иначе говоря: эта воспроизводящая себя «самотождественность», или «непрерывность» существования в поле опыта, во-первых, «метода» (и прежде всего – самой выполняющей анализ), во-вторых, получаемых «результатов» (и прежде всего – получаемого знания, «истины») и, наконец, – самого «субъекта» (что бы это тут ни означало) – все это по сути и оказывается условием признания чего-то в качестве «мысли», условием возможности «мысли», самого ее «существования» и «сохранения» ею себя в качестве мысли: чтобы «мысль» была и оставалась «мыслью», чтобы она вообще могла называться «мыслью», должна обеспечиваться эта тройная воспроизводимость.
С этим коррелирует также и вполне определенное понимание самого «опыта»: «опыт» тут и есть, в конечном счете, «то, что обеспечивает эту тройную воспроизводимость», или, иначе говоря, «опыт» и есть то, что обеспечивает «воспроизведение» собственно «исследовательской деятельности» или воспроизведение этой деятельностью самой себя. А, тем самым, «опыт» есть то, что обеспечивает также и «воспроизведение» в качестве таковой и самой – выполняющей анализ, ведущей исследование, осуществляющей «познание» – мысли! «Опыт» здесь, при обычном понимании метода, и есть то, что позволяет мысли существовать лишь в той мере, в какой удается обеспечивать этой мысли неизменность, «воспроизведение», удается обеспечить тождество мысли самой себе, ее «непрерывность» по всему полю опыта, во всех его точках.
В случае «генеалогического анализа» мы имеем дело не столько уже с описанием «изучаемого объекта», или даже – с описанием «опыта» этого изучения (пусть бы даже оно и означало радикальное расширение границ описания, включение в него некоего более широкого контекста ситуации, вплоть до включения в это описание самого исследователя и инструментов, приборов и процедур исследования, что, как известно, приходится делать в случае физических описаний неклассических ситуаций в той же квантовой механике, или же, как я пытался в свое время показать, в случае «психотехнического описания» того же психоанализа), – сколько с описанием для «опыта» – с описанием, создающим условия или открывающим возможность нового опыта.
Причем, опять же – не столько опыта в отношении анализируемого «объекта», сколько опыта в отношении самой мысли – возможность нового опыта мысли. Что означает, словами Фуко: «изыскание мыслью возможности быть иной»!
Ибо ведь «опыт» в понимании Фуко, как мы говорили, и есть всегда: «то, проходя через что я становлюсь иным», то есть – претерпеваю радикальную трансформацию или: вовлекаю, «отпускаю» себя в некий «метаморфоз». (Но все же, замечу: не «историю»!)
Таким образом, тому или иному пониманию «критики», а стало быть, и тому или иному пониманию «опыта» всегда соответствует – или даже: тем или иным пониманием «критики» и «опыта» задается – также и вполне определенное понимание самой «мысли», мышления.
Здесь замыкается круг нашего чтения Фуко: теперь мы видим и понимаем, как в его мысли сопрягаются идеи «генеалогии» (в ее конкретной форме «истории сексуальности»), «истории мысли» и «истории настоящего».
Теперь мы понимаем, что эти идеи не только могут быть совместимыми, а в приведении к самой работе генеалогического анализа, по существу, тождественными, но понимаем, что при том понимании самой мысли – философской мысли, – при том ее современном понимании, которое задает своей идеей «генеалогии», или «генеалогической критики разума» (прежде всего, в противовес прежней «трансцендентальной») и реализует самой своей работой, самой своей мыслью Фуко, – только так и может быть.
Применительно к психологии эту идею «генеалогии», или «генеалогической критики» психологии, в контексте методологического самоопределения психолога в современной ситуации в психологии, можно было бы сформулировать в виде «направляющего» эту критическую работу вопроса: как развертывать анализ психологии – ее современного состояния и ее истории, – чтобы этим анализом и внутри него изыскивать возможность для ведущей этот анализ, эту критическую работу мысли – для нашей собственной мысли, – изыскивать для нее возможность быть иной – иной, дабы «исправлять пути» для прихода новой психологии.
Психологии, которая была бы состоятельной перед насущными проблемами современного человека, состоятельной перед проблемами человека, живущего серьезной духовной жизнью, человека, жизнь которого через этот духовный поиск и осуществляется, человека, который с собой – «в истине» своего существа – и встречается, только и может встретиться – в получаемом внутри такого поиска опыте, в «опыте пути», человека, который через «опыт о себе», или «опыт себя», в этом поиске получаемый, и исполняется, только и может исполниться в качестве «человека». Что означает – в силу, как мы говорили, «виртуального» характера этого должного исполниться «внутреннего человека» в нас, – означает с необходимостью: исполниться всегда в качестве «нового человека».
«Нового» в том большом и серьезном – по сути и для нас сегодня, на исходе второго тысячелетия, все таком же «новом» и «неведомом», даже «немыслимом» – смысле, который сам еще должен быть сегодня – и опять же, быть может: впервые! – раскрыт, и раскрыт не до опыта о «новом человеке», но как раз в нем и через него – через попытку «извлечь» этот опыт.
Извлечь этот опыт, дабы открыть возможность другому – новому!
Это бы и означало – в данном конкретном случае, применительно к психологии, в случае «генеалогии психологии» – реализацию одной из сущностных задач «генеалогии» вообще, всякого «генеалогического анализа» по Фуко: достижение мыслью – а по сути, через нее, и всем праксисом – их (мысли и праксиса) соответствия своему «настоящему». Или, по крайней мере, достижение – вновь и вновь обретаемой – возможности такого со-ответствия, возможности «ответа» на «обращение» этого «на-стоящего».
Что – опять же, в силу «виртуального» характера этого «настоящего» – должно означать, что оно не предшествует как уже «данное» этому на него «ответу», но само только внутри этого «ответа», через него (и всегда впервые!) и устанавливается.
Этот вы-слушивающий «настоящее», вы-водящий настоящее – или, как сказал бы Хайдеггер: про-из-водящий, от-пускающий «настоящее» в его «со-бытийное» мысли присутствие – этой мысли «на него» от-вет (или, что то же: это мыслью настоящего «о-кликание», которому настоящее «позволяет открыть себе дорогу»), этот исполняющий «настоящее» «на него» мысли ответ дает также – в том же событийном присутствии «настоящему» – ис-полниться в качестве такового и самому человеку.
Иначе говоря, мысль, достигающая «настоящего», позволяет также – каждый раз заново, и не в мысли уже, но в со-бытийном присутствии «настоящему» – устанавливаться «ответу» на вопрос: «что есть человек?». Или, коль скоро он, человек, как мы говорили, и вообще «не есть», но каждый раз заново и в мире, «где всегда еще ничего не случилось» со-бытийно с-бывается, можно было бы сказать: устанавливаться ответу на вопрос: чем должен быть человек – сегодня и здесь, – чтобы вообще быть человеком?
Что значит быть «человеком» сегодня? И как это вообще еще возможно? Сегодня, когда последнюю надежду на это – как ни парадоксально – дает, быть может, абсолютная этого невозможность и немыслимость!
Можно ли мыслить сегодня так, чтобы самой этой мыслью открывать дорогу «новому опыту» – не опыту «сознания» уже даже, но опыту жизни, новой жизни – и не в каком-нибудь другом, но в том самом смысле, в каком это слово не раз говорится в Новом Завете, – опыту, стало быть, и нового человека, как бы это словосочетание, столько раз оскверненное и девальвированное в силу его ангажированности властью, и не отталкивало нас сегодня.
Но как бы – на словах отмежевываясь от этого – не оказаться на деле (пример чему – тот же психоанализ) – отдаем мы себе в этом отчет или нет – только «теснее» встроенными в тотальные стратегии этой самой власти, работающими на нее!
Чтобы не попасть в эту ловушку, необходимо «бодрствование» мысли, вновь и вновь возобновляемая в ее анализах работа мысли над собой – работа, пример которой – своей мыслью, своим делом – и дает нам Мишель Фуко.
Философия техники Хайдеггера и критика современной психотехники [141]
В рамках данной работы реализуется понимание «критики», которое, вслед за Фуко, можно было бы назвать «генеалогическим». «Генеалогическая критика», по сути своей, является радикальной альтернативой классической «трансцендентальной» критике кантовского типа. «Трансцендентальная» критика нацелена на выявление «трансцендентальных» (относящихся к конституции «трансцендентального субъекта») условий возможности анализируемых – исторических – форм мышления и практики (положим – форм мышления и практики, которые реализуются в психологии и в разного рода психопрактиках, в частности – в психотерапии); при этом она понимает свое дело как установление границ, которые мысль не может и, стало быть, не должна переступать, дабы вообще оставаться «мыслью», не переставать быть формой «рациональности». В отличие от этого «генеалогическая критика», напротив, с самого начала установлена на то, чтобы через особый «археологический» анализ, позволяющий проследить «происхождение» анализируемых феноменов и, тем самым, продемонстрировать их историческую «природу», через «разоблачение» их «генеалогии» раскрыть возможность для мысли и действия быть иными. Генеалогическая критика пытается вывести мысль из-под всякого извне ее определения. Тем самым, она означает не столько уже даже радикальный пересмотр границ мысли в их конкретном «положении» (содержании), сколько – пересмотр самого понимания мысли, задаваемого, по сути, самим ходом трансцендентальной критики; она означает постановку под вопрос самой идеи «границ» применительно к мысли.
Причем в отличие от современных форм деконструктивного анализа (в духе Дерриды), установка генеалогической критики на раскрытие для мысли возможности быть иной касается не столько уже подлежащих анализу форм мысли и действия, сколько – и прежде всего – самой ведущей этот анализ и выполняющей эту критику мысли, – касается, стало быть, не столько научно-предметной и практико-технической мысли (в данном случае – психологической и психотехнической), сколько – мысли собственно методологической и философской. В случае генеалогической критики именно эта, методологическая и философская мысль пытается извлечь из «археологической» деконструкции научно-предметных и практико-технических форм мысли и действия импульс, способный ее саму привести в движение, вывести из равенства себе и раскрыть для нее возможность собственных анаморфоз, что только и позволяло бы ей достигать со-ответствия современной – всегда новой и уникальной – ситуации и, тем самым, быть мыслью (в новом, задаваемом самой генеалогической критикой понимании мысли), – быть мыслью, которой генеалогическая критика – впервые – и открывает дорогу, которую она и приводит к присутствию, к жизни.
Еще Выготский указывал на решающее значение философии психотехники (и шире: философии практики) для поиска пути к конкретной практической психологии человека. По мысли создателя культурно-исторического подхода, именно (психо)технику (и шире: «практику») эта психология должна «поставить во главу угла» своего – «косвенного» – метода изучения человека. Выготский прозорливо замечал, что создание философии техники – задача несоизмеримо более трудная (но и важная), нежели разработка собственно научно-технической (то есть «психотехнической») теории техники. История современной психологии со всей очевидностью демонстрирует справедливость этих слов.
Именно в последние десятилетия (в последние годы – и в нашей стране) сложилась и интенсивно развивается новая парадигма психологии, которую в противовес «естественнонаучной» можно было бы назвать (собственно, так она сама себя и именует) «психотехнической» парадигмой. Для нее характерен не только совершенно особый тип теории, но и совершенно особое отношение между теорией и практикой: теория выступает здесь в качестве особого «органа» отправления и развития практики, получая, в свою очередь, уникальную возможность развиваться через извлечение опыта этой практики. В силу чего эту психологию можно считать действительно «практической» – в отличие от «прикладной», каковой, в лучшем случае, может быть (что бы она сама при этом ни говорила) психология, развертываемая в рамках естественнонаучной парадигмы мысли.
Однако за психотехнической парадигмой сегодня стоит «инструментальный» взгляд на технику, который берет ее в соотнесении с определенными целями действия, с задачей достижения вполне определенного «преобразования» (безразлично: «внешнего», в физическом мире, или – «внутреннего», в плане сознания и психики).
Этот «инструментальный» взгляд на технику характерен не только для «самосознания» научных дисциплин (как «естественнонаучных», так и «инженерно-технических») и всякого рода практик (включая и «психопрактики»), но также – и для современной философии и методологии науки и техники, даже в лучших ее образцах (достаточно сослаться на философию техники Ясперса или на традицию Московского методологического кружка).
Как показано в работах Хайдеггера, «инструментальный» взгляд на технику не позволяет схватить – как принадлежащее существу техники и как имеющее критическое значение для науки и практики – особого рода «производящее» действие техники, – «производящее», однако, уже не в «инструментальном» смысле, но в хайдеггеровском смысле «про-из-ведения» как «при-ведения к присутствию» вообще и лишь постольку (и – тем самым) – к присутствию для «изучения».
Вследствие этого, ни развертываемая в рамках «инструментального» понимания техники «критика техники», ни проистекающие из него и находящие себе в нем обоснование и оправдание различные стратегии – технического же – «овладения» техникой и достижения «свободы» по отношению к ней – не только не достигают своей цели, но и – вопреки своим намерениям – в действительности сами оказываются только элементами тех или иных «диспозитивов техники», создаваемых властными структурами общества; они оказываются с самого начала уже «встроенными» в те самые стратегии власти, против которых – по видимости – они выступают. В рамках инструментального понимания техники отсутствует ясное осознание того, что «через» различные виды «техники» – в частности «психотехники» – приводятся к существованию совершенно различные формы психической жизни человека, устанавливаются, или «ставятся» – как ставится голос, – различные «культуры психической деятельности». Тем более инструментальный взгляд на технику не позволяет уяснять, какой тип «про-из-ведения» стоит за теми или иными психопрактиками и реализуется соответствующими формами психотехники.
Между тем можно показать, что современная психотехника – безотносительно к делению на направления и школы и часто вопреки провозглашаемым «гуманистическим» максимам – почти сплошь, тотально захвачена тем особым типом «поставляющего производства», который Хайдеггер в своей философии техники вскрывает по отношению к феномену «современной техники». В рамках «поставляющего производства» человек – его психика, сознание, личность – выступает как целиком «поставляемый в наличие», «предоставляемый в распоряжение» для того или иного «потребного» (то есть – по произволу) употребления: для «овладения», «управления», «организации», «воздействия», «формирования», наперед заданной «трансформации» и т. д. и т. п., одним словом – для манипулирования. Важно подчеркнуть: он не просто так выступает, но – только так и может выступать.
Уже Хайдеггер показывал, что подобного рода «поставляющим производством», осуществляемым современной техникой начиная с Нового времени, все более захватывается физическая природа человека (в частности – в рамках медицины, но также – физиологии, биологии), которая, правда, сама уже при этом есть не natura naturans – не живая и животворящая природа, – но всего лишь особого рода машина, «самоорганизующаяся система» – «сама себя выделывающая поделка». Такой род «про-из-ведения человека» – его психики, сознания, личности – реализует, по сути, и современная психотехника, как правило, не отдавая себе в этом отчета и, больше того, оказываясь – в силу характерного для нее способа мышления – неспособной это понять и, стало быть, изменить.
На примере генеалогической критики классического фрейдовского психоанализа (равно как и некоторых других форм современной психотерапии) можно вскрыть и проанализировать основные «черты» того «феномена человека», который приводится к существованию и утверждается как «норма» человека внутри присущего психоанализу способа «поставляющего производства». Можно показать драматические последствия этого способа иметь дело с человеком – как в контексте его «изучения», так и, в еще большей степени, в рамках практической психотехнической работы. Целый ряд встающих в связи с этим фундаментальных проблем оказывается неразрешим внутри наличных в самом психоанализе способов мысли, равно как и в рамках традиционной философии и методологии науки и техники. Генеалогический анализ обеспечивает возможность такого изменения мышления, которое открывало бы путь к новой – не на словах, а на деле «гуманистической» – психологии человека и к неманипулятивным формам психотехники. В соответствии с таким пересмотром идеи психотехники выступает в новом ракурсе и целый ряд проблем психологии личности, и прежде всего – проблема понимания.
В тигле души: к со-бытийному пониманию человека [142]
Я хочу высказать одну только мысль, которая, как мне представляется, лежит в направлении событийного понимания души. Что это значит, я и попытаюсь объяснить. Я попытаюсь сделать это буквально двумя крупными мазками. Можно сказать – языком притчи.
У ирландского поэта Уильяма Батлера Йейтса – который, как известно, был также и серьезным эзотериком – среди прозаических произведений есть небольшая новелла, которая называется «Rosa Alchemica». Я воспользуюсь ее началом для того, чтобы наметить путь к тому, что я хочу сказать.
Сюжет там такой: герой новеллы – молодой человек, уже серьезно погруженный в эзотерику, неожиданно получает крупное наследство: родовой дом, имение. И поскольку жизнь его внутренне уже радикально переломилась, он хочет и внешне жизнь в этом новом своем доме также построить в соответствии со своей новой жизненной линией. Он убирает со стены портреты предков, все переставляет на новые места, в своем кабинете размещает предметы, которые, по его мнению, должны помогать ему быть сосредоточенным на своем духовном поиске, держаться своего эзотерического пути. Даже окна он завешивает шторами с особыми символическими изображениями, он скупает и выставляет в своем кабинете кучу различных антикварных, тоже символических предметов. Даже самая настоящая алхимическая печь, которую он по случаю купил, тоже здесь находится. И вот однажды он садится в этом своем кабинете, обводит взглядом все эти свои сокровища, и вдруг его почему-то пронзает мысль, что он «окружил себя золотом, полученным в чужих тиглях». А многие из этих предметов действительно были сделаны из благородных металлов, из чистейшего золота. Но вот эта мысль действительно его вдруг пронзает. Потому что внутри того понимания своего духовного поиска, которое он пытается реализовывать, единственно подлинным золотом может считаться как раз золото не натуральное – то, которое получается из руды или добывается в слитках, – но только алхимическое золото. Но настоящее алхимическое золото – золото, опять же, не внешней, «физической» алхимии, но алхимии душевной, внутренней, – это золото, которое может быть получено только в своем тигле. То, что получено кем-то другим, «в чужом тигле» не является настоящим, подлинным и, собственно, не имеет никакой духовной ценности.
Что такое человек в «век информационных технологий»? Воспользовавшись образом новеллы Йейтса, можно было бы сказать, что это человек, «окруживший себя золотом, полученным в чужих тиглях».
Это касается, прежде всего, того, что человек получает извне, положим – знания. Как педагог я знаю, что одна из главных проблем в работе со студентами – в освоении ими психологии – состоит именно в том, чтобы помочь им взять то, что действительно составляет «золотой запас» психологии, – то, с чем они встречаются, читая классические психологические тексты (как, впрочем, и тексты философские), помочь им взять это не внешне, не как нечто готовое, не как «золото, полученное в чужих тиглях», а как – то, что они получали бы заново как свое.
Но это касается не только того, что человек получает извне, – это касается и его самого. То, что мы находим в человеке как, казалось бы, его «собственный состав», по большей части, если и – золото, то все-таки полученное в чужих тиглях. Но в этом случае оно не имеет никакой цены. Ибо и в этом случае – и тут особенно – оно должно быть получено в своем тигле.
Позволю себе продолжить этот алхимический образ, – понимая, конечно, всю его условность и его горизонт (я скажу еще об этом), и прочту небольшое стихотворение Борхеса, которое называется «Алхимик». Я прочту его, собственно, из-за последней строфы, но прочту все же целиком, поскольку иначе эта строфа не прозвучит так, как это мне нужно. Издержки перевода здесь неизбежны, но главное, что я хочу ухватить через чтение этого стихотворения, как мне представляется, все же ухватить можно. Я позволю себе выделить в тексте некоторые ключевые слова, которые – будь для того место – требовали бы особого комментария.
Итак:
Алхимик
Юнец, нечетко видимый за чадом,
И мыслями и бдениями стертый,
С зарей опять пронизывает взглядом
Бессонные жаровни и реторты.
Он знает втайне: золото живое,
Скользя Протеем, ждет его в итоге,
Нежданное, во прахе на дороге,
В стреле и луке с гулкой тетивою.
В уме, не постигающем секрета,
Что прячется за топью и звездою,
Он видит сон, где предстает водою
Все, как учил нас Фалес из Милета.
И сон, где неизменный и безмерный
Бог скрыт повсюду, как латинской прозой
Геометрично изъяснил Спиноза
В той книге, недоступнее Аверна…
Уже зарею небо просквозило,
И тают звезды на восточном склоне,
Алхимик размышляет о законе,
Связующем металлы и светила.
И вот – последняя строфа:
Но прежде, чем заветное мгновенье
Придет, триумф над смертью знаменуя,
Алхимик-Бог вернет его земную
Персть в прах и тлен, в небытие, в забвенье.
( Перевод Бориса Дубина )
Это стихотворение Борхеса в немногих словах показывает всю непростоту алхимической ситуации.
Существует традиция, особенно в восточной алхимии – читатель, возможно, знает, что феномен алхимии известен не только в западной, но также и в восточной, положим, в даосской культуре, – существует традиция различения алхимии внешней, то есть касающейся превращения физических веществ, и алхимии внутренней, или «алхимии души». Больше того: из тех же исследований Юнга мы знаем, что тут имеет место не просто различение двух версий, двух пониманий алхимии, но что – безотносительно к тому, понимал это сам алхимик или нет, – именно внутренняя алхимия, то есть собственно душевно-духовная трансформация, и составляла всегда главный план алхимической работы, даже если на первый взгляд эта работа и была сосредоточена на превращении физических веществ.
Так вот, читая стихотворение Борхеса, мы начинаем понимать, что даже этого различения двух планов алхимии оказывается недостаточно, что тиглей тут на самом деле не два, а три, и что сам алхимик со своими двумя ретортами – физической и душевно-духовной – он сам включен в некий объемлющий алхимический процесс, процесс трансформации, мастером которого является бог. То есть тут имеет место своеобразная «матрешечная» структура вложенных друг в друга процессов и, соответственно, алхимических реторт, или тиглей.
Но самое интересное, и для меня – важное, начинается все-таки дальше. И тут я перехожу к тому, чтобы сформулировать свою основную мысль. Если попытаться действительно до конца продумать то, каким образом соотнесены эти три плана алхимической работы, то нельзя не прийти к неожиданному и парадоксальному представлению, что последняя, третья алхимическая реторта, «объемлющая» первые две, сама оказывается… «вложенной» во вторую!
В своих заметках к Декарту М.К. Мамардашвили делает в одном месте очень странную запись – странную уже по своему характеру, ибо, как мы знаем, Мамардашвили избегал каких бы то ни было резюмирующих формул, – но еще более странной эта запись оказывается по своему содержанию.
Всю философию Декарта, говорит Мамардашвили, можно было бы резюмировать в немногих – их оказывается три – положениях.
Во-первых, «мысль – в понимании Декарта – это событие в мире, где всегда еще (!) ничего не случилось». Парадоксальная формула. Ведь мы с детства знаем ответ на вопрос: «сколько яиц можно съесть натощак?». А здесь говорится о событии в таком мире – а, тем самым, стало быть, и о самом этом парадоксальном мире, – в котором всегда еще ничего не случилось.
«Этот мир, – продолжает философ, – таков, что мне всегда в нем есть место!» Этот тезис не менее поразителен и невероятен, нежели первый, и если бы не рамки темы, то его можно было бы попытаться развернуть в некотором, быть может, неожиданном направлении.
И, наконец, как замечает по поводу особенностей, или, лучше сказать, парадоксальных, «неизбежных странностей» этого мира уже сам Декарт: «Я не уверен даже, что в этом мире Бог предшествует мне» (!). Это, пожалуй, самая невозможная, прямо-таки шокирующая мысль. Она, по сути, и означает то, на что я сейчас хочу обратить внимание: «Бог алхимиков» – в рамках того понимания алхимии, которое я пытался наметить через чтение стихотворения Борхеса, – не есть некое «сущее». Он есть то, что внутри самой же алхимической работы и через нее – как имманентное условие ее возможности – само должно снова и снова устанавливаться и возобновляться. В каждой ее точке, на каждом ее шаге.
Уже Ницше говорил: «Человек – это неустановленное животное». «Неустановленное» не только и даже не столько в гносеологическом смысле, в смысле познания того, что есть человек, но также и, прежде всего, в смысле онтологическом, бытийном: человек – это существо, которое не установлено в своем бытии. Но этот тезис представляется мне в свете сказанного недостаточно радикальным. Я бы усилил максиму Ницше, введя в нее еще два слова. Я бы сказал, что человек есть всегда еще не установленное существо. Человек – это существо, которое рождается вторым рождением, но это значит, что он рождается не как некое сущее, которое, однажды явившись на свет, может затем «пребывать», непрерывно длить себя, как вещь. Нет! Это значит, что человек – в качестве такового – должен снова и снова себя устанавливать и возобновлять, вновь и вновь рождаться заново, проходя через точки радикальной трансформации, метаморфозы, тотальной «катастрофы» в том смысле этого слова, который ему придан в современной математической теории катастроф. Человек – это существо, которое в качестве такового всегда заново, то есть – «из ничего» и, по сути дела, всегда впервые рождается.
И образ, который я взял из Борхеса, помогает понять, что в мире душевно-духовной алхимии не только человек есть существо, для которого «быть» значит вновь и вновь себя вторым рождением заново устанавливать, но и само то «лоно», в котором он рождается, – та «реторта» или «тигль», где происходит трансформация, ведущая к этому второму его рождению, – также не предшествует ему как вещь, но рождается вместе с ним.
«Трансформация», которую можно было бы назвать «Путем инициации». В том смысле, положим, который это понятие получило в тех же работах Мирчи Элиаде. Хотя и тут следовало бы сказать, что «есть инициация и инициация»! Я думаю, что в данном контексте – если мы действительно хотим вести все эти рассуждения в рамках христианской мысли о человеке – понятие инициации также надо было бы продумать заново, придав ему радикально иной смысл, нежели оно имеет в традиционных культурах или даже в большинстве форм современной эзотерики.
А это «сокровенное лоно», эта «алхимическая реторта», в которой рождается Новый человек в человеке, – это и есть Душа. Сама душа, стало быть, – хочу я сказать – она тоже, подобно богу алхимика, «не предшествует» рождающемуся в ней Новому человеку, но рождается вместе с ним – внутри одной и той же «акции», или, быть может, тут уже лучше было бы сказать: «со-бытия».
Я не могу обо всем этом говорить здесь развернуто, но есть замечательный образец, на который я хочу здесь кивнуть и на котором все это можно было бы показать конкретно и развернуто.
Пример такого рождения человека – рождения Нового человека, рождения Вторым рождением, рождения в тигле Души – это платоновский Сократ. Когда мы задумываемся над тем, что же такое «Сократ Платона», мы понимаем, что это, конечно же, не тот исторический персонаж, который «родился, учился, женился», не тот, кого встречали то там, то тут – то на базаре, то в веселой компании, – кого супруга поливала помоями, а милые сограждане заставили-таки, в конце концов, выпить чашу с цикутой. Нет.
Во-первых, «Сократ Платона» появляется после смерти этого исторического Сократа. И в этом поразительная загадка Платона. Он появляется после этого и рождается в лоне мысли самого Платона, или шире: внутри того процесса внутренней алхимии, в котором – в «тигле платоновской души», также вторым рождением и в качестве Нового существа – рождается и сам Платон. И никто лучше самого Платона не сказал об этом, если только мы имеем уши, дабы слышать то место из знаменитой сократовской речи в «Пире», где Сократ и говорит о «духовной беременности». Смею обратить ваше внимание на одно до сих пор никем не отмеченное, но, как мне представляется, поразительное и исключительно важное обстоятельство: он говорит тут о «разделенной» беременности, – беременности, которой изначально беременен (духовный) Учитель, или Любящий, но которая «разрешается» (но так, что она при этом не «закрывается», не «упраздняется») в Ученике, в Возлюбленном – в том Новом существе, которое вынашивается в Возлюбленном и в нем рождается.
Тексты Платона – его мысль, развертывающаяся в этих текстах, – и оказываются той майевтикой, тем «повивальным искусством», благодаря которому в тигле платоновской души – как его Другой, как его со-бытийное ему Ты – рождается это новое существо – «Сократ Платона».
Существо, от которого, кроме всего прочего, Платон получает посвящение. «Реальный», исторический Сократ, как мы знаем, – что отмечают все биографии Платона – не был посвященным в традиционном смысле слова (хотя некоторые детали самих платоновских диалогов, хотя бы того же «Пира», как нам кажется, и позволяют полагать обратное) и, стало быть, не мог дать посвящение Платону. Если, однако, Платон вообще и был посвященным – а он безусловно был им, – то это свое посвящение он получил не в путешествиях на Восток и не какими-то другими обычными путями, которые тут имеют в виду, говоря о Платоне, – это свое посвящение он получил именно и только от Сократа, но – от своего Сократа – того, рождению которого он сам же майевтически споспешествовал.
Душа – как и то, что в ней, как в алхимическом тигле, вынашивается и рождается, – сама тоже не есть вещь, «сущее». Она не предшествует этим рождениям, но сама каждый раз заново рождается и – как Феникс – вновь и вновь возрождается, и сама она тоже есть то, рождению чего я должен майевтически способствовать. Но способствовать уже в со-бытийном смысле – как Другому, который каждый раз вновь у-станавливает себя вторым присутствием в со-бытии мне. Но тогда и самая душа уже тоже, быть может, есть не столько «то, что», сколько «тот, кто», – есть не безличное Оно, но мое Ты. Сама душа есть мой Другой, который рождается вторым рождением в со-бытии мне.
На пути к феноменологии инициального опыта
Кризис научной психологии личности и ее генеалогический анализ как путь к новой практической психологии
Современная научная психология личности – даже в самых сильных и «продвинутых» ее версиях – оказывается несостоятельной перед теми проблемами, которые ставят сегодня находящиеся на переднем крае гуманистического движения формы психотерапии, равно как и серьезные эзотерические (как восточные, так и западные) психопрактики.
Она безнадежно отстала от того понимания человека, которое было завоевано современной философской мыслью. Можно сказать, что современная психология – не только отечественная, но и мировая – роковым для нее образом прошла мимо современной философии!
Психологию личности, которая была бы состоятельна перед этими проблемами, была бы способна полноценно ассимилировать «опыты о человеке», накопленные в современной гуманистической психотерапии, равно как и в современных эзотерических психопрактиках, которая могла бы соответствовать современному пониманию человека в философии, – эту психологию (которая, как мы попытаемся показать, должна быть феноменологической) следует искать в рамках радикально понятого индирективного подхода в психотерапии.
Путь к этой новой психологии открывает генеалогический (в смысле позднего Фуко) анализ психопрактик, внутри которых человек – в современном его понимании – и конституируется в качестве такового.
Генеалогический анализ психотерапии – это такой методологический анализ как теоретических представлений и исследовательских стратегий, так и, прежде всего, самих терапевтических практик, который для самой ведущей этот анализ методологической мысли открывает возможность ее собственной трансформации и, тем самым, позволяет ей со-ответствовать современной ситуации.
Генеалогический анализ и задачи исследования
Генеалогический анализ современной психологии личности и психотерапии выполняется в контексте самоопределения психолога в современной ситуации ввиду определенного понимания предельных целей и ценностей его профессиональной работы.
Эти цели и ценности реализуются в поиске пути к конкретной психологии человека, которая:
– была бы состоятельной перед лицом реальных жизненных проблем современного человека;
– ориентировалась бы на человека, условием существования которого является работа над собой, ведущая к его личностному росту;
– была бы путем самопознания и личностного развития и для самого психолога;
– могла бы быть включена в поиск новых форм жизни и нового человека.
Генеалогический анализ выступает как метод извлечения «реальных» опытов о человеке и ассимиляции тех форм «реальной» (Выготский) – новой, феноменологической – психологии, которые складываются внутри психопрактик.
Подобный анализ нацелен на поиск пути к такой гуманистической психологии личности, которая реализовывала бы со-бытийную версию феноменологии – феноменологии инициального опыта – в рамках радикально понимаемого индирективного подхода в психотерапии.
Две «критики» психологии
Анализ проводится в виде двух «критик психологии»:
– «критики естественнонаучного разума» в психологии, вскрывающей принципиальные ограничения естественнонаучной парадигмы исследования, которые не позволяют психологии ни эффективно включаться в психотехнические практики работы с реальными проблемами человека, ни полноценно ассимилировать опыт этих практик или даже просто адекватно осмыслять его, ни, наконец, удовлетворительно справляться с «неклассическими» ситуациями, возникающими внутри самой научной психологии;
– «критики психотехнического разума» в психологии, демонстрирующей манипулятивный характер (нередко вопреки провозглашаемым гуманистическим лозунгам) доминирующих в современной психотерапии форм психотехники, что вступает в противоречие с установкой на «самоактуализацию личности» и «личностный рост».
Три основные парадигмы психотерапии
В современной психотерапии можно выделить три основные парадигмы: терапия, ориентированная на устранение симптомов (в качестве примера можно указать на НЛП); терапия, ориентированная на излечение от болезни (пример – классический фрейдовский психоанализ), и терапия, ориентированная на высвобождение – так или иначе понимаемого – позитивного начала в человеке и на его личностный рост. К этому последнему типу и принадлежат все те направления, которые можно считать индирективными.
Психотехническая парадигма и «инструментальное» понимание техники
В последние годы сложилась и интенсивно развивается новая парадигма психологии, которую в противовес естественнонаучной можно назвать психотехнической. Для этой парадигмы характерны как особый тип теории, так и особое отношение между теорией и практикой: теория выступает здесь в качестве особого «органа» осуществления и развития практики, тогда как практика, в свою очередь, дает теории уникальную возможность развиваться через «извлечение опыта» практической (в данном случае – психотерапевтической) работы, в силу чего такая психология оказывается действительно практической – в отличие от прикладной, которая только и возможна в рамках естественнонаучной парадигмы.
Однако, стоящее за доминирующей в современной психологии психотехнической парадигмой «инструментальное» понимание техники, берущее ее в соотнесении с целями психотехнического действия и с задачей достижения наперед заданного «преобразования» психики, – такое понимание техники не только не позволяет схватить и адекватно осмыслить – в их существе – те формы особого рода майевтической работы, которые в рамках индирективного подхода реально уже отправляют феноменологический метод, но и, по сути дела, препятствует последовательной реализации этого метода в терапевтической практике.
При этом не схватывается и, тем самым, не реализуется критически важное «производящее» действие техники – «производящее» не в буквальном, «инструментальном», но в том майевтическом смысле, который был придан «про-из-ведению» – как «при-ведению к со-бытию-Другому» – работами по философии техники М. Хайдеггера.
Психотехника как «поставляющее производство» человека
Психотехника, реализуемая в современной психотерапии, – безотносительно к делению на направления и школы и нередко вопреки намерениям самих терапевтов и провозглашаемым ими гуманистическим максимам, – почти сплошь захвачена тем особым типом «поставляющего производства», который – по отношению к «современной технике» – вскрывает в своей философии техники Хайдеггер.
В рамках «поставляющего производства» человек, его психика, сознание, личность выступают как целиком «поставляемые в наличие» для манипулирования ими – для «овладения», «управления», «организации», «воздействия», «формирования» или наперед заданной «трансформации».
Основные «черты» того феномена человека, который приводится к существованию и утверждается в качестве «нормы» внутри «поставляющего» производства, а также драматические последствия этого способа иметь дело с человеком – как в контексте его «изучения», так и (в еще большей степени) в плане практической психотерапевтической работы – лучше всего видны на примере генеалогической критики классического фрейдовского психоанализа.
Индирективный подход в психотерапии
К индирективному подходу, по сути дела, следует относить не только «центрированную на человеке» психотерапию К. Роджерса, но также и целый ряд других направлений современной психотерапии, объединенных общими принципами, – такие как «аналитическая психология» К.Г. Юнга, «психосинтез», «процессуальная» психотерапия Эми и Арнольда Минделлов или, наконец, «инициальная» психотерапия К. Дюркхайма.
В отличие от «директивных» психопрактик (таких как НЛП или классический психоанализ), индирективная психотерапия нацелена не на излечение пациента от его болезни и, тем более, не на устранение отдельных болезненных симптомов, но – на высвобождение и рост «внутреннего существа» человека, на актуализацию присущего человеку «позитивного начала», «творческого потенциала», – ориентирована на то, чтобы позволить человеку соединиться с «внутренней силой» и «мудростью», с «внутренним терапевтом» в нем, который, как полагают индирективные терапевты, один только и может – сам и наилучшим образом – «восстановить» целостность его существа и тем самым (по сути – лишь в качестве «побочного» результата этого основного и универсального процесса) привести его к исцелению.
Индирективная стратегия в равной мере применима как к больным разной нозологии, так и к «здоровым» людям. Она, тем самым, реализует альтернативное сложившимся в современной психиатрии и директивных направлениях психотерапии представление о норме человека, о болезни и здоровье.
Каждое из направлений индирективной психотерапии в явном или скрытом виде содержит свою психологию личности, которая существенно отличается как от традиций научной психологии личности, так и от того понимания человека, которое характерно для директивных направлений психотерапии (таких, например, как ортодоксальный психоанализ).
Роджерс как «генеральный испытуемый»
В представленных далее размышлениях мы будем опираться в основном на анализ теории и практики роджерианской терапии, но – вовсе не потому, что эта версия индирективной психотерапии является единственной, или хотя бы – наиболее ранней, или, тем более, – наиболее последовательной и радикальной в реализации идеи индирективности (таковыми, без сомнения, должны быть признаны как раз другие из названных направлений), но – исключительно в силу особой «компактности» роджеровской теории терапии, ее (хотя подчас и обманчивой) простоты и возможности – на ее примере – почти с наглядной ясностью демонстрировать основные ходы анализа.
«Психоаналитическая интерпретация» и «понимание» в индирективной психотерапии
Среди проблем современной практической психологии личности особое место занимает проблема понимания. Именно тип понимания или, если угодно, «понимание понимания», реализуемое в той или иной психотерапии, во многом определяет характер всей терапевтической работы.
Индирективная психотерапия направлена на создание условий для рождения нового личностного опыта, то есть опыта, который не просто не встречался в прошлом клиента, но и был невозможен прежде, который, стало быть, не проистекает из этого прошлого и не выводим из него – не выводим ни из чего уже наличного и «ставшего» в человеке.
Это обстоятельство радикально меняет место психотехнических процедур и средств, которые реализуются в ходе психотерапии. Прежде всего это касается природы и статуса интерпретации.
Если в психоанализе интерпретация – рациональная и замещающая собой интерпретируемое – строится терапевтом исходя из определенного, уже имеющегося в его распоряжении, понимания личности пациента (понимания смысла и психогенеза его невротических симптомов, содержания конфликтов и механизмов их возникновения и т. д.), если эта интерпретация рождается на полюсе терапевта и лишь затем коммуницируется пациенту, причем предполагается, что психоаналитик может «за» пациента, «раньше» и «лучше» самого пациента понимать суть его проблем (равно как и то, что происходит внутри самой аналитической работы) и что именно он – терапевт – должен направлять ее ход и «вести» пациента, то в индирективной психотерапии терапевт – в майевтическом диалоге с пациентом – всегда только «следует за» пациентом, лишь «выслушивая» и «высвобождая» понимание, первоначально рождающееся на полюсе именно пациента.
Такое понимание является не столько самостоятельным и конечным «знанием о» человеке, сколько живым и ситуативным ответом, откликом на речь клиента, на его – здесь-и-сейчас – целостное присутствие, – тем, внутри и благодаря чему для человека и открывается возможность рождения нового личностного опыта и трансформации.
Отношение теории терапии к практике и проблема статуса теории
В каком отношении положения теории Роджерса стоят к его практике? Говоря о «теории Роджерса», мы имеем в виду, прежде всего, его теорию терапевтического процесса, в которой формулируются условия высвобождения того «основного терапевтического процесса», внутри которого возникают личностные изменения и происходит личностный рост.
Когда Роджерс позволяет своим ученикам и последователям проводить «научные» эмпирические исследования своего терапевтического процесса, когда он сам допускает такую возможность, принимает эти исследования и даже поднимает их на щит, даже в последних своих работах с пафосом говоря о том, что эти «многочисленные исследования подтверждают положения его теории», – он сам, по сути дела, прописывает себя в позиции исследователя-естествоиспытателя.
А как только Роджерс занимает эту позицию исследователя-экспериментатора по отношению к своей собственной практике, он с необходимостью – хочет он того или нет – «сосчитывает» себя в терминах естественнонаучного метода; в частности, свою теорию терапевтического процесса, говорящую об условиях его возможности, его «высвобождения», он вынужден трактовать в терминах естественнонаучных моделей, где эти условия занимают место действующих причин, а события, происходящие внутри терапевтического процесса, – их следствий.
Коль скоро, далее, он понимает – и, в силу характера своего мышления, не может понимать иначе – эти свои «условия» как причины естественного хода процесса психотерапии, он должен сформулировать теперь эти условия так, чтобы они допускали эмпирическую верификацию, должен дать им «операциональные определения», чтобы в каждом отдельном случае наличие этих условий можно было диагностировать. Точно так же и эффекты психотерапии он должен теперь рассмотреть и описать особым образом, также представляя их в операциональных терминах, допускающих диагностику. И, наконец, в терминах причинно-следственных связей он должен представить и отношение между условиями и терапевтическими эффектами.
Говоря в своей теории терапии об условиях терапевтического процесса, сам Роджерс постоянно колеблется между различными – по сути несовместимыми – версиями понимания статуса своей теории. Поскольку, говоря «условия», можно понимать их либо в терминах причин (то есть – в рамках естественнонаучной парадигмы мышления), либо в терминах инструментов и средств психотехнического действия (то есть – в рамках психотехнической парадигмы), либо, наконец, понимать их в качестве трансцендентальных условий возможности опыта, или даже, как увидим, – как-то еще.
Проблема метода
Что такое «индирективность» в индирективной психотерапии?
Идея индирективности – это, по сути, «путь индирективности», что с необходимостью требует при анализе индирективности иметь в виду не только план особой конституции «трансцендентального субъекта», но и самый опыт и особое извлечение этого опыта.
Раскрыть идею индирективности в ее внутренней, а не фактической истории – это и значит раскрыть ее на пути ее радикальных трансформаций, или даже – раскрыть для нее путь этих ее радикальных трансформаций, «катастроф», – путь, проводя которым эту идею внутри своей мысли мы бы и позволили ей установиться в ее действительном значении.
Раскрыть внутреннюю историю идеи индирективности в психотерапии значит раскрыть – в своем собственном мышлении – тот путь, который идея индирективности прокладывает себе поверх мысли и практики отдельных терапевтов. Это значит – по отношению к самой идее индирективности реализовать индирективную стратегию ее «высвобождения» в истории. Или (что то же самое) – значит проводить эту индирективную стратегию по отношению к самим себе, к своему опыту чтения и понимания Роджерса, внутри этого опыта чтения Роджерса пытаясь «сопровождать» идею индирективности на пути ее рождения и становления.
Это значит, иначе говоря, в своем чтении Роджерса реализовать феноменологический метод и свой собственный опыт чтения Роджерса развертывать как особый род феноменологии этого опыта. Нельзя говорить о Роджерсе как о феноменологе, как о том, кто в своей работе реализует феноменологический метод («реализует» тут следует понимать ровно в том же смысле, в котором сам Роджерс мог бы говорить об «изначальной медитативности» речи клиента); нельзя «говорить о» феноменологическом движении и об опыте, возможность рождения которого открывает феноменологический метод, не реализуя при этом тот же метод в собственной работе, по отношению к своему собственному опыту чтения Роджерса, не развертывая этот опыт феноменологически.
Герменевтика текста, выполняемая в рамках феноменологического метода, требует не отделять зерен от плевел (что предполагает обычная стратегия «критического» чтения и понимания), но ищет такого продвижения в своем опыте чтения, которое открывало бы возможность принимать читаемый текст как целиком осмысленный и «правильный».
В чтении и понимании Роджерса при этом следует придерживаться установки, что «все, что говорит Роджерс, – правильно»! В том смысле, что нужно искать такое чтение и понимание Роджерса, при котором то, что он говорит, можно было принять как возможность своего собственного мышления в своем продумывании идеи индирективности. Продумывания, внутри которого мы, читатели Роджерса, сами должны пройти определенный путь, дабы позволить «заговорить самому Роджерсу» – тому Роджерсу, которого придется, быть может, отстаивать против другого Роджерса, который тоже присутствует в его текстах, – того, чья мысль, пленяемая то Сциллой естественнонаучного метода, то Харибдой в лоб понимаемой психотехники, оказывается, по сути, несовместимой с последовательно продумываемой идей индирективности.
Попытка продемонстрировать несостоятельность чтения Роджерса в естественнонаучном или психотехническом ключе задает исходную проблемную ситуацию, внутри которой мы по необходимости и должны так развертывать идею индирективности, чтобы она оказалась несовместимой ни с естественнонаучным, ни с психотехническим пониманием роджеровской теории терапии.
И, опять же: такая установка по отношению к Роджерсу соответствует установке самого Роджерса по отношению к речи клиента.
Рождение теории из духа опыта, извлекаемого через это рождение
Невозможность чтения Роджерса в естественнонаучном ключе обнаруживается уже при обращении к его собственным свидетельствам о том, как реально рождалась его теория терапии. В автобиографии, рассказывая о том, как он пришел к формулировке основных положений своей теории терапии, Роджерс вспоминает, как он сидел и часами слушал записи своих бесед с клиентами, пытаясь понять, что же там происходило, чем отличались удачные случаи работы от неудачных, само различение этих случаев поначалу схватывая «интуитивно», не опираясь еще ни на какие внешние критерии. И, ставшие затем каноническими, условия терапевтического процесса были первоначально схвачены Роджерсом «инсайтно» – внутри попытки извлечь свой живой опыт терапевтической работы исходя из непосредственной данности различия успешных и неудачных случаев. И здесь Роджерс работает не как ученый-естествоиспытатель, но – как феноменолог. Он выполняет феноменологический, можно было бы сказать – «дильтеевский» поворот. И ключевые положения его теории терапии, устанавливающие основные условия терапевтического процесса, рождаются внутри реализации, по сути дела, – феноменологического метода.
Эти «условия» оказываются инсайтными моментами самого акта извлечения опыта – не внешним по отношению к самому опыту его описанием, но внутренним моментом его конституции или, быть может даже, конституирования, – тем, через что этот опыт и «извлекается» или, ближайшим образом, тем, через что устанавливается понимание, устанавливается понимающий – здесь-и-сейчас – роджеровский «ответ» на то, что он слышит, слушая свои записи. Ответ, позволяющий ему выслушать то, что говорит не только его собеседник, но и – что важно – он сам. Ответ, позволяющий – в случае удачной работы – выслушать это как «изначально медитативную» речь, то есть речь, открывающую дорогу процессу изменения, трансформации – терапевтическому процессу.
Важно заметить при этом, что сами условия терапии, сформулированные Роджерсом, можно «прочитать» и понять – в их действительном статусе и содержании – только уже изнутри самого этого опыта. В этом смысле действительное содержание роджеровской теории терапии – как это ни парадоксально – не содержится в самом тексте и непосредственно из него не извлекается – ни как его прямое и явное содержание (что, казалось бы, с необходимостью предполагает всякий собственно научный и даже просто рациональный текст), ни как – какое бы то ни было – его скрытое и непрямое содержание, которое могло бы быть «вычитано» из него с помощью той или иной – пусть бы даже самой что ни на есть изощренной – техники его анализа (положим, в духе психоанализа) или толкования (включая традиционные методы герменевтики текста). «Содержащееся» в этих условиях «указание на» определенный терапевтический опыт, который – коль скоро он случается – оказывается этим условиям соответствующим, не предопределяет этот опыт по содержанию – ни в смысле естественнонаучного предсказания, ни в смысле психотехнического предписания.
«Указание» здесь, стало быть, означает только: «ищи то, что – когда ты это найдешь – будет соответствовать этому указанию», к тому же – из этого найденного будет соответствовать уже прочитанному.
И все это – при том, что того опыта, о котором говорит Роджерс, на получение которого установлена его терапия, вне самого роджерианского терапевтического процесса (как это нетрудно понять) ни у его клиентов, ни, по сути, вообще у людей никогда не было и быть не могло. Как бы человек ни продолжал непосредственно свои прежние, обыденные опыты «конгруэнтности», «подлинности», «эмпатического понимания», в топос «роджерианского опыта» на этом пути он никогда попасть не сможет. Опыт, который, по сути дела, имеется в виду роджеровской теорией, есть новый и продуктивный опыт, предполагающий трансформацию всего прежнего существа человека и, соответственно, предполагающий определенные условия этой трансформации. В известном смысле роджеровская теория терапевтического процесса – это теория «трансцендентального» типа, то есть теория, устанавливающая условия возможности опыта в терминах особой конституции «трансцендентального субъекта» – конституции, которой должен соответствовать терапевт.
При строгом чтении Роджерса говорить об этом особом типе терапевтического опыта можно только в одном смысле: когда он происходит, то – изнутри этого опыта и инсайтно (и к тому же – как имманентно принадлежащее сущностной конституции самого этого опыта) – устанавливается внутреннее со-ответствие этого опыта положениям теории. Допущение какой бы то ни было внешней по отношению к самому опыту точки зрения при этом исключается.
Казалось бы, можно сказать, что «теория Роджерса – это опытная теория». Если и так, то с одной маленькой, но критической оговоркой: это – теория особого, «роджерианского опыта», которого в мире обыденного опыта не бывает. И, больше того: это – теория опыта, рождению которого она же сама – но никогда не прямо, не «психотехнически» в буквальном, расхожем понимании этого слова – и открывает дорогу. Она – теория опыта, который есть то, что «не есть», – не есть что-либо преднаходимое, наличное, не есть «сущее». И, наконец, это – теория опыта, которая сама устанавливается изнутри этого опыта, как особый – «виртуальный», то есть складывающийся внутри и на время рождения этого опыта – его орган.
«Дильтеевский» поворот на пути к феноменологической психологии
Вундтовско-титченеровская программа построения психологии как науки хотя и объявляла в качестве предмета психологии «непосредственный опыт сознания», но считала, что внутренняя связь душевного опыта в ее целостности непосредственно не дана – так же, как и «объект изучения» не дан непосредственно естествоиспытателю; почему мы и видим, как Галилей фиксирует множественные косвенные и частичные его эмпирические обнаружения – своего рода его «проекции», – наблюдая движения разных тел в разных средах и при разных условиях движения, эквивалентных различным значениям силы тяжести. Свой объект изучения (в случае Галилея: «свободное падение тела») как идеальный тип движения, задаваемый через особую семиотическую – математическую – «модель», естествоиспытатель должен всегда реконструировать по совокупности «его» эмпирических проявлений.
Позиция же Дильтея в этом месте – пусть только в этом месте, поскольку в той мере, что он хочет оставаться «ученым» и ориентирован на установление «универсальных законов», он вынужден тут же сесть между двумя стульями и, по сути, едва нащупав «ариаднову нить» феноменологического метода, тут же должен выпустить ее из рук, – позиция Дильтея состоит в признании для психологии (в противовес всем собственно естественным наукам) возможности непосредственной данности ее «объекта» – «внутренней связи душевной жизни» – и в указании на эту возможность как на своего рода «ариаднову нить» психологического метода, исследования, анализа.
Речь идет тут не о «непосредственном опыте сознания» в смысле Вундта, в качестве которого никогда не выступают сами целостности реальной душевной жизни человека, но всегда только – их редуцированные «проекции», чрезвычайно искусственные лабораторные «препараты». Дильтей же настаивает именно на том, что внутренняя связь душевной жизни может быть непосредственно дана в ее целостности и что именно она, эта данность, и должна быть «началом», в которое – вновь и вновь, на каждом своем шаге – должно возвращаться движение психологического «анализа», «ход» психологического (а по сути уже – собственно феноменологического) метода, – уникальный случай, когда самый этот «ход» постижения (раскрытия) душевной жизни в самом себе имеет – или даже: он сам и есть – свой собственный «мет-ход». В этом и видит Дильтей основополагающее различие между «науками о духе», которые (как на свою «методологию») опираются на так понимаемую «понимающую психологию», – и естественными науками, которые имеют неустранимо «гипотетический» характер и целостность своего объекта изучения (всегда идеального объекта) могут только реконструировать в замещающих его моделях. В этом смысле можно говорить о радикальном методологическом (а в замысле своем – «феноменологическом») поистине коперниканском повороте Дильтея – повороте, однако, самим Дильтеем до конца не понятом, а потому – и не удержанном.
Роджерс как индирективный психотерапевт и феноменолог стоит и падает вместе с этой возможностью непосредственной данности внутренней (но – в отличие, положим, от Фрейда – не «причинной») связности душевной жизни. И для Роджерса решающе важным должно быть то, что различие между успешной работой и работой неудачной может быть непосредственной данностью его, терапевта, опыта. Не по прослеживаемым результатам и не по внешним критериям, но непосредственно – «здесь-и-теперь» – данным. Но подчас и он, как и Дильтей, сидит между двумя стульями, поскольку и он до конца не понимает несовместимость естественнонаучных установок с его методом терапевтической работы и с той реальностью, которая при этом открывается.
«Речь клиента – изначально медитативна!»
Установку Роджерса по отношению к речи клиента можно сформулировать в виде парадоксальной максимы: «речь клиента – изначально медитативна!». Терапевт должен слушать – и пытаться слышать – речь клиента как «изначально медитативную», то есть – как открывающую для него возможность продвижения к своему внутреннему существу, возможность трансформации и личностного роста. Неужели всякое слово, которое терапевт слышит от своего клиента, действительно является таковым? Конечно же, для самого клиента оно не является таковым вне слушания – «активного слушания» – терапевта, вне его «ответа». Но если терапевт пытается отвечать на речь своего клиента в духе «активного слушания» по Роджерсу, то своим ответом – внутри и через него – он должен так «вы-слушать» то, что говорит клиент, чтобы эта речь действительно зазвучала как речь медитативная.
Когда мы говорим: «речь клиента изначально медитативна», мы говорим не о том клиенте, который уже сказал свои слова, и даже не о том опыте слышания его терапевтом, который относится к этим – «всегда уже сказанным» – словам клиента, – мы говорим о том особом способе и, соответственно, опыте слушания терапевтом клиента, внутри которого для клиента впервые и открывается возможность «заговорить» словами, которые будут медитативными. То есть речь идет не о том опыте говорения, который остается «позади» опыта «активного слушания», а как раз – о том опыте, дорогу которому терапевт этим своим активным слушанием и открывает, который только внутри него и через него и может установиться.
В терминах по-хайдеггеровски понятого «про-из-ведения» следовало бы говорить, что терапевт своим слушанием – тем, что он говорит в ответ на слова (а лучше было бы говорить: в ответ на целостное присутствие) клиента, – «про-из-водит», то есть «выводит на свет», «при-водит к присутствию» – здесь-и-теперь – медитативную речь клиента.
Терапевт, можно было бы сказать, «слушает словами» – теми словами, которыми он отвечает на то, что говорит клиент; его – собственно терапевтическое – «ухо» и есть этот его – выслушивающий – «ответ». Мы слушаем – словами, но всегда – когда слышим – словами, рождающимися из своего Начала. «Отвечающая», то есть – «выслушивающая» речь терапевта действительно становится «про-из-водящей», то есть открывающей возможность чему-то в этой ситуации впервые установиться. В данном случае – и особому качеству «медитативности» речи клиента.
Только тогда, когда клиент попадает в те «места», которые для него высвобождает эта терапия, он начинает говорить изначально медитативной речью.
Параллель этому можно найти в хайдеггеровском повороте в проблеме «интерсубъективности»: «Dasein, – говорит Хайдеггер в одном из поздних семинаров, давая отповедь своим критикам, – изначально предполагает Другого». Но в каком смысле?
Расхожее чтение «Бытия и времени» берет этот текст как феноменологию обыденного опыта. Но если только это – действительно феноменология и если это – феноменология в хайдеггеровском понимании, то она не может быть ни чем иным, как – феноменологией опыта, который именно через понимающее чтение самого этого хайдеггеровского текста впервые и устанавливается. Читатель Хайдеггера – «его читатель» – это тот, кто, прямо по слову Ницше, «есть всегда еще не установленное животное». Или – тот, кого имеет в виду всякая настоящая поэзия, которая, напоминал Рильке, вовсе не «выражает» чувства, но дает им впервые рождаться.
Работа, возможность которой открывает для читателя своим текстом Хайдеггер, – это та же самая работа, что и работа, возможность которой для своего клиента открывает Роджерс. Только Роджерс делает это через особого рода терапевтическую практику, а Хайдеггер – через особого рода мыслительный текст. И в том и в другом случае – это работа, которая создает особые «места» для событий, места, вне нее – невозможные. Опыты, которые получает по поводу себя человек, читая хайдеггеровский текст, – если только ему действительно удается это делать, – вне этого чтения хайдеггеровского текста получить он не может.
Роджерс также мог бы сказать, что «человек – это тот, кто изначально предполагает Другого». Но – не в том смысле, что мы можем выловить это несчастное существо на улице и его состояние всегда уже будет таково, – а в том смысле, что – внутри особым образом развертываемой терапевтической практики – для человека впервые могут быть открыты такие места, где он и может быть собой, только встречаясь с другим: с тем Другим, путь к которому, по слову Платона, лежит всегда через Другого – то есть через Новое существо – в нем.
Наконец, следовало бы заметить, что в своем медитативном характере речь клиента должна выступить прежде всего для самого терапевта. Прежде всего для самого терапевта она должна стать открывающей возможность выполнить движение, проистекающее из точки своего собственного начала. Для него самого – стать открывающей «путь про-из-ведения», или «инициальный путь».
И это – именно то слушание, тот ответ, который ищет и дзенский учитель; ведь и он может открыть возможность пробуждения для своего ученика, только если одновременно – здесь-и-сейчас и тем же самым своим ответом – он открывает такую возможность для самого себя. И, в продолжение продумывания идеи индирективности, следовало бы сказать: прежде всего – для самого себя.
Индирективный подход и дзен
То, чем должен быть «правильный» ответ терапевта на слова клиента в индирективной терапии, можно было бы показать на примере особого рода дзенской поэзии – «рэнга», или поэзии «нанизанных строф». Эта поэзия, которая была очень популярна в средневековой Японии, представляет собой, по сути, особый случай совместной медитации. Участники этого поэтического «турнира» (элемент турнира здесь еще присутствует) по очереди произносят две или три строки классического японского пятистишия – «танка». Пятистишие, стало быть, делится при этом на две неравные части – на три и две строки. Трехстрочные формы потом, как известно (и во многом именно благодаря практике «рэнга»), превратились в самостоятельный поэтический жанр – «хайку», или «хокку», – жанр, который прославил великий Басё. Итак, первый участник произносил три строки, следующий – две, следующий – опять три, потом опять – две и так далее.
То, что говорил каждый следующий участник, должно было быть продолжением – или «ответом на» – строки, сказанные предыдущим участником. И если обратиться к записям этих бесконечных цепочек стихотворных реплик, можно с удивлением обнаружить, что каждая отдельная строфа образует с двумя соседними строфами полноценное пятистишие, причем – как с предыдущей строфой, так и с последующей! То, что строфы эти не бессвязны, что каждая последующая действительно «отвечает» (и часто весьма тонко) на предыдущую, – это несомненно так.
И если смотреть на эту ситуацию извне, – а именно так сплошь и рядом на нее и смотрят даже знатоки японской поэзии, которые, предпринимая подчас чрезвычайно тонкие и изощренные филологические анализы этой поэзии, исходят при этом исключительно из того ее содержания, которое можно извлечь непосредственно из текста, – если смотреть на эту ситуацию извне, то можно проглядеть главное, или даже – единственное, что тут имеет значение (если только помнить, что речь идет именно о дзенской поэзии).
Главное же состоит в том, как эти строчки рождаются. Чтобы быть дзенскими стихами, они должны рождаться – по слову великого дзенского поэта танского Китая Ван Вэя – из той особой дзенской же «пустоты, которая не заполняется вещами», или, говоря иначе, должны рождаться из «своего собственного начала»; то есть в своем рождении они не должны определяться ничем внешним себе, в том числе – и стихами предыдущего участника, «ответом» на которые они выступают.
Итак, с одной стороны, стихи каждого участника этой поэтической медитации не могут рождаться независимо от того, что было сказано предыдущим участником, – они должны быть ответом на то, что сказал предыдущий участник. При этом, однако, чтобы быть именно дзенским ответом, и ответом именно на дзенское стихотворение, они должны проистекать из «своего собственного начала», не определяться в этом своем рождении ничем внешним себе. Больше того – они должны предполагать такое же качество в стихах другого: если я на стихи другого участника сессии отвечаю как на дзенские стихи, то и в отношении них я должен предполагать то же самое, то есть – что это стихи, рожденные из своего собственного начала, или – из той дзенской «пустоты, которая не заполняется вещами». Дзенская пустота – не физический «вакуум». Когда мы говорим: «природа не терпит пустоты», мы имеем в виду пустоту, которая как раз всегда требует заполнения, которая не только может быть заполнена, но не может таковой не быть. Пустота, о которой говорит Ван Вэй, которую ищет человек на дзенском пути, которая может быть дзенским Началом, – это «другая Пустота». Искать и достигать Пустоты, которая не может быть заполнена вещами, такого «места, стоя где» человек в своем «действии» не определяется ничем внешним ему, установиться и стоять в таком месте в своем действии (положим – в рождении своего стиха) – вот путь и дело человека дзен.
Эту дзенскую пустоту и следовало бы считать собственным началом всего «дзенского», в частности – дзенских стихов.
И тут для европейского ума, для рационального сознания возникает неразрешимое противоречие – противоречие между дзенской природой стихотворений, которая требует, чтобы они проистекали из дзенской же Пустоты, то есть не имели ничего внешнего себе, что определяло бы их рождение, – и тем обстоятельством, что в случае «рэнга» они должны быть «ответом на» другие стихи.
В соответствии с дзенским пониманием, то, на что мы отвечаем, не предшествует ответу, но – как таковое – устанавливается как раз внутри и через этот «на него» ответ. То есть парадоксальным образом мы отвечаем на то, чего всегда еще нет, или, быть может, лучше было бы сказать: что есть то, что не есть.
Стихотворение, на которое очередной участник отвечает рождением своего стиха, – как таковое, в своем дзенском качестве – впервые только и может быть прочитано, впервые только и устанавливается всегда уже – внутри и через этот «на него» ответ.
Точно так же, как в отношениях между учеником и учителем в дзене не бывает плохих и бессмысленных вопросов ученика, но бывают плохие – «не дзенские» – ответы учителя. Если только учитель – настоящий дзенский мастер, то на любой вопрос ученика (каким бы темным и бестолковым он ни был) учитель должен отвечать так, чтобы вопрос этот зазвучал как дзенский вопрос, то есть – как вопрос, который (равно как и этот «на него» ответ) проистекал бы из своего собственного начала, то есть из точки дзенской Пустоты, – и, тем самым, открывал бы для ученика путь к пробуждению. Иными словами, и дзенский мастер мог бы повторить тут Канта: «Если из понятия, – говаривал Кант, – можно вывести событие – мы пропали!» – пропали как существа, способные действовать свободно.
«Путь к другому лежит через Другого в нем»
«Путь к другому, – сказал Платон, – лежит через Другого в нем» (и в себе, добавим мы), то есть – через того, кто рождается в нем (в разрешение «духовной беременности») вторым, духовным рождением. Перефразируя Платона, можно было бы сказать, что путь к стиху другого (участника медитации) как к дзенскому стиху – в ответ на который рождается мое стихотворение как дзенское стихотворение (а оно – как дзенское стихотворение – может рождаться только в ответ на другое дзенское же стихотворение), – путь к стиху другого лежит через стих Другого в нем – того в нем, кто сам (и всегда – впервые) рождается вторым рождением (дзенское «пробуждение»), – того, кому я – своим здесь-и-сейчас ответом на его стихи – как раз и открываю возможность этого второго рождения. Открываю ответом, «читающим», «выслушивающим» его именно как дзенское стихотворение, то есть – как изначально медитативное. «Как изначально медитативное» – каким бы оно ни было «на самом деле», вне моего ответа, пусть бы даже и для самого говорящего. Таков всегда – настоящий дзенский – ответ Учителя на вопрос Ученика. На вопрос, уже высказанный, только что сказанный, на произносимый здесь-и-сейчас вопрос. По сути, однако, – на всегда еще не высказанный вопрос – вопрос собственно Ученика, который и есть «Другой в нем».
Индирективный подход и «третье начало» алхимии
Существует традиция, особенно в восточной алхимии, – а феномен алхимии известен не только в западной, но также и в восточной, например в даосской, культуре, – различения алхимии внешней, то есть касающейся превращения физических веществ, и алхимии внутренней, или «алхимии души». Больше того, из исследований Юнга мы знаем, что это не просто различение двух версий алхимии, но что – безотносительно к тому, понимал это сам алхимик или нет, – именно внутренняя алхимия, то есть собственно душевно-духовная трансформация, и составляла всегда главный план алхимической работы, даже если на первый взгляд эта работа и была сосредоточена на превращении физических веществ.
При ближайшем рассмотрении, однако, становится ясно, что и этого различения двух планов алхимии недостаточно, что алхимических тиглей всегда на самом деле не два, а три, и что алхимик со своими двумя ретортами – физической и душевно-духовной – сам включен в некий объемлющий алхимический процесс: процесс трансформации, мастером которого является уже не он сам, процесс, который производит не его искусство, не его «тэхнэ», но и – не природа, не «фюзис», а – некое «третье начало». Таким образом, обнаруживается своеобразная «матрешечная» структура вложенных друг в друга алхимических процессов и, соответственно, алхимических «реторт» или «тиглей». Если же попытаться до конца продумать соотношение трех планов алхимической работы, то можно прийти к парадоксальному представлению, что последняя, третья алхимическая реторта, «объемлющая» первые две, оказывается вместе с тем… «вложенной» во вторую!
Говоря строго: «третье начало» алхимиков не есть «сущее». Оно (воспроизводя парадоксальную формулу современного мыслителя) «есть то, что не есть» – то, что внутри самой же алхимической работы и через нее – как имманентное условие ее возможности – само должно снова и снова у-станавливать себя и возобновляться. В каждой точке алхимического процесса, на каждом его шаге.
Человек – это всегда еще не установленное существо
«Человек, – говорил Ницше, – это еще не установленное животное». «Не установленное» – не только и не столько в гносеологическом смысле, в смысле познания того, что есть человек, но, прежде всего, в смысле онтологическом, бытийном: человек есть существо, которое еще не установлено в своем бытии. Но и этот тезис, чтобы быть верным, должен быть более радикальным. В максиму Ницше следует ввести еще одно слово: «человек есть – всегда еще – не установленное существо!» Существо, которое рождается «вторым рождением». Что значит: человек рождается не как «сущее», которое, однажды появившись на свет, может затем просто пребывать, непрерывно длить себя как вещь. Человек должен снова и снова себя устанавливать в качестве такового и возобновлять, вновь и вновь рождаясь заново, проходя через точки столь радикальной трансформации – анаморфоза, – которые следовало бы понимать как «катастрофы» – в том строгом смысле, который придан этому слову в современной математической теории катастроф. Человек есть существо, которое – в качестве такового – всегда заново и, по сути, всегда впервые рождается. Человек – в каждой точке своего пути – есть свой собственный анаморфоз.
Алхимический образ позволяет понять, что не только сам человек – в его «присутствии-в-мире», которое может быть всегда уже лишь «вторым» присутствием, – есть существо, для которого «быть» значит: вновь и вновь себя вторым рождением заново устанавливать на пути «про-из-ведения», или инициации, но – что и самое «начало», из которого он рождается, – та «реторта» или «тигль», где происходит трансформация, ведущая к его рождению, – также «не предшествует» рождающемуся «в ней» Новому человеку, но со-рождается вместе с ним, внутри одной акции, или, быть может, лучше сказать – «со-бытия».
Само это «третье начало», равно как и то, что в ходе психотерапии – как в своего рода «алхимическом» процессе, из этого Начала проистекающем, – вынашивается и рождается, – также есть то, что само на каждом шаге терапевтического процесса возобновляется, – то, рождению чего терапевт должен майевтически способствовать. Способствовать – в со-бытийном смысле – как своему Другому, который вторым рождением в со-бытии ему устанавливается. Само это Начало есть уже не столько «то, что», сколько «тот, кто» – не безличное Оно, но – Другой, Ты.
Индирективная стратегия и путь инициации
Эту трансформацию можно было бы назвать «путем инициации» – в том смысле, который это понятие получило в исследованиях традиционных культур, прежде всего – в работах Мирчи Элиаде. Хотя тут и надо было бы сказать, что «есть инициация и инициация». В контексте того понимания человека, которое сложилось в современной философии, самое понятие «инициации» следует продумать заново, придав ему, быть может, радикально иной смысл, нежели оно имеет применительно к традиционным культурам или даже – в большинстве направлений эзотерики.
Сократ Платона
Пример рождения Нового человека, рождения Вторым рождением – это платоновский Сократ. Сократ Платона – это, конечно же, не тот исторический персонаж, который «родился, учился, женился», которого сограждане встречали то там, то тут – то на базаре, то в веселой компании, – которого супруга поливала помоями и которого, в конце концов, заставили-таки выпить чашу с цикутой. Сократ Платона появляется после смерти исторического Сократа, и – что важно – он рождается после своей смерти, но – не первой (физической и, во многом, «сценарной») смерти, а – «второй», инициальной смерти, о которой он сам говорит в диалогах Платона и через которую – своими медитациями – и проводит его Платон. В этом – поразительная тайна платоновского Сократа, но также – и самого Платона. Сократ рождается в лоне мысли самого Платона, внутри того процесса внутренней алхимии, в котором – и также вторым рождением в качестве Нового существа – рождается и сам Платон. Никто лучше не сказал об этом, чем сам Платон в том месте знаменитой сократовской речи в «Пире», где Сократ и говорит о «духовной беременности». Следует обратить внимание на одно, до сих пор не отмеченное, но исключительно важное обстоятельство: Платон устами Сократа говорит здесь о «разделенной» беременности – о беременности, которой изначально беременен (духовный) Учитель, или Любящий, но которая «разрешается» (так, однако, что она при этом не «закрывается», не «упраздняется») в Ученике, в Возлюбленном, в том Новом существе, которое вынашивается в Возлюбленном и в нем рождается.
Тексты Платона, его мысль, развертывающаяся в этих текстах, и оказываются той майевтикой, тем повивальным искусством, благодаря которому в тигле платоновской души – как его Другой, как его со-бытийное ему Ты – рождается это новое существо: «Сократ Платона». Существо, от которого Платон не просто «узнает» сокровенные истины, но и получает «посвящение». «Реальный», исторический Сократ, как мы знаем, – и это отмечают все биографы Платона, – не был «посвященным» в традиционном смысле слова (пусть бы даже некоторые детали самих платоновских диалогов, хотя бы того же «Пира», и позволяли предполагать обратное) – и, стало быть, не мог дать посвящение Платону. Если, однако, Платон вообще и был посвященным – а он, безусловно, был им, – то это свое посвящение он получил не в путешествиях на Восток или какими-то другими обычными путями, которые, как правило, имеют в виду, говоря о Платоне, – свое посвящение он получил именно от Сократа, но – от того, своего Сократа, рождению которого он сам же майевтически споспешествовал.
Примечания
1
Журнал практического психолога. Юбилейный выпуск к 100-летию А.Н. Леонтьева. № 1–2. 2003.
2
Теперь уже – тридцатилетней давности.
3
Позицию терапевта можно было бы развернуть в ряд позиций: терапевта-практика, методиста, теоретика психоанализа. Реальный аналитик, как правило, совмещает в себе две или более из этих позиций.
4
По отношению к самому терапевту , по-видимому, также можно и даже необходимо говорить о психотехническом эффекте проводимой им терапии. Можно указать хотя бы на тот факт, что «принять» то, что сообщает пациент, подчас означает для терапевта проделать значительную встречную работу, «работу над собой». В силу этого в психотерапии для терапевта лежит мощный стимул для его собственного развития.
5
Тезисы на конференцию по психологии творческого мышления. М.,1984.
6
Тезисы выступления на 6-м Всесоюзном съезде Общества психологов СССР (Москва, 1983).
7
Доклад на одной из Зимних психологических школ факультета психологии МГУ (1984).
8
Вступление по докладу Б.В. Зейгарник «Об эксперименте в школе К. Левина» (1985) // Вестник Моск. ун-та. Серия 14, Психология. 1987. № 1.
9
Тезисы выступления в дискуссии по проблеме характера на факультете психологии МГУ (1984). Материалы дискуссии опубликованы в журнале: Вестник Моск. ун-та. Серия 14, Психология. 1985. № 4.
10
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986.
11
«Вся история психологии есть борьба за психологию в психологии» – заметил Выготский в одной из своих записных книжек ( Выготский , 1977, с. 95). «Психология гуманизируется», – писал он в работе 1929 года ( Выготский , 1986, с. 62).
12
Данная мысль Бахтина стоит в поразительной близости к основному тезису самого Выготского при обсуждении им сути психологического кризиса ( Выготский , 1962, с. 381). См. ниже.
13
В высоком, свойственном самосознанию самого Выготского, смысле. См. в письме Выготского к ученикам ( Левина, Морозова , 1964).
14
Вопрос, однако, как мы увидим, состоит здесь также и в том, нужно ли хотеть этого, имеет ли это для нас смысл, может ли это дать нам действительное понимание отстоящего от нас во времени текста.
15
Подобно тому, как, по мысли самого А. Эйнштейна, если специальная теория относительности рано или поздно неизбежно была бы создана и без него, то общая – была выражением всей уникальности его мыслительной и, шире – духовной организации и, не появись он на свет, возможно, также никогда бы не родилась.
16
Заметим, что именно такого рода требования к «чтению» и, соответственно, представление о сути «понимания» выставлялись самим Выготским в его ранней работе «Гамлет» (см.: Выготский , 1968, с. 341–364).
17
В данном месте мы используем некоторые мысли, высказанные в докладе на симпозиуме по психологии творческого мышления (1984) С.В. Табачниковой.
18
Строго говоря, такое описание вообще едва ли возможно. Нам в данном случае важно подчеркнуть, что оно «располагается» вне рамок действия.
19
Намечаемый подход к анализу и пониманию культурно-исторической теории Выготского не является, конечно, чем-то совершенно новым и неизвестным для методологии исторического исследования как таковой (см., к примеру: Коллингвуд , 1980). Однако «исторические» исследования в психологии и – что нас интересует ближайшим образом – анализ культурно-исторической концепции выполнялись до сих пор почти исключительно в рамках историографического подхода графического подхода, не поднимаясь по сути дела даже до уровня собственно теоретической истории традиционного типа. Деятельностно же ориентированный подход вовсе неизвестен историко-психологическим исследованиям.
20
Возвращаясь теперь к вопросу об истории психологии, следует заметить, что, строго говоря: история у истории психологии (подобно тому, как и история психологии) появляется только там и тогда, где и когда предпринимается попытка осуществления некоторого специального социо– и культуротехнического действия по отношению к сфере историко-психологических исследований и разработок, или, быть может – по отношению к самой психологии, несамостоятельной «частью» которой (органом ее развития) является история психологии.
21
В свете сказанного вопрос: есть ли история у современной психологии – не только не предполагает само собой разумеющегося положительного ответа, но, напротив, с необходимостью влечет ответ резко отрицательный. Прежде всего потому, что сегодня нет и, по-видимому, в ближайшее время не может появиться необходимая глобальная программа построения новой психологии и, соответственно, задача проектирования и реализации соответствующего социо– и культуротехнического действия в сфере психологии. Отсюда: история современной психологии как методологическая проблема.
22
В случае Выготского, как мы увидим, в случае его анализа кризиса в психологии «вектор» перестройки психологии был задан, по крайней мере, в форме совокупности «требований» к «новой психологии», то есть в форме «задачи» – в смысле Н. Гартмана – ее построения.
23
То же самое можно сказать и о других областях современной психотехнической практики, в частности – психотерапии. Так, положим, до тех пор, пока человек не побывал в роджерианской группе и не получил непосредственного опыта участия в ней, никакое, самое лучшее описание этого опыта – пусть бы выполненное даже самим К. Роджерсом, – как выясняется, не дает и не может дать адекватного представления о роджерианской терапии.
24
Увидел наутро некий шах на крыше своего дворца неизвестно как попавшего туда пастуха-бедуина. Кликнул стражников. Наглеца привели пред царские очи. И спросил царь: «Что делаешь ты на крыше дворца моего?» – «Ищу потерявшегося верблюда!» – отвечал бедуин. «Не бессмысленно ли искать на крыше дворца верблюда, потерянного в пустыне?» – «Не менее бессмысленно, – отвечал пастух, – чем искать бога, сидя на престоле!» (Д. Руми).
25
«Для меня служит большим утешением, что я имею такого сотоварища по заблуждению» ( Галилей . Беседы. День третий).
26
Свидетельство тому – чрезвычайно серьезное отношение к этим его исследованиям со стороны крупнейших физиков того времени, в частности Вернера Гейзенберга, который настоятельно советовал своим ученикам, коль скоро они хотят по-настоящему понимать то, что делают, внимательнейшим образом штудировать методологические трактаты К. Левина.
27
«Особенно удивительным оказывается то, что заблуждение, как вы увидите, кроется под весьма легким покрывалом, и одного порыва ветерка достаточно, чтобы его поднять и сдуть, лишив вопрос всякой таинственности и неясности» ( Галилей . Беседы. День шестой).
28
В свое время мы пытались показать это в выступлении по докладу Б.В. Зейгарник о принципах построения эксперимента в школе К. Левина на факультете психологии МГУ.
29
«Мне столько раз приходилось видеть, как на этом месте спотыкались даже сведущие люди» ( Галилей . Беседы. День пятый).
30
«Он не хотел говорить об этом подробнее, опасаясь, как бы высказываемые им новые взгляды, многократно возбуждавшие негодование, не зажгли нового пожара; впрочем, если кто-либо пожелает заняться этим вопросом, то он сам сможет удовлетворить свою любознательность, руководствуясь доктриной, изложенной в настоящем трактате» ( Галилей . Беседы. День четвертый)
31
Здесь, конечно, нужно сделать оговорку, что все это касается действительно экспериментальной психологии в строгом смысле этого слова, поскольку в психологии экспериментами зачастую называют исследования, которые экспериментальными в строгом смысле не являются. Удивительно при этом только то, что подобного рода неточности допускали нередко исследователи, которые прекрасно знали, что такое эксперимент, и, вроде бы, должны были понимать, что их исследования – нечто совсем иное. Это – и К. Дункер, и наш Выготский, и, что особенно невероятно – К. Левин. Столь силен был гипноз сциентистской идеологии.
32
Эта задача, как известно, состоит в том, чтобы найти способ разрушить «неоперируемую опухоль желудка» с помощью неких Х-лучей, которые при определенной интенсивности способны разрушать органические ткани, – разрушить, не прибегая к операции и не повреждая при этом здоровых тканей.
33
Нельзя не предупредить читателя, что как раз эта страница варварски изуродована «редакторами» при публикации работы в составе первого тома собрания сочинений Выготского. Нельзя не признать также с горечью, что и вообще это – единственное до сих пор, широко тиражируемое ныне и даже – что особенно ужасно – интенсивно переводимое на другие языки – издание в текстологическом отношении не выдерживает никакой критики. Читатель и не подозревает, что, работая с ним, он никогда не может быть уверен, что держит в руках аутентичный текст Выготского, а не оглупляющую Выготского конъюнктурную отсебятину горе-редакторов. Остается только завидовать тому же Бахтину, собрание сочинений которого издается ныне группой действительных энтузиастов и знатоков его творчества с образцовой добросовестностью и тщанием, достойными имени выдающегося мыслителя. Приходится признать, что Выготскому такое издание – если оно вообще теперь возможно при катастрофической судьбе его рукописного наследия – по крайней мере, в обозримом будущем явно не грозит. (Примечание 2003 года.)
34
За истекшее со времени первой публикации этого текста время ряд таких документов был опубликован прежде всего в составе биографии Выготского, написанной его дочерью Гитой Львовной Выгодской, а также в Вестнике Моск. ун-та. Серия 14, Психология. 2004. № 3.
35
Впрочем, в случае музыки подобного рода (не всегда зафиксированный в документах) индикатор, в принципе, также имеется. Это – даже не столько письма или публичные высказывания о своих сочинениях автора (даже когда они – искренни), но прежде всего, конечно, характер авторского исполнения, особенно – в случае выдающегося исполнителя-автора.
36
«Мир не создан однажды и навсегда, а заново создается каждый миг» (Джалаледдин Руми) (см.: Фиш Р. Джалаледдин Руми. М., 1985. С. 44).
37
(но не автоматически – творчество: «человек искомый» сам подобен стихотворению – удача и дар!)
38
Ср. сходные мысли о природе вещей искусства в работах М.К. Мамардашвили ( Мамардашвили , 1976 и др.).
39
Что такой вопрос стоит внутри сознания нравственно самоопределяющегося в сфере искусства человека, выразительно свидетельствует, например, реплика А. Веберна из его письма А. Бергу ( Веберн , 1975, с. 85).
40
Понятное дело, что само по себе это обращение к анализу истории науки в данном случае не означает принадлежности исследователя к неокантианской традиции (см. далее).
41
Вообще говоря, характер кризиса и способ намечаемого его преодоления в историческом плане не обязательно оказываются жестко и однозначно связанными. Возможны случаи, когда собственно внутрипредметный разрыв может сниматься через выход в план методологической работы. Однако известны попытки и прямо противоположного характера: когда, по сути, межпредметный конфликт исследователь пытается преодолеть за счет внутрипредметной работы. Во всяком случае, в истории психологии (в силу отсутствия подчас адекватной рефлексии ситуации) такого рода попытки нередки, хотя, по крупному счету, они с самого начала и обречены на неудачу.
42
Таким образом, в плане методологическом Выготским реализуется, по существу, тот же схематизм и ход мысли, что в плане собственно предметно-психологическом – и в понимании идеи метода исследования, и в представлении об особом отношении между исследованием «объекта» и его существованием, между знанием и объектом изучения. Иначе говоря, тут мы имеем дело с некоторой универсалией той новой культуры мышления, носителем которой был Выготский.
43
Строго говоря, с «чем-то», что еще только предстоит превратить в такие «объекты» и для превращения чего в эти психологические «объекты изучения» только еще предстоит изыскать условия возможности.
44
Практик, пока что лежащих принципиально вне научной психологии и не могущих лежать внутри нее и в этом смысле – «парапсихологических».
45
Следует, правда, еще раз заметить, что сами эти практики оказываются для новой психологии лежащими уже не вне психологии и психологического исследования, но внутри них – выступают формой и рамками собственно психологического исследования, то есть оказываются, по сути дела, не только связанными и соотнесенными с ситуациями собственно исследования, но и – совпадающими с ними.
46
Здесь и далее мы, по существу, переходим к рассмотрению некоторых элементов «Философии техники», как ее обозначали старые авторы, – области мало разработанной, особенно в том ее инструментальном ракурсе, который намечается в данном месте Выготским. По необходимости мы останавливаемся лишь на тех ее отдельных точках, которые так или иначе затрагиваются самим Выготским.
47
Особенно наглядно это показано на одной из схем в рукописи 1929 г. См.: Выготский , 1986, с. 56.
48
Почему даже и само это слово – «процесс» – следует употреблять тут уже только условно, ибо ведь у нас нет никаких других схем для изображения процесса, кроме «естественных».
49
«Натуральные» психические функции, по Выготскому, стало быть, в отличие от высших – «культурных», специфицируются, прежде всего, тем, что не включают в свою структуру психотехнического действия. Именно это, а не оценка по параметру «социальности» или «культурности» в смысле содержания и формы этих психических функций задает их «по понятию». В силу этого становится очевидной несостоятельность основных ходов в последующей критике понятия «натуральных» психических функций у Выготского в отечественной психологии (см., например: Зинченко , 1939; Леонтьев , 1959).
50
Доводя эту мысль до конца, следовало бы сказать даже – сколь бы неожиданным и невероятным ни казался этот тезис, – что «психика» человека – собственно человеческие формы психической жизни, то есть «высшие психические функции» по Выготскому – есть всегда уже и «психотехника», своя собственная психотехника, то есть «психика» человека всегда уже содержит – в качестве своего внутренне необходимого, «неотторжимого» компонента – некую изначальную и имманентную «психотехнику». Иначе говоря, собственно человеческая «психика» – по своей внутренней конституции, по самой своей «природе» – есть всегда уже «работа с психикой» и прошедшая сквозь горнило этой работы – «проработанная», или «вареная», как сказал бы Леви-Стросс, – психика.
51
Хотя, если быть достаточно строгим, то – как и в случае понятия процесса – здесь только условно можно говорить о «чем-то» развивающемся, но следовало бы говорить лишь о задаваемых актами организации своеобразных «тактах развития». Именно они есть тут действительно существующие единицы.
52
Теперь, правда, мы понимаем, что с прогнозами нужно быть осторожным и, того и гляди, сказав, что они «не должны были бы произойти», мы опять можем изменить траекторию истории!
53
Фактически, конечно, конституируемый в самом этом анализе «объект» уже только условно можно называть таким словом. Во всяком случае, это уже не «объект» в классическом естественнонаучном смысле, ибо в случае «неклассической» ситуации исследователь уже ни при каких условиях не способен занять по отношению к своему объекту чисто внешнюю позицию.
54
Это, оказывается такое знание, по отношению к которому, в частности, не удается удержать основных характеристик понятия «феномен» ( Мамардашвили , 1965), вводимого и значимого, стало быть, лишь по отношению к рациональному в классическом смысле знанию и, соответственно, классической формации рациональности.
55
Мы помним оговорку, сделанную выше.
56
См. «Выступление в дискуссии по проблеме эксперимента в школе К. Левина», помещенное в этом сборнике, а также материалы самой дискуссии, опубликованные в «Вестнике МГУ».
57
История самого естествознания, правда, знает немало примеров того, как подобного рода «артефакты» давали начало многим важным открытиям.
58
Заметим, что то же самое можно было бы повторить и в отношении понятия «интериоризации» (ср. сам Выготский в рукописи 1929 г.: «Конечно, переход извне внутрь трансформирует процесс» ( Выготский , 1986, с. 54)).
59
Что имеет место и в случае (культурно-) «исторической психологии», по Выготскому, где анализируются всегда нынешние, наличные сейчас формы высшей психической жизни человека, хотя и с точки зрения их детерминации, организации культурными приемами и средствами, выработанными, возможно, в очень далеком прошлом истории культуры и человеческого общества. В данном случае их анализ (как и в случае их психоанализа в узком смысле) может и даже, как правило, должен изменять и перестраивать течение анализируемых процессов, изменять организацию и, стало быть, тип регуляции анализируемого психотехнического действия.
60
Что имеет место в так называемой «исторической психологии» в традиционном смысле слова.
61
В отличие от чрезвычайно детально проанализированного учения Платона о душе, его – не менее интересное и важное – учение о теле до сих пор еще не стало предметом специального и серьезного разбора.
62
Тезисы доклада на Международном методологическом конгрессе (Материалы 1-го Международного методологического конгресса, Москва, 1994, на английском языке). На русском языке публикуются впервые.
63
Впервые опубликовано в Вестнике Моск. ун-та. Серия 14, Психология. 1986. № 1.
64
Архив Маркса и Энгельса, т. II; см.: Маркс К., Энгельс Ф . Соч. Т. 3. С. 16, прим.
65
Ср. неоднократно повторявшуюся Выготским мысль, что особенностью ситуации психического развития ребенка является соединение двух линий: естественного и культурно-исторического развития. См., например, в работе «История развития высших психических функций» (Собр. соч. Т. 3. С. 30–34 и др.).
66
Против ( лат .).
67
Выготский, возможно, имеет в виду работу Павла Попова «Бергсон и его критики» (в сб.: Георгию Ивановичу Челпанову от участников его семинариев в Киеве и Москве, 1891–1916. Статьи по философии и психологии. М., 1916. С. 101–119). В ней находим разбор книги А. Бергсона «Творческая эволюция» с многочисленными цитатами (с. 149–163 французского издания), к которым отсылает нас данный фрагмент работы Выготского. Например: «Изготовление и использование искусственных инструментов – и сегодня центр нашей общественной жизни» (р. 150); «Человек не столько homo sapiens, сколько homo faber» (p. 151); «У животных орудия только часть их тела. Инструментам [здесь] соответствует инстинкт» (р. 152); «Инстинкт есть врожденное знание о некоторой вещи, интеллект же есть способность изготовлять неорганические, то есть искусственные орудия» (р. 163) и др. Как видим, здесь развернуто обсуждается проводимая Выготским оппозиция «инстинкта» и «интеллекта». У Бергсона, однако, обсуждение ведется в чисто философском, прежде всего гносеологическом плане. Выготский же пытается рассуждать как психолог и методолог психологии. Поэтому наряду с фразами, где он целиком следует мысли Бергсона, встречаем не только дальнейшее развитие этих мыслей, но также и коррекцию их и противопоставление им.
68
Человек работающий ( лат .).
69
Говоря в данном случае «организованные», Выготский имеет в виду, по существу, «организмические», то есть принадлежащие организму, находящиеся внутри него. Однако, по-видимому, термин «организованные» употреблен в данном контексте не случайно; это не языковая небрежность, но, возможно, желание Выготского подчеркнуть момент специальной, искусственной организации и последующего «вращивания» этой организации, «прорастания ее в орган» в случае собственно человеческих форм психической деятельности и при этом сделать однородным противопоставление их формам, существующим у животных. Поэтому, видимо, его не до конца удовлетворял встречающийся в статье Попова термин «органический», хотя иногда он его и употребляет (см. ниже).
70
Идентифицировать работу Жане, которую здесь и далее имеет в виду Выготский, не удалось.
71
См.: Бюлер Ш., Тюдор-Гарт Б., Гейцер Г . Социально-психологическое изучение ребенка первого года жизни / Ред. Л.С. Выготского и А. Р. Лурия. М., 1931, табл. II, рис. 13.
72
Выготский знал эту работу по ее немецкому изданию 1927 г.; русское издание: Маркс К., Энгельс Ф . Соч. Т. 23. С. 62: «Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку. Вместе с тем и Павел как таковой, во всей его павловской телесности, становится для него формой проявления рода «человек».
73
Маркс К., Энгельс Ф . Соч. Т. 4. С. 183: «Экономические условия превратили сначала массу народонаселения в рабочих. Господство капитала создало для этой массы одинаковое положение и общие интересы. Таким образом, эта масса является уже классом по отношению к капиталу, но еще не для себя самой. В борьбе эта масса сплачивается, она конституируется как класс для себя».
74
Здесь формулируется чрезвычайно важное для всей культурноисторической теории понимание интериоризации как, прежде всего, перехода от социальных форм отношений между людьми («интерпсихический» план) к индивидуальным формам психической деятельности (план «интрапсихический»), – понимание, которое отличает позицию Выготского как от предшествовавших исследователей, так и от той трактовки интериоризации, которая возобладала в последующей истории отечественной психологии.
75
См. прим. 5.
76
Схема: вначале человек кричит и сражается, подражающий делает то же, потом один кричит и не сражается, другой сражается и не кричит: начальник и подчиненный [сноска Выготского].
77
Эти мысли П. Жане неоднократно повторялись и разъяснялись Выготским впоследствии (см., например: Собр. соч. С. 222–227).
78
И закон вербализации у Жане [сноска Выготского].
79
Закон декалажа ( фр .).
80
Человек двойной ( лат .).
81
В данном случае Выготский имел в виду работу Ж. Полицера ( Роlitzеr G . Critique des fondements de la psychologie. T. 1. P., 1928). Возможно, однако, что Выготский был знаком уже и со следующей, основной психологической работой Полицера «Мифологическая психология и психология научная», вышедшей в 1929 г. в первом номере «Revue de psychologie concrиte» (в русском переводе в кн.: Полицер Ж . Избранные философские и психологические труды. М., 1980. Особ. с. 245–285).
82
«…Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений» ( Маркс К., Энгельс Ф . Соч. Т. 3. С. 3).
83
Роде ( лат .), то есть о «родовой» сущности человека.
84
Автостимуляция, «вступление во владение своим телом», овладение [сноска Выготского].
85
Между строк карандашом вписано: «Концентрация, иррадиация – все имеет свои корреляты».
86
Самовнушения ( фр .).
87
Имеется в виду следующий лист рукописи с таким обозначением (см. непосредственно ниже), по-видимому, вставка.
88
Так в рукописи; по-видимому, должно быть princip – начало ( фр .).
89
В рукописи, по-видимому, описка и должно быть: Werkzeugdenken – инструментальное мышление ( нем .) – термин К. Бюлера (ср.: Собр. соч., т. 2, с. 103 и др.).
90
Имеется в виду, должно быть, неоднократно упоминаемый Выготским случай активного воздействия человека на свою память, приведенный известным исследователем Уссурийского края В.К. Арсеньевым (см., например: Собр. соч. Т. 3. С. 73).
91
Общественно-личностной ( фр .).
92
Стало быть ( лат .).
93
Выготский любил повторять мысль Р. Турнвальда, что первым домашним животным был сам человек (см., например: Собр. соч. Т. 3. С. 83).
94
Орудие говорящее, полунемое и немое ( лат .).
95
Инженер плюс машина ( нем .).
96
Здесь и далее в своеобразной метафорической форме Выготским проводится фундаментальная для всей культурно-исторической теории мысль о том, что собственно человеческий способ регуляции поведения и психики всегда с необходимостью включает некое специально построенное действие (первоначально разделенное между людьми, а затем выполняемое и отдельным человеком) по «выделыванию» и последующему употреблению особых знаковых объектов в функции средств и способов овладения человеком своей психической деятельностью, ее организации и реорганизации. Принципиально важно при этом, что именно эти «сигнификативные акты» (как называл их сам Выготский) или, иначе говоря, особые «психотехнические действия» – действия, посредством которых достигается трансформация психического аппарата и изменение законов его функционирования (а не сама по себе, если воспользоваться языком К. Леви-Стросса, «сырая» психика), и должны при последовательном проведении культурно-исторического подхода рассматриваться в качестве действительного «объекта» и «единицы анализа» в психологии. Это во многом парадоксальное и для современной психологии положение лишний раз показывает, насколько радикальным и до конца не осознанным и сегодня было намеченное в культурно-исторической теории изменение облика психологической науки. (Ср. соответствующие места второй главы «Истории развития высших психических функций» и других работ Выготского).
97
Лихтенберг Георг Кристоф (1742–1799) – немецкий писатель, популяризатор науки. Ср. в «Историческом смысле психологического кризиса» (Собр. соч. Т. 1. С. 366) и в «Истории развития высших психических функций» ( там же . Т. 3. С. 85). (В последнем случае цитата дана с ошибкой.)
98
«Я про это увижу сон» ( фр. ). Ср. выше и далее. См. также в работе Выготского: Развитие высших психических функций. Собр. соч., т. 3, с. 69 и др.
99
«Язык так же древен, как и сознание; язык есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание, и, подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми» ( Маркс К., Энгельс Ф . Соч. Т. 3. С. 29).
100
Так в рукописи – фраза обрывается.
101
В рукописи оставлено свободное место. На полях против него четыре знака вопроса.
102
Выготский имеет в виду предисловие Деборина к первому тому собрания сочинений Гегеля (См.: Гегель Г.В.Ф . Собр. соч. Т. 1. М., 1929).
103
См. прим. 19.
104
Знак, примета, предзнаменование ( лат .).
105
Мысль Выготского, звучащая поразительно современно, хотя бы в свете идей некоторых ведущих постфрейдистских направлений в современной зарубежной психологии в плане критики представлений ортодоксального психоанализа, начиная с работ основателя аналитической психологии К.Г. Юнга. Как известно, в противовес Фрейду Юнг отрицал редукционистское стремление свести те или иные конкретные факты психической жизни человека к некоторым конечным предельным «причинам», настаивая на изначальности именно самих психических «структур» (смысловых и динамических) связей. Подобный тезис отстаивали также и представители феноменологического и экзистенциального направлений (ср., например: Сартр в его учении об эмоциях // Психология эмоций. Тексты. М., 1984).
106
См. прим. 19.
107
См. прим. 19.
108
Так в рукописи.
109
Гештальттеория ( нем .).
110
В работе «Исторический смысл психологического кризиса» (Собр. соч. Т. 1. С. 289 и др.), обсуждая идею «общей психологии», понимаемой как «методология психотехники» (в широком смысле последнего слова) или как «философия практики», Выготский формулирует как одну из принципиальнейших особенностей такой психологии ее ориентацию на психотехнику в широком смысле этого слова, то есть – на технику практической работы с психикой, ее трансформации, овладения ею, ее развития.
«Не Шекспир в понятиях, – пишет Выготский, – как для Дильтея, есть цель такой психологии, но психотехника – в одном слове, то есть научная теория, которая привела бы к подчинению и овладению психикой, к искусственному управлению поведением».
111
Что значат в ней любовь, сон, мышление, искусство? Какой человек мыслит, любит etc.? [сноска Выготского].
112
Это невероятное для современного читателя заявление Выготского, содержащее прямую оценку Выготским своей концепции – как она сложилась к началу тридцатых годов, то есть в ее зрелом и классическом виде – только как переходной и во многом еще компромиссной формы реализации идеи конкретной психологии человека, не только свидетельствует о том, насколько свободным и критичным был он в оценке своей работы – по глубине и радикальности мысли он и здесь оставлял далеко позади современных ему и последующих, даже самых «смелых» своих критиков (ср. воспроизведенные в свое время А.Н. Леонтьевым маргиналии Выготского на одном из томов истории философии Куно Фишера), – но намечает также и то направление, в котором виделась ему «генеральная линия» и перспектива дальнейшего развития культурно-исторической психологии.
Это направление можно было бы обозначить как радикальное преодоление «академизма» традиционной психологии. Это должно означать, прежде всего, отказ от экспериментальной парадигмы исследования, в рамках которой психолог по существу пытается создать с помощью особой формы инженерно-технической деятельности – «эксперимента» – искусственные условия, при которых стала бы возможной реализация заданного в модели – идеального и «естественного», законосообразно живущего объекта изучения, объекта, который по отношению к реальным «объектам» практики, будь то практика обучения или воспитания, психотерапии или психологического консультирования («педологическая клиника»), оказывается всегда только «вырожденным», искусственным (лабораторным) и далеким от жизни случаем. Это означает, далее, переход к совершенно новому типу исследования, которое в силу фундаментальных особенностей своего «объекта» – культурно-исторического и развивающегося объекта – и вытекающих из этого принципиальных требований своего метода – экстериоризации и анализа – само должно осуществляться в рамках организации того или иного психотехнического действия, или возможно даже – некоторой регулярной психотехнической практики, выступая в качестве необходимого ее органа, обеспечивающего проектирование, реализацию, воспроизведение и направленное развитие этой практики. Этот проект радикальной перестройки психологии остался в последующей истории психологии по существу нереализованным.
113
Эту, неоднократно повторяемую в данном тексте Выготским мысль можно найти у многих современных психологов и психотерапевтов постфрейдистской ориентации, например, у представителей так называемого «гуманистического» направления, где ей придается принципиальное значение. Однако, быть может, в наиболее ясной и лаконичной форме эту мысль можно встретить у Т. Манна в его предисловии к американскому однотомнику Достоевского (См.: Манн Т . Собр. соч. Т. 10), где, обсуждая вопрос о том, насколько тот факт, что Достоевский был, по-видимому, психически больным (эпилептиком), определяет особенности его литературного творчества, Т. Манн настаивает на том, что не существует и не может существовать прямой и однозначной причинной связи между нозологической характеристикой болезни (даже в случае психической болезни) и особенностями личности человека, общей линией его психического развития. «Важно знать, – формулирует основную свою мысль Т. Манн, – не то, какой болезнью болен человек, но – какой человек болен данной болезнью». Близкие ходы мысли встречались уже в ранних дефектологических работах Выготского, а также в его работе, посвященной анализу проблемы характера (см: К вопросу о динамике детского характера. Собр. соч. Т. 5. С. 153–165 и др.). Ср. также тезис об отсутствии однозначной детерминации развития личностного плана человека со стороны его индивидных свойств в поздних работах А.Н. Леонтьева (например: Деятельность, сознание, личность. М., 1975. С. 177 и др.).
114
См. работу Выготского «Структура интересов в переходном возрасте и интересы рабочего подростка» (в кн.: Вопросы идеологии рабочего подростка. М., 1929. Вып. 4. С. 25–68), а также соответствующую главу его «Педологии подростка» (Собр. соч. Т. 4. С. 6—40).
115
Расшифровать эту ссылку Выготского не удалось.
116
См. прим. 16.
117
Бред отношения ( нем .).
118
Здесь и теперь ( лат .).
119
См. прим. 21.
120
Индивидуальная психология ( нем .).
121
Психология человека.
122
Се человек! ( лат. )
123
Так в рукописи.
124
Выступление на презентации книги «Культурно-историческая теория Выготского и современная психология» в Центральном доме работников искусств в ноябре 1986 года. Впервые опубликовано во втором томе собрания сочинений О.А. Седаковой (М.: Эн Эф Кью/Ту Принт, 2001).
125
Выступление на расширенном мемориальном заседании кафедры Общей психологии МГУ, посвященном Выготскому (1994) // Вестник Моск. ун-та. Серия 14, Психология. 1994. № 4.
126
См. в этом сборнике.
127
Выступление на расширенном заседании кафедры общей психологии психологического факультета МГУ 12 ноября 2003 года.
128
Выступление на методологическом семинаре факультета психологии МГУ 25 февраля 2004 года.
129
Послесловие в кн.: Зощенко М. Повесть о разуме. М., 1990.
130
Флоренский П.А . Наука как символическое описание // Вопросы истории естествознания и техники. 1989. № 1.
131
Выготский Л.С . Психология искусства. М., 1986.
132
См., например, документы, приведенные в статье: Сарнов Б.М ., Чуковская Е.Ц . Случай Зощенко (повесть в письмах и документах с прологом и эпилогом, 1946–1958) // Юность. 1988. № 8 (особенно с. 80 и следующие).
133
См., например, приведенное там же письмо Л.К. Чуковской К.И. Чуковскому от июля 1955 года, письмо самого Зощенко К.И. Чуковскому от 14 июля 1955 года и другие материалы.
134
Так, признание мифологического статуса основных теоретических построений фрейдовского психоанализа не является сегодня чем-то невероятным и тем более скандальным не только для серьезных критических работ о психоанализе. но и для рефлексии многих крупнейших представителей современного психоанализа. Быть может, в наиболее ясной и убедительной форме мифологический характер психоаналитической теории (ни в коей мере не в оценочном, уничижительном смысле, но в совершенно нейтральном – чисто типологической квалификации!) показан на примере разбора некоторых фрейдовских представлений в работах К. Леви-Стросса. Обращаясь в контексте структурного анализа к античным мифам об Эдипе, к вопросу о природе и действительном статусе фрейдовского представления о так называемом эдиповом комплексе, который в психоаналитической теории самого Фрейда претендовал на статус «научного объяснения» соответствующего мифологического материала, Леви-Стросс убедительно показывает, что с точки зрения выделенных им основных, прежде всего функциональных характеристик мифа фрейдовская конструкция эдипова комплекса – не понятийная объяснительная схема античных мифов, но лишь еще один вариант той же самой парадигмы, то есть – сама является мифологемой в ряду мифологем.
135
Работа написана в 1991 году для Московского психотерапевтического журнала. Публикуется впервые.
136
Вопросы философии. 1993. № 5.
137
В основе этого текста лежит мое выступление на Международном симпозиуме, посвященном 100-летию со дня рождения Л.С. Выготского (Москва, 23 октября 1996). Впервые опубликовано в «Вопросах методологии». 1997. № 3–4.
138
В основе этого текста лежит выступление на юбилейной сессии Московского психологического общества, посвященной 400-летию со дня рождения Декарта, 8 апреля 1996 года. Впервые опубликовано в «Вопросах методологии». 1997. № 1–2.
139
Впервые опубликовано в «Вопросах методологии». 1997. № 1–2.
140
Впервые опубликовано в «Вопросах методологии». 1999. № 1–2.
141
Фрагмент (отклоненной) заявки на получение гранта по РГНФ (1999).
142
Психология и философия: возвращение души. М.: РГГУ, 2003.