Книга: Ароматы кофе
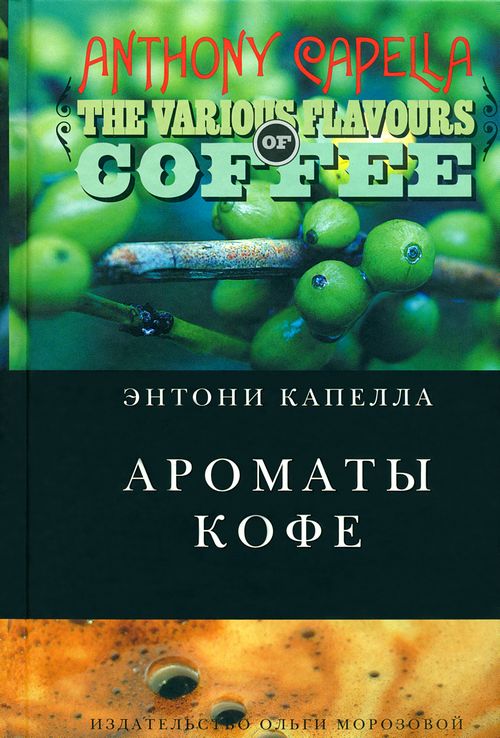
Ароматы кофе
Вчера — пара семян, завтра — горстка пахучей пряности или пепла.
Жеребец и коляска
Кофейный аромат во многом сих пор остается загадкой, —
Кто он, этот молодой человек с гвоздикой в петлице и с тросточкой в руке, идущий навстречу нам по Риджент-стрит? По его внешнему виду мы можем заключить, что юноша вполне состоятелен, так как он одет по последней моде. И мы ошибемся. Можно заключить, что он — любитель красивых вещей: вот он останавливается, разглядывая витрину «Либерти», нового универмага сверхмодной одежды, — но, может, он просто любуется своим отражением, волнистыми кудрями до плеч, что явно отличает его от прочих прохожих? Мы можем заключить, что он голоден, ибо шаги его резко убыстряются по направлению к «Кафе Руайяль», этому лабиринту сплетен и обеденных залов в стороне от Пиккадилли. И еще — что он здесь завсегдатай: он окликает официанта по имени и, направляясь к столику, подхватывает с полки «Пэлл Мэлл Газетт». Возможно, мы даже заключим, что молодой человек — писатель, вот он останавливается на ходу, заносит что-то в вынутую из кармана записную книжечку из телячьей кожи.
Извольте, я вас представлю. Что ж, признаюсь, мне знаком этот смешной молодой человек, и совсем скоро познакомитесь с ним и вы. Возможно, уже после пары часов общения вы сочтете, что почти полностью его раскусили. Сомневаюсь, чтобы вам он чрезвычайно понравился: но это неважно, мне и самому он не слишком нравится. Он… впрочем, вы сами поймете, что он такое. Но, возможно, вы сумеете заглянуть в будущее и представить, что с ним станется в дальнейшем. Подобно тому, как кофе скрывает свой истинный аромат, пока не соберут, не отшелушат, не прожарят зерна и не вскипятят напиток на огне, так и упомянутый субъект тоже обладает наряду с недостатками еще и кое-какими достоинствами, хотя вам и придется основательно присмотреться, чтобы их обнаружить… Видите ли, несмотря на его пороки, я к этому юноше глубоко неравнодушен.
Год 1896-й. Молодого человека зовут Роберт Уоллис. Ему двадцать два года. Это я в юные годы, много лет тому назад.
В 1895 году, провалившись на экзаменах, я был изгнан из Оксфорда. Кроме меня мой провал не удивил никого: готовился я скверно, а приятелей себе выбирал из молодежи, известной своей беспутностью и праздностью. Знал я немного — или, вернее, справедливей было бы сказать, чересчур много. Вспомним, то было время, когда студенты старших курсов, слоняясь по Главной улице, декламировали нараспев Суинберна, —
Вы смогли б загубить меня, нежные губы,
Как и я, тот, который в мгновение ока
Превращает, лишь раз прикоснувшийся грубо,
Вас из лилий чистейших в соцветья порока?
Вы смогли б загубить меня, нежные губы,
Как и я, кто способен в мгновение ока
Превратить вас, едва прикоснувшись к вам грубо,
Из невиннейших лилий в соцветья порока?[1]
а служители просвещения все еще с содроганием произносили имена Патера[2] и Уайльда. В тех монастырских застенках возобладали настроения томного романтизма, прославлявшего превыше всего красоту, молодость и праздность, и юный Роберт Уоллис впитал эту опасную доктрину параллельно с прочими пьянящими ароматами этого учебного заведения. Я тратил дневной досуг на сочинительство стихов, попутно растрачивая получаемое от отца содержание на шелковые жилеты, дорогие вина, яркую крикливую одежду, томики поэзии в изящном желтом кожаном переплете и прочие objets,[3] свойственные артистической натуре и доступные исключительно благодаря кредитам, охотно предоставляемым торговцами с Терл-стрит. Поскольку и отцовское вспомоществование, и мой поэтический талант в действительности были гораздо скромнее, чем виделось мне в моей беззаботности, подобное развитие событий неминуемо должно было привести к плачевному исходу. К моменту моего отчисления иссякли как средства моего существования, так и отцовское терпение, и вскоре я оказался перед лицом необходимости искать себе источник денежных средств, — мысль, которую я, к стыду своему, старался гнать от себя как можно дольше.
В те времена Лондон являл собой громадную, кипучую помойную яму человечества, хотя и на этой помойке взрастали — более того, расцветали пышным цветом, — лилии. Внезапно нахлынув, казалось бы, совершенно ниоткуда, столицу накрыла волна фривольности. Пребывавшая в трауре королева удалилась от светской жизни. Оказавшись вне ее опеки, сам наследник пустился в развлечения, а за ним последовали и все мы. Придворные смешались с куртизанами, денди фланировали в кругу demi-monde,[4] аристократы обедали с эстетами, мужланы-торгаши проникли в королевские покои. Домашним журналом сделалась «Желтая книга»;[5] зеленая гвоздика стала нашей эмблемой; наш стиль именовался теперь термином nouveau,[6] а манерой общения явилось остроумное изречение, чем парадоксальнее, тем лучше, желательно вворачиваемое в беседу со стандартной устало-меланхолической гримасой. Мы ставили искусственное выше натурального, художество выше практицизма и, вопреки шуму вокруг Оскара Уайльда, претендовали на экстравагантную порочность, к которой по натуре лишь немногие из нас имели склонность. Славное это было время: молодость, Лондон. Но мне пришлось, черт побери, распроститься со всем этим, и все из-за случайно брошенной фразы, которая дошла до ушей человека по имени Пинкер.
Основным фактором, влияющим на вкус, является отбор бобов.
Я завтракал в «Кафе Руайяль» — тарелка устриц и блюдо с толсто порезанной ветчиной в зеленом соусе, — и тут официант принес мой кофе. Не отрывая взгляда от свежей газеты, я сделал глоток и произнес, сдвинув брови:
— Черт подери, Марсден, кофе у вас отдает ржавчиной!
— Так ведь же тот самый, что и прочие посетители кушают, — нагло отозвался официант. — И никто, уж точно, жаловаться не изволил.
— Хотите сказать, Марсден, что я привередлив?
— Желаете еще чего-либо, сэр?
— Вы, Марсден, обладаете многими навыками официанта, кроме умения обслуживать. В изощренности ума вы также преуспели, за исключением чувства юмора.
— Премного благодарен, сэр.
— Да, да, я привередлив. Ибо чашечка отлично приготовленного кофе — идеальное начало для праздного дня. Аромат его обольстителен, вкус его сладок, хоть и оставляет по себе ощущение горечи и разочарования. В чем, несомненно, кофе имеет сходство с усладами любви. — Весьма довольный подобным aperçu,[7] я снова отпил кофе из принесенной Марсденом чашки. — Впрочем, в данном случае, — заметил я, — напиток имеет исключительно вкус дорожной грязи и ничего более. Разве что с легким привкусом гнилого абрикоса.
— Рад услужить, сэр!
— Вижу, вижу…
Я вновь сосредоточился на «Газетт».
Официант немного помедлил, затем с легким налетом модной усталой меланхолии поинтересовался:
— Станет ли нынче молодой человек платить за свой завтрак?
— Запишите это на мой счет, Марсден. Вот так, вот и умница.
Чуть погодя я уловил рядом движение: кто-кто подсел ко мне за столик. Кинув взгляд поверх газеты, я обнаружил перед собой маленького, похожего на гнома джентльмена, добротный сюртук которого резко выделял его среди щеголей и денди, обычных завсегдатаев этого заведения. Лично я ждал, что ко мне в любой момент могут присоединиться мои приятели Морган и Хант, и, так как в тот ранний час зал почти наполовину пустовал, нам, лишь только они появятся, не составило бы особого труда пересесть за другой столик. И все-таки мне стало любопытно: ведь при обилии свободных столиков просто удивительно, что незнакомец без приглашения присел за мой.
— Сэмюэл Пинкер, сэр, к вашим услугам, — произнес человек-гном, слегка склонив голову.
— Роберт Уоллис.
— Невольно я подслушал брошенную вами официанту фразу. Вы позволите?
И, отринув церемонии, он потянулся к моей чашке, поднес ее к носу и весьма деликатно втянул ноздри, точь-в-точь, как я нынче утром вдыхал аромат цветка, избранного, чтобы вставить в петлицу.
Я рассматривал незнакомца настороженно и одновременно с веселым любопытством. Признаюсь, в «Кафе Руайяль» захаживало немало эксцентричных типов, но эксцентричность прежних обычно носила более показной характер: скажем, букетик фиалок в руке, бархатные бриджи или поигрывание тростью с алмазным набалдашником. Но чтобы нюхать чужой кофе — такого, насколько припоминаю, здесь еще не случалось.
Сэмюэла Пинкера, судя по всему, ничто не смущало. Прикрыв глаза, он еще пару раз основательно вдохнул запах кофе. Потом поднес чашку ко рту, сделал глоток. Тут же издал смешной втягивающий звук: мелькнул, взвившись, язык, как будто Пинкер полоскал жидкостью рот. После чего он разочарованно изрек:
— Нилгери.[8] Переварен. Не говоря уж о том, что пережарен. Что ж, вы совершенно правы. Полпартии подпорчено. Легкий, но вполне ощутимый привкус гнилых фруктов. Позвольте спросить, вы имеете отношение к торговле продуктом?
— К торговле чем?
— Как чем? Кофе.
Помнится, я громко расхохотался:
— О Господи, нет, конечно!
— Тогда позвольте спросить, — не унимался он, — к какой имеете?
— Вообще ни к какой.
— Простите, тогда верней будет спросить, какова ваша профессия?
— Да, собственно, никакой особенно. Я не врач, не адвокат, ничем особо полезным не занимаюсь.
— Что же вы все-таки делаете, сэр? — раздраженно спросил он. — Чем зарабатываете на жизнь?
Признаться, сам я в ту пору ничего не зарабатывал; недавно мой отец снабдил меня дополнительно небольшой суммой в преддверии литературной славы, строжайше предупредив, что это в последний раз. Однако я счел, что в данном случае стоит называть вещи своими именами.
— Я поэт, — признался я с некоторым налетом усталой меланхолии.
— Известный? Большой поэт? — с жадностью встрепенулся Линкер.
— Увы, нет. Ветреная слава еще не пригрела меня на своей груди.
— Отлично, — к моему удивлению побормотал он. И снова: — Так вы владеете пером? Вы прекрасно управляетесь со словами?
— Как литератор, я полагаю себя мастером чего угодно, кроме языка…
— Оставьте свои остроты! — вскричал Пинкер. — Я спрашиваю — вы способны что-нибудь описать словами? Ну, конечно же, да. Описали же вы этот кофе.
— Я?
— Вы сказали, «ржавчина». Вот именно — «ржавый привкус». Я бы в жизни до такого не додумался, такое слово ни за что бы мне на ум не пришло, но эта «ржавость» она, прямо-таки…
— Mot juste?[9]
— Вот именно! — Пинкер взглянул на меня, совсем как мой оксфордский преподаватель, совместив во взгляде сомнение и долю железной решимости. — Разговоры в сторону. Вот моя визитка.
— Я, конечно, с радостью ее приму, — сказал я озадаченно, — но, мне кажется, вряд ли я нуждаюсь в ваших услугах.
Он что-то быстро нацарапал на обороте визитки. Я не мог не заметить, что визитка была отличного качества, исполненная на плотной матовой бумаге.
— Вы не поняли, сэр. Это вы мне нужны.
— Хотите сказать, в качестве секретаря? Но, боюсь, я…
— Нет-нет! — покачал головой Пинкер. — У меня уже есть три секретаря, все трое превосходно справляются со своими обязанностями. Вы, позвольте вам заметить, были бы весьма ничтожным придатком к их числу.
— Тогда, зачем же? — воскликнул я, несколько уязвленный.
В секретари идти у меня не было ни малейшего желания, однако мне всегда нравилось думать, что, если дойдет до этого, я проявлю способности и здесь.
— Мне необходим, — глядя мне прямо в глаза, произнес Пинкер, — эстет, писатель. Если я найду такого одаренного субъекта, он станет вместе со мной участником одного предприятия, которое сделает нас обоих фантастически богатыми людьми. — Он протянул мне визитку. — Зайдите ко мне завтра днем вот по этому адресу.
По мнению моего друга Джорджа Ханта, загадочный мистер Пинкер намерен издавать литературный журнал. Так как Хант и сам уже давно носился с этой идеей — главным образом потому, что ни один из существующих литературных журналов Лондона, как видно, не дорос до печатания его виршей, — Хант считал, что я должен принять предложение кофейного торговца и нанести ему визит.
— Едва ли он походит на человека из литературных кругов…
Я перевернул карточку. На обороте карандашом было написано: «Прошу сопроводить в мой кабинет. С. П.»
— Посмотри по сторонам, — Хант обвел вокруг себя рукой. — Здесь почти сплошь те, кто цепляется за юбки Музы.
В самом деле, почти все завсегдатаи «Кафе Руайяль» были литераторы или художники.
— Но ведь ему как раз понравилось то, что я назвал кофе «ржавым».
До сих пор не принимавший участия в разговоре третий член нашего содружества — художник Персиваль Морган — внезапно со смехом сказал:
— Знаю я, чего хочет твой мистер Пинкер!
— Чего же?
Хлопнув по тыльной стороне «Газетт», Морган вслух прочел:
— «Патентованные оздоровляющие порошки „Брэнэй“. Пациентам гарантировано восстановление цветущего здоровья. Насладитесь покоем альпийских лугов, воистину животворяще вспененном в одной единственной ложке!». Ну, разве не очевидно, что этот тип хочет, чтоб ты писал для него рекламу!
Должен признаться, эта версия показалась мне куда убедительней предположения о журнале. И чем больше я раздумывал, тем вероятней именно она мне представлялась. Пинкер не случайно спросил, силен ли я в обращении со словом, — вопрос странный для того, кто решает запустить журнал, но вполне естественный для того, кому надо сочинить рекламу. Несомненно, он располагает новой маркой кофе, которую требуется красиво подать. «Бодрящий утренний кофе Пинкера. Хорошо прожарен, улучшает цвет лица», или еще какой-нибудь вздор в том же духе. Я испытал легкое разочарование. Ведь я понадеялся было, будто меня ждет… ну, нечто более привлекательное что ли.
— Реклама, — глубокомысленно изрек Хант, — это пошлое олицетворение пошлого века.
— А я напротив, — возразил Морган, — обожаю рекламу. Это единственная разновидность современного искусства, которая хотя бы отдаленно имеет отношение к правде.
Друзья выжидающе уставились на меня. Но мне почему-то уже совсем было не до острот.
Назавтра, усевшись за письменным столом, я корпел над переводом одного стихотворения Бодлера. Сбоку стоял бокал желтого венецианского стекла с золотистым рейнским вином; я писал серебряным карандашом на лиловой бумаге, пропитанной маслом бергамота, курил одну за одной сигареты с турецким табаком — все, как полагается. Что не умаляло тяжести моих усилий. Бесспорно, Бодлер — великий поэт, к тому же он волнующе порочен, но также склонен и к некоторой туманности, что замедляет работу переводчика, и если бы не обещанные мне издателем за работу три фунта, я бы уже давно забросил это занятие. Мои комнаты располагались в Сент-Джонс-Вуд, неподалеку от Риджентс-парк, и в тот солнечный день до меня издалека долетали выкрики расхаживающих взад-вперед перед воротами парка продавцов мороженого. Усидеть в четырех стенах становилось все трудней и трудней. И почему-то для слова «осторожно» я не мог придумать никакой другой рифмы, кроме «мороженое».
— Хватит! — громко сказал я, отложив в сторону карандаш.
Визитка Линкера лежала на краю стола. Я взял ее, снова пробежал глазами: «Сэмюэл ЛИНКЕР, закупка и торговля кофе». Адрес — Нэрроу-стрит, Лаймхаус. Мысль выбраться из этих стен хотя бы на пару часов влекла меня вон, как собака, рвущаяся с хозяйского поводка.
По другую сторону стола высилась стопка счетов. Поэт, разумеется, без долгов обойтись не может. Собственно, не имея долгов, вряд ли можно вообще считать себя художником слова. Но на миг мне стало не по себе от мысли, что придется так или иначе изыскивать средства, чтобы оплатить долги. Я взялся за верхний счет: напоминание от моего виноторговца. Рейнское не только по цвету золотое: оно и стоило чертовски дорого, почти как золото. Хотя, если согласиться писать рекламу для мистера Линкера… Я и понятия не имел, сколько могут платить за подобную дребедень. Но раз мистер Линкер в поисках нужного автора решил наведаться в «Кафе Руайяль», то, заключил я, в этом деле он, как и я, новичок. Что если удастся его убедить платить мне не за проделанную работу, а авансировать гонораром? В сумме, скажем… я прикинул реальную, счел ее недостаточной, учетверил —…скажем, сорок фунтов за год? А если у торговца кофе есть разные приятели, деловые партнеры, которым нужны аналогичные услуги, — что ж, тогда большого труда не составит увеличить годовой доход до четырехсот фунтов, и это всего лишь за изготовление строчек типа: «Насладитесь покоем альпийских лугов, воистину животворяще вспененном в одной целительной ложке!» Еще и на Бодлера куча времени останется. Правда, Муза может почувствовать себя несколько уязвленной, если художник так проституирует своим талантом. Но ведь художнику так или иначе придется скрывать свои операции от собратьев литераторов; значит, возможно, и Муза останется в неведении.
Решено. Задержавшись лишь для того, чтобы взять карточку Пинкера и облачиться в визитку с кашмирским узором, купленную в «Либерти» неделю назад, я поспешил к выходу.
Давайте вместе совершим путешествие по Лондону, от Сент-Джонс-Вуд до Лаймхауса. В предложенном виде это звучит не слишком завлекательно, не так ли? Тогда позвольте мне перефразировать свое приглашение. Давайте пройдем сквозь этот грандиознейший, населеннейший город в пору его высочайшего расцвета, совершим прогулку, которая, если вы составите мне компанию, даст пищу любому из ваших чувств. Здесь у Примроуз-Хилл[10] воздух — вдохните-ка! — относительно свеж, лишь с легчайшей едко-серной примесью дыма каминов и кухонных плит, которые и в это время года полыхают в каждом доме. Но едва лишь мы минуем Марилебон,[11] тут-то и начнется самое занятное. От красивых кэбов и экипажей сочно пахнет кожей и лошадиным потом; колеса громыхают по булыжной мостовой; мягкий и влажный конский помет заполнил сточные канавы. Повсюду под напором транспорта стопорится движение. Двуколки, коляски, кареты, брогамы, кабриолеты, гиги, купе, ландо, кларенсы, экипажи — все стремятся пробиться кто куда. Иные даже сконструированы в виде колоссального цилиндра, имена изготовителей выведены золотом. Самые злостные нарушители — шоферы омнибусов; эти виляют из стороны в сторону, едва не наезжая на пешеходов, пытаясь заманить их за три пенса, на пенни дешевле обычного, на крышу своего омнибуса. Тут же и велосипеды с велосипедистами, и стаи гусей, которых гонят на рынок, и люди-афиши, пробивающиеся сквозь толпу, рекламируя зонты и всякую прочую всячину, и молочницы, тупо слоняющиеся по улицам с коровой и с ведром в ожидании желающих купить молока. Гордо вышагивают лотошники с пирожками и пирожными; продавщицы цветов суют вам в руки люпины и ноготки; трубки и сигары привносят в общее буйство запахов свой крепкий аромат. Человек, коптящий на жаровне ярмутские селедки, размахивает у вашего носа одной, поддетой на вилку, хрипло выкрикивая:
— Отличные селедки, два пенса с пылу с жару!
И мигом, словно в ответ, взвивается многоголосым хором:
— Каштаны-ы-ы… ы-ы-ы… ы-ы-ы… два десятка за пенни!..
— Вакса за полпенни!..
— Отличный грецкий орех, шестнадцать за пенни!.. — орут мальчишки при торговцах.
— А вот вам турнепс! — подхватывает ревом фермер с повозки, запряженной осликом.
Взвизгивают от соприкосновения с лезвием, исторгая искры, точильные колеса. Разносчики, молча выставив вперед ручные лотки, распродают по пенни за штуку коробки со шведскими спичками. А по краю толпы — вечно! вечно! — тянутся призраками нищие: босые, голодные, бездомные, убогие. Ждущие, когда ненароком что-то перепадет.
Если мы отправимся подземкой от Бейкер-стрит до Ватерлоо, нас примут узкие платформы, обдаваемые влажным, с примесью копоти, паром локомотивов. Если двинемся по новым величественным магистралям, таким как Нортумберленд-авеню, проложенным прямо через трущобы центрального Лондона, то обнаружим себя в гуще немытого человечества — ведь каждый великолепный проспект по сей день окружен обиталищами, и каждое — гнездовье, вмещающее тысячи семей, живущих в тесноте, в зловонном месиве пота, джина, вони изо рта, от кожи. Но день хорош: пройдемся пешком. Мы торопливо проходим задворками Ковент-Гарден, где нас провожает множество глаз в надежде заметить краешек высунувшегося носового платка или перчатки, чтоб тотчас ухватить, а заговаривают с нами лишь Магдалины-малолетки в дешевых вульгарных побрякушках, бормоча свои похотливые приветствия в надежде мигом воспламенить в нас вожделение. Но нет у нас на это времени — у нас ни на что уже нет времени: мы уже чудовищно опаздываем. Вероятно, в конце концов мы возьмем кэб; к слову, вот и он!
Громыхая по булыжникам Друри-Лейн, мы мало-помалу ощущаем едва уловимый, не сказать, чтоб приятный, запах; он как ядовитый туман стелется вдоль по этим узким улочкам. Это пахнет река. Конечно, благодаря базалджеттовым сточным трубам Темза уже больше не отдает вонью гниющего мусора, столь непереносимой, что члены парламента однажды были вынуждены окунуть свои шторы в раствор сернокислой извести; но сточные трубы хороши лишь для тех, чьи современные туалеты с ними соединены. В трущобах же по-прежнему бытуют громадные зловонные выгребные ямы, откуда тошнотворная жижа проникает в лондонские подземные воды. Кроме того, ощущаются и всякие запахи от фабрик, расположенных, ради доступа к воде, вдоль берегов реки. Из пивоварен тянет хмелем с жаровен — пахнет довольно приятно, как и экзотическими травами с фабрики, где изготовляют джин. Но вдруг тошнотворно потянуло распаренными конскими костями с клеевых фабрик, кипящим жиром с мыловаренных, рыбным потрохом с Биллингсгейтского рынка, тухлым собачьим пометом от сыромятен. Неудивительно, что натуры чувствительные носят душистые бутоньерки или прикалывают к лацканам пиджака броши с эвкалиптовой солью.
Приближаясь к лондонскому порту, мы проходим под нависшими громадами складов, высоких и мрачных, точно утесы. Из одного исходит тяжелый и плотный аромат табачных листьев, из другого приторно пахнет патокой, из третьего — ползут тяжелые пары опиума. Здесь ноги липнут к тротуару из-за лопнувшей бочки рома. Вот путь преграждает марширующая фаланга солдат в красных мундирах. Повсюду вокруг клокочет многоязычная речь — белесые немцы, китайцы с темной косичкой, негры с яркими, повязанными вокруг головы платками. Мясник в синей робе взваливает на плечо лоток с мясом; за ним — боцман в соломенной шляпе бережно несет в руках бамбуковую клетку с длиннохвостым попугаем. Янки горланят удалые матросские песни. С оглушительной какофонией, как барабанный бой, бондари катят по булыжной мостовой бочки; блеют в своих клетях предназначенные на продажу козы. А река… река сплошь запружена кораблями всех мастей; их мачты и трубы простираются куда не кинешь взгляд. Шлюпы, шхуны, двухмачтовики, грузовые судна с бочками пива или углем; плашкоуты и рыбацкие лодки, клиперы — перевозчики чая и прогулочные катера; сверкающие пароходы с палубами красного дерева и закопченные трудяги-баржи. Каждое судно вносит свою лепту в общий беспорядочный гул, перекликаясь пронзительными визгами пароходных гудков, криками разгрузчиков угля, клаксонами лоцманских катеров и непрекращающимся перезвоном судовых баржевых колоколов.
Поистине лишь угасающее сознание не способно испытать прилив возбуждения при виде неугомонной суматошной энергии происходящего, этой демонстрации трудового порыва, изливающейся из недр величайшего в мире города, подобно пчелиному рою стремящемуся к грузным, сочащимся медом сотам в сердцевине улья и обратно. Правда, наличия душевной силы я в этом не узрел — зрелище впечатляло, однако было лишено мысли, и я смотрел на происходящее со стороны, как человек, наблюдающий за цирковой кавалькадой. Лишь такой, как Пинкер, был способен разглядеть в подобном действе нечто большее — увидеть, что Цивилизация, Коммерция и Христианство представляют собой в конечном счете единое целое, постичь, что только не стесненная властью коммерция может стать тем светочем, который способен озарить остаточные темные пятна нашего мира.
«Кедровый» — этот прелестный, свежий, кондовый аромат необработанной древесины в чем-то идентичен запаху карандашных стружек. Источником его является натуральное природное масло атласского кедра. Наиболее ощутим в зрелых плодах.
Открывший мне дверь на Нэрроу-стрит молодой человек примерно моего возраста был, несомненно, одним из тех успешных секретарей, о которых упоминал Пинкер. Одет он был безукоризненно, хотя и несколько консервативно: белый воротничок тщательно накрахмален, а сиявшие фиксатуаром волосы острижены коротко — куда короче, чем у меня.
— Чем могу служить? — произнес он, окинув меня холодным взглядом.
Я протянул ему визитную карточку Пинкера:
— Будьте любезны уведомить своего хозяина, что явился поэт Роберт Уоллис.
Молодой человек обозрел карточку:
— Вас велено принять. Следуйте за мной.
Я последовал за ним в здание, бывшее, как выяснилось впоследствии, неким складским помещением. Рабочие с баржи на пирсе выгружали джутовые мешки, и складские работники с мешком за плечами длинными вереницами сновали по складу в разных направлениях. Остро волной ударил в ноздри запах жареного кофе. И какой запах!.. В помещении находилось более тысячи мешков, ростеры-барабаны Линкера вращались денно и нощно. Запах этот, от сладости на языке до слезящихся глаз, был темен, как расплавленный вар. Горький, черный, манящий аромат, щекотал горло, вливался в ноздри, заполняя голову. Он мог с быстротой опиума привязать человека к себе навечно.
Это все я смог оглядеть лишь мельком, так как секретарь увлек меня по какой-то лестнице вверх и проводил до конторы. Одно окно ее выходило на улицу, но было и еще одно, более широкое, которое открывало вид на тот самый склад. Как раз у этого окна и стоял Сэмюэл Линкер, наблюдая за суматохой внизу. Рядом с ним под стеклянным колпаком тихонько пощелкивал небольшой медный прибор, исторгая тоненькую длинную бумажную ленту с какими-то печатными знаками. Спутанные петли бумажной ленты, причудливо, в виде цветка ириса, ложившиеся на начищенный паркет, являли собой единственное проявление беспорядка в этой комнате. За письменным столом другой секретарь, одетый точно так же, как и первый, что-то писал стальным вечным пером.
Линкер обернулся, увидел меня, бросил деловито:
— Беру четыре тонны бразильского и одну тонну цейлонского.
— Простите, как? — недоуменно переспросил я.
— Оплачу транспортировку пароходом при условии, что за время перевозки порчи не окажется.
Я сообразил: он диктует.
— А, понятно… Прошу вас, продолжайте.
Прозвучало нагло, Пинкер нахмурился.
— …Десять процентов будет удержано в счет будущих поставок. Остаюсь, и так далее… и так далее… Садитесь!
Последний возглас явно относился ко мне. Я сел.
— Кофе, Дженкс, будьте добры! — сказал Пинкер секретарю. — Номер четыре и номер десять, затем восемнадцать. Это я подпишу в ваше отсутствие. — Переведя взгляд на меня, он сухо произнес: — Вы, мистер Уоллис, назвались писателем.
— Да, верно.
— Но мои секретари не смогли отыскать ни единого вашего творения в книжной лавке на Чаринг-кросс. В платной библиотеке У. Х. Смита о вас и слыхом не слыхали. Даже, как ни странно, литературный редактор «Блэквуд Мэгэзин» с вашими творениями не знаком.
— Я — поэт, — сказал я, несколько обескураженный дотошностью расследований Линкера. — Но пока не публикуюсь. Мне кажется, я определенно дал вам это понять.
— Вы упоминали, что пока не слишком известны. Но вот я обнаруживаю, что о вас вообще никто ничего не слыхал. Вряд ли стоит говорить о степе ни известности, когда известий как таковых нет, не так ли?
Он тяжело опустился на стул по ту сторону стола.
— Приношу извинения, если я создал у вас превратное впечатление. Но…
— Оставим впечатления. Точность, мистер Уоллис! Единственное, что я требую от вас, и от кого бы то ни было, это точность.
В «Кафе Руайяль» Пинкер, пожалуй, вел себя не так уверенно, я бы даже сказал несколько застенчиво. Здесь, на своей собственной территории манеры его приобрели некоторую властность. Он вынул вечную ручку, снял колпачок, потянулся к стопке писем и принялся подписывать одно за одним с невероятной скоростью, не переставая при этом изрекать:
— Скажем, я. Смог бы я называться торговцем, если бы в жизни не продал ни единого мешка кофе?
— Любопытная постановка вопроса…
— Ни в коем случае. Торговец — тот, кто торгует. Ergo: если я не торгую, я не торговец.
— Но по той же логике, писатель тот, кто пишет, — заметил я. — Строго говоря, необязательно, что его читают. Только желательно.
— Гм… — Пинкер, казалось, осмысливал мои слова. — Очень хорошо.
У меня возникло ощущение, будто я выдержал некий экзамен.
Вернулся секретарь, неся поднос с четырьмя чашечками величиной с наперсток, и двумя дымящимися кофейниками, и поставил все это перед нами на стол.
— Итак, — произнес его хозяин, жестом указывая мне на поднос, — что вы скажете на этот счет?
Кофе был явно только что сварен — запах густой, приятный. Под выжидающим взглядом Пинкера я отпил из одной чашки.
— Ну, как?
— Превосходно.
Он поморщился:
— И только? Писатель вы или нет? Не ваше ли ремесло подбирать слова?
— Ах, это…
Теперь до меня дошло, что от меня требуется. Набрав в грудь побольше воздуху, я начал:
— Этот кофе исключительно… полезен для здоровья. Как альпийский санаторий… нет… как курорт на побережье моря. Трудно представить к завтраку что-либо иное, возбуждающее бодрость и активность, целебнее, животворнее, чем кофе Линкера к завтраку. Оно улучшает пищеварение, концентрацию мысли и одновременно поднимает настроение.
— Что-о-о? — Торговец выкатил на меня глаза.
— Разумеется, надо немного подработать, — скромно заметил я. — Но, по-моему, в общем и целом…
— Пробуйте следующий, — нетерпеливо перебил меня Линкер.
Я поднес к своей чашке второй кофейник.
— В новую лейте! — прошипел Линкер.
— Простите… — Наполнив вторую крохотную чашечку, я отпил из нее. И в изумлении воскликнул: — Совсем другой вкус!
— Разумеется, — кивнул Пинкер. — И какой же?
Раньше мне совершенно не приходило в голову, что кофе может быть разный. Разумеется, кофе бывает разбавленный, или прогорклый, или пережаренный, — что, признаться, частенько случается, — но тут передо мной оказались два разных сорта кофе, оба очевидно превосходные, но в своем превосходстве весьма отличные друг от друга.
— Как выразить словами подобное различие? — осведомился Пинкер и, хоть выражение его лица не изменилось, я почувствовал, что именно в этом вопросе и состояла суть нашей беседы.
— Этот, — начал я медленно, указывая на вторую чашку, — как будто с легким… дымком.
— Верно, — кивнул Пинкер.
— Ну, а тот, — я указал на первую чашку, — пожалуй, более… цветочный.
— Цветочный! — Пинкер по-прежнему во все глаза глядел на меня. — Цветочный! — Все же как будто оценка его заинтересовала… я бы даже сказал, произвела на него впечатление. — Так… позвольте-ка… — Он подтянул к себе секретарский блокнот, записал: «цветочный». — Продолжайте!
— Во втором есть некая острота.
— Точнее?
— Как запах от карандашных стружек.
— «Карандашные стружки», — также занес в блокнот Пинкер. — Именно так.
Все это походило на какую-то викторину, забавную, но бессмысленную.
— А другой отдает… ну, может быть… грецким орехом? — рискнул я.
— Может быть! — кивнул Пинкер, записывая. — Что еще?
— Этот вот, — я указал на вторую чашку, — как бы со специями.
— С какими же?
— Трудно сказать, — признался я.
— Неважно. — Пинкер вычеркнул «специи». — А! Милости просим! Замечательно. Можно разлить, будьте добры!
Я обернулся. В контору вошла молодая женщина с очередным кофейником. Я отметил про себя, что она весьма привлекательна, — в те дни я считал себя некоторым образом знатоком в этом вопросе. Одета в практичной манере, которая в ту пору была весьма популярна среди служащих женщин. Застегнутый на все пуговицы до самого подбородка строгий длинный жакет и длинная без турнюра юбка едва ли подчеркивали достоинства ее хрупкой фигуры. Между тем, лицо ее было подвижно и живо, а золотистые волосы, хоть и тщательно подколоты, изящно уложены.
Наполнив одну из чашечек, она осторожно поднесла ее мне.
— Благодарю вас, — сказал я, ловя ее взгляд, и лучезарно, как мне казалось, ей улыбаясь.
Даже и заметив мой интерес, девушка вида не подала: лицо хранило профессиональную непроницаемость.
— Пожалуй, стоит записывать, Эмили, — Линкер придвинул к ней блокнот. — Мистер Уоллис только что попытался определить, какую именно пряность наш изысканный бразильский кофе ему напоминает, но вдохновение ему временно изменило.
Секретарь присела за стол и вооружилась ручкой. Пока она ждала, что я продолжу, готов поклясться: какую-то долю секунды в глубинах ее серых глаз я уловил искру насмешки… даже некоторого ехидства. Но, возможно, мне это показалось. Я отпил новый кофе, и, признаться, вообще никакого вкуса не ощутил.
— Простите, но… — проговорил я, поводя подбородком.
— Подуйте! — предложил Пинкер.
Я подул и снова отпил. Этот кофе в сравнении с предыдущими был явно совершенно зауряден.
— Такой подают в «Кафе Руайяль»!
— Весьма похоже, вы правы! — улыбнулся Пинкер. — И этот… э-э-э… тоже ржавый?
— Немного. — Я еще отпил. — И пресный. Совершенно безвкусный. Легкий привкус влажного полотенца.
Я кинул взгляд на секретаря. Она была занята записыванием моих слов — точнее, как я разглядел, выводила в своем блокноте строчки причудливых, похожих на арабские буквы, закорючек. Возможно, это был как раз фонографический метод Питмена,[13] о котором я читал.
— Влажного полотенца… — со смешком повторил Пинкер. — Отлично, хотя полотенце я вряд ли когда-нибудь пробовал на вкус, ни влажное, ни сухое.
Перо стенографистки замерло в ожидании.
— И пахнет как будто… старым половиком, — продолжал я.
Мгновенно мои слова были переведены в очередные черточки и штришки.
— Половиком! — кивнул Пинкер. — Чем еще?
— Чуть-чуть — подгоревшим хлебом.
Очередные закорючки.
— Подгоревшим хлебом. Ну, так. Думаю, пока достаточно.
Записи у девушки не заняли и блокнотной странички. Я испытал дурацкое желание произвести на нее впечатление.
— Скажите, который из этих сортов ваш? — спросил я торговца, указывая на кофейники.
— Который? — Линкер опять-таки, казалось, был изумлен моим вопросом. — Да все!
— А какой же вы собираетесь рекламировать?
— Рекламировать?
— Об этом, — сказал я, указывая на первый кофейник, — можно было бы сказать так… — Я приподнял чашечку. — «Изысканный букет, жемчужина колоний с божественным ароматом грецкого ореха».
Показалось мне, или секретарь в самом деле едва слышно насмешливо фыркнула и тотчас подавила смешок?
— Хотя, как я заметил, в рекламе обычно стремятся прежде всего подчеркнуть пользу для здоровья. Тогда, скажем: «Изысканный привкус грецкого ореха возбуждает здоровый дух».
— Дорогой Уоллис, — сказал Пинкер, — поверьте, рекламист из вас получился бы просто чудовищный.
— Я бы так не сказал…
— Людям надо, чтоб их кофе пахло кофе, а не грецким орехом.
— Мы бы объяснили им, как хороша эта компонента аромата.
— Суть рекламы, очевидно, состоит в том, — с нажимом произнес Пинкер, — чтобы скрыть истину и обнажить то, что нужно публике. А смысл кода, наоборот, состоит в том, чтобы истину определить исключительно в интересах меньшинства.
— Отлично сказано, — произнес я взволнованно. — Звучит прямо-таки как афоризм. Но… но о каком коде вы говорите?
— Молодой человек, — произнес Пинкер, ввинчиваясь в меня взглядом, — внимательно выслушайте, что я вам скажу. Я хочу сделать вам одно весьма важное предложение.
— Мы живем с вами, мистер Уоллис, в Век Эволюционного Прогресса.
Пинкер вздохнул, вынул из жилетного кармана часы. Взглянул на них с некоторой досадой, словно эта вещь требовала больше времени, чем в данный момент он мог ей уделить.
— Взять хоть этот хронометр, — сказал он, приподняв часы за цепочку. — Он одновременно и более точен, чем любые часы, выпущенные за предыдущие десятилетия, и стоит дешевле. В будущем году часы станут еще дешевле и еще точнее. Знаете, сколько стоит «Ингерсол» последней модели?
Я признался, что несведущ в этом вопросе.
— Всего один доллар, — припечатал Пинкер. — И прикиньте, какова прибыль. Логичность — первейшее требование торговли. Есть сомнения? Чем больше точных хронометров, тем больше четко работающих железных дорог. Четко работают железные дороги — растет торговля. Растет торговля — растет число самых дешевых и точных хронометров. — Он взял со стола ручку. — Или возьмем эту вечную ручку. В ее корпус хитрым образом вмонтирована чернильница — видите? Значит, мои секретари могут работать быстрее, потому мы сможем дел проворачивать больше, и так далее, и так далее. Или… — Снова потянувшись к жилетному карману, Пинкер вытащил оттуда большим и указательным пальцами некий предмет. — Вот! — Он поднес к глазам крошечный болт с гайкой. — Смотрите, Уоллис, какая удивительная штука. Этот болт изготовлен… скажем, в Белфасте. Гайка, вероятно, в Ливерпуле. И при этом они идеально подходят друг к дружке. Резьба, как видите, откалибрована.
Ручка стенографистки запорхала по страничке блокнота — должно быть, секретарю было вменено в обязанность подробно фиксировать все экспромты своего хозяина; но, возможно, старалась она ради самообразования.
— Пару лет назад каждая мастерская и каждый швейный цех в стране изготавливали нитки по своему образцу. Царил хаос. Что было непрактично. Теперь благодаря влиянию Эволюционного Прогресса существует единый образец. Вы сторонник теории Дарвина?
Ошарашенный столь внезапной переменой темы и рискуя попасть впросак, — Дарвин, был тот самый предмет, который моих оксфордских наставников нервировал пуще всего, — я, поразмыслив, ответил, что, скорее всего, да.
Пинкер одобрительно кивнул:
— Дарвин как раз показывает нам, что Эволюционный Прогресс неизбежен. Разумеется, это относится к видам, хотя также и к странам, к народам, к отдельным личностям, даже к болтам с гайками. Так вот. Давайте подумаем, могут ли идеи Дарвина благотворно сказаться на торговле кофе и, если да, каким образом.
Я попытался было сделать вид, будто имею кое-какие дельные соображения на этот счет, но предпочитаю не высказываться из уважения к своему более мудрому собеседнику. Подобную мину мне уже не раз случалось изображать перед моими оксфордскими наставниками. Но в данный момент этого не потребовалось: Линкера уже понесло.
— Во-первых, приготовление кофе. Как можно усовершенствовать этот процесс? Я скажу вам как, мистер Уоллис! С помощью пара.
— Пара? Вы имеете в виду — фабрику?
— В определенном смысле. Представьте себе, в каждом кафе и каждом ресторане будет собственная паровая машина для варки кофе. Точно так же, как и при обработке хлопка или зерна мы сможем наблюдать здесь логичность. Логичность!
— Гм… но ведь тогда в кафе станет… жарковато, не правда ли?
— Машина, о которой идет речь, миниатюрна. Дженкс, Фостер! — выкрикнул Пинкер. — Прошу вас, принесите аппарат!
После короткой паузы оба секретаря мужского пола с нарастающим грохотом вкатили тележку, на которой был установлен диковинный механизм. Внешне он напоминал медный кипятильник, оснащенный целым рядом латунных трубок и трубочек, рычагов и циферблатов.
— Паровая кофейная машина синьора Тозелли, — с гордостью произнес Линкер. — Точно такая выставлялась на Парижской выставке. Выжимает с помощью пара по одной чашечке кофейного напитка, притом отличнейшего качества.
— Чем же она нагревается?
— Газом, хотя вскорости мы ожидаем электрический вариант. — Он помолчал. — Я заказал восемьдесят штук.
— Восемьдесят?! Зачем вам столько?
— Для «Безалкогольных баров Пинкера».
Он вскочил и принялся расхаживать взад-вперед по комнате. Позади Дженкс поджигал кипятильник; шипением и тихим посвистом аппарат сопровождал тираду хозяина.
— О, я предвижу ваши дальнейшие слова! Вам не терпится заметить, что в данный момент на земле нет ни единого безалкогольного бара Пинкера. Но они появятся, Уоллис, они появятся. Я намерен действовать по принципу вечной авторучки и хронометра Ингерсолла. Взгляните на Лондон. Питейное заведение на каждом углу! В большинстве господствует джин, из рабочего человека выжимаются средства, заработанные потом и кровью. Что пользы ему от этой отравы? Она отупляет его, побуждает колотить жену. Делает его настолько беспомощным, что он не способен даже дотащиться до дома и вынужден ночевать в какой-нибудь канаве, а назавтра лишиться своей работы. В то время как кофе — кофе! — подобными пагубными свойствами не обладает. Он не лишает человека сил: напротив, он наполняет его ими. Он не притупляет чувства, он обостряет их. Почему бы вместо пивных не открыть на каждой улице кофейни? Это был бы Эволюционный Прогресс, ведь так? Вы согласны? И если это Эволюционный Прогресс, следовательно, он должен произойти — и он произойдет. Этому учит нас Дарвин! И я буду тем, кто этот Эволюционный Прогресс осуществит.
Пинкер сел, утирая лоб рукавом.
— Вы упомянули о каком-то коде, — вставил я. — Я все еще не совсем понимаю…
— Да. Спрос и предложение, мистер Уоллис. Спрос и предложение.
Пинкер умолк, я ждал, изящная кисть секретаря застыла над блокнотом. Пальцы у нее были необыкновенно длинные, изысканно красивые. Легко было представить их на струнах скрипки или на клавишах фортепиано. Собственно, легко было представить их за любым родом занятий, также и сладостно непристойных…
— Мои планы, — пояснил Пинкер, — упираются в цену. Кофе — дорогостоящий продукт, куда более дорогой, чем, скажем, пиво или джин. Ну, это понятно, ведь его приходится завозить издалека. Заказываешь через посредника, который в свою очередь получает его от очередного посредника, — просто чудо, как он вообще к нам попадает. — Он взглянул на меня. — И потому мы задаемся вопросом… каким?
— Мы задаемся вопросом, — предположил я, снова переключая внимание на Пинкера, — как усовершенствовать доставку?
— Именно! — прищелкнул пальцами Пинкер. — Мы уже сделали первый шаг, основав Биржу. Вы слыхали про Биржу, я надеюсь?
О Бирже я не слыхал.
Пинкер опустил руку на купольный колпак, внутри которого продолжало тикать и потрескивать самопечатающее устройство, исторгая на пол бесконечную ленту печатных знаков.
— Лондонская кофейная биржа революционизирует ведение нашего дела. Подводный кабель обеспечивает соединение с Нью-Йорком и Амстердамом. Расценки будут стандартизированы по всему миру. Цена упадет — никуда ей не деться. — Он кинул на меня лукавый взгляд. — Улавливаете разницу?
Слегка поразмыслив, я предположил:
— Практически вы не знаете, что именно получите. Закупаете помногу, исходя из цены. Хотите для своих заведений подыскать хорошее качество, остальное пустить дальше. Таким образом, получаете прибыль от более низких цен, другим оставляя что похуже.
Откинувшись в кресле, Пинкер с улыбкой глядел на меня:
— Вы ухватили суть, сэр! Ухватили!
Внезапно аппарат зашелся хлюпающим хрипом. Дженкс потянул за какие-то рычаги, и с мало приятным бульканьем из нескольких трубок в миниатюрную чашечку вместе с паром полилась жидкость.
— Если бы вы владели неким кодом… хотя нет, «код» не совсем верное слово… если бы вы обладали торговым лексиконам, возможностью описать тот кофе, который вы с вашими посредниками заблаговременно для себя определили, то даже будь вы с ними в разных частях света…
— Вот именно! — Линкер подхватил болт, в другую руку взял гайку, свел их воедино. — Вот наш болт, и вот наша гайка. Нам надо их объединить.
Дженкс поставил перед Линкером и передо мной две крохотных чашечки. Я приподнял одну: густая черная жидкость массой с куриное яйцо. Поверхность покрыта сетчатой орехово-коричневой пенкой. Я покружил чашечкой: содержимое было густым и вязким, как масло. И поднес чашечку к губам.
Казалось, вся суть кофе воплотилась в этом глотке. Жженый янтарь, паленое дерево, тлеющие угли заиграли на языке, проникая в глубь гортани, оттуда разя стремительно ударить в голову… и при том ни капли едкости. Напиток растекался, подобно меду или патоке, оставляя легкий след бисквитной сладости, устойчивый, как привкус темного шоколада, как привкус табака. Я в два глотка осушил чашечку, но вкус кофе, словно настаиваясь, еще долго отдавался во рту.
Наблюдавший за мной Линкер кивнул:
— В вас есть чутье, мистер Уоллис! Еще незрелое, несколько недоразвитое, но в этой сфере вы способны себя проявить. И, что еще важней, у вас есть дар слова. Подыщите мне слова, которые ухватили бы, унифицировали бы неуловимый вкус кофе, так, чтобы двое разных людей в разных частях земного шара могли передавать друг другу по телеграфу описание, и при этом каждый мог четко представить себе его смысл. Пусть это будет убедительно, выразительно, а главное — точно. Вот вам ваша задача. Назовем это… — он слегка задумался, — …назовем это «Методом Пинкера-Уоллиса по выявлению и классификации различных ароматов кофе». Ну, как?
Он выжидающе уставился на меня.
— Звучит пленительно, — вежливо заметил я. — Но вряд ли я смогу выполнить эту задачу. Я литератор, я художник, не составитель фраз.
Господи, каким крепким оказался этот машинный кофе: от него сердце у меня бешено колотилось.
— Угум! Эмили именно такой ваш ответ и предрекала. — Линкер кивнул на секретаря, которая по-прежнему смиренно склонилась над блокнотом.
— По ее совету, я позволил себе разузнать адрес вашего отца и известить его телеграммой в связи с моим деловым предложением вам. Возможно, вам небезынтересно будет ознакомиться с ответом преподобного отца Уоллиса.
Линкер пододвинул мне через стол телеграмму. Я взял ее: телеграмма начиналась словами: Слава тебе, Господи!
— Похоже, ему не терпится освободиться от бремени содержать вас, — сухо заметил Линкер.
— Видимо…
— Сообщите ему: «Пособие отменяется. Тчк. Благоприятные возможности. Тчк. Благослови Вас Господь, сэр. Тчк».
— А…
— И, как попутно замечает ваш папаша, в виду вашего отчисления, путь к достижению духовного сана и даже к педагогике вам теперь, очевидно, заказан.
— Да… — выдохнул я.
В горле у меня пересохло. Дженкс поставил передо мной очередную чашечку кофе. Я влил ее себе в рот. Ароматный уголь и темный шоколад обволокли мозг.
— Вы обмолвились о фантастическом богатстве.
— Неужели?
— Вчера, в «Кафе Руайяль». Сказали, если я впишусь в вашу… схему, мы с вами оба станем фантастически богатыми людьми.
— Ах, да, да! — Пинкер призадумался. — Ну, это фигурально выражаясь. Я употребил… — Он кинул взгляд на секретаря: — Что я употребил?
— Гиперболу, — подсказала та.
Она заговорила впервые. Голос низкий. И вновь, как мне показалось, я уловил легкую иронию. Я взглянул на нее, но она по-прежнему сидела, склонив голову над блокнотом, продолжая записывать слово за словом своими дьявольскими каракулями.
— Вот именно! Я употребил гиперболу. Как персона литературная, вы, безусловно, это оцените, — сверкнул на меня глазами Пинкер. — Разумеется, в тот момент я не располагал сведениями о вашем несколько стесненном положении.
— Какое именно вознаграждение вы можете предложить?
— Присутствующая здесь Эмили проинформировала меня, что миссис Хамфри Уорд было заплачено за ее последний роман десять тысяч фунтов. Невзирая на тот факт, что она — известнейшая у нас писательница, а вы совершенно безвестный автор, я полагаю платить вам по той же шкале.
— Десять тысяч фунтов? — изумленно воскликнул я.
— Я сказал «по той же шкале», но не «ту же сумму». В очередной раз вынужден поставить вам на вид, как опасна неточность. — Пинтер улыбнулся, злодей забавлялся ситуацией. — Опус миссис Уорд вмещает приблизительно двести тысяч слов — иными словами, шесть шиллингов и три пенса за слово. Я буду платить вам шесть шиллингов и три пенса за каждое описание, пригодное для нашего кода. Это по-божески, не так ли?
Я провел рукой по лицу. Голова кружилась. Я выпил слишком много этого дьявольского кофе.
— Метод Уоллиса-Пинкера!
— Простите, что?
— Название должно звучать именно так. И никак иначе.
Пинкер нахмурился:
— Если автор идеи Пинкер, то и доля Линкера в этом деле должна быть, безусловно, значительней.
— Львиная доля работы выпадет мне как литератору.
— Позвольте вам заметить, Уоллис, вы все еще полностью не осознаете принципов, по которым строится бизнес. Если мне потребуется найти более сговорчивого служащего, я просто отправлюсь в «Кафе Руайяль», где его и отыщу. Вас я нашел за пять минут. Между тем, если вам захочется найти себе иного работодателя, то придется сильно потрудиться.
— Возможно, — сказал я. — Но автор автору рознь. Убеждены ли вы, что очередной претендент так же успешно справится с работой?
— Гм! — Пинкер задумался. — Ладно, будь по-вашему! — внезапно припечатал он. — Метод Уоллиса-Пинкера.
— И поскольку это литературный труд, мне потребуется аванс. Тридцать фунтов.
— Сумма весьма значительная.
— Общепринятая, — не уступал я.
К моему удивлению Пинкер развел руками:
— Что ж, тридцать так тридцать. Итак, договорились?
Я заколебался. Я хотел было сказать, что мне надо подумать, надо посоветоваться. Я уже представлял себе смешки своих приятелей Ханта и Моргана, едва я поведаю им о такой сделке. Но… не в силах совладать с собой, я взглянул на девушку. Глаза ее блестели, и она мне… не то чтобы улыбнулась, но подала некий сигнал: глазами еле заметно поманила на согласие. И тут я спасовал.
— Договорились, — ответил я.
— Отлично, — сказал коммерсант, вставая и подавая мне руку. — Начнем работать в этом помещении завтра же утром, сэр, ровно в десять. Эмили, будьте добры, проводите мистера Уоллиса.
«Терпкость» — едко-кислое ощущение на языке.
Я удержал ее, едва мы оказались на нижней ступеньке лестницы:
— Нельзя ли мне сейчас осмотреть склад? Любопытно узнать подробней о деле, к которому, по милости вашего мистера Пинкера, я должен приобщиться.
Если девушка и уловила мой ироничный тон в адрес ее патрона, то вида не подала.
— Да, конечно, — всего и сказала она, и повела меня на громадный склад, который я уже мимоходом обозрел.
Место это было прелюбопытное — несусветный жар исходил от выставленных в ряд по одну сторону жаровенных барабанов, пламя горелок ярко мерцало во мраке. Судно к этому времени уже разгрузили, и громадные, ведущие к молу двери были закрыты. Лишь единственный сочный луч солнца пробивался сквозь кривой просвет между ними. Высоко над полом располагались окна, но внутрь через них свет едва проникал. К тому же помещение наполняла какая-то странная мгла; как я вскоре определил — из-за пелены плывущих повсюду вокруг ватных на вид хлопьев. Я протянул руку: пальцы не уловили ничего, кроме воздуха.
— Кофейные чешуйки, — пояснила секретарь. — Частично бобы мы получаем в еще не смолотом виде.
Я ничего не понял, но, кивнув, спросил:
— И весь этот кофе принадлежит Линкеру?
— Мистер Линкер, — произнесла секретарь с легким нажимом, — владеет четырьмя складами, крупнейшие два для еще не прошедших таможню товаров. А вот это у нас чисто приемно-распределительное хранилище. — Она обвела рукой: — Кофе привозится на судах по реке. Затем он сортируется, взвешивается, мелется, обжаривается и помещается в соответствующее место в зависимости от страны, откуда привезен. На этом складе у нас кофе буквально со всего мира. Вон там — бразильский, здесь — цейлонский. За нами — индонезийский, его не так много: основной урожай скупают голландцы. Чистый «арабика» мы храним для большей сохранности вот там.
— Почему этому чистому «арабика» нужна большая сохранность, чем остальным сортам?
— Потому что он самый ценный. — Секретарь подошла к груде тучных джутовых мешков. Один был уже приоткрыт. — Взгляните!
Возглас прозвучал по-особому трепетно.
Я заглянул в мешок. Он был полон зерен — блестящих, с железным отливом, как будто каждое смазано маслом и отполировано. Она зачерпнула горсть, протянула мне. Зерна были маленькие, каждое с желобком, как земляной орех; они с шелестом, как дождь в листьях, сыпались у нее между пальцев.
— Мокка,[14] — благоговейно проговорила секретарь. — Каждое зернышко на вес золота. — Запустив руку по самый локоть, она нежно, гипнотически, будто лаская, водила ею в глубине кругами, тотчас кверху потянулся тяжелый припаленный аромат.
— Мешок таких зерен все равно что мешок сокровищ.
— Вы позволите?
Я скользнул рукой внутрь вслед за ней. И испытал нечто необыкновенное: на глазах моя кисть потонула, как в жидкости, в зернах, хотя те были сухие и легкие, бесплотные, как мякина. Густой, горьковатый аромат наполнил ноздри. Я погрузил руку глубже, и в скользко-маслянистой глуби зерен рука как будто встретила что-то иное — мгновенное, легкое касание ее сухих пальцев.
— Ваш мистер Линкер — большой оригинал, — заметил я.
— Он гений, — тихо сказала секретарь.
— Как кофейный деятель?
Будто невзначай я легонько скользнул большим пальцем вокруг ее запястья. Она напряглась, убрала руку. Но только и всего. Интуиция меня не обманула: было в ней какое-то забавное ехидство или, вернее сказать, внутреннее достоинство: эта женщина была не из тех, кто опустится до вульгарного жеманства.
— Он гений, — повторила она. — Он хочет изменить этот мир.
— Своими безалкогольными барами?
Должно быть, это прозвучало несколько насмешливо, потому что она бросила резко:
— Отчасти, если угодно, да.
Словно влекомая неведомым чувственным притяжением она снова погрузила руку в кофе, глядя, как зерна просыпаются между пальцами, темные, как бусины черного дерева или гагата.
— Чем же кроме? — вставил я.
Она взглянула холодно:
— По-вашему, он нелеп.
Я покачал головой:
— По-моему, он заблуждается. Рабочий ни за что не променяет джин на «арабику».
Она повела плечом:
— Возможно.
— Вы так не думаете?
Вместо ответа она зачерпнула очередную пригоршню зерен, и, водя рукой из стороны в сторону, дала им медленно сочиться между пальцев. И тут я понял, что именно напоминает мне этот полутемный, мрачный склад. Навязчивый запах кофе походил на запах ладана, а этот скудный, пыльный свет был сродни мраку внутри громадного собора.
— Это не просто зерна, мистер Уоллис, — сказала она, не отрывая взгляда от перекатывающихся черных капель. — Это семена… это семена новой цивилизации.
Она подняла голову. Я вслед за ней перевел взгляд на окно, выходящее из кабинета Пинкера на склад. За стеклом, глядя прямо на нас, стоял торговец кофе.
— Он — великий человек, — сказала она просто. — Ко всему прочему он мой отец.
Вынув руку из мешка и тщательно вытирая ее платком, она направилась к жаровням.
Я нагнал ее:
— Мисс Линкер! Позвольте мне перед вами извиниться… я не имел намерения… если я задел…
— Извиняться вам следовало бы исключительно перед ним.
— Но ведь ваш отец моих слов не слышал.
— Ну, и от меня он их не узнает, если вы не проговоритесь.
— Но я должен извинится за… — Я запнулся. — За свое поведение в отношении вас, оно было вряд ли уместно по отношению к такой особе, как вы.
— О чем вы? — невинно подняла брови мисс Пинкер.
Повергнутый в замешательство, я молчал.
— Надеюсь, мистер Уоллис, — сказала она, — вы не станете выказывать мне предпочтения в сравнении с другими служащими моего отца.
Отпор или поощрение к действию? Если последнее, то тщательно завуалированное. С минуту она выдерживала мой взгляд:
— И вы, и я здесь на службе, не так ли? Всякие личные чувства следует отмести. «Утром сей семя свое, и вечером не удержи руки своей». Экклезиаст.
Я склонил голову:
— Несомненно. Тогда я буду ждать вечера, мисс Пинкер.
— А я утра, мистер Уоллис.
Я покинул склад равно в приподнятом и одновременно в озадаченном настроении. С одной стороны, мне, похоже, выпала выгодная служба. С другой, встрепенулся под тканью брюк готовый к подъему член, как итог флирта с прелестной Эмили Пинкер. Я нанял лодочника до Набережной, затем пересек Стрэнд и направился к Веллингтон-стрит. Там располагалось несколько дешевых веселых заведений, которые я частенько до этого посещал: все относительно приличного свойства. Но нынче ночью предстоял пир: мне был обещан аванс в тридцать фунтов.
Попутно заскочив в таверну «Савой» лишь ради порции мясного пудинга, я вошел в самый шикарный бордель в доме номер 18. На первом этаже за тяжелыми портьерами находилась обитая красным дамастом приемная зала, в которой полдюжины наипрелестнейших крошек Лондона возлежали в своих неглиже на пухлых диванах. Но какую же выбрать? Одна с роскошными рыжими локонами; другая сильно напудренным лицом похожа на марионетку. Были еще и крепкая рослая красотка-немка, и смуглая кокетка-француженка. И многие другие.
Я выбрал ту, длинные изысканные пальцы которой напомнили мне мисс Эмили Пинкер.
Пинкер поднимает глаза: в кабинет входит дочь, чтобы убрать чашки и кувшины, загромождающие письменный стол.
— Ну что? — произносит он мягко. — Как тебе, Эмили, наш эстет?
Она берет салфетку, промокает пятна жидкости на поверхности полированного красного дерева, потом произносит:
— Он все-таки не совсем то, чего я ждала.
— В каком смысле?
— Прежде всего, он моложе. И слишком любит себя.
— Верно, — соглашается Пинкер. — Но по некотором размышлении я счел, что это, может, не так уж плохо. Человек постарше, не исключено, сильней дорожил бы своим мнением. Этот, надеюсь, не так прыток, чтобы сбежать, прихватив твою идею.
— Едва ли это моя идея… — вставляет дочь.
— Ну, Эмили, не скромничай. Раз тебе предстоит работать с мистером Уоллисом, то, подозреваю, такую роскошь ты вряд ли сможешь себе позволить. Разумеется, идея твоя, и она останется твоей. — Линкер вертит авторучку между пальцами. — Думаю, он этого не уловил, — ты обратила внимание, когда я сказал, что учредитель — Линкер, ведь он решил, что это я.
— И не без оснований, не так ли? Тем более, в тот момент он не подозревал, что я твоя дочь.
— Возможно, — Линкер смотрит, как она ставит посуду на поднос. — Ты ему скажешь? Про то, что Определитель — твое детище?
Эмили составила чашки стопкой.
— Нет, — говорит она после некоторого молчания.
— Почему?
— Мне кажется, что на этом этапе, чем меньше он будет знать о наших планах, тем лучше. Если расскажу, он, возможно, захочет узнать подробней, для чего задуман наш Определитель. И все, что мы расскажем, может попасть к нашим конкурентам. Даже, возможно, к Хоуэллу.
— Ты, как всегда, очень мудра, Эмили. — Отец поворачивает голову, наблюдает, как биржевой аппарат, запинаясь, клюет по бесконечно тянущейся ленте. — Что ж, будем надеяться, что для нашего дела он подойдет.
Дегустационная зала должна быть защищена от всяких вмешательств извне, в особенности зрелищ, звуков и запахов. Вдобавок — сконцентрируйтесь полностью на насущной задаче.
На следующее утро настала очередь старшего секретаря Дженкса быть моим проводником. Если накануне вечером склад показался мне чем-то вроде церковного собора, то в обществе Дженкса я уяснил вскоре, что на самом деле это — машина: громадный, но весьма нехитрый механизм накопления прибыли. «Сырье», как Дженкс именовал кофе, доставляется на судах во время прилива: распределяется по всему громадному пространству склада; очищается от шелухи, дробится, прожаривается и в некоторых случаях мелется, а потом, учетверяясь в стоимости, вывозится с очередным отливом. Дженкс показал мне реестры, находившиеся под его личным контролем; толстенные гроссбухи, четко регистрировавшие столбец за столбцом путь каждого мешка, каждого зернышка.
Большая часть кофе, поступающего в это хранилище, предназначалась для одной из всего-навсего четырех смесей: «Мокка-микс Пинкера», «Выдержанный Правительственный Ява Пинкера», «Цейлонский Пинкера» и «Причуда Пинкера». Смеси эти не вполне отвечали своим названиям. Скажем, «Выдержанный Правительственный Ява» был так назван потому, что правительство Голландии выдерживало свой кофе перед тем, как пустить в продажу, отчего вкус у кофе становился более насыщенным, что ценилось в Европе. Однако из-за пошлины на голландский кофе фактическое содержание сорта «Ява» в смеси Пинкера могло убавиться до трети, остальные две трети составлял кофе с плантаций Индии и Бразилии. Аналогично, разъяснил Дженкс, и цейлонская смесь, хоть изначально и состояла из кофе с личных плантаций Пинкера в Бразилии, теперь, поскольку урожай был полностью загублен тлей, имела название скорее чисто паспортное, чем соответствующее сути, так как более восьмидесяти процентов смеси составляет в ней дешевый бразильский кофе.
Должно быть, перехватив мой изумленный взгляд, Дженкс сухо заметил:
— Это не мошенничество, это общепринятая практика ведения бизнеса.
— Ну да, разумеется…
— Другие торговцы обычно добавляют в свои смеси посторонние добавки. Цикорий, овес, жареную кукурузу, даже сорго. Приправляют древесной золой и черной патокой. У Пинкера это исключено.
— Хотя это и, как вы заметили, является общепринятой практикой ведения бизнеса? — с невинным видом осведомился я.
Дженкс сверкнул на меня глазами:
— Под словом «общепринятая» я имел в виду недобросовестных торговцев. Таких как «Сеймур» или «Лэмбертс». Да и «Хоуэллс», пусть даже у них имеется Королевское разрешение.
Названия фирм, в особенности последнее, Дженкс произнес несколько зло, с пренебрежением.
— Угу.
И чтобы поменять тему, довольно с него моих подколов, я спросил:
— Наверно, гибель цейлонских плантаций нанесла вам приличный урон?
— Не слишком. Земля была дешевая, а работников мы просто переключили на сбор другого урожая, к примеру, чая. Возникли небольшие балансовые убытки, но мы списали их за счет наших активов.
Разумеется, слова «балансовые убытки», «активы», «списали» в то время были мне совершенно непонятны. Но я кивнул, и мы двинулись дальше.
В конторе Дженкс показал, как торговец определяет качество кофе или, как он выразился, «дегустирует» его. Определенное количество смолотых зерен насыпается прямо в чашку стандартного размера. После добавления воды надо подождать ровно две минуты, потом ложкой сбить гущу на дно и затем попробовать, что получилось.
— Вот так, — Дженкс отработанным изящным движением запустил ложку в чашку, потом вынул, поднес ко рту и шумно втянул.
От утонченного Дженкса подобных шумных звуков я никак не ожидал. Но потом я понял, что он намеренно всасывает воздух вместе с жидкостью, точно так же, как Пинкер делал это в «Кафе Руайяль».
— И каков его вкус? — спросил я.
Дженкс повел плечами:
— Не знаю. Я не умею определять.
В его голосе я уловил некую надменность, будто он хотел сказать, что определение вкусовых свойств кофе лучше предоставить людям вроде меня.
— Должно быть, при вашей должности это некий минус.
— В мои обязанности входит коммерческая сторона дела.
— Может ли удачно развиваться коммерция, если кофе неопределимо на вкус?
— В таком случае нам явно повезло, что появились вы, — бросил он презрительно.
Его тон меня удивил, я взглянул на Дженкса: прежде мне не приходило в голову, что мое назначение может негативно восприняться служащими Пинкера.
В этот момент к нам присоединился сам коммерсант.
— Ага! Наш новичок активно включился в работу. Счастлив, мистер Уоллис, обнаружить в вас такое усердие. Признаюсь, вчера вечером я в какой-то момент ощутил тревогу. Отсюда, в конце концов, никого не «отчисляют». — Он взялся за только что пригубленную секретарем чашку, опустил в нее нос, потянул ноздрями. — Как вы сможете заметить, — задумчиво произнес он, — пахнет по-разному из самой чашки, — он отвел нос подальше, — и на некотором расстоянии от нее. Больше того, если склонить нос на сторону, вот так, окажется, что аромат усиливается. Если слегка покружить жидкость в чашке, — он поводил чашкой, — высвобождается иное сочетание летучих элементов. Это все нам в свое время надо принять к сведению.
— Мистер Уоллис только что высказывал свои соображения насчет смешения сортов, — язвительно вставил Дженкс.
Пинкер, нахмурившись, взглянул на меня:
— В самом деле?
— Я просто заметил, — произнес я мягко (черт бы побрал этого Дженкса!), — как, должно быть, хлопотно покупать столько разных сортов кофе, а продавать так мало.
— Верно, верно. Истинный ценитель всегда обнаружит восхитительную изюминку в кофе с любой плантации, подобно тому, как для любителя вин большое удовольствие сравнивать красное бордо с испанской риохой и так далее. Но нам необходима прибыль, а в отличие от вин, с годами обжаренный кофе не становится лучше.
Пинкер подошел к окну, выходящему на склад, и некоторое время, задумавшись, глядел вниз на громадное хранилище.
— Вообразите, что перед вами армия, — произнес он наконец как бы про себя: мне пришлось подойти и встать у него за спиной, чтобы лучше расслышать. — У каждого полка своя родина, свой характер, и вместе с тем каждый полк состоит из отдельных личностей — бойцов, которые ради общего дела отказались от личного. Вон там у меня мои горцы, мои ирландцы-ополченцы, мои гуркские стрелки. И так же, как в армии, в зависимости от надобности, используют кавалерию или инженерные войска, так и изготовитель смеси может улучшить застарелый бразильский кофе небольшой добавкой суматрского или же скрыть недостатки одной партии кофе с помощью лучших свойств другого сорта.
— Ну, если это армия, то вы, должно быть, ее генерал, готовый направить полки в битву? — сказал я.
Это была шутка, но на лице Пинкера, обернувшегося ко мне, я не обнаружил ни тени юмора: напротив, его глаза жарко вспыхнули в предвкушении побед своих батальонов.
— Именно, — сказал он тихо. — Именно так.
Мы тотчас приступили к работе. Была внесена и подключена к газу горелка. Мы были снабжены большим количеством чашек и чайников с водой, а также малым по имени Саут, в чьи обязанности входило приносить образцы кофе по нашему требованию. Кроме того, перед нами оказались два стальных ведра, назначение которых я сначала не понял.
— Для кофе, — пояснил Пинкер. — Если и в самом деле все выпивать, живот лопнет.
Еще нам была придана Эмили, занявшая свое место на краю стола со своим блокнотом. Я улыбнулся ей, но, хоть она и кивнула, это было чисто деловое приветствие, ничего более. Конечно, откуда ей было знать, что прошлым вечером мы с ней некоторое время совокуплялись на бархатном диване в доме номер 18 по Веллингтон-стрит. (Девица, которую я взял, была довольно мила, но летаргична, а ее натуральная смазка оказалась, как выяснилось, одобренной щедрым количеством «Жира Клейтона». И после, вернувшись в свои комнаты, я обнаружил, что мой опавший член был весь в этой дряни. Любопытно выходит со шлюхами: клиент оплачивает свою неопытность и недостаток потенции — право же, это единственная профессия, где такое возможно. Но не будем отклоняться от темы).
— Предлагаю взять за отправную точку высказывание Линнея по поводу различных категорий запаха, — сказал Пинкер. Он заглянул в записную книжку. — Вот. Линней группирует запахи по семи классам, в зависимости от их гедонических возможностей, то есть по степени приятности. Итак, мы имеем: Fragrantés, ароматические, такие как шафран или дикий лайм; Aramaticos — бальзамические, например, цитрусовые, анис, корица и гвоздика; Ambrosiacos — амброзиальные, например, мускус; Alliaceous — луковые, например, чеснок и лук; Hircinos — псиные запахи, например, сыр, мясо или моча; Tetros — отталкивающие, например навоз и грецкий орех, и Nauseosos — тошнотворные, например, смола из ферулы вонючей. Вы с этим согласны?
Немного подумав, я ответил:
— Нет.
Пинкер нахмурился.
— Система Линнея, вероятно, отвечала его личным задачам, — произнес я небрежно, — но эстетические принципы диктуют нам иной подход. Главное для нас — это внешний вид, это цвет и общий облик, — и лишь потом запах, вкус, послевкусие и тому подобное.
Пинкер оценил услышанное:
— Так, отлично!
Удостоверившись тем самым, что тон задается мной, я отослал Саута принести со склада по горсти кофе из каждого мешка. Затем зерна были выложены на столе маленькими горками в ряд.
— Итак, — произнес я с большей уверенностью, чем внутренне ощущал, — вот эти черны, как отчаяние, ну а те отливают золотом добродетели.
— Нет, нет и нет! — запротестовал Пинкер. — Это уж чересчур поэтично. Для кого отчаяние, а для кого уныние, и можно ли сказать, будто уныние и отчаяние одного цвета?
Я ухватил его мысль:
— Тогда нам придется подыскать определения различных оттенков черного.
— Именно, сэр, в этом-то и состоит моя цель.
— Гм! — Я призадумался. Если вникнуть, то предмет весьма заковырист. — Для начала, — объявил я, — сосредоточимся на самых черных оттенках черного.
— Отлично.
Мы оба разом притихли. В самом деле, найти, как определить первозданную черноту самых темных зерен, оказалось делом довольно трудным.
— Густо-черный, как ноздри коровы, — изрек я наконец.
Пинкер скривился.
— Тогда: блестящий черный, как слизняк на рассвете…
— Слишком нарочито. И, позвольте вам заметить, вряд ли возбудит аппетит.
— Черный, как библия.
— Весьма вызывающе.
— Черный, как безлунная ночь.
Пинкер недовольно крякнул.
— Чересчур поэтично? Тогда, может, «как уголь»?
— Но уголь не вполне черен. Он несколько сероват, что-то среднее между цветом корнуоллского сланца и мышиной шкурки.
Эта ремарка последовала от Эмили. Я перевел на нее взгляд.
— Прошу прощения, — сказала Эмили. — Наверно, вы не нуждаетесь в чужом дополнении, уже высказавшись столь определенно.
— Напротив… ваше замечание точно, — заметил я. — И, кроме того, чем более… тесно мы будем сотрудничать, тем лучше наши шансы на окончательный успех.
В душе, разумеется, я глубоко сожалел, что не настоял, чтобы этот Определитель предоставили сочинять лишь мне одному. Минут десять мы дискутировали по поводу черного цвета, а я даже не окупил те десять шиллингов, которые с таким рвением израсходовал предыдущей ночью.
— Соболь? — предложил я.
— Ворон, — парировал Линкер.
— Антрацит.
— Деготь.
— Гагат, — сказал я.
Линкер неохотно кивнул.
Кто оспорит непререкаемую черноту гагата.
— Мы получили первое слово, — сказала Эмили, занося его в блокнот. — Но, думаю, вы должны учитывать, что эти зерна так черны лишь оттого, что их прожарили до такого цвета. В натуральном виде они вообще-то светло-коричневые.
— Да, разумеется, — подхватил я. — Разумеется, я это учел. — (Стоит ли говорить, что я про это забыл.) — Естественно, также и прожаривание надо учитывать. В данный же момент мы задаемся вопросом: если эти зерна цвета гагата, то каковы же вон те?
И я указал пальцем на другие.
— Эти цвета… железа, — предположила Эмили.
— Верно, — согласился я. — Они именно такого цвета.
— С этими вышло легче, — отозвалась Эмили, записывая.
— А вот эти?
Пинкер указал на третью кучку.
— Эти жемчужные.
— И дурак знает, что жемчуг белого цвета.
Я поднес к глазам несколько зерен, внимательно их рассмотрел. Они отдавали опаловым сиянием, как натертая до блеска монета.
— Тогда олово?
— Согласна, — сказала Эмили, записывая.
— Итак, мы подходим к коричневому цвету.
— Но ведь у коричневого много разных оттенков и все попросту зовутся коричневым цветом, — возразил Пинкер. — Нет таких слов, чтоб определить различия между ними.
— Это не так. Возьмем, к примеру, коричневый цвет различных древесных пород, — я взглянул на зерна. — Есть оттенки красного дерева, оттенки ясеня, оттенки дуба.
Внезапно Пинкер поднялся:
— Меня ждут дела. Продолжайте без меня.
Мне предстояло открыть для себя, что такое поведение было ему свойственно: Пинкер был не способен более часа сосредотачиваться на одной задаче — следствие, отчасти, множества обязанностей, отнимавших уйму времени, но также и личной предрасположенности каждый раз увлекаться новым делом. Итак, Пинкер направился к двери, распахнул ее, выкрикнул:
— Дженкс! Дженкс, где же вы?
И скрылся.
Я взглянул на Эмили. Она не поднимала глаз от своего блокнота.
— Я все пытаюсь, — тихо сказал я, — найти слово, которое могло бы в точности описать цвет ваших глаз.
Она напряглась, склонившись над блокнотом, и я заметил, как щеки у нее окрасил легкий румянец.
— Ведь и они сероватого оттенка, — рассуждал я. — Но, пожалуй, ярче, чем уголь или корнуоллский сланец.
Настала легкая пауза. Но вот Эмили произнесла:
— Давайте продолжать. У нас много работы.
— Разумеется! В любом случае, с этим вопросом спешить не стоит. Надо над этой проблемой как следует поразмыслить.
— Прошу не утруждать себя на мой счет, — в голосе ее явно прозвучали ледяные нотки. — В ваших стараниях нет никакой необходимости.
— Помилуйте, это удовольствие!
— Однако в данный момент, лучше бы направить мысли на определение цвета этих зерен.
— Вы суровый надсмотрщик, мисс Пинкер!
— Просто осознаю важность стоящей перед нами задачи.
— Она важна, но не изнурительна, — галантно отозвался я. — В таком обществе никакая работа не покажется в тягость.
— Боюсь, я излишне отвлекаю ваше внимание. — Лед в ее интонациях вырос прямо-таки до арктических масштабов. — Пожалуй, надо выяснить, не освободились ли мистер Дженкс или мистер Симмонс, чтоб кто-нибудь меня заменил…
— Не стоит, — поспешно заверил я. — Под вашим началом я буду куда прилежней исполнять свои обязанности.
Мы оба смотрели на кучки сырых серо-зеленых зерен. Уверен, никто из нас о кофе и не помышлял. Я украдкой взглянул на Эмили.
— Кстати, цвет ваших щек, — заметил я, — наводит меня на сравнение со зреющим яблоком…
— Мистер Уоллис! — Она с силой стукнула блокнотом по столу. — Если мои щеки и обрели некую окраску, то только потому, что я возмущена вашей беспрестанной игрой на моих нервах!
— В таком случае, прошу прощения. Я не хотел вас обидеть. Более того, наоборот…
— Но вы же должны отдавать себе отчет, — произнесла она негромко, но отчетливо, — что ставите меня в безвыходное положение. Если я сейчас уйду, отец захочет узнать, по какой причине, и тогда он вас уволит, и Определитель не будет составлен, что для меня крайне нежелательно. Если же я останусь, то окажусь полностью в ваших руках, а, судя по вашему сегодняшнему поведению, нельзя не предположить, что вы этим воспользуетесь и станете докучать мне еще старательней.
— Клянусь честью, ничего подобного больше не случится.
— Вы должны пообещать, что прекратите обращать на меня внимание как на женщину.
— Я полагал, что вы вполне современны и не будете краснеть, как маков цвет, от моего совершенно естественного к вам отношения, — сказал я. — Но, если вам так угодно, в дальнейшем я постараюсь представить вас мальчиком.
Она кинула на меня подозрительный взгляд, одновременно вздымая над блокнотом карандаш.
— Что до этих зерен… — Я взял пригоршню, сомкнул в кулаке, слегка потряс. — …их цвет можно было бы сравнить с листьями.
— Как это?
— Молодой листок светло-зеленого цвета. Летняя листва, разумеется, темнее. Цвет осенних листьев более схож с бледной желтизной этих зерен.
— Отлично.
Она занесла в блокнот.
— Итак, переходим к аромату. Для этого, я думаю, надо приготовить несколько образцов кофе.
— Я подожгу горелку.
Эмили занялась кипячением воды, а я посматривал за ней. Я был неправ, решив, что строгая одежда вовсе ее не украшает. Скорее отсутствие корсета, что могло бы лишить ее формы той аппетитности, что считалась в моде до последнего времени, позволяло представить ее фигуру в натуральном виде — то есть, без одежды. Она была худа: костлява, заметил бы кое-кто. Даже бедра у нее, когда она опиралась грудью на стол, едва обрисовывались, так что сравнение с мальчиком было вполне уместно. Полуприкрыв глаза и мысленно сравнивая ее с разными шлюхами, с кем имел дело, я таким образом пытался составить по частям облик ее обнаженного тела, внешне же мои сладкие грезы Эмили вполне могла принять за усердную сосредоточенность.
Как раз в этот момент в контору вернулся Линкер, застав меня в момент созерцания его дочери. Думаю, ему не сложно было догадаться, какие мысли бродят у меня в голове.
— Как наша работа, продвигается? — отрывисто спросил он. — Что, Эмили, достаточно ли усерден мистер Уоллис?
Это был тот самый момент, когда малейший намек с ее стороны мог побудить Линкера вышвырнуть меня вон. Внутренне я проклинал себя за беспечность. Мне так необходим был этот аванс, особенно после похождений, которые я предпринял прошлой ночью.
Эмили бросила на меня холодный взгляд.
— Мистер Уоллис вполне успешно продвигается вперед, отец. Хотя, пожалуй, не так быстро, как ему бы хотелось. Боюсь, его отвлекает моя женская болтовня.
— Напротив, мисс Линкер действует на меня вдохновляюще, — спокойно сказал я. — Как Беатриче для Данте, как Мод для Теннисона, так и Эмили Линкер для Определителя Уоллиса-Пинкера.
Стаза Линкера сузились:
— Отлично. Быть может, Уоллис, я могу помочь вам при вашей первой дегустации?
— Нет необходимости, — бросил я беззаботно. — Дженкс уже разъяснил мне основные принципы.
— Что ж, поглядим.
Пинкер встал у двери, сложив на груди руки, и наблюдал, как я отмерял зерна, молол их в ручной мельнице, заливал кипятком. Я выждал по часам ровно две минуты, затем ложкой протолкнул густой, пенящийся наст с поверхности в глубь. Однако я был куда менее опытен, чем секретарь Пинкера, и когда вынул ложку, в жидкости все еще присутствовала взвесь из крупинок кофе. Все-таки я поднес ложку ко рту и попытался было втянуть жидкость тем же манером, что Пинкер и Дженкс, засасывая слегка вместе с огненной жидкостью и воздух. Неизбежный результат последовал мгновенно: я поперхнулся, забрызгав кофе весь стол.
— Мой милый Уоллис! — вскричал Пинкер. — Вам следовало испробовать кофе, а не отплевываться, подобно вынырнувшему киту.
— Попало не в то горло… — сказал, вернее, прохрипел я, едва снова обрел возможность говорить. — Прошу прощения. Попробую еще раз.
Я был крайне сконфужен. Снова я попытался отхлебнуть кофе так, как это делали они, но это оказалось сложней, чем я думал: на сей раз мне удалось удержать жидкость во рту, и это уже было ближе к идеалу, но я чуть было не задохнулся, зайдясь кашлем.
— Эмили, детка, боюсь, твой новый коллега до вечера утратил дар речи, — прыснул Пинкер.
— Ну, для всех нас это не смертельно, — скривив губы, сказала Эмили, — разве что для мистера Уоллиса.
— Может… может тогда… — Пинкер утирал пальцем слезы. — Может… красноречием отличится его жилет?
Тут наступила очередь Эмили расхохотаться от души. Я в изумлении смотрел на обоих. Сознавая, что я неким образом стал причиной их веселья, я никак не мог взять толк, что смешного они нашли в моем жилете. Да, в тот день на мне был желтый жилет — в тон ботинкам, но даже торговец кофе из Лаймхауса не может не отметить, что жилет à la mode.[15]
Пинкер утирал глаза:
— Простите нас, мистер Уоллис. Мы не хотели вас обидеть. Позвольте, я вам покажу. Есть одна хитрость, которая для нас, людей привычных, сложности не представляет. Смотрите! — Он влил себе в рот немного кофе из ложки и шумно с булькающим звуком втянул. — Секрет заключается в том, чтобы всосать жидкость губами и языком. Всосать вместе с воздухом и с силой сплюнуть.
Я последовал его примеру и на сей раз сумел справиться несколько успешней, — во всяком случае, реакция моих зрителей была более сдержанной. Веселье, правда, вновь вернулось к ним, когда от меня потребовалось овладеть искусством сплевывания дегустируемого кофе в ведро. Пинкер показал, как это делать, ловко выпустив изо рта тонкую струйку, с цоканьем ударившую в металлическую стенку Не успел он повернуться ко мне, как мне уже было ясно: такое воспроизвести будет непросто.
— Представьте, будто вы свистите, — пояснил Пинкер. — И вообще — действуйте решительней.
Я кинул взгляд на Эмили. На ее лице застыло подчеркнутое безразличие.
— Быть может, дочери вашей лучше… — проговорил я.
— Лучше? Что?
— Не присутствовать при этом, боюсь, весьма непривлекательном зрелище?
Пинкер перевел взгляд на Эмили.
— Право, мистер Уоллис, — отозвалась та. — Мы же с вами люди современные. Нам ли краснеть, как маков цвет, из-за таких естественных вещей?
— Да-да, — кивнул я. — Разумеется.
И нехотя вновь повернулся к столу.
— Вместе? — предложил Пинкер.
Он влил кофе из ложки в рот. Я последовал его примеру. Мы втянули и задержали жидкость во рту, вот он выстрелил тонкой темно-коричневой струйкой точно в ведро. Я склонился над ведром, помедлил, чтоб собраться с мыслями, и плюнул, стараясь, чтоб вышло как можно деликатней. Увы, моя деликатность возымела обратный результат: брызги грянули врассыпную по стенкам и дну ведра. Иные и вовсе разлетелись за его пределы.
— Мне ужасно неудобно… — произнес я, покраснев, как рак.
Но Пинкеры меня не слышали. Плечи у папаши тряслись. Из-под ресниц зажмуренных глаз текли слезы. Обхватив себя руками, Эмили раскачивалась взад-вперед на своем стуле, отчаянно тряся склоненной головой в попытке одержать смех.
— Как вижу, вам смешно, — надувшись, сказал я.
Пинкер положил руку мне на плечо:
— Если как поэт вы так и не состоитесь, — задыхаясь от смеха, произнес он, — у вас определенно есть шанс для мюзик-холла. Какова, сэр, поза перед выходом — просто-таки великолепна. Как будто вы вот-вот разразитесь монологом, а не слюни развесите.
— По-моему, слюни я не развешивал!
— А лица выражение каково! — с пафосом продолжал Пинкер. — Сколько достоинства! И как славно, как комично изобразили вы изумление.
— Совершенно не понимаю, о чем вы… — Щеки у меня продолжали пылать.
— Мой милый юноша, — сказал Пинкер, внезапно принимая серьезный вид. — Вы уж простите нас. Мы вдоволь над вами поизмывались. Прошу вас, возвращайтесь к своим обязанностям.
Пинкер направился к двери. Он вышел, и воцарилась тишина.
— Полагаю, я смешон в ваших глазах, — с горечью произнес я.
— Нет, Роберт, — мягко сказала Эмили. — Но, возможно, теперь вы сами себе смешны, а это, я думаю, как раз то, чего добивался отец.
— Да. Я понял.
— Если уж нам предстоит работать вместе, надо, чтоб нам было удобно друг с другом. Такое невозможно, если кто-то все время пытается главенствовать.
— Да. Понимаю.
— Обещаю, что не буду смеяться над вами, если вы обещаете со мной не флиртовать.
— Отлично. Даю вам слово.
Я тяжело опустился на стул.
— Поверьте, — добавила Эмили, и губы у нее дрогнули, — если кто теряет при этом уговоре, то это я.
Основная трудность словесного описания кофейных ароматов упирается в наш язык. Хотя существует много слов, обозначающих зрительные, звуковые и осязательные восприятия, есть лишь немного слов для обозначения запахов и вкуса.
Вероятно, подозрения у Пинкера в отношении моих намерений сохранились. Как бы то ни было, но вскоре к нам присоединилась молодая темноволосая особа, немного моложе Эмили. Явившись, она грохнула на стол громадную кучу книг.
— Моя сестра Ада, — представила Эмили. — Ада, это Роберт Уоллис.
Сухое «очень приятно» Ады предполагало как раз обратное. Я взял одну из книг и взглянул на корешок: «Пробы воды в целях санитарии». Боже милостивый!
Ада забрала книгу у меня из рук.
— Труд профессора Фрэнкленда — нормативное пособие о роли химических соединений.
— Ада собирается поступать в Оксфорд, — сказала Эмили. — Вы ведь там учились, Роберт, не так ли?
Ада мгновенно встрепенулась:
— В каком колледже?
— Крайст Черч.
— Там хорошие лаборатории?
— Не имею ни малейшего представления.
— А что Кларендон? Достойное заведение?
Минут десять она подвергала меня перекрестному допросу насчет новых учебных аудиторий, женских колледжей, экзаменационных залов и прочего. Я ее разочаровал. Я мог бы описать рассветную прогулку по оленьему парку колледжа в обнимку с парочкой подгулявших друзей, или дневное плаванье на лодке в деревушку Уайтем, чтобы полакомиться жареной форелью, но о перечисляемых ею лекционных аудиториях и преподавателях я ничего в сущности не знал.
Однако присутствие еще кого-то рядом оказалось не без пользы. В конце концов общедоступность была целью нашего глоссария, и на Аде мы имели возможность апробировать успех нашего продвижения к цели. Кроме того, Ада поспособствовала нам и в практическом смысле, когда дело дошло до создания пробного экземпляра. Но я забегаю вперед.
Примерно в двенадцать Эмили потянулась.
— Может, это от непривычно активного мысленного напряжения, — произнесла она, — но, по-моему, я ужасно проголодалась.
— Этого следовало ожидать, — заметил я. — Подобно тому, как музыке надо основательно обучиться, прежде чем сесть и начать играть с листа, также необходимо и усердно отработать все гаммы и арпеджио естественных удовольствий, прежде чем утверждать, что кое-что познал.
Эмили уставилась на меня:
— Не хотите ли подобной витиеватой фразой сказать, что вы тоже голодны?
— Именно. Имеется ли у вас поблизости приличное заведение?
— На Нэрроу-стрит есть местечко, где пекут превосходный пирог с угрем. Признаться, последние минут двадцать я подумываю, не присовокупить бы к этому и что-то еще. Там подают к пирогу картофельное пюре, поливая слегка соком угря вместо соуса…
— Мне надо в Хокстон, купить кое-какие реактивы, — заявила Ада.
— Похоже, идти нам придется с вами вдвоем, — сказал я Эмили.
— Эмили, можно тебя на пару слов? — быстро сказала Ада.
Выйдя на лестничную площадку, они совещались о чем-то вполголоса. Я, разумеется, подошел к двери подслушать.
— …обещала отцу не делать ничего предосудительного!
— Ах, да уймись же ты, Ада! Скорей наша река покроется льдом, чем я поддамся на манерные комплименты мистера Уоллиса. Но если ты уж так озабочена, пойдем с нами.
— Ты же знаешь, я не могу. Придется тебе взять Лягушонка.
Я слышал, как Эмили выдохнула:
— Ну уж нет!
— Это почему?
— Лягушонок — это бесконечная болтовня, это невозможно!
— Так ведь, насколько я успела заметить, Роберт только и знает, что болтает! Но если тебе не противно идти с ним, изволь, иди, пожалуйста.
Мы шли по Нэрроу-стрит в совершенном молчании. Признаться, я все еще с обидой переживал брошенную Адой фразу, будто я только и знаю, что болтаю.
— Как давно вы работается у своего отца? — спросил я наконец.
— Уже почти три года.
— Три года! — воскликнул я, тряхнув головой. — Это же больше, чем срок, на который приговорили беднягу Оскара!
— Да нет же. Для меня возможность работать — наслаждение. Ну, а для вас, как я понимаю, — она бросила на меня косой взгляд, — работа дело непривычное.
— Ну да. Перефразируя этого великого литератора: единственная работа, к которой надо стремиться, это искусство.
— Гм! Вы, как я вижу, как и многие представители искусств теперь, непомерно превозносите этого человека.
— Что бы кто ни говорил, Оскар Уайльд — гений, величайший человек своего времени.
— Что ж, надеюсь, он оказал на вас не слишком большое влияние.
— Что, собственно, вы имеете в виду?
— Только то, что было бы отвратительно, если б вы подражали ему в… в определенном смысле.
Я остановился:
— Вы заигрываете со мной, мисс Пинкер?
— Разумеется, нет! — Она густо покраснела.
— Потому что, если да, то я буду вынужден пожаловаться вашему отцу. Или, в крайнем случае, Аде, которая куда его грозней.
Я и вообразить не мог, что такое хрупкое существо способно поглотить такое количество пищи. Разинув рот, я глядел, как она уписывала пирог с угрем вместе с картофельным пюре и соусом, дюжину устриц, кусок пирога с форелью, а также тарелку мелких моллюсков с маслом, приправленных петрушкой, запивая все это полупинтой рейнского вина пополам с сельтерской.
— Я же говорила, у меня разгорелся аппетит, — промокая масляные губы салфеткой, сказала Эмили.
— Я просто потрясен.
— Вы будете доедать своих устриц? Или закажем что-нибудь еще?
— Я и не предполагал, — признался я, когда она потянулась к моей тарелке, — что обед с вами превратится в состязание.
Во время нашего обеда я узнал некоторые подробности об этом семействе. Мать скончалась уже много лет тому назад. Пинкеру остались унаследованное ей от отца прибыльное дело и три дочери, старшей из которых была Эмили. Девочек он решил воспитать самым по тем временам прогрессивным образом. Все гувернантки и преподаватели были взяты из разнообразных обществ — из Общества за прогресс знаний, Королевских научных обществ и тому подобных. Детям прививались чтение книг и посещение публичных лекций. Одновременно их отец активно занимался тем, что освобождал дом от устаревшей мебели, оснащал его электрическим освещением, ванными и туалетами, телефоном, внедряя мебель последнего образца, словом, вводя все современное.
— Потому-то он и увлекся идеей сделать из нас служащих, — пояснила Эмили. — Вложив так много средств в наше образование, он хочет при своей жизни получить какую-то отдачу.
— Пожалуй, это несколько… прозаично в отношении к своим родным чадам.
— Ах, что вы… совсем наоборот. Он убежден, что в занятии делом заложены здоровые принципы, что оно, иначе говоря, благотворно сказывается на людях.
— А вы? Неужели и вы того же мнения?
Эмили утвердительно кивнула:
— Я уже сказала, работа для меня удовольствие. И, кроме того, это выражение моих моральных убеждений. Лишь показав, что женщина как работник не хуже мужчины, мы сможем доказать, что женщины достойны тех же политических и законных прав.
— О Боже!
Вмиг я ощутил легкое угрызение совести, что работаю только ради того, чтобы расплатиться с виноторговцем.
К концу обеда я вынул портсигар и задал привычный вопрос:
— Не возражаете, если я закурю?
— Очень даже возражаю! — сказала Эмили.
— В самом деле? — изумился я.
— Нельзя точно оценить вкус кофе, надышавшись едким табаком.
— Мой вовсе не едкий, — заметил я, слегка задетый.
Мои сигаретки были от «Бенсона» с Олд-Бонд-стрит; изящные овалы отличного турецкого табака наполняли комнату томной, душистой мглой.
— К тому же, курение одно из немногих занятий, которое мне хорошо удается.
— Ну, так и быть, — со вздохом согласилась Эмили. — Давайте выкурим по одной перед уходом.
— Замечательно! — воскликнул я.
Хотя ее слова крайне меня изумили: курить в присутствии мужчины для благовоспитанной женщины считалось в те времена занятием не слишком пристойным. Я протянул Эмили портсигар и чиркнул спичкой.
Какое чувственное наслаждение подносить огонь к сигарете женщины: глаза ее сведены к кончику носа, к поцелую пламени, а это значит, что ваш взгляд устремлен сверху вниз на ее опущенные ресницы, на нежный контур верхней губы, обнявшей бумажный цилиндрик.
— Спасибо, — Эмили выдохнула краем рта струйку дыма.
Я кивнул и поднес спичку к своей сигарете.
Она сделала еще затяжку, задумчиво посмотрела на сигарету в руке и вдруг сказала:
— Если отец уловит запах табака, вы должны будете сказать, будто курили только вы, а не я.
— Он этого не одобряет?
Она поймала мой взгляд, затянулась в очередной раз.
— Он не знает. — С каждым ее словом выпархивало, овевая его, облачко дыма.
— Женщина имеет право на свои тайны.
— Терпеть не могу это выражение, можно подумать, что кроме этого, никаких иных прав мы не имеем. Теперь вы заявите, что мы слабый пол.
— Вы не согласны?
— Ах, Роберт! У вас просто безнадежно устарелые взгляды!
— Напротив. Я до мозга костей à la mode.
— Можно быть модным и при этом под модной одеждой оставаться старомодным. Простите, я заставила вас покраснеть?
— Не думал, — заметил я, — что вас интересует, что у меня под одеждой.
Она на мгновение остановила на мне свой взгляд. Подобный феномен я наблюдал неоднократно: курящие женщины становятся смелей, как будто одна свобода влечет за собой и другую.
— Я имела в виду ваши мысли.
— О, я стараюсь этим не обременяться. Я считаю, что мысли препятствуют моим изысканным чувствам.
— Что вы этим хотите сказать? — нахмурившись, спросила она.
— Да абсолютно ничего. Я далеко не слишком умен. По-моему, по крайней мере, три четверти из того, что я говорю, вылетает совершенно бездумно.
— Тогда вы, должно быть, слишком умны на три четверти.
— Знаете, если я так сказал, то это должно восприниматься как шутка.
— Но женщина, разумеется, не может быть остроумна?
— Не может, если она красива, как вы.
Эмили выдохнула дым в потолок:
— Вы снова флиртуете со мной, Роберт.
— Нет, я угождаю вам, а это совсем не одно и то же. Женщина как феномен — украшение. В этом секрет ее успеха.
— Сомневаюсь, — со вздохом сказала она, — что смогу превзойти вас по части украшательства. В отличие от украшения, я не собираюсь всю жизнь пылиться на полке. Теперь давайте все это оставим и вернемся к работе. Наше обоняние несколько подпорчено, но, возможно, удастся произвести еще несколько оценок.
Какая досада, подумал я, что Эмили Пинкер принадлежит респектабельному среднему буржуазному сословию, а не богеме или когорте шлюх. Было в ней что-то бойцовско-вызывающее, и я находил это совершенно неотразимым.
В первые же недели работы в конторе у Пинкера я постиг то, что теперь сделалось для меня совершенно очевидным, а именно: крайнее вероломство слов. Возьмем, к примеру, слово лекарственный. Для одного человека это может означать острый запах йода; для другого — тошнотворно-сладкий запах хлороформа; для третьего — густое терпкое тепло бальзама или микстуры от кашля. Или же слово маслянистый. Позитивное это прилагательное или негативное? На этот вопрос я отвечаю так: если описывает ощущение влажной крошки, как от крошащегося бисквита, возникающее от перетирания в пальцах только что смолотых кофейных зерен, тогда — позитивное. Если описывает ощущение на языке готового кофе, — крепкого, густого, в противоположность водянистому, — это тоже хорошо; но при описании вкуса кофе чрезмерно жирного до омерзения, такое определение не годится. Таким образом, нам надо выявить не только вкус наших сортов кофе, но еще те слова и выражения, которые мы используем для его описания.
Или возьмем слова такие: запах, благоухание, букет, аромат, отдушка, обоняние. Означают ли они одно и то же? Если да, то почему? Не имея слов, обозначавших различные виды запахов — запаха зерен, аромата смолотого кофе, букета кофе в чашке, — мы приспосабливали имеющиеся слова к собственным нуждам. Вскоре на этом пути мы отказались от традиционного языка и перешли на свой тайный диалект.
Я постиг и еще кое-что: едва мы начинаем исследовать наше восприятие, оно становится все более осязаемым. Линкер утверждал, что чувство вкуса у меня развивается, — выражение вполне очевидное, хотя в то время я еще слабо осознавал, что на самом деле это значит. День ото дня росла во мне уверенность в собственных суждениях, точнее, в предлагаемой мной терминологии. Я уже, кажется, входил в состояние синестезии, когда все чувства в тебе становятся взаимосвязаны, когда запахи превращаются в цвета, вкус становится зримым, и все раздражители физического свойства ощущаются столь же сильно, как эмоции.
По-вашему, это фантазии? Вот вам примеры. Дым — огонь, потрескивающий в ворохе сухих осенних листьев; прохлада в воздухе, острота вдыхаемой свежести. Ваниль — теплый и чувственный запах, пряно пахнущий остров, прогретый тропическим солнцем. Смолистый — густой едкий запах сосновых шишек или скипидара. Все сорта кофе, если вдуматься, имеют легкий запах жареного лука: одни — вне всякого сомнения отдают также сажей, свежевыстиранным бельем, свежескошенной травой. Другие тяготеют к фруктово-дрожжевому запаху свежеочищенных яблок, в то время как у третьих — крахмально-кисловатый привкус сырого картофеля. Иные напомнят вам даже не один аромат; мы открыли некий сорт кофе, совмещавший запахи сельдерея и ежевики; еще один, в котором сочетались нотки жасмина и пряника, а третий вызывал в памяти шоколад с едва ощутимым привкусом свежих хрустящих огурцов… И постоянно все это время Пинкер, то врываясь к нам, то исчезая, осведомлялся о наших успехах выкриками: «Ну, что обнаружили?» или «Можно проникнуть к нему в Душу? Может быть, там роза? Дойдем до Совершенства — какая именно роза?»
Это превратилось в наваждение. Однажды вечером, прогуливаясь по Стрэнду, я услышал выкрик: «Поджарь-ка!» и уловил жаркий запах орехов с подпаленной на угольях скорлупой. Я обернулся: у жаровни стоял парнишка, засыпая в бумажный кулек грецкие орехи. Это был точь-в-точь аромат «Явы» в момент, когда первые струи воды ударяют по зернам. В другой раз я оказался в книжной лавке на Сесил-Корт, перелистывал томик стихов, как вдруг меня осенило, что запах воска на хорошо сохранившихся кожаных переплетах почти идентичен послевкусию йеменского кофе «мокка». Или обычный запах смазанного маслом темно-коричневого тоста вызывал в памяти индийский «майсур», и тогда ничто уже не могло удовлетворить меня, кроме чашечки этого самого напитка, — теперь я перетащил к себе в комнату некоторые образцы, чтобы иметь возможность утолить свою страсть в момент пробуждения и одновременно прочистить мозги.
Ибо обычно по утрам я вставал с тяжелой головой. Дни я проводил с Эмили и Адой; свои вечера и свой аванс я тратил на девиц с Веллингтон-стрит и Мейфэр. Приведу один памятный случай с крошкой из заведения миссис Коупер на Олбимарл-стрит, она спросила, чем я занимаюсь. Когда я объяснил, что поглощен органолептическим анализом вкусов и запахов, мне ничего не оставалось, как обнюхать ее киску и сообщить, что именно я вынюхал (для официального оглашения: мускус, персик, мыло «Пирс», раки); когда она с гордостью поделилась с другими девицами, те потребовали, чтобы я проделал с ними то же. Я разъяснил им принципы коллективного апробирования, на моей постели собралось их четверо или пятеро. Опыт оказался наиинтереснейшим, и прежде всего потому, что каждая имела свое явное отличие — основная, как водится, нота мускуса, присутствовавшая в той или иной степени у каждой, сопровождалась широким спектром индивидуальных запахов — от лайма до ванили. У одной оказался непонятный запах, его я никак не мог определить, хотя понимал, что он мне знаком. Подобно забытому имени он преследовал меня весь вечер. И лишь на следующий день до меня дошло, наконец, что это такое. Так пахнет цветущий терн: ароматно-медовый запах сельских улочек весенней порой.
В тот вечер я сделал два важных умозаключения. Во-первых, я понял, что подобно тому, как человеческое тело имеет некоторые запахи, напоминающие запахи кофе, так и некоторые сорта кофе имеют мускусный, в чем-то грубо-эротический аромат. В особенности определенные сорта африканского кофе отдают чем-то темным, землистым, даже чуть глинистым, вызывая в памяти запах голой ступни на прожаренной солнцем земле. Я, разумеется, не сказал об этом Эмили и Аде, но мысленно для описания подобных запахов я воспользовался термином Линнея: hircinos, «псиный». Во-вторых, если мы хотим сделать наш Определитель по-настоящему общедоступным, сокращая расстояния между людьми, нам надо бы завести шкатулку с образцами.
Соображения были самые простые: наш код срабатывает только в том случае, если двое разных людей под одним и тем же словом разумеют один и тот же вкус или запах. Для некоторых вкусовых ощущений, таких как деготь, например, или гвоздика, это трудности не составляет. Но у тернового цвета, ванили, даже у грецкого ореха такой запах, который легко воскресить в памяти в спокойной обстановке конторы Пинкера; однако можно предположить, что в будущем хотя бы один из партнеров окажется в таких полевых условиях, — в Африке, на Цейлоне или в Бразилии, — где цветущий терновник явление довольно редкое. Ответом может послужить создание небольшого, плотно прикрывающегося дорожного ящичка, содержащего примерно дюжину основных ароматов, с которыми смог бы свериться дегустатор.
Именно Ада ухватила практическую ценность такого предложения. С ее научным подходом она разобралась в том, как можно экстрагировать аромат, и, по-моему, была довольна тем, что и ее место определилось в общем деле. По принципу того, как палитре художника не обязательно иметь все возможные краски, поскольку разные оттенки можно получать, смешивая основные цвета, Ада заключила, что наш ящик с образцами не должен содержать все запахи. Скажем, достаточно одной апельсиновой эссенции, чтобы освежить в памяти основные свойства всех цитрусовых ароматов. Был найден и проинструктирован парфюмер мистер Кли. С этого момента Ада занималась техникой закрепления различных запахов таким образом, чтобы они могли сохраниться в условиях тропического климата.
Однажды днем я расхаживал, что-то вещая, взад-вперед по кабинету, — кажется, я пытался высветить свойства чересчур терпкого бразильского сорта; несмотря на наличие ведерка, мне хотелось как можно больше выпить этого кофе, потому я пришел в крайнее возбуждение. Вдобавок как раз этим утром я купил восхитительную трость с набалдашником из слоновой кости, а как еще играть восхитительной новой тростью, если не расхаживать с ней. Как вдруг мой взгляд, упав на пол, заметил под столом чью-то ногу.
Я поднял голову: Эмили сидела на одном конце стола, что-то записывала. На другом — Ада погрузилась в чтение некой научной книги. Нога, должно быть, полагала себя невидимой: она всовывалась и высовывалась исподтишка, как улитка из своего домика.
— Чувствую запах… — я энергично задвигал носом, — чувствую запах кого-то постороннего.
Эмили с удивлением взглянула на меня.
— Повеяло чем-то… — пояснил я, — как будто… — я снова принюхался, — шкодливым, провинившимся песиком. Уф-фу-фу-фу…
Эмили явно решила, что я впадаю в беспамятство.
— Пахнет, — объявил я, — детками, которые прячутся там, где им не положено. — Я торжественно стукнул тростью по поверхности стола. — Эй, кто там!
Из-под толщи дерева раздался испуганный детский голос:
— Я…
— Да это всего лишь Лягушонок, — сказала Эмили.
— Уходи, — бросила Ада, не поднимая глаз от книги. — Пошла вон, назойливая амфибия.
Из-под стола выпрыгнула маленькая девочка. Присела, как лягушка, на корточках и квакнула.
— Ты почему, Лягушонок, не в классной? — строго спросила Ада.
— Миссис Уолш заболела.
— Миссис Уолш заболела из-за тебя, — укоризненно сказала Эмили. — Это гувернантка, — пояснила она мне. — Она страдает невралгией.
— Все равно! Уж лучше я побуду здесь с вами, — сказала девочка, прыжком вскакивая на ноги.
Лет ей было на вид чуть больше десяти; ноги не по росту длинны, слегка пучеглазая, отчего и в самом деле напоминала лягушонка.
— Можно я останусь? Я не буду вам мешать и сумею не хуже других спасать Эмили от поэтических вольностей Роберта.
— Мистер Уоллис прямо перед тобой, — сказала Ада, несколько смутившись. — И Эмили тебе спасать совершенно не от чего.
Девочка сдвинула брови:
— Ну почему вы никогда меня с собой не пускаете? Я буду хорошо себя вести.
— Надо спросить разрешение у отца.
— Значит, мне можно остаться, — победно заявила девочка. — Потому что отец сказал, что можно, если я у тебя спрошусь.
— …при условии, если не будешь раскрывать рта, — строго сказала Эмили.
Девочка опустилась на корточки и квакнула.
— И без этого дурацкого кваканья!
— Я — лягушка!
— Говорят, во Франции, — ненавязчиво заметил я, — лягушек едят под зеленым соусом.
Она выкатила на меня свои глазищи.
— Но я не совсем лягушка, — испуганно выпалила она. — Я Филомена. Когда Ада была маленькая, она не могла произнести «Филомена» и вместо этого называла меня «Ляга». Но вообще-то мне нравится быть лягушкой. — Она вспрыгнула на стул. — Не обращайте на меня внимания. Вы как раз остановились на том месте, когда сказали, что похоже на лимоны.
С той поры нередко в нашей маленькой дегустационной набиралась целая куча народу. Ада при всякой возможности старалась меня проигнорировать, но и разносчик Саут, и девочка Лягушонок завороженно смотрели на меня, пока я дегустировал кофе, как будто я существо из далекой экзотической страны. То живописное зрелище, которое я, стыжусь признаться, временами из себя изображал, выдавая вслух вычурные словесные описания и играя словами, вызывало у Лягушонка восторженные аханья, а у Эмили едва заметный вздох.
— Ты хочешь вскружить Эмили голову? — спросила Лягушонок.
Мы с Эмили как раз вернулись после очередного обеденного перерыва; Эмили вышла повесить пальто, мы с девочкой остались вдвоем.
— Не убежден, что прилично задавать подобные вопросы.
— Ада считает, что да. Я слышала, как она спросила у Эмили, не вскружил ли ей уже голову лорд Байрон. Она так тебя называет, знаешь? — С минуту она помолчала. — Если ты все-таки вскружишь Эмили голову, тебе придется на ней жениться. Иначе нельзя. Тогда я буду подружкой невесты.
— Мне кажется, ваш отец одна из главных фигур в этом вопросе.
— Так мне, значит, его надо спросить, можно мне быть подружкой невесты или нет? — с надеждой воскликнула девочка.
— Я имею в виду мнение, за кого стоит Эмили выходить замуж. Видишь ли, это ему решать.
— Ой, он ужасно хочет выдать ее замуж! — заверила меня Лягушонок. — Ну, правда же, хочет. Ты богатый?
— Вовсе нет.
— А с виду богатый!
— Это потому, что я мот.
— Что значит «мот»?
— Который зарабатывает меньше, чем тратит. Который постоянно покупает все красивое, хотя этого и не следует делать.
— Например, обручальные кольца?
Я рассмеялся:
— Нет, обручальные кольца и красота понятия не однозначные!
— Хочу вам кое-что показать, — однажды объявил Пинкер, врываясь в кабинет, где мы с Эмили трудились. — Надевайте пальто, это срочно.
У крыльца ожидал его экипаж. Мелкой трусцой мы устремились вперед по людным улицам. Я сидел рядом с Эмили против движения. Экипаж был узок, и я ощущал боком тепло ее бедра. На угловых поворотах нас слегка прибивало друг к дружке: Эмили чуть отодвигалась, чтоб не упасть мне на руки, но удержаться нам обоим было почти невозможно.
— Слышали ли вы, Роберт, о последних достижениях автокинетики? — спросил Пинкер. Он глазел из оконца на беспорядочно снующий транспорт. — Я заказал из Франции новейшее. Четыре колеса, небольшой двигатель внутреннего сгорания, а скорость — как у почтовой кареты в галопе. Отныне конец нелепым задержкам в движении, какие уже сделались нормой.
— В таком случае, мне все-таки будет жаль распроститься с лошадьми, — сказала Эмили. — Куда же они денутся?
— Несомненно, спрос на лошадей по-прежнему останется на фермах, — отозвался отец. — Ага! Вот мы и приехали.
Мы остановились неподалеку от Тауэр Бридж на Касл-стрит. На углу располагалось питейное заведение — вернее, то, что раньше им было. Рабочие клали последние штрихи краски на шикарную новую дверь; на месте прежних матовых стекол в окнах сияли прозрачные, а поверх этого великолепия черная с золотом вывеска провозглашала заведение «Безалкогольным баром Линкера».
Выйдя из экипажа, мы стали осматривать эту новую собственность. Пинкера-старшего распирало от гордости. С головокружительной скоростью он пролагал нам путь вперед.
— Дело тут не в цвете, главное — эмблема. Такие же черные с золотом вывески будут в каждом новом заведении по мере их открытия.
— Зачем, отец?
— Затем, разумеется, чтобы у всех было общее лицо! И все официантки будут в черной униформе с золотым орнаментом. А также в белых фартучках, какие носят во Франции. Я заимствовал эту идею из «Кафе Руайяль». — Кивок в мою сторону. — Столики — вот, взгляните, — с мраморной столешницей. Почти как в кафе «Флориан» в Венеции.
Я огляделся. Внутри было весьма необычно; в некотором смысле элегантно, но как-то по-странному. Дерево сплошь закрашено черной краской, и кроме золота других цветов не видно. Скорее это походило на внутренность катафалка, чем на ресторан. В глубине за бывшей стойкой бара стояло и тихо само по себе попыхивало хитроумное приспособление, которое Пинкер демонстрировал во время моего первого посещения его конторы. Рядом на коленках стоял Дженкс, что-то прилаживая к циферблатам.
— Ну, как у нас, работает? — выкрикнул Пинкер.
— Минутку, сэр!
Одновременно с ответом Дженкса из клапана с шипением грянул пар, Эмили даже подскочила от неожиданности.
— Ну? — Пинкер повернулся к нам, потирая в возбуждении руки. — Что скажете?
— Чудо, отец!
— Роберт?
— Замечательно, — сказал я. — Весьма впечатляет. Но вот только…
— Что?
— Название…
— В каком смысле?
— Вы полагаете, что публику… обычную публику… потянет зайти выпить кофе в заведение, которое именуется не иначе, как «Безалкогольный бар?» С таким же успехом можно рекламировать ресторан без съестного и вино с отсутствием винограда.
Пинкер насупился:
— Ну, и какое название предложили бы вы?
— Да мало ли… Можно назвать, скажем… — Я огляделся. Мой взгляд упал на вывеску, где значилось «Кастл[16]-стрит» и мгновенно вспомнилась склонность Пинтера к военному лексикону. — Можно назвать, например, «Кофе „Кастл“».
— «Кастл»… — Пинкер задумался. — Гм. «Кастл». «Кофейня „Кастл“». А что… это звучит. Есть в этом нечто солидное. Что скажешь, Эмили?
— Мне кажется, мнение Роберта, будто некоторых клиентов «безалкогольное» в названии может отпугнуть, не лишено здравого смысла, — осторожно заметила Эмили. — Поэтому, наверно, название «Кастл» удачнее.
Пинкер кивнул:
— «Кастл» так «Кастл». Благодарю вас, Роберт за ваш весьма ценный вклад. Велю немедленно рабочим поменять вывеску.
Так родилась одна из известнейших торговых марок в истории кофе — название, в свое время столь же известное, как «Лайон», «Ариоза» или «Максвелл Хаус». Но не только этим событием был отмечен тот день в рабочей суете: среди служащих, мраморных столешниц, запахов свежей краски, сливавшихся с густым ароматным кофейным паром, исходившим из двух форсунок аппарата синьора Тозелли, как дым из ноздрей дракона… Едва Пинкер удалился, занявшись поиском бригадира, его дочь обернулась ко мне:
— Да… благодарю вас, Роберт. Получилось вполне тактично. И название «Кастл», несомненно, удачнее.
Я пожал плечами:
— Что вы, не стоит благодарности.
Эмили улыбнулась — и улыбка задержалась чуть дольше, чем я мог ожидать. Как вдруг, внезапно вспыхнув, она отвела взгляд.
— Идите сюда! — призвал с улицы Пинкер.
В экипаже на обратном пути в Лаймхаус мне показалось, будто, соприкасаясь со мной бедром, Эмили отстранялась уже не так резко, как раньше.
«Земляной» — это запах свежевскопанной земли, влажной после дождя, и он весьма схож с запахом свекольного корня.
В тот вечер, прогуливаясь по Пиккадилли, я увидел, как впряженный в брогам[17] жеребец пытается совокупиться с кобылой. Большинство экипажных лошадей, разумеется, кастрировали, но этот очевидно принадлежал какому-то богачу и уже вполне свыкся с тенетами упряжи. Кобыла была привязана у входа в универмаг Симпсона, а кучер экипажа куда-то отлучился.
Зрелище было довольно странное: жеребец, зажатый в упряжи между оглоблями, пытался вскарабкаться на спину кобыле, толкаясь своим мощным органом ей в зад. Каждый раз он соскальзывал, утянутый назад грузным громоздким экипажем: но это жеребца не останавливало, он тотчас предпринимал очередную попытку, снова неуклюже вскидывая вверх передние копыта, как китаец, пытающийся подхватить палочками кусок мяса. Между тем кобыла все это время смирно стояла, почти не двигаясь с места, даже когда жеребец захватывал зубами ее шею. Задок экипажа кренился и с каждым шатким отскоком задних ног жеребца грохал о мостовую.
Собралась небольшая толпа. Наиболее респектабельные леди спешили прочь, но среди зевак я заметил нескольких молодых женщин, которые были куда смелее, и я с интересом то и дело переводил взгляд с возни животных на хихикавших девиц, всем своим видом демонстрировавших свое изумление и восторг.
Наконец явился кучер брогама и с криком попытался оттащить своего жеребца. Тот, понятно, не имел ни малейшего желания прекращать свое занятие, даже когда хозяин принялся охаживать его кнутом — с немалым риском для себя самого, сказал бы я. Жеребец, желая примоститься на спине у кобылы, яростно потрясал передними копытами, в то время как задними выписывал сложные па, пытаясь высвободиться от коляски, кринолином покрывшей его зад. Все это выглядело так, будто кучер как раз подстегивает жеребца к действиям. Под конец жеребец справился с задачей и по собственной воле сполз с кобылы, разбитая коляска с грохотом вернулась в исходное положение. Орган жеребца все еще свисал до самой мостовой, когда хозяину удалось, наконец, под насмешливые улюлюканья зевак погнать его рысцой прочь.
Между тем паре проституток вздумалось пройтись в толпе, предлагая свое ремесло. Одна скользнула мимо меня, шепнув:
— Не желаете развлечься, сэр?
На лондонском жаргоне тех лет «развлечься» означало взять проститутку. Обернулась: довольно смазливая девчонка, попроще, чем обычно я предпочитал; лет шестнадцати, не больше. Я сделал отрицательный жест.
— У меня тут сестра, — сказала она.
Должно быть, в глазах моих она прочла некий интерес, потому что девчонка махнула другой, чтоб подошла. Они были явно между собой схожи, обе кареглазые, темноволосые, у обоих круглые скуластые личики. Такое мне еще не выпадало; с сестричками до сих пор я дела не имел, а, глазея на жеребца, я изрядно возбудился.
— Быстрей! — бросила первая, почуяв, что сделка состоялась. — Вон туда!
Позади в витрине табачной лавки я увидел надпись: «Комнаты в наем». Я проследовал за девчонками в лавку, затем вверх по ступенькам: сунув каждой по полкроны и еще полкроны владельцу лавки, я, расстегнувшись, поимел девиц в быстрой последовательности одну за другой, не потрудившись даже снять брюк.
Какой восторг!
Упившись звездами, захрюкать радостно
в помоях… —
как утверждает Ричард Ле Гальенн.[18]
Полагаю, мне стоит тут кое-что прояснить насчет себя. В своем повествовании я не сделал ни единой попытки представить себя в привлекательном виде — скорее наоборот. Когда, оглядываясь назад, я вижу, каким я был в свои юные годы восторженным, самовлюбленным позером, то просто диву даюсь, как можно было кому-то в меня влюбиться: я выставляю себя в таком нелепом свете потому, что теперь именно таким я себя в те годы вижу. И в этом смысле к критике готов. Однако отдаю себе отчет, что теперь вы будете судить меня уже за мою аморальность.
Хотелось бы лишь напомнить вам, что в те времена все было иначе. Да, я хаживал к проституткам — если мог себе позволить, к приличным; если не мог, к кошмарным. Я был здоровый молодой человек. Как иначе мог я поступать? Считалось, что воздержание вредно для здоровья, тогда как злоупотребление полагалось еще более опасным, порождая слабость, апатию и скверный характер. Проституция вовсе не была запрещена, хотя законы о заразных заболеваниях, позволявшие полиции задерживать любую женщину, чтобы проверить ее на предмет венерического заболевания, вызывали резкий протест среди респектабельных леди, которые чувствовали себя оскорбленными из солидарности. Спать с проституткой не являлось причиной для развода (хотя в то же время опытность женщины могла явиться причиной развода с ней). Обсуждать хождения к проституткам в приличном обществе было не принято — но в те времена запретных тем существовало немало, по крайней мере, до поры, когда леди удалялись из-за стола. Тогда, в своем кругу, возможно, и бросалось вскользь: дескать, лично я надобности в этих существах не имею, но ничего предосудительного нет, если у кого-то такая надобность явится. Считалось наивысшим счастьем жить в обществе, где неимущие оставались неимущими до крайности: дешевые слуги, рабочие, женщины имелись в изобилии. Именно это обстоятельство побуждало мужчин инстинктивно противиться социальным переменам, как и большинству женщин инстинктивно ратовать за них.
* * *
По большей части темой наших с Эмили обеденных разговоров составлял как раз этот предмет: реформы. Для Эмили современный человек должен был обладать общественным сознанием, и она была уверена, что и я, как поэт, готов, подобно ей, изменить этот мир. Разве не Шелли заявлял, что поэты — непризнанные законодатели мира? Разве не Байрон бросил вызов турецким захватчикам?
Я не решался признаться ей, что хоть я и способен восхищаться вольными кудрями Байрона или свободными блузами Шелли, но политические взгляды обоих мне несколько чужды. Я принадлежал к поколению любителей кричащей мишуры: мы жаждали лишь «новых ощущений». Единственной нашей целью было «мгновенно перелетать с места на место, чтобы всегда находиться в центре наибольшего скопления живой энергии». Но мне так хотелось показаться Эмили гораздо радикальней, чем я на самом деле являлся. Что сказать? Я искал ее расположения и думал, едва вскроется, что эти проблемы меня не волнуют, она станет считать меня пустым фигляром — кем, разумеется, я и являлся, — хотя само фиглярство, которое в Оксфорде выглядело так изумительно по-декадентски, теперь стало казаться мне не более чем ребячеством.
Все же я попытался высказаться. Когда Эмили в первый раз подняла тему социальной несправедливости, я сказал на это, что политика меня не интересует, прибавив:
— Что роднит меня со многими политиками.
Она не ответила, хотя лицо ее приняло страдальческое выражение.
— Разумеется, богатым не стоит попусту тратиться на бедных, — произнес я беспечно. — Достаточно взглянуть, на какое убожество низшие классы тратят свои деньги, и, слава Богу, что никто им больше не дает.
Тяжкий вздох со стороны Эмили.
— Мне совершенно непонятно, почему женщине так необходимо право голоса, если учесть, какие жуткие типы успели обзавестись им. Демократия заслужила бы куда больше одобрения, если б не была так тривиальна.
— Роберт, — сказала Эмили, — вы хоть когда-нибудь говорите серьезно?
— Только когда обсуждаемый предмет не внушает мне ни малейшего интереса.
— Думаю и тогда вы несерьезны, — проговорила она.
— Восприму это как комплимент, милая Эмили. Мне бы крайне претило получить незаслуженную репутацию искреннего человека.
— Замолчите, Роберт!
Я умолк.
— Эти ваши остроты! Они не только глубоко тривиальны, они даже едва ли смешны. Мне все время кажется, что это какой-то словесный зуд или привычка… желание покрасоваться, в них не больше смысла, чем в жутких квакающих звуках, которые выучилась издавать Лягушонок.
Я открыл было рот.
— Постойте! — остановила меня Эмили поднятой рукой. — Вы скажете, что значение здравого смысла чудовищно преувеличено. Что в свете гораздо больше ценится бессмыслица. Или, что все остроты лишены смысла, именно поэтому так глубоки. Или, что сущность всякого искусства во внешнем эффекте, что именно в этом его гениальность. Или… или… еще какую-нибудь глупость выдадите, которая звучит красиво, но на самом деле ни мысли, ни смысла, сплошной пердеж!
В изумлении я уставился на нее:
— Как… что вы сказали?..
— Ну да, да, пердеж! Вы что, полагаете, что современная девушка не должна знать таких слов? — Ее подбородок воинственно взлетел вверх. — Так вот, я стану пукать каждый раз, когда вы произносите остроту.
— О нет!
— Да, да! Может, вы считаете, что я не умею? Поверьте, мы с сестрами весьма поднаторели в этом занятии.
— Да вы просто чистый феномен!
— Чтобы отучить вас острить, я способна и на худшее.
— И вам не страшно, что вас обвинят в неприличном поведении?
— Вас уж бесспорно в этом сроду никто не обвинял.
— Верно, — заметил я по размышлении. — Только в женщине неприличие с хвастовством не связано, это просто неделикатность.
Со стороны мисс Пинкер раздался звук, похожий на бурное фырканье.
Я опешил:
— Вы что это сейчас…
— На меня повеяло очередной остротой.
— Надеюсь, вы обнаружите, что мои остроты источают аромат фиалок и роз, в то время как…
Очередной трескучий звук.
— О Господи!
— Роберт, я не шучу! Вашу высокопарную болтовню я каждый раз буду встречать залпом.
— Послушайте, ведь это же…
— А сейчас растворите-ка лучше окно, — перебила она меня, — не то у отца возникнет вопрос, отчего его изысканный «ява» отдает клозетом.
Вот так я отучился острить и научился говорить серьезно на серьезные темы. Но, разумеется, моя серьезность была наигранной. Ибо именно остроты, какими бы плоскими они ни были, оставались гораздо ближе моей истинной натуре. И все же — ну как не разлиться соловьем по поводу реформ, если сияющие серые глаза жадно внимают каждому твоему слову? Как не прикинуться сострадающим Бедным, если в награду тебя ждет такая улыбка? И как не согласиться, что необходимо как-то помочь Падшим Женщинам, если с каждым нежным абрисом губ, обрамляющим каждое слово, так страстно произносимое этой женщиной, ты возбуждаешься все сильней и сильней?
Удивительно ли, что я с такой легкостью мог после дневного флирта с Эмили Паркер в Лаймхаусе вечером предаваться блуду с какой-нибудь шлюшкой в Ковент-Гарден? Хотя между ними было столь же мало общего, как между завтраком и обедом, между востоком и западом. Мой блуд значил для меня гораздо меньше, чем мой флирт, но в то же время, он был мне гораздо более необходим — ах, как мне это вам объяснить! Мне ясно только одно: если б не проститутки, то во время своего дневного флирта я чувствовал бы себя намного скованней.
При всем этом время для флирта сократилось: мисс Пинкер заставила меня ходить с ней на собрания. О, как она любила эти собрания! То были собрания Общества содействия всемирной цивилизации, собрания Фабианского общества, собрания Общества за отмену Закона о заразных болезнях… В меня даже закралось подозрение, что я встал на путь Прогресса. Случались и ночные собрания, на которых мы угощали проституток чаем с сахаром. Однажды, воспользовавшись этим, я фантастически оттрахал одну молоденькую, такую сладенькую девку: украдкой я проследовал за ней на улицу, где за десять шиллингов в проулке мы с ней стоя скоренько посовокуплялись, после чего я снова вернулся к покинутому мной обществу. Еще устраивались обеды, на которых собирались теософы. Устраивались ужины, где собиралось общество трезвенников и на которых мы с бокалами кларета в руках обсуждали необходимость повысить налог на торговлю джином. Состоялось также крайне неприятное собрание в помещении фонда «Новая жизнь», где странного вида существо тонким переливчатым голоском не переставая бормотало что-то насчет транссексуализма, перспектив гомосексуальной любви и прочих видов извращения. Все эти два часа я просидел багровый от смущения, хотя Эмили и прочие дамы, к моему изумлению, едва ли испытывали больше неловкости, чем если бы он — она? оно? — вещал о поездке к морю.
На некоторых собраниях велись куда более достойные дискуссии, например о будущем брака по расчету. Присутствующие нередко с удовольствием цитировали строки из «Эпипсихидиона» Шелли:
…я к секте той не примыкая,
Чья заповедь — с одним или с одной
Делить под рабским игом путь земной,
Как будто мудрость или красота
Всех остальных — забвенная тщета…[19]
Однако я отметил, что мужчины и женщины трактуют это по-разному, — женщины хотели равенства и независимости, под чем они подразумевали равное положение с мужьями, в то время как мужчины хотели равенства и независимости, под чем они понимали скорее не брак, а большую свободу для холостяцкого образа жизни. Лично я своего мнения не высказывал. Если спросят, всегда можно процитировать Шелли.
Взгляды самой Эмили на брак были куда сложней. Помню один спор с нею, когда мы возвращались в контору после какого-то собрания. Не скажу теперь, с чего он начался, — вероятно, я как-то непочтительно высказался об ораторе. Эмили, взглянув на меня, с серьезным видом спросила:
— Вы так и в самом деле думаете, Роберт, или это очередная поза?
— Я совершенно и бесповоротно в этом убежден, хотя со временем свое суждение непременно поменяю.
— Вопрос в том, — сказала она, проигнорировав мои слова, — могут ли мужчины и женщины иметь равные права.
Припоминаю, что мы с ней обсуждали этот самый, навязший в зубах предмет, право голоса для женщин. Вздохнув, я приготовился принять серьезный вид:
— Так ведь у мужчин и женщин разные сферы…
— Ну, да, — перебила меня Эмили. — У женщины — гостиная, а у мужчины — политика и служба, а также все остальное богатство мира. Разве это равенство? То же, что сказать, будто заключенный обладает свободой в пределах камеры.
— Но всякая женщина должна принять главенство своего супруга…
— С какой стати?
Должно быть, я не сразу нашелся, что ответить, потому что она продолжала:
— Ну, разумеется, это не обсуждается. Все хотят услышать, что всеобщее право голоса никоим образом не ущемит права хозяина в его собственном доме. Но при этом никто даже не способен убедительно мне объяснить, почему, собственно, хозяевами должны быть мужчины.
— Но взгляните, как многого мужчины достигли…
— Расхожий довод. Мужчины имеют все для этого возможности.
— Но ваш аргумент, Эмили, не оригинальней. Вы утверждаете, что женщины могли бы достичь большего, если б им предоставили такие возможности, ведь так? — Она кивнула. — Ну а почему же эти возможности все-таки оказались именно у мужчин? Потому что они ими воспользовались, вот почему.
Этот довод почему-то распалил ее еще сильней:
— Итак, все сводится к физической силе и насилию?
— Насилию? При чем тут насилие?
— При том, что, по-вашему, брак и насилие это одно и то же. А вот я, например, считаю, что мужчины и женщины только тогда смогут по-настоящему любить друг друга, когда будут равны.
— Но между мужчинами и женщинами существует разница, — заметил я. — Сам наш с вами нетривиальный спор тому доказательство.
Эмили остановилась, топнула ногой:
— И если бы мы с вами были женаты, вы способны были бы мне заявить, что как мой муж вы правы, и тем поставить точку?
— Я и сейчас скажу, что я прав. И вижу, что вы несогласны.
— Потому что вы ничем не доказали свою правоту, — пылала гневом Эмили. — И, полагаю, вы считаете, что работать я не должна?
— Эмили… при чем тут работа? По-моему мы рассуждали об избирательном праве. Потом почему-то мы перекинулись на брак и…
— Неужели вы не понимаете, что это одно и то же?
На этом она прекратила со мной разговаривать, мы шли, и зловещая тишина зависла над нами. Я задержался раскурить сигарету, догнал Эмили:
— Мог бы и вам предложить, но…
— Но женщины на улице не курят?
— Это хотел я сказать. Но вы уж и так дымитесь.
Потом, когда она несколько успокоилась, я сказал:
— Мне очень жаль, что мы поссорились.
— Мы не ссорились, Роберт. Мы спорили.
— Разве есть разница?
— Как любит говорить отец, «отличие». Спор — удовольствие, а ссора нет. — Она вздохнула. — Ограничение прав женщины в браке — это тема, которая меня постоянно заводит. На этот предмет мы с отцом ведем давние споры. Он абсолютно современный человек во всем, кроме этого. По-моему, потому, что давно потерял жену — ему кажется, будто выбор или хотя бы утверждение кандидатуры будущих мужей его последняя обязанность в отношении нас.
— Какого же мужа он прочит вам?
— В этом вся проблема. Умом он желал, чтобы это был человек современный, как и он сам, деятельный. Но в душе хотел бы, чтоб тот был со связями и имел положение в обществе.
— Редкое сочетание. — Я взглянул на Эмили: — Ну, а вы? Каков тот мужчина, что способен завоевать ваше сердце?
Она возмущенно вскинулась:
— Роберт!
— Что такое?
— «Завоевать ваше сердце»! Вы выражаетесь прямо как в романе. Я не желаю, чтоб и малейшей толики моей завоевывали, благодарю покорно! Руку свою и свою любовь я доверю тому… — Она на мгновение задумалась. — …тому, кто способен вызвать у меня восхищение. Тому, кто уже сумел в жизни чего-то достичь, кто намерен и дальше стремиться к чему-то… в высоком смысле. Тому, кто способен увидеть порок и знает способ его устранить; человеку с такой силой чувств, кто способен лишь словом склонить людей к своему образу мыслей. Он всегда видится мне человеком с ирландским акцентом, но, пожалуй, только потому, что, уверена, он будет резко критически настроен к гомрулю.[20] Наверно, такой личности, как он, не достает времени на женщин, но это не так важно, потому что я в любом случае не собираюсь торчать дома в качестве декорации. Понимаете, я хочу стать его сподвижницей и, хоть об этом никто никогда не узнает, но внутренне он всегда будет сознавать, что его успех был бы невозможен без моего участия.
— А! — сказал я.
Всегда очень неприятно обнаруживать, что кого-то восхищает как раз такой тип, который менее всего заслуживает восхищения.
— Ну а если вам не удастся отыскать такого?
— Тогда придется остановиться на том, кто завоюет мое сердце.
— Э, дэк вот эдэк оно тэк.
— Что это вы, Роберт, заговорили с таким потешным ирландским акцентом?
— Дэ тэк уж…
Постижение кофейного аромата еще более осложняется из-за того замысловатого способа, посредством которого человеческое нёбо реагирует на всевозможные ощущения.
Вечер. Эмили стоит у окна в конторе отца и глядит вниз на Роберта, уходящего от Пинкера. Не отводя взгляда, все плотней прижимается к стеклу, чтобы видеть, как он выходит на Нэрроу-стрит. Едва Роберт исчезает из вида, Эмили замечает перед собой на стекле пахнущее кофе облачко, и оно напоминает цветок.
Еще пару недель назад такое, как многое теперь, она бы не заметила вовсе.
Непроизвольно Эмили касается кончиком языка упругого прохладного стекла. Точка в сердцевине цветка похожа на пестик. Эмили пальцем выводит четыре лепестка, стебель. Стирает рисунок, тыльная сторона руки визжа скользит по стеклу.
С Эмили что-то происходит. И не понятно — радоваться или пугаться, приветствовать или осуждать эти перемены в себе, это пробуждение чувств, медленно захватывающее ее всю, наполняя теплом, как в оранжерее зреющий абрикос.
Эмили возвращается к письменному столу, просматривает последние записи. Абрикосовый — этот аромат они открыли сегодня в некоторых сортах кофе «мокка» и в лучших сортах южноамериканского. Густой привкус золотистого, дышащего теплом абрикоса. Он займет свое место в шкале ароматов между ежевичным и яблочным. И еще в этот день удивительное открытие преподнес им колумбийский «экссельсос»: точь-в-точь запах свежих груш, в момент, когда срезают с них ломкую, истекающую соком кожуру…
Солома. Аромат ячменных стеблей накануне уборки урожая, тихо шуршащих на пропекшемся солнцем поле. Лакрица: темная, мягкая, сладкая. Кожа: пахучая, старая кожа, отполированная, как любимое кресло отца. Лимон: так едок, что даже щиплет губы… Пробегая глазами эти записи, Эмили обнаруживает, что может вызвать в памяти каждое из этих ощущений, ароматы экзотическим цветком распускаются у нёба, с каждым разом все острей и острей.
Каждый аромат упрямо подталкивает раскрыться туго свернутый бутон ее чувств.
Когда впервые, уже давно, Эмили пришла в голову мысль об Определителе, привлекательней всего в замысле ей казалась идея систематизации: желание упорядочить этот хаотичный, вечно изменчивый мир людских восприятий, превратив его в нормальный объект рационального исследования. Она и представить себе не могла, что все может обернуться совершенно иначе, что она обнаружит, как в глубинах ее внутреннего покоя — в ее уравновешенном, практичном существе — что-то сдвинется, дерзко и волшебно потянется куда-то, как молодой росток.
Она не открыла никому, что творит с ней работа над Определителем — ни сестрам, ни тем более отцу. Уж и без того он имел повод пару раз заподозрить свою старшую дочь в пагубных страстях. Сейчас, должно быть, он ничего не подозревает. К тому же, у него есть свои причины поощрять эту работу; не те, лежащие на поверхности, которые он раскрыл перед Робертом, но совершенно иной расчет — коммерческие схемы, в которые сулил вписаться Определитель; отца бы явно встревожило, что выстроенный план рискует пострадать из-за непредсказуемости эмоций девчонки.
Девчонка. Именно, в этом все и дело. Все потому, что она — женщина, отсюда эта нелепая чувственность, податливость физическим удовольствиям. И именно потому надо бороться со слабостью. Или же — ведь бороться она пыталась и уже, к своему изумлению, поняла, как сильна, как мощна в ней эта женская слабость, — надо просто ее не замечать.
Эмили обнаружила, что личность она совсем не Рациональная, но все же надо попытаться вести себя, будто именно так оно и есть.
Совершенно очевидно, мужчины никогда не позволят женщинам трудиться наравне с ними, голосовать наравне с ними, совместно определять будущее — ведь они считают женщин глупыми, и она не исключение, в чем смогла убедиться сама.
Конечно, некоторым женщинам нравится слыть глупыми. Эту разновидность Эмили презирает. Хотя и Роберт Уоллис как раз из тех молодых людей, которые ей чужды. Мысль, что ее сердце, — не говоря уж о всяких иных тайных органах, — как видно, не способно вторить доводам рассудка, глубоко неприятна Эмили.
Она берет одну из чашечек, в которые наливались сегодняшние пробы. На дне все еще осталось чуть-чуть уже застывшего «экссельсос». И не только: Эмили слегка вдохнула, и ей почудилось, будто чувствует задержавшееся на дне дыхание Роберта.
Она вдыхала это, позволив векам прикрыться, впуская в мысли вихрь сладких фантазий. Его дыхание сливается с моим, как в поцелуе….
Она вновь подходит к окну, снова дышит на стекло, на свой полустертый цветок.
Будто выведенный симпатическими чернилами, цветок вновь медленно проявляется всего на миг и исчезает снова.
«Свежезеленый» — кисловатый запах, характерный для молодой зеленой фасоли.
Мы с Эмили не только дегустировали кофе ее отца. Мы еще по настоянию Линкера расставляли сорта по ранжиру. Сначала я с неохотой отнесся к этому поручению, заметив своему хозяину, что «хорошо» и «плохо» — суждения морального порядка и как таковые к критериям Искусства отношения не имеют.
— Однако, Роберт, в коммерческом деле приходится ежедневно заниматься подобным, — сказал со вздохом Линкер. — Разумеется, невозможно впрямую сравнивать тяжелый, смолистый «яванский» кофе с нежным «ямайкским». Но и за тот, и за другой мы платим той же монетой, посему и следует задаться вопросом, когда наша монета выгодней вложена.
Действительно, некоторые сорта кофе оказывались явно лучшего качества, чем другие. Мы заметили, что если кофе особенно приходится нам по вкусу, то чаще всего он отмечен сортом «мокка» — однако это слово, казалось, воплощает в себе множество разновидностей: одни покрепче, другие менее крепкие, третьи с интригующим цветочным ароматом.
Однажды, оказавшись один в кабинете, я дегустировал небольшую партию кофе. Этикетка на мешке отсутствовала, правда присутствовал некий знак, похоже, арабский; подобный я видел на многих тюках, которые мы получали из арабских стран:

Едва раскрыв мешок, я тотчас понял, что там нечто особенное. Запах был сухой и медвяный, почти фруктовый: когда, принеся зерна в контору, я ждал, пока вскипит вода, ожидание сопровождал нежный аромат дыма и цитрусов. Я смолол зерна в маленькой ручной мельнице: запах усилился, обнаружив еще и глубокое, низкое basso profundo лакрицы с гвоздикой. Наконец я медленно стал лить воду.
Вмиг взметнулся густой, насыщенный, непостижимо зримый букет ароматов. Волшебно и вместе с тем пронзительно естественно: как будто джин вырвался из своей лампы, или локомотив исторг облако пара, или грянули звонкие фанфары. Комнату заполнил аромат экзотических цветов, — но не только: еще и лайма, и табака, и даже свежескошенной травы. Понимаю, может показаться неправдоподобным, что я открыл столько несопоставимостей в одном запахе, но к тому моменту мои вкусовые ощущения уже вполне настроились на свою задачу, и запахи уже не были иллюзией. Они были явные, отчетливые, такие же реальные, как эти стены и эти окна.
Время насыщения истекло. Я придавил гущу ложкой, поднес чашку к губам. На этот раз я не всасывал напиток: не было нужды. Вкус был точь-в-точь такой, какой предвещал запах, — ощущение во рту плотной густоты с едва угадываемой искрой живого огня; ароматы цветов райским пением наполнили голову. Я сделал глоток. Упоительное ощущение натуральной сладости и долгий сочный отзвук зеленого чая и кожи. Ощущение, столь же близкое к совершенству, как от любого особо отмеченного мной прежде кофе.
— Разновидности «мокка», — заметил Пинкер, когда я спросил его об этом, — не похожи на остальные сорта кофе. Смотрели, где это на карте?
Я отрицательно покачал головой. Он подошел к книжной полке и вытянул оттуда громадный атлас, страницы которого были величиной с цирковую афишу.
— Так-с… — Пинкер принялся нетерпеливо листать этот огромный том, пока не наткнулся на нужную страницу. — Ага. Вот оно! Видите?
Я взглянул туда, куда указывал его палец. Где Персия сближалась с Аравией, отделяясь проливом в виде раздвоенной задницы. На крохотную точку. Вгляделся пристальней. Крохотная точка была обозначена: «Аль-Макка».
— Мокка, — сказал Пинкер, — или, как называют ее арабы, — Макка. Источник величайшего в мире кофе. — Он постучал пальцем: — Вот тут его родина. Его колыбель. И не только кофе — всего. Математики. Философии. Словесности. Архитектуры. Когда Европа утратила цивилизацию, именно оттоманская империя возродила христианскую культуру. Правда, в наши дни они сами, как видно, переживают мрачные времена, ждут, когда история придет на помощь и освободит.
— Чем же их кофе так особенно хорош?
— Отличный вопрос, Роберт. Черт меня подери, если я знаю на него ответ. — Он на мгновение замолчал. — Некоторые торговцы уверяют, будто у кофе сортов «мокка» есть легкий привкус шоколада. Иные даже умащивают зерна других сортов какао-порошком, чтоб воспроизвести этот вкус. Ну а вы что думаете?
Я порылся в памяти:
— Действительно, в некоторых чувствуется привкус шоколада. Но не у самых изысканных — те, по-моему, обладают каким-то сверхъестественным ароматом, скорее близким к жимолости или ванили.
— Совершенно с вами согласен. О чем это нам говорит?
— Что «мокка» не один сорт, их несколько?
— Вот именно! — Пинкер обвел пальцем область Красного моря. — Понятно, арабы сначала имели монополию на выращивание кофе. Потом голландцы украли у них несколько саженцев и перевезли их в Индонезию, а французы украли саженцы у голландцев и перевезли их в район Карибского моря, португальцы же украли саженцы у французов и перевезли в Бразилию. Вот так. Но теперь давайте будем следовать логике и предположим, что и арабы саженцы тоже украли. Откуда могли бы они их украсть?
— Неужели это можно определить?
— Трудно сказать. Вы не знакомы случайно с Ричардом Бертоном?
К тому времени я уже привык к внезапным поворотам Пинкера в середине разговора. Его мысли ускакивали далеко вперед, высматривая, куда бы теперь перенести собеседника, затем препровождали вас туда кратчайшим путем. Я отрицательно покачал головой.
— Меня представили ему на одном приеме, — сказал Линкер. — Там было гостей пятьсот, не меньше. Это был человек значительный, в тот момент его чествовали за исследования исламского Востока. Теперь, разумеется, он уже не в том почете. Возникли какие-то слухи насчет его частной жизни… М-да, это неважно. Услышав, что я занимаюсь кофе, он захотел со мной побеседовать. Я предстал перед ним благоговейно, как и любопытные, что собрались вокруг.
Бертон недавно возвратился из очередной поездки по арабским странам — притемнил себе кожу соком грецкого ореха, носил арабское платье и подавал себя как какое-нибудь исламское святейшество. Разумеется, по-арабски он говорил совершенно идеально, и их священные книги изучил великолепно. Он рассказал мне, что обнаружил где-то в Восточной Африке, — где климат умеренный, плодородна земля и растет кофе, — величественный город, обнесенный каменной стеной. Он даже утверждал, что кофе там рос так буйно, что его даже и не культивировали, — кофейные кущи возникали сами по себе, размножаясь сами собой, прорастая там, где в землю падали созревшие зерна. Торговцы кофе считались в хозяйстве столь необходимыми людьми, что им запрещалось под страхом смерти покидать этот город. Очевидно, это был богатейший край. Бертон рассказывал об изделиях из слоновой кости, о драгоценных камнях, о золоте… и обмолвился, по его словам, кое о каких темных делах. Надо полагать, имел в виду рабство.
Настолько изолирован от мира был тот город, что у торговцев даже выработался особый язык, совершенно не похожий на тот, на котором люди говорили за пределами этой местности. Но тот кофе, как утверждал Бертон, был самым великолепным из всех видов, что он перепробовал за годы своих странствий. И — вот что засело у меня в памяти: он сказал, что запах у кофе ароматный, как у цветков жимолости.
— Как у этого «мокка»?
— Вот именно. И вот что еще интересно: тот город назывался Харар, а название всего того района на местном языке звучит «Каффа».
— Похоже на «кофе»?
— Бертон считал, что у этих слов явно общий корень.
— Так, значит, зерна кофе, который растет в диком виде в Каффе…
— …вероятно, продаются харарскими купцами торговцам, которые, соответственно, привозят его в Аль-Макку. Откуда кофе развозится по морю во все концы света. И если вы торговец из, скажем, Венеции или Константинополя, то вполне можете ставить на этикетках покупаемого вами кофе название изначального порта отправки, а не того места, где оно выращено. При мании арабов к утаиванию, вам, скорее всего, даже не скажут, из какой страны приходит та или иная партия. Потому вы и будете все, что проходит через Аль-Макку, называть «мокка», как теперь некоторые весь кофе, поступающий из Южной Америки, называют «сантос».
— Любопытно. А Бертон сказал вам, где именно находится этот Харар?
Пинкер прошелся пальцами по карте. В те годы атласы обновляли и переиздавали почти каждый год: все новые страны закрашивались цветом империй, которые их колонизировали. Разумеется, большая часть суши была окрашена в красный — британский — цвет, хотя имелось еще и некоторое количество голубого, лилового, желтого и иных цветов. В мои детские годы Африка была почти полностью не закрашена. По мере того, как мореплаватели возвращались, возвещая о все новых открытых ими, получивших название и заносимых в реестр территориях, белый цвет все убывал, уступая место красному, наплывавшему с краев огромного континента к его центру. Но, разумеется, красный цвет не был единственным: французы и голландцы не желали позволять нам властвовать повсюду, и границы, отделявшие один цвет от другого, нередко прокладывались кровавым путем.
Несомненно, атлас Линкера был новейший. И все же на территории уже почти полностью закрашенной Африки одно маленькое пятнышко в самой середине континента, величиной с ладонь, оставалось бесцветным.
Линкер задумчиво постучал по нему пальцем:
— Здесь! — казал он. — Бертон говорит, что это здесь.
Мы оба молча смотрели на карту.
— Что за потрясающая штука кофе, — произнес после паузы Линкер. — Может сотворить благо по обе стороны света. Англию отвратить от алкоголя, а где-то на дальнем конце — взрастить цивилизацию.
— Да, поразительно, — сказал я. — И еще более поразительно, если учесть, какой выгодой это оборачивается в промежутке.
— Вот именно! Вспомним Дарвина: именно выгода делает все на свете возможным. Не филантропия спасет мир, его спасет коммерция.
Я не придал большого значения этому разговору: в те дни Африка у всех была на языке. Но Линкер был не из тех, кто пускает свои средства на ветер. Каждый шиллинг непременно вкладывался со смыслом, и когда Определитель был закончен, я уже ни пенни ни у кого ни одалживал.
Теперь деньги ручьем текли в мои собственные руки. Веллингтон-стрит славился не только мягкими диванами и шиньонами: за пару суверенов сверх цены любая девица была способна на столько всяких разностей, а если ваш интерес несколько увядал от предложенных возможностей и перемещений, за углом можно было обнаружить набор всяческих иных услуг. Подобно тому, как Лондон располагал цветочным или рыбным рынком, улицей ювелиров и улицей букинистов, так и заведения в разных частях города имели разную специализацию по части искусств любви. В этом квартале можно было обнаружить Дома Сафо; в том — Дома Юности. Я упивался всеми этими утехами, как иные упиваются восточной кухней: не потому что предпочитал их своей обыденной пище, но потому, что прежде они были мне неведомы.
Но порой я обнаруживал, что меня влечет и к более опасным играм. Однажды днем я шел какой-то тихой пристанью, как вдруг уловил едва ощутимый пряный запах курящегося опия. Мне хватило мгновения, чтобы понять, откуда он. Я скользнул в проулок в нужном направлении и оказался посреди заброшенной верфи. Идя по запаху, как по проложенному следу, я дошел до невзрачной двери. Из-за плотно прикрытых ставнями окон складского помещения не доносилось ни звука. Но едва я постучал, дверь скрипуче приотворилась, и возник китаец с высохшей физиономией. Я показал ему пару монет. Дверь в безмолвии распахнулась, меня впустили внутрь. На многочисленных лежанках и койках, гигантскими голубиными гнездами протянувшихся вдоль помещения далеко в пространство и терявшихся в темноте, лежали или сидели, опершись на локоть, попыхивая изогнутыми глиняными трубками, люди с остановившимся взглядом, укрытые подоткнутой одеждой, точно египетские мумии.
В центре помещения на раскладном столе под приглядом старого китайца располагались объекты торговли: многочисленные трубки, иные длиной с трость, небольшая жаровня с тлеющими углями, весы.
Я заплатил шиллинг, и трубка была наполнена смолистым содержимым, затем поднесена к огню, чтобы поджечь. Едва трубка разгорелась, я взобрался на койку, указанную мне, и предался действию опиума. После пары затяжек почувствовал смертельную усталость, все тело настолько ослабло, что я едва мог держать трубку в руке. Цвета, казалось, сделались ярче, звуки отчетливей; немой, грязный склад внезапно превратился в роскошный дворец, весь в сиянии огней, приглушенных звуках и едва уловимых сладких мелодиях. Вокруг меня порхали бесчисленные сюжеты, замыслы. Я ловил обрывки возбужденной речи. Меня охватило вдохновение. Восхитительные рифмы кружились в голове, все в каком-то алгебраическом переплетении. Помнится, явилась мысль, будто математика и поэзия явления равно поразительные, будто они неотделимы друг от друга. Вдруг почему-то представилось, будто я путешествую по морю. Я совершенно явственно ощущал соленый привкус на губах, вкус съеденного только что за обедом черепашьего мяса и последовавшего за этим глотка рома. Я даже чувствовал на щеках легкую пряность теплого африканского ветра. Потом провалился в глубокий сон.
Я проснулся оттого, что старый китаец грубо тряс меня за плечо, требуя денег: с трудом поднявшись на ноги, я обнаружил, что прошло уже восемь часов. Стоит ли говорить, что я не помнил ни единой из тех блистательных фантасмагорических рифм. Шатаясь, я вышел на улицу, отыскал кэб и отправился домой. На другой день я все еще пребывал в состоянии сонливости и головокружения, так что Эмили встревожилась и велела мне ехать домой. Я поклялся никогда больше не повторять подобных попыток, но при всем этом испытывал тоску по тем сверкающим, зажигательным видениям; как Калибан, я, проснувшись, жаждал вновь погрузиться в сон.
Но вот аванс мой был истрачен. Каким-то образом я просадил тридцать фунтов примерно за столько же по количеству дней. Отвратительное это было место, лавка ростовщика на Эджвэр-роуд. Ее хозяин, старик-русский по имени Айк, брал все подряд от ювелирных изделий до всякого тряпья, и когда входишь внутрь, в ноздри ударяет кисловатый запах плесени, который старьевщики именуют «первородным» и который слегка отдает влажным, преющим мехом.
— Доброго утра, молодой человек, — произнес Айк с беглой улыбкой, потирая руки за прилавком. — С чем пожаловали?
Я выложил на прилавок томик стихов Кавентри Пэтмора в изящном кожаном переплете, три шелковых жилета, которые уже не носил, две высоких бобровых шапки, резную трость из слоновой кости.
— Красивые вещи, — сказал Айк, похотливо ощупывая разложенный товар. — Очень красивые.
— Сколько?
Достав огрызок карандаша, он поскреб в затылке, не сводя с меня хитрых глаз. Игра была мне известна: величина суммы, которую он назовет, зависит не столько от ценности того, что я предлагал, сколько от того, до какой степени, по его мнению, я нахожусь в безвыходном положении. Я постарался изобразить на лице полное равнодушие.
— Три гинеи, — произнес Айк наконец, вычерчивая цифру на грязном обрывке бумаги, тем самым как бы подчеркивая ее непреложность.
— Я рассчитывал на шесть.
Айк с улыбкой развел руками:
— Ведь это надо еще продать!
— Пожалуй, я обратился не по адресу. Наверно, проще отправиться с этим в Вест-Энд.
— Там, сэр, народ знающий. Лучшей цены вам не предложат. — Он осклабился: — Конечно, если вы желаете больше наличными, я всегда смогу вам выдать авансом некоторую сумму.
— Не подозревал, что вы предлагаете подобные… услуги.
— Обычным порядком нет, сэр, о, нет! Но такому господину, как вы, в счет будущих возможностей… Возьму с вас за это весьма по-божески.
— Вы и за аванс взимаете долю?
Снова Айк развел руками:
— Небольшой процентик, понедельный.
— И на сколько могу я рассчитывать?
Снова улыбка:
— Пройдемте-ка ко мне в контору, там и с бумагами разберемся.
«Жареный миндаль» — этот изумительный аромат вызывает в памяти сласти с засахаренным миндалем или шоколад с миндалем, именуемый пралине.
Эмили решила, что я должен сопроводить ее на ужин. В Ковент-Гардене устраивали маскарад, и ей ужасно хотелось повидать, сказала она, мои прежние излюбленные богемные заведения, не говоря уже о красивых актрисах, о которых она читала в газетах. Я ломал голову, куда лучше ее повести: отдельные кабинеты в «Савое» чересчур велики для tête-à-tête, отдельные кабинеты в «Романо» с японскими рисунчатыми обоями на стенах чересчур изысканны и интимны, хотя в «Трокадеро» имелись прелестные угловые комнаты с видом на Шефтсбери-авеню…
— Похоже, вы прекрасно осведомлены насчет приватных мест в подобных заведениях, — прокомментировала Эмили. — Полагаю, используете их для любовных свиданий.
— Нет, просто приходится этим интересоваться, — туманно выразился я. — Тетка у меня калека, предпочитает ужинать à deux.
— Но я не желаю ужинать приватно. Хочу с актрисами.
— Ваш отец ни за что не простит мне, если я поведу вас в неподобающее заведение.
— Думаю, Роберт, пару актрис я способна вынести. И ничего со мной не случится, если, конечно, жажда выйти на сцену не приняла характер заразы.
В последние дни Эмили вела себя со мной более непринужденно — нам стало легче общаться друг с другом, хотя она все еще напускала на себя ершистость.
— Отлично, — сказал я. — Если хотите с актрисами, тогда стоит отправиться в «Кеттнер». И до костюмированного бала оттуда недалеко.
На следующий день я отправился обговорить меню с франтоватым французом Анри, который в качестве метрдотеля заправлял множеством злачных заведений на Черч-стрит. Совместно мы прикинули варианты. Обязательно закуска, куда входят устрицы и порция икры; затем в качестве супа — нежный velouté[21] из артишоков. Пообсуждали, что наиболее приемлемо для деликатного желудка леди — палтус или форель, Анри убедил меня, что форель хороша как раз для ужина, тогда как палтус скорее для обеда. Côtelettes de mouton Sefton[22] были очередным предложением Анри, на что я тотчас реагировал молчаливым кивком. Одновременно я отверг жареного фазана, как слишком обильную пишу для двух персон, предложив взамен perdreau en casserole.[23] И к ней Epinards pommes Anna, haricots verts à l’Anglaise и dauphinoise.[24] Затем, разумеется, салат. Спаржа под sauce mousseline.[25] Блюдо с сырами, ванильное мороженое en corbeille,[26] десерт и petits fours[27] завершали наше меню. Что касается вин, мы остановились на «амонтильядо», «либфраумильх» 1882 года, присовокупив пинту охлажденного шампанского «Дейтц и Гельдерман», кларет и кюрасо. Я выбрал столик. Находясь в алькове с портьерой, он при необходимости мог создавать атмосферу интимности. Но при откинутой портьере давал возможность обозревать большие обеденные залы наверху. Завершив предварительные переговоры, я распростился с мэтром до завтрашнего дня.
Но по-прежнему оставался вопрос, что надеть. Обычное вечернее платье — слишком скучно. Мы уже решили взять с собой в ресторан свои домино и после ужина переодеться к маскараду, и с учетом этого решения простое вечернее платье означало бы отсутствие некоторой фантазии.
Едва я вышел от «Кеплера», мой взгляд упал на витрину на Грейт-Марлборо-стрит. Там был выставлен отличный темно-синий жакет из меха выдры. Вещь потрясающая — и она смотрелась бы еще более потрясающе с шейным платком французского кружева, как раз такой я видел пару дней назад на Джереми-стрит. Общение с Анри возбудило во мне небывалую щедрость. Я вошел в магазин и спросил, сколько стоит жакет. Три гинеи — сумма значительная, но, как заметил портной, умеренная для такого уникального образца, при том, что можно выложить почти столько же за несравнимо более убогий пиджак, в которых ходят все вокруг.
— О, мастер Уоллис! — приветствовал меня Айк. — Всего-то на день припозднились.
— Припозднился?
— С вашими процентами. Два фунта, а в другой раз за задержку придется немножко с вас урезать. — Он развел руками. — Вы же сами человек деловой. Сами понимаете, что почем.
— Деловой? В каком смысле?
— Слыхал, вы, вроде меня, торговцем заделались. В кофейном деле, кажется?
— Ах, ну да. Да, пожалуй.
— И, конечно же, ваше дело куда успешней, чем мои делишки?
— Да, оно идет вполне успешно… но мне нужно еще немного наличных.
— Еще? — удивленно вскинул брови Айк.
— Ну, скажем… фунтов пятнадцать? — рискнул я.
— Конечно, конечно! Хотя… — задумчиво протянул он, — если б двадцать, процент был бы пониже. Видите ли, скидка на большую сумму…
— О! Вы очень щедры. Двадцать так двадцать.
Мы оформили бумаги, и я вернул ему два фунта:
— Ваш процент.
Айк кивнул:
— Иметь с вами дело, мистер Уоллис, сплошное удовольствие.
Я пришел в «Кеттнер» пораньше и выбрал для Эмили бутоньерку с цветочной витрины у входа. Я пообещал ей артисток, и вид присутствующих меня не разочаровал. Здесь оказалось в наличии больше прелестных драматических актрис, чем в артистическом фойе многих театров на Друри-лейн. Я заметил элегантную героиню восхитительной последней комедии, она ужинала в отдельной кабинке с неким членом Палаты лордов. Один известный деятель угощал ужином театрального журналиста, Полковник развлекал юного фаворита или, возможно, своего подчиненного. А пленительная молодая актриса Флоренс Фарр, притворяясь, будто меня не замечает, ласкала преданным взором сегодняшнего избранника, — который, несомненно, был способен выложить пять фунтов за честь показаться с нею на публике: последующие кувыркания обойдутся ему бесплатно.
Но вот появилась Эмили, и у меня перехватило дыхание. Прежде я никогда не видел ее иначе, как в деловом платье — в Практичной одежде. Нынче вечером на ней было скромное черное бархатное платье с вышивкой из мелкого стекляруса, с глубоким вырезом, а поверх — красная пелерина, отороченная серым мехом. Эмили протянула мне руку, и пелерина к ее конфузу соскользнула, выставив напоказ ее обнаженные плечи. Подхватывая пелерину, я ощутил волнующее дуновение «Джики-Герлен», вместе с теплым парфюмом вдыхая теплый запах женской кожи.
Женское платье — это поединок умеренности и царственности: внешнее великолепие непременно подразумевает сладость сокрытого. Ради этого портниха склоняет клиентку к платью, которое чувственно, ярко и роскошно и которое именно всеми этими качествами подчеркивает девичье целомудрие его носительницы.
— Вам разрешается произнести что-нибудь, Роберт, — сказала Эмили с едва заметной — совершенно очаровательной — смущенной улыбкой, усаживаясь на стул, подставленный ей официантом.
Я пришел в себя:
— Вы выглядите просто потрясающе!
— Хотя рядом с вами, как всегда, чувствую себя одетой недостаточно шикарно, — заметила она, берясь за салфетку. — И это к лучшему. Ну что, где мои актрисы?
Я рассказал ей, где, как и кто именно располагается вокруг.
Эмили с живостью воспринимала каждую маленькую сплетню.
— Вам следовало бы водить туристов, — заметила она, едва я умолк. — А скажите-ка, Роберт, не слишком ли это заведение уныло по сравнению с «Кафе Руайяль»?
— О нет! В «Кафе Руайяль» я больше не ходок! — заверил я ее. — Там чересчур людно.
— Так. Похоже, сегодня ожидаются и остроты. Раз уж вышло так, что мы оказались в их духовном пристанище.
— Я, разумеется, буду беспрестанно молоть всякую чушь. Это единственная тема, которую я с успехом способен развивать.
Обведя взглядом зал, Эмили сдвинула брови:
— Что это за запах, не скажете?
Я потянул ноздрями воздух:
— Запах? По-моему, нет никакого. А что вам…
Но тут я сообразил, что она меня разыгрывает.
— Милый Роберт, — нежно сказала Эмили, — кто бы мог подумать месяца полтора назад, что мы будем сидеть вдвоем в подобном месте.
Прибыла наша закуска, и я с наслаждением наблюдал, как аппетитно она высасывает содержимое устриц: как напрягается ее шея, как с каждым глотанием легкие волны скользят по ней вниз. Когда-нибудь, невольно мелькнула мысль, этот прелестный рот допустит в себя кое-что посолонее устрицы… право, являлась другая мысль, допустит ли? Как можно объяснить невинной молодой девушке подобное похотливое действие? Или же страсть ее научит, подскажет ей, как самой пуститься в подобные опыты? Передо мной мысленно, но до смешного явственно, тотчас встала картина: мы оба с ней в постели, черное бархатное платье скинуто на пол, и она, моя старательная ученица…
— Роберт? — Эмили озабоченно смотрела на меня. — Вы здоровы?
— О да! — Я прогнал видение. — Совершенно.
— Вы как-то необычно молчаливы.
— Я ошеломлен тем, как восхитительно вы выглядите.
— Да ну, бросьте дурачиться. Ни за что не поверю, что вас способно что-то ошеломить.
Суп был превосходен, рыба великолепна. В попытке не подорвать репутацию человека критического склада, я заметил, что, по-моему, куропатка несколько суховата, но спутница моя заявила, что я напыщенный сибарит, и мы пришли к согласию, что куропатка очень даже хороша. Подобно генералу, объезжающему свои войска в разгар сражения, к нам подошел Анри, и Эмили поведала ему, что готова хоть тотчас сделаться актрисой, если актрис так изысканно потчуют.
— О! — воскликнул, не дрогнув, Анри. — Но вы куда красивее любой из присутствующих здесь актрис!
Он кинул на меня взгляд, и мне показалось, будто левое веко у него слегка дрогнуло, — что при иных обстоятельствах можно было бы принять за подмигивание.
Беседа протекала меж разных берегов. Я почти не вспомню, о чем мы говорили; я очень старался говорить что-то смешное, но уже знал, что лучший способ развеселить Эмили Линкер — это время от времени напускать на себя серьезность. Потому, надеюсь, мы порой затрагивали и серьезные темы. Мало-помалу наша трапеза пришла к завершению. Я подписал счет — пять фунтов, четыре шиллинга и шесть пенсов, — а Эмили отправилась переодеваться. По оживленности, возникшей вокруг зала, стало очевидно, что многие из прочих посетителей также собирались на бал.
Эмили возвратилась в арлекинском домино, шапочке Пьеро и белой шелковой полумаске. Что касается меня, то на мне была простая маска для глаз из черных перьев, которая вполне сочеталась с моим новым пиджаком.
Едва мы вышли из ресторана, Эмили, слегка покачнувшись, ухватилась за мой рукав.
— Я слегка опьянела, — шепнула она мне на ухо. — Вы должны пообещать, что этим не воспользуетесь.
— Нам надо договориться о времени и месте встречи. Если мы потеряемся, мы сможем тогда найтись.
— Отлично! Где и когда?
— Скажем, у Оперы под часами в два?
Вместо ответа она сжала мне руку, за которую не переставала держаться с момента, как мы вышли на улицу.
Шефтсбери-авеню была заполнена направляющимися на бал экипажами, группы людей в карнавальных костюмах запрудили тротуары. Внезапно я услышал оклик:
— Уоллис! Уоллис! Подожди!
И обернулся. Панталоне и Пульчинелло с физиономиями, щедро размалеванными гримом, кричали мне, спрыгивая из кэба в сопровождении двух кукольного вида девиц. Невзирая на разрисовку, я узнал Ханта и Моргана.
— Ты где был? — выкрикнул Пульчинелло.
— В «Кеттнере».
— Да нет же… куда ты пропал? Хант наконец-то опубликовался — в «Желтой книге» вышла его вилланель.[28] А тебя уж столько времени нигде не видно!
— Я был занят…
— Мы так и думали, на тебя нашло-таки вдохновение! — щелкнул пальцами Панталоне.
— Дело не в поэзии. Я поступил на службу.
— На службу? — Пульчинелло насмешливо изобразил гримасу ужаса. — Когда мы виделись в последний раз, тебя призвал тот забавный карлик — как бишь его?..
— Позвольте вам представить мою сегодняшнюю спутницу, ее зовут мисс Эмили Пинкер! — поспешно вставил я.
— Ага! — многозначительно произнес Морган своими раскрашенными губами. — Счастлив познакомиться. Ну а это… это… гм, мисс Дейзи. И мисс Дебора.
Марионетки с хихиканьем протянули мне ручки. С упавшим сердцем я осознал, что они, почти наверняка, demi-mondaines.[29] А в эту ночь я целиком и полностью отвечал за благоденствие Эмили. И при малейшем намеке на непристойное поведение Пинкер обвинит в первую очередь меня.
— Мы прежде встречались, — чуть слышно шепнула мне Дейзи. — Неужели не помните?
— Увы, не припоминаю, — натянуто произнес я.
— Правда, сэр, я была тогда в ином виде, не как сейчас!
Ее подружка звонко расхохоталась.
— Вы актриса? — осведомился я упавшим голосом.
— Можно и так сказать, — ответила Дейзи. — Уж артистка это точно.
Снова Дебора взвизгнула от смеха.
К этому моменту мы всей компанией влились в колоннаду Оперы, появилась возможность изловчиться и избавиться от этих спутников. Мысленно я клял Ханта и Моргана за идиотизм. О чем они думали, заявляясь сюда с подобными дамами? По счастью, Эмили, казалось, не заметила ничего предосудительного.
— Как это восхитительно, правда? — сказала она, разглядывая толпу.
Вокруг было народу, должно быть, больше тысячи, все в масках. Даже вестибюль, бары и репетиционные залы были убраны в карнавальном стиле. В оркестровой яме настраивал инструменты оркестр в полном составе, хотя для танцев здесь было слишком людно и слишком шумно, чтобы что-либо расслышать. Соответственно выряженные официанты пробивались сквозь толпу, разнося на подносах вино. Циркачи расхаживали на ходулях там, где обнаруживалось свободное место. Жонглеры и танцоры протискивались бок о бок с нами сквозь толпу. На мгновение на ступеньках я потерял Эмили из виду, но вот увидал снова и препроводил ее в наименее людный уголок на балконе, откуда было видно происходящее внизу лицедейство.
— Пару лет назад такое просто невозможно было бы себе представить, — заметил я.
Вместо ответа она взяла меня за руку. И тут, к моему изумлению, поднеся мою руку к губам, прикусила острыми зубками мне пальцы.
— Нынче вечером вы весьма игривы, — удивленно проговорил я.
Ее руки обвились вокруг моей головы, она прижала свои губы к моим. Наши маски скользнули с глаз. Смеющиеся глаза встретились с моими, но эти смеющиеся глаза были темные, не серые, и я похолодел, поняв, что в моих объятьях вовсе не Эмили Линкер, а совершенно иная особа. Взорвавшись хохотом, незнакомка вырвалась от меня: волосы под шапочкой Пьеро были темные, не белокурые. Все произошло, должно быть, когда мы потерялись на лестнице.
Я поспешил обратно, но повсюду, куда ни глянь, мне попадались сплошь «арлекины». В отчаянии я удержал одну за плечо:
— Эмили?
— Как пожелаете, мсье! — хихикнула она.
Увидев в бальном зале Ханта, я ринулся через толпу прямо к нему.
— Ты видел Эмили? — прокричал я ему сквозь гвалт. — Я потерял ее!
— Очень правильно, — пробормотал он рассеянно. — Да, как тебе пишется?
Я неопределенно пожал плечами.
— Лейн сказал, что в следующем квартале возьмет какой-нибудь рассказ. Но я общался с Максом — ты знаком с Максом? — и тот считает, что серия сонетов скорее подойдет. В том смысле, чтоб мне заработать себе имя.
— Макс… — это что, Макс Бирбом?
Хант кивнул.
— Меня с ним познакомил Эрнест Доусон. Ты, кажется, знаком с Эрнестом?
— Только шапочно, — сказал я не без зависти.
— Угу, у нас в последнее время в «Кафе Руайяль» образовалось очень веселое общество. — Вытащив портсигар, он стал с деланной индифферентностью всматриваться в толпу. — Мне необходимо отыскать Боузи. Я пообещал ему, что его найду. Он ведь терпеть не может толпу.
— Боузи![30] — воскликнул я. — Не лорда ли Альфреда Дугласа ты имеешь в виду?
Хантер кивнул:
— Слыхал? Оскар написал ему из тюрьмы любовное послание. Он по-прежнему без ума от Боузи.
Боузи! У меня перехватило в горле. Любовник Оскара Уайльда. Этот необыкновенный, восхитительный юноша. Автор сонетов. И Хант с ним на короткой ноге! Обещал найти его в толпе!
— Ты познакомишь меня? — жадно спросил я.
Взгляд Ханта красноречиво изобразил, что его первейшая обязанность, как большого друга Боузи, беречь его от назойливых орд будущих стихотворцев, а при необходимости и отгонять их палкой.
— Хант, умоляю! — не отставал я.
— Ну, хорошо. Если не ошибаюсь, вон он — там.
Я посмотрел в ту сторону, куда был направлен взгляд Ханта — и тотчас увидел Эмили, или возможную Эмили, которая шла сквозь толпу.
— Черт побери! — пробормотал я.
— Что ты сказал?
— Сейчас вернусь!
Я проследовал за ускользавшей фигурой в помещение за сценой — ряд небольших комнат, по случаю карнавала декорированных яркими портьерами. Здесь царила еще более свободная атмосфера. Мужчины открыто обнимали женщин — женщины в масках с визгом переходили от одних губ к другим. Передо мной мелькали обнаженные груди, скользившие между ног руки, чья-то в перчатке ласкала выставленный напоказ сосок. Несколько театральных уборных было заперто, и кое-где целующиеся и обнимающиеся пары, едва сдерживая свое нетерпение, выстраивались в очередь на вход. Мне сделалось явно не по себе: если Эмили наведалась сюда. Господи, чего она здесь насмотрелась!
Я пробился назад в бальный зал. Хант исчез, не смог я также обнаружить никого, напоминавшего юную целомудренную особу, отчаянно стремящуюся найти своего пропавшего спутника. И решил: раз не могу ее найти, тогда, возможно, она хотя бы сможет отыскать меня. Я медленно ходил взад-вперед в толпе, чтоб меня можно было заметить. Походив так немного, я поднял взгляд на балкон. «Арлекина» в шапочке Пьеро сжимал в страстных объятиях мужчина в маске и в пиджаке из меха выдры. Вид мне заслонило еще несколько фигур, и когда я снова поднял глаза, двое на балконе исчезли.
Без четверти два вне себя от беспокойства я вышел на улицу. Эмили ждала меня под часами. Я поспешил к ней.
— Все в порядке?
— Разумеется, — прозвучало удивленно. — А что, неужели вы волновались?
— Немного.
Ее рука скользнула, опираясь на мою.
— Решили, я обиделась?
— На что?
Она прильнула ближе:
— Я прекрасно знаю, что это были вы, не притворяйтесь, что это не так.
— Не понимаю, о чем вы.
В ответ прозвучал лишь смех. Он был на удивление вульгарен.
— Куда пойдем сейчас? — спросила Эмили, когда мы направились по Друри-лейн.
— Я собираюсь посадить вас в кэб.
— Хочу в Пещеру Гармонии Небесной! — объявила она.
— О Боже! Откуда вам-то известно про это заведение?
— Читала о нем в «Газетт». Это же совсем близко, ведь так?
— Прямо за углом. Но, право же, вам не пристало…
— Если я еще раз услышу, что мне пристало, что нет, немедленно вас брошу, — сказала Эмили. — Ей-богу, Роберт, для поэта у вас на удивление устарелое представление о женщинах. Мы вовсе не так уж щепетильны, как вам это кажется.
— Отлично, — произнес я со вздохом. — Идем в Пещеру Гармонии Небесной.
Пещера представляла собой грязноватый бар в подвале, где, учитывая отсутствие иных причин для посещения подобного места, имелось возвышение с фортепьяно и пианистом. Имелось в виду, что посетитель объявляет пианисту, что желает спеть, и тот аккомпанирует всему, что посетителю петь заблагорассудится, не считаясь с желаниями прочей публики. Это было излюбленным местечком для юных аристократов, обожавших горланить на людях куплеты похабных мюзик-холльных песенок. Естественно, войдя, мы застали там компанию золотой молодежи. Один распевал, а его приятели подхватывали припев:
Послушница младая пробудилась в ранний час,
час, час,
Из кельи услыхав снаружи глас, глас, глас.
Глядит в окно — а там студент
Настроил, улучив момент,
Свой инструмент, свой инструмент,
свой инструмент!
Я взглянул на Эмили, но она, казалось, не уловила двусмысленности текста.
— Хочу внести себя в список, — сказала она. — К кому тут обращаться?
— К официанту, наверное.
Я поманил рукой одного, и тот подал нам перечень песен.
Хор молодцов закончил пение, которое было встречено радостными выкриками и аплодисментами. Дородный итальянец встал и пропел что-то скорбное и жалостливое на родном языке, не отрывая в процессе пения руки от сердца. Потом прозвучало имя Эмили — я предупредил ее, чтоб назвала вымышленное. Она, внезапно явно оробев, стала у фортепьяно. Публика шумно загалдела. Эмили судорожно перевела дыхание. Наступила краткая, зловещая тишина. Тут пианист ударил по клавишам, и Эмили запела.
Это была пронзительно красивая баллада — пусть сентиментальная, но в устах Эмили романтические трюизмы звучали нежно и свежо:
Довольство, роскошь славит кто ж?
Не в этом счастье, нет!
Труд пахаря суров, но все ж
В нем радость, жизнь и свет.
Она пела прелестно. Однако, учитывая вкусы завсегдатаев Пещеры, выбор был не идеален. Сюда приходят, чтоб слушать похабные куплеты, не сентиментальные баллады. Скоро раздались улюлюканья, свист, поднялся гвалт, и бедной Эмили ничего не оставалось, как оборвать свое пение. Едва она смолкла, какой-то фат вскарабкался на сцену и загорланил что-то фривольное под всеобщий рев одобрения.
— Ах, — произнесла Эмили, возвращаясь к столику в слегка подавленном настроении. — Пожалуй, все-таки это заведение несколько вульгарно…
— По-моему, пели вы замечательно, — сказал я, похлопывая ее по плечу.
— Все же, мне кажется, самое время отсюда уйти.
— Превосходная мысль. Я расплачиваюсь.
При выходе из Пещеры я заметил выезжающий из-за поворота кэб и свистнул кучеру.
— Лаймхаус, — бросил я ему, подсаживая Эмили.
— Доброй ночи, Роберт, — улыбнулась Эмили. — Все было просто восхитительно.
— По-моему, тоже.
Она потянулась и быстро поцеловала меня в щеку, и следом кучер хлестнул лошадей кнутом. Я с облегчением вздохнул. Слава Богу, ночь прошла без особых осложнений.
Я направил свои стопы сквозь толпу, запрудившую Веллингтон-стрит. Никогда еще я не наблюдал в таком виде Ковент-Гарден. Казалось, все вокруг сошли с ума. На улицах было полно пьяного люда в костюмах и масках, все бежали друг за дружкой через колоннаду. Парочки обнимались без стеснения. Переведя дух, я вошел в относительный покой борделя в доме № 18, как иной с чувством облегчения проходит в вестибюль своего клуба. Но даже и здесь, казалось, царил хаос. В приемной зале я обнаружил полдюжины девиц, игравших в игру наподобие пряток и на которых не было ничего, кроме повязок на глазах. Девицы ходили кругами, выставив вперед руки, с намерением поймать мужчину. Кого девица поймает, тот должен пойти следом за ней. Разумеется, из-за повязки на глазах они постоянно натыкались друг на дружку и, шаря руками, определяли пол жертвы, веселя главным образом наблюдавших за игрой. Я немного посидел, поглядел, пригубливая стакан абсента, но для подобных забав у меня настроения не было, и я испытал облегчение, когда удалось наконец увлечь одну из девиц наверх и мигом удовлетворить с ней свои потребности, после чего на кэбе я возвратился в Сент-Джонс-Вуд.
Во рту: крепость, мягкость, сочность или маслянистость. Так же явны на языке, как ощутимы кончиком пальца.
На следующее утро я проснулся не в лучшем настроении. Причину расстройства нетрудно было вычислить. Итак, Ханта опубликовали. Мог бы и порадоваться за него, но на деле я ощущал лишь тупо пульсирующую зависть. Бирбом, Доусон, Лейн — еще и Боузи вдобавок. Пока я флиртовал, попивая кофе, приятель мой преуспел в важном деле, завоевал себе имя. Несмотря на тяжесть в голове, я придвинул к себе пачку муаровой бумаги. Какого черта, вот сяду и прямо в качестве утренней разминки сочиню вилланель.
За полчаса я вымучил шесть строк. Но таково уж свойство вилланелей — чем дальше, тем сочинять не легче, а трудней. А мне пора идти к Линкеру.
Я взглянул на часы. Может, хозяин простит мне утреннее отсутствие, ведь предыдущей ночью я сопровождал его дочь на бал. Я решил посидеть за столом еще часок.
К завершению часа вымарал три из шести строк. Теперь я просто ужасно, безнадежно опаздывал. Отложил листы, решив продолжить по возвращении.
Стоит ли говорить: в тот вечер, возвратившись домой и взглянув на то, что написал, я тотчас понял, что это никуда не годится. Я изорвал листок и сказал себе, что еще счастливо отделался — если б не пришлось выходить из дома, мог бы весь день напролет биться над этими строчками.
Или же наоборот, — еле слышно прозвучало где-то в мозгу, — могло бы и что-то получиться.
В последующие дни я намеренно предпринял попытку писать. Мои чувства к Эмили, как раз именно то, что веками вдохновляло поэтов, вылились лишь в бледные, худосочные сонеты, которые я тотчас сжег. Истинной поэмой в ее честь стал Определитель. Я уверен, что с развитием нашего взаимного влечения он чудным образом видоизменялся: силой моей страсти проза обретала особый аромат, подобно тому, как бочка с вином вбирает запах стен, в которых хранится.
Правда, Пинкер вечно мешался, вынюхивая малейшие признаки надуманности или вычурности. Стоило мне записать, что кофе «майсор» имеет «запах карри и отдает пустынностью индийской улицы, слоновьим навозом и вдобавок сигарой махараджи», Пинкер потащил меня в зоосад, утверждая, что я в глаза не видывал пустынной индийской улицы, в жизни не нюхивал карри, и, скорее всего, со слоновьим навозом тоже не знаком. Разумеется, он был прав, но упоминание о сигаре я все же сохранил. Пинкер был также возмущен, когда я сделал попытку сравнить цветочный букет йеменского «мокка» с «розоволепестковым дуновеньем девичьего дыхания».
— Нет такого запаха, Роберт! Это все ваши выдумки! — раздраженно крикнул он.
Но я обратил внимание, что в данном случае к Эмили как к союзнице он не воззвал. Вероятно, и Эмили это отметила: после ухода отца щеки у нее пылали.
— Что это вы делаете, Роберт? — спросила Лягушонок как-то за обедом.
— Сочиняю стихи, — ответил я со вздохом, поняв, что в данный момент подобное занятие, скорее всего, невозможно.
— Обожаю стихи. Вы читали «Алису в Стране Чудес»?
— Читал ли? Я сам обитал в этом гнусном месте.
Ссылка на мою alma mater прошла мимо ушей Лягушонка, но не укротила ее докучливости:
— Пожалуйста, Роберт, сочините мне стишок про крокодила!
— Что ж, отлично! Если только ты твердо обещаешь оставить меня после этого в покое.
За пару минут я набросал кое-что и зачитал вслух:
Один зеленый крокодил
Обжора был ужасный.
Сжирал полсотни он яиц,
Заметьте — ежечасно.
Их заедал он пирогом
И устрицами с джемом.
Покончив с ними, тут же он
Ел утку с жирным кремом.
Уписывал с горчицей он
Свинину и шарлотку.
А после медом поливал
Копченую селедку.
На сладкое девчушек он
Съедал и, кроме шуток,
В момент от сладости такой
Сгубил себе желудок.
Лягушонок раскрыв рот глядела на меня:
— Какая прелесть! Вы настоящий поэт!
— Если бы истинная поэзия давалась так же легко! — вздохнул я.
— А теперь можно еще один про червяка? — Глаза девочки блеснули надеждой.
— По-моему, ты обещала немедленно уйти.
— Обещаю трижды уйти, если вы еще про червяка сочините. Предложение очень выгодное, смотрите — трижды за два стиха.
— Что за дивная способность у Пинкеров торговаться! Ладно, попробуем…
Один миссионер изрек:
«Со мной что-то не так.
По-моему, в голове моей
Пристроился червяк!
Он, видно, жил в одной из груш,
Из тех, что на столе.
Я грушу эту утром съел,
И вот червяк во мне!
И он зудит в моих ушах,
Глазеет изо рта,
Чихает, если я сглотну.
Такая маята!»
Лягушонок захлопала в ладоши. Эмили, вошедшая в комнату в момент, когда я декламировал свой экспромт, сказала:
— Правда, Роберт, очень мило. Стоит послать детскому издателю.
— Я поэт, — сухо парировал я. — Наследник славных традиций бунтарей и декадентов, а не кропатель детских стишков и мелких виршей.
Решив изыскать время для творчества, я попытался отказаться от сна, поддерживая себя в состоянии бодрствования изрядным количеством продукта Линкера. Когда я в первый раз прибег к этому способу, то с воодушевлением обнаружил, что смог сочинить лирическую оду в двадцать строк. Но следующей ночью противоборство кофеина с усталостью завело меня в тупик, вызвав тупую головную боль и несколько еще более тупых четверостиший. Признаться, я был настолько утомлен, что даже с Эмили был несколько грубоват. У нас возник дурацкий спор по поводу какой-то фразы, и она внезапно расплакалась.
Я был поражен. Эта девушка вовсе не казалась мне способной зарыдать по ничтожному поводу, даже совсем наоборот.
— Простите, — пробормотала Эмили, утирая платком глаза. — Просто я немного устала.
— И я тоже, — с чувством произнес я.
— Что так, Роберт? — спросила она, и, как мне показалось, несколько странно на меня взглянула.
— Я пытался работать.
— Мы оба работаем.
— Я имею в виду свою истинную работу. Творчество.
— Ах, так… и это единственная причина, отчего вы в последние дни такой… — она запнулась, — такой замкнутый?
— Полагаю, да.
Снова она как-то странно на меня посмотрела:
— Мне показалось, просто вы от меня устали.
— Господи, о чем вы?
— Когда, Роберт, на балу… вы меня… поцеловали… я подумала, что вы… — хотя, разумеется, вы человек богемный, поцелуй для вас мало что значит…
— Эмили, — произнес я с досадой, — я не…
И умолк. «Я вас не целовал», собирался я сказать. Но что-то заставило меня остановиться.
Я подумал: «Я поцеловал бы ее, если б знал, что это можно». Если бы был уверен, что она меня не оттолкнет, не побежит жаловаться отцу. И вот теперь, в результате нелепого недоразумения, ее поцеловал кто-то другой, а она его приняла за меня.
И не оттолкнула. Даже, как видно, ей это понравилось.
Выбор у меня был.
Можно сказать ей правду, это и глубоко уязвило бы ее, и внушило бы мысль, будто я не имею желания ее целовать. Или же стоило следовать высшей правде касательно событий того вечера.
— Если я был с вами неучтив, Эмили, — с расстановкой произнес я, — так только потому, что не был уверен, не переступил ли я грань.
— Разве я… как-то дала вам это понять? — тихо спросила она.
Что ей сказать?
— Нет, не дали, — сказал я и сделал к ней шаг.
Я молил Бога, чтобы мой двойник был мастер целоваться. Хотя, конечно, не настолько, чтобы я не смог ему соответствовать.
— Ведь и я, и вы в ту ночь выпили немало. Я не был уверен…
— Когда переступите грань, — сказала она, — непременно дам вам знать.
От нее пахло сливками, ванильными меренгами и кофе с молоком и совсем чуть-чуть — сигаретами.
Пауза.
— Я уже переступил?
— Роберт! — вскричала она. — Неужели вы неспособны быть серьезным?
Я поцеловал ее снова. На этот раз, обвив рукой, слегка притянул ее к себе. Мне показалось, что еще и не на пике этого упоительного поцелуя она чуть не задохнулась от восторга. Я скользнул языком ей между губ, мгновенное сопротивление — и я почувствовал, как они приоткрылись, впуская меня глубже… Боже ты мой, подумал я в изумлении: никак не ожидал, что в ней столько страсти.
Шаги! Мы отпрянули друг от друга как раз в тот момент, когда распахнулась дверь. Это был Дженкс. Мы с Эмили чуть попятились — смущенно зардевшись, она отвернулась. Секретарь бросил на нас подозрительный взгляд.
— Улавливаю запах жимолости, цветочный аромат, такой чистый и плавный, — быстро произнес я. — Пожалуй, немного цитрусового. Но на вкус восхитительно.
Дженкс обшарил глазами комнату. Безусловно, он отметил отсутствие на столе признаков кофе. Однако ничего не сказал.
— А вы Эмили? — спросил я.
— Да? — Она повернулась ко мне.
— Каково ваше мнение?
— Что ж… очень приятный напиток, Роберт. Правда, несколько крепковат. Простите… я забыла кое-что… там, внизу.
Довольно нескоро Эмили возвратилась, неся с собой толстую папку, положила ее перед собой на стол и принялась тщательно изучать бумаги.
— Миг без вас кажется мне бесконечным… — начал я.
— Не сейчас! — оборвала она меня. — У нас с вами много работы.
Я был ошарашен:
— Мне казалось… только что… вы предпочли работе знаки внимания с моей стороны.
Короткая пауза.
— Так было до того, как Дженкс нас застал. Что привело меня в чувство.
— Дженкс? При чем тут Дженкс? При чем тут вообще кто-нибудь?
— Мы оба служим у моего отца. Нам не следует… мы не должны… отвлекаться от дела. Нельзя обманывать его доверие.
— Но вы крайне непоследовательны.
— С этого момента никаких поцелуев, — твердо сказала Эмили. — Хотя бы это обещайте мне.
— Отлично. Я попытаюсь не помышлять о том, чтоб целовать вас чаще чем, скажем… Раз… э-э-э… в шесть-семь секунд?
Молчание.
— Это уже дважды произошло, даже трижды.
— Роберт!
— Ничего не могу с собой поделать, Эмили! И, по-моему, вы тоже. Но если вам так угодно, от поцелуев с вами я воздержусь.
Мы целовались у реки, целовались тайком от ее сестер, целовались, даже не слизнув с губ пенку только что заваренного кофе. Иногда Эмили шептала: «Роберт… нельзя…» Но при этом продолжала меня целовать.
Как-то она сказала:
— Лучше б это доставляло меньше удовольствия. Тогда бы, наверно, легче было бы остановиться.
— А зачем нам останавливаться?
— Потому что это нехорошо.
— Как это может быть нехорошо? Ведь искусство учит нас, что жизнь — это цепь острых ощущений. Разумеется, вы должны целоваться со мной.
— Не пойму, вы сейчас льстите мне или себе, — пробормотала она. — Целоваться вы мастер, но «острые ощущения», не слишком ли это преждевременно?
— Надо ловить момент, ведь счастье быстротечно. Между прочим, по-моему, я слышу шаги Ады на лестнице.
— Где мы обедаем сегодня?
— К сожалению, Роберт, сегодня обедать с вами я не смогу.
— Я что-то невпопад сказал?
— На сей раз я. Пообещала Суфражистскому Обществу. Мне придется распродавать их брошюрки.
— Как — прямо на улице?
— Да. Не смотрите на меня такими глазами. Кто-то должен это делать.
Мне подумалось, нет ничего проще, прицепившись к ее словам, взорваться возмущенной тирадой. Но, глядя на выражение лица Эмили, я оставил свое мнение при себе.
— Тогда я пойду с вами. Пообедать можно после.
Она сдвинула брови:
— Надеюсь, что вы будете стоять рядом, поддерживая меня своим видом. Но вы должны пообещать не произносить вслух всякие колкости.
Прибыв в Сити, мы заняли позицию у входа в подземку на Кинг-Уильям-стрит. Воздев кверху одну из брошюрок, Эмили непомерно тонким, жалостным голоском выкрикнула:
— Избирательные права для женщин! Правда за один пенс!
Несколько человек глянуло на нас с любопытством, но никто не остановился.
— Господи! — с тревогой сказала Эмили. — По-моему, им это совершенно безразлично. Избирательные права для женщин!
Пожилой мужчина с подстриженными бачками задержался.
— Что у нас тут? — любезно осведомился он, беря брошюрку и пробегая ее глазами.
— Правда за один пенни, — быстро сказала Эмили. — Об избирательном праве для женщин.
— И сколько за одно траханье? — спросил тот столь же любезно.
Мы оба притихли. Потом Эмили ахнула, и я гневно рявкнул:
— Как вы смеете!
— Ты с этой вот? — осведомился прохожий.
— Да, я с этой женщиной. И вы ее оскорбили.
— Она ведь посреди улицы предлагает свои услуги, разве не так? До сих пор этим занимались только женщины определенного сорта.
Он пошел прочь, не потрудившись вернуть брошюрку.
— Я убью его! — взорвался я, порываясь отправиться за этим типом вдогонку.
— Не надо, Роберт! — Эмили удержала меня за локоть. — Нам запрещено ввязываться в скандал.
— Вам — может быть, но я не потерплю…
— Прошу вас, Роберт. Да и от грузчиков своего отца я слышала словечки покрепче.
Она воздела руку и соответственно возвысила голос:
— Избирательные права дня женщин! Правда за один пенни!
К ней подбежал уличный мальчишка и выкрикнул:
— Выбираю тебя, милашка! — сопроводив свое высказывание недвусмысленным подергиванием бедер и задавая стрекача от меня, едва я огрел его по тощей заднице.
— Напомните мне, — хмуро буркнул я, — зачем мы все это делаем.
— Затем, что у мужчин и женщин должны быть равные права, чтоб они могли общаться между собой на равных.
— Ах да, разумеется. И как долго мы этим будем заниматься?
— Пока не раздадим все брошюрки до одной, — твердо сказала Эмили.
Я протянул руку:
— Дайте-ка лучше и мне половину.
— Вы это серьезно?
— Абсолютно, если в конечном счете могу рассчитывать на обед. Вы все равно отвратно справляетесь со своими обязанностями. Процесс продажи требует определенного мастерства.
— Я поступаю точно так, как меня инструктировали в Обществе.
— Тогда посмотрим, кто из нас успешней справится.
Я перешел на противоположную сторону улицы, По тротуару двигалась пожилая дама. Я остановил ее:
— Извините, мадам… позвольте предложить вам эту брошюру? Она содержит все, что нужно знать о движении за избирательные права.
— Ах, так? — Дама с улыбкой заглянула в брошюрку, которую я сунул ей прямо в руку. — Сколько это стоит?
— Всего один пенс, хотя, если желаете, можете внести и больше.
— Вот вам шесть пенсов, сдачи не надо! — Дама вложила мне в ладонь монету.
— Благодарю вас! — сказал я, пряча монету в карман. — Желаю приятного дня!
— Избирательное право для женщин! — выкрикнула Эмили на той стороне улицы, размахивая в воздухе своей брошюркой. Вид у нее был хмурый. Я рассмеялся: выражение ее лица было весьма красноречиво. Она негодовала, что я оказался прав.
Мимо проходили две молодые женщины, прятавшие руки в меховые палантины.
— Простите, — удержал я их. — Я вижу, вам необходимо узнать подробней про избирательные права для женщин. — Я сунул им в руки две брошюрки. — Прошу вас, всего два пенса!
Улыбнувшись мне в ответ, младшая отыскала для меня монетки.
— Как вы сказали… — открыла было рот она.
Но, заполучив денежки, я уже не располагал временем для разговоров. Я обратился к молоденькому служащему:
— Э-э-э… не хотите ли узнать, о чем на самом деле думают женщины?
И в мгновение ока обрел очередной взнос.
Я бросил взгляд через улицу. Эмили, увидев, что мой метод непосредственного обращения к публике оказался успешней, чем ее выкрики, теперь следовала моему примеру. На моих глазах она продала одну брошюрку двум пожилым леди и еще одну отправившейся за покупками женщине с дочерью.
Ко мне приближался мужчина средних лет.
— Этот буклет, — сказал я, пристраиваясь к его шагу и протягивая книжицу, — содержит всю подноготную суфражисток. Сексуальное равенство, свободная любовь… и тому подобное.
— Беру две, — буркнул мужчина, бросая на брошюрку алчный взгляд.
— Молодчина! С вас шиллинг.
Едва тот отошел, я поймал на себе разгневанный взгляд Эмили: я распродал уже половину своих буклетов, а она всего один или два.
— Кто меньше распродаст, тот оплачивает обед! — выкрикнул я.
Она глянула сердито, но, я заметил, что при этом свои усилия она удвоила.
— Добрый день, юные леди! — приветствовал я группу школьниц. — Потрясающе интересно — читают все!
Продав еще четыре штуки, я перекинулся на некую матрону, у которой покупки вываливались из рук:
— Стоит женщинам обрести право голоса и конец рвущимся бумажным пакетам! Здесь все как раз про это, а я пока подтащу вашу картошку!
Подобрав картофелины, я перешел на ту сторону улицы.
— Все разошлось! — самодовольно отчитался я.
— У вас раскупили только потому, что вы мужчина! — сердито сказала Эмили. — Вечно одно и то же, старая песня!
— Но, так или иначе, я выручил неплохие деньги. Хотя теперь, раз вы платите, я не смею даже расплатиться за обед.
— Роберт, вы прочтете мне стишок? — пытливо спросила Лягушонок.
Я все еще пребывал в благодушном после обеда настроении.
— Хорошо. Какой стишок?
— Тот, что читали в прошлый раз, который про червяка.
— Точно такой не смогу. Я художник, повторяться не умею.
— Но вы ведь стих не закончили! — с жаром сказала она. — Оставили того человека с червяком в голове. С тех пор я только об этом и думаю, и арифметика у меня ну никак не идет.
— По-моему, Роберт, — тихонько произнесла Эмили за моей спиной, — всякий художник все-таки должен отвечать за свои поступки. Хотя в том, что Лягушонок не может справиться с арифметикой, вашей вины, я думаю, нет.
— Мне не хотелось бы нести ответственность за нерешенные задачки! — наставительно сказал я Лягушонку. — Ну что ж…
Я слегка задумался, почеркал карандашом по бумаге, что-то стало вытанцовываться…
— Засекаю время, Роберт, — сказала Эмили. — Даю вам меньше минуты на сочинение.
— Но это не слишком честно!
— А честно продавать больше буклетов, чем я, только потому, что вы мужчина? Осталось сорок секунд.
— Дайте чуть больше…
— На вашем месте я перестала бы огрызаться и сосредоточилась на сочинении.
— Ну, пожалуйста.
— Время истекло!
— Вот вам! — воскликнул я вскакивая:
«Какое безобразие!
— сказал миссионер. —
Какой ужасный, право,
Всем червякам пример!
Ведь я его к себе не звал,
У нас нет общих тем!
Во мне пристроился он сам,
Как будто насовсем!»
Тут тягостного вздоха
Сдержать старик не смог —
И выпорхнул наружу
Проворный мотылек.
Разумеется, это была полная чушь. Но обнаруживалась некая рифма и даже видимость размера. Лягушонок захлопала в ладоши, а Эмили ласково улыбнулась, и на мгновение я испытал чувство триумфа куда мощней, чем если бы мой сонет был напечатан в «Желтой книге».
Душа ее поет. Мысли ее в смятении. Не из-за маленькой невинной лжи — Эмили прекрасно известно, что не он попытался поцеловать ее на балу, но он с такой серьезностью принял в тот вечер на себя обязанность дуэньи, что Эмили с самого начала забавляло легкое подтрунивание над ним. После, увидев, как его уязвили ее слова, она позволила ему и дальше пребывать в заблуждении, которое под конец разрослось в нечто большее. Нет, заботит ее не это, а то, что такого рода их отношения в силу канонов данного времени нереальны.
Сначала положены свидания, затем, возможно, влюбленность; влюбленность может завершиться браком. Не в правилах класса, к которому она принадлежит, свидания тайные, если влюбленных свела судьба или — что еще того хуже, — работа.
Сомнительно, чтобы отец позволил ей выйти за него замуж; да и сама она пока не убеждена, хочет ли этого.
Поэтому позволяет себе немногое: в меру похваливает его, но не чересчур, чтобы отец не заподозрил, что она теряет чувство меры.
Говорит отцу, что Роберт — «хоть он молод и глуповат и все еще корчит из себя эстета» — трудится не только упорно, но и вполне успешно; что он, если только наберется немножко ума, может стать приобретением для компании. Она отмечает, что как художник слова он обладает профессиональными качествами, которых другие сотрудники лишены. Что он видит предметы в особом свете, что это может вполне пригодиться в их деле.
Отец слушает, кивает, и ничего не подозревает.
Все-таки один человек подозревает, Дженкс. И это отдельная проблема, так как уже с некоторого времени Эмили замечает, что старший секретарь отца проявляет к ней особую расположенность, — которая, она убеждена, связана с искренним восхищением ее деловыми качествами, ее сдержанным, но участливым обхождением с сослуживцами. Со всем тем, что позволяет его расположенности быть естественной и потому необременительной, но про это обстоятельство теперь она и думать забыла в своем безумном увлечении Робертом.
Поэтому Эмили чувствует себя несколько виновато и нелепо. Но так как сам Дженкс о своем отношении к ней не высказывался, пожалуй, он и теперь не осмелится что-либо сказать.
Хотя, учитывая силу антипатии Дженкса к Роберту, кто знает? Как-то днем, когда Эмили расшифровывает свою скоропись, в комнату входит секретарь и тщательно прикрывает за собой дверь.
— Мисс Пинкер, — говорит он, — мне надо с вами побеседовать.
В ту же секунду она понимает, о чем пойдет речь. Ей очень хочется, чтобы сцена эта уже завершилась, чтоб он удалился, закрыв за собой дверь, чтоб не состоялось в промежутке это неприятное событие.
Эмили ждет сюрприз.
— Я бы в жизни не осмелился диктовать вам, как следует или не следует поступать, — говорит Дженкс пылко, отводя при этом взгляд. — И не стал бы никогда чернить коллегу, тем более того, кто оказался удачливей в завоевании вашего расположения. Но я обязан указать вам хотя бы на два момента. Уоллис часто посещает некоторую улицу в центре Лондона, репутация которой позволяет мне… — Дженкс запнулся, — сомневаться в его добропорядочности.
— Так, — спокойно произносит она. — И что же это за улица?
— Район Ковент-Гарден, широко известный как… улица определенного свойства.
— Вы там были? Вы видели его?
— Да. Мой друг актер театра «Лицеум». Я трижды ходил на их спектакль… громадный успех.
— Ах, вот в чем дело, — произносит она с облегчением. — Вы оказались там по вполне невинному поводу, и Роберт, несомненно, также.
— Боюсь, что нет. Я ждал у служебного входа… это как раз на той улице, о которой речь. Уоллис, он… — Дженкс пытается подобрать слова. — Уоллис вовсе никого не поджидал. Он входил в один из домов. Заведение это скандально известно происходящим в нем.
— Вы в этом убеждены?
Дженкс кивает.
— Опорочить имя человека без абсолютных доказательств….
— Лучше б я ничего не говорил! — восклицает Дженкс. — Если б я не был уверен… если б это был вовсе не он… Но как я могу молчать, если я это видел собственными глазами! Вдруг что-то случится… — у Дженкса перехватило в горле, — какая-то грубость с его стороны по отношению к вам… Представьте, что такое бы произошло, а я вас не предупредил!
— Да-да, — говорит она. — Я понимаю. И хочу поблагодарить вас за вашу откровенность.
— Я поговорю с вашим отцом, добьюсь, чтоб его уволили.
— Не надо, — слышит Эмили свой голос. — Я сама уведомлю отца при удобном случае.
— Безусловно, будет верней, если это сделает мужчина.
— Это деликатный вопрос. И решать его следует деликатно. Я постараюсь подобрать подходящий момент.
Дженкс хмурит лоб.
— Мне бы не хотелось, чтобы отец подумал, будто его подталкивают к решительным мерам. Для компании Пинкера этот Определитель весьма важен — это ключевой вопрос, если мы хотим обойти Хоуэлла. Необходимо, чтобы Роберт завершил работу до того, как состоится этот разговор.
— Так вы не желаете ничего рассказывать? — внезапно с подозрением спрашивает Дженкс.
— Вы меня известили. Вам это далось нелегко, и я это ценю. Но вы это сделали, вы исполнили свой долг. В конечном счете риску подвергаюсь я, не мой отец…
— Если вы не поговорите с ним, это сделаю я!
— Прошу вас, Саймон, — говорит Эмили. — Не надо этого делать. Хорошо? Ради меня.
Она видит, что он задет — не оттого, что она не последовала его совету, но потому, что внезапно увидел ее в ином свете.
— Что ж, я сделал все, что мог, — резко бросает Дженкс, направляясь к двери.
— Когда это было? — Эмили задает вопрос ему вдогонку. — То есть, когда вы видели его там в последний раз?
— В последний раз это было в пятницу вечером.
«Днем в тот день он меня целовал», — думает она.
Сердце ее во власти бурных чувств. В основном это злость и отвращение. Но все же, — она ведь женщина современная, — Эмили пытается все трезво осмыслить.
Возможно, отчасти это ее вина. Возможно, своими поцелуями она возбудила в нем страсть, и ему пришлось искать утоление в… ей невыносимо представить то, в чем он ищет утоления.
Целую неделю Эмили не может заставить себя физически к нему прикасаться. Между тем они открывают, что в мускатном винограде и в семенах кориандра ощущается что-то одинаково цветочное; что лесной орех и свежевзбитое масло имеют похожий молочно-сливочный аромат. Соединяя воедино различные разделы Определителя, они обнаруживают скрытые связи между различными вкусами и запахами — спектр простирается от сладкого к кислому, от цветочного к пряному, образуя целую палитру ощущений. И почему-то, стоит Роберту ее обнять, все, что происходит в том, другом мире, в том темном Зазеркалье, где люди хранят в тайне свои желания, кажется ей несущественным, не имеющим ни малейшего отношения к преступному удовольствию, которое она испытывает.
И еще одно чувство неожиданно испытывает Эмили. Стоит ей подумать про тех, других женщин, безымянных, безликих, которые ложатся с ним в том Зазеркалье, она с удивлением открывает для себя, что по отношению к ним испытывает вовсе не жалость, не отвращение, но внезапную, резкую, жгучую зависть.
Наконец Определитель был все-таки составлен. Парфюмер изготовил дюжину прочных шкатулок красного дерева с откидными стенками и с тридцатью шестью оригинальными отделениями внутри для стеклянных бутылочек с притертой пробкой, хранителей различных ароматов. Одновременно издатель готовил к выпуску книжечку, поясняющую, каким образом следует использовать эти ароматы. Хочу не без гордости признаться: я настоял, чтобы буклет был в переплете из телячьей кожи, — под предлогом того, чтобы выдержать суровые полевые условия, на самом же деле, потому что это была моя первая публикация и мне хотелось, чтоб она внешне как можно более походила на томик стихов.
В связи с завершением Определителя я оказался в несколько затруднительном положении. Поскольку платили мне за слова, теперь у меня не было явных оснований оставаться у Линкера. Но все-таки никто не мог утверждать, что, задержавшись, я получаю не за что деньги. Эмили я обмолвился, будто хотел бы отшлифовать некоторые свои описания, коль скоро мы получим первые отклики от Пинкеровских агентов, хотя оба мы понимали, что мотивы мои совершенно иного свойства.
Линкер по поводу моего присутствия не высказывался. Хотя временами изыскивал, чтобы занять меня, кое-какие поручения. Это стало случаться так часто, что я даже заподозрил, не намеренно ли такое делается.
Как-то он поставил перед нами с Эмили полдюжины приземистых жестяных коробок с грубо отпечатанными этикетками. На одной был замысловато вырисован ангел, еще на одной — лев.
— Что это? — спросила Эмили, явно видевшая подобное, как и я, впервые.
Ее родитель блеснул глазами:
— Не снять ли нам пробу, чтоб оценить?
Попросив, чтоб нам принесли кипяток, мы испробовали содержимое первой банки. Это был кофе, но весьма неважного качества.
— Ну что? — спросил Пинкер.
— Очень заурядный.
— Ну, а из другой?
Я приготовил кофе из второй жестянки.
— Если не ошибаюсь, этот смешан с глазированным сахаром для придания искусственной сладости.
То же и с остальными: весь принесенный кофе был насыщен, окрашен или ароматизирован всякими добавками.
— Скажите, откуда взялось это убожество? — полюбопытствовал я.
— Непременно скажу! — Пинкер постучал пальцем по одной из жестянок. — Вот это «Арбакль». Мне его прислали из-за океана. Он захватил четверть всего американского рынка — ежегодно более миллиона фунтов чистого веса. Если где-либо от Нью-Йорка до Канзас-Сити вы спросите кофе, именно этот вам и поднесут.
Пинкер указал на следующую жестянку:
— А это «Чейз и Санборн». Он распространен от Бостона до Монреаля. В этом пространстве вам едва ли подадут кофе иной разновидности.
— Вот кофе «Лайон»… кофе «Сиил»… кофе «Фолджерс» из Сан-Франциско, родины золотой лихорадки. А вот этот — «Максвелл Хаус», он обосновался от Нэшвилла и дальше к югу.
— Всего-навсего шесть видов — или, как их именуют там, брэндов, — отражают представление о кофе одной из самых деловых наций в мире. Шесть! Естественно, их владельцы обладают колоссальным влиянием. Помните, я говорил о Бирже, Роберт? — Я кивнул. — Биржа место совершенно замечательное. И одновременно сфера разворачивания громадного конфликта, конфликта между теми, кто хочет, чтоб наша отрасль развивалась свободно, и теми, кто стремится единовластно ею управлять.
— Разве можно единовластно управлять целой отраслью?
Пинкер подошел и остановился у тикающего механизма, по-прежнему беспрерывно исторгающего на пол извивы белой спутавшейся ленты. И, вглядываясь в печатные знаки, произнес:
— Эти шесть фирм имеют негласный договор с правительством Бразилии. Они благополучно обошли Биржу; они, как сами там у себя утверждают, загнали рынок в угол. Если цена на кофе слишком низкая, они скупают запасы, чтобы создать дефицит, и пускают в продажу только тогда, когда цены становятся приемлемей. Или если цена слишком высока, просто отказываются от продаж, сидят сложа руки и ждут, пока цена не упадет до выгодного им уровня. И все только потому, что народ приучен доверять этим маркам.
— Это именно та стандартизация, о которой вы говорили во время нашего первого собеседования.
— Именно. — Пинкер прикусил губу. Похоже, он прикидывал, до какой степени стоит посвящать меня в свои планы. — Вот такая перспектива, — наконец произнес он. — Но мы не должны этого допустить, иначе останемся ни с чем. Вспомним Дарвина.
— Но ведь это в Америке. Англия совсем другое дело.
Пинкер покачал головой:
— Теперь, Роберт, мы все — один рынок. Как существует единая цена на сырье, так, скорее всего, произойдет и с ценой на готовый продукт. И то, что побуждает домохозяйку в Сакраменто или Вашингтоне расстаться с деньгами, аналогично сработает и в Бирмингеме, или Бристоле.
— Но ведь вы же не собираетесь продавать тут этот отвратительный кофе?
Снова Пинкер призадумался.
— Я собираюсь свести свои сорта кофе до двух, — сказал он наконец. — Оба будут продаваться под маркой «Кастл». «Кастл Премиум» будет поставляться в безалкогольные кафе, «Кастл Супериор» в магазины. Таким образом, потребитель будет уверен, что покупает равно надежный продукт для дома, как и тот, что он с удовольствием пьет вне его.
Эти слова слетали у него с губ четко, накатанно.
— Название, разумеется, то же, но кофе-то все-таки разный? — заметил я.
— Подозреваю, что это различие многие даже и не заметят. И слава Богу, Роберт, — наш успех выльется в успех кофеен, в успех кофе, и следовательно Трезвого Образа Жизни. Мы создадим здравую, более эффективную торговлю, которая послужит на благо всей нации, а также тех стран, которые поставляют нам кофе. И помощи ждать нам неоткуда. Чтобы выиграть, надо ввязаться в игру. Поэтому надо смотреть на Америку, на новые методы, которые оправдали себя на деле.
— Но ведь вы же не контролируете рынок!
— Не контролирую.
— Тогда, получается, ваш план не без изъяна.
— Я бы сказал, он требует доработки.
— В каком смысле?
— Все в свое время, Роберт. Все в свое время. А пока — есть ли у вас соображения, из чего можно составить мои сорта?
Забавный получился разговор, и я снова поднял ту же тему с Эмили, едва мы оказались одни.
— Похоже, ваш отец всерьез озабочен смешением сортов, — высказался я.
— Тут ничего нового нет. — Она взяла в руку несколько зерен из тех, что мы исследовали. — Скажем, вот этот «ява» изумительной консистенции, но на вкус несколько тускловат. «Мокка», скорее всего, наоборот — очень ароматен, но крепости не ощущается. Если эти сорта соединить, получится весьма приятный кофе.
Я сверкнул на ее глазами:
— Похоже, ароматы вступают в брачный союз?
— Вы правы, — кивнула Эмили. — Только…
— Только что?
Она вздохнула:
— Мне кажется, это сродни смешению красок на палитре. Легко получить коричневый цвет соединением других красок, но то, что легко, вовсе не означает, что именно так и следует поступить.
— Согласен. Каждая краска хороша сама по себе.
Мгновение она молчала. Своего отца она критиковала нечасто.
— Разумеется, он исходит из соображений коммерции.
— Ваш отец великолепно умеет делать деньги.
— Он вынашивает… такие грандиозные планы. Если бы вы познакомились с ними хотя бы отчасти.
— Я бы с радостью.
Очередной вздох.
— Он должен тщательно взвешивать, кому что сказать и когда.
— Разумеется. Вы — одна семья, я к ней не принадлежу. Но надеюсь в один прекрасный день стать более близким вашему семейству человеком.
Тут Эмили зарделась.
— А давайте-ка, — продолжал я, — создадим свой брачный союз!
И протянул ей руку.
— О чем вы?
— Я имею в виду союз этих двух сортов кофе, — сказал я, указывая на «мокка» и «яву» на столе перед нами. — Их ароматы флиртуют между собой уже с незапамятных времен, с тех пор, как повстречались в танце. Благословим же их союз и поможем им в него вступить.
— Роберт!
Я невинно поднял брови.
— Я, разумеется, изъясняюсь иносказательно! — Я положил и те, и другие зерна в кофемолку, старательно их перемолол. — Любопытно будет, так сказать, взглянуть, как они сольются друг с другом.
— Роберт! Прекрати!
— Хорошо.
Высыпав ложкой смолотую смесь кофе в чашки, я добавил воды. Вышло весьма недурно.
— Ну, вот и счастливый союз! — заметил я, но Эмили старалась на меня не смотреть.
Я продолжал улыбаясь на нее смотреть, пока она наконец, разгорячившись, не сделала вид, будто собирается меня ударить.
Вот так, флиртуя и не вполне понимая, что к чему, сами того не подозревая, подошли мы, кружа, к непостижимому недоразумению.
— Как наши дела? — Уже в двадцатый раз за день вопрошал Пинкер, входя в контору. — Готовы ли мои смеси?
— Почти, — кивнул я.
Я был тут один, не считая Лягушонка. Эмили отпросилась в середине дня за покупками.
Пинкер в изумлении уставился на меня:
— Черт побери, Роберт, что это на вас?
— Пиджак в индийском стиле.
— Он у вас и расцвечен по-индийски! Впрочем, пожалуй, будет все же не так… э-э-э… крикливо смотреться под палящим восточным солнцем.
— Возможно, — беззаботно отозвался я.
— Стоит восемь фунтов, — восторженно вставила с полу примостившаяся там, как обычно, на корточках Лягушонок. — Другого такого в Лондоне больше не найти.
— Меня это не удивляет. — Окинув меня взглядом, Пинкер вздохнул. — Милая Филомена, будь добра, оставь нас! Нам с мистером Уоллисом нужно кое о чем побеседовать.
Лягушонок, квакнув, послушно ускакала.
— Не понимаю, что за прихоть издавать эти дурацкие звуки, — пробормотал Пинкер. — Надеюсь, с возрастом это пройдет. — Он перевел на меня взгляд. — Мои дочери, Роберт… мои дочери весьма оригинальные личности, каждая в своем роде.
— Это делает вам честь, — вежливо заметил я.
— И причиняет массу беспокойств. Бесспорно, все родители переживают за своих детей. Но если родитель один, тревог не вполовину, вдвое больше.
— Могу себе представить.
— В самом деле? — Он снова бросил на меня взгляд. — Должно быть, вы считаете странным, что я привлекаю их к работе.
— Я как-то об этом не думал, — осмотрительно произнес я.
— Эмили деятельность просто необходима. Это у нее, разумеется, от меня. Хотя у нее даже больше, чем у меня, развито чувство цели, — того, что ее занятия со временем принесут пользу обществу Скажем, она ни за что не будет счастлива судьбой домохозяйки при каком-нибудь аристократишке. Чтобы надзирать за прислугой, устраивать балы, званые обеды и все такое прочее.
Мне показалось, я улавливаю ход его последующих мыслей.
— Разумеется! — кивнул я. — Эмили современная женщина. Совершенно недопустимо, чтобы ее отбросило в прошлое.
— Вот именно! — Линкер схватил меня за руку. — Именно того, что могло бы отбросить ее в прошлое, она и опасается! Как точно вы сказали… у вас явный дар находить слова.
— Стараюсь, — скромно ответил я. — И если мне удалось выразить это, то только потому, что и я думаю так же. Я сам мысленно устремлен в будущее.
— Да, — Линкер выпустил мою руку. — Вы должны, Роберт, прийти к нам на ужин. Нам с вами необходимо многое обсудить.
— С огромным удовольствием.
— Отлично. В субботу в шесть. Дженкс сообщит вам адрес.
Линкер не исключает возможность моего брака с его дочерью.
Я едва верил своему счастью. Линкер человек богатый, он явно становится богаче день ото дня. С его состоянием он мог бы оплатить доступ своей дочери в высшее общество или же скрепить ее союз с каким-либо зажиточным торговцем. Я всего лишь нищий художник. Правда, я образован и, — как не без гордости я полагал, — не обделен обаянием и талантом. Но в существующих обстоятельствах такой человек, как Пинкер, вряд ли мог счесть меня подходящей партией для своей дочери. Завоевать его расположение — громадный успех.
Теперь мне никогда больше не придется служить. Я смогу путешествовать: я всегда мечтал объехать мир, как и множество поэтов и художников, моих предшественников. Я смогу позволить себе иметь дом в городе и где-нибудь в тихой провинции. Я смогу творить, не обремененный домашними заботами.
В тот вечер я отметил счастливый поворот событий приобретением шприца с раствором кокаина и отправившись с этим приобретением на Веллингтон-стрит. Особым успехом визит не увенчался. Хоть наркотик и возбудил желание, но он, как видно, оказал парализующее воздействие на мое поведение, замедлив мои действия настолько, что под конец я лишь и помышлял, чтоб скорее все завершить. Однако девицу кокаин нисколько не отпугнул, и она приняла на себя инициативу, которую утратил я. Собственно, кокаин мгновенно стимулирует самых опытных шлюх к перемене тактики: это не повод отказаться от клиента, как, скажем, его нетрезвость, напротив, тут девицы проявляют максимум энтузиазма. Но морфин приводит их в сонливое состояние. Теперь кокаин в пастилках можно приобрести у любого аптекаря в Ковент-Гарден. Как сказал бы Линкер: итак, мы движемся к Прогрессу.
«Острота» — не всегда неприятное, пронзительное ощущение покалывающей жгучести, сродни запаху перца или понюшки табака.
Я тщательно обдумывал, как одеться на ужин к Пинкеру. С одной стороны, истинный эстет едва ли не обязан предстать за столом в сногсшибательном виде. С другой, хотелось бы, чтоб я соответствовал представлению Пинкера обо мне как о будущем зяте. И я решил, надо произвести благоприятное впечатление: одеться так, чтобы выглядеть пусть не вровень с ним, но вполне респектабельно для своих возможностей. После некоторых раздумий я полностью определился: нарядный зеленый пиджак из жаккардового шелка, с вкраплением драгоценных камешков, изысканно посверкивающих, как переливы шеи у дикой утки. Он был выставлен на витрине в «Либерти» в сочетании с великолепным тюрбаном в голубых тонах, скрепленным спереди роскошной брошью с красным гранатом. Единственная проблема заключалась в том, что весь ансамбль стоил шесть фунтов, такое я уже не был способен себе позволить.
Я отправился к Айку и объяснил, что мне требуется еще некоторое количество наличных денег.
— Как, еще? — вскинул брови Айк. — Но, позвольте вам заметить, мистер Уоллис, вы уже несколько просрочили со своим предыдущим долгом.
— Теперь это необходимо… как некоторый вклад в будущее.
— Вот как!
Айк, похоже, ждал последующего разъяснения.
— Я собираюсь сделать предложение руки и сердца, — пояснил я.
— А-га! И от будущего союза можно ожидать благоприятных перспектив… в финансовом смысле, а?
Я хотел было заметить Айку, что это не его дело; но в данном случае, разумеется, дело касалось именно его.
— Вы правы. Эта дама… ее отец… он располагает средствами. И немалыми. Но сейчас мне необходимы расходы.
Айк понимающе кивнул.
— Скажем — еще сорок фунтов? — рискнул я.
Снова я подписал какие-то бумаги, и снова, когда он протянул мне деньги, я отдал ему два фунта:
— Ваши проценты.
Он поклонился:
— Пусть я буду первым, кто пожелает вам в ваших планах всяческих успехов. Хотя, все-таки, осмелюсь напомнить вам, что в любом случае долг должен быть оплачен. — Айк рассмеялся. — Не в том смысле, что я предрекаю неудачу вашим планам. Я уверен, что вы с вашей леди будете счастливы.
Линкер проживал неподалеку от своего склада, в одном из черных кирпичных георгианских домов на красивой площади. Дверь мне отворил лакей в ливрее, рядом стояла горничная, которая приняла у меня пальто и трость. Это впечатляло. Если в таких условиях живет мистер Линкер, значит и зять его может рассчитывать на нечто подобное. Кстати, горничная, я отметил, была прехорошенькая.
— Они в гостиной, сэр, — сказал лакей, подавая мне стакан мадеры.
Я переступил порог указанной мне комнаты. Гостиная была освещена электрическими лампами, бросающими мягкий свет на лица всех трех дочерей Пинкера, принаряженных по данному случаю. Даже Ада казалась не такой бледной, как обычно, но Лягушонок недовольно дулась, — ей было непривычно в школьном платьице, — но все же впервые выглядела как нормальная девочка. Сидя в кресле с высокой спинкой, Пинкер беседовал с кряжистым человеком в скромном длинном черном сюртуке. Сидящая рядом Эмили выглядела восхитительно в вечернем платье из зеленого бархата.
— А! — сказал Пинкер. — Вот и вы, Роберт! Позвольте представить вам Гектора Крэннаха!
— Штош, — произнес кряжистый человек с сильным шотландским акцентом, оглядывая меня с головы до ног и одновременно сдавливая пожатием мне руку, — шлыхал я, Валлиш, шта вы фрухт. Но штэ моштэ неодетым, не ошэдал.
— Простите, я не понимаю… — произнес я нахмурившись.
— Вы ш, друшище, в нехлижэ к ушину пошаловали.
— Прошу вас, Гектор, на время удержаться от прямых высказываний, — со смешком сказал Пинкер. — А вы, Роберт, уж извините. Крэннах не слишком au fait[31] последней моды с Риджент-стрит. Он только что вернулся из Бразилии.
— Гектор — главный управляющий отца, — добавила Эмили, протягивая мне руку. — Здравствуйте, Роберт! Кто же вы сегодня — древний перс или японский император?
— Сегодня, — отвечал я, целуя ей пальцы, — я воплощаю эклектику. Хотя, если вы имеете в виду мой пиджак, нетрудно определить, что узор на нем персидский.
— Я мнохо пушшествовал по Першии, — заявил или, скорее, просвистел, Крэннах. — В шисни не видал таких пишаков.
Во мне уже вскипала жгучая антипатия к этому шотландцу.
— Правда, онашты видал похоший кафэр в Морокке, — добавил гость, обращаясь к Аде с Лягушонком.
Я, как и они, вежливо улыбнулся.
— Отец рассказывал о вашем Определителе, Роберт, — быстро вставила Эмили. Тут я заметил на столе одну из демонстрационных шкатулок красного дерева. Боковины были распахнуты, выставляя напоказ бутылочки. — На Гектора произвело большое впечатление.
— О дэ-а, — выдохнул Гектор. — Бошэ впешэ…
Я фыркнул.
Он осекся:
— Виновэт?
— Нет-нет, ничего.
— Боше впешэ…
Поймав взгляд Эмили, я прыснул. Она сделала страшные глаза, но было видно, что и она еле сдерживается, чтобы не расхохотаться.
— Штэ? — рявнул Гектор, переводя взгляд с меня на Эмили.
— Ничего-ничего! — повторил я.
Хотя, признаться, у Крэннаха удивительно смешно сбились в кучу звуки, когда он попытался произнести слова: «очень хорошо».
— Прошу вас, продолжайте. Что именно вы имели в виду?
— …ша этат мэтад мошет сходитса! — гневно выпалил шотландец.
— Но? — Это уже Пинкер. — Ведь у вас есть возражение, Гектор?
— Пад аткрытым нэбам, — с нажимом произнес Гектор, — особо в трэпиках, боюсь, ваш Опрэдэлитл нэ продэршится долго.
— Но почему? — спросил я.
— Тирэмиты, — резко бросил он. — Тирэмиты, большие, с мой кулак. Сотрут весь ваш ящик. И шара, вам скажу, — шуткая шара! Высушэт ваши нэшные духи нашисто.
— Что ж, — сказал я. — Я, очевидно, не столь близко, как вы, знаком с термитами. Но при любых условиях принципиально ничего менять нельзя. Ну а печатное слово, сама брошюра, может выдержать, я полагаю, даже и шуткую шару любых трэпиков.
Я почувствовал резкую боль в лодыжке. Опустил голову: острый каблучок Эмили в тот же миг скрылся под юбкой.
— Как бы то ни было, — спокойно продолжал я, — говорить, что Определитель мой, неверно. В равной степени это и работа старшей мисс Пинкер, секретаря, которая с готовностью, неутомимо помогала мне все это время, — я снова поднес к губам и поцеловал руку Эмили.
Гектор насупился. Мне показалось, что его не слишком обрадовало, вернувшись из Бразилии, обнаружить, что я прочно овладел расположением дочерей Пинкера.
— Бывали когдэ-нибудь в трэпиках, Роберт? — мрачно спросил шотландец.
И тут я совершил свою первую в тот вечер ошибку.
— Пока что нет. Но я твердо намерен заняться творчеством, И, похоже, только в тропиках можно скрыться от докучливых приятелей, — отозвался я легкомысленно.
В общем, как вы убедитесь, именно любовь к острословию меня сгубила. О, ирония судьбы!
Вечер шел своим чередом. Гектор нас всех уморил рассказом о своих путешествиях по Малайе, Цейлону и Карибским островам, или, вторя ему: «по Малэе, Шилону и Каррибэ». С этого момента я не стану себя утруждать фонетической передачей его речи: позволю себе положиться на ваше воображение.
Вам придется положиться также на свое воображение, чтобы представить, как необыкновенно хороша была Эмили в тот вечер за ужином.
В мягком свете электрических лампочек в гостиной Пинкера полушария ее молочно-белой груди, подчеркиваемые вырезом вечернего платья, магически притягивали взгляд. Заметив, что Гектор, черпая ложкой суп, украдкой туда поглядывает, я тотчас решил, что подобной вульгарности себе не позволю.
Выяснилось, что в обязанности Гектора входило, переезжая из одной экваториальной страны в другую, организовывать для Пинкера новые и инспектировать старые плантации, удостоверяясь, что везде, от Бангалора до Буэнос-Айреса, все идет по заведенному порядку. В какой-то момент угрюмый шотландец пустился в нудное перечисление трудностей выращивания кофе в гористых районах Ямайки.
— Позвольте, — перебил его я, — о каких трудностях вы говорите?
Он взглянул на меня:
— Штэ?
— Слушая ваш рассказ, — сказал я, — нельзя не поразиться явному несоответствию. С одной стороны, вы говорите нам, что кофе теперь самая популярная для выращивания культура в мире, даже в большей степени, чем хлопок или каучук. С другой, вы хотите, чтоб мы поверили, будто выращивать его неимоверно трудно. Это как-то не вяжется.
— Роберт! — с укором произнесла Эмили.
— Нет, почему ж, я отвечу, — невозмутимо сказал Гектор. — Но, боюсь, Роберт («Роббэ»), тут проглядывает ваше незнание — незнание полевых условий. Ну да, коффэ выращивать довольно просто. Но это не значит, что от коффэ легко получить прибыль. С вырубки леса до первого урожая проходит четыре года — четыре года: посадка, удаление сорняков, уход, орошение почвы, прежде чем выручишь хоть один пенс. Четыре года надо платить работникам, если только вы… — он осекся.
— Если только — что? — спросил я.
— На плантациях Линкера ни рабского труда, ни чего-либо подобного я не потерплю, — быстро сказал Линкер. — Об этом не может быть и речи.
— Ай-э, конечно, — спохватился Крэннах. — Так оно и есть. Как я уже сказал, целые годы уходят, прежде чем получишь урожай. В силу своей природы кофе выращивается в горных районах. Его надо высушивать, затем транспортировать — а это самое дорогостоящее дело: не столько две тысячи миль перевозки по морю, сколько та сотня миль, за которые он доставляется через континент к морю.
— Поэтому мы и разбиваем плантации в таких местах, где уже проложены надежные торговые пути, — вставил Пинкер.
— И поэтому мы должны обеспечить… — начал было Гектор, но Пинкер его перебил:
— Хватит уже о делах, Гектор. Моим дочерям это наскучило.
— Мне нет, — отозвалась Лягушонок. — Мне нравится узнавать всякое про разные страны. А, скажите пожалуйста, каннибалов вы встречали?
Похоже, Гектор с каннибалами не просто встречался, но и был допущен в высшие слои каннибальского общества. Изложение длилось минут десять, я чуть не уснул.
— Какие замечательные приключения выпали на вашу долю, дорогой Крэннах. Вы так увлекательно рассказываете. Говорите, со всеми каннибалами справились? Как я вам завидую. Мне в жизни везло справиться разве что с жалкой запонкой.
Лягушонок хихикнула. Гектор сверкнул на меня глазами. Эмили лишь издала вздох.
Еда была великолепна. Пинкер потчевал нас преотлично — сервировка в стиле à la Russe была ниже его достоинства: вилок, ножей и прочего металла на столе было столько, что способно было бы обеспечить целую армию хирургов. Возле каждой тарелки на подставке красовалось выведенное от руки меню. Если память мне не изменяет, перечень блюд был таков:
Huîtres natives
Petite bouchée norvégienne
Tortue claire
Crème Dubary
Homard sauté à la Julien
Aiguillete de sole. Sauce Germanique
Zéphir de poussin à la Brillat-Savarin
Selle d’agneau a la Grand-Veneur
Petits pois primeur à la Française
Pomme nouvelle persillade
Spongada à la Palermitaine
Jambon d’York braisé au champagne
Caille à la Crapaudine
Salade de saison
Asperges vertes en branche. Sauce mousseuse
Timbale Marie-Louise
Soufflé glacé Pompadour
Petits fours assortis
Dessert[32]
Словом, управиться с этим было не так-то легко, и не один час прошел, прежде чем дамы извинившись, встали из-за стола. Лакей поставил на стол ящик с сигарами и удалился. Крэннах откланялся. На мой взгляд, потому, что довольно-таки изрядно выпил. Его уход оказался весьма кстати, потому что мне необходимо было побеседовать с Линкером как мужчина с мужчиной.
Мой хозяин налил себе портвейна в стакан.
— Скажите-ка, Роберт, — произнес он задумчиво, — как вы представляете себя, скажем, лет через пять?
— Ну, — сказал я, переведя дыхание, — разумеется, человеком женатым.
— Женатым! — кивнул Линкер. — Отлично. Брак — вещь замечательная. Он придает мужчине солидности… сообщает ему ощущение цели.
— Я рад, что вы одобряете.
— Разумеется, мужчине, чтобы содержать семью, требуются средства.
— Бесспорно, — согласился я, подливая себе еще портвейна.
— И еще вот что интересует меня… — с усмешкой произнес Пинкер, отрезая кончик сигары. — Я заметил, что несмотря на полное завершение в настоящий момент той важной цели, для осуществления которой мне потребовались ваши услуги, вы по-прежнему продолжаете являться ко мне в контору каждый день.
— Не стану этого отрицать, — сказал я с еле заметной улыбкой.
— И, должно быть, для этого есть причина, и причина особая?
— Вы правы, — кивнул я.
— Я так и думал. — Он поднес сигару к свече, раскуривая. И вдруг усмехнулся: — В ваши годы и я был такой же.
— В самом деле?
— Да-да. Я буквально… э… горел честолюбивыми помыслами. Но встретил Сюзанну… мать моих девочек… и больше ни о чем думать не мог.
Какая неожиданная удача. Раз Пинкер и сам когда-то был в шкуре нищего просителя, моя задача значительно облегчается.
— Словом, — вальяжно произнес он, попыхивая сигарой, — как вы смогли уловить, дело Линкера — предприятие семейное. Я вам больше скалу: наше предприятие — это наша семья.
— Разумеется.
— Это предмет нашей общей гордости. И вы, — он указал на меня сигарой, — отлично вписываетесь в наше семейное дело.
— Благодарю вас, — сказал я.
Все оборачивалось гораздо успешней, чем я мог предполагать.
— Правда, вы несколько… скажем, при первой встрече с вами у меня было немало сомнений. Я не был…. Признаюсь, я не был убежден, что вы именно тот человек, который подходит для такой работы. Но вы, Роберт, весьма занятный юноша, я все больше и больше проникался к вам симпатией.
Я скромно склонил голову.
— Позвольте перейти к делу. Я хочу, чтобы вы стали постоянной составляющей семейства Пинкер.
Я едва верил своим ушам. Не мне приходилось убеждать Пинкера, что я подхожу на роль его зятя, но все выглядело так, как будто как раз он пытается убедить меня в этом!
— Возможно, — сказал он, попыхивая сигарой, — вы пока не убеждены, готовы ли.
— Нет, я вполне убежден…
— Разумеется! — рассмеялся он. — Как иначе? Энергия молодости. — Он подался ко мне и проговорил, припечатывая свои слова в воздухе тлеющим кончиком сигары. — Энергия. Она важная составляющая дела. Помните, не забывайте.
— Нет, что вы!
— Каждое утро, проснувшись, вы должны говорить себе: я готов. Я справлюсь с этим испытанием. Я вполне зрелый мужчина. Каждое утро!
— Именно так! — подхватил я, несколько обескураженный внезапным практическим подходом Линкера к матримониальному вопросу.
— То, что вы считаете приключением, — испытание. Временами оно окажется серьезным.
Я кивнул.
— Вы станете спрашивать себя: зачем это мне? Зачем я на это пошел?
Я рассмеялся вслед за ним.
— Мой вам совет, — внезапно становясь серьезным, произнес Пинкер. — Не будьте чересчур требовательны к себе. Никто не ждет от вас особой святости, понимаете? Особенно в таких обстоятельствах. Регулярно устраивайте себе небольшой отдых. После чего возвращайтесь с новыми силами к исполнению своих обязанностей. Вы понимаете, о чем я?
— Думаю, да? — осторожно отозвался я.
Этот мужской разговор явно приобрел большую откровенность, чем я мог ожидать. Хотя, возможно, Пинкер, поощряя зятя навещать проституток, просто считает это явлением Рациональным, современным образом жизни.
— Разумеется, отсутствие опыта в этом деле создаст вам некоторые трудности. Думаю, опыта у вас в этом никакого?
— Ну, у меня… вообще-то было как-то случайно… однажды…
— Поверьте, сначала все-таки это будет неким потрясением. Да-да… я бывал там… меня это потрясло. Но все мы неопытны поначалу — и я теперь бы многое отдал, молодой человек, чтобы снова оказаться на вашем месте и отправиться в это грандиозное путешествие. Ну, хорошо. Теперь поговорим о деньгах.
— Отлично, — у меня перехватило дыхание. Наступил момент, когда все должно встать на свои места. — Признаться, у меня их не так много.
К моему изумлению, Линкер расплылся в улыбке:
— Я так и думал.
— В самом деле?
— Все, что я вам до сих пор выплачивал, вы потратили, не так ли?
— Боюсь, что да.
— У вас есть долги?
— Некоторые.
Ободренный его неожиданно снисходительной улыбкой, я рассказал Линкеру про Айка и сколько я ему задолжал.
— Вы что же, все занимаете и занимаете и еще платите проценты? — поморщился Линкер. — Ах, как скверно! Очень скверно! — Он пристально на меня взглянул, и внезапно меня поразило сходство его взгляда со взглядом ростовщика. — Но это частности, это можно уладить, когда у вас появится доход. Скажем, тысяча в год. А? Плюс еще три на ваши личные расходы? И аванс в размере годового жалованья?
В целом оказалось меньше, чем я рассчитывал, но торговаться, пожалуй, было бы неприлично.
— Отлично!
— По прошествии четырех лет вы получите вознаграждение, если наше дело, как мы с вами оба надеемся, возымеет плоды.
Я изумленно воззрился на Линкера. Кофейный магнат по сути предлагает мне вознаграждение за то, что Эмили от меня забеременеет! На мгновение мелькнула мысль: какой стыд под давлением влиться в подобную семейку. Но тут я вспомнил про три тысячи фунтов годовых плюс три тысячи на мои расходы. Просто за то, что я, особо себя не обременяя, занимаюсь с его дочерью блудом на регулярной основе.
— С удовольствием приму ваши условия.
— Великолепно.
— Хочу надеяться, что и Эмили тоже.
— Эмили? — сдвинул брови Линкер.
— Поспешу спросить ее об этом, вы позволите?
— Спросить ее? О чем?
— Согласна ли она стать моей женой.
Пинкер сильней сдвинул брови:
— Вы этого ни за что не сделаете!
— Но… мы ведь с вами только что обсудили условия… какие еще могут быть препятствия?
— О Боже! — Пинкер провел рукой по лбу. — Какой же вы идиот… так вы даже и не поняли… как вы считаете, что я вам предлагаю?
— Ну… э… руку вашей дочери…
— Я предложил вам карьеру, — оборвал меня Пинкер. — Вы сказали, что хотите отправиться за границу… сказали, что вынашиваете планы… что вам необходима служба, чтобы заработать состояние, чтобы вступить в брак…
— Я скорее рассчитывал, что брак как раз поставит для меня точку на необходимости служить, — раздраженно сказал я.
— Разумеется, вы не можете жениться на Эмили. Это немыслимо. — Он с ужасом смотрел на меня. — А что ей на этот счет известно?
— Гм…
— Если вы позволили себе хотя бы пальцем до нее дотронуться, — прошипел Линкер, — я велю гнать вас отсюда кнутом до самой Треднидл-стрит. — Тут он хлопнул себя по лбу. — Господи… ваши долги… этот мерзавец ростовщик, должно быть, рассчитывает… надо же избежать очередного скандала… — Он взялся за свой стакан с портвейном, посмотрел, потом поставил снова на стол. — Мне необходимо поговорить с Эмили. Жду вас в своей конторе, сэр, завтра в девять утра. Спокойной ночи.
Недоразумение, недопонимание, заблуждение. Да, да, я вижу… воистину смешно, что первым же последствием создания Определителя оказывается путаница такого колоссального масштаба?
Я брел и брел, пока не дошел до Сити. Шел дождь: жаккардовый жакет с тюрбаном быстро промокли, одежда стала вдвое тяжелей и уже не предохраняла от влаги. По счастью мне попался кэб, который подвез меня по крайней мере до Марилебон. Я дотащился под мелкой моросью до своих комнат, не переставая гадать, как же так случилось, что вечер закончился столь плачевно.
На углу был общедоступный бар. Он манил теплым светом ламп, сверканием меди, витрины сияли выгравированными именами производителей пива. Мне ненавистно было возвращаться в тишь своих комнат. Я вошел в бар.
Он был почти пуст. Я заказал бренди, сел. Внутри оказалось несколько молодых особ, укрывавшихся от дождя: одна, встретившись со мной взглядом, улыбнулась. Должно быть, я тоже улыбнулся ей, потому что она взяла свой стакан, сказала что-то своим подружкам и подошла ко мне.
— Ты предсказываешь будущее? — спросила она.
— Нет, — коротко бросил я.
— Может, тогда ты индус?
— Нет, я, как и ты, уроженец Англии.
— Да? Тогда почему же ты… — Она указала на мою одежду.
— Был на званом ужине.
Сняв промокший тюрбан, я отпил свой бренди.
— Хочешь, я с тобой побуду?
Я взглянул на девушку. Она была довольно мила, но привлекательной я бы ни за что ее не назвал.
— Только не всерьез. Прости. Настроения нет.
— Тогда, может, просто посижу за компанию? — повела плечами она.
— И сколько стоит твоя компания?
Девушка села напротив, придвинула через стол мне свой стакан.
— Оплати мне стакан, и можешь бесплатно смотреть, как я буду пить. В такую ночь уж лучше сидеть здесь и пить пиво, чем искать клиентов снаружи.
Я махнул бармену и указал на оба наших стакана.
— Как тебя зовут? — спросил я свою собеседницу.
— Анна. А тебя?
Мне понравилась ее прямота.
— Роберт.
— С чего ты тут, Роберт?
— В каком смысле?
— Просто так в такую ночь человек без причины не станет выходить из дома.
— А! — Покончив с первым стаканом бренди, я взялся за другой. — Сегодня вечером я просил у отца своей девушки ее руки.
— Выходит, дело твое плохо?
Она вовсе не дура, эта Анна.
— Хуже не бывает, — кивнул я.
Она опустила мне руку на плечо:
— Купи-ка нам еще выпить, вот и расскажешь все толком.
Стоит ли говорить, что меньше чем через полчаса я имел ее в комнате на втором этаже, приставив к умывальнику, сжав руками ее крепкие, подрагивающие бедра; жаркими спазмами она дышала в раковину, я наблюдал свое отражение в зеркале.
Подходя к своим апартаментам, я заметил, как двое мужчин юркнули в подъезд. Я не придал этому значения, но едва вставил ключ в замочную скважину, как услышал шаги за спиной. Небольшой, твердый и довольно тяжелый предмет с силой бильярдного шара ударил мне в шею. Едва обернувшись, я был сражен наповал еще одним сильнейшим ударом в висок. Очутившись на полу я было подумал, не Пинкер ли подослал этих бандитов укоротить меня, но даже и в полусознательном состоянии понял, что такое маловероятно.
Один склонился надо мной. В его руке была маленькая дубинка.
— Не вздумай смыться отсюдова за кордон и долг свой зажать! — прошипел он.
Разумеется, даже такой большой, как у Линкера, дом был столь же общедоступен, как заведения на Трафальгар-сквер. Всякий мог подкупить слугу, чтоб сообщал, если случится что-то важное. Новость о моем конфузе перед отцом Эмили наверняка уже стала доступной для каждого заинтересованного лица в Лондоне.
— Вас Айк послал? Передайте ему, что я заплачу… — Тут до меня дошло, что заплатить я не смогу. —.. я займу у него завтра еще.
— Ты что, мудак? — фыркнул этот разбойник. — За каким хреном он тебе будет еще ссуживать?
— За те проценты, что я заплачу.
— Как же, жди, мать твою!
Он снова поднял дубинку. Небрежно, как пару перчаток. И глянул на меня лениво, выбирая, куда ударить. Удар пришелся мне в живот. Нестерпимая боль пронзила меня.
— Айк долг с тебя требует, — бросил бандит. — Весь, до последнего пенни. Дает всего неделю.
На следующее утро мне предстоял не более приятный допрос у Пинкера. Правда, обошлось без дубинки, просто потому, что в ней уже не было нужды.
К моему удивлению, когда меня провели в его кабинет, там также оказалась и Эмили Она стояла перед письменным столом, за которым сидел ее отец. После некоторого колебания я подошел и встал рядом с ней. Она не произнесла ни слова, но брови у нее выгнулись, едва она заметила синяк у меня на лбу.
— Мы с Эмили проговорили почти всю ночь, — сказал Пинкер, следя за мной из-под полуприкрытых век. — Выяснилось нечто, о чем, полагаю, вам следует узнать. — Он повернулся к дочери. — Скажи Эмили, влюблена ли ты в мистера Уоллиса?
— Нет, отец.
Ее слова тяжелым молотом разбили вдребезги все мои мечты.
— Давала ли ты ему когда-либо понять, что влюблена в него?
— Нет, отец.
— Хотела бы ты выйти за мистера Уоллиса замуж?
— Возможно, отец.
Я в изумлении взглянул на нее. Это был какой-то абсурд.
— Поясни, если сможешь, при каких обстоятельствах ты смогла бы стать его женой?
Эмили ответила не сразу:
— В Роберта я не влюблена, но мы с ним друзья, добрые друзья. Я думаю, что некоторые положительные задатки в нем есть, что он способный человек. Я думаю, что он готов совершать добрые поступки. Я бы хотела помочь ему в этом.
Последовали другие слова… и еще, и еще, сложенные в четкие фразы: ее восхитительные губы производили что-то наподобие некой речи. Она не нашла еще в жизни человека, которого смогла бы полюбить и желать от него взаимности; без замужества обойтись нельзя: вопрос лишь в том, какой брачный союз смог бы отвечать целям и чаяниям, близким ее душе, а также ее отцу. Мы с нею друг другу не безразличны, мы оба верим в Рациональный Брак, мы оба верим в величие гуманизма, мы оба не желаем укрыться в семейном гнездышке, «повергнув в холодное забвение все остальное, пусть прекрасное и мудрое». Мало того, Эмили знает, что мысль о нашем грядущем союзе смогла бы под держать и возвысить мой дух в предстоящие долгие годы труда, и в том она видит свой насущный вклад в развитие Цивилизации — который хоть, разумеется, невелик, но это то, что ей по силам.
В изумлении прослушал я всю эту возвышенную чушь. Эмили даже договорилась до того, что готова принести свою невинность в жертву ради моего Совершенствования, словно честь и достоинство — это бактерии, распространяющиеся, наподобие сифилиса, сексуальным путем.
— Отлично, — одобрил Пинкер. — А теперь, Эмили, оставь нас, пожалуйста, с Робертом наедине. Но, позволь, я замечу, что твои слова делают честь и тебе самой, и всему нашему семейству.
Эмили вышла, а он, достав из-за обшлага рукава платок, звучно высморкался.
— Вы слышали, что сказала Эмили, — произнес Пинкер, едва смог возобновить разговор. — Уверен, если вы любили ее до того, то теперь полюбите еще сильней, глубоко проникнувшись благородством ее чувств. Вам, молодой человек, весьма повезло. — Он помолчал. — Я уже готов в конце-то концов дать согласие на ваш с ней брак.
— Благодарю вас, — произнес я, пораженный.
— Но прежде вы должны достичь такого положения, чтобы суметь обеспечить ее хотя бы тысячью фунтов.
Это просто немыслимо, это совершенно нереально.
— Но… как же мне этого достичь? У меня совершенно нет никаких средств.
— В Африке, разумеется. Вы должны отправиться туда и заработать себе состояние.
Пинкер скупо изложил передо мной идею, как генерал объявляет младшему по званию, что тот должен отправиться на задание, сопряженное с определенной опасностью. Этот план явно вынашивался им уже давно; мое желание вступить в брак с его дочерью просто явилось неким препятствием, которое теперь было обращено на пользу дела.
Его плантации кофе на Цейлоне погибли и в ближайшее время будут засажены чаем. Его плантации в Индии начинают обходиться ему слишком дорого — сипаи затеяли восстание; даже начали поговаривать о независимости. Теперь на первое место выступает Африка. На территории протектората, в Уганде, в странах, пока еще безымянных, дальновидные и энергичные люди высаживают громадные кофейные рощи, которые в один прекрасный день смогут соперничать с плантациями на Суматре и в Бразилии. Понятно, началась гонка за лучшими землями — начало Большой Битвы, как окрестили ее газеты. Но он, Пинкер, сумел опередить других. Благодаря нашему Определителю и тайным знаниям Бертона он сумел установить, что наилучшие условия для произрастания кофе имеются в той части Абиссинии, которая известна под названием Каффа, на юго-западе от Харара. Эта земля на данный момент пока еще не приглянулась никому. У нее даже и других покупателей нет: у итальянцев здесь развернуться не вышло. Вот Пинкер у них эту землю и откупил.
— Откупили? Много ли?
— Пятьсот акров земли.
Я в изумлении смотрел на него. Такое громадное пространство земли немыслимо было себе представить.
— Разумеется, всю землю не надо полностью засаживать, — сказал Пинкер, помахивая в воздухе рукой. — Просто я подстраховался от конкуренции в будущем.
— Это же площадь размером с Лондон, — проговорил я.
— Совершенно верно! — Пинкер даже подпрыгнул, потирая ладони. — И вы ее правитель… или, точнее сказать, регент. Вы, Уоллис, войдете в историю. Как человек, внесший цивилизацию в Каффу.
И это, разумеется, было еще не все. С Линкером всякое дело имело развитие. Меня посылали в Африку не просто выращивать там кофе. А с миссией.
— Торговой Миссией, если хотите. Ибо самые ценные семена, которые посеете вы, будут невидимы глазу. Когда местные обнаружат, чего вы достигли при помощи современных средств цивилизации… когда обнаружат то, как вы себя поставили и то, что вы достойным образом управляете ими, как и своим поведением, воплощая принципы свободной торговли и честных отношений; когда они обнаружат чудеса, приносимые преуспеванием, — то, я верю в это, Роберт, они обратятся к Господу, подобно тому, как ростки тянутся к солнцу. Некоторые утверждают, будто надо изменить мышление дикарей прежде, чем мы сумеем побудить их поменять веру. Я говорю: прежде всего, надо предпринять определенные шаги, а именно — изменить плачевные условия, в которых существуют аборигены. Подай милостыню варвару, и он останется варваром, милостыня же вскоре иссякнет. Но стоит предоставить ему контракт о найме, и ты укажешь ему дорогу в Царствие Небесное…
— Но как я попаду в те края? — спросил я, мысленно уже блуждая по дорогам.
— На верблюде, скорее всего, — со вздохом ответил Линкер. — От побережья вглубь проложен торговый путь.
— А что я буду делать, ожидая, пока кофе вырастет? Как я понимаю, это продлится четыре года или даже пять лет.
Господи, четыре года, думал я при этом… Меня ушлют туда на четыре года.
— Будете так или иначе как торговый агент Линкера заниматься торговлей в той части Африки. Ведь никто не разбирается в Определителе лучше вас. Я устрою, чтоб вы действовали под патронажем одного местного купца… вы, должно быть, видели его клеймо на одном из мешков нашего «мокка».
Пинкер вытянул с полки за спиной листочек бумаги, положил на стол.
Вверху я увидел тот самый арабский знак, что обнаружил на мешках с харарским кофе:

— Его зовут Ибрагим Бей, — продолжал Пинкер. — Человек значительный — многие поколения его семьи были купцами. А сопроводит вас до самого места Гектор, поможет выбрать подходящее место для фермы, нанять десятника и тому подобное. Потом он отправится в Индию. В случае вашего успеха, в котором я не сомневаюсь, вы по возвращении получите и руку моей дочери, и мое благословение. — Он посерьезнел: — Само собой разумеется, вплоть до той поры никто ничего об этом не должен знать. Пусть все остается между нами — это вам испытание; вот вам шанс показать, на что вы способны. — Снова внезапно лицо его прояснилось: — Все теперь зависит только от вас, Роберт. Остается нажить состояние, завоевать прекрасную даму, войти в историю. Как я вам завидую!
Дорога смерти
Характер запаха зависит, прежде всего, от степени обжаренности зеленых бобов, —
Судно «Баттула»
8 июня 1897 г.
Моя дорогая Эмили!
Пишу Вам с борта отличного судна «Баттула», которое в данный момент уверенно проходит вдоль северного побережья Египта. Пять дней тому назад мы зашли в порт Генуи, чтобы запастись провиантом. Мы стояли в порту недолго, но какое счастье было повидать наконец Италию и ступить на твердый берег после столь длительного морского путешествия! Мой план — пуститься в глубь материка, повидать Венецию, столь чудесно описанную Рескином, и потом воссоединиться с Гектором в Суэце, — оказался, как Вы и предсказывали, неосуществимым. Похоже, приходится очень спешить, чтобы опередить наступление сезона дождей, к тому же Гектору не терпится поскорей разбить плантацию и запустить в ход дела именно в этом, а не в будущем году. (В ответ на мое заверение, что мой зонт упакован в моем багаже и дождь меня не слишком страшит, со стороны Гектора последовал очередной тяжкий вздох. Как видно, мне предстоит многому научиться, вернее «наушиса», — сообщаю, увы, что его выговор при более тесном общении не стал мне более понятен.)
Каждый вечер мы ужинаем за столом в каюте капитана. Нас всего шестнадцать, включая капитана и его первого помощника. Гектор преисполнен нежности к морской тематике и способен часами с серьезнейшим выражением лица обсуждать всякие норд-весты, спинакеры, трюмы и прочие чисто мужские темы. Еще есть среди нас пара миссионеров, предназначенных для Судана; четверо парней, собирающихся открыть в Момбасе свое дело по добыче слоновой кости и не менее полудюжины дам, устремленных в Индию навестить родственников.
Будучи единственным среди нас осведомленным лицом в смысле мест нашего назначения, Гектор весьма и весьма востребован как авторитетная личность и разрешает многие споры кратким, но вполне определенным высказыванием по столь различным вопросам, как, например, какой головной убор приемлем при посещении мечети или необходимо ли белому человеку в джунглях иметь при себе пистолет. Милая Эмили, я не забыл о данном Вам на прощанье обещании, хотя порой так и хочется хотя бы чуть-чуть Гектора поддеть. Думаю, однако, наши миссионеры бы Вам понравились — они абсолютно соответствуют идее Вашего отца о том, что мы должны непременно приобщить варваров и к коммерции, и к христианской вере. Один из миссионеров осведомился, не собираюсь ли я построить на моей плантации церковь! Должен признаться, эта мысль мне прежде в голову не приходила, но, полагаю, что в свое время, возможно, я церковь и построю. И еще, пожалуй, театр, для культурного развития.
В свое время… Пишу эти слова и сознаю, как долго должен я пробыть на чужбине. Пробыть вдали от Вас почти пять лет, должно быть, очень нелегко. Разумеется, я не сетую, — Вы абсолютно правы, наш долг не утрачивать бодрости духа, — тем более, что по истечении срока Вы станете моей женой. Как замечательно видеть в Вас мою сподвижницу в великой задаче спасения Африки, а быть физически рядом, вместе, в конечном счете, как Вы пишете, не так важно, как ощущать общность мысли и цели.
Ну а теперь я, пожалуй, оставлю Вас, так как пора переодеваться к ужину. Мне не часто приходится надевать свой костюм из альпаки — мы пока еще, по существу, не достигли тропиков, хотя днем довольно тепло, и наш капитан ярый приверженец протокола. В первый вечер я появился в моем зеленом жилете и был отведен в сторону, выслушав «некоторый совет» насчет «необходимости придерживаться надлежащего вида в иноземном климате». Я попытался объяснить, что теперь в утонченных сферах вечерний костюм с белым галстуком считается несколько старомодным, но безуспешно.
С искренней любовью, Ваш будущий супруг,
Борт судна «Баттула»
«Северный Полюс»,
12 июня 1897 г.
Дорогой Лягушонок!
Ну, вот я и на Северном полюсе! Признаться, полюс этот выглядит довольно забавно, поскольку с трех сторон окружен теплым синим морем, а с южной стороны уже видятся очертания побережья Египта и на горизонте проступают единичные пальмы. Но Гектор дал мне поупражняться с сектантом и теодолитом, чтоб уметь определять наше местонахождение, и так как по моему сектанту выходит, что мы находимся на Северном полюсе, стало быть, на Северном полюсе мы и есть. Я изумил своих спутников по путешествию, попытавшись заговорить с ними по-польски — точнее по-северополюсски, — но отклика пока не встретил.
Ты спросишь, зачем человеку нужно точно знать, где он находится? Отличный вопрос, мой пытливый Лягушонок, как раз его я и сам задал Гектору. Похоже, что скоро мы будем жить в Лесу. Более того, Лес этот — отнюдь не прелестный английский ракитник или старательно ухоженная магнолиевая роща, ни даже заросли колючей ежевики, а куда более громадная и зловещая разновидность Леса, в котором человеку ничего не стоит заблудиться. А когда придет пора сажать наш Кофе, очень важно, как поведал мне Гектор, сажать его абсолютно ровными Рядами, чтобы все могли видеть, какая стройная и ладная у Белого Человека его Плантация и к тому же так удобней ее инспектировать. Я уже считаю себя вполне способным Инспектором — в данный момент я инспектирую внушительный стакан виски с содовой, — хотя, вероятней всего, я Ветреный Египец, или, быть может, Вертлявый Египиц, как точно — не вспомню.
Мой милый Лягушонок, не могла бы ты оказать мне услугу? Взгляни-ка в своем словарике слово «гектозвон» и сообщи своей сестре его значение. Однако не говори, что я тебя на него навел. Привет,
Отель-пансион «Коллос»
Александрия,
20 июня 1897 г.
Мой дорогой Хант,
Наконец-то мы высадились на берег! Плаванье оказалось в высшей степени утомительным, бесспорно усугубляясь еще и тем, что оказалось совершенно лишенным женского общества. Вернее, надлежащего женского общества, так как на борту, признаться, присутствовал довольно солидный груз всяких квочек, направлявшихся в Индию с единственной целью обрести себе там мужа. Одна из них даже попыталась заигрывать с Гектором, что свидетельствует о крайней степени ее безысходности. Недавно он вскользь поведал мне, что надумал однажды жениться, но решил, что женитьба «несовместима с жизнью путешественника и скитальца». Я сдержался, чтобы не заметить ему: если б не женитьба, мне бы нашлась постелька хотя бы в «Кафе Руайяль».
Принимая во внимание, что скоро мои возможности в этом направлении будут ограничены, едва мы оказались на берегу, я улизнул от Гектора и отправился на поиски публичного дома. Впечатление весьма яркое: здесь главное — танец: выходит самая красивая в заведении девица и танцует перед тобой, а ты, откинувшись на подушках, куришь наргиле, представляющее собой трубку с табаком, дым которого с бульканьем фильтруется через какую-то жидкость с ароматом яблока. На голове у танцующей передо мной девицы была сеточка из золотых пиастров в виде шлема, и эти скрепленные цепочками металлические диски с каждым изгибом ее тела звякали, переливаясь. В начале пляски она была одета, но вскоре, развязав свой кушак, она спустила его ниже и подвязала совсем низко. «Танец» состоял исключительно из поочередных вздыманий повернутых ребром ладоней ко лбу с одновременным подрагиванием и покручиванием пупка, имитирующими половой акт. Зрелище оказалось на редкость возбуждающим, так что к окончанию ее танца мой член восстал как железный штырь. Тотчас передо мной выстроился целый женский парад. В основном разновидности пышных форм — танцорку явно выбрали за ее внешний вид и артистические способности, ну a poules de lux при их мощных возможностях были предназначены для спальни. Я настоял на танцорке, что вызвало немалое веселье — по-видимому, мой выбор был воспринят как типичная неопытность. Короче говоря, отправились мы наверх, в комнату, убранную ткаными шелками, с окном, распахнутым навстречу ночной прохладе и уличному людскому гаму внизу. Прежде чем нам лечь в постель, девица согнала с нее выводок котят, затем нагнулась над серебряным тазом, чтобы омыться. Моя первая темнокожая женщина. Как оказалось, аккуратно подбритая. Думается, в сравнении с лондонскими, эта отличается приятной гибкостью, хотя и несколько суховата.
Если вздумаешь мне написать, лучше всего пошли письмо в Аден. Я буду там через две недели — здесь нам приходится ждать корабль из Суэца, и эта задержка ужасно огорчает моих товарищей по путешествию, а меня почему-то в меньшей степени.
Всего хорошего,
Отель-пансион «Коллос»
Александрия,
27 июня 1897 г.
Милый Лягушонок!
Привет! Со стихотворчеством вполне знаком,
Пишу письмо «александрийским» я стихом.
В дальнейшем я этого делать вовсе не собираюсь — александрийский стих довольно труден и тяжел для письма. А сегодня выдумывать рифмы у меня нет сил: стоит жуткая жара.
Жил-был старичок из Перу,
Не слишком способный к перу.
Расскажу-ка я тебе лучше про Александрию. Мы пристали ранним утром в пятницу, как раз когда муэдзин призывал верующих к молитве. Все пассажиры, едва стало светать, вышли на палубу взглянуть на город. Сразу перед нами чернильно-синее море и робко разгорающийся свет над горизонтом. Светлеет небо… оранжево розовеет мгла африканского рассвета… величественные башни и минареты; дворцы с окнами луковичной формы… Как вдруг все небо озаряется буйным светом, это солнце громадным парусом полыхнуло над нашими головами, и огромный белый город Востока медленно поплыл перед носом нашего корабля. Когда мы вплывали в гавань, чернокожие мальчишки гурьбой прыгали в воду за шестипенсовиками, которые мы бросали за борт. Наш трап моментально окружили десятки вислогубых, клокочущих и плюющихся верблюдов, которых хлестали по головам орущие арабские джентльмены в длинных белых одеждах. Большинство женщин здесь носят чадру, но на этом и заканчиваются их представления о скромности. Здесь выставлять женщинам напоказ грудь не более предосудительно, чем у нас ходить с непокрытой головой.
Сегодня видел человека, проткнувшего себе торс железными пиками; кончик каждой он увенчал апельсином, но для того ли, чтоб никто другой случайно не поранился, или для личного удобства, чтоб потом было чем перекусить, осталось для меня загадкой.
С сердечным приветом,
Твой будущий зять,
Отель-пансион «Коллос»
Александрия,
28 июня, 1897 г.
Дорогой мистер Пинкер,
пишу Вам этот предварительный отчет из Александрии, где мы ожидаем очередного этапа нашего передвижения. Я занимаюсь тем, что дегустирую различные сорта кофе и одновременно испытываю эффективность Определителя. Местные бобы преимущественно сорта «арабика», хотя на хороших базарах имеется небольшое количество африканского «лонгберри». Последнего я накупил столько, сколько сумел отыскать, так как этот кофе превосходного качества. По большей части кофе, продающийся здесь, хорош, хотя каждый местный купец, похоже, придерживает некоторое количество кофе более низкого качества с единственной целью облапошить приезжих европейцев. Интерес к «наилучшему из имеющихся сортов» сопровождается пространной пантомимой, при этом магазин или лавку, многократно оглядываясь по сторонам, запирают, как бы из боязни, что о происходящем узнает конкурент. После чего отмыкают кладовую, из дальнего угла вытягивают мешок и с большой помпой его раскрывают. Пригоршня бобов подается мне на серебряном подносе, чтоб оценил, — но только после того, как продавец сам, прикрыв в полном восторге глаза, обнюхает их и на корявом французском провозгласит, что эта драгоценная горсть дороже ему собственных детей. Затем он предоставляет мне возможность испробовать кофе, который готовит, как правило, его подручный. Никаких распоряжений не получая, этот слуга знает в точности, что надо делать: пусть зерна своим видом напоминают тухлый крысиный помет и воняют так, будто только что подняты с грязного пола, — но кофе, подаваемый мне в чашке через несколько минут, имеет вкус самого лучшего йеменского кофе, каковым он и в самом деле является. Все это время торговец не переставая беседует со мной, расспрашивает о моем путешествии, о семье, откуда я прибыл и тому подобное, обихаживая меня, словно старого приятеля после долгой разлуки. Но, заслышав обвинение в том, что зерна и кофе имеют различное происхождение, напускает на себя крайне обиженный вид, меня же и обвиняя в том, что я его глубоко оскорбил. Один купец разыграл спектакль, будто сам «обнаружил», что слуга подменил мешки, и за это щедро огрел последнего по голове дубинкой! Непостижимая загадка, зачем они так упорно разыгрывают подобное представление, ведь есть же у них вполне достаточное количество отличнейшего кофе «мокка». Эта попытка обдурить Белого Человека сделалась у местных чуть ли не ритуалом.
Определитель уже подтвердил свою полезность. Здесь вас окружает такой сонм незнакомых ароматов, вкусов и прочих ощущений, что ничего не стоит позабыть, скажем, простейший вкус свежего яблока. Вчера я обнаружил на базаре крупную партию «мокка», который и испробовал у себя в гостинице. Отдает черникой, кедром и дымом торфяников. Я заказал три английских центнера. Еще я занят поисками того самого удивительного кофе, который мы с вами испробовали в Лаймхаусе, хотя пока нюхом не улавливаю направление поиска.
С сердечным приветом,
Ваш будущий зять,
Борт судна «Руталэн»
30 июня, 1897 г.
Милая моя, любимая Эмили!
Ваше письмо застало меня как раз накануне нашего отбытия из Александрии. Уверяю Вас, Ваши призывы излишни: с Гектором я исключительно обходителен. Не далее как вчера вечером за ужином я развлекал его, декламируя детские стишки с шотландским выговором. А за день до отплытия из Александрии я составил ему компанию в охотничьей вылазке в местную глушь — мы стреляли бакланов и куликов-сорок, подкрепляясь финиками, купленными у бедуинов. Едва мы отправились назад на своих верблюдах, мимо нас на осле протрусил араб, ноги которого едва не тащились по земле. Он приветствовал нас на своем языке. С прискорбием замечу, что Гектор был так уязвлен тем, что его обогнали, что попытался пустить своего верблюда вскачь, свалился, и нашим носильщикам пришлось его поднимать и водружать обратно. Прошу Вас отметить, насколько примерно я себя повел — ни разу не рассмеялся, при всем том, что наши спутники, которым я за ужином в отеле поведал эту историю, сочли ее весьма забавной.
Ах, да, винюсь перед Вами за свое письмо Лягушонку. Обещаю впредь не поминать обнаженную женскую грудь. Соглашусь, что это вышло не слишком деликатно, но если б вы видели, с какой непосредственностью обнажается местный люд, то поняли бы, что я просто не придал своим словам особого значения.
Ну, а теперь мы вновь на борту судна, которое движется по Суэцкому каналу. Один из наших новых спутников — журналист по имени Кингстон. Он отлично изобразил нас в своих заметках, как «носителей просвещения и цивилизации, пламенем свечей своих стремящихся осветить африканскую тьму». Далее он пишет: «пусть иные свечи мерцают слабо, а иные затухнут, но другие подхватят этот свет и станут величайшими путеводными звездами, освещая тьму, в которой погрязло ныне здешнее варварское население». Полагаю, он отправил эти строки в «Телеграф».
Кстати о тьме. Я наблюдаю здесь изумительные рассветы. Каждое утро небо расцвечивается красками цветущей английской живой изгороди: нежно-розовым цветом примул и желтым нарциссов. С первым лучом солнца все цвета мгновенно выгорают; все вокруг становится белым, и вскоре единственными красками остается яркий изумруд воды и серебристая синева неба. Свет так ослепителен, что режет глаза. Гектор стал носить козырек для защиты глаз, что делает его похожим на нахохлившегося попугая.
Ах, как было бы прекрасно, если б Вы оказались здесь. Хотя я счастлив уже и одной мыслью о Вас. Любовь к Вам будет мне опорой все долгие предстоящие годы.
Вечно любящий Вас,
Гранд-отель «Делюнивер»,
Аллея Принца Уэльского.
Аден
2 июля, 1897 г.
Дорогой мистер Линкер!
Я познакомился, как вы и советовали, с местными аденскими оптовыми торговцами кофе. У «Братьев Биненфельд» оказался отличнейший товар: один наиболее впечатливший меня сорт я оценил по типу: аром. — 1, букет — 4, № 4: некрепкий «мокка», мелкозернистый, цвета красного дерева после обжарки, с нотками черники и лайма при минимальной кислотности. В целом я оценил его на пять баллов. Закупил весь имевшийся у них запас и заказал самую срочную доставку.
Непременно встречусь с Ибрагимом Беем. Среди местных купцов он имеет репутацию человека весьма уважаемого, хотя до меня дошли слухи, что дела у него по неустановленной причине несколько пошатнулись. В настоящий момент он отъехал по торговым делам куда-то в глубь материка. Мы сможем пересечься с ним, когда через залив отправимся на африканское побережье в Зейлу.
С наилучшими пожеланиями,
Гранд-отель «Делюнивер»,
Аллея Принца Уэльского.
Аден
2 июля, 1897 г.
Дорогой Хант!
Ты поймешь по адресу, что я прибыл в отель «Делюнивер», что, вероятно, вызывает в воображении прелестный дворец посреди волнистых лужаек. В таком случае, извлеки свой атлас. Аден — это крохотный прыщик на правой ягодице Аравии, а местный Гранд-отель не что иное, как кишащая тараканами дыра. Честно говоря, это совершенно проклятое место — кругом одни вулканические скалы в пространстве, расположенном на уровне моря, но совершенно недоступном морским ветрам, однако полностью открытом палящему солнечному зною. Сейчас даже не самое жаркое время года, а столбик термометра продолжает ежедневно подниматься до 130 градусов. Ни травинки вокруг, ни единой пальмы среди всей этой чертовой местности.
Посмотрим правде в глаза: англичане здесь лишь потому, что это промежуточный пункт между Африкой, Индией, Австралией и домом — что-то вроде военно-торгового перевалочного пункта акционерного общества «Британская Империя». По-существу, здесь никто не живет, хотя некоторые будут уверять вас, будто «обосновались» здесь уже не один год тому назад. В большинстве своем здесь люд проезжий — как и твой покорный слуга. Чем скорей я выберусь из этого пекла, тем лучше для меня. Даже местные зовут свой залив «Баб-эль-Мандеб» — «Ворота слез».
Признаться, друг мой, я в данный момент нахожусь в затруднительном положении. С одной стороны, я рассчитываю, что все это путешествие вкупе с жизненным опытом каким-то образом когда-нибудь окажется полезным для моего творчества. С другой, мне до сих пор как-то не верится, что я внезапно превратился в некого буржуа, ведь я вечно клялся, что ни при каких обстоятельствах им не стану. Похоже, в данный момент я обрел все трудности и невзгоды семейной жизни и службы, еще не испытав благ домашнего уюта и материальной обеспеченности, ему сопутствующей! Смогу ли я когда-либо стать настоящим художником, если застряну в поганых и вонючих джунглях, вот в чем вопрос. От этой мысли буквально хочется рыдать. Если б отсюда было куда сбежать, думаю, что скорее всего я так бы и сделал. Но, как, вероятно, выразился бы мой будущий тесть (а, по сути, главный тюремщик): отсюда «нет пути назад».
Твой — попавший в беду
Борт судна «Карлотта»
Зейла-крик
Африка!
7 июля 1897 г.
Дорогой Морган!
Благодарю тебя за твое письмо, которое застало меня в Адене. Слава Богу, мы покинули наконец эту преисподнюю на маленьком, не больше жестянки из-под печенья, пароходе. Мы с большими трудами погрузили свой багаж на борт — накопилось весьма немало для более чем трех десятков носильщиков, а именно:
• рыболовные крючки, бусы, нюхательный табак для раздачи;
• гвозди для строительства моего бунгало;
• винтовка «ремингтон», чтоб стрелять дичь мне на обед;
• шесть бутылок пива, чем сдабривать вышеозначенный обед, что по моим подсчетам означает по одной с четвертью бутылке в год;
• бутылка шотландского виски «Бейли» для экстренных случаев;
• заряжающийся газом сифон для содовой, аналогично;
• деревянное сиденье для туалета;
• белый галстук и фрак на забаву заморской знати.
• Кума, наш повар. Кума — славный парень, он явился с рекомендательным письмом капитана Томпсона из Бенгалии, который пишет: «Малый этот не из храбрецов и не стоит ожидать, что он подхватит ваше второе ружье, если зверь, в которого вы целитесь, одновременно нацелился, чтоб ринуться на вас, однако ему не откажешь в умении по окончании дневного похода вовремя подать вам горячую пищу. Иногда, подозреваю, что он у меня подворовывает, что он постоянно отрицает. Полагаю, двадцати пяти ударов кнутом достаточно, чтоб исчерпать эту проблему. Прошу вас не платить ему более доллара в месяц и, если необходимость в нем отпадет, оставьте его в Адене, так как примерно через год я надеюсь вернуться ради очередного сафари». К слову, «малому» этому лет эдак около сорока. На материк возвращаться он совершенно не настроен, так как там, заявляет он хмуро, «полно дикарей, сэ-э»;
• моя библиотека. Она состоит из «Ренессанса» Патера, томика с названием «Кофе: выращивание с пользой», который, как утверждает Гектор, содержит все, что необходимо знать об этой восхитительной культуре; авторский оригинал «Как важно быть серьезным», шесть чистых карманных записных книжек, «Желтая книга за апрель 1897 года», «Подсказки путешественникам» Фрэнсиса Голтона. Из последнего я почерпнул, что: «Молодой человек отличного телосложения, вынужденный отправиться в предприятие, одобренное опытными путешественниками, не слишком рискует. Дикари редко убивают вновь прибывающих; они пугаются их ружей, испытывая суеверный страх перед мощью белого человека; им требуется время, чтобы понять, что он такой же человек, как и они, чтобы быстро с ним покончить». Как это замечательно, что я пробуду здесь всего пять лет. Есть у меня также книжка, изданная Обществом пропагандистов христианского вероучения под названием «Повседневные словесные выражения Восточной Африки», содержащая, например, такое: «Шестеро пьяных европейцев прибили повара», «У тебя мозгов не больше, чем у козла», и «Почему этот труп до сих пор не захоронен?»;
• корзина с кирками, лопатами, топорами, измерительными линейками, мерными веревками и прочим загадочным сельским инвентарем;
• добротный сундучок для казны с висячим замком, содержащий восемьсот долларов. Это австро-венгерские доллары с изображением покойной императрицы Марии-Терезии, которые по непонятной причине сделались повсюду расхожей валютой; возможно потому, что каждый величиной буквально с небольшую серебряную тарелку. Среди британцев также в ходу и рупии; правда, местный люд порой ропщет, не желая их брать, так как никакой особой ценности рупии нигде, кроме Индии, не представляют;
• два альпаковых охотничьих костюма от «Симпсона» и громадное количество панталон, как длинных, так и коротких, из фланели, которая считается наиболее гигиеничным для жаркого климата материалом. И, разумеется, мой красный бархатный смокинг;
• аптечный сундучок. Был укомплектован в соответствии с инструкциями Голтона и содержит немало предметов, совершенно для меня загадочного свойства, как-то: 1. Рвотное от яда; 2. Варбургские капли от инфекций; 3. Дуврский потогонный порошок; 4. Хлородин для ран; 5. «один большой моток свинцового пластыря» — совершенно не представляю, зачем, Голтон также разъяснений не дает; 6. Ляпис в банке «смазывать старые болячки и от укусов змей»; 7. Иголки, для зашивания глубоких ран; 8. Вощаная нить, для того же; 9. Мягкий шипучий апериент[33] Мокстона и 10. громадная бутыль Препарата лауданума[34] Колдуэла (сильной концентрации) для случаев, когда прочие средства (в том числе и фланелевые брюки) окажутся бесполезными;
• двенадцать маленьких прелестнейших кофейных чашечек «Веджвуд» из глянцевитого прочного английского фарфора, подарок — не насмешка ли? — от будущего тестя;
• Гектор, который, следует отметить, чем ближе к экватору, тем становится заметно оживленней. Расхаживает, по-хозяйски, все устраивая, покрикивая на туземцев и составляя реестры. Меня мутит от одного его вида.
Боже мой, что я тут делаю? Куда подевались красота, и истина, и рассуждения об удивительных вещах? Иногда мне чудится, вот я проснусь, и все это окажется каким-то ужасным сном.
Единственным утешением являются здешние закаты, ничего более великолепного я в жизни не видал. Сначала сквозь полосу мглы, покрывающей, точно калькой, мангровые рощи, всходит луна: кроваво-оранжевый шар, который, вздымаясь, будто меняет свои очертания, принимая более вытянутую форму по мере отделения от своего отражения в масляно-черных водах реки. С противоположной стороны солнце погружается во мглу, касаясь воды и взрываясь пламенем. Золотые, аметистовые, карминные и фиолетовые всполохи озаряют небо, но вот и они погружаются во тьму, остается лишь сверкающе-морозный свет луны да кромешная болотная тьма… Ох, и мириады крошечных летучих существ, налетающих вмиг и с кровожадностью пираний впивающихся в кожу. Привет тебе,
?
??
???
????
Милый Лягушонок!
Ты заметишь, что это письмо не имеет обратного адреса: это потому, что мы сейчас в Нигде. Нигде — это где все с ног на голову деревья преспокойно растут в воде, так же, как и на суше; в то время как рыбы позабыли, что по природе они подводные обитатели, и скачут поверх набегающих на берег волн, возможно, спасаясь от крокодилов, которые в воде проводят больше времени, чем эти рыбы.
Наш кораблик — не более двадцати футов от латунного носа до кормы красного дерева. Мы трапезничаем на палубе под чем-то наподобие тента, вместе с капитаном и его помощником — он русский. Продвигаемся медленно: пыхтим против течения по широкой, шоколадного цвета, мутной от ила реке, которая будто и не течет вовсе, но время от времени выстреливает из глубин бревном, которое с дикой скоростью устремляется к морю. Иногда мы проплываем мимо деревни, и тогда туземцы высыпают на берег и таращатся на нас. Можешь передать Аде, что, если хочет выйти замуж, то ей ни в коем случае не следует скалывать волосы на затылке. Здесь в этих целях принято выбивать себе парочку передних зубов, мазать бритую голову ярко-желтой краской и раскаленным ножом изрезывать зигзагами свой лоб. Только в этом случае вас признают красавицей и будут всегда приглашать танцевать. Пляски тут каждый вечер под веселое рам-пам-пам, вовсе не чуждое Вагнеру. У всех детишек здесь громадные животы, как будто накачанные насосом.
Что касается меня, то я в настоящее время стал совершенно похожим на араба — перед отплытием из Адена меня постриг местный парикмахер. Теперь я полностью обстрижен, не считая единственного завитка на затылке, за который и возденет меня кверху Мухаммед в Судный День. Глядя на меня, Гектор вздыхает и говорит мне: «голова-садова». Что, несомненно, так и есть.
Головосадово твой,
Абу Валли (Так завет меня Кума! По-арабски, наверное, это значит «масса Уоллис»).
Зейла
Июль
Моя милая Эмили,
Не могу передать, как я скучаю без Вас. Пять лет такой долгий срок: стоит вспомнить то краткое время, что мы были вместе, те невинные часы, которые мы проводили за чашечками кофе в конторе Вашего отца, и они мне уже кажутся иной жизнью. Вспомните ли Вы меня через полдесятилетия? Будет ли нам тогда, как прежде, весело вместе? Простите мне мой унылый тон, просто здесь все, что было в Лондоне, воспринимается как сон — смутный, далекий сон. Иногда я даже начинаю сомневаться, вернусь ли когда-нибудь назад… Да-да, вы наставляли меня быть оптимистом, но, поверьте, порой почти невозможно не впадать в тоску.
Эти мрачные мысли, наверное, частично навеяны неприятным случаем, происшедшим, когда мы сходили на берег. Здесь в порту всего одна пристань, она очень шаткая, и когда мы выгружали наш багаж, одна корзина каким-то образом угодила в воду. В ней были мои книги, мое лучшее платье, а также веджвудовские чашечки, подаренные мне Вашим отцом. Книги просохли, хотя некоторые страницы и слиплись. Одежде, однако, суровей пришлось в этом испытании: все бархатное теперь источает явный запах плесени. Но что поразительно: разбилось всего шесть чашечек — я пытаюсь усмотреть в этом добрый знак.
Сегодня открывал бутылочки образцов из Определителя, вдыхая некоторые ароматы, которые сильнее напоминают о доме — запахи яблок, пряников, чайной розы и лесных орехов… Потом попытался смешать, чтоб получился аромат, напоминающий Вас, — тот самый «Жики»,[35] которым вы иногда душились: смесь лаванды, розмарина и бергамота. Это привело меня, признаюсь, в сильное волнение. Несколько минут я прорыдал, как дитя.
Моя милая Эмили, прошу, позвольте мне потосковать по Вам. Надеюсь, к завтрашнему дню я приободрюсь.
Любящий Вас,
«Мягкий» — запах нежно и приятно воздействующий на чувства.
Эмили сидит за письменным столом и переносит цифры с толстой кипы чеков в гроссбух. У нее перед глазами убедительные свидетельства явной пользы Определителя. Компания «Линкер» закупает больше высококачественных сортов кофе, чем прежде, — главным образом «маракайбо» и «мокка». Многие сорта из местностей, прежде считавшихся предпочтительными, оказались весьма посредственными: ямайкский «блу маунтин» на самом деле некрепок и водянист, ну а «муссонный малабар», так высоко чтимый многими знатоками, на удивление вонюч. Напротив, в других местностях объявились истинные перлы: а именно, на Антигуа и в Гватемале, — с нотками дыма, пряностей, цветов и шоколада, с таким ярким, живым привкусом…
Эмили хмурит лоб. Наряду с отличным кофе, который «Линкер» закупает в таких количествах, все-таки еще довольно много и низкопробного, особенно африканского «либерика», самого дешевого, тяжелого, густого, без запаха, с дегтярным привкусом и без малейшего намека на кислинку. Что говорить, теперь рынок им буквально завален: ни один уважающий себя торговец не будет набирать его про запас, если только…
Отец показывает свой склад какому-то гостю: это элегантно одетый мужчина с быстрым взглядом и приятной улыбкой.
— А, Эмили, вот ты где. Брюэр, позвольте представить вам мою дочь!
Мужчина делает шаг навстречу, пожимает ей руку:
— Весьма рад познакомиться, мисс Пинкер! Кажется, у нас с вами есть общая знакомая — Миллисент Фосетт.
Эмили удивлена, даже приятно поражена:
— Я не слишком близко знакома с миссис Фосетт. Но я член ее общества и большая ее поклонница.
— Мистер Брюэр — член Парламента от округа Илинг, — поясняет Пинкер. — Он, как и я, питает особый интерес к свободной торговле.
Она взглядывает на гостя с еще большим интересом:
— Вы либерал?
— Несомненно! И хотя мы в данный момент оказались вне правительства, у меня нет сомнений, что с помощью прогрессивно мыслящих людей, подобно вашему отцу, — Пинкер склоняет голову как бы в подтверждение слов молодого человека, — в скором времени мы вновь получим поддержку избирателей. Нашим девизом станет Свобода с большой буквы — свобода мыслить, свобода тратить деньги по собственному разумению, свобода вести бизнес без вмешательства правительства.
— Перемены и Прогресс! — подхватывает Линкер. — Другого пути нет.
— Является ли ваша партия также и поборницей свободы для женщин?
Гость утвердительно кивает:
— Как вам известно, за последние пять лет ежегодно вносится на рассмотрение проект закона о равном избирательном праве и ежегодно тори удается оттягивать голосование. Мы намерены покончить с подобным злоупотреблением процессуальными нормами.
— Однако сначала главное, не так ли, Брюэр? — вставляет Пинкер. — Свободная Торговля, а потом социальные проблемы.
Добродушный взгляд Брюэра направлен на Эмили. На мгновение между ними будто вспыхивает легкая смешинка — возможно, взаимопонимание: что ж, так устроен мир: путь к идеалу надо осуществлять шаг за шагом.
— Прежде всего, мы должны попасть в правительство, — подтверждает Брюэр, но теперь обращается он скорее к ней, а не к ее отцу. — И для этого нам необходима поддержка деловых людей. Поэтому — прежде всего Свободная Торговля. Лишенные избирательных прав по положению своему не в силах помочь нам обрести власть, которую мы употребим на их благо.
Они остановились у двери на улицу. Экскурсия Брюэра явно приближается к концу, отцу не терпится приниматься за дальнейшие дела, но Эмили и член Парламента медлят.
— Быть может, мы еще вернемся к этой дискуссии, — произносит он.
— С радостью, — подхватывает она. — С большой радостью.
И многозначительно смотрит на отца.
— Что? Ах, да… вы должны, Артур, пожаловать к нам на ужин. Нам все-таки о многом еще следует побеседовать.
— Так ты собираешься финансировать либералов? — спрашивает Эмили отца после того, как член Парламента уходит.
— Собираюсь. Похоже, это единственный способ заполучить некое влияние. Да и им, чтоб обойти тори, необходимы средства. — Отец резко поворачивается к дочери: — Ты одобряешь?
— По-моему, идея великолепна. Только зачем нам влияние?
Отец кривится:
— Ну, есть основания подозревать, что… Хоуэлл присоединил свои плантации к синдикату. Теперь он частично монополист. Даже с нашим Определителем конкурировать с ним невозможно.
— И твой мистер Брюэр способен помочь?
— Либеральное правительство, как и мы, не потерпит, чтобы рынком заправляла кучка богачей и чужие правительства.
— Каким же образом они положат этому конец?
— Если понадобится, посредством закона. А в обозримое время… — Линкер многозначительно смотрит на дочь, зная, что та поймет всю важность того, что он сейчас ей скажет. — …мистер Брюэр считает, что они смогут нам помочь порушить картели.
— В самом деле?
— Именно к Свободной Торговле они стремятся, они уже разрабатывают пути проникновения в ключевые комитеты и установления дипломатических связей с соседями Бразилии.
— Похоже, воды утечет немало, не на одну чашку ароматного кофе, — вздыхает Эмили.
— Верно, — соглашается отец. — Но, полагаю, всякое дело делается не вдруг, от малого к большому.
Тут она вспоминает, что пришла с вопросом:
— Имеет ли все это отношение к дешевому либерийскому кофе, который мы покупаем?
— А! — Линкер кивает. — В некотором смысле, имеет. Давай-ка пройдем в контору.
Проходит полчаса, они все еще сидят за большим столом, где Эмили работала вместе с Робертом. На столе лежит раскрытый Определитель, прямо перед ними полдюжины чашечек указывают, что из них пили разные сорта кофе.
— Как видишь, — говорит Пинкер, — Определитель на практике выполнил двойную функцию. Вот работа по смесям, которую за последний месяц Роберт для меня проделал. — Он бросает взгляд на дочь: Роберт по-прежнему — тема, которой она избегает. Отец указывает на одну из чашек:
— Возьмем дешевый, грубый кофе, вроде этого. Определим его изъяны, добавим сколько нужно сортов, которые имеются в Определителе и которые нивелируют недостатки. — Пинкер указывает на прочие чашки. — И тогда мы получим кофе без явных пороков.
— При этом кофе, который, бесспорно, не обладает ярко выраженными достоинствами! — замечает Эмили.
— Верно… но и это может само по себе явиться достоинством. Видишь ли, Эмили, на самом деле, у людей подчас вовсе не одинаковые пристрастия к вкусу кофе. Положим, для тебя и меня хорош африканский, он крепкий, яркий. А другим предпочтительней еще более крепкий и густой аромат южно-американского. Помнится, Роберту нравится изысканный «мокка» и йеменский, но многим эти цветочные нотки кажутся излишне душистыми. Смешивая кофе в соответствии с принципами Определителя, можно полностью искоренить все то, что могло бы в противном случае отвратить покупателей от «Кастла». Мы получаем в итоге продукт, который нравится всем. Кофе, вкус которого устойчив, независимо от того, каков его состав. И все это за полцены.
— По-моему, Роберт был бы весьма огорчен, услышав твои слова.
— Роберт не деловой человек. — Отец внимательно смотрит на дочь. — Ты знаешь, я имел основание отослать его подальше, и дело тут не только в деньгах.
— Да, — говорит Эмили. — Я знаю.
Она избегает взгляда отца. На ее щеках появляются два розовых пятнышка.
— Возможно, — тихо произносит отец, — если расстояние охладило твои чувства, ты сочтешь, что, в конце концов, этот человек не для тебя. И тогда… У тебя перед ним не будет никаких обязательств.
— Я предпочла бы не отступать от нашей договоренности, отец.
— В сердечных вопросах, как и в деловых, надо выбирать наилучший вариант. Мало ли что прежде намечалось. Любая договоренность сводится к одному: к тому, как человек воспринимает факты.
Эмили не отвечает. Вместо ответа она тянется к Определителю, проводит пальцем по пробкам флаконов, выбирает один. Вынимает флакон, вынимает пробку, слегка вдыхает аромат.
— Я понимаю, — произносит она. — Ты, отец, абсолютно прав, советуя мне быть осмотрительней. Обещаю, что опрометчивого решения я не приму.
Зейла
31 июля
Дорогой Хант,
Мы торчим в этой вонючей, богом забытой дыре уже целых три недели. Только теперь я ясно понял, что Аден был сущий рай — пусть это было болото, но болото приятного вида, хорошо обустроенное болото, с налаженной жизнью, с нормальными домами и непременным пространством между ними, так что вместе взятое вполне можно назвать улицей. Здесь же просто хижины, грязь и удушающие клубы сухой красной пыли. Эта пыль — жгуче-въедливая, отдающая кожей и чем-то прогорклым, — похоже, и есть запах Африки. Из ноздрей ничем его не вытравить.
Местный народ зовется сомали, но ими управляет другое племя, именуемое данакаль,[36] под присмотром которого торговые пути. Данакаль ходят с мечами и копьями и носят ожерелья из странных сморщенных, шаровидных штук, напоминающих сушеные финики, что на самом деле не что иное, как яички их врагов. Нет, я не шучу: здесь наказанием за малейшую провинность — скажем, за несвоевременную выплату долга, — является мгновенное отсечение мечом ваших висюлек. Прелюбодеи в сравнении с этой карой отделываются куда легче, их забивают камнями. Местной деревней правит дикарь по имени Абу Бакр со своими одиннадцатью сыновьями. Я употребляю здесь слово «дикарь» не в этническом смысле: субъект лично укокошил полсотни человек, о его жестокости ходят легенды. Само собой разумеется, без его дозволения мы не можем никуда отсюда деться.
Время от времени нас допускают к его двору — то бишь, пространству красной, обнесенной частоколом земли, одновременно исполняющему роль и монаршего двора, и хозяйственных угодий. Этот старец с клочковатой бородкой восседает на кушетке из звериных шкур. Даже на расстоянии от него разит козлиным духом. На правителе грязно-белая тога и громадный в форме луковицы тюрбан. Позади в одеждах чуть почище стоит парочка сомали, отгоняющих от его чела насекомых штуковинами, чем-то напоминающими те, чем у нас на родине пользуются при раздувании огня. В левой руке правитель держит четки, которые цокают у него под пальцами, правой ковыряет в зубах зубочисткой. Глаза его, глаза тирана, — тусклы и равнодушны. Время от времени в ходе нашей беседы он вдруг негромко плюнет, особо не заботясь, куда попадет. Если в данный момент вы в фаворе, вам подносят кофе — превосходный кофе в крохотных чашечках, его наливает из сосуда с крохотным носиком застывший в вечной готовности каведжабухи. На вопрос, когда отправится караван, Абу Бакр произносит: «Иншалла» — как Бог даст. Что на самом деле, разумеется, означает, «когда мне заблагорассудится». А когда ему заблагорассудится? Сказать невозможно. Мы все ждем чего-то — какого-то знака, подсказки. Если спрашиваем Абу Бакра, что нужно, чтобы он разрешил нам отправиться в путь, тот хмурит лоб; спрашиваем его челядь, те пожимают плечами и повторяют то же заклинание: «Скоро, иншалла, совсем скоро».
Временами, если мы впадаем в немилость или если Абу Бакру вздумается поиграть у нас на нервах, нам не только не оказывается честь лицезреть, как он плюется, нас вынуждают стоять и наблюдать придворную суету, пока правитель не соизволит вновь отпустить нас восвояси. Нам твердят, будто он к нам крайне расположен, что это бесконечное ожидание лишь пустая формальность, вроде очереди на почте. Что еще должен состояться харур, то есть совет старейшин, который и рассмотрит нашу просьбу, и временами Абу Бакр ссылается на сложность созыва этого собрания, как на причину того, почему ничего не решается. Чистая выдумка: всем ясно, что решения принимает только он один.
В данный момент мы заняты тем, что подбираем себе попутчиков. Заручились поддержкой некоего Десмонда Хэммонда, бывшего военного, который теперь сколачивает себе состояние торговлей слоновой костью и еще кое-чем. Иногда они с партнером, буром по имени Тэттс, вооружившись «ремингтонами», бутылками «мартини-генри» и прочей амуницией, на неделю исчезают; по возвращении верблюды их, часть которых престранные, неведомые Дарвину мастодонты-гибриды, тянут громадные тюки.
Еще одна любопытная особенность этих мест: невозможно купить любовные услуги женщин. Не потому, что здесь существуют сложности морального порядка, совсем наоборот — все достигшие брачного возраста женщины уже раскуплены. Поскольку количество жен здесь не ограничено, богатые мужчины продолжают увеличивать их число, сколько им заблагорассудится. Хэммонд поведал мне, что до того, как женщина достигнет половой зрелости, ей делают обрезание, смысл чего сначала я никак не мог уяснить и что продолжает вызывать во мне протест, когда я пишу эти строки. В центре материка, куда мы направляемся, все обстоит иначе. У народности галла даже и замужняя женщина может иметь любовника: если снаружи у хижины выставлено копье, ни один мужчина, даже муж, не имеет права туда войти. Не могу не заметить, что эта мера весьма почитается в дикой псевдоцивилизации здешнего побережья, и в этом смысле составляет весьма завидный контраст с тем, что происходит в нашей стране.
Забавно, не правда ли, что человек, столько пропутешествовавший, столько повидавший, по-прежнему сосредотачивается не на странностях нового, а на том, что оставил, — именно на странностях прошлого. Как звучит изречение Горация, что нам вдалбливалось в школе? Coelum non animum mutant qui trans mare currunt — «Тот, кого влечет за моря, меняет кожу, но не душу». Интересно, так ли это на самом деле.
Привет тебе,
Зейла,
2 августа, 1897 г.
Моя дорогая Эмили!
Надеюсь, мы скоро уедем отсюда. В Зейлу прибывает торговец кофе Ибрагим Бей и, по последним слухам, он должен появиться у нас через несколько дней. Мы надеемся, что с его помощью административные сложности, которые держат нас здесь, вскоре будут устранены. Приближенные Абу Бакра, очевидно, преисполнены радости за нас: они расплываются в улыбке, произнося имя Бея.
Бедняга Гектор — он ужасно сокрушается по поводу сезона дождей. Даже подумывал до наступления непогоды оставить меня здесь и отправиться обратно в Аден и потом на Цейлон. Но, оказалось, волей Вашего отца он обязан непременно проследить, чтоб я обосновался как следует. Не скажу, что мне стало легче в обществе Гектора, но я благодарен за это решение. Остаться здесь в одиночестве было бы весьма непросто.
Только что наблюдал брачную пляску двух бакланов: зрелище восхитительное. Самец более ярко…
И в этот момент я вижу ее.
Я сижу на палубе нашего корабля, пишу письмо, как вдруг из-за излучины реки выплывает другой. Дау, на весельном ходу, — четыре пары черных весел ритмично, одним движением, ходят вверх — вниз. А на палубе — нечто живописное.
На складном стуле, как на троне, восседает человек в белых, необъятных арабских одеждах: одна рука на колене — он ею упирается, будто хочет встать. Во всей его позе напряженное нетерпение. Тяжелое, чувственное лицо, лицо властителя, но глаза — полуприкрытые веками глаза — зорко следят за всем, что творится на пристани. Крупные мясистые губы, арабский нос с горбинкой. Позади стоит чернокожий: рослый мужчина — скорее, рослый мальчик, так как, при всем его исполинском росте, что-то детское сквозит в черной физиономии. Юноша застыл наподобие часового в ожидании команды, буднично, как какой-нибудь лондонец на набалдашник трости, возложив руки на рукоять внушительного оружия вроде меча, свисающего до самого деревянного настила палубы.
А за ним, по другую руку от араба, стоит девушка. От щиколоток до самых волос увернута в шафранно-желтую ткань. Черты лица под покрывалом нежные, утонченные, почти как у индианки, и тело… Набежавший с реки бриз взволновал ткань, и я вижу, что тело у нее сильное, гладкое, фигура стройная, как у атлета. Девушка, я вмиг понимаю это, умопомрачительно хороша; кожа у нее черна необыкновенно и, как скол угля в луче света, будто серебрится.
Раздается свисток. Весла на корабле лихо, как у четверки с рулевым на Темзе близ Итона, взмывают вверх, и течение несет корабль к причалу. Суетятся с канатами люди. Откуда ни возьмись, собирается, возбужденно нарастая навстречу кораблю, толпа; как всегда в таких случаях, поднимается гвалт. Корабль скользит прямо к тому месту, где стоит на якоре наше судно. Мужчины на палубе по-прежнему глядят прямо перед собой, но, когда корабль проплывает мимо, девушка слегка поворачивает голову и смотрит прямо на меня. То, что я чувствую, встретившись с ней взглядом, описать невозможно, — чтобы выдержать его, мне остается единственное: не отводя глаз, не мигая замереть при виде такой ослепительной красоты.
Едва корабль причаливает, араб встает со стула. При своей массивности, он легок в движениях; ему не нужна помощь многочисленных протянутых к нему рук, чтобы сойти на сушу. За ним — чернокожий, также отвергая помощь и выставив свой меч перед собой, как священник распятие. Затем — быстро и уверенно — на берег сходит девушка: ступает на край борта, натянувшаяся хлоп-новая ткань рисует изгиб тела; чуть качнулась и, балансируя, как кошка, прыгает… — нет, почти не напрягаясь, просто делает шаг вперед на пристань.
И тотчас начинается обычная суматоха — снуют носильщики, выгружая товар. Я как зачарованный продолжаю на нее смотреть. У нее черные ступни — такие черные, что даже кажутся серыми: но, когда она сходила на берег, мелькнули розовые пятки. Теперь ясно видно, что волосы под свободно повязанным платком длинные и курчавые. Выбиваются черными спиральками завитки. Желтое одеяние — можно даже сказать, сари, — овевает ее, походя обрисовывая то одну, то другую часть тела… она подносит руку к виску, поправляя платок, и я вижу, что ладонь у нее тоже серовато-розовая.
Корабль еще не разгрузили, но араб раскатистым басом отдает несколько распоряжений. Потом вся троица все тем же порядком направляется в сторону деревни, к монаршему двору. Я провожаю взглядом шафранно-желтое покрывало, заслоняемое черными головами, — она движется совсем не так, как они, — мощно, легко, свободно, плечи расправлены, как у бегуньи. Что-то щелкнуло у меня в мозгу, повернулся ключ в замке, о существовании которого я даже не подозревал. Нет, мне это не почудилось, я явно это ощутил. Но открылся или закрылся замок, непонятно. У меня перехватывает дыхание: едва я осознаю это, из горла вырывается хлюпающий звук. Опускаю глаза. В руке недописанное письмо к Эмили. Я комкаю его в кулаке и бросаю в воду. Письмо, прежде чем пойти ко дну, описывает пару кругов на воде, и, сперва медленно, постепенно набирая скорость, погружается затем в черный, беззвучно устремленный к морю поток.
«Пикантный» — мягко возбуждающий нёбо. Приятный; резковатый; пронзительный или будоражащий; с остротой.
Через полчаса я все еще сидел там, на прежнем месте, когда Гектор прибежал обратно.
— Нас зовут, — коротко бросил он. — Прибыл Ибрагим Бей и теперь, кажется, треклятый негритосский король наконец будет с нами беседовать.
— Что ж, славно, хоть что-то сдвинулось. Наконец.
— Вот что я вам скажу: это, черт побери, форменная наглость!
Я встаю со складного стула, чтобы идти на берег, но Гектор меня останавливает:
— Считаю, Роберт, нам надо ему все высказать. Мы здесь не как частные лица, как этот вор и негодяй Хэммонд. Мы представляем здесь британскую индустрию. Пусть человек для него ничто, но это он уважать должен.
И вот мы идем ко двору Абу Бакра, гнусного диктатора этой Богом забытой навозной кучи в крохотном, засиженном мухами уголке дикой земли, — разодевшись, насколько сумели, пошикарней: белые галстуки, фраки, широкие кушаки, а у Гектора вдобавок оказалась еще и роскошная белая шляпа, увенчанная красными перьями какаду. Африканцы глядят на нас равнодушно. Подозреваю, просто решили, что наконец-то мы одеты подобающим образом, как и надлежит племенам в глубине континента.
Абу Бакр лежит развалившись на своей тахте, ест финики. Перед ним стоит Ибрагим Бей. У ног тирана серебряный поднос. На подносе гора листьев — наверное, какие-то пряности или опиум; дар купца правителю. Негр тут же, при своем хозяине. Я ищу глазами девушку, но ее нигде не видно.
Нас замечают и делают знак приблизиться. Абу Бакр представляет нас на языке, никому из нас не знакомом, но жесты его вполне красноречивы. Бей, Гектор и я пожимаем друг другу руки. Правитель снова что-то говорит; приносят какую-то бумагу; он обмакивает в чернила печать, прижимает к бумаге, при этом забрызгивая чернилами свои белые одежды. Затем без намека на улыбку протягивает мне свою руку. Я дотрагиваюсь до нее: рука заскорузла и груба, как пятерня прокаженного, но я все же ее пожимаю. Взгляд правителя свиреп. Нас отпустили.
— Давно ждете? — едва мы выходим за пределы двора, спрашивает Бей озабоченно. Будто выходя на перрон из запоздавшего скорого поезда.
— Почти месяц, — свирепо буркнул Гектор.
— А! Не так плохо! — Бей улыбается. — Рад познакомиться с вами обоими. Вы, я думаю, определенно Крэннах? А вы, — он поворачивается ко мне, — наверное, Роберт Уоллис?
— Разве мы знакомы?
— Мой добрый друг Сэмюэл Линкер писал мне, что вы прибываете в Африку. Он просил, чтобы я вам помог по мере сил. — Бей склоняет голову. — Это честь для меня.
— Чем была вызвана задержка? — быстро спрашивает Гектор.
— Задержка? Какая?
— Почему его королевское ничтожество продержало нас тут так долго?
Физиономия Бея принимает несколько обескураженное выражение:
— Представления не имею. Но в данный момент как раз собирается совет старейшин. Не преподнесете ли вы им что-нибудь в дар? Об Абу Бакре позабочусь я сам.
— В дар? — кривится Гектор.
— Парочку коз было бы в самый раз.
— Коз у нас нет, — замечаю я.
— А если бэ и были, — гнусавит Гектор, — мы бэ не стали платить за разрешение на перемещение там, где мы как подданные Ее Величества имеем право свободного передвижения.
— Разумеется, — чутко подхватывает Бей, — вы вовсе не обязаны делать подарки. — Поймав мой взгляд, он подмигивает. — Но может статься, в противном случае вы задержитесь здесь весьма надолго.
— И еще лично я считаю, — не унимается Гектор, — как только белый человек прибегает к взятке, он тем самым осложняет жизнь другому белому человеку, попадающему сюда вслед за ним.
— В таком случае, мне крайне повезло, что я не белый — по крайней мере, не вполне белый человек, — говорит Бей.
Он явно личность в высшей степени незаурядная. Иной бы счел за оскорбление тон Гектора, не говоря уже о выборе выражений, но Ибрагим Бей ведет себя так, будто все это остроумная шутка.
— Но, предположим, харур выдаст разрешение, согласны ли вы разделить со мной расходы по продвижению каравана? Мне также необходимо в Харар, а чем крупнее отряд, тем меньше риска.
— Риска? — переспрашиваю я. — Разве это опасно?
— Путешествие, друг мой, всегда опасно. Едва мы выйдем из-под защиты Абу Бакра, — тут Гектор презрительно фыркает, — попадаем на поле сражений. Император Абиссинии Менелик борется с итальянцами и угнетает народ галла. Народ галла борется со всеми другими племенами. Египтяне повсюду, где бы не появились, сеют смуту в надежде, что кто-то возрадуется их вторжению. Правда, у нас есть винтовки, а также бумага с подписью Абу Бакра, и еще мы находимся под защитой своих паспортов. Покончить с нами не так-то просто.
Удивительное дело, но именно после того, как Бей объявил, что наша экспедиция будет опасной, я почувствовал себя в высшей степени успокоенным. Полагаю, благодаря харизме этого человека — он чем-то напомнил мне Сэмюэла Пинкера.
— Но взятку давать мы никому не будем, — упорно бубнит Гектор.
— Вы ведь даете чаевые носильщику или официанту? — кротко спрашивает Бей. — Отчего же не подать правителю или вождю?
— Чаевые подают после, — стоит на своем Гектор. — Взятку до.
— Что ж, решено. Две козы приносим в дар по окончании их совета. Я уверен, они удовлетворятся устным заверением, что в результате получат двух коз. Общеизвестно, что слово англичанина неколебимо. — Бей хлопает в ладоши. — А теперь, позвольте предложить вам кофе! Мой лагерь на том холме, там несколько прохладнее.
— Мне надо пойти подготовиться, — угрюмо заявляет Гектор.
Бей переводит взгляд на меня.
— Благодарю, — говорю я. — Сочту за честь.
— Типичный араб, — бормочет Гектор, когда Бей устремляется вверх по холму. — С нами вместе хочет только потому, что на британский караван они напасть не осмелятся. Не удивлюсь, если он приплатил Абу Бакру, чтоб тот заставил нас ждать.
Проходя по лагерю Бея, вижу как прислужники подносят воду и освежевывают козу. В центре шатер покрупней, чем прочие. Снаружи стоит юный негр, надзирая над женщинами, которые что-то стряпают у огня. Завидев меня, он молча приподнимает полог и жестом предлагает мне войти.
Внутри шатер убран пестрыми шелками, под ногами все в коврах. Чувствую острый, пряный запах какого-то благовония. Позже мне предстоит узнать, что это миро. Посредине низкий столик, по обеим сторонам которого два стула наподобие трона.
— Добро пожаловать, Роберт.
Из бокового покоя является Бей. В новом одеянии: теперь на нем легкие хлопковые шаровары, рубашка из того же материала и шелковый узорчатый жилет. Неожиданно легким при его тучности шагом он идет ко мне, приветственно сжимает мне плечи.
— Добро пожаловать, весьма рад! — повторяет он. — Сэмюэл писал мне о ваших дерзаниях — вернее сказать, терзаниях. И, конечно, об Определителе, — горю нетерпением познакомиться с этим удивительным сводом. Но, прежде всего, — безоговорочно прежде всего! — кофе. Вы еще не знакомы с кофе по-абиссински?
— Кажется, нет.
Бей улыбается:
— Мулу! Фикре!
В шатер входит негр, и они обмениваются парой слов на арабском. Бей указывает мне на стул.
— Прошу, садитесь! — говорит он.
Не сводя с меня глаз, он усаживается на другой стул. Через минуту входит девушка. На секунду я едва не лишаюсь чувств, такой эффект производит на меня ее появление. Теперь ее полотняное одеяние темное, почти коричневое, и доходит до бедер. Под ним светлые шелковые, расшитые жемчугом шаровары; ее предплечье обвивает змеей длинный медный браслет. До этого глаз ее ясно я разглядеть не мог. Они у нее на удивление светлые, единственно светлые на ее нежном, чугунно-черном лице. Возможно, в ней течет кровь дальнего предка из моряков-европейцев. Светлые, почти серые глаза на миг — бесконечный миг — необъяснимым выражением встречают мой взгляд и скользят вниз, едва она приседает, поднося огонь к благовонию в курильнице. Пары ароматного дыма наполняют шатер. Губы у нее пурпурные до черноты: такой оттенок бывает у граната.
— Кофейный ритуал, — произносит голос Бея, — состоит из трех чашек, абал, тона и барака, которые пьют поочередно. Первая чашка — удовольствие; вторая погружает в созерцание, а третья дарует благодать. Между чашками кофе, как считают абиссинцы, происходит преображение духа.
Возвращается с медным подносом негр. На нем всякая утварь: чашки, черный глиняный кувшин, мешочек со шнурком, салфетка и чаша с розовой жидкостью. Девушка окунает салфетку в чашу и приседает возле меня. От одного взгляда на нее у меня едва не вырывается восторженный «ах».
И вот неожиданно она протягивает руку и касается влажной ароматной салфеткой моего лица. Проводит по лбу, по носу, по прикрытым глазам, мягко обводит щеки. Островато-сладкий аромат розовой воды наполняет ноздри. Я чувствую ее пальцы поверх салфетки. Ее прикосновение ощутимо, воздушно, но до странности бесстрастно. Ее дивное лицо совсем близко, но она снова отстраняется. Туго стягивает шнурки мешочка и, держа в обеих руках, подносит ко мне.
— Теперь, Роберт, надо вдохнуть запах зерен, — произносит голос Бея.
Я беру у нее мешочек и подношу к носу. И вдруг понимаю, что мне уже попадались эти зерна, в Лондоне, — такие, или очень похожие. Жимолость… лакрица… дым костра… яблоко.
— Я уже знаком с этим кофе, — говорю я. — Вы продали такой Линкеру.
Бей улыбается:
— Он вас неплохо вышколил. Этот кофе из одной местности неподалеку от Харара — оттуда, где вы как раз собираетесь разводить плантацию.
— Есть ли у него название?
— Названий много или нет вовсе, зависит от того, где вы находитесь. Во всем мире его зовут «мокка», хотя, как вы заметили, он совершенно не похож на сорта «мокка» из моей страны. Он поступает из Харара тем самым невольничьим путем, по которому двинемся и мы. — Он заметил мой удивленный взгляд. — Вы не знали? Ну да, путь, по которому мы двинемся через пустыню, как раз тот самый, по которому веками перевозили невольников. Это, не только кофе, и есть источник процветания Харара, и в том причина, почему здесь не всегда желательно привлекать внимание посторонних. Между тем обе торговли — кофе и рабами — еще и иными узами связаны между собой.
На мгновение он умолкает. Зерна в жаровне с шипением жарятся. Девушка помешивает их деревянной ложкой: ритмичным, как в каком-то ритуале, движением. Ее пальцы тонки и длинны; тыльная сторона руки темна, почти черна, в то время как ладони и кончики пальцев светлы, почти как у европейцев.
— Чем же? — спрашиваю я.
— Чтобы не заснуть во время ночных передвижений, невольники жевали слегка промасленные зерна кустарника каффа. В местностях с более умеренным климатом эти зерна порой выбрасывали — кидали у дороги, когда невольники останавливались на привал. Кое-где зерна укоренялись, и там зарождались новые плантации.
— Стало быть, такие привалы оборачивались благом?
— Но только не для пленников. Именно во время этих стоянок мальчиков-рабов кастрировали. Потом зарывали по пояс в раскаленный песок, чтобы прижечь рану. Кому не везло, у кого рана нагнаивалась, тех оставляли в пустыне умирать мучительной смертью.
Несмотря на зной, меня пробрало дрожью.
— Но ведь это все в прошлом?
Бей промолчал. Зерна прожарились до, как выражаются знатоки, первого треска, пощелкивая и гремя в своей глиняной чашке. Девушка ссыпала их на тарелку. Запах усилился. Паленый деготь, пепел, тлеющий торф — но над всем этим торжествующее реет тот самый сладковато-медовый, цветочный аромат. Девушка протягивает мне тарелку, и я вдыхаю этот густой, жаркий запах.
— Отличный аромат, — говорю я ей учтиво, но ее прекрасное, утонченное лицо безучастно, как маска.
— По-моему, она меня не понимает, — говорю я, передавая тарелку Бею.
— Вот тут вы не правы, Роберт. Фикре знает семь языков, включая французский, английский, амхарский и арабский. Но она не заговорит ни на одном из них без моего позволения.
Бей подносит тарелку к носу и делает глубокий вдох.
— У-ах…
Я заглядываю в глаза девушки. На миг улавливаю в них — как бы кивок, еще что-то: будто отчаяние, призыв, немой, истовый.
Я слегка свожу брови, как бы говоря: не понимаю.
Мгновение мне кажется, она колеблется. Вот еле уловимо поводит плечами. Не могу объяснить.
Я скашиваю глаза на Бея. Почему? Из-за него?
Снова легкий, почти незаметный кивок. Да.
Девушка принимается готовить чашки, держит каждую над курящимся миро, поворачивая туда-сюда, чтобы напитались благовонием. Потом быстрыми плавными движениями толчет зерна в ступке. Высыпает кофе в серебряный кофейник и заливает кипящей водой. Вздымается пар. Пронзительно взмывает аромат: исступленно-страстный, смесь акации и пряностей, лилий и лайма.
Горлышко кофейника длинное, изогнутое, как клюв у колибри. Девушка льет кофе в чашки тонкой непрерывной струйкой. Протягивая чашку мне, чуть подается вперед, намеренно загораживая от Бея наши руки. Я чувствую, как что-то тайно протискивается мне в ладонь — маленькое, твердое. Незаметно, поднося кофе к губам, опускаю взгляд.
У меня в ладони одно единственное кофейное зернышко.
Что это значит? Пытаюсь поймать ее взгляд, но она по-прежнему на меня не глядит. Я отпиваю кофе. Да, оно так же прекрасно, как и то, что я пробовал в последний раз в Лаймхаусе, — возможно, даже лучше: на этот раз ноздри наполнены ароматами миро и розовой воды, чувства обострены зноем и благовониями. И присутствием этой девушки.
Вторая чашка неуловимо иная — кофе уже немного успел настояться; ароматы стали гуще, вкус полнее. Я слежу за ее движениями; легкий хлопок вздымается, когда она приседает на корточки. Она узкобедрая, как гепард, и ее плавные движения чем-то напоминают его бег. Она явно решила, что повела себя слишком рискованно: избегает моего взгляда, даже когда ей приходится, готовя меня к очередной чашке, обмакивать салфетку в розовую воду и освежать ею мое лицо. Но я улавливаю что-то в ее жесте — когда она проводит влажной салфеткой по моей щеке, рука на мгновение замирает.
Она роняет салфетку. Мы тотчас оба наклоняемся за ней. Наши пальцы соприкасаются. Ее глаза округляются в испуге.
Пожалуйста. Будьте осторожней.
Я, успокаивая, лишь раз сжимаю ей руку. Не бойся. Верь мне. Жди.
Бей между тем повествует о кофе. Обсуждаем разные способы хранения, влажный и сухой.
— При первой же возможности, Роберт, переходите к влажному способу: лучше хранится и меньше выпадает зерен. — Он говорит о сорте «харар». — …вывозить кофе трудно, но со временем будет легче. Менелик поговаривает о строительстве железной дороги от побережья до Дире Дава. Вы явились в самое время: скоро эти места станут весьма прибыльными.
Третья чашка — барака. Теперь кофе чуть солоноват: выпарившись, он стал насыщенней. Девушка освежает напиток веточкой, пахнущей имбирем.
— Вы знаете, что это, Роберт? — спрашивает Бей, вынимая веточку и поднося ее к носу.
Я качаю головой.
— Тена адам. Абиссинцы считают его афродизиаком. Как видите, у церемонии кофепития столько значений. Меж приятелей она — знак дружеского расположения, у купцов, вроде нас с вами, это символ доверия. А для влюбленных это уже совсем иной ритуал. Если женщина предлагает мужчине кофе, это способ выразить ее страсть.
Пальцы моей левой руки перекатывают зернышко, небольшое, твердое, круглое. Так вот что оно означает?
— Вот она какова, церемония кофепития. Отныне я уверен, вы меня никогда не обманете. Ха-ха!
Раскатистый смех Бея заполняет шатер.
Фикре собирает пустые чашки и аккуратно расставляет их на подносе. При выходе, к которому Бей сидит спиной, она оглядывается и смотрит на меня. Блеск белых зубов, губы цвета спелого граната на черном. И исчезает.
— Давно ли служит у вас Фикре? — спрашиваю я как бы между прочим.
Бей пристально смотрит на меня:
— Очень хороша, не правда ли?
Я повожу плечами:
— Ну да, весьма.
Мгновение он молчит, потом резко бросает:
— Она не служит мне, Роберт. Она моя собственность. Она рабыня.
Было у меня такое предчувствие. И все равно эти слова вызывают шок… ярость.
— Сообщаю вам это, — говорит Бей, пронзая меня взглядом, — потому, что вы так или иначе об этом узнаете, и потому, что лгать вам не хочу. Но, уверяю вас, все не так просто. Когда-нибудь я расскажу вам, при каких обстоятельствах я ее купил. Но не сейчас.
— Ну, а Мулу?
— Его тоже, — склоняет голову Бей. — Он ее лала… ее служанка, охрана, прислуга.
— Так, значит, он…
— Да-да, он евнух. Был ребенком отлучен от родных и кастрирован по дороге; все, как я вам рассказывал.
Я вздрогнул. Это объясняет странность, озадачившую меня при виде Мулу — рослый мужчина с гладкими щечками мальчика…
— Для вас, британцев, рабство — великое зло, — без нажима произносит Бей. — Но тут все иначе. Тут просто так никому не скажешь: «Ты свободен, отправляйся домой!» Куда им идти? Даже если они знают, к какому племени принадлежат, там их уже не примут — они уже другие. Я обеспечиваю им лучшую жизнь, чем та, на которую они могут рассчитывать.
Я кивнул. Услышанное для меня потрясение. Но одновременно испытываю жуткую, неистовую зависть.
— Нет, право, — сердито говорит Ада. — Я понимаю, Эмили, он твой жених, но все-таки, зачем он пишет обо мне в таком снисходительном тоне!
— Ты о том, что он писал Лягушонку про жителей деревни и Вагнера? — снисходительно спрашивает Эмили.
— Именно. Я намерена ему непременно отписать.
— К этому времени он, вероятно, будет в Абиссинии. Я и не знаю, когда письма до него дойдут, он не ответил еще ни на одно из моих. К тому же, Ада, я подозреваю, что Роберт только притворяется насмешником. Так ему легче взбадривать себя.
— На мой взгляд, бодрости у него даже через край.
— И все-таки ему, должно быть, там не так-то просто. Чтоб поддержать его, от нас требуется хоть немного понимания.
— Хорошо тебе говорить, тебе-то он пишет всякие дурацкие нежности и любовные письма.
— Признаться, — говорит Эмили с грустной улыбкой, — Роберт не великий мастер писать любовные письма. По-моему, он считает, что это губительно для его творчества.
Ада фыркает.
— Тебе он не слишком нравится, так ведь? — тихо спрашивает Эмили.
— Я просто не нахожу в нем ничего особенного. И… — Ада медлит, чувствуя, что есть черта, за которую ей как сестре переходить нельзя. — В общем, меня удивляет, почему он так сильно нравится тебе.
— Наверное, потому, что с ним всегда смешно.
— Что касается меня, — надменно заявляет Ада, — то я бы не потерпела мужа, который постоянно паясничает.
Как раз в этот момент в комнату врывается их отец. Он тащит за собой длиннющую белую ленту телеграфного аппарата из конторы.
— Дорогие мои! — восклицает отец. — Взгляните, какую чудную новость я вам принес!
— Что это, отец?
— Надевайте пальто, мы едем на Биржу. Фирма «Лайл» собирается положить конец сахарной монополии!
— А к нам какое это имеет отношение? — спросила Ада, хмуря брови.
— Впрямую никакого. Но если такое возможно для сахара, мы можем проделать то же и с кофе. В любом случае, это надо увидеть собственными глазами!
Ни одна из дочерей не испытывает подобного энтузиазма, но обе с послушной поспешностью надевают пальто и шляпки. Между тем отец их уже останавливает кэб, и вот они уже устремляются по лондонским улицам в Сити.
— Долгие годы «Лайл» имел дело с ситуацией, похожей на нашу, — поясняет Пинкер. — Они в той же зависимости от «Тейта», в какой мы от «Хоуэлла». Но покоряться они не намерены! Они начали завоевывать себе имя, сбывая свой сахар в виде сиропа. Теперь «Лайл» пустил в ход сахар со своих собственных свекольных полей в Восточной Англии: они надеются с его помощью прекратить монопольное вздувание спекулятивных цен.
— Я по-прежнему не понимаю, как это можно сделать, — упрямо повторяет Ада.
— «Лайл» внезапно выбросит на рынок крупную партию сахара, — поясняет Эмили. — Синдикат «Тейт» вынужден будет его купить, если хотят держать свою, искусственно вздутую цену. Потом все будет зависеть от того, у кого крепче нервы. Если «Лайл» прекратит продажи, проиграют они, а цена по-прежнему останется высокой. Если «Тейт» прекратит покупать, проиграют они, и цена опустится.
— Именно так! — одобрительно улыбнулся отец. — «Тейт» уже в затруднительном положении из-за плохого урожая. А у «Лайла» отличные запасы… Турнир обещает быть захватывающим.
На Бирже их проводят на галерею для публики. Чем-то похоже на театр, думает Эмили, глядя сверху на разворачивающееся действие. Перед ней громадный, наполненный гулом зал, вдоль стен которого располагаются несколько высоких восьмиугольной формы помостов красного дерева с латунным обрамлением.
— Это биржевые ямы, — поясняет отец. — Норфолкская вот эта, прямо под нами.
Десятки мужчин суетятся вокруг сектора, на который указывает Пинкер, взгляды их прикованы к грифельной доске. Прямо как дети перед уличным кукольным театром, ожидая, когда появятся Панч и Джуди, подумалось Эмили. Активность исходит лишь от человека в ярко-красном котелке, пишущим на доске цифры; доходя до низа, он волнообразным взмахом все стирает и начинает писать снова.
— А! Вот и Нийт, — воскликнул отец Эмили. — И Брюэр тоже.
Эмили подняла глаза: член Парламента, который недавно посещал отца, шел к ним вместе с молодым человеком в деловом костюме. Прежде чем сесть, Брюэр приветственно склонил голову, улыбнувшись Эмили. В это время Пинкер что-то настойчиво толковал Нийту прямо в ухо, и, когда тот повернулся, чтобы уйти, хлопнул его по плечу.
— Наш брокер, — поясняет отец, снова садясь на место. — Я поставил на «Лайл» небольшую сумму.
— Это пари?
— Что-то вроде. Дал поручение на продажу. Если, как я рассчитываю, цена упадет, я получу разницу.
Эмили кивает, однако все-таки она представляет себе этот рынок совсем не так, как, очевидно, ее отец. Отец открывается ей совсем с другой стороны, таким она его раньше не знала: прежде, когда он называл свои тюки с кофе пехотой и конницей, совершенно иное поле сражения вставало у нее перед глазами.
В зале звенит звонок. И тотчас же вокруг ямы вспыхивает гулкое бормотание. Мужчины машут руками, будто изъясняются на языке жестов; другие строчат накладные, которые порхают за коричнево-красную конторку и обратно. Несмотря на то, что эти действия Эмили не понятны, она осознает, что на ее глазах разыгрывается какая-то серьезная драма. Похоже, в центре нее двое мужчин, стоящие по разным сторонам восьмиугольного возвышения.
— Брокер «Лайла». И «Тейта». Вот они, — говорит отец. — Ага! Если не ошибаюсь, вон и их патроны. Поглядеть пришли.
На галерею для публики проходят две различные группы. Каждая примерно человек из пяти-шести. Группы, нарочито избегая друг дружку, подходят к бортику и сосредоточенно наблюдают за происходящим внизу.
— Братья Лайл. А это, я думаю, Джозейф Тейт, сын сэра Генри. — Пинкер снова переводит взгляд в зал, напряженно всматривается в меняющиеся на доске цифры. — Насколько могу понять, Лайлы продолжают покупать. Должно быть, пополняют свой фонд.
— И при этом надеются сбить цену?
— Это просто ход. Они хотят показать Бирже, как много вкладывают.
Минут двадцать ничего особенного не происходит. Ада ловит взгляд Эмили и кривит физиономию. Но Эмили смотреть совсем не надоело, напротив, она целиком захвачена происходящим. Не то чтобы ей это очень нравилось — собственно, ей даже как-то неприятно смотреть, как все сводится к передаче бумажек взад-вперед через коричнево-красную конторку. Что-то пугающе-бандитское видится ей в этих людях, окруживших яму. Как будто они в любой момент способны, как звери, наброситься на кого-то из дилеров, рвать его зубами…
— Поразительно… — бормочет Линкер.
Он смотрит в ту часть галереи для публики, где весьма престарелый джентльмен, опираясь на трость, пробирается к группе Тейта. Рядом с ним молодой человек, готовый в любой момент, если потребуется, поддержать старика.
— Сам сэр Генри Тейт, — тихо произносит Линкер. — Ему, должно быть, уже за семьдесят.
Словно появление старика явилось сигналом, шум в зале меняет характер. Люди кричат на брокера Лайла, размахивая руками у него перед носом, изъясняясь странным языком знаков, суют ему в руки какие-то бумажки. Тот невозмутимо собирает бумажки, хлопает одних по плечу, демонстрируя, что принял их контракты, одновременно не переставая кивать другим, подписывая счета и выдавая их обратно.
— «Лайл» продает, — произносит отец. — Вот оно!
Переполох продолжается минут пять. Пинкер взглядывает туда, где сидит рядом с сыном Джозефом сэр Генри, сложив руки на набалдашнике трости. Оба с бесстрастными лицами наблюдают за суматохой, происходящей внизу.
— Скоро они непременно сломаются, — бормочет Пинкер. — Они уже потратили целое состояние.
Внезапно шум как будто стихает. Внизу в зале наступает долгая пауза выжидательного затишья. Но вот брокер «Лайла» качает головой.
Один из тех, что в зале, отворачивается от него, направляясь к брокеру «Тейта».
— Кончено, — еле слышно произносит Пинкер. — «Тейт» выиграл.
— Как же так, отец?
— Кто знает? — отрывисто бросает тот. — Возможно «Лайл» неверно оценил момент. Возможно, резерв у них оказался меньше, чем они считали. Возможно, просто у старика нервы покрепче. — Пинкер встает. — Поехали домой.
Галерея уже пустеет. Первой ее покидает группа «Лайла»: сподвижники Тейта обмениваются скупыми рукопожатиями. Трудно представить себе, что на карту было поставлено и проиграно целое состояние.
— В следующий раз им не выиграть, — говорит отец, опустив глаза. — И этот день не за горами. Рынку необходима свобода, и нет такого человека, кто мог бы противостоять рынку. — Он поворачивается к Артуру Брюэру: — Запомните эту тризну, Брюэр! Мы должны извлечь из сегодняшнего дня урок, чтобы нас не постигла та же судьба.
«С дымком» — сам по себе олицетворение летучести, запах, источаемый некоторыми видами тлеющего дерева и смол.
Через четыре дня мы покидаем Зейлу. Караван в тридцать верблюдов, в составе которого не только мы с Ибрагимом Беем, но также и Хэммонд с Тэттсом, стремится в таком единении благополучно продвинуться как можно глубже к центру континента. Фикре и Мулу шагают позади вместе с прочими слугами. Иногда к концу перехода я вижу, как она бредет, пошатываясь, опираясь на евнуха. Он нежно обвивает ее рукой, поддерживая.
Близ Токочи мы делаем привал, чтобы набрать воды. Наполняем гхербы, курдюки из козьих шкур, и они парами, как два громадных футбольных мяча, навешиваются на каждого верблюда. У воды тухлый, псиный привкус — hircinos — вонь становится просто нестерпимой после дня пребывания на солнце. Через десять миль у Варумбота мы поворачиваем в глубь континента. Мы на самой кромке пустыни: деревня, как крохотная гавань на берегу громадного моря, на самом краю раскаленных песков. В лунном свете — передвигаемся мы с сумерек до рассвета — песок похож на соль, яркий, блестящий, сверкающий, точно необозримая кварцевая равнина. Проводишь языком по губам и слизываешь соленую пыль. На черных лицах вспыхивают кристальные искорки. Если верить Хэммонду, мы сейчас находимся ниже уровня океана. Временами среди безжизненных голых кустарников происходят выбросы испарений, фумарольг; временами видим лишь бесконечные застывшие песчаные волны. За всю ночь лишь раз встречаем что-то, напоминающее жизнь, терновое дерево, но и оно, судя по листьям, скорее всего уже засохло.
Обнаруживаю, что в дневные часы грежу Эмили, проигрывая в памяти моменты нашей взаимной влюбленности: как она топает ножкой во время нашего уличного спора, как мы обедаем в ресторанчике на Нэрроу-стрит… Но едва я бросаю взгляд на Фикре, ловлю отблеск лунного света на ее графитово-серой коже и тотчас же с какой-то головокружительной мощью я восстаю. Ритм верблюжьей поступи, когда с ним свыкаешься, действует гипнотически, исподволь сладострастно подталкивая к мерному покачиванию, что вовсе не способствует рассеиванию фантазий, роящихся в голове.
Когда восходящее солнце, точно воздушный шар над садом Монпелье, повисает над песками, мы по-прежнему бредем по бескрайней пустыне. Я улавливаю тревогу погонщиков. Находиться под палящим солнцем здесь в дневное время равноценно смерти. Гхербы почти пусты, и, похоже, никто точно не представляет себе, как быть дальше. После некоторых препирательств, продолжаем двигаться в прежнем направлении. И вот в поле зрения возникает очередная деревенька, хаотичные хижины, едва различимые на фоне хаотичных нагромождений камней, тут и там встречающихся в пустыне, которые обманом зрения то вырастают до размеров громадного корабля, то съеживаются до размеров крохотной песчинки. Это Энза, наше пристанище на сегодня. Всеобщий вздох облегчения. С дюжину убогих хижин; пара коз, высматривающих траву между камнями; негритоска, кормящая младенца плоской серого цвета грудью, обмякшей, как выжатый апельсин. Плечистые грифы расхаживают вокруг хижин или теребят клювами вонючие останки в верблюжьей соломе, но есть колодец, чтобы наполнить наши фляги. Мы одолели сорок миль.
Следующей ночью я, несколько сконфуженный, еду верхом на верблюде — неловко как-то пристроиться на спине верблюда, когда женщина идет пешком. Но здесь явно свои понятия о приличии: нельзя уступать своего верблюда рабыне Бея, как нельзя и уступать слуге место в омнибусе.
Ибрагим Бей видит, что я посматриваю на нее, и пускает своего верблюда вровень с моим.
— Я обещал, что расскажу вам, как нашел ее.
— Разве?
— Хотите, сейчас расскажу?
Думаю про себя: вот я еду на верблюде по пустыне. Надо мной огромная луна — настолько огромная и ясная, что, кажется, протяни руку и дотронешься до ее щербатой поверхности. Уже который день я почти не сплю. Я направляюсь туда, где отсутствует всякая цивилизация. От верблюдов воняет. Купец-араб хочет рассказать мне о своей невольнице. Да нет же, это какой-то кошмарный сон.
— Пожалуй, — говорю я.
Бей рассказывает долго, почти час, голос его низок, речь монотонна. Все произошло как бы случайно, — невольничий рынок в Константинополе; один любознательный приятель уговорил посетить. Вопреки здравому смыслу, Бей потащился за ним поглазеть.
— Хочу, чтобы вы поняли, Роберт. Это вам не какой-нибудь грязный, отвратительный базар, где валом скупают и продают работников для плантаций. Это была торговля куда более ценным товаром — девушками, отбираемыми с детских лет за красоту и пестуемыми в гареме какого-нибудь уважаемого торговца, где их обучают математике, игре на музыкальных инструментах, языкам и игре в шахматы. Некоторые девушки из восточных земель — из Грузии, Черкессии и Венгрии — их ценят за светлый цвет кожи. Другие из родни самого торговца.
Такие девушки, поясняет Бей, не обязательно даже покупаются потенциальным хозяином: скорее их перепродают от посредника к посреднику, и самые изысканные постепенно дойдут до самого султанского гарема. Каждый посредник набавляет цену. Цена девушки, продаваемой в гарем к султану, астрономическая, больше, чем Бей способен заработать за всю свою жизнь. Но таких чрезвычайно мало: девушка, достигшая подобных высот, должна быть поистине уникальной.
Бей вперил взгляд во тьму.
— Нас встретил торговец, он предложил нам для начала прохладительное — шербет, кофе, сласти и тому подобное, — затем указал нам наши места, которые предоставлялись гостям. Таких оказалось всего десятка два, но было очевидно, что некоторые готовы в тот день пожертвовать кое-каким состоянием.
Зала с одного конца была задернута занавесью, за ней можно было уловить мельканье разгоряченных лиц, любопытные взгляды, возбужденный девичий смешок… товар за занавесью ожидал торга. Уселся за стол писарь, готовя перья и учетные книги для записи платежей. Мать торговца, ханым, разряженная в самые дорогие одежды, суетилась вокруг, отдавая последние распоряжения. Торговец произнес краткое приветствие. Затем представил первую девушку, расписывая ее в самых лучезарных красках. Все это было прекрасно, но нам не терпелось самим увидеть ее. Наконец она вышла к нам, смущаясь присутствия стольких мужчин и в то же время явно гордая собой — быть избранной открывать торги считалось за честь. Это была русская девушка, довольно красивая, почти ребенок. На ней был гомлек, кафтан из переливчатого, украшенного драгоценными камнями шелка, расстегнутый у ворота, шелковые шаровары, мягкие сапожки. Мы зачарованно смотрели на нее. Понятно, никто до нее не дотрагивался — для острастки слишком резвых повивальной бабкой было представлено свидетельство непорочности девушки, но здесь все подавалось так, чтобы подчеркнуть, что эти девушки для гарема, не куртизанки.
Я открыл было рот, чтоб задать вопрос. Тут же закрыл, не желая прерывать рассказ, но Бей это заметил:
— Вы, Роберт, вероятно, представляете себе гарем неким борделем. Но сераль не имеет ничего общего с домом терпимости. Туда не возьмут девушку, если ее трогали другие покупатели, осквернили, так сказать. Нечто сходное с покупкой книги — вы, я думаю, предпочитаете изысканные книги?
Я кивнул, хотя не мог припомнить, чтобы прежде упоминал об этом в разговоре с ним.
— Если вы покупаете свежее издание, вам приходится разрезать страницы. Почему? Эту услугу вам легко предоставил бы книготорговец или печатник. Но все дело в том, что всем нам хочется убедиться, что именно мы являемся первыми читателями этих строк. Как с книгой, так и с женщиной.
Перед нами выросла каменистая насыпь. Караван замедлил ход, животные поочередно осваивали камни, попадавшиеся на нашем пути. Я оглянулся. Фикре среди бредущих пешком. Мулу помогает ей пробираться через камни, перенося на руках с камня на камень. Ее кожа отливает серебром, лунное сияние на кромешно-черном фоне.
— Начался торг, — вкрадчиво говорит Бей, — почти сразу же всякая запись была прекращена — подробностей я не помню. Я вообще многого не помню. Кончено, мало удовольствия было глядеть, как человеческие существа идут с молотка. Правда, многие девушки, казалось, были по-детски счастливы. Прежде их явно так роскошно не наряжали: каждая выступала из своего укрытия гордо, с каким-то завороженным восторгом, как будто летела в своих мягких шелковых туфлях к своему креслу посреди залы. Но не это заставило мое сердце биться с удвоенной силой. Как вы помните, я купец: коммерция у меня в крови. Я бывал на многих торгах, но ни разу на подобном. Аукционист знал свое дело — его голос не заглушал бормотание в зале, но взгляд не пропускал ничего, он кивал, едва заметив воздетую руку, или с легкой улыбкой предлагал назвавшему более низкую цену снова включиться в спор. Возбуждение в зале было необыкновенное. Такие девушки очень редко попадают на рынок, а для собравшихся мужчин собственное состояние ничего не значило в сравнении со страстным желанием купить себе такую… и, думаю я, со страстным желанием победить остальных претендентов. Разумеется, я не мог присоединиться к ним, даже если б захотел. Называемые кругом цены намного превосходили все мои возможности. Я был всего лишь торговец кофе, сторонний наблюдатель, который, по сути, и не имел права находиться здесь и наблюдать за игрой этих богачей.
— После того, как примерно полдюжины девушек было распродано, объявили временную остановку торгов. Чтобы якобы обнести участников прохладительными напитками, но на самом деле, чтобы возбудить накал страстей до наивысшей точки. И, — весьма лукавая задумка ханым с ее сынком, — во время кофепития было предложено некое представление. Никаких непристойностей: девушки просто вышли из своего укрытия, одни стали наигрывать на музыкальных инструментах, другие играть друг с другом в шахматы.
Тут мужчины повскакали с мест и начали ходить по зале, как бы беседуя друг с другом или любуясь изразцовым узором колонн, а на самом деле, чтобы получше рассмотреть девушек, которые еще не распроданы. И тут я услыхал: шепот пробежал по собравшимся. Был там один юноша, чьи одежды выдавали в нем знатного султанского вельможу. До меня донесся слух, что он намерен купить самую лучшую девушку и подарить ее султану в надежде получить за это в дар от султана звание правителя какой-нибудь области или что-то в этом роде. Прочие покупатели гадали, какую девушку выберет он.
Я оглядел залу, оценивая товар его глазами. Все светлокожие девушки были, как я уже сказал, распроданы. Возможно, он прельстится той венгеркой с длинными светлыми волосами, которая так искусно танцует? Похоже, и мамаша купца считала также: ханым суетилась вокруг девушки, оправляя на ней одежду, как на невесте, готовящейся идти к алтарю.
И вдруг я заметил за одним из шахматных столиков другую девушку, очень черную, очень красивую. Это была типичная африканка, она определенно несколько лет уже жила в гареме. На ней был кафтан из тонкого сверкающего шелка; она с серьезным видом передвигала фигуры на шахматной доске. Меня это заинтриговало: она играла в шахматы не для вида, как другие, то и дело стрелявшие глазами в мужчин; с истовой решимостью она полностью сосредоточилась на игре. Было видно, что ее задача — именно выиграть.
Такое было ее отношение к торгу, к покупателям, ко всему этому бесстыдному представлению: она попросту отодвинула все это от себя, вместо этого сосредоточившись на занятии, в котором была способна стать истинной победительницей. Это меня в ней восхитило.
Проходя мимо ее столика, я задержался. Ее противница была крайне слабая шахматистка, во всяком случае, явно не шахматы занимали ее в тот момент — ее больше интересовало то, что происходит в зале. Когда после нескольких ходов она сдалась, я шагнул к столику.
— Вы окажете мне великую честь, — сказал я, — если позволите присоединиться к вам в вашей игре.
Африканка повела плечами и расставила на доске фигуры. Я сделал пару простейших начальных ходов. Мне хотелось понаблюдать, как играет она. Приличия гарема требовали, чтобы она мне проиграла, польстила бы моему самолюбию. Через несколько ходов, я почувствовал, что такое возможно. Как вдруг — внезапно — искра отчаянной решимости вспыхнула в ее глазах, и она предприняла попытку меня обыграть.
Во время игры я изучал ее лицо. Она не поднимала на меня глаз — это считалось бы возмутительной наглостью, во всяком случае, в данных обстоятельствах. Но я не мог не оценить ее красоты. Что ж, вы сами видели: не буду описывать ее вам. Но, пожалуй, я опишу ее характер. Это была девушка, которой определенно нельзя овладеть — которую нельзя ударить. Всеми своими жестами она показывала, как ей ненавистно все, что здесь происходит, что ее выставляют напоказ. Победа надо мной была единственно возможной местью ее, пусть малой, но все же свидетельством ее непокорности.
И тут я почувствовал, что кто-то еще остановился у столика, за которым мы играли. Это был тот самый молодой сановник. Он следил за нашей игрой, и что-то в его молчании навело меня на мысль, что и он нашел в этой африканской девушке нечто неординарное. Я поднял голову, надеясь хмурым взглядом его отвадить, но он уже отошел.
Когда мы все вернулись на свои места, торговец огласил следующие лоты. Последней в качестве кульминации выставлялась на продажу самая светлокожая девушка. Первой выпал черед африканке. Торговец бегло зачитал перечень ее достоинств: знание языков, владение музыкальными инструментами, стрельба из лука, бег. Ее явно выставляли как нечто экзотическое, как некую новинку — некое образованное человекообразное. Двое несколько беспорядочно принялись торговаться друг с другом, вздымая цену до величин, судя по всему, весьма значительных. Их соревнование было внезапно прервано усталым взмахом руки вступившего в торг молодого вельможи.
Я тотчас раскусил его игру — он хотел показать, что просто пришла шальная мысль, почему бы не позволить себе и еще одну покупку. Хотя основной его интерес направлялся на иной объект, он был не прочь заодно прихватить и Фикре. Этот маневр мог обмануть иных из присутствовавших в этом зале. Но только не меня. Пусть я был не слишком сведущ в отношении невольниц, но я знал все о торгах. И была еще одна причина, по которой я так точно угадал намерения молодого человека: у меня были те же.
Играя с ней в шахматы, я успел в это короткое время… не то чтобы влюбиться в нее, но, пожалуй, подпасть под ее чары. Нечто поразительное овладело мной — интуитивно, всепоглощающе, всем существом я понял, что не позволю этому человеку и никому другому отнять ее у меня и сломить ее волю.
Торг был кратким и бурным. Молодой вельможа, пожав плечами, назвал солидную сумму. Прочие с поклоном отсеялись. Молоток ударил один раз. Как вдруг — возбужденный шепот, вернее озадаченный. В торг включился еще один покупатель. Некто дерзко осмелился вырвать эту необычную покупку из-под носа вельможи. С внезапным изумлением я обнаружил, что это был я. Моя рука воздета вверх. Вельможа выгнул бровь и снова поднял руку, возвещая, что вызов принят. Я прищелкнул пальцами — этот жест припахивал грубостью, но мне было не до приличий. Все уставились на нас. Вельможа нахмурился и удвоил цену. Тут уж было не до притворства, не до запоздалых намерений. Он хотел ее. Я тоже — но цена уже превышала мою выручку за целый год. Я снова поднял руку. Снова тот другой удвоил цену. Я понял, если мне повезет сейчас, мне придется заложить все, что я имею — в том числе и ее. Меня это не остановило. Я поднял палец, навел на распорядителя торгов и выкрикнул сумму настолько невообразимо громадную, что это граничило с абсурдом. Он принял мою ставку с поклоном и вопросительно взглянул на моего противника. Снова цена была удвоена. Снова я оказывался в проигрыше — но вот после минутного раздумья я снова удвоил цену.
Внезапно вельможа моргнул, развел руками, замотал головой. Все было кончено. Краткий порыв рукоплесканий — которые быстро стихли, как только до присутствующих дошло, что едва ли стоит аплодировать победе бедного купца над могущественным представителем свиты султана. Аукцион продолжался.
Во время всего этого действа Фикре, сидевшая посреди залы, нарочито не поднимала глаз. Но вот она подняла голову и взглянула на меня. Никогда не забуду этот взгляд. Он выражал крайнее презрение.
Я поставил на карту все, лишь бы стать ее обладателем — человеком, от которого зависела бы ее жизнь и смерть, — она же не выразила ни страха передо мной, ни интереса, будто я не более чем жалкий уличный мальчишка, отвесивший ей комплимент.
Где-то позади в серебристой тьме верблюд исходит переливчатым бульканьем, потом чмокает губами, производя звук наподобие хлопка. Хозяин что-то говорит ему, тихое бормотание бедуина.
— Да, я стал ее обладателем, — тихо, как будто про себя произносит Бей. — Представьте, если сможете, что это значит. Всю ответственность… все решения, которые я должен принимать. Представьте, в какое сложное положение теперь я попал.
— Отчего?
— А? — будто очнувшись, переспрашивает Бей.
— Отчего вы попали в сложное положение?
Мне кажется, Бей не столько рассказывал для меня, сколько для себя самого. Он явно весьма удивлен моим вопросом.
— Это, друг мой, уж история для другого раза, — бросает он, припуская своего верблюда вперед к головной части каравана.
Очередная стоянка, очередная попытка заснуть в часы дневного зноя. Когда солнце, наливаясь, как спелый плод, наконец, густо краснеет, мы загружаем своих верблюдов. Песок под ногами теперь уже не похож на кварц, он черен — россыпь черных гагатовых бусинок; теперь мы в вулканической стране, в самаду.
Рядом со мной едет Десмонд Хэммонд, по самые ноздри замотанный бедуинским платком от летучего песка; его задубевшая, в морщинах от солнца физиономия уже почти как у африканца. Долгое время он молчит, потом произносит;
— Вы уж простите, Роберт, только на плантатора, по-моему, вы не слишком похожи.
— Пару месяцев назад я счел бы это за высочайший комплимент.
Хэммонд хмыкнул:
— Что, были причины сюда отправиться, да?
— Еще какие!
— Там, куда вы едете, европейцев почти не будет. Не говоря уж об англичанах. Если у вас возникнут сложности… Можете попытаться отправить нам письмо с бедуинами. Как ни удивительно, они вполне надежны, хоть и несколько медлительны.
— Благодарю, — говорю я искренне.
— Могли бы вместе с вами, если хотите, заняться торговлей. Я слышал, там есть и слоновая кость, и золото, и бриллианты. Если вздумаете продать что-нибудь, дайте мне знать.
— Думаю, моим ближайшим соседом будет Бей. В Хараре.
— Бей… — Хэммонд готов что-то сказать, но, видно, передумал. Кивает на Фикре, которая бредет за верблюдом Бея, держась рукой за повод. — Известна вам история про эту его женщину?
— Да. Как раз прошлой ночью он мне рассказал. Как купил ее на торгах.
Хэммонд снова хмыкнул:
— Это он так говорит.
— Вы что, ему не верите?
— Я не верю всей этой истории. Лицемерней арабов в свете нет никого, а уж араб-торговец лицемер из лицемеров.
— Предприятие моего хозяина уже многие годы ведет с ним дела. Я сам испробовал его кофе. Его товар неизменно весьма высокого качества.
Произнося это, я поймал себя на мысли, что, наверно, то же справедливо и в отношении к Фикре с торгом невольниц, — Ибрагим Бей просто всегда нацелен на самый лучший товар, будь то кофе или рабыня.
— Знаете, что говорят о Бее бедуины?
Я отрицательно качнул головой.
— Они говорят, что он слишком чувствительный. Считают, что купил девушку из самой презренной надобности — потому что влюбился.
— Что ж в этом такого ужасного?
— Дело с утехой не смешивают. Вдумайтесь. Ну, купил он ее. И что дальше?
Я уже представил себе в мельчайших подробностях рычащий экстаз срывания девственных лепестков, как следствие подобной покупки.
— Он ведь не шлюху покупает, — продолжал Хэммонд. — Такая девушка в их понятии это вовсе не блудница, такая во сто крат дороже стоит. Но цена ее зависит от двух обстоятельств. Первейшее — ее девственность, — не забудьте, Бей выложил за нее немалое состояние. Стоит ему ей овладеть, как она потеряет цену. Таковы особенности подобной торговли. Девушка будет стоить столько, сколько он за нее заплатил до тех пор, пока до нее не дотронулся мужчина, и он в том числе.
— А другое обстоятельство?
— Молодость, — припечатал Хэммонд. — Богатые арабы покупают жен, вступающих в период половой зрелости. К восемнадцати годам женщина уже сильно теряет в цене. Двадцатипятилетняя уже ничего не стоит — и уже, конечно, не попадет в крупный гарем.
Так что представьте теперь себя на месте Ибрагима Бея. Вы выложили состояние за эту девушку — все свое богатство вложили вы в нее. Вы ее владелец, вы можете делать с ней все, что вам заблагорассудится. И наверняка грезите о подобном. Ну, разумеется, как же иначе. Достаточно на нее взглянуть — ее захочет каждый. Но, будучи торговцем, вы также понимаете, что стоит вам это сделать, как она уже не будет стоить ничего. Ваши деньги, ваши вложения утекут бесследно, как вода сквозь песок.
Так продать или трахнуть? Неизбежный вопрос. И вы медлите в оцепенении, пытаясь его разрешить. Но злая ирония заключена в том, что пока вы ждете, она день за днем теряет в цене.
А вы все никак не можете решиться. Проходит год. К этому времени уже всем известно ваше злосчастье. Вы становитесь объектом насмешек — а для торговца это весьма пагубно. Люди не хотят иметь с вами дел, а если имеют, норовят вас надуть. Вы не можете рассчитывать на ссуду — кто даст вам в долг, если всем известно, что вы не способны заставить себя продать единственное свое достояние? Ваши соперники потешаются у вас за спиной. Между тем сама девушка становится все капризней и своенравней. Вы понимаете, что единственный выход это решиться и продать ее. Но что-то вас останавливает… Сантименты.
— Он обмолвился, что попал в сложное положение, — говорю я. — Должно быть, он это имел в виду.
Хэммонд кивает:
— Я уже достаточно давно блуждаю по Восточной Африке. Приходится наблюдать разный народ — арабов, африканцев, европейцев. Мы, европейцы, решаем для себя, что делать, и затем это делаем. В этом наша сила. У африканцев ментальность иная — они выжидают и смотрят, как все обернется: жизнью они не управляют. И в этом, в какой-то степени, их сильная сторона — их гибкость. Но арабы — самая восхитительная нация: вы никогда не поймете, как они к вам относятся. Их намерения всегда неясны: то ли в силу их религии, то ли из тщеславия, то ли из гордости. — Помолчав, он продолжает: — Думаю, сказанное можно свести к одному: держитесь с Беем на расстоянии. Одним словом, он не такой, как они, но и не такой, как мы.
Всю ночь мы бредем по зыбкому, черному, каменистому песку. Временами накатывает ветер, теплый и сухой, возбуждая шепот этой черноты, вздымая ее вихрями до щиколоток бредущих. Иногда мне начинает казаться, будто мы тащимся по бесконечной пустыне из поджаренных кофейных зерен. Вода на исходе. Верблюжьих погонщиков ограничивают двумя хлебками. Никто не осмеливается ограничить в питье белых, но я стараюсь не превышать нормы погонщиков. Когда наступает черед Мулу, он лишь смачивает губы и передает свою чашу Фикре.
Нынешняя ночь выдалась безлунной, двигаться приходится медленно. Мало-помалу улавливаем какое-то смятение, какую-то дрожь в воздухе, и она, нарастая, переходит в звук, напоминающий далекий гром. Это барабаны.
В кромешной тьме невозможно определить, в какой это стороне. Как вдруг я с ужасом осознаю, что «оно» вокруг нас — спереди, со всех сторон тьма говорит сама с собой, звуки, как громовые раскаты по небу, разносятся эхом по глухой пустыне.
Мы все замираем. Никто не понимает, что это.
— Должно быть, галла собираются выступить, — произносит наконец Хэммонд.
Мы продолжаем двигаться, но с осторожностью. И вот темнота разражается пением. «Оно» совсем близко, но поющих не видно. Мы сходимся тесней, по четверо в ряд, верблюды снаружи. Бедуины в страхе вытаскивают кинжалы. Хэммонд щелкает затвором ружья.
— Что они поют? — спрашиваю я.
Хэммонд пожимает плечами:
— Это на языке галла.
Внезапно Фикре произносит:
— Это песнь войны. В ней поется: «Без поцелуя нет любви. Без крови нет копья».
Впервые я слышу, как она говорит по-английски. Слова звучат с сильным акцентом, как у французов, говорящих по-английски, — но грамматически на удивление точно. Голос у нее низкий, она слегка пришепетывает, как будто язык упирается в зубы.
— Я их пугну! — Хэммонд поднимает ружье и четыре раза стреляет в воздух.
Верблюды испуганно кидаются вскачь, но скоро успокаиваются.
Пение резко обрывается. Слышны только визгливые вздохи шуршащего черного песка под ногой.
На рассвете мы натыкаемся на груду костей. Сначала видим грифов, медленно кружащих над чем-то впереди на песке. Потом вырисовывается горбатый силуэт верблюда. На спине его сидит птица, методически долбящая клювом верблюжью плоть.
Приближаясь, видим еще одного верблюда, и еще одного. Мы почти натыкаемся на них, только тогда замечаем и еще кое-что. Грифы отскакивают на несколько ярдов в сторону, выжидая, пока мы снова позволим им продолжить пир.
Между верблюдами останки четырех человеческих тел. Растерзанные останки — черная плоть, сквозь которую торчат белые кости, дочиста обчищенные клювами птиц. Прочие кости валяются сбоку, концы обломаны, как будто их тащили и вырывали друг у дружки.
— Гиены, — бросает Хэммонд. — Но людей убили не они.
Делаю над собой усилие, чтобы взглянуть. Любители падали первым долгом принимаются за мягкие части тела — глаза, лицо, живот. Одно изуродованное лицо представляется мне похожим на женское. Подбородок объеден полностью, одни зубы торчат.
— Наверняка, это бедуины, — говорит Гектор. — Бедняги.
— Вполне могут быть и европейцы, — коротко бросает Хэммонд. — Когда мясо гниет, всегда темнеет.
— Надо двигаться дальше, — говорит Бей. — До Биокобобо еще целый час пути.
Мы пускаемся в путь. О захоронении трупов разговора нет. Солнце по-прежнему высоко в небе. Осевшие в песке верблюды пустыми глазницами смотрят вслед нашему каравану.
«Пряный» — это определение аромата типично для запаха нежных пряностей, таких как гвоздика, корица и душистый перец. Дегустаторы стараются не использовать этот термин при описании ароматов острых приправ, таких как перец, орегано или индийские специи.
Биокобобо — место нашего привала — оазис в полном смысле этого слова: небольшой городок с песочного цвета домиками, пристроившимися среди пальмовых деревьев. По одну сторону от этого поселения находятся три сверкающие кобальтом озерца. С одного края открывается вид на пустыню; дальнейший путь ведет вверх в горы.
Нам предстоит пробыть здесь несколько дней, чтобы восстановить силы и дать воинствующим галла пройти мимо. Здесь есть небольшой базар; питаемся фигами, орехами, кокосами, плоскими хлебами, сыром из молока верблюдицы. Мы с Гектором плаваем в одном из вади,[37] извлекая кое-что необходимое из упакованного багажа. Просто поразительно, как после многодневного отсутствия всякого комфорта озерцо со сверкающей водой и возможность расположиться с походной кроватью начинают казаться неимоверной роскошью.
Пытаюсь писать. Дорогая Эмили, пишу это прямо среди пустыни. Ужин наш — очередная коза — жарится на вертеле над костром. Становлюсь большим знатоком по части коз… Но закончить письмо не способен, и это не из-за жары. Не могу в точности вспомнить ее лицо. Достаю из багажа Определитель и в тени одного из домиков осторожно откупориваю пару ароматных бутылочек. Запах кажется пресным, бесплотным. Или, может, я просто утратил обоняние — в ноздри с давних пор впечаталась вонь от грязного, потного верблюда.
Мы едим козлятину, посыпанную бербери — сушеным толченым чили: попробуешь и оторваться уже просто невозможно. Фикре и Мулу вместе с нами не едят, садятся поодаль в сторонке. Иногда он расчесывает ей волосы стальным гребнем, а в данный момент они разговаривают, тихо, но оживленно, на языке, который я не могу определить. Вижу, как она смеется — легко, раскатисто, и со смехом поддевает его плечом. Как школьница подружку. Он, смутившись, лишь улыбается.
Пару раз замечаю, что она поглядывает в мою сторону, но ее взгляд не выражает ничего: теперь в нем ни следа той напряженности, того немого отчаяния, что я уловил тогда в шатре Бея. Даже закралось сомнение — может, я превратно истолковал тот взгляд… Но ведь кофейное зерно было вложено в мою ладонь.
На второй день нашей стоянки в Биокобобо я просыпаюсь неожиданно рано. Вздохнув, поднимаюсь, потягиваюсь, выхожу наружу. В полутьме вижу стройный силуэт, окутанный голубым покрывалом, поспешно движущийся к вади. Фикре.
Мелькнув между пальм, она исчезает из виду. Ну да, вчера искупаться ей не удалось, в воде плескались мужчины, и вот, чтобы никто не видел, идет сейчас. Я не колеблясь пускаюсь по другой стороне вади и успеваю как раз в тот момент, когда она распускает свое покрывало.
В тусклом свете утра ее кожа сверкнула полированным металлом. Она ступает в воду, и я ловлю взглядом темную поросль, россыпь семян душистой гвоздики, у нее между ног: соски ее небольших, крепких грудей также темны до черноты. Я нетерпеливо и жадно взглядом поглощаю ее, глоток за глотком, как крепкий кофе. Вот она поворачивается ко мне спиной. Зачерпывает воду, чтоб умыть лицо; спина у нее литая, узкая, по-змеиному гибкая. В занимающемся рассвете водные брызги, вспыхивая, летят алмазным дождем. Она погружается глубоко в воду, с всплеском выныривает и плывет прямо к тому месту, где стою я.
Я прячусь, чтоб она меня не заметила. Но вдруг почему-то передумываю и уверенно делаю шаг вперед, чтоб она знала, что я за ней наблюдаю.
Так же уверенно она встает из воды. Воды в водоеме ей по пояс. Вода течет с нее, полируя черную кожу. Яхонты капель спадают с грудей.
Я чувствую шеей, как учащается пульс.
Бесконечный миг мы смотрим друг на друга. Вдруг в рассветном воздухе звякает козий колокольчик.
Она поворачивается и идет обратно туда, где осталась ее одежда, ее ноги медленно ступают по кристальной воде.
Без поцелуя нет любви.
Без крови нет копья.
Пока это единственные слова на английском языке, услышанные мною от нее. Я снова слышу их — произносимые с ее причудливым французским выговором, — и понимаю, что становлюсь безнадежно ею одержим.
Я жажду поговорить с ней наедине, но в этом мне препятствует Гектор, настроенный использовать нашу передышку, чтобы постранично проработать монографию «Кофе: выращивание и прибыль», — а также Ибрагим, настроенный к разговорам о поэзии.
— Ваш будущий тесть говорил мне, Роберт, что вы писатель. Знакомы ли вы с творчеством Хафиза?
— Боюсь, что нет.
— Тогда, быть может, вы читали стихотворные произведения Саида Акля?
— Это имя мне не известно.
— А сонеты Шекспира?
— Ну, разумеется, читал!
Я несколько уязвлен тем, что меня можно счесть полным невеждой оттого, что не читал ничего арабского.
— Как-нибудь я прочту вам стихи Хафиза из Шираза. Это был перс, но как глубоко мыслил. «Взвесив влияние разума на любовь, я открыл, что оно как капля дождя, падающая в море, оставит легкий след на поверхности и исчезнет…»
— Весьма любопытная мысль.
— Роббэ? — гудит рядом другой голос. — Послушайте-ка: «Посадив кустики кофе на горе Килиманджаро, автор по истечении шести месяцев эксперимента обнаруживает, что молодые саженцы превосходно развиваются».
— Весьма впечатляет, Гектор.
— «Подобно Хафизу, пей вино под звуки струн, ибо и сердце звучит шелком струн своих». Как я завидую вашему занятию, Роберт! Воистину поэт царь над людьми.
— Как это верно, Ибрагим.
— «Порой при недостатке времени известны случаи, когда землю в местах, предназначенных для посадки, ковыряют и рыхлят ломами, но это мера негодная и неблагодарная. Делайте посадочные ямы глубже, как только позволяют вам средства и ваше терпение».
— Благодарю, Гектор. Непременно приму это к сведению.
Это просто несносно. В тисках между рассуждениями Бея о любви и рассуждениями Гектора о вбивании кольев, о посадочных ямах, выращивании саженцев и мульчировании, мне не оставалось ничего иного, как ждать, когда караван снова двинется в путь.
Я тайно лелеял образ грациозного обнаженного черного тела, ступающего в водоем среди пустыни. Я столько времени уже не имел женщины.
— Не хотите ли кофе, Роберт?
Я поднимаю глаза. Это подошел Бей, хочет присесть рядом. Я пытаюсь читать рассказ в «Желтой книге», некий салонный юмор Мередита. Но, признаюсь, сосредоточиться никак не мог, даже до этого вмешательства.
— У вас есть с собой?
— Разумеется. Никогда не путешествую без мешка с зернами. — Бей хлопает в ладоши. — Фикре — Мулу! Кофе, прошу вас.
Оба поспешно приближаются. В мгновение ока разводят огонь, распаковывают кофе, находят глиняный кофейник и чашки, мелют зерна. Разведенный огонь доводят до нужной температуры. Откуда-то извлечена миниатюрная чаша с розовой водой.
Пожалуй, все готово, чтоб мы насладились кофе.
— Гектор! — окликает Бей.
— Айэ, если насчет кофе, я присоединяюсь.
Фикре подходит, чтобы оросить нам лица розовой водой, — вся в поту, на черной коже крохотные серебристые капли. Я заглядываю ей в глаза. Но они пусты, невыразительны.
И тут чувствую: мне в руку скользит кофейное зерно. Я наклоняюсь и дотрагиваюсь до единственного места, недоступного взглядам Бея и Гектора, провожу рукой по ее лодыжке, на мгновение сжимаю.
Ее глаза по-прежнему не выражают ничего. Совершенно ничего. Но внезапно чувствую: она дрожит, будто стоять вот так ей стоит неимоверных усилий.
По пути из Биокобобо мы пересекаем плоский бассейн реки Дахелимале, и начинается подъем в горы. Иногда мы проходим мимо возделанных земель — длинные узкие полоски разбросаны явно беспорядочно среди зарослей. Рослые чернокожие расхаживают все как один с палкой поперек плеч, согнутые в локтях руки перекинуты через нее вперед, кисти болтаются на ходу. Женщины обернуты тонкой алой, бирюзовой или зеленой тканью. На лбу украшения из монеток. Дети голы. Хижины их в виде бугров, покрытых кожей или ковриками. Возникает ощущение, что все это времянки.
Бесконечное путешествие уже начинает изматывать. Теперь исчезло чувство опасности, возникавшее, когда шли через пустыню, но горы к концу каждого ночного перехода кажутся все такими же далекими, как в начале пути.
Милая Эмили.
Я тупо смотрю на чистый лист. Он как соляная пустыня — яркое белое сияние, по которому пляшет слепящими бликами солнце. Похоже, слова, как и мысли, из меня испарились.
Я прикрываю глаза. Лицо Эмили всплывает передо мной. Она хмурится.
— Роберт, сосредоточьтесь! — говорит она.
Я улыбаюсь, открываю глаза. Но передо мной все тот же назойливо чистый лист.
— Кофе! — призывает Бей.
Запах жареных зерен стелется по лагерю; я сворачиваю листок, засовываю в карман.
— Иду.
Кажется мне или Бей в самом деле сегодня пристальней, чем обычно, останавливает свой взгляд на мне и Фикре, когда она готовит кофе. Взгляд из-под нависших век тяжел и непроницаем. Фикре омывает нам лица, потом подносит чашки с кофе. Передать что-либо нет никакой возможности.
Но, допивая кофе, я обнаруживаю на дне что-то. Зернышко среди гущи.
Часами я ломаю голову, что могут означать эти дары. Возможно, разгадка таится в разновидностях каждого зерна? Но рассмотрев зерна, обнаруживаю, что все они обычный харарский «мокка», те самые, из которых приготовлен кофе.
И вдруг меня осеняет. Не в зернах заключен смысл: смысл в самой тайной их передаче. Она дает мне этим понять, что в этом заключено ее ко мне доверие — единственное, чем она в этой жизни располагает, единственное, что способна предложить.
Наконец, во вторую ночь после Биокобобо, внимание Бея переключается на нескончаемое перемалывание с Гектором достоинств и недостатков контракта. Я замедляю шаг, потихоньку пробираясь к хвосту каравана, туда, где Фикре. Она оглядывается по сторонам, потом тоже убавляет шаг. Как бы случайно мы с ней оказываемся среди бедуинов, их верблюды заслоняют нас от прочих глаз.
Всегда есть вероятность, что кто-то нас может подслушать. Мы изъясняемся недомолвками, вернее, обмениваемся пустыми, ничего не значащими фразами.
— Ты очень хорошо говоришь по-английски, — шепчу я.
— По-французски лучше.
— Je suis Robert. Robert Wallis.[38]
— Oui. Je sais. Je m’appele Fikre.[39] По-абиссински это значит «любовь».
— Боюсь, мое имя совсем ничего не значит.
— Но это хотя бы твое настоящее имя, — говорит она, зло скривив губы.
— Так, значит, Фикре…
— …это то, как вздумал назвать меня хозяин. У меня, как у собаки, ничего нет, даже собственного имени.
Впервые я ощутил силу ее… как тогда выразился Бей?.. «непокорности»? Я бы скорее назвал это неистовостью. Эта хрупкая девушка — вся как мощный кулак, сжатый в яростном сопротивлении.
Но вот она резко скакнула вперед. Бей, насупив брови, оглядывается через плечо на свой караван. В мгновение ока между ней и мной пространство уже в три десятка футов.
Теперь мне становится ясна суть и еще одного послания этих зерен. Я превратно истолковал в ней дрожь, напряженность как боязнь. Нет, главное жизненное чувство этой девушки не страх. Глубинная, всепоглощающая злость. Как иная женщина может быть охвачена неистовой любовью, так и эта девушка охвачена неистовой ненавистью к купившему ее человеку. И ко мне ее отчасти влечет сладкая возможность мщения.
«Нежный» — приятный, чистый и мягкий кофе, лишенный всяческой остроты.
Ужин удался на славу. Наряду с Артуром Брюэром, Пинкер пригласил еще и старика Лайла, ныне почетного союзника в борьбе против Хоуэлла, а также несколько прочих сторонников свободного рынка. Эмили ловит себя на мысли, что ей хотелось бы за столом оказаться рядом с членом Парламента. Что и случилось: они входят в зал, и она обнаруживает, что ее место как раз по его левую руку. Одновременно с радостью возникает тревога. Ее настораживает не то, что ей придется его развлекать, — она не сомневается в своем умении вести глубокий разговор на политические темы, — а то, что она понимает: отец ни за что не посадил бы ее сюда, если б не считал, что это приятно обоим, ей и соседу.
И впрямь, не успели покончить с супом, как Брюэр, переключил внимание с соседки по правую руку на Эмили.
— Итак, — говорит он с улыбкой, — что вы думаете насчет попытки Лайла подорвать сахарную монополию?
— Она закончилась весьма трагично, — отвечает Эмили. — Но скажите мне как либерал, разве внутри блока Свободной Торговли нет никаких противоречий?
— В каком смысле? — удивленно вздымает брови он.
— Если, предположим, цены на сахар будут искусственно поддерживаться высокими, разве не позволит это, скажем, сэру Генри Тейту лучше заботиться о своих рабочих?
— Возможно, — кивает Брюэр, — хотя вовсе не обязательно.
— Между тем, если дать волю рынку, рабочим всегда будут платить по скудному минимуму.
— Это так.
— Значит, Свободная Торговля может вступить в противоречие с личной свободой рабочих, — продолжает Эмили, — отказывая им в возможностях, которые должна была бы дать им их личная свобода. Они не будут свободны от болезней, от нищеты, от моральной деградации, как не будут иметь возможности или стимула подняться над их нынешним положением.
Брюэр в восхищении смотрит на нее:
— Мисс Пинкер… Эмили… как красноречиво и емко вы отразили всю суть разногласий, которые в настоящее время заботят нашу партию.
— Правда? — Эмили до смешного льстит этот комплимент.
— Разумеется, Гладстон полагает, что если просто оставить все как есть — то laissez-faire,[40] все это сработает во благо. Но мы начинаем открывать для себя изъяны такого подхода. Знаете ли вы, что половину тех людей, которых призвали воевать против буров, пришлось отправить назад на фабрики? Они просто не годны, чтобы воевать. Кое-кто из нас поговаривает теперь о некоем конструктивном либерализме или позитивной свободе, когда правительство стоит на страже свобод и благосостояния индивидуума.
— И что это практически означает?
Брюэр разводит руками:
— Не больше не меньше, как полное изменение роли государства. По сути, мы должны бы принять на себя немало обязанностей как просвещенные служащие. Скажем, почему не предоставить всем работающим некую форму медицинского страхования? Выплаты по болезни? Даже и пенсионные выплаты?
У Эмили едва не перехватывает дыхание:
— Значит, в этом суть вашей новой политики?
— Ну да.
— Как будет производиться выплата?
— Ну, разумеется, не за счет ввозных пошлин на кофе или чай — мы считаем своим долгом их сократить. Мы рассматриваем некую схему государственного страхования, куда каждый рабочий должен вносить некий вклад в зависимости от своих возможностей. — Брюэр улыбается. — Хочу подчеркнуть, что путь к этому довольно долог. Даже и в нашей партии тень, брошенная Гладстоном, весьма ощутима. А, — он переводит взгляд на стол, — те, чья добровольная поддержка нам так необходима, еще не вполне к этому готовы.
— Могу ли я чем-то помочь?
— Вы серьезно?
— Для меня нет в жизни ничего более серьезного.
Это как раз то, во что Эмили всегда верила: некий баланс между патернализмом просвещенных тори и алчностью свободного рынка. Но так радикально… так потрясающе ново… не какой-то призрачный компромисс, но совершенно новый путь вперед. Сердце ее учащенно бьется.
— Готовы ли вы, — спрашивает он с сомнением, — скажем, вести работу с избирателями? В моем административном округе Илинг мы крайне нуждаемся…
— Да, да! Пожалуйста! Какую угодно!
— Что такое? — взволнованно вопрошает Линкер, который сидит во главе стола. — Что это вы там замышляете, Брюер, вместе с моей дочерью?
Не сводя глаз с Эмили, Артур отвечает:
— Мисс Линкер вызвалась предложить свои услуги, Сэмюэл. Я и понятия не имел, что ее так интересует политика. Конечно же, первым долгом я бы испросил вашего позволения…
Линкер благосклонно улыбается:
— Пусть Эмили в свободное время занимается, чем ей заблагорассудится. Если вам, Артур, она может быть полезна, ради Бога, подключайте ее.
«Насыщенный» — определяет газы и пары, присутствующие в ярко выраженной крепости напитка.
На следующий день, едва мы пытаемся вздремнуть, поднимается дикий шум. С тяжелой головой просыпаюсь под звуки стрельбы. Трое бедуинов держат, прижав к земле, четвертого. Он молит о пощаде, исторгая свои мольбы нескончаемым потоком. То и дело пытается вырваться, но его поднимают, снова валят на землю, со всей силы пинают ногами. Похоже, он был схвачен, когда пытался бежать, прихватив кое-что из товара Бея.
Собрали импровизированное судилище — бедуины на корточках образовали круг, в центре стул для Бея, по обеим сторонам от него стулья для Гектора и меня. Предчувствуя, что должно произойти нечто малоприятное, пытаюсь устраниться, но бедуинов это огорчает.
— Вы должны присутствовать, Роберт, — весьма категорично говорит Бей. — По их разумению, они оказывают нам большую честь, представив вора на наш суд.
Нехотя я усаживаюсь. Вора выволакивают в круг, пинком заставляют пасть перед Беем на колени. Краткий диалог: обмен парой фраз, не более. Извлекается сабля и подается купцу.
Двое бедуинов поднимают вора с колен, растягивают его с двух сторон за руки. Непрерывный протест несчастного перетекает в вопль. Бей делает к нему шаг. Свист сабли. Один из держащих виновника отступает назад. Мгновение, и тот падает в противоположную сторону.
Державший вора за левую руку, продолжает его держать. А вор в ужасе смотрит на истекающий кровью обрубок. Кровь жутко, толчками исторгается наружу.
Не спеша, как дело привычное, один из погонщиков затягивает жгут вокруг кровоточащего запястья и, поддерживая, уводит виновника. Отрубленная кисть отброшена на землю перед Беем, который не удостаивает ее вниманием. Отбросив саблю, он покидает пределы круга. Бедуины, до этого хранившие настороженное молчание, принимаются буднично обмениваться впечатлениями, точь-в-точь как зрители после какого-нибудь домашнего спектакля.
Позже застаю Бея у мешков с товаром. Он хмур. Не хочу ему мешать, но он подходит ко мне.
— Наверное, вы считаете подобное делом неприглядным, — бросает он.
— Не берусь судить.
— Если бы я не вынес такой приговор — а он вполне соответствует их законам, — они бы его убили. При этом меня — и вас, и всех нас, ferengi,[41] — они считают слабыми, немужественными людьми. А в здешних краях слыть такими для нас весьма опасно.
— Понимаю.
— Понимаете, да?
Бей впился в меня взглядом, как будто искал во мне что-то, опровергающее мой ответ. Видимо, удовлетворившись увиденным, он хмуро изрек:
— Если бы лондонские любители кофе могли представить, какой ценой он достается, а, Роберт?
Теперь мы поднимаемся в горы. Полуразрушенные дворцы гнездятся на недостижимых скалах, над их зубчатыми стенами совершают свой облет орлы и коршуны. Видим коров — низкорослых и тощих, их головы венчают высокие, изогнутые в виде лиры рога. Даже у деревень вид иной. Вместо приземистых шатров кочевого люда здесь деревянные, крытые соломой хижины. Наружность жителей аборигенская: круглые лица, плоские носы. Странное смешение средневековья и древности: вряд ли меня удивит, если из-за поворота выскочит на боевом коне крестоносец.
Разбиваем лагерь у горного озера, заселенного пеликанами, и покупаем рыбу у местного жителя. Его весы ослепительно сияют, как будто выкованы из металла. Разводится огонь, жарится нанизанная на пруты рыба. Бедуины едят, тихонько переговариваясь между собой. После один за другим отправляются на ночлег.
Земля тверда, и ночь холодна. Я встаю и придвигаюсь поближе к огню.
Внезапной вспышкой высвечивается лицо за костром. Ее взгляд прикован к пламенеющим углям. В неистовом блеске глаз, как и на гладкой коже, играют отблески огня. Под покрывалом лицо волшебной красоты. Любая лондонская красавица жизнь отдала бы за такой овал.
— Ни о чем, кроме тебя, думать не могу, — шепчу я.
Мгновение мне кажется, что она не поняла. Как вдруг отчетливо, с четким акцентом она произносит:
— Не говори так. Так он говорит.
— А если это правда?
Она презрительно фыркает:
— Говорил он тебе, как меня получил?
— Говорил.
— Любит об этом говорить. Думаю, ему в голову не приходит, что по мне лучше б меня купил тот, другой.
— Почему?
Она поводит плечами:
— Перед торгом нам позволили пойти и собрать свои вещи. Я помнила, что на одном стеклянном изразце есть трещина. Стала ковырять осколок, пока он не оказался у меня в руке. Потом запрятала в одежду. Решила, если новый владелец захочет взять то, за что заплатил, прежде я перережу ему горло, потом себе.
Она снова переводит взгляд на гаснущий огонь.
— Каждую ночь я ждала. Но Бей не приходил. Это могло только означать, что он хочет продать меня. Но и этого он не делал. Это было странно… наконец я сообразила. Он хотел владеть мной и одновременно беречь меня, как какую-нибудь драгоценность, которую только он может вынуть из шкатулки, полюбоваться и снова убрать.
Она резко поворачивается ко мне. В полумраке я ясно вижу из-под ее полуоткрытых губ зубы, белые-белые.
Я придвигаюсь к ней. Миг колебания, и вот наши губы соприкасаются. Она обхватывает руками мою голову, еле слышно произносит:
— Пусть меня покупают, пусть продают. Но сердце мое им не принадлежит.
Еще один поцелуй, дольше. Она оглядывается на тени спящих.
— Надо остерегаться. Казнят и за меньшую провинность.
Она накрывает нас обоих с головой двумя нашими одеялами.
Здесь, во тьме, в этом укрытии под одеялами, как в детской игре… Запах ее дыхания: мирра, корица, фиалки, мускус… вкус ее кожи, ее языка, нежная теплота поцелуя, звуки, роняемые ею, ее прерывистое дыхание.
И слова, которые она шепчет, прильнув к моим губам:
Всю жизнь я ждала тебя.
«Кожаный» — это мощный, животный запах хорошо продубленной шкуры.
И вот Эмили включает политическую деятельность в круг своих интересов. Трижды в неделю в полдень она отправляется с вокзала «Ватерлоо» в Илинг, в контору к Артуру помогать ему в работе с избирателями. Среди добровольных помощников еще несколько суфражисток. Работа интересная, более того, увлекательная. Чувство товарищества, общих устремлений; ведь все эти, такие разные люди, из разных слоев общества, из разных побуждений объединяют свои действия во имя общего идеала.
Ведь у всех идеалов есть что-то общее. И вот что Эмили теперь понимает: мир разделен на тех, кто стремится использовать его ради собственного блага, и тех, кто хочет изменить его ради блага общего. Если ты сторонник перемен, тогда тебе по пути со всеми идеалистами. И тот, кто за равные избирательные права, и тот, кто за тюремную реформу, и тот, кто за Закон для бедных, и тот, кто за учреждение пенсий, — все идут в едином строю, все сплачиваются вместе, чтоб быть сильней.
А Артур — он глава их маленькой группы, но свое главенство осуществляет легко, никогда не забывая о том, чтобы поблагодарить добровольцев за их содействие в его работе. Иногда он приглашает кое-кого из помощников на чай в Палату представителей. Приглашает среди прочих и Эмили, и она очень ему благодарна, что особого внимания ей не выказывает. Провожает ее наверх, на Балкон для дам, откуда женщинам, скрытым за железным решетчатым ограждением, позволено наблюдать за деятельностью Палаты. Обсуждается ситуация с войной — либералы убеждают правительство гарантировать рабочие места всем тем, кого отправляют воевать за пределами Англии. Эмили поражена накалом страстей: точь-в-точь как страсти вокруг сахара на бирже. Но здесь агрессивность и потасовка еще более привычное дело. На ее глазах те, кто только что во весь голос оскорблял друг дружку, через пять минут покидают зал чуть ли ни в обнимку.
Артур ставит вопрос. Произносит его отчетливо и в подчеркнуто учтивой манере, и этим, похоже, слегка восстанавливает порядок. Садится под дружный хор: «Правильно! Правильно!» Когда Эмили встречает его в кулуарах, он победно сияет.
— Слышали, как я уязвил Адмиралтейство? — выкрикивает он. — Это им явно не по нраву.
Эмили его поздравляет. Мимо спешат какие-то люди. Один останавливается.
— Отличная работа, Брюэр! — говорит человек, улыбаясь и хлопая Артура по плечу.
— Благодарю вас, сэр, — гордо отвечает Артур.
Незнакомец переводит взгляд — завораживающий, лучистый взгляд, — на Эмили.
— А это кто? — спрашивает он.
— Мисс Эмили Пинкер — сэр Генри Кэмпбелл-Бэннермен, — представляет Брюэр. Особо, для Эмили: — Великий реформатор!
— Какого же вы мнения о нашем Парламенте, мисс Пинкер?
— Прекрасного! — с чувством отвечает она. — По-моему, здесь так много людей, пытающихся, что-то сделать, чтобы двигаться вперед.
— Пожалуй, хотя почти столько же и тех, кто пытается преуспеть в обратном направлении, — произносит сэр Генри, комично качая головой.
Стоящие вокруг весело смеются. На миг ее накрывает теплой волной причастности к этому умному, энергичному и талантливому содружеству.
— Мисс Пинкер проявляет особый интерес к женскому движению за равноправие, — замечает Брюэр.
— Да? — восклицает сэр Генри. — Но, как вы изволили заметить, — он указывает на окружение, — в текущий момент все присутствующие здесь мужчины. Именуем это место праматерью парламентов, но не допускаем в его палаты потенциальных матерей. Быть может, мисс Пинкер, настанет день, когда вы не только обретете право голоса, но за вас даже, возможно, станут голосовать.
— Вы действительно так считаете?
Улыбка сэра Генри говорила: разве могут быть сомнения? И с поклоном он исчез, уже окунувшись в разговор с кем-то из своей свиты. Окружение потянулось следом. А Эмили продолжала светиться, воспламененная мощью его оптимизма.
Артур распрощался с ней, проводив до станции подземки у Вестминстерского моста, откуда поезд увезет ее обратно к Лаймхаусу, и Эмили внезапно почувствовала себя ужасно неприкаянной, как будто оказалась изгнанной из Райского сада строгим, хоть и любезным ангелом.
Очередной дневной переход. Но пейзаж вокруг уже не тот. Теперь склоны покрыты террасами возделанных угодий. Если смотреть вниз с высоты, кажется, будто кто-то опутал землю гигантской сетью. Временами на глаза попадается пара рядов кустарника с темными восковыми листьями. Гектор толкает меня в бок и радостно хрюкает:
— Видали? Кофе!
Заинтригованный, я направляю своего мула вдоль кустов, чтобы получше рассмотреть. Растение сплошь покрыто мелкими белыми цветочками, лепестки которых, стоит растереть между пальцами, издают сладковатый аромат; налитые душистым соком цветки растут густо, почти как кактусы. Запах кофе с легкой примесью ароматов жимолости и жасмина способен заглушить даже вонь моей пропитанной пылью и потом одежды.
С каждой ветки свисает длинная гроздь желтых, маслянистых, пухлых от мякоти ягод. Сорвав одну, хочу попробовать: надкусил. Но мякоть горькая и едкая, как сердцевина лимона.
Я обнаруживаю, что запах к вечеру усиливается. Едва опускается ночь, ниточки стойкого аромата от кофейных кустов, повиснув в темноте, щекочут нёбо. Я иду, прорывая эту нежную ткань запахов, медленно скользящую с места на место в недвижимом воздухе, как паутина по осени.
На каждой стоянке Фикре готовит нам кофе, пахучий и крепкий. Она проводит салфеткой по моему лицу, и я чувствую нежное давление ее пальцев. Она оглаживает меня медленно, плавно, щедро и сладостно проводя вокруг губ, глаз и носа. Я замираю, едва дыша. Только б не кончались эти нежные прикосновения. Но я понимаю, они никак не могут длиться дольше времени, которое она уделяет Гектору или Бею.
Перед тем, как уйти, она неизменно вкладывает мне в руку кофейное зерно. Или, если не удается в руку, куда-нибудь еще — за воротник, меж пуговиц моей сорочки, в боковую ложбинку у носа. Я находил их после, уже в седле, — зерна, маленькие, невесомые, отзывались в разных местах тела, обнаруживаясь вдруг, как крохотная песчинка в самом сердце жемчужины. А порой вспыхивает молниеносный взгляд, блеснет улыбка, предназначенная мне одному; сверкнут белые зубы и белки глаз из глубин накинутого на голову покрывала.
Дни стоят жаркие, душные, безветренные. Веки у меня тяжелеют, как после наркотика. Мерная поступь верблюдов стучит в висках, постепенно превращаясь в назойливый ритм совокупления.
Сладострастно-похотливые воспоминания — они роятся полчищами москитов в отупевшем мозгу. Надо гнать их прочь, но я знаю, они тотчас вернутся обратно.
Очередная стоянка. Лишь раз мне удается пообщаться с Фикре. Сгружая с верблюдов поклажу, мы оказываемся скрытыми от взоров верблюжьими торсами.
— В Хараре есть склад, который Бей захочет сдать внаем, — быстро говорит она. — Раньше принадлежал французу, торговцу кофе. Скажи, что снимешь этот склад.
— Отлично.
Верблюды стронулись с места, и прежде чем кто что-либо заметил, она скрылась.
Я где-то в хвосте каравана, поэтому сначала мне не понять, почему он остановился. Подтягиваюсь к передним, уже поднявшимся на гребень горы.
Под нами средь плодородной горной равнины, как в чаше, огромное озеро. Даже отсюда, издалека, можно разглядеть вокруг него стены и оборонительные сооружения. На башнях реют длинные, изорванные ветром флажки; дома из бурой глины и белые луковицы минаретов; птицы, искатели мусора, неустанно кружат над ними, как мухи над гниющим фруктом.
— Харар, — без нужды определяет Бей. — Прибыли.
«Гвоздичный» — восхитительный, комплексный запах, отдающий гвоздичным деревом, турецкой гвоздикой, врачебным кабинетом, ванилью и копченостями. Ценится и славится утонченной смесью пряных ароматов, придающих глубину кофейному напитку.
Ты ощущаешь его, проходя сквозь деревянные ворота, — резкий, землистый запах жарящихся зерен, тянущийся из нескольких окон. По улицам расхаживают торговцы кофе с серебряными флягами под мышкой. На базарных прилавках высятся ряды джутовых мешков, содержимое в виде блестящих зерен просыпается наружу. Это город кофе.
Ибрагим ведет меня к складу французского торговца. Это красивое двухэтажное здание, выходящее окнами на базар. Там пусто, не считая пары личных вещиц, принадлежавших бывшему обитателю. Гроссбух на французском, несколько писем, жестяная полка с несколькими книгами, походная кровать. Создается впечатление, что помещение было оставлено в спешке. Бей утверждает, дело было гиблое. Этот купец еще молодым прибыл в Африку, рассчитывая нажить состояние торговлей кофе, но погряз в каких-то сомнительных делах. Случилось так, что одна нога у него вышла из строя. Он вернулся в Марсель, а потом сестра сообщила письмом, что он умер. Бей только рад, что я хочу занять этот склад.
Между тем Гектор нанимает бригадира по имени Джимо, имеющего опыт в разведении кофе. Мой компаньон не желает задерживаться в Хараре дольше, чем этого требует необходимость.
— Отправляемся завтра. Как только закупим все для посадки.
— Еще день-два, думаю, погоды не сделают.
— Вот тут вы как раз неправы. Теперь, Роберт, вы — фермер. Надо приниматься за дело, учитывая время года. Дожди…
— Ах, да, дожди! Все время про них забываю.
Гектор отходит, чертыхнувшись себе под нос.
На рынке обнаруживаю не только кофе, но и шафран, индиго, мускусный цибетин и слоновую кость, а также с дюжину фруктовых разновидностей, до сих пор мне неведомых. И еще встречаю Фикре. Она покупает овощи.
На ней темно-красное одеяние, краем накинутое на голову. Она слегка поворачивается, и мое сердце начинает чаще биться при виде ее безупречного профиля.
— Нас не должны видеть вместе, — шепчет она, беря в руку манго и сдавливая его в тонких темных пальцах, как будто ее занимает лишь то, достаточно ли спелый плод.
— Я снял дом французского купца, — бормочу я. — Ты можешь ко мне туда прийти?
Она протягивает торговцу несколько монет:
— Попробую, когда стемнеет.
И исчезает — темно-красную ткань поглощает тень.
В сумерках я жду.
Осматриваюсь внутри. По углам помещения множество крохотных осиных гнезд. Попугай оборудовал себе жилище где-то под потолком, его пометом усыпан пол внизу. Коротаю время, роясь в бумагах французского купца.
Вид товара: тюк цветной шерсти. Голубая мериносовая хороша качеством, как и красная фланель, и по цене, предлагаемой мной, вам нечего опасаться, разве что червей, если залежится, но в данный момент шерсть в отличном состоянии…
Какой-то звук. Я поднимаю голову. Она тут, быстро идет ко мне, ступая босыми ногами по полу. Глаза поблескивают под красным покрывалом. Останавливается. Мгновение мы смотрим друг на друга — если остановиться, не переходить грань, то именно сейчас. Но я распахиваю руки, и она, ахнув, бежит ко мне. Ее кожа пахнет кофе: она весь день трудилась средь мешков Бея, и ее губы и ее шея хранят аромат пахнущих дымком жарящихся зерен. И не только, еще и melange[42] пряных запахов: кардамона, розовой воды, мирры.
Вдруг она отстраняется:
— Я не ожидала, что будет так.
— Как?
— Что я так сильно тебя захочу. Это как голод.
Я чувствую, как ее пальцы скользят мне под сорочку, их прохладу на своем теле. Мы снова целуемся.
— Я не могу остаться, — говорит она. — У меня всего несколько минут, но я не могла тебя не повидать.
Ее тело, извиваясь, приникает ко мне. Я, весь в огне, снова прижимаю ее к себе.
— Надо подождать, — бормочет она будто про себя.
— Ждать? Чего? — выдыхаю я.
Перед каждой фразой — вечность, слова просачиваются между поцелуями.
— Когда он уедет. Обратно на побережье, со своим кофе.
— И тогда что?
— Ты не понял? Тогда я отдамся тебе. Только тогда.
Вид у нее торжествующий. Она все рассчитала. Она хочет со мной переспать — покончить со своей драгоценной невинностью. Вложенное в нее Беем сгинет так же бесследно, как если бы он разметал все свое богатство по пустыне. Такова будет ее великая месть человеку, купившему ее.
— Когда он поймет, он взбесится от ярости!
— Да, — говорит она. — Он убьет меня. Но он и так меня убивает, придерживая в таком качестве. И если мы как-нибудь ночью сумеем… — Она заглядывает мне в глаза. — Оно стоит того. По крайней мере, умру, узнав, что такое любовь.
От ужаса мне становится не по себе:
— Неужели нельзя как-то иначе… Не подвергая себя такой опасности?
Она качает головой:
— Не беспокойся, он ни за что не узнает, что это с тобой… Если даже перед смертью меня будут пытать.
— Ты не должна умереть, — пылко говорю я. — Послушай, Фикре! Никто не должен умереть.
— Ну и пусть умру, — шепчет она. — Ночь любви, и за нею смерть. И довольно.
— Нет, Фикре, обещаю, я что-нибудь придумаю…
— Поцелуй меня, — говорит она. Я ее целую. — Я готова ко всему, что он надо мной сотворит. Надо подождать, пусть он уедет. Только тогда.
Со стоном я отпускаю ее. Она отступает на шаг, медлит, в последний раз оглядывается на меня. И вот все, что остается после нее — лишь этот запах: кофе, розовой воды и пряностей.
Ямара,
август
Дорогой Хант!
Наконец оставили позади последний оплот цивилизации, и теперь наш путь идет через лес в поисках земли, которую нам предстоит возделать. Это похоже на путешествие в Каменный Век — вместо зданий крытые соломой хижины, вместо дорог — звериные тропы. А шатер над головой настолько непроницаем, что до нас, как до земляных червей, почти не доходит солнечный свет. Временами попадаются просветы, где высятся гигантские, в человеческий рост, деревянные, причудливо раскрашенные фаллосы. Полагаем, что это какие-то тотемы или фетиши.
Встречаются прелюбопытные местные типы — похоже, каждая долина становится приютом новому племени. Самцы щеголяют в бусах из слоновой кости и медных серьгах, женщины красят волосы в алый цвет и выбеливают лица. Все — мужчины, женщины и дети — курят большие длинные сигары, скрученные из листьев табака, и никто особенно не утруждает себя работой. Вчера я выменял за рыболовный крючок ожерелье из львиных зубов. Судя по запаху, лев был мясоед, но обходился без зубной щетки. Представляю себе, какой фурор вызовет этот предмет, когда я снова окажусь в кафе «Руайяль».
Со мною приключилось и кое-что еще — настолько это странно, что не решаюсь даже об этом писать из опасения, что ты сочтешь меня безумцем. Но все же мне необходимо с кем-нибудь поделиться, и, разумеется, этот «кто-то» не Гектор. Ну, так вот, друг мой: кажется, я влюбился. Да; как ни нелепо это звучит, но здесь, в этой глуши меня постигла жгучая страсть. Объект моих чувств — девушка по имени Фикре — африканка. И, сознаю, что еще более нелепо, — она в некотором роде из прислуги. Однако прекрасно образована и биография ее в высшей степени необычна. Ситуация, как ты, должно быть, догадываешься, весьма щекотливая. Дама, о которой идет речь, уже связана с другим лицом, к которому она не питает никаких чувств. Как бы то ни было, не вижу возможности для себя жениться на ней, да и было бы неловко расторгнуть нашу с Эмили помолвку, поскольку я управитель плантации ее отца. Словом, все весьма и весьма непросто. Одно для меня ясно — никогда еще в жизни я не испытывал к женщине ничего подобного, — и, кажется, то же она чувствует и в отношении меня. Я еду сквозь чащу, полный сладких воспоминаний о нашем последнем с ней свидании, и сам себе улыбаюсь. Гектор гневно утверждает, будто я жую кхат, это местный наркотик! Ничего подобного, я и без дурмана чувствую прилив жизненных сил, как никогда.
Трудно представить, когда я сумею отправить это письмо: возможно, смогу передать его кому-то, кто отправится на побережье. Порой, бросая взгляд вниз сквозь просветы в лесу на бесконечные, густо покрытые зеленью долины, я испытываю такое чувство, будто переступаю через некий порог, словно вот-вот пройду насквозь мощную изгородь и совершенно исчезну из вида.
Закон джунглей
Вырастают новые районы, открывая новые возможности для предпринимательства и капитала, успешность их развития изменяет облик областей, пусть прежде поросших густыми джунглями, ныне то тут, то там покрытых присущими для индустриального общества роскошными зелеными садами с белеющими среди них особняками европейских предпринимателей. Смотреть на то, как осуществляется переход из одних рук в другие — от Природы к Человеку, — зрелище поистине незабываемое. Прекрасные, плодоносящие плантации, отвоеванные у первобытного варварства, уже заполняют лощины пусть еще дикой горной долины, со всех сторон окружаемой вздыбленными массивами лесов, лишь ждущих своей очереди пред занесенным топором лесоруба… —
То тут, то там мысль человеческая стремится вширь, озаренная новой идеей или новым открытием, и к прежней косности ей уже нет пути, —
«Цвет кофе» — это нежный аромат прелестных белых цветков кофейного дерева, которое в XVII веке называли арабским жасминам, так как оба эти растении схожи. Эфирные масла Jasminium grandiflorum[43] имеют значительно более сильный, более фруктовый аромат, чем жасмин Самбак,[44] и именно они вызывают в нашем восприятии радость узнавания кофейного запаха.
Рассвет поднимается над джунглями, свет и звук одновременно пробиваются сквозь сплетение ветвей, первые дневные лучи, как всегда приветствуют нас какофонией криков, визгов, рыка, треска, постепенно стихающих, переходящих в летаргическое бормотание утра. На вершине холма белые люди похрапывают на своих раскладушках. Женщины в местной деревне подкладывают дров в общий очаг, толкут зерна кофе и ходят опорожняться в овраг до того, как проснутся их мужья. На рассвете зябко: завтракают, укрывшись яркими одеялами, присев на корточках вокруг огня.
Все разговоры только об одном: о пришедших. Прежде сюда уже забредали белые люди, они шли через долину длинными караванами с навьюченными животными. Но эти — другие, эти построили дом. Признаться, дом очень даже плохой, слишком близко к ручью, и, значит, когда придут дожди, туда заползет туча насекомых. И слишком близко к оврагу, так что рано или поздно их животные переломают себе ноги. Но все же дом. Чего они хотят? Этого никто не знал.
Кое-кто был встревожен не на шутку. Кику, врачевательница, сидела поодаль от других, погруженная в свои мысли. Это верно, белые люди вроде не ведут себя враждебно. Но она опасалась, что их приход может обернуться чем-то еще более опасным, чем враждебность. Чем именно и что могло вызвать эту ее тревогу, она сказать пока не могла. Возможно, оно пришло от айанаа, лесных духов, которые порой сообщают ей то, что больше ниоткуда не узнать. И вот сидела она в сторонке, стараясь вслушаться в голоса леса, как человек, который хочет отключиться от голосов окружающих, чтоб расслышать, о чем шепчутся за стенкой.
Наконец, она поняла, чего испугался лес. Перемен. И удивилась, потому что ведь бояться перемен могли только люди, перемены на лес не влияли. Его, как воду, можно потревожить; он, как вода, может взволноваться; но, как и вода, всегда постепенно возвращается к тому, чем был, и все то, что за свою жизнь сотворил с ним человек, рано или поздно порастает быльем.
— Я скажу вам, зачем они тут, — сказал юноша по имени Байана. — Они пришли, чтоб убить леопарда.
Тут все закивали. Ну, конечно же, леопард. Вот уже несколько месяцев, как ходят слухи по деревне, что видали леопарда, вселяя ужас в тех, у кого маленькие дети. Если белые люди пришли, чтобы убить леопарда, то от этого будет хорошо всем — уж не леопарду, конечно, всем остальным. Тот белый, что убьет его, сможет сделать себе плащ из его шкуры, и жителям деревни будет спокойней. Единственный в их деревне, кто побеждал леопарда, был вождь Тахомен, но это случилось двадцать лет тому назад, когда тот был молод. Хоть он и надевает порой шкуру леопарда, но ее уже за столько лет изгрызли личинки и всякие насекомые, и теперь она уже на вид такая, что ее и носить стыдно.
Так как всем хотелось, чтоб леопард стал причиной прихода белых людей, все понадеялись, что так оно и есть. Надежда быстро переросла в общее согласие, а око в убеждение, так что скоро все всем стало ясно, кроме одного: кто покажет пришельцам место, где лучше всего охотиться на леопарда.
Лес поведал Кику, что белым людям не интересен леопард, но он не сказал ей, что им интересно. Может быть, она не дослышала лес или, может, лес и сам не знает. Может, лес белых людей далеко; надо долго ждать, пока ветер долетит с одного конца долины на другой, — пока что-то дойдет. Словом, Кику до поры решила повременить.
И тут они услышали сильный треск и звяканье, сопровождаемые нестройным топотом по тропе. Двое белых в ботинках и третий, без ботинок, но, как и те, что в ботинках, по лесу ходить не привыкший, шли к деревне. Жители были удивлены и даже немного встревожены. Несколько женщин, схватив детей, поспешили с ними скрыться в своих хижинах. Другие, подхватив детей, наоборот, выбежали наружу, чтобы лучше рассмотреть, что происходит. Теперь треск уже сопровождался глухими гортанными голосами, произносившими слова на непонятном жителям деревни языке.
— Эта тута де-та, саа, — сказал один голос.
— Думаю, они все ж таки спрятались в заросли, — уверенно произнес другой. — Мозги у местных, Уоллис, устроены иначе, чем у наших работяг. Доказано, что и кровь у них значительно жиже, значит, и соображают они как во сне. Ага, а это что такое?
— Похоже, мы набрели на место их обитания, Гектор.
Жители растерянно уставились на троих мужчин, выходивших на поляну. Двое ужасно высокие, белокожие, одетые по-чужеземному. Один, рыжеволосый и рыжебородый, имел наиболее угрожающий вид. На другом был зеленый костюм из шерсти-альпака и белый шлем. Третий, темнокожий адари в одеянии из цветастой материи, держал в руке длинную палку и с надменным видом поглядывал вокруг.
— Сидеть на места, — произнес он, окидывая жителей деревни презрительным взглядом. — Кто у васа дикаря вождь?
— Погоди-ка, Джимо, — сказал рыжий. И выступил вперед: — А ну, эй вы все, послушайте, — прогрохотал он. — Мы пришли сюда, — он указал пальцем на землю, — выращивать кофе. — Он указал на кофе, который один из изумленных жителей деревни в этот момент пил из деревянной чашки. — Если будете на нас работать, и работать усердно, вам будут хорошо платить.
Наступила короткая пауза.
— По-моему, он хочет выпить кофе, перед тем как идти убивать леопарда, — сказал Байана.
Жители облегченно закивали. Да, да!
— Я отведу вас туда, где зверь, — робко произнес Байана.
Убедившись, что белые его не поняли, он указал на тунику из леопарда на Тахомене, сделал вид, что запускает копье, и с надеждой добавил:
— Пети-мети?
— Говоришь «пети-мети»? Прекрасно! — крякнул Гектор. — Я знал, что с этими ребятами мы сможем договориться.
И он принялся знаками изображать человека, рубящего дерево, что могло также походить на забивание дубиной смертельно раненного леопарда.
И вот уже другой юноша решил оспорить право Байаны вести белых людей к леопарду.
— Я! Я! Я отведу вас к леопарду! — вскочив на ноги, вмешался он в разговор.
Указывая на себя пальцем, этот принялся энергично изображать, что убивает леопарда дубиной.
— Отлично! — прогремел рыжий. — Похоже, у нас уже объявился первый дровосек. А вы, сэр? Да? И вы?
Еще несколько юношей уже шагнули вперед, готовые выступить внушительной группой, чтобы все получили щедрую награду только за то, что проводят белых людей к леопарду.
— Видите, Уоллис? — сказал рыжий, поворачиваясь к своему спутнику. — Перед вами результат простейшего воздействия на мозги дикарей. Вот он, универсальный язык Коммерции, который вмиг сокрушит границы между разными народностями! Впэчатляэт, а вас?
— Безусловно, — неуверенно произнес другой белый. — Э-э-э… но не надо ли пояснить им, что мы эту землю купили? Что мы теперь, так сказать, их хозяева?
— Сомневаюсь, что их примитивный ум способен такое понять. — Гектор обеими руками указал на лес: — Лес… вон там… рубить! — прокричал он.
Группа охотников истолковала его призыв так, будто от них требуется подсказать, искать ли леопарда в этом направлении, на востоке. Многие с улыбкой закивали, одобряя выбор Гектора. Другие, думая, что на самом деле леопарда надо искать на западе, считали, что стоит все-таки поискать именно в том направлении. К тому же, заметили они первым, вряд ли белый человек обрадуется, если его заведут в такую даль, а после окажется, что зря.
Сторонники похода на восток возражали, что было бы очень неучтиво при первой же встрече показывать белому человеку, что тот ничего не смыслит: правильнее будет с ним согласиться, пусть даже он явно ошибается. Начались долгие споры, в ходе которых сторонники восточного направления нащупали неоспоримый аргумент: если белые люди будут направлены на запад и там действительно окажется леопард, то они скоро уйдут. В то время как если их направить на восток, как предлагают другие, понадобится потом организовывать еще и экспедицию на запад, и тогда, скорей всего, белым придется снова заплатить «пети-мети».
Джимо сновал между молодыми людьми, раздавая карточки. Каждая, пояснял он, разделена на тридцать дней. Каждый день надо рубить деревья и помечать в карточке, и когда карточка заполнится отметками, им заплатят. Юноши из группы охотников отлично понимают, что он говорит: эти билетики — доказательство того, что тебя как лучшего выбрали охотиться на леопарда. Несколько избранных пустились в пляс, буйными прыжками и приседаниями изображая смерть леопарда.
— Ишь ты! — вскричал рыжий. — Мы тут всего ничего, а как мы их здорово завели! Так и лощину в два счета очистим!
— Похоже, вы правы, — кивнул другой.
Кику наблюдала за всеми этими приготовлениями с нарастающим чувством тревоги. Ей показалось, что эти белые люди на самом деле ведут разговор о рубке деревьев, а не о том, чтоб убить леопарда. Но не это тревожило ее, жители деревни и сами рубили лес, если нужна живая древесина для постройки хижин. Нет, беспокоило Кику то, что, глядя на этих двоих белых, она ясно видела, что оба они, каждый по-своему, находились под властью каких-то чар. И если глаза ей не изменяли, у одного эти чары были навеяны мощной силой любви.
В ту ночь молодые мужчины деревни устроили ритуальный танец, чтоб явилась удача в охоте за леопардом. Чем больше шуму, тем больше надежды, что айанаа услышит и благословит их дело, и, воодушевленные изрядным количеством пенящегося пива, они старались горланить и вопить как можно громче.
— Господи, ну и гудеж! — ворчал Гектор в своей походной кровати за полмили от деревни. — Неужели не соображают, что завтра им работать?
— Что будем делать, если не выйдут?
— Выйдут, выйдут. Вспомните, как они встрепенулись насчет пети-мети.
— Вы правы. — Роберт на мгновение умолк в своей походной кровати. — Не правда ли странно, что они до сих пор сами не пытались выращивать кофе?
— Странно? Нисколько. С чего бы это? До нас сюда никто и не являлся, некому было показать, как это делается.
— Но ведь их образ жизни весьма далек от фермерства? — не унимался Роберт. — По крайней мере, от того, чем занимаются у нас. По-моему, у них нет ни малейшего желания, чтобы… окультуривать джунгли. Мне просто интересно, почему. Может, потому, что, однажды попробовав, они увидели, что этого делать не надо. Понимаете… будто они знают то, что нам неведомо.
— Как всегда, Уоллис, вы все ставите с ног на голову, — фыркнул Гектор. — Как раз мы знаем то, чего не знают они. — Он потянулся к газовому фонарю, тускло горевшему на упаковочном ящике между ними. — Пора выключать.
Шипение фонаря смолкло; все погрузилось в темноту. Гул барабанов и крики со стороны деревни стали казаться еще громче.
— Спокойной ночи, Гектор.
— Покой’ночи.
Ему снилась Фикре: ее гибкое, полусогнутое, черное тело прямо над ним, ее ясные светлые глаза, прикованные к его глазам в момент, когда неописуемое наслаждение перетекает из паха в пах. «Скоро, — шепчет она своим певучим выговором. — Совсем скоро. Когда Бей покинет Харар». Отчасти сон уходит. Во тьме издевательски хохочет какое-то животное. В дальней деревне нескончаемая дробь барабанов биением нового сердца вторит пульсирующей плоти.
Жители деревни пьянеют, и их мысли тоже откликаются на зов пола. Молодые мужчины с жаром отплясывают танец убиения леопарда, но на самом деле своим танцем хотят зажечь женщин, которые в свой черед, изображая в танце великую женскую радость при виде принесенного в деревню убитого леопарда, на самом деле своим танцем подстрекают мужчин к действию.
Кику сидела в сторонке, смотрела. Считала, пусть лучше танцуют те, что помоложе, — раз твои груди теперь плюхаются туда-сюда, а не призывно волнуются, прыжки твои уже вряд ли кого привлекут. При том она и так знала, кто оставит свое копье перед ее хижиной в эту ночь. Байана давеча, чтобы видели все, принес ей пищу, этим напоминая всем, кто видел, что он спит с ней. Кику ничего против не имела, отчасти потому, что он был пылкий, хоть и несколько самодовольный любовник, но еще и потому, что спать с Байаной были у нее и свои причины.
В этот момент одна из причин подошла и присела рядом.
— Ты не танцуешь, — сказал Тахомен.
— Стара я танцевать, — бросила Кику небрежно.
По ее тону можно было понять, что это больше чем ответ на вопрос Тахомена. Собственно, ее слова направили разговор к самой сути их главного преткновения.
— Какая же ты старая! — фыркнул Тахомен. — Кто тебе такое сказал? Глупость это.
Ты мне это сказал, вертелось у нее на языке. Не словами, тем что взял себе второй женой Алайю. Кику перевела взгляд за костер, где среди других женщин танцевала и та. Гадина… груди у нее похожи на наливающиеся тыковки, и когда Алайа прыгала, они чуть колыхались.
— Хорошо танцует Алайа, — сказала Кику.
— Да, — мрачно кивнул Тахомен.
Он тоже прекрасно понимал, что мучает Кику. Ему хотелось сказать: Что ты с ума сходишь! Ну да, я взял себе другую жену. А почему нет? Взял, во-первых, потому, что я вождь — ты слыхала когда-нибудь, чтоб у вождя была всего одна жена? Притом я хочу иметь детей, а ты мне никого не родила. Но ничего этого Тахомен не сказал, потому что знал: Кику все это и без того известно. Он просто негромко заметил:
— Копье Байаны подолгу торчит перед твоей хижиной.
Кику прочертила на земле зигзаг.
— Это копье усердного труженика.
— Он очень умело владеет копьем. — Тахомен сделал еле заметную паузу. — Так он говорит.
Кику не хотелось, чтобы Тахомен думал, будто может загладить нанесенное ей оскорбление несколькими бойкими шутками в адрес ее любовника, потому скрыла улыбку, опустив взгляд к земле, на которой продолжала чертить знаки.
— Потому-то ты так занята, что недосуг зайти ко мне в хижину, — заметил Тахомен.
— Да и ты слишком занят, чтоб ко мне заглянуть.
— Даже если бы собрался, перед твоей хижиной торчит копье Байаны.
— При чем тут копье, ты и не пытался заглядывать.
— Откуда ты знаешь, что не пытался?
Потому что прислушиваюсь к тебе, хотела сказать Кику.
— Потому что, как видно, был слишком занят с Алайей.
— «Новая жена — что куст кофе, чем скорей соберешь урожай, тем лучше», — произнес Тахомен.
— Это так. — И все же Кику не удержалась, чтобы ответить ему другой поговоркой. — «У мужчины много жен, а у каждой жены много любовников».
Тахомен согласно кивнул. Как во многих их поговорках, в той, что сейчас напомнила Кику, подчеркивалась важность соблюдать саафу, то есть взаимный паритет.
— Учти, пословица все-таки начинается со слов: «У мужчины много жен…»
Поняв, что сама себя загнала в ловушку, Кику пошла на попятный:
— Ну, да. Кто же спорит, заводи себе сколько хочешь жен. Хоть троих. Хоть четверых! Сколько душе угодно!
Тахомен вздохнул:
— Если я взял в жены Алайю, это не значит, что стал меньше о тебе думать. Ты по-прежнему старшая жена.
— Что значит «по-прежнему»? Раньше я не была старшей женой. Я была единственной.
— Я хотел сказать, что отношение к тебе всегда будет почтительное.
Почтительное! Что мне с этой почтительности, думала Кику, если тебе нужны сиськи, и дети, и обожание? Что толку зваться старшей, если уже не те годы, чтобы рассчитывать на любовь?
Тахомен снова вздохнул:
— Может, когда Байана перенесет копье в другое место… тогда…
Некоторое время они сидели молча. Потом Тахомен сказал:
— И леопард этот…
— А что леопард?
— Думаешь, белые люди проделали такой долгий путь, чтоб мы помогли им убить леопарда?
Кику уклончиво пожала плечами.
— Я вот все об этом думаю, — сказал Тахомен. Он сплюнул в костер. — По мне, лучше б не за леопардом они пришли. Мне бы самому хотелось леопардом заняться.
— Тебе?
— Ну да. Почему нет?
— В твои годы охоту оставляют тем, кто помоложе.
— Думаешь, я слишком стар? — с наигранным удивлением спросил Тахомен. — И что же, все так говорят, что я, мол, слишком стар, чтоб убить леопарда?
Кику вздохнула. Тахомен имел манеру — что ни скажи обращать на себя. «Видишь, — будто говорил он, — я тоже старею. Разве я скулю на этот счет?» И — хотя ни за что она не произнесла бы этого вслух, — в этом бессловесном разговоре, что они вели между собой, она готова была прокричать: «Не скулишь! Только ты — другое дело! Ты можешь просто взять себе другую жену!»
Но вслух она только фыркнула.
Тахомен снова метко сплюнул в огонь.
— В конце концов, есть много способов поймать леопарда, — произнес он задумчиво.
— Много. Но на моей памяти, как ни берись, для человека это всегда плохо кончается.
— Что ж, поглядим.
Задолго перед рассветом повар Кума разбудил двух белых, поднеся им крепкий черный кофе. Снаружи ожидал Джимо с вереницей осоловелых после загула жителей деревни. Многие в честь предстоящего события разрисовали себя магическими знаками. Некоторые нарисовали белой краской на лице усы и пятна, чтоб походить на леопарда, на которого собрались охотиться. Правда, у некоторых краска на лицах размазалась в результате иных ночных похождений. Одни держали в руках топоры, другие дубинки, третьи — копья.
— Прямо как дети, — со вздохом сказал Гектор. — Надо же! С копьями рубить деревья! Джимо, достань-ка больше топоров из наших запасов.
Когда всех надлежащим образом оснастили, группа лесорубов потянулась в джунгли. Гектор повел их вверх по холму. Дойдя до высшей точки, он указал на деревья:
— Вот! Рубите здесь!
Жители деревни были явно сбиты с толку.
— Бвана говорить деревья рубить! — крикнул Джимо. — Раз! Раз! Давай!
Жители переглядывались. Если остановиться и начать рубить эти деревья, то уже не останется никакой надежды найти леопарда сегодня.
— А ну, пошел! — Джимо грубо пихнул одного из юношей к дереву. Тот нехотя поднял топор, начал рубить.
— Так! Второй! Руби! — выкрикнул Джимо, подводя второго к следующему дереву.
Скоро выстроенные им в линию сбитые с толку жители деревни вовсю трудились над рубкой деревьев.
Когда стволы были прорублены почти до самой середины, Гектор велел Джимо переставить людей, чтобы вырубали прилегающие деревья ниже по склону. Снова стали рубить, пока не прорубили стволы почти до сердцевины и снова опустили топоры, не дав деревьям повалиться. Местные уже трудились молча — в конце концов до них дошло, что сегодня никакой охоты на леопарда не будет, но обещание насчет пети-мети остается. Во время работы все спрашивали друг дружку: что же это может быть? Видно, пришельцы хотят построить громадную хижину, и, может, даже не одну. Тогда почему они не срубают до конца, оставляя их вот так, недорубленными? Видно, так у них, у белых, принято? Но почему?
Так все и продолжалось, пока не перешли на третий ряд. И тут одним из деревьев на пути встал куилту, платан. Инстинктивно жители деревни расступились, кто влево, кто вправо, чтобы это дерево осталось нетронутым.
— Эй, там! — крикнул Гектор. — Одно пропустили.
Ухватив одного местного жителя за плечо, Джимо потянул его назад к платану, скомандовав:
— Руби!
Сначала физиономия аборигена изобразила изумление, потом озадаченность, потом тревогу. Прочие отложили работу, чтобы разъяснить вопрос приезжим. Это, сказали они, священное для женщин дерево, из которого делают женские сикквее, или ритуальные трости.
— Скажи, чтоб кончали болтовню, — бросил Гектор Джимо, и тот погнал упиравшихся деревенских к недорубленным деревьям.
— Роберт! Пора им показать, что и нам по плечу то, что мы требуем от них. — Он указал на основание дерева. — Давайте — вы с этой стороны.
Жители деревни, притихнув, с ужасом смотрели, как белые люди топорами долбят дерево. Работа выдалась нелегкая, оба белых изрядно вспотели к ее концу — верней, не к самому концу: снова в сердцевине дерева оставался узкий конус.
Уже близился полдень, когда Гектор наконец призвал остановиться. К этому моменту уже было обрублено десятка четыре деревьев. Все снова потянулись вверх по холму, там Гектор велел дорубить самое первое дерево. Оно повалилось с оглушительным треском — тут путь ему преградило дерево, стоявшее ниже, каким-то образом выдержавшее тяжесть первого. Но вот повалили и это, и оно также легло на соседнее, ниже по склону Вес обоих деревьев удерживался только густыми кронами росших на склоне деревьев.
Третье дерево было громадным, высоким, с тяжелой кроной. Когда оно с треском валилось, ствол у него раскололся: люди отскочили прочь, едва громадная махина выстрелила в небо. Груз ветвей грянул на очередное по склону дерево. С внезапным треском оно подалось под их тяжестью. За ним очередное, потом следующее, и весь склон превратился в мощно вздымавшуюся волну падающих стволов и крушащихся ветвей. Лавина уносила с собой все, что попадалось на пути, даже деревья, которых еще не коснулся топор, и все это, подобно домино, опрокидывалось с горы вниз. Казалось, какой-то великан, набрав в грудь побольше воздуха, с силой дует сверху, ровняя джунгли с землей. Гул громовыми раскатами летел вниз от лесорубов и возвращался к ним вновь, и снова ревом вниз-вверх, отражаясь эхом со всех сторон долины. Птицы взвились к небу; пыль вздымалась сквозь крушащиеся ветви; все как будто в замедленном ритме тянулось кверху и оседало вниз.
— Эх, черт побери, — произнес Гектор, с восхищением глядя на открывшуюся картину, — краше этого дьявольского зрелища сроду ничего не видал!
В деревне Кику, заслышав гул, похолодела. Вокруг поднялся вопль: женщины, решив что это землетрясение, кинулись искать своих детей. Кику тотчас сообразила, что никакое это не землетрясение, но что именно, она сказать не могла. Такого гула ей еще никогда не приходилось слышать. Казалось, лес рушится сам по себе, подобно тому, как рвется кожа, если ободрать ее об острый камень. В громадном, разверзшемся просвете средь хаоса рушащихся стволов и перекореженных ветвей она разглядела людей, крошечных с дальнего расстояния, движущихся к следующему участку на склоне.
В ту ночь жители деревни, рассевшись вокруг огня, обсуждали то, что произошло. Теперь каждому ясно, зачем сюда явились белые люди. Никакой охоты на леопарда не будет: эти люди явились только для того, чтобы валить лес. Так что же будет, если весь лес, состоящий не только из деревьев, но и из лесных духов, полностью порушить? Когда человек умирает, его дух заползает на дерево. Если дерево падает, его дух сливается с духами деревьев, что вокруг. Что станется теперь со всем множеством сотен, тысяч духов, которые в этот день выпустили на свободу белые люди? Этого не знал никто, потому что до сих пор никогда ничего подобного в их жизни не случалось.
Кое-кто из старейшин считал, что молодежь должна прекратить эту работу. Для тех, кто помоложе, однако, не так важно было истребление леса, как то, что белые люди пообещали вознаградить их за помощь. Эта молодежь уже чувствовала, что все должно как-то поменяться, и считала, что перемены, возможно, и к лучшему. Если раньше джунгли властвовали над жителями деревни, теперь они смогут, как и белые люди, подчинять лес своей воле. Иных из молодежи даже крайне впечатлил и восхитил способ, которым белые люди очистили склон горы. Снова и снова они оживляли в памяти треск дерева под топором, — убеждая односельчан, что на такое стоило посмотреть своими глазами. Все это походило на могучую бурю, какой никогда в этих местах не видывали, и все это устроил человек! То, что можно поработать на людей, обладающих такой мощью, при этом еще и богатея, казалось немыслимым везением.
— Сегодня я встречаюсь кое с кем, — нерешительно произносит Линкер. — Может, и тебе захочется присоединиться?
Эмили поднимает голову:
— А с кем именно, папа?
— Эти люди из одного американского концерна… владелец мистер Дж. Уолтер Томпсон, — Линкер морщится. — Скажите пожалуйста, ну почему эти американцы вечно путают местами свои инициалы и даты! Как бы то ни было, это те самые господа, которые консультируют «Арбакля» по вопросам рекламы. Теперь у них здесь контора. Они сообщили мне письмом, что у них есть новые идеи, как лучше организовать сбыт для женщин. Я подумал, что тебе легче, чем мне, судить, правы они или нет.
— Я бы с удовольствием.
— Отлично. — Линкер взглядывает на часы. — Они будут здесь в одиннадцать.
К некоторому разочарованию Эмили, только один из специалистов по рекламе американец. Его имя Рэндолф Кэрнс, и внешне он — полная противоположность тому, что она ожидала. Вместо импозантного, предприимчивого маклера она обнаружила в мистере Кэрнсе человека сдержанного, учтивого, педантичного, наподобие школьного учителя или инженера.
— Как вы, мистер Линкер, пропагандируете в настоящий момент свою марку кофе? — мягко спрашивает он.
— Тем же способом, я думаю, какой открыли у вас в Америке, — быстро отвечает Линкер. — Каждая упаковка «Кофе Кастл» имеет на обертке контрольный талон, который может быть погашен на полпенни при последующей покупке.
— Это все прекрасно и замечательно, сэр. Но, мне кажется, вы не совсем поняли мой вопрос. Я спросил, как вы марку свою пропагандируете.
Отец явно озадачен.
— Продукт, — поясняет мистер Кэрнс, — это то, что вы продаете. Марка — это то, что народ покупает.
Линкер кивает, но Эмили видит, что он, как и она, пребывает в полном недоумении.
— Сформулируем иначе, — говорит Кэрнс, задерживая на обоих снисходительный взгляд. — Ваша марка — это то, чего люди ждут от вашего товара. Скажу даже больше, на самом деле сам по себе продукт тут не так уж и важен. — Он откидывается на спинку стула. — Словом: как нам создать предпочтительное для себя ожидание, вот в чем вопрос.
Он как будто доволен, что вопрос повисает в воздухе. Эмили гадает: ждет ли он, чтобы она или ее отец ему ответили.
— Позвольте, сэр?
Это подается вперед один из личной свиты Кэрнса — молодой человек; этот, отмечает Эмили, как раз привлекателен и энергичен.
Кэрнс кивает ему:
— Да, Филипс?
— Надо изучать психологию, сэр?
— Именно! — Кэрнс вновь поворачивается к Линкеру. — Психологию! Настанет время, сэр, и деловые люди поймут, что покупатели лишь пестрое сборище складов ума и что именно рассудок и есть тот механизм, на который можно воздействовать точно так же, как мы управляем фабричным станком. Мы, мистер Линкер, люди науки. В нашем арсенале нет места гаданиям и пустословию — мы опираемся на то, что работает.
Эмили видит, что отец глубоко потрясен услышанным.
— Но что это значит — конкретно, применительно к «Кастл»? — скептически вставляет она. — Как это отразится на нашем деле?
— Никаких купонов, — решительно заявляет Кэрнс. — Необходимо создать благоприятное впечатление, настрой. Мы стараемся клиентку обхаживать, а не подкупать.
Он кивает Филипсу, тот достает из портфеля пачку газет.
Кэрнс сплетает пальцы рук на столе.
— Прежде всего, вам надо избавиться от изжившего себя представления, будто вы продаете кофе, — заявляет он. — Вы продаете, — что и покупают домохозяйки, — любовь.
— Любовь? — Линкер и его дочь одинаково изумлены.
— Любовь, — припечатывает Кэрнс. — «Предложите мужу чашку хорошего кофе! Это ли не лучший способ выразить свою любовь к нему?»
И снова вопрос гостя повисает в воздухе. Но на сей раз Филипс не вызывается ответить. Значит, решает Эмили, вопрос чисто риторический.
— Запах кофе — это запах счастья, — продолжает Кэрнс мечтательно. — Естественно, когда жена готовит мне кофе, это доставляет ей удовольствие, ведь она знает, это доставит удовольствие мне. И, — он вздымает палец, — ей необходимо подтверждение, что нет лучше способа выразить свою преданность мне, чем подать мне кофе «Кастл».
— Как она это узнает? — спрашивает Эмили.
Ей по-прежнему невдомек, то ли это необычная игра, то ли бессмыслица, то ли некая сумбурная смесь и того и другого.
— Разумеется, потому, что мы ей это скажем, — Кэрнс поворачивается к Филипсу, который эффектно разворачивает первую газету. На демонстрируемой им странице вклейка: она, очевидно, представляет собой модель предлагаемой ими рекламы. Сидящий человек в рубашке с короткими рукавами пьет кофе. Он довольно улыбается. У него за спиной с кофейником в руке стоит улыбающаяся жена. Хитрой перспективой создается впечатление, будто ростом она ниже его плеча. Заголовок гласит: Право каждого мужа — обязанность каждой жены. Более мелким шрифтом внизу значится:
Не огорчайте его! Сделайте правильный выбор — выберите «Кастл»!
— Это… признаюсь, ни на что не похоже… — растерянно произносит Пинкер. И смотрит на дочь: — А ты что скажешь, Эмили?
— Мое отношение все-таки… негативное.
Кэрнс с важностью кивает:
— Как вам угодно. В торговле негатив, как уже доказано, оказывается мощнее позитива.
— Ну, если это уже доказано… — вздыхает Линкер облегченно.
Кэрнс делает знак Филипсу, и тот демонстрирует вторую рекламу:
— Если вы его любите — докажите это. Выберите «Кастл», чтоб его в этом убедить! — зачитывает он вслух. — Еда — всегда праздник, если рядом у стала прелестная женщина с кофейником кофе «Кастл» в руках.
— Гм! — произносит Линкер. Вид у него явно озадаченный.
Филипс демонстрирует третью рекламу. Жена стоит рядом с сидящим мужем. Поднося чашку ко рту, он широко улыбается читателю: «Он доволен — она счастлива! Теперь он знает, это „КАСТЛ“, он УВЕРЕН, что лучше ничего нет!».
— Но тут же, — в отчаянии произносит Эмили, — абсолютно ничего не говорится о качестве. О том, из чего этот сорт состоит… какая пропорция «мокка», берем ли мы кофе «бурбон» или «типика»…
— Домохозяйке это совершенно безразлично, — категорически заявляет Кэрнс. — Ей важно услужить своему мужу.
— Но мне не безразлично, — говорит Эмили. — Я могу высказать только свое мнение…
— Вот именно, — говорит Кэрнс. — Но мы не полагаемся на мнения, дорогая моя, ни на ваше, ни на мое. Мнение субъективно. Мы уже апробировали свои идеи — причем, на реальных женщинах.
Эмили тотчас подумалось: не хочет ли он этим сказать, что она под эту категорию не подпадает?
— Мы замыслили ни больше ни меньше спланированную военную кампанию. Мы определили свои цели, мы просчитали, как поразить их самым мощным ударом, и теперь изберем себе тактику. — Он хлопает ладонью по столу. — Вот новый, передовой подход к рекламному делу. Эта реклама поможет продаже.
Они ушли, и Пинкер говорит:
— Чувствую, ты в сомнении.
— Напротив, отец, мое мнение вполне сформировалось. Я нахожу что-то глубоко отвратительное в этом явном нажиме на второстепенность женщины.
— Послушай, Эмили, — говорит ей мягко отец, — не результат ли твоя реакция твоих политических взглядов?
— Разумеется, нет!
— Я никогда не осуждал твое участие в женском суфражизме. Но, согласись, это побуждает тебя быть менее… — он осекся, подбирая слова, — … скажем, менее объективной в отношении к положению обычных женщин.
— Что за чушь, отец….
— Как сказал мистер Кэрнс, эти их идеи были апробированы… очевидно, они сработают. И если мы не примем их новый, психологический метод, боюсь, это сделает Хоуэлл. И он тогда опередит нас. — Он качает головой. — Нет, мы должны как-то обскакать Хоуэлла, Эмили, и, возможно, именно этим путем. Я намерен просить мистера Кэрнса продолжить работу.
Лишенные защиты больших деревьев, нежная поросль и отпрыски на дне леса, населенные орхидеями и бабочками, скоро съежились на солнцепеке. В таких условиях поваленный лес чуть ли сразу был готов для сжигания. Едва ветер задул в нужном направлении, Гектор созвал людей, чтобы разжечь несколько костров по северному краю долины.
Если крушение деревьев было воистину зрелищем, сжигание их стало очередным. Пламя неслось взад-вперед по расчищенной земле, наполняя ее новым приростом, вздымающимся почти на высоту прежнего лиственного полога: пылающим, потрескивающим лесом из пламени, разгоравшимся, стихавшим и распространявшимся все дальше и дальше всю неделю напролет. Порой пламя замедляло бег, возликовав на каком-нибудь поваленном дереве. Порой оно покрывало всю прогалину осевшим мерцающим покровом. А временами огня на ярком солнце было почти не видно, как будто от сильной жары сам воздух разжижался.
Местные жители, конечно, были привычны к огню, но огонь в таком масштабе, казалось, вселил в них некий суеверный страх, и они выполняли наши указания с возрастающей покорностью. Гектор ругался, что никогда не видал таких расхлябанных работников; считал, что причина в том, что мы тут первопроходцы. Как бы я к нему лично не относился, я никак не мог отрицать радости, оттого что он рядом. Я оказался бы совершенно не способен преодолеть множество каждодневных проблем, которые навалились бы на нас в его отсутствие.
После пожаров оголенные склоны напоминали не что иное, как дымящийся лунный пейзаж, припорошенный серым снегом. На сером фоне там и сям торчали остатки обгорелых стволов, а несколько исполинских деревьев, каким-то образом уцелевших и после рубки, и от соприкосновения с огнем, одиноко маячили среди необъятного пространства; нижние ветви сморщились, застыли кружевом.
— Лучшее в мире удобрение, — сказал Гектор, погрузив руку в доходящий до колен слой золы и перетирая ее в ладонях.
Я последовал его примеру; зола была, как пудра, невероятно мягка, все еще теплая спустя дни после горения. Превращаясь в пыль в моих пальцах, она испустила облачко золисто-сажевого аромата.
— Кофе, Роберт, истощает и самую плодородную почву. Вы счастливчик, у вас тут так много земли. Ну, ладно, пошли домой.
«Дом» — Замок Уоллиса, колониальное поместье, доставшееся с правом пересечь территории провинций Абиссинии и Судана, и состоявшее из прихожей, столовой, гостиной, библиотеки, помещения для завтрака, бесконечных спален и гардеробных при них, при необычном характере их сочетания в едином пространстве в форме круга диаметром примерно в четырнадцать футов. Иными словами, мы с Гектором жили теперь, как два мастеровых, в убогой первобытной хижине, слепленной из глины и с тростниковой крышей. Тростник всю ночь шуршал, и время от времени к нам наведывались спадавшие с него извивающиеся существа (что в этом смысле весьма напоминало мою лестничную клетку в Оксфорде). Пол был земляной, хоть мы и покрыли его вместо ковра двумя шкурами зебры, выменянными у местных. Джимо весьма удивило, что мы отказались делить свое жилище с козлом — по-видимому, изрядное количество козлиной мочи на полу отпугивало неведомых нам джига, — однако мы сочли, прикинув, что обойдемся половиками и домашними шлепанцами.
Главным нашим врагом оказалась скука. В тропиках ночь наступает рано, и хотя у нас были керосиновые лампы, запасов горючего хватало только на час за ночь. Гектор изумил меня просьбой читать ему вслух что-нибудь из моей небольшой библиотечки: в качестве опыта я раскрыл «Как важно быть серьезным», и первые же строки позабавили его:
Алджернон. Вы слышали, что я играл, Лэйн?
Лэйн. Я считаю невежливым подслушивать, сэр.
Алджернон. Очень жаль. Конечно, жаль вас, Лэйн. Я играю не очень точно — тонкость доступна всякому, — но я играю с удивительной экспрессией. И поскольку дело касается фортепьяно — чувство, вот в чем моя сила. Научную точность я приберегаю для жизни.
Лэйн. Да, сэр.
Алджернон. А уж если говорить о науке жизни, Лэйн, вы приготовили сэндвичи с огурцом для леди Брэкнелл?[45]
Словом, я продолжил читать. Как вдруг он взял из моих рук книгу и исполнил очень милым фальцетом за Гвендолен:
— «Пожалуйста, не говорите со мной о погоде, мистер Уординг. Каждый раз, когда мужчины говорят со мной о погоде, я знаю, что на уме у них совсем другое. И это действует мне на нервы».
Бог знает, что подумали на этот счет Джимо с Кумой, не говоря уже об остальных аборигенах; из нашей хижины доносился странный фальцет с шотландским выговором, ночные раскаты смеха, и бурные аплодисменты, которыми Гектор наградил мою леди Брэкнелл. Он даже стал называть меня Эрнстом, когда мы вне хижины обозревали свое хозяйство.
Но все вокруг было нереально — какой-то сон, какое-то видение. Я ежедневно как заведенный исполнял свои обязанности на плантации, но настоящая моя жизнь начиналась после того, как тушилась на ночь керосиновая лампа и храп Гектора освобождал меня от его мира кольев, посадок и изнурительного труда. И едва темнота вплывала в хижину, наполняя ее мелодичной полифонией ночных джунглей, — что гораздо звучней дневной, — к моей постели бесшумной стопой приближалась Фикре, шептала «Скоро!», «Сейчас!», упиралась расставленными коленками мне в грудь, так что, едва потянувшись, я мог сжать руками ее бедра, талию, ее свисающие груди…
Иногда я вызывал в памяти других женщин, которых знал, — даже Эмили. Но ее лицо всегда имело несколько брезгливое выражение, как будто, одалживая свое тело для подобных фантазий, она считала это неприличной повинностью, отвлекавшей ее от гораздо более важных дел там, в Англии. Она сделалась теперь — совершенно определенно — отдаленным воспоминанием, менее реальным для меня, чем те шлюхи, с которыми я хотя бы телесно соприкасался.
Это — как часы марки «Ингерсол», подаренные мне Линкером перед моим отъездом из Лондона, которые я все пытался удержать на лондонском времени. Однажды переведя их назад в Зейле, я все мучился, чтобы перевести их обратно. Казалось бы, проще установить стрелки на местное время или вообще забыть, что у меня есть часы. Ведь часы — как наш Определитель: они нужны лишь тогда, когда и у твоего собеседника есть нечто подобное. Так и с Эмили. Любовь к ней ушла из меня не внезапно, но часть сердца, которая должна была бы вибрировать при одном упоминании об Эмили, отключилась и вновь как-то не включалась.
Лишь однажды она вспомнилась мне иначе. Деревенские быстро сообразили, что если, при работе на нас, с ними приключится какое-то мелкое несчастье, скажем, повредят себе топором палец или в ногу вопьется отлетевшая при рубке щепка, то мы обработаем и перевяжем ранку гораздо успешней, чем это сможет сделать их собственная врачевательница. Особенно диахилон, который, да и не он один, неизвестно каким образом попал в нашу аптечку, оказался просто чудодейственным средством; и еще сочетание бинта с антисептической мазью, затвердевающей на ранке и предохраняющей ее и от физических воздействий, и от инфекции.
Как-то одна из местных женщин принесла своего больного ребенка. Младенец находился в крайнем ступоре, и, несмотря на то, что температура у него была очень высока, пульс еле прослушивался. Даже на черной коже заметен был желтый налет.
— Не наше дело, — бросил Гектор. — Эта женщина вовсе на нас не работает.
— Пинкер велел бы нам сделать все возможное.
— Пинкер велел бы нам приберечь медикаменты для своих работников. И убедиться, что младенец крещен, чтобы, по крайней мере, душу его можно было спасти.
Мне подумалось: а вот дочь Линкера с этим бы не согласилась. Я вытащил наш справочник Гэлтона, из которого заключил, что у ребенка желтая лихорадка. По Гэлтону, в младенческом возрасте от нее умирает половина детей, но я все-таки дал малышу немного лауданума. После лекарства сон малыша сделался спокойней, но на следующий день из носа и глаз у него стала сочиться кровь, и я понял, что он безнадежен.
Я пару раз намекнул Гектору, что, мол, мне потребуется скоро отправиться в Харар, но он это проигнорировал. Но как-то раз ночью вскоре после того, как мы улеглись, снаружи послышался какой-то шум. Тяжело дыша, в хижину вбежал Джимо:
— Масса, скоро иди, скоро! Марано кушал маленьких кофе!
Схватив ружья, мы ринулись вон. Луна была в первой четверти, в питомнике орудовали какие-то темные тени. Подбежав ближе, мы обнаружили там целое стадо африканских кабанов, которые, возбужденно хрюкая, копошились среди драгоценных саженцев.
Мы прогнали их прочь, оставив Джимо на страже. Утром стало ясно, что натворили кабаны в питомнике. Это была катастрофа, и Гектор винил в этом только себя:
— Я должен был поставить ограду. Я и помыслить не мог, что эти мерзавцы могут нанести нам такой урон. — Он вздохнул. — Похоже, Эрнест, тебе все-таки придется отправиться в Харар. Надо все засадить заново.
— Какая жалость, — сказал я, внутренне ликуя. — Завтра же отправлюсь.
Завтра. Завтра, завтра, завтра… В ту ночь я почти не мог заснуть, в лихорадочном мозгу витали эротические видения.
Когда на следующий день я покидал лагерь, Гектор погнал народ снова жечь лес. Уже отъехав от лагеря на большое расстояние, я все еще мог сказать, где именно в этой бескрайней, холмистой местности находится лагерь, — по вздымавшемуся над тем местом столбу дыма, громадные черные клубы которого расползались по небу, как ветви гигантского неведомого дерева.
«Медовый» — приятный призвук цветочного меда. Запах также напоминает пчелиный воск, имбирный пряник, нугу и некоторые сорта табака. Фенилуксусный альдегид, выделяемый кофе, прекрасно воспроизводит этот запах.
Оказавшись в Хараре, я известил Фикре о своем появлении, отправив ей записку, в которой якобы прошу помочь мне кое-что перевести. Слуга принес ее ответ, равно безобидного и осмотрительного содержания. Ни малейшего упоминания о Бее: что означало — он уехал. Боги были к нам милостивы.
Я ждал. Ждал. Ожидание было невыносимо — казалось, все мои чувства натянуты необычайно, до предела, как струны инструментов, настраиваемых оркестрантами перед концертом. Я коротал время, сооружая импровизированную постель из мешков кофе, покрывая их шелковыми платками. Постель оказалась на редкость удобной, зерна внутри пересыпались под тяжестью моего веса, образуя мягкую, податливую ложбину.
Как вдруг — тихо-тихо, еле расслышал, — отворилась дверь на нижнем этаже. Послышались быстрые шаги вверх по лестнице.
Каждый раз, когда я видел ее, меня ошеломляла ее красота: черное узкое лицо, светлые, пронзительные глаза, стройное тело, обернутое шафранно-желтой тканью.
Теперь, когда мы оказались наконец вдвоем, никто из нас как будто не спешил начинать. Она приготовила мне кофе — нежный, душистый деревенский кофе, как готовила в пустыне, — и с серьезным видом наблюдала, как я пью первую чашку. Я вспомнил, что говорил мне Бей о кофейном ритуале, когда я впервые оказался в его шатре: это еще и любовный ритуал.
Внезапным вихрем на меня нахлынула страсть. Нетерпеливым рывком я размотал на ней одеяние, и вот она уже стояла обнаженная передо мной — почти обнаженная: тонкий пояс-цепочка обвивал ее стройные бедра. Он был увешан пиастрами. Фикре подалась ко мне, и золотые диски, закачавшись, сверкнули на фоне ее черной кожи.
Я, познавший близость со столькими женщинами — с податливыми, случайными, с непокорными, с хитрыми, — которые, все до единой, каждая по-своему, хотели поскорей все это закончить, никогда еще не сталкивался ни с чем подобным. С тем, чтоб слиться с той, чья страсть была бы под стать моей, которая бы задыхалась, извивалась и содрогалась от наслаждения при каждом моем прикосновении. Она пахла кофе: его вкус я ощущал в каждом поцелуе, аромат кофейных жаровен в ее волосах… Ее ладони — кофе, ее губы — кофе. Кофе пахла ее кожа и блестящие прозрачные капли в уголках ее глаз. И — да, да! — в ее темной промежности, там, где кожа раскрывалась распахнутыми лепестками, обнажая акациево-пахучую розовость внутри, я обнаружил крохотное одиночное зернышко, твердый узелок ароматной кофейной плоти. Я лизнул его языком и легонько сдавил зубами: и как по волшебству, уже налакомившись вволю, я вновь почувствовал готовность.
Решив не причинять ей боли, я входил медленно. Сама Фикре под конец не сдержалась: пошла извивами вниз на меня, пока не достигла легкого упора: тогда, склонившись низко, так что могла заглянуть мне прямо в глаза, с усилием подала вниз. Ее ресницы взметнулись, едва сопротивление отступило, и я уже полностью ей овладел. Темно-красный мазок расплылся на миг паутиной по нашим животам, и тотчас был стерт круговыми движениями ее бедер.
Глаза Фикре вспыхивали злорадно, победно.
— Что бы ни было, — шептала она, — теперь победила я.
И случилось то, с чем никогда я не сталкивался, хотя об этом читал. Во время нашего соития на нее несколько раз, откуда-то из самых глубин, накатывала спазматическая дрожь, сотрясая ее мощно, почти до боли. Дрожь пробегала волнами через все ее тело, даже видно было на коже: как будто от глубинного взрыва мгновенно вскипает поверхность воды. После каждого такого спазма ее тело обмякало, и она покрывала поцелуями мое лицо, бормоча что-то восторженное; но вот ее спина снова выгибалась дугой, она напрягалась, задыхаясь, от накатившего вновь наслаждения. Едва возникал этот спазм, я чувствовал, как напрягались сжимающие меня мускулы. И я понял, что все те шлюхи, которые когда-либо стонали и трепетали в моих руках, являли собой лишь жалкое подобие того, с чем я столкнулся сейчас. Думаю, ни одна из них никогда не испытывала подобных ощущений. Так что же получали они от всего этого, кроме денег? — спрашивал я себя.
Потом мы снова пили кофе и снова любили друг друга. А после она лежала в моих объятиях, и мы разговаривали. Мы не сразу заговорили о Бее или о чем-то серьезном — тот мир был по ту сторону, его мы отринули. Фикре рассказывала мне про торговца-француза, который жил тут до меня.
— Это очень печальная история. В молодости он был очень красивый — и очень одаренный. Он писал стихи, которые расхваливали все известные литераторы. Один из них, сам поэт, взял его себе в ученики. Но одновременно потребовал, чтобы юноша стал его любовником. В итоге юноша выстрелил в наставника из ружья. Но что странно: оказалось, именно то, что был тот француз мальчиком для утех, и питало его талант. После он уже не написал ни строчки: и вот он отправился сюда, на край света, и жил так, как будто и не жил вовсе.
— Кто тебе это рассказал?
— Ибрагим. А что?
— История красивая. Хотя если бы и в самом деле был такой гениальный мальчик-француз, я бы это знал.
— Думаешь, Бей все выдумал?
— Думаю, несколько преувеличил.
Она улыбнулась.
— Что ты?
— Просто подумала, зачем бы ему преувеличивать, если сам это слышал?
— Но, должно быть, и не слышал вовсе, — сказал я.
Теперь, когда безумие нашего соития прошло, уже трудно было отделаться от чувства страха. То, что мы только что совершили, было больше, чем преступление. Я забрал у другого мужчины его женщину, осквернил его собственность и пустил по ветру его капитал, и все за считанные минуты. Я представления не имел, какие в Хараре существуют законы, но подозревал, что мой статус британского подданного сулит мне скудную защиту. И без того являясь предметом всеобщих насмешек за то, как обходится с Фикре, Бей поймет, что единственный способ вернуть себе хоть толику доверия — это осуществить месть такой неимоверной жестокости, чтоб даже недруги содрогнулись.
— Что с тобой? — Фикре приподнялась, заглянула мне прямо в глаза.
— Ничего.
— Раздумываешь, как он поступит.
— Как ты догадалась?
Она опустила руку на мой член.
— Все втянулось, как у улитки.
— Гм…
На меня обрушилась реальность случившегося: то, что нами сделано, изменить невозможно. Что толку теперь говорить: «мы больше не должны видеться» или «надо остановиться, пока не поздно». Уже слишком поздно. Мы сотворили то единственное, ужасное, что могло бы означать приговор нам обоим. Но все же в этом виделась некая вольность: что сделано, то сделано.
К третьей чашке кофе она подала веточку тена адам. Мы любили друг друга медленно, даже как-то задумчиво, неотложность угасла. Мне вспомнились и другие слова Бея о кофейном ритуале: третья чашка — благодать, дарует преображение духа. Но на самом деле она снизошла на меня гораздо раньше.
Потом мы заснули, потом проснулись вместе и лежали в безмолвном слиянии тишины и наших улыбок.
— Надо что-то придумать, — сказала она, врываясь в мои мысли.
Слегка провела тыльной стороной кисти мне по животу.
— Когда впервые увидала тебя — только об одном подумала, честно, вот была бы отличная месть Ибрагиму. Я все равно хотела умереть, только мечтала побольней его уязвить. А теперь… — Ее палец, едва касаясь, водил вокруг моего пупка. — Теперь я не хочу, чтобы это кончалось.
— Я тоже. Но теперь непросто представить, как быть.
— Может, мне удастся его соблазнить. Тогда он решит, что это он лишил меня девственности.
— Ты на такое пойдешь?
— Конечно. Если это поможет нам иногда встречаться.
Я представил себе, как Бей своим жирным телом громоздится поверх нее и мокрым, слюнявым ртом тянется к губам, к которым только что приникал я.
— Он поймет, что ты не девственница.
— Есть хитрые способы. Мешочки с овечьей кровью, они лопаются, когда мужчина входит. Врача, думаю, не провести, но сильно возбужденный мужчина во что хочешь поверит.
— Это рискованно. К тому же, представь, вдруг это не сработает? Что если он тебе откажет? Вдруг сообразит, что тут что-то не так?
— Ну, а иначе как?
— Не знаю. Придумаю что-нибудь.
Как рефрен, то я, то она продолжали повторять: Придумаю что-нибудь. Слова убаюкивали, как светлое материнское утешение. Не тревожься. Спи спокойно. Все будет хорошо. Нет, не будет хорошо, мы обречены. И все равно умиротворение оказывало свое магическое действие.
— Я должна идти. — Фикре поднялась, потянулась за одеждой.
— Погоди…
— Надо идти. Слуги что-нибудь заподозрят. Я старалась осторожно, чтоб никто за мной не проследил, но все равно, кто его знает.
— Не уходи.
Я тронул ее груди.
— Уже нет времени… — Но она уже подрагивала от наслаждения, снова легла, выдохнула: — Скорей… — согнув колени и раздвигая ноги.
Она опустилась на спину подо мной и, стиснув ладонями мое лицо, смотрела мне прямо в глаза. На этот раз спазмы не сотрясали ее, но с убыстрением моего ритма, ее ноги понимались все выше и выше, розовые пятки почти касались моих ушей, да! да! да! и я кончил. Она меня поцеловала, встала, буднично омылась водой, которую я принес для кофе, и скрылась.
Мало кто отдает себе отчет, что у кофе соленый привкус. В свежесваренном кофе соль не ощущается: ее роль — в придании крепости прочим ароматам и проявлении мимолетной горечи в послевкусии, что и составляет одну из прелестей этого напитка. Но если оставить кофе в кофейнике на пару часов, за которые некоторая часть жидкости испарится, вы обнаружите, что соленый привкус обостряется до такой степени, что кофе пить почти невозможно. Вот почему кофейный ритуал — всего три чашки кофе: третья — это последнее, что можно извлечь, прежде чем кофе станет соленым, как слеза.
Но кое-кому может еще достаться и четвертая: та, которую приходится испить, невзирая на горечь, любовнику, когда, лежа один в постели, он рисует себе, как его возлюбленная пробирается темными улочками в своем шафранно-желтом одеянии назад, к дому мужчины, который ею владеет.
«Взрывной» — игристый привкус, зачастую обнаруживаемый в эфиопском кофе.
Текли недели. Я пребывал, как животное, в спячке, тешась сонмом воспоминаний, вызывая в памяти гладкую, прохладную и душистую глянцевитость кожи Фикре, вкус ее сосков…
— Скажу вам, Роберт, — заметил Гектор однажды утром, когда мы прохаживались между рядами работающих, — вы на удивление здорово справляетесь. Признаюсь, я думал, вы изойдете тоской по своим старым соблазнам с Риджент-стрит.
— Риджент-стрит? Как странно, уж по Риджент-стрит я ни капли не скучаю. Мне даже моя прежняя жизнь в Англии кажется удивительно тусклой в сравнении с нынешней.
— В самом деле? — Гектор, казалось, озадачен. — Вы у нас уже сделались искателем приключений.
— Кстати о приключениях, — сказал я небрежно. — Мне скоро понадобится снова в Харар.
Гектор нахмурился:
— Как, опять?
— Совершенно очевидно, что гораздо сложней покинуть ферму, когда вы отбудете, — сказал я с нажимом. — Именно поэтому есть полный резон постараться распродать как можно больше товара до вашего отъезда. Не так ли?
— Полагаю, что так, — с неохотой отозвался Гектор.
— Отлично. Значит, договорились. Я отправлюсь в воскресенье.
Мы дошли до бровки склона: под нами работники трудились вдоль линии, помеченной нами белой лентой, копая ямки через каждые шесть футов и помещая туда саженцы. Гектор с вершины следил за их работой.
— Обратите внимание на эти линии, Роберт. В конечном счете, Цивилизация это и есть ярко прочерченные белым, прямые линии.
Из глубины джунглей донесся какой-то звук — низкое, бессвязное мужское пение, когда поют не просто так, а чтобы легче шагалось. Все, в том числе и мы с Гектором, прекратили работу, взгляды всех выжидающе устремились к умытым дождем деревьям.
— Не стой! — выкрикнул Джимо.
В последнее время он обзавелся хлыстом, длинным гибким прутом, которым он со свистом взмахивал в воздухе, придавая вес своим словам.
— Не стой!
Жители деревни с неохотой вернулись к своим делам.
Сквозь деревья двигались прямо на нас две длинные вереницы мужчин. Хотя не только мужчин — там были и женщины, нагруженные кухонной утварью, мешками с кукурузой, даже маленькими детьми, пристроенными в походные котомки за спиной. Все темнокожие, но не такие черные, как наши. Низкорослые, смуглые с вьющимися волосами и тяжелыми бровями.
— Это кули, — довольно сказал Гектор. — Я все прикидывал, когда они сюда прибудут.
Водитель каждой колонны отдал команду; пришедшие остановились, спустили мешки на землю, присели на корточках рядом.
— Откуда они? — озадаченно спросил я.
— С Цейлона. Это индийцы. Тамилы. Потрясающие работники. Не то что эти африканцы.
— Но как они здесь оказались?
— Ну, разумеется, мы их выписали. — Очевидно слегка раздраженный моими расспросами, Гектор пошел по склону вверх прямо к главному среди пришедших. Тот стоял и ждал нас, уважительно склонив голову.
— Вы устроили, чтоб их доставили сюда?
Гектор протянул руку, главный тамил вложил в нее связку грязных бумаг.
— Я их завербовал. Свой проезд они оплатили.
— Сомнительно, чтоб у них нашлись такие деньги.
— У них и нет. — Гектор снисходительно вздохнул, будто имел дело с недоумком. — Теперь на Цейлоне им работы не найти. Вот они и вызвались со своим старшим, чтоб их переправили сюда. Цена их провоза будет вычтена из их жалованья. Сейчас мы выкупим их контракты у их старшины, чтобы покрыть его расходы, тамилы получат работу и еду, и все будут счастливы.
— Понятно, — сказал я, хотя, признаться, все еще никак не мог взять в толк, каким магическим образом экономической машине удалось перебросить этих людей за тысячи километров от родного дома.
Тамилы были воистину особенными. Полная противоположность всегда улыбчивым местным жителям; они отличались неизменно хмурым, насупленным видом. Зато работники они были отменные, ничего не скажешь. За несколько дней соорудили три просторных хижины — одну, в которой спали мужчины, другую для женщин и третью, как пояснил Гектор, для сортировки кофейных зерен. Если тамилы принимались за рытье посадочных ям, то там, где местные успевали пройти шестьдесят ярдов, эти умудрялись за то же время освоить триста.
— Все потому, что эти связаны договором, — сказал Гектор. — Усердно работают, им ведь деньги отдавать.
Через несколько дней Гектор собрал африканских жителей в нашем лагере. Подойдя к клети, где хранился наш хозяйственный инструмент, он извлек пару топоров европейского производства.
— Это отличные топоры, они очень дорогие, — объявил он, показывая африканцам. — Они стоят сотни рупий. Так просто никому из вас такие не приобрести.
Джимо перевел; слушатели закивали.
— Но для тех, кто на нас работает, дело другое. Если вы согласны поработать до первого урожая нашего кофе, мы выдадим каждому по такому топору, а женщинам — по мотыге.
Джимо снова перевел. На сей раз слушатели озадаченно смолкли.
— Сейчас деньги отдавать нам не нужно, — пояснил Гектор. — Будете выплачивать по рупии в неделю из своего жалованья.
Джимо перевел. И тут поднялся страшный шум. Тот, кто вник в смысл предложения, разъяснял менее сообразительным. Другие подбежали, чтобы пощупать топор, водили рукой по обточенному до гладкости топорищу, касались зеркальной поверхности обуха, лезвия в жирной смазке, восхищенно что-то бормоча.
— Мало того, — выкрикнул Гектор сквозь галдеж. — Вот! Смотрите! — Он подошел к клети с товарами обменного фонда.
— Рыболовные крючки! Зеркала! Все это смогут получить в кредит все, кто подпишет контракт. — Подхватив стеклянные бусы, он взмахнул ими. — Видите?
Бусы вырвал у него любопытный абориген.
Гектор самодовольно взглянул на меня:
— Все подпишут. Куда они денутся! Такой красоты им сроду никто не предлагал.
— А не смогут они, когда выплатят долг, с полученным инструментом попросту завести свою ферму?
— Теоретически смогут. Но, вот увидите, таких найдется совсем немного. — Гектор удовлетворенно потер руки. — Вот красота, придется-таки приобрести побольше всякого инструмента. Чтоб все остались довольны.
В тот вечер в деревне было о чем потолковать. Поднаторевшая в подобных обсуждениях Кику понимала, что самое умное — не торопиться высказывать собственное мнение, и, приняв к сведению то, что говорят другие женщины, воспользоваться своим старшинством и подвести их к общему согласию. Однако сейчас это оказалось нелегко, так как впервые на ее памяти ни одна из женщин с нею не согласилась.
— Что станет с нашим лесом, если мы все обзаведемся топорами? — озабоченно спросила она. — Что будет с деревьями?
— Но деревьев и так много, а нас так мало. Наверное, это хорошо, что мы сможем теперь их рубить. Тогда уже нам придется саафу рубить не меньше, а больше, чтобы потом распределить поровну, — раздался голос.
К недовольству Кику это произнесла Алайа, новая жена Тахомена, и, что еще хуже, на остальных, похоже, слова Алайи подействовали.
— Сказать, что не надо топорами рубить деревья, — вставила другая женщина, — разве не то же, что сказать, чтобы мы перестали носить воду горшками? Зачем усложнять жизнь, когда она у нас и без того трудная?
— Я сама, например, не прочь поработать мотыгой, — добавила Алайа, — если мотыга хороша. Хотя, раз я жду ребенка, лучше бы мне работать не слишком долго.
Остальные женщины закивали. Раз Алайа носит ребенка от Тахомена, ясное дело, работать долго она не будет. Но всем очевидно очень понравилось, что Алайа готова хоть немного потрудиться. Не все жены старейшин такие трудолюбивые.
Кику почти ощущала, как эти мысли бродят в головах женщин, и когда те посмотрели в ее сторону, ожидая, что скажет она, ей показалось, будто она видит в их взглядах явный вопрос: А Кику? Она не носит ребенка Тахомена, она ведь не собирается взять в руки мотыгу? Потому-то она и не хочет, чтобы мы получили топоры и мотыги! Пусть и она, хоть раз в жизни сама попотеет, потрудится!
— Говоришь, мотыгу возьмешь… — начала Кику.
— Ну! — просияла Алайа.
— А чем же ты ее оплатишь, если у тебя будет ребенок?
Вопрос заставил Алайю призадуматься. Эта мысль, как видно, не приходила ей в голову. Но вот брови ее расправились.
— Если Тахомен возьмет топор, — объявила она, — он будет рубить деревья, тогда сможет заплатить и за мою мотыгу, и за свой топор.
Напряженно слушавшие женщины вздохнули с облегчением. Сам старейшина будет рубить деревья! Как будто он такой, как и все! И тут, как и прежде, Кику почти прочла мысль, зародившуюся в их головах, — а почему бы и нет? Почему вдруг старейшина должен быть избавлен от физической работы? Пусть поработает вместе со своей беременной женой!
Осознание того, что Алайа ее обошла, подтолкнуло Кику смело заявить:
— А я не согласна!
— Кому нужно твое согласие? — сказала Алайа. — Пусть те имеют согласие, кто готов работать и хочет иметь топоры. И мотыги тоже. Мы сами можем решать, нужно нам это или нет.
Снова притихли потрясенные слушатели. Мысль, что это решение может стать делом каждого, а не всего племени, была также совершенно новой. Кику видела, как женщины переглядываются, примеряя эту мысль на себя, кивают. Алайа правильно говорит, считают они. Почему нас кто-то должен учить, как поступать? Пусть говорят те, у которых сильные, молодые мужья, готовые к тяжелой работе, и пусть они зарабатывают себе мотыги! Некоторым повезет, — ясно, что не всем: есть старые, малые, немощные. А вот тем, кто будет усердно трудиться, как раз благодаря топорам, ясное дело, повезет.
И тут Кику поняла, что все кончено. Перемены уже не остановить, как не заставить ручей течь не вниз с горы, а вверх. И ей стало тревожно: она не понимала, что будет дальше и где всему этому конец.
На следующий день все подписали новые контракты, даже Тахомен. Но, глядя на ожерелья, украшавшие теперь шею каждой женщины, Кику не могла избавиться от мысли, что больше, чем любые лесные украшения, которыми жительницы прежде украшали себя, эти ожерелья походят на рабские цепи.
Напыщенная реклама Кэрнса, к явному неудовольствию Эмили, возымела большой успех. Непонятно: то ли сработал выраженный в ней призыв, то ли просто возрос интерес к фирме «Пинкерз» из-за такой энергичной рекламы, но «Кофе Кастл» становится теперь самым раскупаемым бакалейным продуктом. Поскольку эта отрасль торговли в последнее время грандиозно преуспела, такие господа, как Томас Липтон и Джон Джеймс Сейнсбери с таким же напором стали осваивать новые широкие возможности, как и Пинкер в своем кофейном деле. Новый рекламный ход был всеми подхвачен. Сейнсбери размещает заказы на «Кастл», будучи уверен, что получит именно желаемый продукт в каждом из своих магазинов, в то время как Пинкер, видя, какой огромный спрос вызывает его реклама, может быть вполне удовлетворен достаточным количеством точек сбыта. Липтон, в частности, превращается прямо-таки в делового партнера: предлагает запустить в продажу вместе с пробными упаковками своего нового чая и пробные образцы смолотого «Кастла». Пинкер с готовностью соглашается.
— Но ведь смолотый кофе долго не хранится, и вкус у него хуже, чем у свежесмолотых зерен, — замечает Эмили.
— Возможно, некоторая разница и есть. Но в современной жизни не у каждой женщины есть время, чтобы молоть кофе. Многие ведь работают, Эмили. Ведь ты же сама не хочешь, чтоб женщины лишились работы, правда?
Разумеется Эмили этого не хочет, и потому прекращает высказываться: подозревает, что отцу ее мнение не очень-то и интересно. Теперь у него целая армия советчиков — секретари, помощники и новая поросль ассистентов, именуемых администраторы. Язык бизнеса меняется с переменами в самом бизнесе. Эмили заметила, что иногда отец называет свои склады депо, а свой «Кастл» — продукт. Из гроссбухов она видит, что теперь фирма закупает высокосортного кофе не больше, чем прежде; рост продаж пополняется все возрастающим количеством более дешевых сортов, сдобренных легким подмешиванием качественного «арабика». Правда, продукт стал дешевле — ровно настолько, чтобы подсечь кофе «Хоуэллз», но большая часть средств, выручаемых от сырья, вкладывается в рекламу. Теперь цель — расширение торговли, не прибыль.
Раз отец выводит Эмили на улицу, показать ей кое-что. У края тротуара стоят три фургона для перевозки керосина, раскрашенные в ливрейные, черные с золотом, цвета «Кастл», тарахтящие двигатели заполняют улицу едким дымом. Сбоку на каждом знакомая картинка с замком, красующаяся на кофейных пачках Пинкера, поверху слова: «„Кофе Кастл“ — выбор заботливых жен».
— Это предложил Кэрнс. Фургоны разъезжают по городу, развозя свой товар, а народ смотрит и думает: «А не заказать ли нам „Кофе Кастл“»?
— Похоже, ему еще и спасибо надо сказать, что Большую Любовь сюда не приплел, — бормочет Эмили.
Но все же единственной отраслью их империи, которой не коснулся расцвет, стали безалкогольные бары. Иногда Эмили сопровождает отца, который наведывается туда, пытаясь решить проблему.
— Дело, конечно, не в идее, — говорит Линкер, оглядывая полупустой зал кофейни. — Вон «Лайонс», они продают свой чай, как и мы, через бакалеи, но в их заведениях, говорят, полно народу.
— Может, бары неудачно расположены? Чайные «Лайонс» находятся на оживленных улицах, так что женщины, делающие покупки, могут заскочить туда ненадолго. А наши бары находятся в жилых кварталах.
— Все потому, что они преобразованы из питейных заведений, — вздыхает отец. — Думаю, на этот раз я недооценил вкусы публики, Эмили. И если наши бары не дают прибыли, придется их закрыть.
— Но я-то считала, в самих этих барах главная идея всего? — озадаченно произносит Эмили. — Или трезвость уже не твоя цель?
Линкер поджал губы:
— Разумеется, моя цель — трезвость. Но, пожалуй, средства будут иные — может быть, пачка кофе сумеет поменять привычки рабочего люда.
— Пока будут питейные заведения и алкоголь, не исчезнет и пьянство, — напомнила отцу дочь.
Тот повел плечами:
— Пусть так, но бизнес, не приносящий прибыли, не может быть орудием перемен. Пока не будем ничего предпринимать. Может, рыночная картина изменится.
Я блаженно и сыто нежился в объятиях Фикре. Стоило кому-то из нас шевельнуться, вспархивало душистое облако — перед свиданием со мной Фикре стояла, как это делают женщины бедуинов, обнаженной у курильницы с миро, чтобы ароматизировать кожу, и теперь этот аромат слился с влагой нашей любви, запахом мешковины под нами и кофейными ароматами нашей импровизированной постели.
Внезапно я рассмеялся, вспомнив про Определитель: сколько там составляющих, но в конечном счете человека просто влечет инстинкт: да, хочу это, сейчас; как это приятно.
— О чем ты думаешь? — спросила она, шевельнувшись под моей рукой.
— Об одном совершенно дурацком эксперименте, которым занимался до отъезда сюда.
И я рассказал ей про Определитель, про Линкера и про ящички с пробами…
— Очень, очень хочу посмотреть! — Фикре вскочила — ее темперамент не выдерживал длительного покоя; через считанные минуты после любви ей уже снова хотелось еще: больше секса, разговоров, больше страсти, рассуждений о будущем. — Они у тебя здесь?
— Да, тут где-то.
Я отыскал ящик с ароматами, принес ей.
— А твой любимый — какой?
— Пожалуй, вот этот.
Я вскрыл склянку с этикеткой «яблоко». Внезапно мне показалось, что запах улетучился, — я не почувствовал почти ничего. Но вот еле ощутимо пахнуло чем-то безжизненно тусклым и пресным, как молоко.
— Теперь мне кажется, что он ужасен. — Я передал ей склянку.
Она понюхала, пожала плечами:
— Слабый какой-то.
— Ты изменила во мне чувство запаха.
— Это Африка изменила.
— Ты и Африка.
Я вернулся в постель, и она снова пришла ко мне.
— Я нашла одно его стихотворение.
— Чье?
— Того француза, который здесь жил. Хочешь послушать?
— Ну, если надо…
Она уселась на мешках с кофе, скрестив ноги, естественная и непринужденная в своей наготе, и стала декламировать вслух.
— Довольно, — сказал я через пару минут. — Прекрати, Фикре! Сплошные звуки… никакого смысла.
— Он же прямо упивается словами, — упиралась она. — Неужели ты не слышишь?
Она вскочила и стала ходить по комнате, декламируя и взмахивая в такт рукой:
Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t’exiles,
Million d’oiseaux d’or, ô future Vigueur…
Я не мог сдержать улыбку — она завелась, как ребенок, но слетавшие с ее губ французские слова, бесстрастные по сути, звучали удивительно эротично.
— Иди ко мне.
Mais, vrai, j’ai trop pleuré! Les Aubes sont navrante…
— Хочу снова трахаться.
— A я нет! Хочу читать стихи!
Ухватив за лодыжки, я закинул ее обратно на постель. Она сопротивлялась, царапаясь, отбиваясь, хохоча и все пытаясь горланить свои стихи, когда я уже завладел ею. Даже когда я вошел в нее, не иссякла в Фикре эта странная, демоническая энергия. Она вывернулась и уже оказалась поверх меня, и даже когда я кончил, все не унималась, скача на моем обмякшем достоинстве, выпаливая:
Ôque та quille éclate! Ô que j’aille à la mer![46]
И ее ногти неистово впились в мой живот.
Разумеется, стишки были так себе, но что-то было в их мелодике, в этом примитивном, дикарском барабанном ритме, и он пульсирующим эхом отзывался в моей крови.
И я подумал: «Я вовсе не плантатор. Я вовсе не торговец кофе, И, конечно же, я вовсе не супруг».
И пообещал себе: когда все это кончится, я снова стану писать — я заново открою в себе того буйного, ликующего суккуба, который прежде жил во мне и писал стихи.
— Я придумала, — произносит голос Фикре.
— У-м-м? — выхожу я из дремоты.
Что-то твердое, легкое и сухое протискивается у меня между зубов. Я плююсь и открываю глаза. Она вкладывает мне в рот с ладони кофейные зерна. Улыбается и кладет остальные себе в рот, быстро пережевывая каждое сильными зубами, как кошка, грызущая косточки.
— Ты ешь немолотые зерна?
— Это вкусно! — кивает она.
Я неуверенно пробую на зуб одно. Она права — это вкусно: чистый вкус неразбавленного кофе.
— К тому же тебе пора просыпаться. — Она делает паузу. — Вот что я придумала. Я решила, что мы должны убить Ибрагима. Это единственный выход.
— Как такое возможно?
— Ты должен нанять башибузуков. Наемных убийц. Они его убьют, и мы с тобой сможем быть вместе.
— К несчастью, ты куплена под залог. Он в пустыне мне про это сказал. Даже если он умрет, его кредиторы тебя заберут в счет долга.
Фикре сверкнула глазами.
— Как я его ненавижу! — Она снова бросилась на постель. — Когда это все кончится, надо сделать так, чтоб мир перестал быть таким!
— Мало тебе наших забот… — пробормотал я.
Фикре потянулась, провела рукой мне по щеке:
— Теперь, когда у меня есть ты, когда есть все это, я хочу жить! Чтобы быть с тобой.
— Я что-нибудь придумаю, — пообещал я.
Снова все та же успокоительная ложь.
«Едкий» — вызывается горечью, сменяющей сладость в основной модуляции вкуса.
В ночной тишине раздался вопль.
Кику тотчас поняла, что это не крик человека, наступившего на змею или поранившего руку пестиком, растирая зерна маиса. Это даже не был крик от боли. То был крик человека, пытавшегося — отчаянно и сбивчиво, — поведать другим, что произошло что-то ужасное.
Кику бросилась вон из своей хижины. По тропинке со стороны лагеря белых людей шла, спотыкаясь, Алайа, одной рукой прикрывая грудь, другую прижимая ко рту, будто вот-вот задохнется.
Кику вместе с другими женщинами, услышавшими шум, подхватили ее и провели в одну из хижин. Мало-помалу все узнали, что произошло. К Алайе подошел мужчина, но ей он был неинтересен — или, вернее, интересен самую малость, только чтоб согласиться пойти с ним в его хижину. Он сказал, что у него есть для нее подарок, и, правда, он протянул ей ожерелье. Но Алайа не хотела давать ему то, что он от нее хотел, тогда он ее ударил, и повалил на землю, а потом взял то, что хотел, силой.
— Что это был за мужчина? — спросила Кику. — Тот, который сделал с тобой это?
— Винията Анантан, — прошептала Алайа.
Это был бригадир из тамилов. Это все намного осложнило. Работники боялись бригадира куда больше, чем массу Крэннаха или массу Уоллиса. Только бригадир мог определить человека на легкую работу, скажем, с мотыгой, или на тяжелую, скажем, двигать поваленные деревья. Бригадир мог исподтишка огреть палкой по ногам, если решал, что кто-то не слишком усердно трудится. Бригадир мог урезать жалованье, если кто-то не сделает то, что тот приказал.
Кику понимала, если деревенские теперь не выступят все вместе, то жизнь для всех станет невыносимой. Он пошла к себе в хижину, отыскала свою палку сикквее.
Сикквее была у каждой женщины: она передавалась от матери к дочери, едва дочь переставала быть девочкой. Сделана была палка из платана, женского дерева. У каждой женщины была палка из платана. Это был знак того, что все они связаны между собой. Когда Кику принимала роды или варила травы от лихорадки, она стучала своей палкой по лбу больного, чтобы показать, что не только свою собственную мудрость вкладывает, но еще и мудрость сикквее, через которую перетекала сила всех женщин, кому она принадлежала раньше. Просто держать эту палку уже придавало силы — не мужской силы, чтоб поднимать большие камни и бороться, а женской силы, такой, чтобы выжить. С этим даром силы, правда, приходила и ответственность. Если какой женщине срочно требовалась помощь, все что ей требовалось, это взять свою палку, выйти из своей хижины и крикнуть. Было это нечто вроде сигнала тревоги; каждая женщина, услыхав крик, обязана была оставить свои дела, выйти и к этому крику присоединить свой.
Кику коснулась лба своей палкой, вбирая ее силу. Потом вышла наружу и прокричала:
— Интала Ааийаа дхагейтее? Дочь женщины, слышишь ли ты?
На миг стало тихо. Но вот со стороны одной из хижин прозвучал ответный крик:
— Одуун на гахее! Я слышу!
— Я слышу! — прокричал и другой голос.
Со всех сторон сбегались женщины. Все кричали, что слышат призыв сикквее. Они окружили Кику с Алайей, встав к ним спинами, и, воздев свои палки, нараспев повторяли призыв:
— Интала Ааийаа дхагейтее? Интала Ааийаа дхагейтее? — пока все женщины деревни не выбежали на зов.
Мужчины столпились вокруг, покачивая головами.
Шум утих, так как все ждали, что скажет Кику. Она собиралась с мыслями: важно, чтобы вся деревня поняла, что все это очень важно.
— Саафу больше нет, — начала Кику. — Сперва осквернили наш лес. Мы слышали голоса иных мужчин у костра, что это доброе дело, что белые люди могут показать нам, как обуздать лес с топором в руках. Но вернет ли это саафу? Саафу — это наша общая жизнь с лесом, когда мы с ним на равных.
Кое-кто из слушателей закивал, но за заслоном окружавших ее женщин Кику было видно, что молодых мужчин она не очень убедила.
— Сейчас напали на сестру мою Алайю, — продолжала Кику. — Сегодня Алайа. Завтра это будет жена или дочь кого-то из вас. И поэтому вы должны сказать белому человеку, что мы больше не станем на него работать. Вместо того, чтобы учить нас своим недобрым делам, пусть сперва поучится у нас, как понимать саафу. А пока женщины перейдут ручей.
«Перейти ручей» — это были ритуальные слова. Это означало, женщины перестанут участвовать в жизни деревни. Не будут ходить за детьми, готовить пищу, жить с мужьями, пока не установится порядок и мир.
Кику повела женщин в джунгли, вон из деревни. Когда женщины проходили мимо, Тахомен встал и торжественно произнес:
— Без женщин погаснет огонь. Мы, мужчины, должны сделать все, чтобы вернуть саафу.
Возвратившись из Харара, я застал плантацию в состоянии смуты. Похоже было, что африканские работники учинили нечто вроде забастовки. Тамилов это не затронуло, поэтому угрозы для нормального ведения хозяйства не представляло. Однако Гектор стремился восстановить порядок как можно скорее.
— Понятно, что этот малый не должен был так поступать. Но случай подоспел как раз вовремя. Надо показать этим людям, что главное не их слюни, а дело.
Организовали судилище. Перед ним предстал с пристыженным видом тамил, и на глазах у всей деревни он признался в содеянном. За это с него был взят штраф размером в четыре рупии.
— Ну вот, — сказал Гектор, оглядывая собравшихся жителей деревни. — Все и уладилось. Все могут вернуться к своей работе.
Даже после того, как его слова были переведены, жители деревни не тронулись с места.
— Теперь-то к’ого черта, Джимо? — гаркнул Гектор.
Немного посовещавшись с местными, Джимо сообщил, что местные хотят, чтоб штраф выплатили им, а не суду.
— Исключено, — отрезал Гектор, делая отрицательный жест. — Это не в правилах правосудия.
— И еще они хотят, саа, чтоб того человека отправили отсюда, — тихо сказал Джимо.
— Что-о? И речи быть не может! Он выплатил штраф. Что они, не соображают, что вопрос исчерпан?
Похоже, так оно и было. Даже когда рассерженный Гектор распустил судилище, деревенские работать отказались.
— Отыщите-ка мне девчонку, — раздраженно бросил Гектор.
И Алайа была к нему приведена, и ей было приказано пожать тамилу руку, чтобы показать, что она на него не в обиде. Девушка молча стояла, опустив глаза, не желая протягивать руки. И когда тамил взял ее неподатливую кисть и потряс ею, негодование у наблюдавших за этим жителей деревни, казалось, даже возросло.
— Это уже переходит всякие границы. — Поднявшись, Гектор, с грозным видом шагнул в гущу жителей деревни. — Правосудие свершилось, — грозно бросил он. — Если вы не будете работать, я порву с вами контракт. — Взяв кирку, он сунул ее в руку Алайи. — На, бери! — Та неохотно взяла кирку. — Теперь пошла! Иди, работай!
Никто не двинулся с места.
— Джимо! — рявкнул Гектор. — Пороть!
— Саа?
— Двенадцать ударов кнутом. Потом выбери кого-то из парней, всыпь ему того же.
Джимо подал знак двум тамилам, те подошли и держали Алайю с двух сторон, пока Джимо хлестал ее кнутом по плечам и спине. Алайа кричала, но вырваться не пыталась. Когда ее отпустили, она упала на колени. Тамилы вытянули из толпы какого-то малого, выволокли его за руки в центр, будто тащили упиравшегося танцора принять участие в общем веселье. Этот тоже получил двенадцать ударов кнутом. За ним последовал другой…
— Гектор! — не выдержал и запротестовал я. — Ради Бога, послушайте! Нельзя же их всех пороть!
— Разумеется, можно. — Он повернулся ко мне: — Роберт, это ваша плантация. Если вы не способны поддерживать дисциплину, можете немедленно отправляться на родину. Как вы сумеете поддерживать порядок в мое отсутствие, если не желаете показать им, кто хозяин?
Завидев наше препирательство, Джимо переводил взгляд с меня на Гектора, ожидая дальнейших указаний.
— Ну что, Роберт? Как вы поступите? Будете вы их наказывать? Или вы знаете лучший способ? — не отставал Гектор.
Я колебался. Разумеется, Эмили бы ответила, что знает лучший способ, она бы, при необходимости, даже встала между карателем и его жертвой. Но что я знал о работе на плантации? Гектор явно рассматривал любые колебания с моей стороны просто проявлениями слабохарактерности. И в действительности я полагался на его опыт, осваивая как и что делать.
— Ну, ладно, — произнес я с тяжелым сердцем. — Если надо пороть этих жалких скотов, порите.
— Давай, Джимо!
Джимо, подняв свою палку, опустил ее на спину наказуемого; он не особо усердствовал, отвешивая надлежащее число ударов. Когда подошел к очередному, тот вскинул руки вверх, словно покоряясь, бормоча что-то.
— Говорит, саа, что работать будет, — доложил надсмотрщик.
Толпа звучно выдохнула — этот странный звук уже в большей степени выражал страх, чем гнев.
— Так, — Гектор обратился к жителям деревни: — Кто следующий? Ты — будешь работать? Ты? А ты? Отлично.
Сопротивление было сломлено. Похоже было, что жители деревни поняли, что слабый мятеж с их стороны не способен противостоять резкой атаке Гектора. Мне было их даже жаль.
Через две недели, думал я, я снова окажусь в Хараре. Только об одном были мои мысли. О Фикре.
После подавления забастовки Гектор произвел некоторые нововведения. Круглые хижины местных жителей были снесены и ровная поляна, на которой они прежде стояли, была расчищена для просушивания кофе. Местных поселили в сооруженные длинные деревянные бараки, наподобие тех, что были у тамилов: всех мужчин в один, и женщин отдельно в другой. Так что, сказал Гектор, теперь не будет больше ни африканцев, ни индусов, только работники плантации.
Через пару дней после этого я обнаружил в нашей хижине сплетенный из травы предмет. Он напоминал тех куколок из кукурузных листьев, которые плели в моем детстве крестьяне в пору урожая. Но в эту фигурку был вплетен один из шнурков Гектора, а тельце было проткнуто тонкой деревянной щепочкой, похоже, обломком прута.
Как только смог, я вернулся в Харар. Но когда Фикре пришла в дом купца, на лице ее я прочитал страх.
— Бей приехал, — сказала она, скользнув через порог.
— Сможешь задержаться?
— Нет. Слишком опасно. Но я должна была тебя повидать. Он собирается продать меня.
— Что?
— Он потерял деньги с последним своим грузом. Теперь не сможет заплатить за купленный кофе. Сказал, что, когда ехал по пустыне, все раздумывал, продать — не продать, думал и плакал. Когда мне рассказывал об этом, рыдал. Сказал, что любит меня, что мысль продать меня для него невыносима. Но, говорит, другого выбора у него нет.
— И что сказала ты?
— Сказала, мне все равно, кто меня купит, — презрительно бросила она. — Рабыня есть рабыня.
— Не уверен, Фикре, что в данный момент разумно его злить.
— Он передо мной выставляется, будто не мерзавец. Почему я должна ему потакать?
— Но это значит, тебя отсюда увезут…
Она глухо рассмеялась:
— Нет, не значит!
— Иначе быть не может.
— Послушай, Роберт, — произнесла Фикре отчетливо, словно втолковывая ребенку. — Прежде чем меня продать, меня должна осмотреть повивальная бабка. Любой покупатель будет на этом настаивать. И тут все обнаружится. И тогда, конечно же, меня должны будут убить, если только я их не опережу.
— Ты не должна убивать себя.
— Лучше так, чем иначе. По крайней мере, сама выберу, когда умереть. Теперь мне пора идти. Ты поцелуешь меня?
— Ты не должна умирать, — сказал я, отрываясь от нее губами, но не отнимая рук. — Никто не должен умирать. Обещаю, я что-нибудь придумаю.
«Илистый» — пресный, слабо ощутимый, вязкий привкус. Может возникнуть при взбалтывании кофейной гущи.
Гектор тихо пробирается, вскинув ружье, сквозь джунгли. Впереди него Байана поднимает руку. Оба застывают на месте.
— Тут, саа, — еле слышно выдыхает Байана.
Гектор всматривается в чащу. Полосы яркого солнечного света, чередуясь с глубокими тенями, очень напоминают шкуру леопарда, — так что практически невозможно сказать определенно, есть ли там что-либо. Гектору кажется, что он улавливает всплеск движения, но, возможно, это всего лишь лист, трепещущий на ветру.
— Сюда, саа, — шепчет Байана, неслышной поступью двигаясь вперед.
Гектор пока не говорил Уоллису, что, когда тот отлучается в Харар, он охотится на леопарда. Во-первых, Гектор предполагает насмешливые высказывания со стороны Уоллиса в случае неудачи. Нет, нет, будет вполне по-мужски сперва застрелить леопарда, а к возвращению Уоллиса устелить шкурой пол в их хижине, тогда роскошная оскалившаяся морда леопарда сама все скажет за себя.
— A-а, это! — бросит тогда небрежно Гектор. — Решил вот, пока я здесь, устроить себе небольшую разминку.
Позади треск ветки. Кума, повар, придвигается к Гектору. Он несет второе ружье и коробку с патронами.
— Не думаю, саа, что эта тута, — произносит он, всматриваясь в заросли впереди.
— Тихо, Кума.
— Да, саа. Простите, саа.
Хоть бы не было так темно под кронами. Трое мужчин чуть продвигаются вперед. Вот небольшой ручей, за ним большие камни. Вот это, думает Гектор, как раз такое место, что, будь я леопардом, непременно бы там…
Раздается звук, похожий на грохот увесистой цепи. Что-то темное, выгнувшись, рассекая лапами воздух, выскакивает прямо на них. Гектор вскидывает ружье и плавно, со знанием дела, нажимает на курок. Леопард, извиваясь, падает на дно леса. Гектор наблюдает за раненым зверем: великолепное животное, чем меньше пуль, тем меньше вреда шкуре.
Но вот зверь, цепенея, затихает.
— Ну и ну, — произносит Гектор, осторожно приближаясь к леопарду, — ишь, здоровая тварь!
Его охватывает восторг. Зверь мертв, и это он убил его. Пусть Уоллис насмехается сколько ему угодно, но это его, Гектора, победа, это его добыча. Даже можно бы…
Раздается хриплый вой, снова рык и еще что-то летит в воздухе. Второй леопард меньше, но зато свирепей. Гектор тянется назад за вторым ружьем, с которым Кума инстинктивно отскочил; рука хватает лишь воздух, и зверь прыгает прямо на него. Громадные челюсти смыкаются на горле человека, рвут плоть. Гектор слышит чей-то вопль. Байана бьет зверя своей палкой, и вот уже Кума прикладом дубасит его. Зверь, размыкая челюсти, издает рык, и Гектору удается высвободиться. Леопард еще и еще впивается зубами ему в лицо, и в глазах Гектора все как будто сливается в крохотную точку.
Вернувшись, я обнаружил его в нашей хижине, все еще в походной одежде, складная кровать под ним была вся в крови. Пока Кума разматывал бинты, я вскрывал нашу походную аптечку.
— Вот, саа… — тихонько сказал Кума.
Я обернулся на Гектора.
С одной стороны его лицо было как будто срезано по живому острым ножом. Внутренность левой щеки обнажилась, так что в глубине раны виднелись зубы; с другой стороны — от окровавленного уха и через всю щеку — шли три глубоких борозды от когтей зверя. Это было чудовищно и, видимо, безнадежно.
Я смотрел на Истерзанное лицо Гектора, и в это время он открыл глаза. Один из них затек кровью.
— А, Роббэ… Эт’вы…
— Я здесь, Гектор. Сейчас залатаю вас и отвезу к доктору.
Он хмыкнул — вернее, сделал попытку: легкий хрип вырвался из губ.
— К… кой доктор, бросьте. Ближайш… в Адене.
— Придумаю что-нибудь.
— Уху… — Он прикрыл глаза. — Не давай им мэня эсть…
— Что?
— Когда умру. Обещаэ? Слэди… штоб похорони…
— Разговор о похоронах несколько преждевременен, — сказал я, — так как смерть вам не грозит.
Он попытался улыбнуться:
— Развэ?..
— Определенно.
— Балда… Валлиш…
— Это просто поразительно, Гектор, что вы буквально перед… — у меня чуть было не вырвалось «смертью», но я вовремя спохватился, — …перед лечением принимаетесь меня оскорблять. Полагаю, вам известно, что злить хирурга очень неумно.
— Хирурк?
— Похоже, — заметил я, — может понадобиться хирургическое вмешательство, а в отсутствие специалиста с Харли-стрит, в местных условиях его замещает некто доктор Р. Уоллис.
Герберт издал еле слышный вздох.
— Я постараюсь заштопать вас наилучшим образом, — добавил я. А после мы переправим вас в Харар. Наверняка там найдется некая медицинская помощь.
Я повернулся к Джимо и сказал, постаравшись придать своему голосу недостающую уверенность:
— Мне нужен кипяток, Джимо, вощеная нить и иглы.
Влив в глотку Гектора четыре полных ложки хлородина,[47] я принялся за работу. Скоро стало очевидным, что даже мощная смесь лауданума, настоя конопли, хлороформа и спирта не способна полностью заглушить воздействие моего рукоделия. Пришлось просить Джимо и Куму держать Гектора за плечи и за ноги. Его вопли мешали мне сосредоточиться, и производимой работой похвастаться я никак не мог. Когда я закончил, лицо Гектора напоминало неумело заштопанные штаны: неровная спираль вощеной нити скрепляла его разорванную щеку. Но, во всяком случае, дело было сделано.
Не стыжусь признаться, что после всего этого я и сам принял приличную дозу хлородина. Это тотчас повергло меня в многоцветный сон. Мне снилось, что я снова в Лаймхаусе, мы дегустируем кофе с Эмили, Адой и Лягушонком. В моем сне Эмили спрашивала Аду: «Какую теперь мы будем пробовать жидкость?», на что ее сестра отвечала: «Пожалуй, кровь». После чего мне подают три маленьких фарфоровых посудины с темно-красной жидкостью, которую я деликатно пробую ложечкой. И едва я оглашаю, какие запахи обнаруживаю там — мясной бульон, медь, что-то растительное, — Эмили, повернувшись ко мне, голосом Ибрагима Бея говорит: «Теперь я знаю, вы никогда не предадите меня».
Вечером Гектору стало как будто чуть лучше, он попытался проглотить немного похлебки, которой с ложки его кормил Кума. Но утром у него началась лихорадка. Я дал ему доверова порошка и немного варбургских капель,[48] но вскоре он изошел жарким потом, лицо его до неузнаваемости опухло.
— Кума, — сказал я, — приведи здешнюю врачевательницу. Может, ей удастся что-то сделать. И вели ребятам изготовить носилки.
Врачевательница принесла травы и кору дерева, с помощью чего приготовила припарку. Наложив ее на раны Гектору, она принялась тоненько распевать над ним, сопровождая пение ритуальными движениями тела и жестикуляцией. Снова на время, казалось, это помогло: к вечеру Гектор пришел в себя. Но теперь он смог приоткрывать лишь один глаз: другой совершенно скрылся под опухшим веком.
— Роббэ?
— Я здесь?
— Сажай семена.
— О чем вы, Гектор?
— Новые… купил в Хараре?
— Да, купил. Не напрягайтесь так…
— Прикрывай всходы от солнца банановыми листьями. Обязательно пропалывай. Дикарям пропалывать не давай, лентяи и мерзавцы.
— Хорошо, Гектор.
— У тебя отлично тут пошло. Только не останавливайся, тогда… тогда со временем тут все цивилизуется. Цивилизация, вот что важно. Не мы. Мы — пустое.
Наступила долгая тишина, прерываемая лишь бормотанием врачевательницы и, как пила надрывающим душу, дыханием Гектора.
— Скажи Эмили, чтоб простила.
— Эмили?
— Ах-а… Заботься о ней, Уоллис. Она необыкновенная девочка…
— Разумеется, — произнес я озадаченный.
— Не дай им мэня эсть.
— Никто не собирается вас есть, Гектор. Разве что за исключением того проклятого леопарда.
— Как умру, хочу, штоб мэня сошгли. Обещай!
— Говорю же вам, Гектор, смерть вам не грозит. — Поднявшись, я пошел к двери. — Кума? Где, черт побери, носилки? Мы отправимся в Харар, как только масса почувствует себя лучше.
Я вернулся к постели. Врачевательница склонилась над запрокинутой головой Гектора, перехватывая руки, одну над другой, как будто вытаскивала у него изо рта веревку. Дойдя до воображаемого конца веревки, она словно вытащила что-то наружу и отбросила в воздух.
— Спаси-иба… — выдохнул Гектор.
По всему его телу прошла дрожь — я почти чувствовал, как оно борется за жизнь, видел это отчаянное усилие жизненных сил: удержаться, во что бы то ни стало. Снова врачевательница изобразила свое вытягивание и отбрасывание невидимой веревки. На этот раз Гектор только еле заметно склонил подбородок, внезапно у него изнутри с силой вырвался стон. И он затих.
В помощь врачевательнице из деревни пришли другие женщины, чтобы подготовить тело, я же велел людям вырыть могилу. Я ждал у входа в хижину, время от времени отпивая по глотку хлородин.
Из хижины вышла врачевательница с пропитанной кровью одеждой Гектора. Я кивнул на огонь:
— Сожгите!
Она помедлила, потом вынула что-то из одного кармана, протянула мне. Это была пачечка листков бумаги — похоже, письма, перевязанные очень старой выцветшей лентой.
— Спасибо. Возможно, это как раз то, что стоит отправить его родным.
Развязав ленту, я взглянул на первое из писем. На миг мне почудилось, что у меня, должно быть, снова начались галлюцинации.
Адрес отправителя был мне хорошо знаком. Письмо было отправлено из дома Линкера.
Мой любимый Гектор…
Я перевернул письмо. Оно было подписано: «Любящая тебя Эмили».
Я колебался. Недолго. Гектор был мертв, а Эмили — за тысячи миль отсюда. В подобных обстоятельствах угрызениями совести можно было пренебречь.
Мой любимый Гектор,
Когда ты получишь это письмо, я думаю, ты будешь уже на Цейлоне! Как это замечательно — не могу передать, как завидую тебе & как сильно мне хочется бы быть с тобой. Четыре года — это почти целая вечность, — но я уверена, тебя ждет большой успех, и дела на плантации пойдут так хорошо, что мой отец, конечно, забудет про свои возражения до окончания твоего срока. А пока, пожалуйста, пиши мне и сообщай обо всем, что ты видишь, так, чтобы я могла увидеть это твоими глазами и вместе с тобой упиваться каждым мигом. Как я мечтаю вступить в нормальный брак, чтобы быть всегда и везде рядом с тобой, а не разделять жизнь с тобой посредством пера и бумаги! У меня есть атлас, и я каждый день подсчитываю, насколько далеко уже уплыл твой кораблик (сейчас, когда я пишу эти строки, ты уже у берегов далекого Занзибара), и пытаюсь представить то, что видишь ты…
Дальше — больше. И столько еще всего, хотя остальное уже было не так важно. Все было сказано фразой: …мой отец, конечно, забудет про свои возражения… Гектор и Эмили. Помолвка. Это казалось невероятным, но доказательства были у меня перед глазами. Она не просто когда-то была влюблена в Гектора, она любила его физически, безгранично, страстно. Это содержалось в этих любовных письмах, и прежде всего — в пылкости, с которой Эмили описывала их связь, жадное ожидание ею их будущего союза: как это было непохоже на дружеский, но сдержанный тон ее писем ко мне.
Даты на письмах не было, но вычислить ее было нетрудно. Гектор отправился на Цейлон, когда Эмили было восемнадцать. Если вчитаться, между строк проглядывал намек на некий скандал. «Я хотела поехать в Саутгемптон, чтобы тебя проводить, но отец считает, чем меньше сейчас мы будем показываться на людях, тем лучше…»
Я бегло просматривал письма, пока не наткнулся на то, что искал:
Если мы были слишком нетерпеливы, то это только от избытка любви: мы не первые и не последние, кто «сорвался раньше старта» слегка — или, по крайней мере, могло бы оказаться слегка, если бы не вмешательство моего отца, превратившего недели в четыре бесконечных года…
Она с ним спала. Правда, скрывавшаяся за этими эвфемизмами, была очевидна. Мисс Эмили Пинкер, взращенная в Современном Духе — слишком современном, возможно, как мог счесть Линкер. Или, возможно, он списывал за счет отсутствия постоянной материнской опеки то, что дочь отдалась этому угрюмому малопривлекательному шотландцу.
Теперь кое-что прояснилось: тогда, когда я сравнил особенно нежный кофе с девичьим дыханием — неудивительно, что Линкер не заострил на этом внимание: неудивительно, что щеки у нее вспыхнули. Когда же Линкер понял, каковы мои намерения в отношении Эмили, он обмолвился, что необходимо избежать не просто скандала, а очередного скандала. В тот момент я не обратил на это внимания, но он, должно быть, отдавал себе отчет, что ее репутация может и не устоять после очередного удара.
Я погрузился в чтение писем. Мало-помалу накал их явно стихал — со стороны Эмили наблюдалось все меньше непосредственной восторженности: она, похоже, чаще стала реагировать на критические возражения, содержавшиеся в письмах Гектора. И вот, наконец, более чем через год, появилось следующее:
Не понимаю, что значат твои слова, что ты якобы «отпускаешь» меня, ведь нас с тобой вряд ли что-либо связывает, кроме любви — любви, которую я считала взаимной. Я никогда не считала, что ты связан каким-либо обязательством или договором, и надеюсь, что и ты не видишь меня в подобном свете. Но если притягательность путешествий и приключений действительно для тебя, как ты пишешь, более привлекательна, чем семья и домашний очаг, тогда, разумеется, в брак нам вступать не стоит. Ведь я и представить себе не могу что-либо более отвратительное, чем выйти замуж за человека, кто всем сердцем не желает этого брака — или меня.
Как странно, что так внезапно все резко перевернулось, — как стрелка компаса при перемене ориентира. Я не питал симпатии к Гектору, хотя каким-то образом я сделался с ним дружен. Он стал для меня единственным товарищем, единственным белым на сотни миль вокруг, но оказалось, я едва его знаю. Эмили еще меньше была понятна мне; ирония состояла в том, что теперь, когда она находилась за три тысячи миль от меня, я узнал ее лучше, чем знал ее в Лондоне.
И еще было одно письмо, выцветшее меньше других.
Дорогой Гектор,
Прямо не знаю, как ответить на твое последнее письмо. Конечно, это замечательно, что ты подумываешь покончить со странствиями, и я польщена тем, что ты после долгого времени все еще вспоминаешь меня, но должна сказать тебе, что после такой долгой разлуки я едва ли могу рассматривать тебя в качестве возможного супруга. Право же, как это ни резко прозвучит, но то, каким образом произошла наша размолвка и то настроение, в котором ты пребывал в то время, доставили мне немалые страдания. И если я после этого старалась перестать думать о тебе с той любовью, которую до того испытывала, то это главным образом потому, что ты сам побудил меня к этому. Однако не в моих силах препятствовать твоему возвращению в Англию и, несомненно, отец захочет пригласить тебя в наш дом, поэтому попытаемся хотя бы остаться друзьями…
Письмо было датировано 7-м февраля. За восемь недель до того, как она начала работать вместе со мной над Определителем. Столько обиды и горечи, и я об этом даже не подозревал.
В ту ночь в деревне начали бить барабаны. Когда мы собрались на следующее утро хоронить Гектора, я обнаружил, что глаза и яйца на трупе были вырезаны, в промежности и на лице остались большие бескровные раны.
— Это для ю-ю, — мрачно произнес Джимо. — Тело белого — чуда многа.
Он изобразил поедание.
Шатаясь, я отошел в сторонку, меня рвало. Сухие спазмы вместо жидкого выброса вызвали лишь острые боли в желудке. Пришлось изменить решение о погребении; заставил их развести в яме костер. Я смотрел, как плоть Гектора, съеживаясь, горит, шипя, как обугливающееся жаркое. Жир капал в огонь, отчего тот, потрескивая, зеленел. Мне показалось, что кое-кто из местных наблюдал происходящее с легкой досадой, как бы сетуя, что пропадает столько добра.
После всего этого я впал в какое-то полное ужаса оцепенение. Помимо хлородина в ход пошли и иные медикаменты, а также виски из неприкосновенного запаса. Я даже попробовал кхат Джимо. У него был горький, даже едковатый вкус, что-то сходное с жеванием листьев лайма. Сначала мне показалось, что ничего не происходит, но мало-помалу начало приходить ощущение внутренней дрожи, как будто в теле мне стало слишком тесно, и я газообразно испаряюсь из каждой его клетки. Я поддерживал в себе это газообразное ощущение еще примерно с неделю, поджевывая зелье каждый раз, лишь только ощущение стихало, после чего, как правило, засыпал, и просыпался с чудовищной головной болью.
И тут я осознал, что где-то посреди этого сумеречного наркотического оцепенения ко мне пришло решение.
Дорогая Эмили,
Увы, я должен сообщить Вам весьма трагические новости. Бедного Гектора не стало. На него напал леопард, и хотя я предпринял все возможное, чтобы его спасти, за ночь раны его нагноились.
Он пожелал быть сожженным, что я и исполнил сразу после его кончины. Разбирая его вещи, я обнаружил там Ваши письма. Я прочел их — возможно, этого делать не стоило, но так вышло. Думаю, не удивлю Вас, если сообщу, что по прочтении этих писем не имею намерения жениться на Вас. Однако хочу довести до Вашего сведения то, что как раз собирался сделать до того, как познакомился с этими письмами. А именно: я полюбил другую женщину.
Желаю Вам всяческого счастья в Вашей будущей жизни.
Ваш — хотел было написать «преданный Вам», но, пожалуй, если быть точным, следует написать «искренне Ваш» —
Итак, теперь я был свободен.
«Вяжущий вкус» — ощущение сухости во рту, нежелательное для кофе.
— Позвольте мне убедиться, что понял вас правильно, — нахмурившись произнес Ибрагим Бей. — Вы хотите выкупить у меня Фикре?
— Да.
— Но почему?
— Потому, что я ее люблю.
— Нельзя любить невольницу, Роберт. Горький опыт привел меня к этому выводу.
— И, тем не менее, я хочу ее выкупить, — сказал я упрямо.
— Роберт, Роберт… — Он хлопнул в ладоши. — Давайте-ка выпьем кофе, и я попытаюсь объяснить вам, что это крайне неразумно с вашей стороны.
Разговор происходил в доме Бея, в комнате с коврами и резными лампами. Комнаты для приема гостей в этих харарских домах располагались на верхнем этаже, чтобы к закату дня туда задували прохладные ветры, слетавшие с гор. Резные разрисованные оконные ширмы ограждали от уличного любопытства, но порой, бросив взгляд вниз, можно было встретиться с подвижным верблюжьим оком всего в паре футов под окном.
— Я абсолютно серьезно настроен, Ибрагим, — сказал я. — Уверяю вас, мое решение неизменно. Но, разумеется, если вам угодно, я выпью с вами кофе.
Мулу принес нам в крошечных чашечках густой ароматный «арабика».
Акациевый привкус напомнил Фикре, сладко кофейный вкус ее тела. Я прикрыл веки. Скоро ты станешь моей.
— Итак, — начал Бей, поставив свою чашку. — Имеет ли эта необычная идея какую-то связь с гибелью несчастного Гектора?
Я отрицательно покачал головой.
— Но если бы он был жив, он бы не допустил этого?
— Он мне не указ.
— Ваше дело, Роберт, кофе. Не работорговля.
— Деловые соображения тут ни при чем, Ибрагим. Я слышал, вы собираетесь продавать. Я хочу купить. Вот и все.
— Да, к сожалению, это так. Я вынужден ее продать. Мне бы очень этого не хотелось. Но вы отдаете себе отчет, что потом вам ее продать будет невозможно? Пока верховный владыка допускает покупку невольниц, только араб может себе позволить их продавать.
— Меня это не касается — я не намерен ее продавать.
Бей с грустным видом посмотрел на меня:
— Ваш будущий тесть пришел бы в ярость, узнай он о нашем разговоре.
— Мистер Линкер, — я подбирал слова, — никогда ни о чем не узнает.
— Роберт, Роберт… Мне кажется, я говорил вам, что мне пришлось заложить все свое имущество, чтобы купить ее. Это было внезапное умопомрачение, о чем я очень сожалею. Если бы я только сумел уберечь вас от той же ошибки. — Он помолчал. — И, мне кажется, вы все-таки не представляете себе, какова цена такой девушки, как эта.
— Назовите вашу цену.
— Тысяча фунтов, — тихо произнес Бей.
Тут я дрогнул:
— Должен сказать, я не ожидал, что цена так велика.
— Я же говорил вам, цена грабительская. Разумеется, я не собираюсь наживаться на этой сделке. Во всяком случае, мне не позволяет совесть и наши дружеские отношения. Я заплатил за нее именно тысячу фунтов.
— Все-таки теперь она стоит дешевле.
Бей нахмурился:
— Как так?
Спокойно. Он ничего не подозревает.
— Потому что стала старше.
— Верно. Какую же цену считаете вы справедливой?
Она ничего не стоит, хотелось выкрикнуть мне. Она больше не девственница.
— Восемьсот. Больше у меня нет.
— Когда-то я торговался за нее, — тяжело произнес Бей. — С тех пор очень об этом сожалею. Теперь торговаться не стану. Я принимаю вашу цену, хотя в результате мне не останется ничего. Желаете, чтоб ее осмотрели?
— Разумеется, нет. Вы ведь не единственный человек чести.
— Прошу вас, Роберт. Не делайте этого. Я мог бы отвезти ее в Аравию и там продать. Могу дать вам пару дней, подумайте…
— Вы примете австро-венгерские кроны?
Он кивнул с безнадежным видом:
— Разумеется.
— Деньги будут доставлены вам завтра.
— А я поручу своему адвокату подготовить все необходимые бумаги. — Бей покачал головой. — Боюсь, когда вы придете в себя, вы меня будете почему-либо корить в этом. И если такое случится, вы перестанете быть моим другом.
Я валял ее за твоей спиной, жирный болван!
— Хочу заверить вас, что я совершенно отдаю себе отчет в том, что делаю, — сказал я и протянул ему руку.
Бей все еще колебался.
— Говорят, если ударил по рукам с англичанином, обратного конца у сделки нет.
— Совершенно верно.
Бей взял обеими руками мою руку:
— Тогда я пожму вашу руку, Роберт, но, признаюсь, я делаю это с тяжелым сердцем.
Восемьсот фунтов стерлингов. Цена, как выразился Бей, грабительская. Это означало пустить в ход не только данный мне Линкером аванс, но также все деньги по содержанию плантации, а также и ту малость, что я выручил от своей торговли.
Это были те самые деньги, которые, обернись все иначе, я должен был бы иметь, чтоб жениться на Эмили Линкер.
Но у меня все же оставалось еще примерно пятьдесят фунтов. Это немного, но зерна кофе уже оплачены и посеяны. Денег хватит, чтобы платить жителям деревни, а у меня самого потребностей немного. Пока подоспеет урожай, можно будет занять денег под будущие продажи. Мы сумеем как-то продержаться. Потом, когда начнется приток денег, мы с ней сможем уехать — не в Англию, разумеется, в какую-то иную часть Европы: например, в Италию или на юг Франции. Мы станем жить отдельно от общества: как бунтари и художники, свободные от оков общепринятой морали.
Сундук с деньгами оказался слишком тяжел для одного человека, поэтому я отправился на базар и нанял в качестве носильщиков пару солдат. Захватил с собой пистолет на случай грабителей, и втроем мы двинулись по темному лабиринту улиц.
Темнота опускалась вокруг, словно кто-то из гигантского кувшина выливал ее на город. Но дом Бея, когда мы наконец до него дошли, был весь в огнях — маленькие свечи в резных лампах мерцали, точно звезды. Стряпчий, молчаливый адари, ожидал в гостиной на первом этаже. Он задал мне несколько вопросов, чтобы удостовериться, что я сознаю, что делаю. Я терпеливо ему отвечал, все время бросая взгляды на дверь, не войдет ли Фикре, чтобы к нам присоединиться. Но, конечно же, Бей не хотел рисковать: насколько ему было известно, Фикре развитие событий воспримет, как обычно, в штыки.
Стряпчий представил мне какой-то документ на арабском:
— Это ее бумаги — счет из того дома, который продал ее в последний раз. Желаете показать бумаги своему адвокату?
— Нет необходимости.
Стряпчий пожал плечами:
— А вот документ, удостоверяющий, что она была девственницей перед продажей. — Он положил передо мной еще один документ на арабском. — Насколько я понимаю, вы не хотите, чтобы ее осмотрели?
— Нет необходимости, — повторил я.
— Отлично. — Он выложил на стол третий документ. — Вам надо подписать вот это, удостоверяя, что вы принимаете ее такой, какая есть.
Я вздохнул. На этот раз также прилагался и перевод на плохом, но сносном английском. Я, нижеподписавшийся, этим обязуюсь принять рабыню, именуемую Фикре, выплатив за нее сумму в…. Пробежав глазами бумагу, я подписал и ее.
— И, наконец, квитанция о продаже. — Стряпчий бросил взгляд на Бея. — Вы будете считать деньги?
— Роберт меня не обманет, — твердо сказал Бей.
Я снова поставил свою подпись, а Бей подписал квитанцию.
— Она ваша, — сказал мне стряпчий.
Я взглянул на дверь, но он протянул мне последний лист бумаги — простой сертификат с несколькими строчками на арабском.
— Это подтверждение сделки. Если вы когда-либо предоставите ей свободу, должны будете это порвать.
— Понимаю.
Фикре по-прежнему не показывалась.
Стряпчий взялся за последнюю чашечку кофе.
Это был лучший кофе Бея, по крайней мере, купец так сказал. Пробовать что-либо я был не в силах; лишь ожидание Фикре питало мои чувства, растекаясь, как мед, по венам.
Наконец стряпчий нас покинул.
— Роберт, — серьезно произнес Бей, — вам известно мое мнение, когда-нибудь вы пожалеете о своем поступке. И когда наступит этот день, хочу, чтоб вы вспомнили, что именно вы настояли на том, чтоб я ее продал, а не наоборот.
— Я понимаю.
Наконец, в комнату вошла Фикре, ее лицо опухло от слез. За ней Мулу нес кофейный мешок.
— Я отдал ей кое-что из одежды и все такое прочее, — пояснил Бей. — Как рабыня она не должна иметь ничего, но это останется с ней.
— Благодарю вас. — Я взял мешок.
Глаза Мулу были полны слез, но он без слов передал мешок мне.
Я протянул руку Фикре:
— Пойдешь со мной, Фикре?
— А что, можно иначе? — злобно спросила она.
— Нет.
Мы продолжали притворяться, пока не завернули за первый же угол. Терпеть дольше у меня не было сил. Я потянул ее к какой-то двери, осыпая поцелуями, блуждая руками вокруг ее талии, сжимая ее лицо, впиваясь в него губами, жадно вбирая ее всю.
Наконец мы оторвались друг от друга.
— Ну вот теперь я твоя, — сказала она, усмехнувшись.
— Совершенно моя!
— И что же ты будешь теперь со мной делать?
— Ну-у… — протянул я. — Как бы там ни было, но любовных утех я тебе обеспечу вдоволь.
«Карамельный» — дегустаторам следует остеречься использовать это определение при описании припаленной ноты вкуса.
Обнаруживаю, что о происходившем сразу после этого могу сообщить совсем немного. Могу описать еле уловимый аромат индийского кофе «малабар». Могу подыскать слова, чтобы выявить разницу между тринидадским и танганьикским кофе. Могу определить тончайшую специфику различных сортов кофе «ява». Но десятки, сотни соитий, которыми упивались мы с Фикре в период, последовавший за моей покупкой ее у Бея, тот самый неистовый секс моей жизни, едва ли могу припомнить в подробностях, разве пару моментов, да и то словами не берусь это описать. И при том все бывало по-разному, как различны и сорта кофе, — и даже больше того, ведь мы избирали свои собственные пути в каждом из возможных перемещений, какие были доступны нашим телам.
То, что запомнилось, — хотя, увы, по-прежнему это не легко поддается описанию, — это чувство физического восторга, шального опьянения посреди вселенной, сузившейся до размеров одной комнаты: два тела и постель, страстное совокупление, прерываемое лишь изредка вылазками на рынок за едой. Да и они случались на удивление нечасто: проголодавшись, мы жевали, черпая горстью из нашего сыпучего матраса, кофейные зерна и, набравшись сил, снова предавались обоюдным услаждениям. И если порой, почувствовав волчий аппетит, мы отправлялись на базар, то возвращались оттуда лишь с охапками цветов, как будто для жизни нам не требовалось ничего более существенного, чем их дурманящий аромат, кофе и наши плотские наслаждения.
Скрещение ее ног был тот алтарь, перед которым я опускался на колени, как у святой чаши, готовясь к причащению. Как Али-Баба, я шептал «Откройся, Сезам!» у входа в пещеру. Язык мой выгибался, как причудливый туфель калифа. И она, в свою очередь, опускалась предо мной на колени, страстно желая меня своим ртом, глаза смотрели в глаза, даже когда я выпрыскивал семя ей прямо в губы и на щеки, украшая ее безупречно черные плечи опалово-перламутровыми брызгами. Они тоже пахли кофе, как говорила мне она, слизывая их с пальцев; они впитывали запах нашего любимого зелья, нашей постоянной пищи.
Всякий стыд был совершенно ей чужд. С ней я тоже окунулся в бесстыдство. Не существовало ничего, чего бы не испробовала она, не было момента, чтобы она сказала «хватит». Если была слишком нездорова, просила меня купить на базаре опиум. Мы курили его на арабский манер, через пузырившую наргиле. Между кхат и кофе и опиумом и сексом дни протекали в расплывчатом тумане. «Вечно гореть в этом густом, сверкающем пламени, чтобы не кончался этот экстаз, вот высшая радость жизни», — писал эстет Уолтер Патер. Я существовал в той комнате с такой неистовостью, как не жил ни до, да и ни после того.
Иногда посреди сна, в полудреме я чувствовал, как она поигрывает с моей мошонкой, вращает пальцами яички, зачарованно глядя на них. Они так и ходили, вращаясь под ее пальцами… Однажды я спросил у нее, что ее так сильно в них привлекает. Она ответила, произнося слова, как будто под гипнозом:
— Потому что они суть всего на свете. Без них ничего бы не было.
Я не понял, что она имела в виду, да и не очень старался, — временами ее тянуло в какую-то мистику. Так или иначе, но игра ее пальцев уже возбудила меня, и вот уже я был готов снова скользнуть в нее.
Но вот наконец наше чувственное пиршество достигло своей финальной точки. Мы вволю насытились, и хоть по-прежнему трахались при малейшей возможности, но теперь это походило на то, как льешь вино в еще почти полный стакан; уже не тянет осушать его до последней капли. И наконец мы обратились мыслями к будущему.
— Что ты собираешься делать?
— Надо вернуться на плантацию. Надо рассадить саженцы. Нехорошо всю работу сваливать на Джимо, я забросил все дела.
— Мне поехать с тобой?
— Предупреждаю, тебе придется трудновато. Там нет никаких удобств доя женщин.
— Я могу без этого обойтись.
— Тогда поехали.
— Роберт?..
— Да?
— Какие у тебя планы в отношении меня?
Я жестом указал на постель:
— Вот они, все мои планы.
— Я имею в виду… мое положение.
Я рассмеялся:
— Хочешь, чтоб я на тебе женился? Белое платье, церковь, весь этот буржуазный ритуал?
Она покачала головой:
— Нет, замуж я не хочу. Я хочу быть свободной.
— Мы и так свободны.
Она пристально посмотрела на меня:
— Роберт, все что я делаю вместе с тобой, я делаю по собственному желанию, не потому, что ты получил какие-то бумаги.
Я понимал: она ждет, что я скажу, что готов бумаги порвать. Почему бы не порвать? Это бы доказало мою любовь. Но все же что-то меня удерживало. Все-таки это означает бесповоротность. А в глубине души, я думаю, мне все еще необходимо было чувствовать, что я имею власть над нею — как будто доя меня любовь и обладание слились воедино.
Я решил отшутиться:
— Но я совершенно окончательно решил тебя продать, как только найду более достойного покупателя! — отделался я чем-то в этом роде, или, может быть, какой-то еще худшей нелепицей, не помню точно.
Так или иначе, но я увидел, как на мгновение что-то напряглось в глубине ее глаз. Потом она покорно кивнула, и предмет был исчерпан.
Еще один только раз она подняла ту же тему. Мы были в постели, наши тела совокуплялись в медленном, плавном танце любовников, которым незачем спешить. Взмахи крыльев бабочки на солнце.
Он шептала «да», «сейчас», и вдруг, обхватив руками мою голову, неистово проговорила:
— Если ты дашь мне свободу, я вся отдамся тебе. Целиком. Я буду только твоя.
Испустив стон, я прошептал:
— Люблю тебя…
Что, как вы понимаете, было не совсем то, чего она ждала.
Дня за два до того, как мы отправились на плантацию, вернувшись с базара, мы обнаружили на ступеньках перед нашей дверью Мулу. Фикре с такой радостью его обнимала, что он не сразу смог передать мне письмо Бея:
Мой дорогой Роберт,
Мулу истосковался без Фикре, а занять его у меня нечем, поэтому я взял на себя смелость отправить его к Вам. Платить ему не нужно, только еда и постель. Вы обнаружите, что он отличный слуга, если позволите ему обслуживать Фикре, а также и вас. Если он вам не нужен, отошлите его обратно. Если оставите его у себя, мне за него платить не надо — в отличие от Фикре его цена совершенно ничтожна, хоть мне и жаль с ним расставаться.
Ваш друг,
О возврате Мулу не могло быть и речи. Фикре была неописуемо рада встрече с ним, как и он с ней. Иногда, я думаю, она чувствовала себя одиноко, одна, без подруг. Но мне было непривычно жить в доме с евнухом, — признаться, мне становилось неприятно наблюдать, как они вдвоем общаются, почти как две подружки, щебечут друг с дружкой на непонятном мне языке. Иногда он помогал ей одеваться, купаться, и это также казалось мне странным, эта интимность больше походила на отношение хозяйки со служанкой, а не на отношения между женщиной и мужчиной.
Однажды выйдя среди ночи помочиться, я обнаружил, что и Мулу занимается тем же. Он чуть повернулся в мою сторону — и перед моими глазами мелькнули жуткие шрамы его увечья, блеснул зигзаг изуродованной плоти, розовый на черной коже. Во всем остальном его гениталии были, как у ребенка.
Мулу вскрикнул от смущения и отвернулся, пряча свой стыд. Я не произнес ни слова — что тут скажешь? Это было ужасно, кошмарно — но ничем помочь ему я не мог.
«Острый» — привкус подгоревших зерен, резкий, горький, возможно, раздражающий.
Почта из Харара идет медленно, миновало несколько недель, пока пришли письма от Роберта, с почтовыми печатями многих стран. Письма приносит Лягушонок, она бежит через вестибюль, и задыхаясь от бега передает свой приз в руки Эмили.
— Пожалуйста, дай почитать! — просит она. — Ну, пожалуйста!
— Я сама еще не прочла, Кроме того, письма Роберта мне — личные.
— Пожалуйста, разреши мне взять марку и конверт и, пожалуйста, прочти мне те кусочки, которые не личные, ладно? — с надеждой клянчит Лягушонок. — Смотри — там что-то еще. Он, наверное, подарок тебе прислал?
Эмили не отвечает. Она распечатала письмо, которое скорее похоже на посылку, внутри ее старые письма к Гектору. Сначала она не понимает, в чем дело; потом лицо ее бледнеет. Эмили пробегает глазами записку.
— Ну что? — спрашивает Лягушонок. — Все хорошо?
— Нет, — говорит Эмили. — Мне бы надо повидать отца. Очень плохие новости в отношении Гектора. А Роберт, Роберт, он…
Слова не идут у нее с языка, и внезапно Лягушонок становится свидетельницей совершенно необычного поведения старшей сестры: ее умнейшая, деловая, всемогущая сестра рыдает навзрыд.
Несколько позже Пинкер выходит из своего кабинета и застает ждущего у двери Лягушонка.
— Филомена, — говорит он, садясь рядом с ней. — Боюсь, твоя сестра в состоянии сильного потрясения.
— Я знаю. Роберт ее бросил.
— Я… — Отец проницательно смотрит на дочь. — Откуда ты знаешь?
— Спросила у Ады, почему плачет Эмили, и она мне все рассказала.
— Так. Послушай, теперь ты должна быть особенно внимательна к Эмили. К примеру, будет не слишком учтиво, я думаю, употреблять слово «бросил». Просто они решили, что не станут в будущем связывать свои судьбы.
— Но если он ее не бросил, почему же тогда она плачет?
— Другая неприятность, — продолжает отец, — заключается в том, что Гектор очень серьезно занемог в джунглях. И увы, он скончался.
— Его там похоронили?
— Да, конечно.
— И каннибалы его не съели?
— Нет. Устроили некую достойную церемонию, были и гроб, и поминальная служба, и все местное население помолилось за упокой его души.
Лягушонок раздумывает над словами отца.
— Наверное, в небо ему из Африки подняться быстрее, чем если бы отсюда. Ведь Африка как раз посредине.
— Разумеется. — Линкер встает.
— А за кого теперь Эмили выйдет замуж, если не за Роберта?
— Ну, в свое время она встретит человека, который ей понравится, и она выйдет за него замуж.
Внезапно Лягушонку в голову приходит мысль настолько ужасающая, что от этого ее круглые, под нависшими веками лягушачьи глазенки чуть не выстреливают из орбит.
— Тогда Роберт будет писать мне, да? — выпаливает она.
— Весьма сомневаюсь, что это случится, — говорит, качая головой, отец.
И тут, к своему изумлению, он обнаруживает, что и вторая его дочь заливается слезами.
Мы обнаружили плантацию в плачевном состоянии. Хотя прибыли туда мы уже в разгаре утра, работников нигде не было видно. Выкапывание посадочных ям, которое в день моего отъезда продвигалось примерно на пятьдесят футов в день, явно велось теперь раз в десять медленней, и хотя мы с Гектором протянули ленту в направлении, которому должны были следовать работники, свежие ямы зияли в произвольных местах по всему склону, как будто были выкопаны гигантским кротом. В отсутствии железной дисциплины Гектора, плантация, казалось, была совершенно не способна развиваться. Но хуже всего обстояло дело на грядах с рассадой. Листья молодых растений поблекли, и на них появились бледные, с ржавой обводкой круги, как бурые «лисьи» пятна, встречающиеся иногда на страницах старых книг.
Это была какая-то разновидность плесени. Я не мог понять, откуда что взялось. Мы с Гектором тщательно просматривали все кусты дикого кофе в близлежащем лесу, и ни на одном из них не обнаружили ни малейших признаков болезни. Я почувствовал внезапную, резкую боль утраты — Гектор знал бы, что надо делать. И тогда я стал листать труд Лестера Арнольда; тот советовал промыть пораженные растения мыльным раствором в соединении с крепким кофе.
Когда стало очевидным, что саженцы все равно обречены, пришлось решать, что теперь делать. Оставались деньги на покупку еще одной партии посевного материала, но только одной: иначе нам нечем было бы платить работникам.
Как-то за ужином я рассказал об этом Фикре.
— Ты расстроен, — сказала она.
— Естественно, я расстроен. Если и очередная партия погибнет, уже не на что будет рассчитывать — просто не останется наличных для закупки.
Невольно это вырвалось у меня слишком резко: с досады я не сумел сдержаться.
Она помолчала. Потом спросила:
— По-твоему, я виновата?
— Разумеется, нет.
— Но если бы ты меня не купил, денег осталось бы больше.
— Что толку оглядываться назад. Что сделано, то сделано.
Прямо скажем, ответ получился не самый деликатный.
— Значит, все-таки жалеешь, — с нажимом сказала она.
— Послушай, Фикре, не надо передергивать. Мне необходимо придумать, как быть дальше.
На миг ее глаза снова вспыхнули. Потом, она, казалось, совладала с собой.
— А ты не думал выращивать кофе, как это делают местные?
— Местные не выращивают кофе. Они просто собирают зерна с дикорастущих в джунглях кустов.
— Вот именно. Может, тебе всего этого и не нужно. — Она обвела рукой очищенные от деревьев склоны, питомник, ряды посадочных ям. — Можно из твоих землекопов сделать добытчиков. Они бы приносили тебе дикий кофе, и ты бы смог заплатить им за это и сбывать кофе прибыльно на рынке.
— Лестер Арнольд не дает таких советов.
— Лестер Арнольд здесь не живет.
— Пусть не живет, но его книга — единственное пособие, которым я располагаю. Я не могу отмахнуться от проверенных им коммерческих способов, если… если приходится выращивать кофе среди джунглей, — со вздохом отвечал я. — Я знаю еще один путь, которым можно попытаться воспользоваться. В Зейле есть один белый, торговец слоновой костью. Его зовут Десмонд Хэммонд. Он говорил, если когда-нибудь мне понадобится помощь, чтобы я обращался к нему.
— Но чем он сумеет помочь тебе?
— Все знают, что императору нужно оружие. Он купит любое мало-мальски приличное оружие, появляющееся в Хараре. Белые — люди типа Хэммонда — могут наладить доставку из Адена. Навар, который я с этого получу, позволит поправить дела на ферме.
— Зачем императору эти ружья?
— Гектор считает… Считал… Что император хочет расширить свою территорию за счет запредельных земель.
— То есть, чтобы стрелять в местный народ?
— Пока он занят истреблением черного населения, нас это не касается.
Фикре метнула на меня взгляд. Я совершенно забыл, произнося это, какого цвета у нее кожа.
— Надеюсь, ты правильно меня поняла, — поспешил я добавить.
— Но это дело рискованное.
— Не убежден, что у меня есть выбор. Так или иначе, хочу насчет этого помозговать.
— Ясно. — Она отвернулась. — Что ж, потом мне скажи, что надумал.
— Конечно же, скажу. В конце концов тебя это тоже касается.
Дорогой Хэммонд!
Обращаюсь к Вам об одном одолжении. Вы говорили, что, возможно, будете заинтересованы в ведении со мной общих дел. Если Ваши слова по-прежнему в силе, не смогли бы вы достать мне столько «ремингтонов» последней модели, сколько возможно продать англичанину в кредит, и прислать мне их в Харар? Если будут спрашивать, скажите, что в ящиках инвентарь для работы на плантации. По соображениям, в которые я не стану углубляться, мне необходим срочный источник дохода, а здесь в настоящий момент отличный рынок для сбыта подобного товара.
Прилагаю к письму двадцать австро-венгерских крон в качестве первого взноса.
Всех благ,
Я отправил это письмо с одним доверенным лицом, направлявшимся по делам на побережье, хотя понимал, что ответа придется ждать недели и даже месяцы.
Между тем я был весь в делах — в делах по горло. Плантацию будто кто сглазил. На уцелевшие от плесени посадки напали черные муравьи. В питомник с рассадой проник дикий кабан и учинил там разгром. Работники становились все разнузданней и разнузданней. В мою стопу внедрились джигги, откуда их пришлось извлекать с помощью иглы. Ржавчина распространилась и на все другие растения; она не то чтобы высушивала их, но замедляла их рост. Я пересадил зараженные растения на более просторные гряды, перекопал заново питомник, и посадил новые зерна вместо пропавших. Бывало, я засыпал, даже не сняв сапог, что хотя бы преграждало доступ джиггам к моим ногам.
И все же, и все же… Каждую ночь, едва смеркалось — все эти непривычно ранние экваториальные ночи, когда чернота опускалась на джунгли плотным покрывалом, — в сгущавшейся тьме просверкивали попугаи и зимородки, обезьяны-колобусы легко пролетали меж деревьями над головой, и сквозь темень волшебно перекатывались светлячки. Мы с Фикре ужинали вместе, рядом ни души, только шипящая лампа. В такие минуты трудно было не испытать чувства полного удовлетворения. Как бы после своего изгнания из Оксфорда я ни рисовал в воображении, что со мной станется в дальнейшем, никогда, даже в самых смелых мечтах не представлялось мне то, что было теперь.
Порой Эмили думает: если бы боль называлась кофе, она разложила бы ее на мириады составных частей. Конечно, разбитое сердце. Но разбитое сердце — лишь одна составляющая того, что она сейчас испытывает. Унижение: сознание, что уже во второй раз за свою жизнь, она оказалась у разбитого корыта. И отец, и Ада слишком любят ее, они не произносят: «Тебя ведь предупреждали!» Хотя они и в самом деле предупреждали, но Эмили не слушала их. Теперь выходит, что они всегда были правы в отношении Роберта. Крах: она чувствует себя глупой, никчемной, бездарной. Как она осмеливалась надеяться изменить мир, если сама не способна даже мужа себе заполучить? Злость: как он посмел так гадко от нее отречься, написать всего несколько строк, будто аннулировал газетную подписку? Очевидно, сама изящная краткость составляет отчасти суть послания. Одиночество: Эмили тоскует без него, она все бы отдала, лишь бы его вернуть. Она вспоминает их полуденные кофейные дегустирования в отцовском кабинете, ассоциативные находки, скользившие между ними музыкальными перекличками, их дуэт, тайный язык чувств, выражающий куда больше, чем сам вкус кофе… И еще есть одно чувство, которому нет названия, во всяком случае, она не находит: ужасная, мучительная ампутация физического желания, которое отныне не проявится никогда. Эмили ощущает себя неудачницей, жалкой, нелепой старой девой… Будь ты проклят, Роберт Уоллис, думает она, собирая суфражистские петиции. Будь ты проклят, думает она, ведя протоколы собраний избирателей Артура. Будь ты проклят, думает она, бредя в ночи и внезапно вспоминая о том, что произошло, почему саднит в глазах и щекочет в носу, и вот уже слезы готовы хлынуть опять, неизбежные, как приступ лихорадки.
«Неуловимый» — кофе с обманчиво-двойственным свойствам запаха.
— Мне надо поехать в Харар, — сказал я Фикре. — Нужны новые семена для посадки.
— Ну да. Хочешь, чтоб я поехала с тобой?
Я заколебался:
— Тебе не слишком обременительно остаться тут? Народ будет лучше работать под присмотром.
— Ну да. Может, подкупишь еще кое-чего в хозяйство? Если хочешь, могу составить список.
— Это будет замечательно. — Я взглянул на нее. — Ты знаешь, что я тебя люблю?
— Да, знаю. Возвращайся скорей.
С делами в Хараре я покончил стремительно, и тут мне подумалось, не заглянуть ли к Бею, может, он знает что-нибудь про Хэммонда.
Что-то иное было в облике знакомого дома. Наверное, исчезли резные лампы, свисавшие с балкона. Я постучал в дверь. Ее открыл человек, лицо которого было мне незнакомо.
— Чем могу служить? — спросил он по-французски.
— Мне нужен Ибрагим Бей.
Человек скорбно улыбнулся:
— Как и всем нам. Он отбыл.
— Как? Куда?
— Должно быть, в Аравию, — пожал плечами человек. — Отъехал внезапно, чтобы избежать кредиторов.
Что за ерунда.
— Вы уверены?
Незнакомец рассмеялся, явно искренне:
— Разумеется, уверен. Я один из них. Мне еще повезло. Я получил в счет долга этот дом. Мерзавец уже давно задумал скрыться, в доме нечего даже продать.
Внезапно меня пронзила мысль — настолько кошмарная, что я даже не мог заставить себя как следует ее осмыслить.
— Не читаете ли вы случаем по-арабски? — медленно проговорил я.
— Да, немного, — кивнул он.
— Позвольте, я покажу вам кое-какие бумаги?
— Извольте… — развел он руками.
Я вернулся в дом французского купца и отыскал бумаги, которые подписал, когда покупал Фикре. Возвращаясь назад теми же улицами, я снова постучал в резную, с орнаментом дверь дома, в котором прежде жил Бей. Новый хозяин, разложив перед окном бумаги, принялся их просматривать:
— Вот это счет на продажу.
Слава Богу!
— Это чек за десяток корзин высокосортных фисташек из Каира. А этот, — от постучал пальцем по очередному документу, — счет за погрузку некой партии кофе. А это, — он взял в руки сертификат на собственность, — письмо. Скорее, записка, кажется, адресованная вам.
Если вы когда-либо освободите ее, вы должны будете это порвать…
— Что с вами? — встревоженно спросил незнакомец. — Может, выпьете немного кофе?
Он выкрикнул что-то на языке адари, вошел слуга с кофейником.
— Нет, нет! Прошу вас… о чем там говорится?
— Тут написано: «Друг мой, не судите нас слишком строго. Теперь крайне сложно зарабатывать на торговле кофе, а у меня уже образовались многолетние долги. Когда вы слегка остынете, надеюсь, вы вспомните, что заплатили исключительно по своей доброй воле. Что касается девушки, простите ее. Она влюблена, и иначе она не могла».
Я не понимал. О чем это он? Что значит, иначе она не могла? За что я должен простить Фикре? Откуда он узнал, что она влюблена в меня?
Если только…
Что-то еще сошлось в моем мозгу, обрывки отдельных воспоминаний внезапно воссоединились, подведя логичный итог.
«Врача это не обманет, но может обмануть ослепленного страстью мужчину — мужчину, который верит в то, во что ему хочется верить».
Мне необходимо было вернуться на ферму.
В подобном путешествии нельзя спешить — джунгли вцепляются в тебя, хватают за ноги, обвивая их лианами, джунгли нацеливаются на тебя ветвями и листвой, опуская свою руку тебе на сердце и шепча погоди! Джунгли высасывают твои силы, подавляют твою волю.
Кроме того, я уже понимал, что я обнаружу.
Фикре исчезла. Мулу исчез. На складной кровати трепетала записка:
Не пытайся искать нас.
И потом, уже несколько иным почерком, как будто в последний момент вернулась назад, не желая уйти без этого последнего, поспешного объяснения: Он единственный мужчина, которого я когда-либо любила.
Не буду пытаться объяснять, что я чувствовал. Думаю, вы можете себе это представить. Не просто отчаяние, не просто горе — кромешный, сокрушительный, удушающий ужас, как будто весь мир рухнул подо мной. Как будто я потерял все. Но ведь, понимаете ли, так оно и было.
В конечном счете, именно такие истории мы представляем себе: опасные сюжеты, где нас убивают, спасают или оставляют без средств существования посреди джунглей в трех тысячах миль от родины.
Должно быть, они замыслили это задолго до нашего знакомства. Возможно, происходило это в то время, когда мы с Гектором прохлаждались в Зейле: они прорабатывали детали, выстраивая каждый нюанс, доводя внешнюю обертку — приманку — до такого совершенства, такой неотразимости, что не заглотить ее я не мог.
Была ли наживка предназначена именно мне? Разумеется, приезд англичанина — молодого, наивного, импульсивного, для которого не существовало ничего, кроме бурлящей в венах крови, — должен был вдохновить их…
Истории, рассказываемые в безлюдных землях. Алмазные паутины, плетущиеся для заманивания беспечных насекомых. Возможно, некоторые вполне правдоподобны. Скажем, вполне возможно, я думаю, что Фикре выросла, как она и рассказывала, в гареме, — как иначе можно объяснить ее образованность, ее знание языков? Предполагаю, что вряд ли она была невинна к моменту нашей встречи — она явно уже прекрасно владела искусством постели. Возможно, именно потому ей и вздумалось соблазнить меня, чтоб я и думать забыл о всякой проверке.
Но одно было совершенно бесспорно: им обоим нужны были деньги. А у меня деньги были — полный сейф. Я и прежде платил за секс, это было им обоим очевидно, но те деньги, которые заплатил бы мужчина за подобное удовольствие — ничтожная малость в сравнении с тем, чего хотели они.
Они понимали, что истинный куш можно урвать, заставив меня платить за любовь.
В точности сказать я не мог, по какому сценарию строился спектакль. Но я мог начать сводить воедино возможное, вероятное, создавать различные версии хода событий, выверяя затем достоверность каждого, подобно тому, как, ударяя монетку о монетку и прислушиваясь к звону, можно определить, какая из них фальшивая, какая настоящая…
И так, в кропотливых трудах, я и сам стал рассказчиком историй.
Все началось с гарема где-то на далекой окраине оттоманской империи. Торг невольниц. Молодой купец, который, по правилам, не должен был там присутствовать среди всей этой вельможной знати. И игра в шахматы — партия, которую купец проиграл невольнице, озлобленной, непокорной.
Он не мог не заметить, что она умна, что мыслит весьма трезво даже и в непростых обстоятельствах торга. И оба они приметили того богатого вельможу, которому ее сулила судьба.
Кому принадлежал замысел? Думаю, Фикре. В конце концов, ей нечего было терять. Возможно, она прошептала, даже одержав над ним победу:
— Поможешь мне, я помогу тебе.
— Чего ты хочешь?
— Свободы.
— Но как я смогу помочь тебе в этом?
— Купи меня.
— На какие деньги? Он легко обойдет меня.
— Какая б ни была цена, я сделаю так, что ты выиграешь от такой сделки.
И тогда она взглянула на него — не с мольбой, нет, а своим прямым взглядом, который был так хорошо мне знаком. Хотя она все еще не была уверена, что идея сработает, вплоть до того момента, когда в последнюю минуту Бей не включился в торг, возбужденно взмахнув руками, будто охваченный внезапной страстью.
Потом наступили годы подготовки плана. Пожалуй, Мулу присоединился к ним позже, хотя, возможно, что он был из ее домашнего окружения, его продали оптом вместе с той, к которой он приставлен.
Любовь без поцелуя не любовь.
Копье без крови не копье…
Мулу и Фикре. Они явно любили друг друга — теперь мне было это очевидно. Как я это упустил из вида? Эта была особая любовь между мужчиной и женщиной, какой я, в своем неведении, даже и не предполагал. Любовь, которая ничего общего с сексом не имела.
И все же, и все же… Предположим, Бей пообещал своим невольникам свободу, если они сумеют побудить меня расстаться с деньгами. Но это, разумеется, никак не объясняло тех долгих дней, когда мы непрерывно совокуплялись с Фикре, когда она выводила меня из дремы прикосновением руки, водя пальцами по моей мошонке… Если она любила именно Мулу, зачем же так страстно мне отдавалась?
Он единственный мужчина, которого я когда-либо любила…
Но ведь Мулу не мужчина, верно? Во всех смыслах. Тогда, возможно, ей просто хотелось узнать, какова на самом деле истинная любовь, скорее секс, прежде чем посвятить себя жизни, лишенной этого. Возможно, она даже надеялась, что сложится, например, жизнь втроем: хозяин, невольница и прислужник: она отдает свое тело одному, а сердце другому, и все живут под одной крышей — пока я, при своей прямолинейности, своем нежелании слушать ее, не дал ей понять, что такое нетрадиционное сожительство невозможно.
Или, может, — мысли мои рвались вперед, находили очередное объяснение, хотели отмести его и не могли, — может, вовсе не секс был ей нужен?
Было и еще нечто, что не мог дать ей евнух.
Я вспомнил ее слова, когда она, как завороженная, играя моими яичками, смотрела на них. Без них ничего не будет.
Вот почему она так неистово трахалась со мной.
Она надеялась заиметь ребенка.
Я был слишком привязан к ней. И еще я вспомнил один момент, когда проявил свою слепоту к грядущему. Хотя достаточно лишь почитать Дарвина, чтобы напомнить себе об этом, — сластолюбие, которое слепо вело меня от одного несчастья к другому, было в конечном счете отражением той самой силы, которое побуждает кофейный куст расцвести пышным цветом.
Каким глупцом я был.
Я не просто сам шагнул к ним в ловушку; раскинув объятия, я ринулся в нее, с ликованием гладя окружившую меня сеть. Сластолюбие усыпило мою бдительность, заковав в кандалы, повело меня, словно за цепь, обвившую мой член, по дороге смерти в Харар и сюда.
Создатель — не часовщик.[49] Создатель — сводник.
«Мягкий» — характеризуется отсутствием какого бы то ни было предваряющего вкусового ощущения в какой-либо части языка, лишь едва уловимым ощущением сухости.
Артур Брюэр входит в свой кабинет для приема избирателей, в руке у него письмо.
— На это, пожалуй, надо будет ответить. Бедняга ревнитель закона, он абсолютно убежден, что всякий не трудящийся член его прихода непременно симулянт… — Брюэр замолкает. — Эмили, что с вами?
— А? — Она поворачивается было к нему, но тотчас спохватывается: он может заметить ее красные, воспаленные глаза… — Нет-нет, все в порядке, — отвечает Эмили, обращаясь вновь к пишущей машинке.
— Быть может, стоит набросать нечто… — скажем, умиротворяющее неопределенное? — Брюэр кладет письмо на стол рядом с Эмили. — Вы убеждены, что совершенно здоровы?
К его изумлению, внезапно у Эмили судорожно перехватывает горло. Ее рука взметнулась к губам, как будто она только что икнула или совершила еще какой-либо шокирующий faux pas.[50]
— Простите. Я сейчас, я просто…
Договорить Эмили не сумела: душащие, сотрясающие все тело рыдания вырываются наружу.
— Дорогая моя! — произносит потрясенный Брюэр.
Как по волшебству, вмиг в его руке оказывается платок. Эмили берет платок — он мягкий, большой и белый, полотно источает теплый аромат одеколона с коричной палочкой. «Трамперс», — машинально думает она, ее отец пользуется таким же. Эмили погружает лицо в уют просторных складок. Рука касается ее плеча, скользит вниз по спине, мягко гладит рыдающую Эмили.
Когда она слегка успокаивается, он мягко спрашивает:
— Что случилось?
Она разрывается между порывом тотчас рассказать ему все и стремлением не выказать свою глупость, чрезмерную доверчивость, свой стыд, свое женское легковерие.
— Так, ничего… Легкое разочарование и только.
— Но вы так расстроены. Вам необходимо оставить на сегодня работу. — Лицо его проясняется. — Я знаю, что делать, мы с вами пойдем в синематограф. Вы бывали уже в синематографе?
Она отрицательно качает головой.
— Ну вот! — восклицает он. — Уверен, только мы с вами во всем Лондоне еще там не побывали. Я совершенно замучил вас своими делами.
Эмили утирает глаза, силится улыбнуться:
— Это мы все замучили вас своими проблемами!
— Как бы то ни было, спасение в наших руках.
Эмили пытается вернуть ему носовой платок.
— Оставьте его себе!
Он ведет ее к дверям, его рука по-прежнему бережно обнимает ее за плечи. Эмили обнаруживает, что забыла, как может быть приятно, если кто-то так нежно о тебе заботится.
«Резкий» — первые вкусовые ощущения, указывающие на наличие горьких на вкус составляющих.
Тахомен притаился, засев среди деревьев. Полосы влажной земли на его груди и плечах в точности повторяли рисунок света и тени, выплескиваемый вниз с крон деревьев, делая Тахомена почти невидимым. Пальцы слегка сжимали рукоять топора. Голова была измазана грязью, чтобы солнечный луч на металле украшений не выдал его. Топорище наполовину срезано ножом, и теперь топором можно было не только рубить дерево, его стало легко кидать.
Он ждал уже три часа неподалеку от того места, где леопард напал на массу Крэннаха. Может, леопард испугался, и его уже тут нет, хотя Тахомен так не думал. Насекомые садились ему на кожу; грязь на руках, засыхая, коробилась и зудела. Гонголапо, гигантская оранжевая многоножка, проползла по сучку, скатилась ему на ногу, потом, свернувшись кольцами, упала на подстилку из опавших листьев, покрывавшую дно леса; там и скрылась.
Отвлекшись на мгновение, Тахомен поднял взгляд. В двадцати футах впереди тень между деревьев бело-розово вспыхнула, — леопард зевнул, выставляя острые зубы.
Тахомен усилием воли заставил себя не обомлеть от страха, хотя пальцы непроизвольно сжали рукоять топора. Он мог поклясться, что не издал ни звука, но леопард все-таки вскинул голову и повел ноздрями.
Он был слишком далеко, бросать топор было рискованно. Бесконечные мгновения выжидали оба.
Но вот леопард поднялся, осторожно двинулся, пробиваясь сквозь ветви и молодую поросль. Его шкура в зеленом свете леса отливала огненным янтарем. Тахомен удержался, чтобы не шевельнуться. Теперь между ним и леопардом было не более десяти футов. Еще пара футов, и он метнет топор.
Леопард негромко мяукнул. Откуда-то из-за его спины выкатились двое щенков, каждый не больше зайца. Едва подбежали к матери, один тотчас поднырнул ей под брюхо и стал сосать; другой, посмелее, скакнул за пролетающей голубой бабочкой, хватая ее увесистой лапой.
Так вот почему этот леопард набросился на массу Крэннаха. Тахомен еще тогда заподозрил такое, а тут убедился окончательно. Мать защищала своих детенышей, не мстила за самца.
Теперь леопард перевалился на бок, шугнув щенка, которому хотелось сосать. Тогда тот принялся следить за братом, копируя его движения, и, разинув пасть, стал прыгать за бабочкой. Щелчок попал в цель: явно обескураженно щенок застыл с бабочкой в зубах. На миг мелькнул ярко-голубой язык, пасть распахнулась, и бабочка, вихляя, точно пьяная, улетела прочь.
Тахомен обнаружил, что думает о Кику, об их малышах, умерших в младенчестве. Интересно, где в лесу нашли приют их духи.
Мать издала очередное урчанье, и группа леопардов двинулась в глубь леса. Они прошли в нескольких футах от Тахомена, мать по-прежнему была слишком поглощена своими детенышами и его не заметила.
Если метать, сказал он себе, только сейчас.
Когда звери ушли, Тахомен поднялся во весь рост. Ноги и руки у него затекли от долгого сидения на корточках. Вот и еще один знак, отметил он про себя с горечью, что он уже не так молод, как прежде. Возможно, это был его последний шанс убить леопарда.
Возвращаясь назад в деревню, он снял с шеи ожерелье, на котором были подвешены яйца и глаза массы Крэннаха, и забросил его далеко в чащу. Теперь ему уже ни к чему было их джу-джу.
Подходя к деревне, Тахомен услышал странные звуки. Похоже, они доносились из самой гущи терновника. Рукоятью топора Тахомен осторожно раздвинул кусты и заглянул внутрь.
Масса Уоллис лежал прямо в гуще переплетенных колючих зарослей. Его одежда была грязна и изорвана, в спутанных волосах застряла сорная трава, и Тахомену показалось, будто он воет.
Тахомен пробился сквозь заросли и вытащил массу Уоллиса наружу. Но было ясно, что дело куда серьезней, чем простое невезение провалиться в колючки. Масса Уоллис смотрел невидящими глазами, стонал и бормотал что-то бессвязное.
Засунув за пояс топор, Тахомен подхватил белого человека под руки и помог ему дотащиться до деревни.
«Нежный» — при первом глотке характеризуется едва уловимым, приятно ласкающим ощущением чуть дальше кончика языка.
Артур встречается с Сэмюэлем Пинкером в своем клубе. Они обсуждают некоторые интересующие обоих вопросы. Возникновение Независимой Рабочей партии и что это может означать для двух традиционно существующих. Далее — война в Южной Африке и что в последнее время преобладает в заголовках газет: какое воздействие может оказать это событие на империю?
Все чаще и чаще Линкер задумывается над мировыми проблемами. Производители мыла «Санлайт» братья Левер доказали, что можно продавать произведенный в Британии продукт за границу. Более того, их продукт даже изготовляется за границей на дочерних фабриках в Канаде и Бразилии! Почему бы фирме «Кастл» не последовать их примеру? В конце концов, голландцы и французы употребляют кофе даже больше, чем британцы, и, выходит, что этикетка «Кастл» фирмы Линкера воплощает некий универсальный смысл. Пинкер изучил новую стратегию Леверов: тут открывается фабрика, там возводится производственное предприятие; расходы, по возможности, общие, но всегда неизменный контроль. Это явный прорыв, он уверен в этом. Подобно тому, как в последние годы различные государства создают между собой альянсы во внешней политике, так и торговые компании этих же государств должны смыкаться похожим путем.
Трудность, разумеется, есть, — и она политического свойства. Некоторые газеты утверждают, что эти торговые союзы не так хороши для потребителя, — что они лишь немногим лучше, чем картели. Разумеется, это ерунда: как можно не увидеть громадной разницы между, с одной стороны, двумя компаниями, договаривающимися не поощрять конкуренцию в отдельных областях, и, с другой, неким кофейным синдикатом, в котором небольшая группка сановников, государственных деятелей и богатых владельцев плантаций сговаривается не предоставлять вышеназванным компаниям сырье. Пинкер убежден, что свободная торговля победит, но дело следует поставить на правильные рельсы и довести до слуха членов правительства… Словом, у них с Артуром Брюэром есть о чем потолковать.
Но вот беседа закончена, они сидят, попыхивая сигарами и пригубливая свои стаканы. Но Пинкер улавливает некоторую нервозность в молодом человеке.
— Мистер Пинкер, — говорит Артур.
— Прошу, просто Сэмюэл!
— Сэмюэл… Мне бы хотелось кое о чем вас спросить.
Пинкер зажатой между пальцами сигарой изображает подбадривающий жест.
— Это касательно Эмили, — говорит Артур, смущенно улыбаясь.
Глаза у Линкера суживаются, но он не произносит ни слова.
— Разумеется, я ей ничего такого не говорил, да и не скажу, если на то не будет вашего согласия. Но мне кажется, у нас с ней много общих интересов, она такой замечательный в общении человек; и это я отношу, если позволите, за счет того, какое вы дали ей воспитание и образование.
Пинкер удивленно вздымает брови.
— Я хотел бы спросить у вас, позволено ли будет мне общаться с ней чуть теснее, — поясняет Артур.
— Позволено ли? — переспрашивает Пинкер, подобно огнедышащему дракону исторгая из себя сигарный дым. — Позволено ли? Вы спрашиваете моего согласия на то, чтобы ухаживать за моей дочерью?
Напрягшись, Артур кивает:
— Именно так.
Внезапно Пинкер расплывается в улыбке:
— Дорогой мой, я-то надеялся, что вы уже давно этим занимаетесь!
«Горьковатость» — этот привкус считается желательным лишь до определенной степени.
Наконец пришла пора дождей; шквал серых вод грянул с небес, как будто с вершины гигантского водопада.
Между тем жители деревни обсуждали, как поступить с массой Уоллисом. В этих беседах тамилы участия почти не принимали. Теперь, когда ферма лишилась крепкого хозяина, когда они уже не были уверены, что им заплатят, тамилы по одиночке, по двое исчезали в джунглях, отправляясь на поиски других плантаций и работы.
Вода проникла в рабочие постройки, так что жителям деревни пришлось их разобрать и использовать дерево для постройки округлых хижин с соломенными крышами, которые, по их опыту, воду не пропускают. От дождя размякла земля, поэтому люди выкопали некоторые зараженные растения и взамен посадили батат и маис. В джунглях и так растет много кофе, да и одним кофе сыт не будешь.
Правда, похоже, кое-кто пытался это оспорить. Масса Уоллис жил в хижине у Кику и ничего не брал в рот, только кофе да кхат. Заснет на пару часов, снова проснется, и так весь день напролет: то он рыдает, то головой бьется об стенку, как полоумный.
— Колдовство сходит медленно, — объясняла Кику соседям. — Мало что можно сделать, чтобы приблизить выздоровление. Пусть себе жует травку, если она ему боль снимает.
— Почему мы должны давать ему приют? — допытывались некоторые из тех, кто помоложе. — Что он нам хорошего сделал, ведь он позволял избивать нас и разрушать наши дома? Он даже не может вести хозяйство, чтобы и мы получали деньги.
На этот вопрос ответить было не просто.
— Он такой же человек, как и мы, — сказала Кику. — Разве можем мы прогнать гостя прочь, не предоставив ему еды и крова?
Лишь однажды масса Уоллис вышел из своего столбняка, и это случилось, когда на ферму наведался торговец, человек от одной из новых компаний, которые привозили одни товары в джунгли, а другие вывозили оттуда. Он явился в сопровождении двух мулов, к спине каждого было приторочено по увесистому деревянному ящику. Торговец был сомали, но одетый, как белый. Такого жителям деревни видеть еще не приходилось.
— Я привез товар, который заказал мистер Уоллис, — объявил прибывший изумленному Тахомену. — Где он?
К еще большему изумлению Тахомена из хижины Кику появился масса Уоллис, и взгляд его был ясен.
— Мое оружие! — выкрикнул он. — Оружие пришло!
Ящики сгрузили со спин мулов, и Джимо принялся лезвием топора вскрывать крышки. Внутри оказалась записка, которую Уоллис развернул и пробежал глазами:
Уоллис!
Посылаю вам, как Вы и просили двенадцать «Ремингтонов» последнего образца. Если решите, что сумеете сбыть больше, пришлите еще денег.
Ваш —
— Больше? — пробормотал Уоллис. — Разумеется, я продам больше! Ну же, Джимо, распечатывай скорее! Наконец-то…
Шагнув к ящику, он вынул из него что-то увесистое. Молча развернул обертку из вощеной бумаги.
Ничего подобного жители деревни отродясь не видывали — кнопки в четыре ряда, одна над другой, а над всем этим широкий полукруг с зубьями, — потому, казалось, будто венчает весь этот механизм ухмыляющаяся челюсть. Вмиг масса Уоллис как бы остолбенел. Потом поставил машину на землю и принялся хохотать. Долго-долго он так гоготал до слез, сложившись пополам, как от боли в животе. Жители деревни, вежливо улыбаясь, переглядывались, не понимая смысла всей этой шутки, но готовые присоединиться к его веселью.
Наконец Уоллис сумел что-то выговорить.
— Хэммонд, идиот чертов, — задыхаясь, произнес он. И, взглянув на Тахомена, сказал то, что вождь уразуметь не смог: — Дюжину сраных пишущих машинок, вот что он мне прислал!
Потом масса Уоллис снова удалился в хижину Кику. Казалось, на него обрушилось новое смертельное заклятие: он просто отвернулся к стене, так и лежал.
— Он умрет? — спросил Тахомен у жены.
— Может и умрет, если захочет того. Это не похоже на проклятие, наложенное каким-то магом, — масса Уоллис сам себя проклял, и только ему решать, позволит он сам себе это проклятие снять или нет.
Каждое утро Кику варила ему кофе, густой, темный, бормоча моленья, пока растирала зерна:
Кофейник, Кофейник, дай нам покой,
Кофейник, Кофейник, пусть дети растут,
Защити нас от бед,
Дай нам дождь, дай траву.
Но масса Уоллис оставлял кофе нетронутым, только все жевал и жевал кхат.
Спрошу лес, что делать, решила Кику. Она отправилась в джунгли и сидела там тихо-тихо, прислушиваясь к мириадам шепотов айана. Уже земля, которую расчищали для кофейной плантации, сплошь покрылась сорной травой: скоро деревья начнут снова расти из джунглей, и постепенно громадная дыра в лесу снова зарастет, как затягивается кожа на заживающей ране.
Так часто бывало — лес не давал ей прямых ответов, вместо этого позволял спокойно собраться с мыслями, пока ответ сам не прояснится, пока она не увидит, что он уж давно глядит ей прямо в глаза.
«Аптечный» — свойство вкуса второсортного кофе, соотносимое с «резким».
Они отнесли массу Уоллиса в хижину, которая предназначалась для лечения больных, и положили его там на пол. В хижине была яма для очага, но не было отверстия в крыше для выхода дыма. В этой яме Кику скопила большую кучу всяких трав и коры куста ибоги.[51] Там были еще и зерна кофе, потому что кофе усиливает действие ибоги, а также паста, изготовленная из дробленых корней ибоги.
Удушливый дым тлеющей ибоги заполнил хижину. Кику сорвала с массы Уоллиса одежду и разрисовала его тело узорами, обозначавшими его возрастной клан. Потом взяла плошку с пастой и осторожно наложила немного ему на губы и десны, потом сделала то же самое себе.
— Что ты делаешь? — пробормотал он.
— Туда, куда предстоит отправиться, отправимся вместе, — сказала она ему на языке галла.
Потом села у его постели и стала ждать, приложив руку к его запястью, чтобы духи зар, явившись, не улетели бы с ним одним, не захватив и ее.
Время в хижине видений редко совпадало с временем за дверью, но и при этом Кику показалось, что она прождала слишком долго, прежде чем почувствовала, как постукивают по крыше прибывшие духи. Масса Уоллис, застыв, приподнялся на несколько дюймов над полом, когда зар попытались поднять его к себе на плечи, но Кику крепко держала его до тех пор, пока они не соблаговолили заметить ее.
— Кто ты? — грозно спросил ее один из духов.
— Я проведу его по пути, чтоб с ним ничего не стряслось.
— Зачем? Ведь он не твоего племени.
— Он наш гость, я должна оберегать его.
Ей было слышно, как зар советуются между собой.
— Мы не твои зар, — сказали они наконец. — Мы прибыли издалека, чтобы забрать этого человека. Ты тут совсем ни при чем.
— Вы не наши зар, но это наша хижина, и этот человек под защитой нашего гостеприимства. Он разрисован нашими знаками.
— Путь будет далек, и ты не сможешь вернуться назад.
— Пусть так, я готова отправиться с вами, — ответила Кику.
Они взлетели ввысь, летели над долиной, и впервые Кику смогла взглянуть вниз и увидеть перемены, произведенные белым человеком, — не только рукотворные, как, например, вырубка леса, но и все сложные переплетения родственных и племенных связей, сделавшихся зримыми благодаря пасте ибоги, и которые оказались даже более нещадно поруганы, чем леса. Лес-то сумеет залечить свои раны, а вот общий уклад племен, думала Кика, вряд ли окажется таким же стойким.
Они все летели и летели над Хараром и над пустыней, над бескрайним морем и горами, стылыми в снегах. И прилетели они в такое место, которое было странным даже по знаниям ибога-странствий, в место, где много серых каменных коробок и много прямых линий, и поняла Кику, что это и есть деревня белого человека.
Зар пытались их разлучить, но усилием воли Кику держала массу Уоллиса: она перевернулась, едва они стали падать вниз, так, что теперь он летел верхом у нее на спине, и потому Кику видела, что потом происходило, его глазами.
У стола стоит женщина средних лет. Она перебирает огромную кучу листочков, сворачивая пополам и укладывая в аккуратную пачку. Как раз в тот момент, когда стопка вот-вот развалится, входит другая женщина, гораздо моложе, берет стопку листков и переносит на другой стол, где для них уже заготовлены специальные конверты. Похоже, женщины трудятся с листочками уже давно.
Обе женщины обведены многоцветным контуром, как видится в глазах после паров ибоги. Но можно разглядеть, что молодая хороша собой. По тому, как вздрогнул масса Уоллис, увидев ее, Кику понимает, что эта женщина для него важна. Поэтому Кику с массой Уоллисом перемещаются ко второму столу и смотрят, как молодая женщина раскладывает бумажки в конверты.
Женщина их видеть не может, но ее нежные ноздри трепещут, она поворачивается в их направлении, и лицо ее принимает озадаченное выражение. Она быстро поводит носом в воздухе.
— Мэри? — произносит она.
Другая женщина поднимает голову.
— Вам не кажется, что пахнет кофе?
— Нет. Только типографской краской. Я уже трижды порезала пальцы об эти треклятые листки. Может, прервемся, выпьем чаю?
— Разумеется, вам необходимо сделать перерыв, — говорит входящий в комнату мужчина. — И это будет первым актом в нашем законодательстве — человек не должен сворачивать избирательные бюллетени в течение более двух часов без перерыва на чаепитие.
— В таком случае, мы должны продолжить работу. Ведь мы занимаемся ею всего сорок минут, — сухо говорит молодая женщина.
Но она улыбается вошедшему мужчине.
— Я поставлю чайник, — говорит Мэри. Проходя мимо молодой женщины, она тихонько бросает: — Наверно, я вернусь нескоро, этот чайник долго закипает.
Та женщина уходит, в комнате тихо. Кику и так не слишком понимает речь белых людей, но их молчание — новая загвоздка. В языке галла много разных видов молчания, от неловкой паузы до многозначительной тишины, но Кику тотчас понимает, что вот эта здешняя тишина игривого свойства.
— Сегодня вечером собрание, — начинает мужчина. — Боюсь, мне придется на нем присутствовать, но я подумал… если вы не слишком утомитесь… может быть, согласитесь сопроводить меня туда в качестве гостьи?
— А по какому поводу собрание?
— Гомруль.[52] — Он разводит руками. — Необходимо найти способ провести билль через Палату лордов. На данный момент землевладельцы дали понять, что они заблокируют всякую попытку урегулировать ирландский вопрос.
— Я с удовольствием пойду, Артур.
— Правда? Вам не будет скучно?
— Мне это чрезвычайно интересно, — заверяет она его. — А будет ли там сэр Генри?
Мужчина кивает:
— Он основной оратор.
— Тогда я с нетерпением буду ждать вечера. Говорят, он блестящий оратор. И вообще мне будет приятно сопровождать вас.
За спиной Кику слышит безутешное рыдание массы Уоллиса.
Но вот масса Уоллис тяжелеет, а облики людей в комнате становятся ярче. Пора улетать. Кику чувствует, как зар сильными руками подхватывают ее под мышки, поднимают вверх. Но лететь им слишком далеко, а задержались они слишком долго: масса Уоллис стал такой тяжелый, а Кику так устала, что зар не могут их поднять. На миг ей кажется, им никак не улететь. Иногда бывает так, она знает: люди впадают в ибога-транс и по той или другой причине никогда не возвращаются обратно, обрекая свой дух вечно бродить по земле, невидимым, неприкаянным. Совершив неимоверное усилие, Кику рвется вверх. Она чувствует, как зар подтягивают ее, и уже они летят по воздуху, пролетают над бурлящим муравейником, это деревня белого человека, сперва медленно, но вот, набирая скорость, они летят теперь над морем.
Вернувшись в целительную хижину, масса Уоллис погружается в глубокий сон. Кику произносит заклинания, благодарит зар за их помощь, желая им благополучной дороги обратно, туда, откуда они явились. Затем берет заточенную иглу дикобраза и осторожно погружает ее сначала в пепел ибоги в очаговой яме, затем подносит к ритуальным знакам на груди массы Уоллиса. Острие пронзает кожу: от серой, еще чуть ядовитой золы кожа вспучивается и твердеет по проколотым точками контурам рисунка, и это означает вступление массы Уоллиса в свой возрастной клан.
Пока масса Уоллис спал, Кику отправилась искать Тахомена.
— Тут у меня мысль пришла, — робко произнесла она.
Он знал ее слишком хорошо, чтобы поверить, будто одной мыслью все и ограничится.
— Говори.
— Хорошо бы Алайе побыть при массе Уоллисе служанкой.
Тахомен был изрядно озадачен:
— Алайе? Почему Алайе?
— Потому что она самая красивая из молодых женщин.
— Ты хочешь, чтобы она разделила с ним постель?
Кику отрицательно покачала головой:
— Думаю, масса Уоллис сейчас слишком для этого слаб, но когда красавица рядом, то и поправиться легче. Да и ей будет занятие.
Тахомен устремил взгляд вдаль, продолжая прикидывать про себя. От Кику всего можно было ожидать, но тут выдала такое, прямо голова кругом.
— Если Алайа все же станет прислуживать белому человеку, — сказал Тахомен, — я не найду ее, если захочу к ней.
— Но по счастью у тебя есть и другая жена.
— Значит, копье Байаны уже не будет торчать у твоей хижины?
— Копье Байаны… — многозначительно произнесла Кику, — не так прямо и не так далеко бьет, как ему хочется думать.
Тахомен хохотнул:
— По-твоему, мужчина так наивен, — сказал он, — и один взгляд на хорошенькое личико может снять с него порчу?
— Хочешь сказать, я глупость предложила? — взъершилась Кику.
— Конечно, нет, — поспешно ответил Тахомен. — Просто наивность, а это уж дело совсем другое.
— Гм, — уже мягче произнесла Кику. — Конечно, мужчины наивны, ну и женщины тоже, если уж на то пошло.
— Да? Что же вам, женщинам, нужно?
— Нам нужно… — Кику помедлила. — Чтоб не спрашивали, что нам нужно.
— Ой, избавь меня от своих загадок, старая женщина, — ворчливо сказал Тахомен.
Она с силой пихнула его в плечо:
— Меньше болтай о старости! Не такая уж я старуха, вот если опять начнешь ходить ко мне в хижину…
— То что?
Она мотнула головой:
— Ну, скажем, лес пообещал мне кое-что.
— Да? — сказал Тахомен.
Кику видела, что он понял, и еще она видела, что он не станет все портить лишними словами, на это она и надеялась. И поняла, что за это самое и любила его: было такое в нем, он соображал, чего говорить не надо.
Ухаживание имеет странный вид, в значительной мере потому, что происходит в преддверии общих выборов. Активность политической кампании в полном разгаре: листовки пишутся, печатаются, заправляются в конверты, доставляются к каждой двери; посещаются собрания, организуются дебаты, выстраивается лоббирование, проходят встречи с избирателями… Обстановка захватывающая, но они редко оказываются вдвоем, разве что на несколько минут. Он — генерал, а она — из рядового состава. Нежные чувства Артура проявляются в мягком осведомлении, не слишком ли много она работает, и он настоятельно убеждает других добровольцев дать ей возможность немного передохнуть в данный момент в его обществе. Ее хрупкость превращается в их отношениях в удобный миф: немое напоминание о ее слезах тогда, в его кабинете, о полученном в дар платке, надушенном одеколоном «Трамперс»…
Окружающим становится ясно, что они прекрасно понимают друг друга. Его рыцарство, его галантность сосредоточены только на ней. Если во время публичного выступления он говорит о Беззащитности, его глаза ловят ее взгляд в толпе слушателей. Если он говорит о Роли Женщины, именно этой женщине дарит он свою улыбку. Если говорит о Либералах и Семейной партии, то с такой серьезностью смотрит на нее, что она не может одержать улыбки и вынуждена опустить глаза из опасения: что если, глядя на нее, может улыбнуться и он.
О Роберте Уоллисе она не вспоминает. Ну а если и вспоминает — ведь как бы ни старалась она, но временами просто невозможно заставить себя о нем не думать, — то исключительно с негодованием, оно не прошло до сих пор. В такие минуты Эмили вовсе не ощущает себя той хрупкой женщиной, какой видит ее Артур. В такие минуты ей все еще хочется разыскать этого тупого, никчемного, самовлюбленного юнца и кулаком в кровь разбить ему нос.
Выборы совпадают с возвращением тысяч солдат из Южной Африки. Правительство консерваторов устраивает один парад победы за другим. Порой трудно отличить избирательный ажиотаж от парадных церемоний.
Консерваторы сохраняют большинство с достаточным перевесом. После выборов Пинкер с яростью обнаруживает, что Уильям Хоуэлл, владелец «Кофе Хоуэлла» произведен в рыцари; официально — за заслуги в филантропической деятельности, но на самом деле, и это всем известно, за его финансовое подпитывание фондов партии консерваторов.
Почтеннейшие либералы сетуют, что поддержка таких вопросов, как избирательное право для женщин, лишает их постов. Они утверждают, что необходима политика, направленная на интересы избирателей, а не тех, которые по своему положению не способны отдавать голоса в поддержку партии. Пособия по болезни, пенсии, пособия по безработице — вот чем можно привлечь к себе рабочий люд.
В Лондоне Союз за право голоса для женщин удваивает свои усилия, чтобы добиться влияния. Эмили работает для Союза с тем же рвением, как и для избирательной компании Артура. У нее болезненный вид, она ужасно исхудала; но глаза все так же горят, впрочем, чем худее и бледнее она становится, тем нежней заботится о ней Артур.
Что касается Артура, то для него досада, что его партия проиграла выборы, скрашивается тем обстоятельством, что внутри его электората доля голосов в его поддержку возросла. Теперь он важная фигура среди либералов, возможно, в будущем — министр.
Настает время заняться домашними проблемами. Ему повезло, он нашел себе жену, которая составит идеальную пару министру: трудолюбивая, правильно мыслящая и, благодаря энергии своего отца, богатая. Остается только сделать официальное предложение.
Предложение делается без особого афиширования. Только так, никакого шума: они оба не склонны к помпезности. Он выводит ее на веранду Палаты общин. Вечер: бесконечное движение взад-вперед по глади реки улеглось. Артур заводит разговор, давая Эмили понять, что на этот шаг идет, все тщательно обдумав, что он как никто в высшей степени почитает святость любви, чистейшее выражение которой он видит в пожизненном союзе двух любящих сердец.
— В заключение, — говорит он, — я желал бы вашего позволения переговорить с вашим отцом, чтобы просить у него вашей руки.
— О, Артур! — говорит она. Услышанное для нее отнюдь не сюрприз: на протяжении последних недель он не скрывал своего особого отношения к ней. — Я отвечу «да» — конечно, «да».
Конечно, «да». Как может быть иначе? К браку она стремилась всегда. Она — личность Рациональная. Отступить теперь от той будущности, которую она рисовала себе, было бы весьма неразумно.
Если по истечении долгих дней у нее появятся сомнения — а сомнения у Эмили есть и сейчас, — то и тогда она воспримет их как естественные. Им обоим предстоит совершить непростой шаг, который изменит жизнь обоих. И если, когда он заговаривает о браке, порой ей кажется, что он имеет в виду что-то иное, что-то более абстрактное, и, возможно, более возвышенное, чем себе представляет она, ну что ж, она и к этому готова. Он идеалист — и Эмили это в нем больше всего восхищает.
Не любовь будет крепить их брак: скорее брак будет крепить их любовь. Она страстно верит в это, но все же не может удержаться от вопроса: что если все-таки так не случится?
Пинкер видит, что зря полагался на политиков. Если что-то требуется предпринять, пусть лучше этим займутся деловые люди. Продажи «Кофе Кастл» постоянно растут, и денег у него полно. Правда, Хоуэлл перенял его тактику, запустив в оборот и свой кофе в упаковке под названием «Высокосортный кофе с плантаций Хоуэлла», но Пинкер уверенно опережает своего соперника. Он вводит новые формы упаковки — по полфунта, по четверть фунта, и даже новый вид тары — плотно закрывающуюся жестяную коробку, в которой можно хранить молотый кофе по нескольку недель. Рекламисты из лондонской конторы Дж. Уолтера Томпсона именуют такой кофе «долговечным». Они корпят над выпуском дюжины рекламных объявлений в неделю, каждое из которых целенаправленно вдалбливает в головы покупателей, что «Кофе Кастл» — неотъемлемая часть счастливого брака. («Подавая мужу чашку этого необыкновенного кофе „Кастл“… вы создаете домашний уют!»)
Линкер долгие часы проводит в своем кабинете, планирует, выстраивает, обдумывает тактику действий.
В целом, решила Кику, все идет как надо. Алайе приятно ходить за таким большим и уважаемым человеком, как масса Уоллис. Масса Уоллис, хоть по-прежнему говорит мало, начал снова есть, и каждый день он трудится в лесу, собирает кофе. А Тахомен каждую неделю проводит с ней по нескольку ночей, не всегда, правда, занимаясь любовью. Ведь, хоть она еще вполне молода, чтоб зачать ребенка, но, все же не настолько, чтобы слишком изнурять себя. Они просто разговаривают, обсуждают то да се, перебирают деревенские сплетни, и потом засыпают, уютно и привычно лежа в объятиях друг у друга. И хотя еще рано пока говорить, будет ли ей послан еще один ребеночек, и, конечно, еще совсем рано, чтобы узнать, останется ли ребеночек с ними или будет отозван далеко-далеко. Хотя шепот леса обнадеживал.
Однако вопрос с массой Уоллисом по-прежнему не был решен. И наконец Кику поняла, что время для этого настало. Она дождалась, когда собрался совет старейшин, чтобы обсудить деревенские дела, и тогда воздела вверх свою палку сикквее, показывая, что у нее есть что сказать.
— Сыновья женщины, дочери женщины! — начала она.
— Говори! — кивнул ей Тахомен. — Мы слушаем.
— Все вы помните, — сказала Кику, — когда пришли белые люди, саафу был нарушен. Лес пострадал, но лес умеет выжидать. Теперь поля, которые они расчищали, уже поросли кустарником и сорной травой, и деревья поднимаются вновь.
Но не думайте, что все вернется к тому, как было раньше. Уже доходят до наших ушей рассказы о других белых фермерах, что приходят в наши долины. Уже наведываются торговцы в наши края, несут продавать корзины с товаром, высматривая, что можно купить или обменять.
Лес может вырасти снова, но он не сможет защитить нас от очередного белого человека, который придет сюда и захочет повалить лес и все засадить прямыми рядами. Мы можем сказать белому человеку, что его планы не сбудутся, что дикие кабаны пожрут его всходы, а солнце иссушит его саженцы, только белый человек нас слушать не станет, потому что такова его натура.
— Что ты предлагаешь? — раздался чей-то голос. — Или ты, как та собака, лаешь, когда гиены уж и след простыл?
Кику покачала головой:
— Я как тот паук, который говорит: одну паутину порвать легко, а тысячью паутин можно связать льва. Вот что предлагаю я. Белый человек платил нам деньги за наш труд. Вместо того, чтобы самим их потратить, мы должны отдать их ему назад.
Наступила долгая тишина; жители осмысляли такое странное предложение.
— Масса Уоллис не должен здесь оставаться, — пояснила Кику. — Пока он не уйдет, не будет тут саафу. Чтобы вернуться в свою долину, ему нужны деньги — много денег. Если мы отдадим ему все то, что заработали, ему хватит.
— Но тогда у нас самих не останется денег, чтобы купить одежду или пищу нашим детям. Вся работа, которую мы проделали для белого человека, пойдет насмарку, — сказал кто-то.
— Это так, но когда он уйдет, мы сможем по-прежнему собирать дикий кофе в лесу, отвозить его в Харар и там продавать. За этот кофе мы уже станем выручать больше, чем прежде, ведь белые люди показали нам, как надо очищать и сушить зерна на солнце. Мы будем за свой труд получать сполна. И самое главное — ни один белый человек уже не сможет сюда прийти и сказать: пожалуй, я стану тут вашим хозяином. У них это не пройдет: им придется отыскивать массу Уоллиса и выкупать у него эту землю, а он будет уже очень далеко отсюда.
— Этот лес, все-таки, опять стал наш, — возразил кто-то.
— Так-то так, да не так. Теперь мы уж ничего поделать не сможем. Вот почему я прежде вам сказала, что времена изменились.
— Но зачем нам помогать этому человеку? — спросил еще один. — Чем он так заслужил нашу щедрость?
— Мы должны помочь этому человеку, — сказала Кику, — потому что он — человек, сын женщины, как и мы — сыны и дочери женщины.
Снова наступила долгая тишина. Потом Тахомен, откашлявшись, сказал:
— Спасибо, Кику! Ты дала нам пищу для размышлений.
Много дней обсуждали они. Так у них было заведено: то, что может показаться на первый взгляд пустой говорильней, на самом деле было медленным процессом достижения общего согласия, обсуждением вопроса с разных сторон; и каждый раз приводилась своя притча, составлявшая мудрость, доставшаяся им по наследству, до тех пор, пока наконец не принималось общее решение. У белого человека принятие решения происходит совсем не так: у него самым важным всегда и везде считается скорость принятия решения, не согласие, потому для поддержания дисциплины и позволяется навязывать приказы несогласным. Жители деревни не знали, что такое дисциплина, но у них было нечто более могущественное: потребность в саафу.
«Карамельный» — удивительный запах, вызывающий ассоциации с карамелью, кофе, жареным арахисом и клубникой, что неудивительно, так как все эти продукты содержат фуранеол. Этот запах является мощным усилителем букета и важнейшей составляющей кофейного аромата.
Спускаются сумерки, я сижу в своей хижине. Это лучшее время суток, время, когда боль от утраты Фикре притупляется в преддверии приближения ночи. Подо мной раскинулась долина; пузырятся, наплывая, облака. Внезапно в сплетении лиственных крон взметнется тропическая птица, сверкнет ярким опереньем посреди мрака. Поразительно: птицы разряжены, как денди; одна, чей хвост вытянут оранжевым вымпелом, скакнет и покачивается взад-вперед на лиане; другая, синяя, переливчатая, нетерпеливо перепрыгивает с лапки на лапку; третья, щебеча, важно вспучивает красное оперенье вокруг шеи. Ни дать ни взять троица щеголей, завсегдатаев кафе.
В поле зрения появляется Тахомен. Он медленно идет в мою сторону по холму. Выряжен в лучшее одеяние вождя: мой старый жакет из альпаки поверх куска материи, обернутой вокруг чресел. За ним идет Кику. Волосы целительницы выкрашены красной краской, на шее ожерелье из бусин слоновой кости. Позади нее — Алайа, а следом целая вереница жителей деревни. Но куда делась обычная их оживленность? Процессия вышагивает в торжественном, сдержанном молчании.
Тахомен останавливается передо мной.
— Масса, иди домой, — говорит он.
С важным видом он опускает две монеты, два талера,[53] на землю у моих ног. Затем отходит чуть в сторону, опускается на корточки: смотрит.
Кику произносит что-то на языке галла. И также кладет две монеты у моих ног.
Алайа улыбается мне и подает мне один талер. Идущий следом тоже, потом другой… У кого денег нет, кладут зеркальце или стеклянные бусы или какой-либо иной пустячок, выданный им некогда Гектором или мною. Престарелый господин, порывшись в набедренной перевязи, вынимает наполовину выкуренную сигару, добавляет в общую кучу. Те, у кого вообще нет ничего, опускают одну-две пригоршни кофейных зерен.
Со стороны может показаться, они воздают мне дань: я восседаю на складном стуле, как король на троне, а жители, каждый по очереди подходя, выражают мне свое почтение. Но это я воздаю дань их щедрости; это я, сложив руки вместе, кланяюсь каждому, кто подходит, слезы текут у меня из глаз, и я повторяю, повторяю: Галатооми. Галатооми.
Благодарю.
На следующий день Джимо, Кума и я грузим мое скудное имущество на мула. Я беру только то, что смогу продать в Хараре, остальное оставляю жителям деревни. Возможно, еще и по сей день где-то в высоких горах Африки существует некая деревня, жители которой с радостью пользуются сифоном для газирования воды, деревянным сиденьем для туалета, выпуском «Желтой книги» за апрель 1897 года, треснувшей кофейной чашкой «Веджвуд», дюжиной пишущих машинок «Ремингтон» и прочими элементами цивилизации.
Последнее, на что я натыкаюсь, — увесистый ящик красного дерева, содержащий некоторое количество стеклянных пробирок с ароматами, и брошюрку, озаглавленную «Метод Уоллиса-Пинкера для выявления и классификации всевозможных ароматов кофе. С приложениями, схемами дегустации и иллюстрациями, Лондон, 1897 г.». Ящик слишком тяжел, чтоб взваливать на мула, и совершенно бесполезен, но все же я не без удовольствия отмечаю, что как пробы, так и книжечка, вопреки предсказаниям Гектора, выдержали испытание изнурительным тропическим зноем.
Молоко
«Послевкусие» — ощущение при вдыхании паров свежезаваренного кофе, остающееся во рту после глотка, которое варьируется от угольного до шоколадного, пряного, смолистого привкуса.
— Говорят, цена на кофе скоро удвоится по сравнению с предыдущим годом, — сказал Артур Брюэр, переводя взгляд с газеты на жену. — Выясняется, что нью-йоркские инвесторы, игравшие на понижение, бросаются с крыши небоскреба, только бы не выплачивать долги.
— Ты так говоришь, будто самоубийство — средство экономии, — резко сказала Эмили, отпихнув яичницу к краю тарелки и опуская на стол вилку с ножом. — Очевидно, эти несчастные не видели для себя иного выхода.
Артур хмурится. Он, собственно, не собирался затевать разговор на темы дня, а лишь мимолетной фразой заполнить молчание, царившее за завтраком. Ему главным образом хотелось показать, что чтение газеты отнюдь не проявление невнимания к жене — наоборот; он считал, что это должно было выглядеть так, будто он читает газету не только для себя, выделяя наиболее интересные для жены места. Выражение немого упрека, которое он читал в ее глазах каждый раз, когда утром во время завтрака брался за «Таймс», этот ее взгляд, сделавшийся уже привычным, был, конечно же, несправедлив. И еще то, как она нарочито кашляла, когда он закуривал трубку…
Артур возобновил чтение газеты, выискивая что-нибудь, чтобы поменять тему.
— Кажется, предпринимаются шаги, чтобы перенести останки Оскара Уайльда на кладбище Пер-Лашез. Поговаривают даже о сборе средств на создание некоего мемориала.
— Несчастный человек. Как это отвратительно, что его отправили в тюрьму. Ведь его проступок состоял лишь в том…
— Дорогая, — мягко прервал ее Артур, — pas devant les domestique.[54]
Он кивнул на младшую горничную Энни, прибиравшую на буфете.
Ему показалось, что Эмили едва заметно вздохнула, но вспух она ничего не произнесла. Артур отпил чай и перевернул страницу газеты.
Звякнул дверной колокольчик, и прислуга пошла открывать дверь. Оба супруга, не подавая вида, с любопытством прислушивались: кто бы это мог быть.
— Доктор Мейхьюз ожидает в гостиной, — объявила Энни.
Артур тотчас вскочил, утирая губы салфеткой.
— Сначала я пойду и объясню ему суть дела, — сказал он.
Он не добавил «с глазу на глаз», но было ясно, именно это он имел в виду.
— Не подождешь ли ты здесь, дорогая, а я пришлю за тобой Энни, когда доктор будет готов с тобой побеседовать.
Эмили ждала. Время от времени мужские голоса доносились до нее из соседней гостиной, но приглушенно, слов разобрать она не могла. Да это ей и не было важно. Она знала, о чем пойдет разговор.
Эмили подпила себе еще кофе. Чашки «Веджвуд» были свадебным подарком отца. Правда, кофе был не от Пинкера. С тех пор, как «Кастл» начали так назойливо рекламировать для среднего класса, он уже не считался приемлемым в домах вроде дома Артура. Собственно, тот кофе, что покупал Артур, — вернее, его экономка покупала этот кофе для него, — был ненамного лучше: дешевый бразильский, выдававшийся за купаж сортов «ява». Правда Эмили, шаг за шагом выигрывая свои битвы, не сочла еще, что пришла пора заняться вопросом честности экономки.
— Мы женаты уже почти два года, — начал Артур. — Но она… — Он осекся. — Мне трудно об этом говорить.
Доктор Мейхьюз, худощавый мужчина лет пятидесяти с небольшим, произнес:
— Можете быть уверены, вы не поведаете мне ничего такого, чего бы я не слышал уже много раз.
— Да, да, конечно… — И все же Артур еще колебался. — После нашей женитьбы мою жену как будто подменили. Весь медовый месяц все было восхитительно, но потом в ней все более и более стало проявляться… упрямство. Сварливость даже, я бы сказал, и какая-то безапелляционность. Она часто раздражается. Она презирает всякие ограничения в супружеской жизни — впрочем, наверное, это естественно; такая большая перемена после свободы, которой она наслаждалась прежде. Отец, на мой взгляд, избаловал ее. Характер у нее всегда был горяч — но не это меня смущает. Именно нынешнее ее состояние: то она целый час молчит, потом вдруг начинает говорить без умолку, даже слова вставить нельзя. И это не обычные женские разговоры: она рассуждает о радикальных идеях, о политике, прямо с фанатической страстью какого-нибудь санкюлота. Порой произносит просто откровенный вздор.
Артур замолкает, чувствуя, что, возможно, смешал в кучу медицинские симптомы с собственным недовольством. Однако мистер Мейхьюз с серьезным видом кивает.
— Имеет ли место супружеская несовместимость? — деликатно спрашивает он.
— Вообще-то, конечно… Ах! — Артур наконец понимает, о чем именно спрашивает доктор Мейхьюз и заливается краской. — Во время медового месяца нет. После — да.
— Избыток эротизма?
— Иногда, да.
— И в такие моменты бывает ли она ненасытна?
— Прошу вас, доктор! Речь вдет о моей жене.
— Разумеется, но я должен знать все подробности.
Артур нехотя кивает:
— Иногда, да. Шокирующе ненасытна.
— А становится ли она спокойней после акта? Я имею в виду состояние ее ума.
— Да, в основном, да. Хотя такое случается и когда она крайне раздражена. — Артур кашляет. — Но есть и еще одно обстоятельство. При вступлении в брак моя жена не была девственницей.
— Вы убеждены? — вскидывает брови доктор.
— Да, я оказался в некоторой растерянности. Все задавал себе вопрос, не может ли это обстоятельство иметь отношение к нынешнему ее состоянию. Что если сказывается ее прошлый малоприятный опыт?
— Такое вполне возможно. Страдает ли она от нервной слабости или переутомления?
— Думаю, что временами, да.
— Вы предполагали когда-либо в ней истерию? — тихо спрашивает доктор.
— Она никогда не издает истошных криков, не падает при людях в обморок и не выбегает на улицу в нижнем белье, если это вы имеете в виду.
Доктор Мейхьюз качает головой:
— «Истерия» — это диагноз, а не описание подобного рода поведения. Оно предполагает заболевание, исходящее из женских органов — отсюда и сам термин: hystera — по-гречески «матка». Существует несколько степеней истерии, так же, как есть разные степени тяжести таких заболеваний, как инфлюэнца, проказа или какое-либо другое.
— И вы считаете, что здесь проблема именно в истерии?
— Исходя из вашего рассказа, я почти в этом убежден. Не злоупотребляет ли она кофе?
Артур изумленно смотрит на доктора:
— Да, определенно. Ее отец торговец кофе. Она постоянно пьет кофе и в большом количестве.
Доктор Мейхьюз снова качает головой:
— Женщины по складу весьма отличаются от мужчин, — провозглашает он. — Репродуктивный инстинкт в них настолько силен, что способен возбуждать каждую клеточку организма. Когда в организме случаются неполадки, что может возникнуть достаточно легко — даже от такого пустяка, как избыточное употребление кофе, — то порок может распространиться по всем органам и достичь даже самой глубины мозга. Знакомы ли вы с работами доктора Фрейда?
— Я слышал о нем.
— Доктор Фрейд доказал, что подобные жалобы по своему происхождению обычно гистероневростеничны. Это когда кровь приливает к тазу… вы не замечали какого-то необычного вспухания? Влажности в абдоминальной области?
Артур горестно кивает:
— Я думал это… просто такая у нее особенность. Свойство ее страстной натуры.
— Страсть и истерия ближайшие родственники, — мрачно говорит доктор.
— Это излечимо?
— О да! Вернее, это можно лечить. И со временем, возможно, острота пройдет. Обычно с рождением ребенка женщины менее подвержены таким проблемам, поскольку организм исполнил свою естественную функцию.
— И что же делать?
— Я осмотрю вашу супругу, но мне совершенно ясно, что ей необходимо обратиться к специалисту. Не волнуйтесь, мистер Брюэр. Существует ряд первоклассных практикующих медиков, лечащих этот вид недуга.
Через три дня автомобиль доставляет Эмили на Харли-стрит, где ей назначен прием у специалиста. Это богатая клиника, кабинеты для приема пациентов значительно роскошней, чем в старых крохотных медицинских заведениях в районе Сэвил-Роу. Вдоль тротуара застыла в ожидании вереница авто, а сама улица полна людей, входящих и выходящих из импозантных подъездов. Большинство, отмечает Эмили, женщины.
— Вы можете подождать здесь, — говорит она шоферу Биллиту.
Тот кивает, откидывая вниз ступеньку, чтобы она могла сойти на тротуар.
— Слушаюсь, мэм!
Подъезд дома номер 27 самый шикарный среди прочих. Эмили входит и называет свое имя швейцару в униформе.
— Прошу вас присесть, — говорит тот, указывая на ряд кресел. — Доктор Ричардс скоро к вам выйдет.
Эмили села и, прикрыв глаза, стала ждать. Господи, как она устала. Как изматывает ее эта постоянная борьба с Артуром. Собственно, не борьба в прямом смысле, это уж слишком сильно сказано. Скорее оба они задыхаются в путах, в которые угодили сами после свадьбы, как будто брак это карета, а они — две лошади, не приученные к упряжи и потому тянущие в разные стороны. Сначала она очень старалась стать такой супругой, какой Артур хотел ее видеть. Она понимала, он ждет, чтобы она деликатно направляла его, намеками, советами показывая, как и что ему сделать, чтоб ей было хорошо, а не придираться, не подкалывать. На самом же деле ей всегда нравилась острая дискуссия. Ей казалось, что споры между друзьями — это лишь кратчайший путь для двух разумных людей понять убеждения друг друга. Но для Артура жена-спорщица означала угрозу его авторитету. Он, как выяснилось, обожал тишину, порядок, согласие; ну а Эмили желала бы… она не могла точно определить, чего желала бы она. Во всяком случае, конечно, не удушающе скучной атмосферы их дома на Итон-сквер: бесконечной вереницы комнат с высокими потолками, где в каждой — часы с боем, этакая галерея механических сердец, где все важные мировые проблемы упрощаются до «сферы женских интересов», до узкого семейного очага, но и этот очаг находится в исключительном феодальном ведении ее супруга.
Проблема состояла не в самом их браке, а в тех ожиданиях, которые были с этим связаны. Ничего общего с тем, как она жила до замужества, распространяя листовки и дегустируя кофе; внезапно ее роль в качестве жены члена Парламента сделалась официальной. Она должна была сопровождать Артура при каждом официальном визите, на каждое чаепитие, на все дебаты — и при этом молчать и лишь жарко ему аплодировать: сделаться ярким воплощением Женской Благопристойности.
А ведь он все-таки предал ее. Звучит мелодраматично, но иного слова она придумать не смогла. Либералы, для которых она, как и бесчисленное множество других суфражисток, неустанно трудилась все эти годы, внезапно решили исключить вопрос о женском избирательном праве из своей программы. Кэмпбелл-Бэннермен — тот обаятельный, улыбчивый лидер лейбористов, с которым она познакомилась в Палате общин, сам произнес приговор: «это лишнее». И Артур, с которым она была к тому моменту уже помолвлена, смирился покорно — куда там, с готовностью! — и последовал новой линии партии.
— Это политика, дорогая. А политика — в конечном счете проблема приоритетов. Разве можно, в самом деле, ставить вопрос об избирательном праве для женщин впереди проблемы пенсий для шахтеров?
И по тону Артура было ясно, что женский вопрос он рассматривал не иначе как в виде одолжения.
— Послушай, — добавил он, — нельзя допускать, чтоб это как-то повлияло на наши отношения. Связь между мужем и женой должна быть достаточно прочной, чтобы пережить политические разногласия.
Он не учел, что ее чувства к нему и ее политические убеждения исходили из единого импульса. Это не имело отношения к политической стратегии, это был вопрос доверия.
Артур не был жестоким человеком, но он мыслил традиционно и считал: если традиции жестоки, то человек просто должен им следовать, безоглядно и безотчетно. Слишком поздно Эмили поняла, что не все идеалисты — радикалы. В Палате общин Артур утверждал свое политическое лицо фанатичной преданностью тысячам общепринятых установок и понятий о правопорядке; дома он говорил об этом неодобрительно и даже язвительно… а теперь эта нелепая затея с доктором Мейхьюзом.
И вот что странно: узнав о заболевании Эмили, Артур снова проявил всю нежность, которая до этого была забыта. Наконец он понял, какую роль следует принять на себя: роль заботливого супруга. Возможно, он также чувствовал за собой некоторую вину, поскольку согласился трактовать ее поведение как болезнь, а не порок ее характера. Словом, он стал подносить ей чай, заказывал кухарке особое ресторанное меню и при каждой возможности осведомлялся о состоянии здоровья Эмили. Она приходила от этого в ярость. Но если она высказывала какое-то суждение по любому вопросу, лицо Артура принимало озабоченное выражение, и он напоминал ей, что доктор Мейхьюз строго наказал: постараться пока сильных чувств избегать.
Сильных чувств! Сильных чувств как раз ей и не хватало, о каком избытке можно было говорить! Господи, ведь она пыталась дать ему это понять! После долгого периода скованности иными, но равно ограничивающими законами, определявшими ее поведение до замужества, она, обручившись с Артуром, жила в предвкушении, как ей представлялось, большей раскованности в брачной постели. От мужчин, своих пылких поклонников, к ней пришло понимание, что она вправе рассчитывать на страстные чувства. Но в реальности все оказалось совсем иначе. После начальной неловкости — неизбежной, как казалось ей, для двух интеллигентных людей своего века и положения, — когда она почти уже, ей казалось, была на пути к пику восторга, как вдруг медовый месяц кончился, а с ним и активность Артура в возобновлении этого наслаждения. Интимные отношения случались, но носили формальный характер, и если она и получала удовольствие, то мимоходом. Более того, признаки восторга с ее стороны, очевидно, обескураживали его. Пару раз ее активность напугала его до такой степени, что он даже прервал акт. Очевидно, его склонность к порядку в домашних делах распространялась также и на спальню. И Эмили смирилась с тем, что в этом смысле ей суждено оставаться неудовлетворенной. Что хоть и не стало для нее большой трагедией, — в конце концов, в подобной ситуации она прожила большую часть своей зрелой жизни, — но все же принесло разочарование.
Разумеется, она прекрасно понимала, что никакой визит к доктору ничего не изменит, но отказ пойти, учитывая поставленный доктором Мейхьюзом диагноз, был бы превратно понят. Мейхьюз, узнай он об этом, вполне мог бы отправить ее в психиатрическую лечебницу. Поэтому Эмили теперь и сидела здесь.
— Прошу вас, скажите моему шоферу, чтобы подкатил авто поближе к подъезду! Там так их много, боюсь, я не найду свое.
Эмили подняла голову. Женщина, обращавшаяся к швейцару, была ей знакома. Джорджина Дорсон, жена одного из приятелей Артура.
— Здравствуй, Джорджина! — сказала Эмили.
Женщина обернулась:
— Ах… Эмили! Я тебя не заметила. Значит и ты лечишься у доктора Ричардса? Он чудо, правда?
— Пока не знаю. Это первая консультация.
— О! — мечтательно протянула миссис Дорсон. — Это потрясающее лечение. После визита к нему я чувствую себя другим человеком. Я ожила.
— Приятно слышать.
Избыточной живости Эмили все же в даме не обнаружила. Та продолжала смотреть на Эмили с какой-то странной, блаженной улыбкой, как будто после наркотика. Эмили сказала себе, что не станет принимать никаких пилюль от доктора Ричардса, что бы он ей ни прописал.
— Ну, вот и наше авто. Мой шофер. Боже мой, я наверно продремлю всю дорогу до дома. У меня совершенно нет сил. Но он — чудо, дорогая, Просто чудо. Как же мы жили раньше, пока не появились такие доктора?
Вид у Джорджины и в самом деле был утомленный: спускаясь с лестницы, она ухватилась за перила, боясь потерять равновесие.
— Миссис Брюэр?
Эмили обернулась. Голос принадлежал красивому молодому человеку в элегантном костюме модного покроя, с гладко зачесанными назад волосами и широкой улыбкой. Серебряная цепь часов на гладком фоне жилета, провисая, повторяла в увеличенном виде растянутый в улыбке рот. Эмили он показался скорее похожим на молодого преуспевающего банкира или даже на персону министерского ранга, чем на врача.
— Я доктор Ричардс, — сказал молодой человек, пожимая ей руку. — Прошу вас, пройдемте со мной!
Быстрым шагом он устремился вглубь здания.
— Сюда! — Он распахнул перед Эмили дверь.
Во врачебном кабинете стояли письменный стол, ширма и пара кресел. Доктор указал, на которое ей сесть, затем присел на соседнее.
— Ну и, — произнес он бодрым тоном, — в чем же у вас проблема?
— Думаю, во мне.
Он удивленно поднял брови:
— Неужели?
Эмили поняла, что он ей нравится — вернее, что он симпатичен, что, пожалуй, не одно и то же.
— Видимо, мой муж мной недоволен.
Доктор Ричард еще шире заулыбался.
— Что ж, я ознакомился с направлением доктора Мейхьюза, где и он отмечает нечто в этом роде. — Он кивнул на лежавшие на столе бумаги. — В данный момент, впрочем, меня больше интересует, довольны ли вы своим мужем.
— Что вы имеете в виду? — спросила Эмили, гадая про себя, стоит ли рассказать правду этому молодому человеку. Может, все-таки это некая ловушка: он все передаст доктору Мейхьюзу, доктор Мейхьюз — Артуру… — Я всецело предана своему мужу.
— Естественно. Но, возможно, вы преданы ему по необходимости? — задал вопрос доктор Ричардс, останавливая на ней быстрый взгляд своих красивых глаз. — Преданность, миссис Брюэр, предполагает скорее узы обязательств, а не любви.
— Любви! — повторила она, все еще не решив, что отвечать.
— Возможно, любовь… оказалась не такой, о какой вы мечтали?
— Да, — сказала Эмили. Странно, но потребность поделиться с кем бы то ни было оказалась очень сильна, просто непреодолима, даже пульсу Эмили заметно участился. — Да, любовь оказалась не совсем такой, какой я ее себе представляла.
Взяв со стола стетоскоп, доктор придвинул свой стул поближе, настолько, что его колени оказались чуть ли не между коленей Эмили.
— Сейчас я прослушаю частоту ваших сердечных сокращений, — сказал он и приставил стетоскоп между ее грудей.
От этого прикосновения Эмили почувствовала, как сердце ее забилось еще сильней.
— Пульс слегка ускорен, — сказал Ричардс, вынимая трубочки из ушей. — Вы хорошо спите?
— Не всегда.
— Бываете раздражительной?
— Временами.
— А вам известно, что считает доктор Мейхьюз причиной этого?
— Кажется, он что-то говорил моему мужу насчет истерии.
— Вижу по выражению вашего лица, — поднял брови Ричардс, — что вы не согласны.
Эмили колебалась:
— Могу ли я говорить с вами откровенно?
— Разумеется!
— Мне трудно поверить, что я страдаю от какой-то болезни, тогда как обстоятельства, приведшие к осложнениям, очевидны. И это то, что я вышла замуж за мужчину, который не слишком сильно меня любит.
Доктор Ричардс кивнул:
— Подобная реакция понятна.
— Благодарю вас, — сказала Эмили, обрадовавшись, что нашелся наконец человек, который вовсе не считает ее умственно неполноценной.
— Однако, — быстро добавил доктор Ричардс, — поскольку обстоятельства изменить мы не можем, мы должны попытаться изменить к ним свое отношение. Мы будем лечить вас, миссис Брюэр, и лечить, как говорится, по полной программе. Слыхали ли вы что-нибудь о волновой теории в медицине?
Эмили отрицательно покачала головой. В мыслях смутно мелькнуло, что она слишком много рассказала, и теперь она была недовольна собой.
— Наука открыла, что все живое основывается на принципах колебания, — произнес доктор, сплетая пальцы рук и фиксируя на Эмили жизнерадостный взгляд. — В результате незначительных изменений скорости колебаний в клетках, из которых состоит живая ткань, появляются на свет гадюка или позвоночное, горный лев или же молочница. Вся природа буквально вибрирует жизненной силой. Что же касается женщины, которая является источником жизни, здоровая женская особь — это та, кровь которой колеблется в унисон с естественными законами бытия. Если мы простимулируем эту гармонию, вы тотчас ощутите эффект. Каждый нерв будет обновлен, организм завибрирует всеми фибрами от пробудившихся сил. Густая красная кровь потечет по вашим жилам. Вы расцветете, наполнитесь жизнью и энергией. Многие мои пациентки покидают эти кабинеты в таком приподнятом настроении, как будто выпили шампанского.
— Ну и почему же тогда?
— Что «почему же тогда»?
— Почему тогда бы им не выпить шампанского? Это, безусловно, обошлось бы дешевле.
Доктор Ричардс нахмурился:
— Миссис Брюэр, мне кажется, вы недооцениваете мои слова. Мы намереваемся возродить тонус и жизненность всей системы организма. Мы возвратим вам вашу уснувшую женскую энергию.
— Как же именно вы собираетесь это сделать?
— Путем ритмотерапии. Или, точнее, путем воздействия метода перкуссии на область пораженной ткани. Уверяю вас, действие произведет успокоительный эффект и быстро избавит вас от истерии. За ширмой вы обнаружите халат; наденьте его, пожалуйста, и я провожу вас в процедурную.
Эмили надела халат — сорочку из тонкого хлопка, с завязками спереди. В следующем кабинете стоял стол, обитый кожей, поверх была постелена простыня. В опору стола был встроен некий аппарат — по внешнему виду электрическая машина с несколькими загадочного вида деталями, сделанными, по-видимому, из гуттаперчи, похожими на концы скакалки и проводами присоединенными к моторчику.
— Прошу, — сказал Ричардс, указывая Эмили на стол.
Он повернул включатель, пока Эмили взбиралась на кожаную кушетку, и мотор заурчал.
После того, как все закончилось, Эмили дрожащими руками оделась и опустилась без сил в кресло доктора, а он проверял ее рефлексы и пульс.
— Частота сокращений сердца уже улучшилась, — заметил он.
— Я рада…
— И также гиперемия таза, о которой пишет доктор Мейхьюз… Вы чувствуете, что вам стало легче?
— Я явно чувствую себя иначе, — проговорила Эмили, еле шевеля языком.
Он с улыбкой взглянул на нее:
— Как будто выпили шампанского?
И, отвернувшись к столу, он стал что-то записывать.
— Всего несколько минут, миссис Брюэр. Многие мои пациентки после лечения испытывают некое оцепенение. Это абсолютно нормально, это признак того, что истерия преодолена, по крайней мере, временно.
— Временно?
— В большинстве случаев истерохлоротичные расстройства не поддаются лечению. Необходимо периодически возвращаться к этой процедуре.
— И как часто мне это потребуется?
— Большинство моих пациенток полагают, что одного раза в неделю вполне достаточно. Должен заметить, что многие добавляют к моему методу еще и услуги моих коллег. Только в одном этом здании практикует еще и доктор Фаррар, он предлагает восходящий душ, направление воды под напором на соответствующую область тела — метод весьма эффективный. Еще есть доктор Харди, он специалист по электротерапии, тут применяется слабый фарадический ток. Мистер Торн у нас специалист по внедрению шведского массажа, а доктор Клейнтон проводит электростимуляцию матки. У нас даже есть популяризатор венского метода лечения беседой, и это доктор Айзенбаум, и кроме того в цокольном этаже у нас полный набор водных процедур, оснащенных различными видами гидравлики.
— Ясно. И как предполагается все это оплачивать?
— Через банк, разумеется. Каждый месяц на имя вашего мужа будет высылаться чек.
— Это дорогие услуги?
Доктора ее вопрос явно удивил:
— Все эти процедуры недешевы, миссис Брюэр. Учтем еще и разнообразное оборудование… Эффективное лечение не может быть дешевым.
Эмили ушла, доктор взглянул на часы. Перед следующей пациенткой еще четверть часа.
Он взялся за перо, перечитал то, что уже написал, делая по ходу кое-какие исправления. И добавил следующее:
Практически сразу наблюдается проникающее воздействие вибрационного аппарата. Через несколько минут тело начинает с силой сотрясаться, возвещая о начале истеричного пароксизма. Исторгается крик; тело пациентки выгибается дугой и несколько секунд остается в этом положении. Затем наблюдаются легкие движения таза. Вслед за этим пациентка приподнимается, снова ложится навзничь, издает крики восторга, смеется, производит несколько сладострастных движений и оседает на правый бок. В результате она преображается: быстрые нервозные движения, характерные до лечения, уступают место приятным манерам, угрюмость сменяется улыбкой, характерное для истерии подавляемое недовольство сменяется спокойствием и умственным смягчением. Поистине открытие принципа стимуляции — явление, которому суждено в грядущем веке преобразить психиатрическую науку.
Доктор хмурит брови. Лишь накануне он прочел документ, составленный неким Мэйзером, который, предлагая производить лечение подобных женщин в домашних условиях с помощью их собственных мужей, писал: «То, что мы до сих пор именовали лечением, не что иное как действия, которые заботливый супруг производит ради своей жены». Разумеется, это полная чушь. Да и вообще эти истерички — отличные пациентки: их состояние не проходит полностью и не ухудшается, и в большинстве случаев они год за годом возвращаются к этому лечению. Снова берясь за перо, доктор пишет:
Механизация данного лечения — безусловно, ключ к успеху. Однако результат достигается благодаря знаниям анатомии, основанным на многолетней практике, а также мануальному обследованию пациентки.
В дверь стучат. Доктор откладывает перо: явилась очередная пациентка.
Доктор Мейхьюз оказался прав. Артур сразу же заметил в жене перемену. После посещения специалиста она проспала почти до вечера, а на следующее утро встала совершенно иной женщиной. Она как будто… Артур подыскивал слово. Да, да, она стала умиротворенней. К ней вернулось спокойствие, которого он не находил в ней с самой помолвки. И она больше не возражала, когда он по утрам читал газету. Только с легкими у нее лучше на стало — Эмили по-прежнему кашляла, когда после завтрака он закуривал трубку, но, возможно, не все сразу…
В середине недели они завтракали вместе в согласном молчании, как вдруг Артур, что-то прочитав, громко рассмеялся:
— Ты подумай, как занятно пишет! Это его личные африканские впечатления…
— Хочешь прочесть мне кое-что?
— Прочесть? Пожалуй, скажу тебе, в чем суть. — Артур встряхнул, выпрямляя, листы и слегка приподнял над собой газету. — Это про французов, видишь ли. События в Теруде, — произнес он равнодушно.
— Ах, это.
— Автор Уоллис. Роберт Уоллис. — Артур положил газету и взялся за трубку. — Что с тобой, дорогая? Ты как будто побледнела.
— Да, мне немного нездоровится. И в комнате слишком душно.
Он перевел взгляд на свою трубку:
— Может, ты хочешь, чтоб я слегка подождал, не закуривал?
— Нет, спасибо.
— Впрочем, ты всегда можешь перейти в гостиную.
— Да, дорогой, — сказала Эмили вставая. — Возможно, если сяду к окну, мне станет лучше.
— Что ж, только осторожно, не подхвати насморк.
— Если только подхвачу, снова тотчас и непременно выпущу его на свободу.
Он непонимающе уставился на нее:
— Как ты сказала?
— Шучу, Артур. Сама не знаю, что на меня нашло. Просто думала о чем-то другом.
— Боже мой! — пробормотал он, возвращаясь к газете.
Позже за ужином имел место другой инцидент. Артур пояснял их гостю-французу, что либеральное правительство — самое реформаторское за всю историю этой страны, что либералы изменили до неузнаваемости жизнь рабочего класса…
— Правда, перемены коснулись только мужчин, — вставила его жена. — Для женщин ничего нового не предвидится.
Гость улыбнулся. Артур бросил на жену испуганный взгляд, опасаясь, что она вот-вот оседлает своего излюбленного конька.
— Вспомни о своем состоянии, дорогая, — зашептал он Эмили, когда Энни подавала гостю блюдо с овощами.
Жена взглянула на мужа; потом, весьма его удивив, покорно кивнула и до самого окончания ужина не произнесла больше ни слова. Просто поразительно, подумал Артур про себя, какое это благо получить точный медицинский диагноз.
Эмили гадала, окажется ли во время второго визита иным влияние на нее вибратора доктора Ричарда. Возможно, ее прошлая бурная реакция объяснялась многолетней гиперемией таза, как сказал доктор, и на этот раз уже не случится такого сокрушительного, неодолимого освобождения от истерии. В действительности все вернулось на круги своя. Всего через пару минут она почувствовала, как дрожь волнами нарастает в ней, предвещая неудержимое и пугающее начало знакомого приступа.
После она снова опустилась в его кресло, наблюдая, как доктор пишет свои заметки. Ей нравилась его манера писать — быстрая, проворная; перо резко взлетало, перед тем как скользнуть по дуге вниз, выводя буквы, слова. Взмах… взмах… в этом было что-то завораживающее.
— Что это вы там пишете обо мне?
— Так, рабочие пометки! — бросил он, не поднимая глаз.
Ей показалась, что она заметила циркумфлекс:[55]
— Это по-французски?
— Да, кое-что, — неохотно отозвался доктор. — Первооткрыватель в этой области Институт Сальпетриер в Париже. Французские термины в официальном ходу. К тому же, — тут он слегка осекся, — обеспечивают конфиденциальность информации.
— В интересах пациентки, хотите вы сказать?
Но Эмили тут же поняла, что не это он имел в виду; он имел в виду себя, свои пометки, чтоб никто, увидев их, не подумал, будто он делает нечто неподобающее.
Эмили заглянула в записи: Trop humide… La crise ve’ne’rienne…[56]
Увидев, куда она смотрит, доктор прикрыл страницу рукой:
— Записи доктора читать нельзя.
— Даже пациентке?
Он не ответил.
— На мой взгляд, — осторожно заметила Эмили, — при том что мы с вами делаем… учитывая суть самого лечения… всякую щепетильность можно было бы отбросить.
Доктор отложил перо и пристально посмотрел на нее. Его глаза — серо-голубые, безмятежные, даже красивые, — внимательно ее изучали:
— Напротив, миссис Брюэр. Это обязывает к щепетильности.
— Много ли у вас пациенток?
— Больше пятидесяти.
— Пятьдесят! Так много!
— Механизированная аппаратура делает это возможным.
— Но, должно быть, от этого вам сложнее.
Он нахмурился:
— Что вы имеете в виду?
— Несомненно, кое-кто из пациенток нравится вам больше, чем остальные.
— И что из этого следует?
Эмили поняла, что выпрашивает комплимент, но почему-то остановиться уже она не могла:
— Должно быть, вам легче с теми, с кем общаться приятней. Или с теми, кто привлекателен внешне. То есть, кто вам кажется привлекательней.
Доктор сильней сдвинул брови:
— С какой стати это должно иметь отношение к лечению?
И Эмили спросила храбро и напрямик:
— Вы женаты, доктор Ричардс?
— Право же, миссис Брюэр, я вынужден просить вас прекратить задавать мне подобные вопросы. Если вам необходимо высказаться, вам следует побеседовать с доктором Айзенбаумом по профилю «Беседа через лечение».
— Разумеется, — сказала Эмили, вынужденная отступить.
Она почувствовала внезапное, необъяснимое желание расплакаться. В конце концов, подумала она, они были правы: я просто глупая, истеричная женщина.
Авто ожидало ее снаружи, но Эмили велела Биллиту отправляться домой без нее:
— Я зайду в универмаг «Джон Льюис», — сказала она.
Идя в южном направлении по Харли-стрит, она была поражена, как много женщин входят и выходят из этих зданий. Сколько же из них находились там по той же самой причине? Казалось просто непостижимым, чтобы все они попадали в эти громадные комнаты с высоким потолком и рыдали там до истерических припадков.
Эмили шла вперед, пересекла Кэвендиш-Сквер, потом повернула по направлению к Риджент-стрит. Это была граница респектабельного Лондона: сразу же на восток располагались трущобы Фитцровии, а на юге был Сохо. Бросив взгляд на Мортимер-стрит, Эмили заметила стайку проституток, стоящих вдоль ограды, легко узнаваемых по своим грязным, старомодным платьям, с лицами, размалеванными, как на карикатурных изображениях мюзик-холла. В прежние времена она бы подошла, заговорила с ними, бесстрашная в своем энтузиазме их спасти, но теперь она уже не так держалась за свои прежние убеждения.
Эмили не пошла в «Джон Льюис»: обычной прогулки ей давно не хватало, представилась возможность развеять тяжесть после лечения доктора Ричардса. И, если честно признаться, еще и некоторое чувство неловкости, постыдное осознание, что в нем она вызвала чувств не больше, чем если бы он лечил какую-нибудь шишку на пальце ноги или перелом. Как просто спутать внимание с влюбленностью. То же вышло и с Артуром. Эти мужчины не то чтобы не любили женщин, просто в голове у них засел шаблонный образ того, какой должна быть женщина, и любое отклонение от нормы требовало их вмешательства, как будто ты — часы, стрелки которых необходимо устанавливать на точное время.
Словно потехи ради, она прошла прямо под гигантским рекламным щитом «Кофе Кастл». На нем невеста и жених в подвенечных нарядах чокались друг с дружкой чашечками «Кастл». Надпись гласила: «ДАЮ ОБЕТ… подавать ему „Кастл“. Этого хочет каждый супруг!»
Если бы, подумала Эмили, в замужестве все было так просто.
Шум на противоположной стороне улицы привлек ее внимание. Небольшая группа женщин собралась на тротуаре. Одна из них держала в руках плакат: «НЕ СЛОВО, А ДЕЛО!». Лозунг настолько совпал с тем, о чем Эмили сейчас думала, что, казалось, кто-то написал его специально для нее. Она поняла, что это суфражистки. Две других разворачивали транспарант, на котором черной краской было выведено: «Право голоса для женщин». Группа огласилась громом одобрения, что побудило нескольких прохожих остановиться и уставиться на них. Чтобы не заметили, что она посматривает на происходящее, Эмили отвернулась и стала наблюдать отражение происходящего в витринном стекле.
— Ты за покупками, сестра?
Вопрос исходил от женщины, оказавшейся рядом с Эмили.
— Нет, вовсе нет. Просто иду домой.
— Ну, тогда позволь, мне надо кое-что. Отойди, пожалуйста.
Подняв руку, женщина резко подалась к витрине. Эмили отскочила, но тут увидела, что женщина всего лишь спрятанной в руке помадой чертит с наклоном громадную букву «V».[57] В считанные минуты тот же лозунг, что и на плакате, был выписан кроваво-красными буквами во всю витрину.
По всей улице прокатились возмущенные возгласы и крики, поскольку и другие витрины постигла та же судьба. Послышался звон разбитого стекла. Раздался полицейский свисток. Рядом кто-то завопил: «Э-эй, сюда!» Какой-то человек указывал прямо на Эмили с незнакомкой. «Вон, одна из этих!» Тотчас в глазах женщины мелькнул страх.
— Быстро, берите меня под руку, — сказала Эмили.
Она шагнула к незнакомке и просунула ее руку через свой локоть. Потом развернула ее лицом к улице.
— Глядите вон в ту сторону, как будто и вы что-то увидели, — велела она. — И при этом стойте на месте.
Понятно, четверо мужчин с громким топотом пробежали мимо них, направляясь в ту сторону, куда смотрели обе женщины. Эмили почувствовала, как незнакомка напряглась; но вскоре расслабилась.
— Думаю, они не вернутся, — сказала Эмили.
— Спасибо! — Глаза женщины победно сияли. — Мы им выдали за нашу свободу!
— Но какое отношение витрина магазина имеет к избирательному праву?
— Довольно пустых разговоров. У нас теперь новое объединение. Мы хотим устроить шум своими действиями. Иначе так ничего и не добьемся.
— Но тем, что вы собираетесь устроить шум, вы только раздразните мужчин, и тогда они ничего вам не предоставят.
— Предоставят?
Теперь она шли прямо к Пиккадилли, женщина уверенно шагала вперед, как будто знала, куда теперь идти. Почему-то, однако, свою руку от руки Эмили она не отняла.
— По-вашему, равноправие — это подарок? Как букет роз, как новая шляпка? Нет. Это наше право, и чем дольше мы будем вежливо его просить у мужчин, тем прочней мужчины будут утверждаться в ложном представлении о нас. У вас есть деньги?
— Я замужем.
— Но ведь раньше вы располагали собственными деньгами? Вы же платите налоги. Ни один современный политик не признает налогоплательщиком того, кто нигде не представлен, — пока речь не заходит о женщине. Почему им позволительно брать с нас деньги, если мы не имеем права указать им, на что их потратить?
— Поверьте, — сказала Эмили, — я горячо ратую за равноправие женщин. Я сама многие годы была активным членом Союза. Просто я не убеждена насчет идеи устроить шум.
— Тогда приходите к нам на собрание, и мы вам это докажем. Сегодня вечером, если сможете.
Эмили колебалась. Незнакомка нетерпеливо проговорила:
— Вот, я напишу вам адрес. — Она начеркала что-то на визитке, протянула Эмили. — Мы пробудим в женщине силы!
Почти тот же лексикон использовал доктор Ричардс. И тут еще одна деталь бросилась Эмили в глаза. Незнакомка, казалось, была преисполнена большей энергии от своего вандализма, чем она, Эмили, после лечения доктора Ричардса.
Внезапно в ней что-то всколыхнулось.
— Хорошо, — сказала Эмили. — Я приду.
«Жгучий» — горький привкус угля, обычно возникающий из-за пережаривания зерен.
Возвращение домой заняло у меня два года. Так вышло, что моя попытка совершить путешествие через Судан, случайно совпала с небольшим военным столкновением между Британией и Францией, впоследствии известном как Терудский инцидент.[58] Я открыл в себе способности писать иностранные репортажи, и угроза голода была снята, по крайней мере на некоторое время. Из Египта я подался в Италию. Провел лето на берегах озера Комо; именно в этот период я закончил и уничтожил рукопись романа про человека, который влюбляется в рабыню. Книга получилась чудовищная, однако процесс написания явился очередным этапом отторжения всего этого от себя, и когда языки пламени охватили последнюю страницу, я понял, что наконец избавился от наваждения.
Ибо за время своего долгого возвращения я открыл для себя нечто важное. Я любил Фикре. Возможно не той любовью, какой она заслуживала, но с безграничной плотской страстью, и даже немного сильней. При всем случившемся, я обнаружил, что желаю ей счастья. Быть может, это было не такое великое событие, как, скажем, присвоение озеру имени королевы Виктории или определение истока Нила. Но для меня это было освоение новой территории, теперь явно обозначенной на прежде незаполненном атласе моего сердца.
За время моего отсутствия Лондон подвергся очередному обновлению. Как раз под конец века в считанные месяцы поочередно скончались Оскар Уайльд, Джон Рёскин и королева Виктория. Один за другим провожая предшественника, все три почтенных викторианских ферзя проследовали на кладбище. Ныне Патер и Теннисон уступили место глашатаев Дж. М. Барри[59] и Г. Дж. Уэллсу. Улицы были заполнены транспортом, который Пинкер поименовал автокинетикой, а ныне известным как автомобили. Электрофон превратился в телефон. Теперь можно было посредством последнего вести разговоры по всей стране, и даже звонить в Америку. Изменилась также и атмосфера — сам неподвластный определению аромат города. Лондон был теперь отлично освещен, отлично ухожен и отлично упорядочен. Богема, декаденты, денди — все ушло, изгнанное из полумрака ярким электрическим светом улиц, и на их место пришел респектабельный средний класс.
Я намеревался не показываться в Ковент-Гардене. Но старые привычки отмирают тяжело, и вот появилось дело на Флит-стрит, что и повлекло меня в том направлении, — мне удалось пристроить несколько небольших репортажей о своих путешествиях. Я вышел из здания «Дейли Телеграф» с чеком на двенадцать фунтов в кармане. Почти автоматически ноги привели меня на Веллингтон-стрит. Там также многое изменилось — на месте сплошных обителей наслаждения появились магазины и рестораны. Правда, дом номер 18 по-прежнему как был, так и остался. Даже меблировка в зале ожидания на первом этаже была та же, и если мадам меня не признала, так это к лучшему, — ведь и я не был убежден, что это именно она.
Я выбрал девицу и повел ее наверх. Она также была новенькая, но достаточно уже поднаторевшая в своем ремесле, чтобы сообразить, что мне ее болтовня ни к чему, и, после изумленного возгласа при виде странной татуировки у меня на груди, она тут же позволила мне приступить к делу. Но что-то пошло не так. Сначала я подумал, что я просто лишился практики. Потом понял, в чем дело: мне почему-то показалось странным вступать в половой акт, не делая попыток доставить партнерше удовольствие. Я пытался вспомнить, как это у меня получалось раньше, в прежние годы. Может, я просто принимал на веру, что все их стоны и хрипы означают, что я продвигаюсь надлежащим образом?
Потянувшись рукой, я погладил ее в разных местах: она услужливо прерывисто задышала, но это была игра. Я попытался усилить поглаживания и потирания, и мне показалось, будто у нее это вызвало недоуменный вздох.
Я остановился:
— Не сделаешь ли кое-что для меня?
— Конечно, сэр. Все, что пожелаете. Правда, вам придется немного приплатить…
— Это не… услуга. Или, во всяком случае, не то, что ты обычно исполняешь. Я хочу, чтобы ты показала мне, что мне сделать, чтобы тебе было приятно.
Она села в постели, провела руками мне по плечам, потерлась мягкими грудками о мою грудь.
— Вы и так делаете мне приятно своим большим членом, сэр, — выдохнула она. — Когда он входит такой твердый и сильный.
— Хотелось бы верить. Но когда я касаюсь тебя… вот тут… слегка. И вот так провожу пальцами… тебе это нравится?
— У-у-у-х! Просто блеск, сэр. Продолжайте! Продолжайте!
Теперь уже вздох издал я:
— Да нет же, ты правду скажи!
Она была явно смущена. Я подумал: бедняжка не знакома с правилами этой игры. Пытается сообразить, что ответить.
Наконец она неуверенно сказала:
— Все, что вы делаете, мне нравится.
— У тебя есть парень? Любовник? Как он это делает с тобой?
Она недоуменно повела плечами.
— Ложись! — велел я. — Сейчас я буду тебя ласкать, а ты скажешь, когда тебе приятней.
По-прежнему сбитая с толку, она опустилась на спину и предоставила свое тело моим пальцам.
— Послушайте, сэр, — сказала она через некоторое время, — зачем вам все это надо?
— Я хочу понять, как сделать, чтоб женщине было хорошо.
Наступила пауза. Потом совершенно другим тоном она произнесла:
— Вы правда хотите знать?
— Разумеется. Иначе бы не спрашивал.
— Тогда дайте еще фунт, я вам скажу.
— Хорошо. — Я достал деньги.
Она спрятала их в надежное место. И снова взобравшись на постель, сказала:
— Вот вы сейчас это и сделали.
— Это? Ах, вот оно что… — Я улыбнулся. — Деньги.
— Они, мистер. Теперь вы меня удовлетворили по горло.
— Я имел в виду постель.
Она развела руками:
— Мне без разницы.
— Но, предположим, — не унимался я, — мне хочется, чтоб ты почувствовала… то, что чувствуют твои клиенты. Что тогда бы я должен был сделать?
Она покачала головой:
— Нет уж, так у нас не пойдет, ясно? Тогда бы я лишилась работы. Если женщине надо то же, что надо мужчине, то ей здесь не место.
— А знаешь… ты права, — сказал я, пораженный произнесенной ею глубокой истиной.
— Ну, ведь я просто говорю, как оно, черт побери, есть. — Она кивнула на мой член. — Хотите, я его вам выдрочу? Вы уж оплатили это.
Хотелось бы мне сказать, будто этот эпизод завершился моим благородным отказом от ее предложения и что беседа, которую мы перед тем имели, была мне куда ценней, чем дрочливый оргазм. Но я бы погрешил против истины.
Интересный факт — когда я уходил, она сказала:
— Знаете, мне понравилось с вами разговаривать. Если захочется, приходите еще.
— И денег побольше приносить?
— Этого тоже! — засмеялась она.
Мне она понравилась. С тех пор я больше ее не видел, но мне она понравилась. Однажды солнечным днем мы с ней откровенно пообщались несколько минут и не без приятности, потом сделали свое дело и разошлись в разные стороны. Возможно, подумал я, большего от цивилизованной жизни и желать нельзя.
В печати появились мои статьи, а через пару недель я понял, что это пора отпраздновать. Я получил приглашения в частные дома на soirées,[60] где ожидалось, что я буду щекотать нервы всему обществу байками о кровожадных дикарях и об экзотическом своеобразии Африки, аккуратно упакованными в пошлые обертки, которыми Торговля в один прекрасный день преобразила лицо прежней Европы. Я был разочарован. Меня вынудили убрать из собственных статей личное суждение, иначе столкнусь с тем, что их не возьмут в печать, но в гостиных Мейфэра и Вестминстера я был менее осторожен. Я подчеркивал, что единственные кровожадные дикари, которых я встречал, имели белую кожу и носили защитного цвета униформу французской и британской армий. Что то, что мы именуем Торговлей, это попросту продолжение рабства, только более изощренная его разновидность. Что аборигены, среди которых я жил, оказались на свой лад не менее образованными, чем любое цивилизованное общество, с которым я сталкивался в Европе. Меня выслушивали вежливо, временами обмениваясь многозначительными взглядами, после чего произносили примерно следующее:
— Но все-таки скажите, мистер Уоллис, что же нам делать с Африкой?
И я отвечал им:
— Да ничего не делать. Нам надо оттуда уйти; сказать себе, что ни единая ее часть нам не принадлежит, и просто взять и уйти. Если нам захочется африканского кофе, мы должны платить африканцам за то, что выращивают его. А если надо, то и слегка переплатить, чтобы у них появилась возможность самим запустить дело. В конечном счете, мы все от этого выиграем.
Не такого ответа они ждали от меня. Лондон в ту пору был охвачен странной кофеманией. Теперь в картель выращивающих кофе стран вошло и правительство Бразилии, и оно поддерживало мировые цены с помощью громадных займов у Лондонской Биржи. Число заявок обычно в считанные часы после распределения возрастало, и поскольку цена поднималась все выше и выше, народ кидался вкладывать средства во все, во что только можно вложить. Никто и слышать не хотел, что это экономическое чудо построено на страданиях и несчастьях, и обычно те, кто в начале вечера ловил каждое мое слово, теряли к моему рассказу интерес задолго до его окончания. Меня это устраивало: я приходил к ним не ради завоевания популярности.
Но порой я, еще и не успев рта раскрыть, ловил также и косые взгляды: мамаш, которые спешили увести своих незамужних дочек; мужей, оттеснявших жен подальше от меня. Видно, я был им не по вкусу, и не только по причине своих взглядов на Африку.
На одном из таких сборищ я снова повстречался с Джорджем Хантом. Мой старый приятель растолстел, расплылся: теперь у него был свой журнал, литературный журнал с названием, кажется, «Современный взгляд» или что-то в этом роде. После того, как своими современными взглядами я разогнал всех своих слушателей, мы вместе с Хантом отправились в его клуб и уединились там в красивой гостиной на первом этаже. Он заказал бренди и сигары.
Некоторое время мы толковали о том о сем, как вдруг он неожиданно спросил:
— Ты был знаком с Рембо?
— С кем?
— С Артюром Рембо, французским поэтом. Будто ты его не знаешь!
Я недоуменно пожал плечами.
— Но это непостижимо. Он обосновался в Хараре, как и ты, тоже торговал кофе; правда, он работал на какую-то французскую компанию. У него потрясающие стихи, но, кажется, к тому времени он уже перестал их писать. Большую часть своих стихов он написал в юности, когда состоял мальчиком для утех при этой старой жабе — Верлене, тут, в Лондоне… — Хант осекся. — Ты в самом деле ничего про него не знаешь?
— Один человек мне про него что-то рассказывал, — сухо сказал я. — Стыдно признаться, но я тогда ни слову не поверил. Нет, мы с ним не пересеклись. Он покинул Харар до моего приезда. Кстати, я арендовал дом, в котором он жил.
— Невероятно! — Хант махнул клубному официанту, чтобы принес еще бренди. — Ну, разумеется, во время его пребывания в Хараре также не обошлось без некоторого скандала. Ходили слухи про какую-то местную его сожительницу, какую-то рабыню, которую он выкупил у арабского торговца, ну и бросил ее, когда вернулся во Францию. Но, говорят, к тому времени он уже был полная развалина.
Я медленно кивал. Что-то щелкнуло в мозгу, и внезапно мой роман снова возник из небытия. Она говорит по-английски как французы… Чему еще тот человек мог научить ее? Знанию того, что некоторые способны нагло лгать ради любви? Но над этим стоит поразмышлять в иное время, наедине с самим собой.
Хант затянулся сигарой:
— Воображаю, что там это вовсе не является большой неожиданностью. Несомненно, ты и сам имел приключения подобного рода?
И он кинул на меня алчный взгляд.
— Что, его стихи действительно хороши? — спросил я, пропуская его вопрос мимо ушей.
Хант пожал плечами:
— Они революционны, а в наши дни это имеет значение. Vers libre[61] — теперь все им пишут. В данный момент немалый интерес вызывают поэты-ирландцы, ну, потом есть еще и американцы, теперь каждый хочет быть Уитменом. Английская поэзия канула в вечность. — Он стряхнул пепел на блюдце. — Но ты ведь собирался мне рассказать про твои похождения?
— Разве? — отрывисто бросил я.
— Помнится, ты как раз в то время мне писал… По-моему, ты тогда влюбился в какую-то туземку, что ли? — не унимался Хант. Он обвел вокруг глазами. — Ну же, дружище. Никто нас здесь не услышит. И, разумеется, я никому не стану пересказывать ничего из… всяких любопытных пикантностей.
Внезапно до меня дошло, почему я стал объектом стольких неодобрительных взглядов.
— Так обо мне уже ходят сплетни?
Хант самодовольно хмыкнул, но тотчас спрятал улыбку, сообразив, что если сплетни и могли пойти, то только от него.
— Поговаривают, Роберт, поговаривают. Но ведь это правда, была ведь такая туземка? Готтентотская[62] Венера?
— Была одна, — сказал я. — Я действительно воображал тогда, что влюблен в нее.
— Понятно. — Хант, снова пыхнув сигарой, внимательно смотрел на меня сквозь облако серого дыма, плотного и мягкого, как шерсть. — Возможно, этот сюжет ты бы предпочел передать на бумаге? Имей в виду, авторы мне нужны.
— Поэтический дух во мне иссяк.
— Совсем необязательно иметь в виду поэзию. — Взявшись за свой бренди, Хант, обращаясь к его янтарным глубинам, сказал: — Я ведь не только издаю «Взгляд». Есть еще также и книги для заинтересованного мужского чтения. Их я в Париже печатаю.
— Ты имеешь в виду порнографию?
— Если угодно. Я подумал, возможно, теперь, раз ты сделался писателем и к тому же, вероятно, стеснен в средствах… А африканская тема может быть воспринята «на ура». Я слыхал, у африканских женщин кровь куда горячее, что они просто нечто из ряда вон. Как насчет негритянской Фанни Хилл или «Моей тайной жизни» среди туземцев? Знаешь, отлично будет продаваться.
— Не сомневаюсь, — сказал я, отставляя свой стакан. — Но меня от такого авторства уволь.
Внезапно на меня накатил приступ тошноты. Дым сигары проник мне в горло, едкий, неприятно щекочущий. Я встал:
— Спокойной ночи, Джордж! Ищи себе другого болвана, чтоб писал тебе твои пикантности.
— Погоди! — быстро сказал Хант. — Да не ершись ты, Роберт! Должен же ты понимать, что на твои рассказы про Теруду вечно не проживешь. А своих авторов я холю и лелею. Тут статейка, там стишок… Ты как раз такой человек, которому могло бы пойти на пользу, если его будут читать на наших страницах. Имей в виду, мы публикуем стихи Форда Мэдокса Форда.
— Да пошел ты, Джордж!
Он криво ухмыльнулся:
— Не будь же ты таким старомодным!
Я уже шел к выходу, когда он выкрикнул мне вслед:
— Иногда встречаю дочку Линкера!
Я остановился в дверях.
— Весьма удачно вышла замуж. За одного безнадежно упертого зануду. Там тебе совсем ничего не светит.
Не оборачиваясь, я продолжил свой путь.
Эмили являла собой целую главу в моей жизни, которая, я понимал, была завершена. Но отец ее — дело другое. Я отправился в Лаймхаус и передал в его контору свою визитку.
Он заставил меня ждать — что было понятно. Но скучать мне не пришлось. Сидя в одной из приемных, я наблюдал за бесконечной процессией грузчиков и складских рабочих, следовавших друг за дружкой мимо меня с джутовыми мешками за спиной. Даже не вереницей, они шли строем: каждый, чеканя шаг, направлялся туда, где снаружи застыла в ожидании цепочка вагонеток. Я недоумевал, с чего бы не держать мешки на складе; хотя, возможно, склад теперь предназначался для иных нужд.
Вдруг я заметил знакомое лицо. Это был секретарь Дженкс, хотя, судя по его внешнему виду, он теперь занимал более значительную должность: за ним, сновавшим взад-вперед, управляя погрузкой, бегали по пятам двое помощников.
— Дженкс! — окликнул я.
— А, приветствую, Уоллис! Мы слышали, вы вернулись. И волосы постригли.
Мне странно было это слышать: со времени нашей последней встречи я стригся уже десятки раз.
— Все думали, когда мы вас повидаем.
Говоря, Дженкс продолжал пребывать в движении, так что, уподобившись его помощникам, и я вынужден был, поднявшись, следовать за ним.
— Туда, — велел он одному из них. — Вот туда, на второй этаж. Видите? — бросил он мне. — Расширились еще, по крайней мере, на пятьсот квадратных футов.
Я остановился, пораженный открывшейся картиной.
Склад был не просто полон: он был забит до отказа. С каждой стороны мешки кофе стеной высились до самого потолка. Окна отсутствовали — лишь пара узких щелей остались на невообразимой высоте, поскольку штабели мешков плотно закрыли окна, лишь скудные лучики света проникали внутрь. Стиснутые громадными колоннами мешков, виднелись узенькие проходы, петляющие коридорчики, лестницы из мешков, норки-туннели… на одном только этом складе мешков хранилось, должно быть, более пятидесяти тысяч.
Рядом с собой я увидел раскрытый мешок. Потянувшись, зачерпнул несколько зерен, понюхал.
— Индийский «типика», если не ошибаюсь.
— Ваше обоняние как всегда безупречно, — кивнул Дженкс.
Я окинул взглядом горы мешков, терявшихся во мраке.
— И это все один сорт? Для чего столько?
— Поднимитесь-ка лучше наверх, — сказал Дженкс.
Пинкер сидел за своим письменным столом. Телеграфный аппарат бормотал себе что-то; Пинкер, подхватывая ленту, то читал на ней какие-то знаки, то бросал, то почти тотчас вновь подхватывал, читая новые знаки, будто отпивал по глотку от быстро текущей реки.
— А, вот и вы, Уоллис. Наконец-то вернулись, — проговорил он так, как будто я явился к нему со званого обеда в Вест-Энде. — Ну, что Африка?
— Африка обернулась неудачей.
— Как я и предполагал.
Он по-прежнему почти не поднимал на меня глаз, продолжая перебирать пальцами необычную печатную строку, исторгаемую машиной.
— Ваш склад отменно заполнен, — заметил я, поскольку Пинкер снова замолчал.
— Вон тот? — Он как будто удивился. — Это ничтожная малость. Вы посмотрели бы на бондовые хранилища. У меня теперь их четыре. Каждый больше этого, все забиты до предела. Придется арендовать дополнительное помещение, пока все это не закончится.
— Закончится? Что именно?
Тут он на меня взглянул, и я поразился его внешнему сходству с Эмили. Но только глаза у него как-то странно блестели — нервно, возбужденно.
— Моя армия, Уоллис, почти готова выступить, — сказал Пинкер. — Мы вот-вот войдем в силу.
Он сообщил, что сделал некое открытие. Наконец-то он пришел к мысли, что рынок кофе цикличен. Если цена взлетает, владельцы плантаций сажают больше кофе, но поскольку саженцам до начала плодоношения требуется четыре года, на рынке это почти не сказывается. Но вот через четыре года после подъема цен возникает избыток; тот кофе, который высаживался в годы нехватки, поступает на рынок в количестве, превосходящем прежнее, и переизбыток неизбежно вынуждает цену упасть, тогда владельцы плантаций либо бросают свое занятие, либо переключаются на выращивание чего-то еще. Через четыре года подобное положение вызывает очередную нехватку; цены повышаются, и плантации кофе расширяются снова.
— Восьмилетний цикл, Уоллис. Неколебимый и непреложный, как пребывание и убывание луны. Картель может завуалировать его, но изменить не в силах. И, едва осознав это, я понял, что прижму его.
— Кого?
— Да Хоуэлла, конечно же! — Физиономия Линкера растянулась в улыбке. — Скоро он у меня взвоет! — Он осекся, и даже как будто удивленно произнес: — Это вы меня надоумили, Роберт.
И Линкер сказал, что ждал годы, пока весь цикл, завершившись, не дойдет до точки, когда цена окажется под давлением естественной периодичности рынка.
— И что, этот момент наступил сейчас? По-моему, общее мнение в Лондоне таково, что цены будут расти.
Линкер развел руками:
— Правительство Бразилии считает, что будут. Они выработали новую схему, именуют ее ревальвация. Забирают крупные займы, чтобы скупать у своих фермеров кофе и таким образом расчищать ему путь на рынок. Но долго это не продержится. Рынок как река: можно только на время перекрыть ее плотиной, но если вода плотину прорвет, то все сметет следом.
Он подошел к карте мира, которая покрывала одну из стен.
— Я уже произвел некоторую подготовку, Роберт. Вы наблюдали кое-какие результаты внизу — но это лишь то, что с виду. Но самое главное то, что не на поверхности. Сети — союзы — объединения. Арбакль на Западном побережье. Эгберт в Голландии. Лавацца в Милане. Если уж действовать, то заодно.
— Вы образовали некий картель?
— Нет! — Линкер резко повернулся ко мне. — Мы создали как раз полную противоположность картелю, ассоциацию компаний, которые верят в свободную торговлю, в свободное движение капитала. И вот в такой благоприятный момент вы присоединяетесь к нам.
— Н-но-о… Я пришел вовсе не просить у вас работы. Просто хотел извиниться.
— Извиниться?
— За то, что так вас подвел.
Он сдвинул брови:
— Но у меня все обстоит прекрасно. Эмили благополучно вышла замуж. Разумеется, гибель Гектора была трагедией для нас — но это все он сам себе устроил: чего не случается в жизни. А в данный момент, Роберт, мне необходим человек с вашим профессиональным знанием кофе.
— То, что у вас на складе теперь, вряд ли можно назвать кофе.
— Верно. Но знаете, что я вам скажу? Благодаря нашей рекламе покупатель считает, что вкус у нашего кофе лучше, чем у изысканного «арабика». Если рядом поставить чашку кофе «Кастл» и чашку харарского «мокка», покупатели непременно выберут «Кастл». Получается, что вести домохозяйку за нос гораздо легче, чем мужчину за то, что спрятано у него в штанах.
— Вы презираете своих покупателей? — в удивлении произнес я.
— Вовсе нет, — замотал головой Линкер. — Я вообще к ним равнодушен. В успешном бизнесе нет места сантиментам.
— Как бы то ни было, мне здесь делать нечего. Отныне я намерен зарабатывать на жизнь своим пером.
— Ах, ну да — читал я ваши статейки. Забавно написано; правда, не без некоторых погрешностей. Послушайте, Роберт, я совершенно не вижу причины, почему бы вам не продолжать писать в газеты и одновременно работать на меня. Это даже, может быть, вам не без пользы. Я бы мог предложить новые неизведанные области, скорректировать ваши взгляды на некоторые вещи…
— Не думаю, что мне это подойдет.
— Стало быть, вы намерены со мной рассчитаться, — сказал Пинкер. Произнес он это, почти не меняя тона, но глаза блеснули недобрым огнем, чего прежде я в нем не замечал. — Три сотни в год, столько ведь я вам платил? И сколько вы продержались, а? Пол года? Словом, вы должны мне одну тысячу, мелочиться не будем. — Он протянул мне руку. — Можете оплатить чеком.
— Я не смогу заплатить вам, — тихо сказал я.
Пинкер усмехнулся:
— В таком случае, лучше вам до лучших времен задержаться у нас.
Выходя, я снова столкнулся с Дженксом. Мне показалось, он меня дожидался.
— Ну что? — спросил он.
— Вроде бы, он хочет, чтоб я снова у него работал.
— Рад это слышать, Уоллис.
— В самом деле?
— Ну да, — Дженкс вздохнул. — Старик… знаете, иногда мне кажется, что он ведет себя несколько странно. Может быть, вместе с вами мы сумеем… урезонить его что ли.
Любопытно, но Пинкеру, казалось бы, и занять меня было нечем. Временами он призывал меня к себе, чтобы прочесть лекцию о пороках фиксированных цен или о биржевых беззакониях. Иногда он заставлял Дженкса приносить мне вырезки, превозносившие бразильский метод, называвших, например, его «моделью будущего процветания, которая, несомненно, должна быть активно использована теми, кто стремится придать стабильность торговле сахаром, резиной, пальмовым маслом и всеми прочими товарами мирового рынка». На полях рукой Пинкера было приписано: ИДИОТЫ.
Однажды, разразившись наиболее едкой критикой в адрес своих оппонентов, он, окинув меня взглядом, сказал:
— Записывайте, Роберт. Если сейчас не запишите, потом ни за что не сможете вспомнить.
— Но мне, право, ни к чему это запоминать.
— Запишите, — настоятельно приказал он. — Когда придется подробно все описать, гадать вам уже не потребуется — все аргументы будут у вас под рукой.
— Все описать? — переспросил я, в тот момент озабоченный лишь тем, чтобы вспомнить, в каком кармане у меня перо.
И вдруг я понял, что он имеет в виду и почему я ему нужен.
— Он хочет сделать из меня своего биографа, — сказал я Дженксу, когда мы остались с ним наедине.
— Он думает, что делает историю, — кивнул Дженкс. — Он всегда так считал. Раньше Эмили записывала его изречения. С тех пор, как она вышла замуж, у него не осталось никого, чтобы записывать.
— Кстати об Эмили, вы не видитесь с ней? — спросил я как бы между прочим.
Дженкс взглянул на меня.
— С чего бы мне с ней видеться? — бросил он холодно, старая неприязнь вновь прозвучала в его голосе. — Она теперь замужняя женщина, у нее свои интересы. Ей незачем общаться с такой публикой, как вы или я.
После этого я выполнял то, что от меня требовалось: заносил высказывания моего работодателя в записную книжку — в ту самую, куда когда-то я записывал свои собственные поэтические пометки.
Я все-таки разузнал кое-какие новости про семейство Линкер. Ада осталась в Оксфорде и вышла замуж за какого-то профессора. Филомена, как говорится, «вышла в свет», стала посещать светские рауты, одновременно влившись в пестрое артистическое сообщество в Блумсбери. Обеим дочерям уже не имело смысла наведываться в отцовские конторы. Что касается Эмили, выйдя замуж, она устранилась от участия в делах отца.
— Теперь ее дело — быть женой, и не просто женой, а женой политика, — сказал Линкер, испытующе глянув на меня, когда я единственный раз упомянул о ней. — Безусловно, ей будет чем заняться, когда появятся дети. А мы в данный момент, займемся-ка делом.
Линкер вел свои дела все в большей и большей степени нетрадиционно. Скажем, практически внезапно разразившаяся забастовка докеров в лондонском порту сковывала вывоз и ввоз кофе. Собственно, это не было уж столь необычно — в те годы забастовки случались часто, — но забавно было то, что забастовки возникали одновременно и в Антверпене, и в Нью-Йорке.
Для обычного владельца магазина цена кофе соответственно возрастала. Кофе держали на судах, ожидавших разгрузки: Темза, Гудзон и Шельда стопорились, как ленты неисправного конвейера. Никто не имел возможности закупать кофе, пока не урегулируются споры, и цена резко падала до тех пор, пока правительство Бразилии не вступало в игру, чтобы поддержать цену.
Тем, кто хранил кофе не в лондонском порту, ситуация трудностей не доставляла: они сбывали его, имея приличный доход. Вспоминая нескончаемую вереницу грузчиков, вышагивающих из пинкеровского склада, я дивился его искусству масштабного планирования.
На той неделе он нажил целое состояние — но это не принесло ему явного удовлетворения. Не к деньгам по сути он стремился; он стремился к победе.
— Это лишь небольшая стычка, Роберт. Мы испытываем, насколько силен противник. Настоящая битва еще впереди.
Он начал обучать нас с Дженксом особенностям функционирования Биржи. Эмили обучала меня дегустации, Гектор фермерству, а Сэмюэл Пинкер учил меня той таинственной алхимии, благодаря которой в Сити наживается состояние.
— В этом месяце мы продали полмиллиона мешков кофе и имеем прибыль по два шиллинга за каждый мешок. Теперь прикинем. Если бы у нас в контракте значилось десять миллионов мешков?
— В цепи поставок нет такого количества кофе, — озадаченно проговорил Дженкс.
— Верно. Но давайте представим гипотетически, что эти мешки есть. Что тогда?
— Тогда бы мы получили прибыли в двадцать раз больше, — сказал я.
— Вот именно, — кивнул Пинкер. — Всего-то чуть нулей добавить. Итак. Нам необходимы эти десять миллионов мешков. Где их взять?
— Что за причуды — чепуха какая-то! — Дженкс вскинул обе руки кверху. — Этого кофе нет, и что бы мы ни говорили, он ниоткуда не возникнет.
— Но он может возникнуть в будущем! — не унимался Пинкер. — Что если мы его из будущего перенесем в настоящее, где он нам более полезен?
Дженкс издал звук, предполагавший, что для него подобный разговор граничит с абсурдом.
— Если у кого-то имеется контракт на поставку такого количества кофе в более поздние сроки… — с расстановкой начал я.
— Ну? — жадно выпалил Пинкер. — Дальше, Роберт!
—.. и если суметь этот контракт купить — тогда стоимость его может расти или падать в зависимости от того, предполагают текущие цены прибыль или неудачу.
— Именно так! — удовлетворенно кивнул Пинкер.
— Но какая от этого польза? — спросил Дженкс.
— Я бы, скажем, предположил — продолжал я, — что производитель мог бы в виду будущего падения цен взять страховку. Он мог бы купить контракт, допускающий снижение цен, и выручить небольшую прибыль, чтобы покрыть крупные потери своего урожая.
— Верно, — сказал Пинкер. — Но не только это, Роберт, не только. Представьте себе это в виде сделки на срок, контракта в четырех измерениях. Такой контракт способен составить даже тот, кто в жизни не вырастил ни единого мешка кофе, — он может всегда при необходимости закупать товар впрок для выполнения условий контракта, но такая необходимость вряд ли возникнет: он может просто, когда подойдет срок, заменить один контракт другим. Он будет растить… — тут Линкер осекся, подбирая нужное слово.
— Будет скорее растить капитал, чем кофе, — подсказал я.
— Но к нам-то какое это имеет отношение? — нетерпеливо спросил Дженкс. — У нас есть кофе — «Кофе Кастл». Народ его пьет. Народ предпочитает наш кофе продукту наших конкурентов. Мы обязаны обеспечивать его постоянное присутствие вот здесь, на этих полках, а не в каком-то там гипотетическом виде.
— Да! — выдохнул Пинкер. — Кофе у нас есть. Вы правы, Саймон, нам не следует неоправданно отвлекаться на долгосрочную сделку. Какие бы фантастические возможности она ни предлагала.
Дженкс считал, что хозяин слегка спятил. В самом деле, некоторые поступки Пинкера были странноваты. Однажды он ворвался в контору, где теперь мы работали вместе с Дженксом, и заявил, что нам необходимо справиться насчет прогноза погоды.
— Простите, насчет чего? — опешив, переспросил Дженкс.
— В особенности, насчет морозов. В Бразилии морозы губят миллионы кофейных саженцев, хотя морозы, по-видимому, непредсказуемы. — Пинкер помолчал. — Что если существует некая система? Возможно даже цикл? Что если… к примеру, засуха в Австралии или тайфун на Ямайке… что если это обстоятельство увеличивает вероятность морозов в горной Бразилии?
— В жизни не слыхал ничего подобного.
— Но все же разузнайте потщательнее! У меня нюх на такие вещи.
Словом, мы связались с различными метеорологическими обществами, а также с рядом странных людей, расхаживающих по Нэрроу-стрит с еще более странными на вид приборами. Один заявился с неким изобретением, в котором дюжина живых пиявок проводками присоединялась к крохотным колокольчикам. Когда атмосферные условия неблагоприятны — а это то, к чему, как владелец уверял нас, особенно чувствительны пиявки, — те сжимаются, заставляя таким образом колокольчики звенеть. Другой утверждал, что погода определяется, как и в гороскопе, взаимосвязью планет; третий уверял, что летние ливни над Тихоокеанским побережьем являются непременным предвозвестником зимних морозов в Бразилии. Пинкер неизменно с сосредоточенным вниманием выслушивал каждого. В довершение бормотал:
— Доказательства! Мне нужны доказательства!
И неустанные поиски очередного шарлатана, пудрившего нам мозги, продолжались.
Иногда Линкер обращался к акциям и ценным бумагам, а также к таким скрытым разновидностям контракта, как финансовые инструменты. Если образно охарактеризовать его, то он более всего напоминал музыканта или дирижера, четкими, ритмичными движениями руки запускавшего в жизнь грандиозные симфонии наличных средств.
Ухо Дженкса не воспринимало этих незримых мелодий. Думаю, он считал себя исполнительным работником, этаким преданным слугой, регулярно обеспечивающим своего чудаковатого хозяина свежей сорочкой и носками. Именно Дженкс имел теперь дело с рекламным агентством, Дженкс поддерживал связи с Сейнсбери и Липтоном. В мире здравого смысла, — в котором женщины покупали кофе, потому что их убеждали, что только образцовые жены его покупают, а владельцы магазинов покупали кофе, потому что это сулило им существенную прибыль, — Дженкс чувствовал себя вполне в своей тарелке. Умственно более изощренный мир Биржи приводил его в замешательство.
Однажды Линкер сказал мне:
— У вас, Роберт, есть финансовое чутье.
— Сомнительно, если учесть, что мне никогда не удавалось и двух дней прожить без долгов.
— Я не деньги имею в виду. Я говорю о финансах — а это совершенно иная материя. И подозреваю, что именно в вашем отношении к долгам и кроется причина. Саймон не способен расстаться с представлением, что занимать деньги скверно, что одолженные деньги должны быть заработаны и полностью выплачены кредиторам. Но в нашем новом мире гипотетического кофе и долгосрочных сделок можно покупать и продавать долги и контракты так же прибыльно, как и торговать кофейными зернами.
Один и тот же сорт кофе, подающийся одновременно разным людям, может отозваться в каждом человеке разными характеристиками аромата. Подобным же образом один и тот же сорт кофе, поданный одному и тому же человеку в разное время, будет оцениваться им несколько по-разному.
И вот, как предсказывал мне Хант, статьям и приглашениям наступил конец. Но оставался еще салон в Пимлико «Домашний уют», куда я и направился, скорее с желанием наполнить желудок канапе и вином, чем вновь рассказывать истории про Теруду.
И там оказалась она.
Она стояла ко мне спиной, но я сразу ее узнал. Она слегка отвернулась от своего собеседника, и, увидев ее в профиль, я понял, что она изменилась. В лице появилась некоторая озабоченность, и волосы, хоть были острижены по новой моде, уже совсем не так блестели.
Она не была в числе тех, кто с интересом слушал меня, но одним из слушателей оказался ее супруг; этот идиот и подозвал ее.
— Позвольте представить вам мою жену. Мистер Уоллис, Эмили, большой знаток Африки.
Ее рукопожатие было кратким, лицо не поменяло выражения.
— Ну, как же, — сказал я, — мисс Линкер и я старые знакомые. Мы оба служили под началом ее отца.
Супруг вспыхнул:
— Теперь она уже не мисс Линкер!
— Разумеется. Примите мои извинения, миссис?..
— Брюэр, — сказала она. — Миссис Артур Брюэр.
— Я бы хотел внести ясность: у отца она не служила никогда, — нервно заметил Брюэр, оглядываясь, не слышит ли кто. — До замужества она обычно помогала ему разбирать бумаги, но, став моей женой, приобрела теперь массу иных занятий.
— Право, — сказал я, — не вижу ничего дурного в том, что человек служит.
Брови ее слегка, еле заметно приподнялись:
— А вы, мистер Уоллис, служите ли?
— Не так активно, как хотелось бы.
— Значит, вы по-прежнему boulevardier?[63] — заметила она с намеком на былую дерзость.
— Я хотел сказать, по времени недостаточно. Ваш отец сохранил меня при себе, но мне у него мало что приходится делать.
— Да, но ведь вы же литератор, — заметил Брюэр. — Я читал несколько ваших заметок об Африке. Они весьма живо написаны, можно даже ощутить запах африканской пыли… — Его понесло, он продолжал стрекотать, тогда как мой взгляд был прикован к его жене.
Да, она изменилась. Бледней румянец на щеках, черты лица обострились. И под глазами темноватые круги, как будто от бессонницы. Во взгляде одновременно появилась воинственность, которой прежде не было.
Брюэр по-прежнему что-то вещал. Он явно не имел ни малейшего представления о том, что мы с Эмили были прежде помолвлены. Как интересно. Почему же она ему не сказала? Впрочем, подумал я, вероятно, любая сохранила бы в тайне то, как бестактно я повел себя в отношении ее.
Положение сложилось безнадежное. Здесь я не имел возможности вступить с ней в разговор. Да и публика начала уже на нас поглядывать — ее муж, быть может, и не знал о наших с ней прежних отношениях, но в зале находились и те, кто знал, и боковым зрением я заметил, как пара женщин уже перешептывается о чем-то друг с дружкой, прикрывая рот рукой. Я повернулся к Брюэру.
— Сэр, я совершенно согласен со всем, что вы только что сказали, и поскольку этот факт вселяет в меня веру, что я наверняка соглашусь со всем, что вам еще предстоит сказать, то, вероятно, продолжать нашу беседу уже не имеет смысла. — Я отвесил поклон его жене. — Миссис Брюэр. Рад был снова встретиться.
Я направился в другую часть зала. Позади меня Брюэр обиженно выдохнул:
— Ну, знаете ли!
Мне было наплевать, что он явно задет: меня заботило лишь одно — последует ли за мной его жена.
Она не пошла, да и не могла пойти, вокруг было столько глаз. К этому я был готов. Я стал обходить зал по кругу, мельком заговаривая с одним, с другим… выискивая глазами, как бы невзначай, какой-нибудь тихий, неприметный уголок.
Она по-прежнему не подходила. Но вот, как раз когда зал стал понемногу редеть, я обернулся и увидел, что она сзади меня, тянется поставить пустой бокал на поднос.
— Скажи мне только одно, — тихо сказал я. — Ты счастлива в браке?
Она напряглась:
— Что за прямолинейность!
— У меня нет времени на дипломатию. Ты счастлива с этим человеком?
Она взглянула в ту сторону, где вдалеке разглагольствовал о чем-то Артур.
— Разве цель брака счастье?
— Воспринимаю это как твое «нет». Могу я увидеть тебя?
После некоторого молчания, она отозвалась:
— Где же?
— Сама назначь.
— Приходи завтра к четырем на Кастл-стрит. — Она поставила бокал на поднос. И добавила, отходя: — Знаешь, Роберт, ты стал очень агрессивен.
На следующий день я пришел туда к четырем, но ее не было. Кафе оказалось на замке, окна прикрыты ставнями, и, судя по атмосфере запустения, это продолжалось уже давно. Я отметил, что хоть Линкер и сменил прежнюю вывеску — «Безалкогольное заведение Пинкера», — суть своей филантропической идеи полностью искоренить он был не в силах. Прямо под окнами сохранилась надпись на черном дереве: «Ибо тот возвеличится в глазах Господа, кто да не пригубит вина или крепкого зелья». Неудивительно, что заведение зачахло.
Я ходил взад-вперед, ждал. Только после пяти она наконец появилась, деловой походкой шагая навстречу мне.
— Сюда, — сказала она, вынимая ключ.
Я последовал за ней внутрь помещения. Мраморные столы были покрыты запыленными скатертями, но кофеварка за стойкой бара была вычищена до блеска. Эмили подошла к буфету, вынула банку с кофейными зернами.
— Они свежие.
— Откуда ты знаешь?
— Сама принесла сюда на прошлой неделе.
Я непонимающе уставился на нее:
— Зачем?
— Захожу сюда иногда одна, выпить хорошего кофе. Дома у нас отвратительный. И к тому же мне необходимо спокойное место, где бы я могла встречаться… кое с кем. Чтобы мой муж об этом не знал.
— Ясно.
Она резко повернулась ко мне:
— Что тебе ясно?
— Я не могу осуждать тебя, Эмили, что ты принимаешь любовников. Бог свидетель, не мне тебя судить.
Она смолола кофе, и его аромат заполнил помещение.
— Есть ли кто у тебя в данный момент? — спросил я.
Она улыбнулась:
— Любовник?
— Что тут смешного?
— Что-то скверно ты стал соображать теперь. Нет, в данный момент любовника у меня нет. У меня просто нет на это времени.
Некоторое время я следил, как она возится с кофе.
— Что это за кофе?
— Я-то думала, сам догадаешься, не придется подсказывать.
Я подошел, вдохнул запах зерен, которые она молола. Он был ароматен, но не отдавал цветочной нотой, как те сорта, которые попадались мне в Африке: этот запах был яркий, с лимонной остротой…
— Ямайский, — сказал я.
— Вообще-то это кенийский кофе — с крупными зернами. Он совсем недавно стал поступать на рынок. Я беру его у одного толкового закупщика в «Спитлфилдс».[64]
— Ну вот, я уже и со второй свой догадкой промахнулся.
Когда кофе был готов, она принесла и поставила его на один из столиков. Я взялся за чашку: помимо лимонного аромата я ощутил в глубине сочный призвук черной смородины.
— Как давно уже не пил я такого замечательного кофе, — произнес я, насладившись. — По правде сказать, удивительно, что у вас еще сохранились такие кафе.
— Они и не сохранились. Не приносили дохода, пришлось закрыть. Но когда я узнала, что новые хозяева собираются опять превратить их в питейные заведения, я настояла, чтоб сохранилось хотя бы это одно. Не думаю, что Артур подозревает о его существовании — его интересуют только акции и ценные бумаги; то, что приносит деньги. — Она вздохнула. — Закон джунглей, так это называется? Выживает сильнейший, все прочие разоряются.
— Проведя некоторое время в джунглях, — заметил я, — могу заверить тебя, что законы там куда сложнее, чем можно себе представить.
Она поставила свою чашку.
— Роберт?
— Да?
— Пожалуйста, расскажи мне, как погиб Гектор!
И я рассказал ей все, как было, не утаивая ничего, кроме некоторых подробностей насчет его глаз и тестикул. Я рассказывал, а она плакала, немые слезы текли у нее по щекам. Он не делала попытки смахнуть их, и хотя мне страстно хотелось сцеловывать их с ее бледных щек, все же я не сдвинулся с места.
— Спасибо тебе, — сказала она, когда я закончил свой рассказ. — Спасибо за то, что рассказал, и за то, что ты сделал. Я знаю, ты не слишком любил Гектора, но я рада, что ты был с ним до конца. Должно быть, это было ему утешением.
— Ты любила его.
— Я была молода.
— Но ты любила его… — Теперь вдруг и я запнулся. — Ты любила его по-настоящему. Не так, как меня.
Она отвернулась:
— Что ты имеешь в виду?
— То, что ты сказала своему отцу в то утро в его кабинете: мы с тобой просто друзья. Не любовники.
Наступила долгая тишина. Откуда-то снаружи внезапно раздался грохот: группка детей пронеслась по улице, колотя палками по чугунной изгороди. Крики, возбужденный вопль, и все стихло.
— Отцу своему я сказала, — проговорила она, — что хочу выйти за тебя замуж. Неужели этого недостаточно?
— Но ты ведь любила Гектора!
— Это все уже давно прошло. И это, полагаю, ты должен быть понять, раз прочел эти письма. Гектор предпочел свободную холостяцкую жизнь. Ты же, — наконец она повернулась ко мне, и взгляд ее был полон укора, — ты довольно скоро влюбился в кого-то там.
— Да. Мне очень жаль.
— Кто она?
— Ее звали Фикре.
— И ты ее… — она выжала из себя ироническую улыбку, — любил по-настоящему?
— Думаю, да.
— Понятно.
— Эмили… В последние годы я многое передумал. Я просил, чтобы ты встретилась со мной, потому что хотел перед тобой извиниться.
— Извиниться?
— Да. За мое письмо. Это было… некрасиво.
— Некрасиво?!
— У меня камень упал бы с сердца, если б ты только смогла простить меня.
— Позволь мне, Роберт, внести ясность, — сказала она, резко ставя чашку на блюдце. — Ты просишь, чтобы я простила тебя за то, какими словами ты разорвал нашу помолвку и только?
— Я убежден, что, наверное, было и еще кое-что…
— Так вот, давай подумаем, что это было за «кое-что», — сказала она. — Ты просил у моего отца моей руки, чтобы жениться на мне, при этом самой мне ни разу не упомянув о своих намерениях на этот счет. После наших с тобой дневных встреч ты каждый вечер проводил в борделях Ковент-Гарден — думал, я не знаю? Дженкс видел тебя там не раз, и, поверь, он не преминул с большим удовольствием сообщить об этом мне. Ты отправился в Африку в состоянии жуткой хандры, и ты писал мне чудовищные письма, в которых давал понять, что тебя заманили в ловушку, и это все еще до того, как ты в кого-то влюбился…
Я тупо смотрел в свою чашку.
— Поверь, я готов сделать все… все возможное… чтобы искупить свою вину.
Она презрительно фыркнула.
— Неужели слишком поздно?
— Слишком поздно — для чего?
— Чтобы нам обоим забыть про все это. Начать снова…
— Ты хочешь сказать… — с насмешкой проговорила она, — чтобы я стала тем… кем та женщина была тебе?
Я взглянул на нее. Ее щеки пошли красными пятнами.
— Пока это между нами не произойдет, — медленно произнес я, — пока наши тела не сольются… это все равно, как, ощущая аромат, не чувствовать вкуса. Как будто просто говорим по телефону. Я хочу обнять тебя, войти в тебя, хочу, чтобы мы оба ощутили… нет, это не передать словами, но, может быть, ты уже поняла… Единственное, что могу сказать: учиться познавать наслаждение, наслаждение любви, это то же, что учиться распознавать вкус и аромат, — возможности ощущений меняются, совсем как если учишься дегустировать кофе.
Наступила долгая тишина.
— Так ты этому научился за время своих странствий, да? — зло сказала она. — Как оскорблять женщину?
— Мне казалось, что если я к тебе после стольких лет испытываю те же чувства, это похвала тебе… — пробормотал я.
— В любом случае такое невозможно.
— Из-за Артура?
— Не в том смысле, как ты это видишь.
— Может, со временем…
— Нет. Ты не понимаешь. Во-первых, я женщина иного сорта. Не возражай, Роберт! И с этим ничего нельзя поделать. Во-вторых, я не могу позволить, чтобы разразился скандал.
— Но как же те, другие? Мужчины, с которыми ты здесь встречаешься?
— Те, с кем я встречаюсь, женщины.
— Ах, вот как… — произнес я озадаченно. — Зачем?
Она посмотрела мне прямо в глаза.
— Нам нужно тайное место сбора, чтобы спланировать действия против закона.
Я по-прежнему ничего не понимал.
— Я — так называемая суфражистка, — сказала она. — Хотя само название ужасно нам всем претит. Газеты пытаются представить нас неумными и необразованными женщинами.
— Ну да. — Я задумался, припоминая. — Какие-то противозаконные выступления уже происходили, ведь так? На стенах писали лозунги, женщины пытались устроить демонстрацию в Палате общин…
— Это были мы. По крайней мере, одни из нас.
— Ну, а если вас схватят?
— Посадят за решетку. Без всяких «если». Это лишь вопрос времени.
— Может, до этого не дойдет?
Она покачала головой:
— Наступит момент, когда движению потребуются узницы — мученицы, если угодно. Ты вдумайся, Роберт: эти «дурочки», эти «суфражистки» готовы на самом деле за свои идеи отправиться за решетку. Тогда никто не сможет сказать, что мы «слабый пол».
— А как же твой муж?
— Он не знает. Хотя рано или поздно ему все станет известно. Но я к этому готова.
— Он захочет развестись с тобой.
— Развестись? Нет, это уронит его в общественном мнении.
— Но… почему все это так важно для тебя? Я имею в виду… этот шанс избрать своего члена Парламента… направить напыщенную ослицу, наподобие Артура, в Палату общин… разве ради этого стоит идти в тюрьму?
Она бросила на меня взгляд, полный твердой решимости:
— Иного пути у нас нет. Они столько раз обещали нам, и каждый раз лгали. Что значит один член Парламента? Может, и ничего. Но если этого нас лишают, если отказываются признать, что мы как человеческие особи имеем столько же прав, сколько мужчины, тогда это важно. Когда армия идет в бой, Роберт, не она выбирает место сражения, а те, кто ей противостоит. Право голоса, представительство в Парламенте — тот плацдарм, который захватили наши противники. Палата представителей — их цитадель. И мы должны штурмовать ее или согласиться раз и навсегда, что в правах мы с ними не равны.
— Я понял.
— Ты поможешь нам?
— Я? — изумленно воскликнул я. — Каким образом?
— Это кафе… я все раздумываю, если наша группа будет разрастаться, нам потребуется помещение вроде этого. Чтобы можно оставлять всякие сообщения, созывать собрания, куда будет приходить интересующаяся публика, желая больше о нас узнать. Я все подыскивала кого-нибудь, кто мог бы стать управляющим этим кафе. Вчера, когда ты сказал, что не слишком загружен, мне в голову пришла мысль, что лучше тебя мне никого не найти. Могу попросить отца, чтобы освободил тебя от работы, по крайней мере, в дневное время. Я уверена, он согласится. А жить ты сможешь над кафе — наверху еще два этажа, они полностью пустуют: тебе это сэкономит средства на проживание.
Я отрицательно покачал головой:
— Польщен, Эмили, но, подумай сама, это просто невозможно. Я начал публиковать свои статьи, в моей жизни стало что-то происходить. С личной свободой расстаться я просто никак не могу.
— Да, да. Все ясно, — сказала она с внезапной злостью. — Надо понимать, когда ты только что произнес, что готов сделать что угодно, только бы заслужить мое прощение, это была очередная поза? Когда ты просил меня спать с тобой, это были только красивые слова? Ты с жадной готовностью рассуждаешь о сексуальном наслаждении — потому что это удовольствие не сопряжено для тебя с ответственностью, просто очередное из твоих «острых ощущений». Помнишь эти слова, Роберт? Так ты описал однажды адресованный мне поцелуй. Слишком поздно я поняла, насколько это чудовищно, — ведь этими словами ты выразил свое отношение ко мне. — Она метнула на меня взгляд: — Пожалуй, тебе стоит уйти.
Мы оба долго молчали.
— Ну, что ж, пусть так, — сказал я.
— Чего ты ждешь? Иди.
Она отвернулась, не желая больше на меня смотреть.
— Нет… я хотел сказать, пусть будет так, я приму на себя твое треклятое кафе.
— Правда? — изумленно воскликнула она.
— Раз сказал — значит, правда. И не спрашивай почему. Похоже, я обладаю дурацким свойством не отказывать никому в вашей семейке.
— Это дело отнюдь не из легких. Если станет известно, что мы тут собираемся… Словом: пока лучше клинок из ножен не вынимать.
— Я уверен, мы справимся.
Ее глаза сузились:
— До тебя дошло, что спать с тобой я не буду никогда?
— Да, Эмили. Я это осознал.
— И жалованье твое будет весьма скудным. Ты уже не сможешь себе позволить обычных многочисленных куртизанок и шлюх. Чему ты улыбаешься?
— Просто вспомнились недавние переговоры с неким Линкером насчет условий моего найма. Я уверен, сколько бы мне ни платили, для моих скромных нужд этого будет достаточно.
— Скромность не то свойство, которое я бы охотно тебе приписала.
— Тогда, возможно, я тебя удивлю. Впрочем, и у меня есть некоторые условия.
— Какие же?
— Настоятельно прошу избавить меня от этих дурацких призывных надписей. Приходящих к нам будет нелегко переубедить, что я вовсе не собираюсь читать им лекции во славу алкогольного воздержания.
— Хорошо. Что еще?
— Никаких кофейных смесей. Какого черта собирать кофе по всему свету, чтобы смешать все сорта в невообразимое пойло.
— Ты всерьез считаешь, что таким образом не прогоришь?
— Понятия не имею. Тебе-то что до этого? По-моему, есть надежда, что в убытке не останусь.
Она протянула мне руку:
— В таком случае, Роберт, мы договорились.
Для разработки подробного лексикона вкусовых ощущений и постижения неисчислимого количества нюансов, прячущихся в тени основного запаха, а также особых вкусовых ощущений, ассоциируемых с понятием кофе, необходим опыт. Обретение такого вида опыта требует времени. В обретении его нет коротких путей.
Эмили ошиблась: наше с ней предложение не вызвало у Линкера особого энтузиазма. Я предположил, что его беспокоила двусмысленность ситуации: замужняя дочь нанимает человека, с которым некогда состояла в близких отношениях. Я подчеркнул, что моя роль будет сведена только к помощи в приведении в порядок помещения: и в конце концов он сдался.
— Хотя, Роберт, запомните вот что. Стрелки часов вспять не повернуть. Наши неудачи лучше позабыть. В будущее с собой мы берем только наши успехи.
Тогда я не был вполне уверен, имеет ли он в виду мои неудачи в Африке или же неудачу в связи с женитьбой на Эмили. То, что был и еще один вариант, мне не приходило в голову еще много лет: возможно, его слова относились вовсе не ко мне, а к нему самому и его собственным отношениям с Эмили.
Последующие недели я весь пребывал в трудах. Надо было надзирать за рабочими, набирать служащих, спорить с адвокатами — возникла краткая юридическая полемика, когда выяснилось, что заведение больше не может называться «Кофе „Кастл“»: в конце концов мы его переименовали в «Кофейню на Кастл-стрит», и это всех устроило. Я познакомился с Фредериком Фербэнком, тем самым закупщиком, который снабжал Эмили кенийским кофе. К моему изумлению, он был наслышан обо мне; более того, был явно польщен знакомством.
— Роберт Уоллис? — вскричал он, пожимая мне руку. — Тот самый, создатель «Определителя Уоллис-Пинкера»? Должен признаться, сэр, что слегка измененная версия вашей системы используется теперь всеми мелкими торговцами кофе. Представляю физиономии моих коллег, когда я им сообщу, что закупаю кофе для Уоллиса!
Мне было странно слышать, что я создал нечто, обретшее свою собственную жизнь. Но особой гордости за авторство я не ощущал: по суш, главным вдохновителем был Линкер, вовсе не я.
Мы с Фербэнком вместе апробировали несколько видов кофе и произвели предварительный отбор. Я был удивлен, как скоро африканцы превзошли Южную Америку в отношении качества и насколько быстрыми темпами процесс влажной обработки зерен опережает сухую обработку. Мы проговорили несколько часов на языке, понятном торговцам кофе, и в результате я заключил, что поставщик Эмили вполне порядочный человек.
Едва кафе открылось, меня тотчас поглотили другие дела: надзор за официантами, уход за аппаратом Тозелли, даже порой при необходимости мытье чашек и прочей посуды. И почти сразу же к нам потоком грянули женщины, жадные до информации. Таких всегда можно было определить по внешнему виду — они проскальзывали внутрь с выражением боязливой решительности, как будто подстегивая себя неотвратимостью такого шага.
Воинствующее суфражистское движение — «Дело», как они сами это называли, — теперь быстро разрасталось, подогреваемое сообщениями газет о событиях в Манчестере и Ливерпуле. Но в своей новой роли кофевара и подручного работника я мог заключить, что не слишком очевидно, чтобы и Лондон последовал в том же направлении. Эмили со своими подругами-конспираторшами долгие часы заседали в дальней комнате, обсуждая разные вопросы: свою конституцию, свою этику, что такое легитимное действие и что нелегитимное, как утвердить свою правоту. Для движения, чьим главным девизом стал призыв: «Не слово, а дело!», пожалуй, слов оказывалось во много раз больше. Они обсуждали, как охватить весь Лондон, но у них, по-моему, для посланий вечно не хватало почтовых марок.
Временами, признаюсь, мне все это представлялось не более чем увлечением — незрелым дамским авантюризмом. Но вот, закончив свои нескончаемые собрания, они надевали шляпки, зашнуровывали ботинки и, вместо того чтобы идти к омнибусу и ехать домой, направлялись в одиночку или парами с ведрами краски малевать лозунги на стенах правительственных зданий или лепить на стены свои манифесты. Молли, Мэри, Эмили, Эдвина, Джеральдина и им подобные становились уже не «ангелами домашнего уюта», но ангелами возмездия. Признаюсь, эти их ночные вылазки вселяли в меня дурные предчувствия. С детских лет мне внушали, что женщина — воплощение слабости, и я понял, что это представление изжить мне нелегко.
— Нечего стоять передо мной с кислой физиономией, — сказала как-то вечером Эмили перед тем, как отправиться расклеивать воззвания на Челси-бридж. — Если боишься за меня, идем с нами.
— Почему ты решила, что я боюсь?
— По тому, с каким усердием ты трешь эту чашку полотенцем, чуть дырку не протер. Право же, я прекрасно справлюсь, но если хочешь, пойдем, во всяком случае, твое присутствие окажется не без пользы, можешь подержать ведро, пока я буду мазать клеем.
— Хорошо. Если я тебе нужен, я пойду.
— Я не сказала, Роберт, что ты нужен, я сказала, что ты можешь быть полезен.
— Есть разница?
— Как сказал бы отец, различие.
Выйдя на улицу, мы — пятеро дам с рулонами прокламаций под мышкой, с небольшими ведерками клея для обоев, с кистями, а также я, — кликнули кэб. Если правительство когда-либо решится подавить этот мятеж, поймал я себя на мысли, ему не потребуется для этого особых усилий.
Мы с Эмили сошли у набережной Виктории. Она принялась расклеивать плакаты — но, несмотря на туман, задувал ветер, и обмазать их клейстером оказалось непросто.
— Одна бы ты ни за что не справилась, — заметил я, когда свернутая рулоном прокламация в четвертый раз покатилась по мосту.
Я бросился ее вызволять.
— Ну, по крайней мере, довольствуйся сознанием того, что пригодился, — сердито бросила она, хватаясь за шляпу.
— Что ты злишься!
— Еще бы не злиться! Никак не лепятся чертовы листки к кирпичной кладке. — Она ткнула мне пачку воззваний. — Если ты такой ловкий, сам лепи!
— С удовольствием!
Я клеил листы, а она стояла на страже.
— «Ка Вэ», — неожиданно произнесла она.
— Что?
— «Ка Вэ». Так говорят, когда является полиция, разве не знаешь?
— A-а… то есть, cave… латынь… — Я бросил взгляд на мост. Как раз в этот момент двое полицейских быстро направлялись от Ламбет-стрит прямо к нам. — Вообще-то, в таких случаях говорят: «Смывайся!»
Прозвучал свисток, топот бегущих ног эхом раскатился по мосту.
— Быстрей! — крикнул я Эмили, подхватив ее под руку.
Мы продвигались к Парламент-Сквер, обклеивая листовками каждое встречаемое на пути общественное здание. Как вдруг у Вестминстерского моста заметили автомобиль, припаркованный у обочины; шофер очевидно отлучился куда-то перекусить. На капоте был прикреплен правительственный флажок.
— Это машина министра внутренних дел Великобритании, — сказала Эмили.
— Ты уверена?
— Абсолютно. Артур с ним знаком. Пойдем, наклеим листовку.
— Что-о?
— Потрясающая возможность, — порывисто выдохнула она. — Он скорее прочтет листовку на собственном автомобиле, чем на мосту. Для верно-ста мы еще и внутрь вклеим.
— Но Эмили… это невозможно.
— Это почему же? — Она уже разворачивала несколько плакатиков.
— Потому что… ведь это же машина. Это великолепный автомобиль! Произведение искусства.
— В таком случае, — сказала она саркастически, — давай побродим по округе, поищем какую-нибудь мерзость и на нее налепим листовку, ты это хотел сказать? Послушай, Роберт, что поделать, если министр внутренних дел предпочитает разъезжать повсюду именно в этой шикарной машине. Мне важней, чтоб он вот это прочел.
— Но подумай о бедняге-шофере… сколько бед ты ему принесешь!
— Неприятно, но что поделать, — сказала Эмили, намазывая клейстер на оборотную сторону чуть ли не пяти листовок. — А ты следи, ладно?
— Но это нечестная игра, — запротестовал я, хотя при этом все же последовал ее указанию.
— Учти, Роберт, — сказала Эмили, прикладывая измазанную сторону листовки к девственному металлу, — что женщина и джентльменство понятия несовместимые. Мы в эти игры не играем, мы ведем борьбу.
— Эй! — раздался окрик.
Я обернулся. Наши старые знакомые полисмены нас вновь засекли.
Мы петляли множеством боковых улочек, пока наконец я не подтащил Эмили в подъезду какого-то громадного дома, под портиком которого было спокойно и темновато. Мы ждали, прислушиваясь. На улицах было тихо.
— По-моему, мы оторвались, — сказал я. — Подождем еще минут пять для верности.
— Правда, здорово? — сказала она.
— Здорово? — с сомнением переспросил я.
— Ты же всегда хотел быть бунтарем. Вот ты им и стал.
— А ты — моя сподвижница.
— Как раз все наоборот. Ты мой сподвижник. И это замечательно.
И удержаться я не смог — эти сияющие глаза, эти подвижные губы, прерывистое дыхание ее вздымавшейся груди… все это так ярко воплощало ожидание поцелуя. И я поцеловал ее.
Она ответила — я уверен, ответила: долгим, непрерывным поцелуем с восторженным придыханием. Но как только я потянулся к ней снова, она остановила меня рукой.
— Мы должны подыскать тебе жену, Роберт, — ровным тоном сказала она.
— Жену, зачем?
— Мы с тобой… мы с тобой ведь друзья, правда? Мы отбросили тривиальность романтических отношений во имя более прочных уз товарищества.
— Не издевайся надо мной, Эмили!
— Не сердись, — она вздохнула. — Я просто хотела… ну, слегка сбавить накал что ли… Ведь я уже определила наши отношения. Мы с тобой партнеры. Если тебе нужно что-то большее, ищи в другом месте.
— Никто мне кроме тебя не нужен, — сказал я, снимая руки с ее плеч.
Постепенно я сделал еще кое-какие изменения в интерьере кафе: увеличил количество столиков, повесил яркие рекламные плакаты вроде тех, какие видел в кафе в Италии и Франции, и пристроил позади прилавка длинную полку для бутылок с абсентом и прочих аперитивов. Эмили перенесла все это без комментариев, но стоило мне потратить недельное жалованье на оборудование обширной экспозиции из павлиньих перьев, она не выдержала:
— Роберт, что это, скажи на милость?
— Нечто в этом роде было в «Кафе Руайяль». Создает особую атмосферу, разве нет?
— Атмосфера, — припечатала Эмили, — это как раз то, в чем мы совершенно не нуждаемся.
— Разве?
— Атмосфера, под которой, я думаю, ты на самом деле подразумеваешь декадентское убранство парижского борделя, — нет, дай мне договорить! — предполагает некую фривольность. Нам нужно проводить здесь беседы и обмениваться мнениями. Никаких перьев и никакой мишуры. По моему замыслу, здесь должно быть нечто наподобие зала собраний методистов: просто, достойно и функционально.
— Кому же тогда будет интересно приходить в такое унылое заведение?
— По-видимому, Роберт, ты упустил из виду, что мы планируем массовый мятеж. Сюда придут интересующиеся политикой, а не любительницы павлинов. Кстати, по поводу твоего абсента: хоть кто-нибудь уже заказывал его?
— Пока что нет, — сказал я. — Твои суфражистки в основном трезвенницы.
— И слава Богу. Словом, подавай кофе, и этим ограничимся.
Я подчинился, но меня не покидала мысль, что суфражистки могли бы, если уж на то пошло, вполне удовлетвориться чаем или даже водой. Даже мой скудный опыт оформителя не мог найти применения в подобном заведении.
Правительство, узнав об успехах суфражистского движения в Манчестере, решило в Лондоне прибегнуть к иной политике — унизить суфражисток. Это подавалось так, будто бунтарки — всего лишь экзальтированные дамочки, не придумавшие ничего умнее, чем препятствовать естественному порядку вещей, что они продемонстрировали на севере страны.
Правительственный пудинг
Возьмем одну свежую суфражистку, добавим крупный ломтик ее самомнения, а также побольше соуса по вкусу; оставим постоять у дверей члена кабинета министров, пока как следует не накалится; без усилий смешаем с парой полицейских, хорошенько обваляем в грязи, и, пока не остыла, — мигом в полицейский участок; дадим прокипеть на медленном огне, украсим мученическим соусом. Цена — минимум собственного достоинства.
— Какая гадость! — сказала Эмили, бросая на стол «Дейли Мейл». — Нас выставляют муравьями, напавшими на носорогов.
— И муравьи способны натворить немало бед, — сказала Джеральдина Мэннерс. — Нам надо устроить демонстрацию.
— Можно не сомневаться, что «Панч» известит своих читателей, что демонстрация — позор для истинных леди, — вздохнув, отозвалась Эдвина Коул.
— Хорошо, не будем называть это демонстрацией. Назовем это шествием — вряд ли они откажут леди в возможности шествовать.
Шествие было назначено на Пасхальный понедельник. Газеты обозвали его «прогулкой валькирий», а также «вылазкой солдат в юбках», но к тому времени эти уколы не оказывали на Эмили ни малейшего воздействия.
— Не возражаешь, если я пойду с вами? — спросил я.
— Пойди, если хочешь.
— Захватить с собой свой клинок?
— Ну, сомневаюсь, что тебе он понадобится. Мы ведь просто организуем процессию. Главное сражение еще впереди.
Они должны были промаршировать — вернее, прошествовать, — от Трафальгар-сквер к Вестминстерскому дворцу. Там женщины собирались передать свою петицию в Палату общин. Эмили не подозревала, сколько соберется народу. По сообщению «Дейли Мейл», собравшихся было двести человек. Откуда они взяли это количество, Бог их знает: предполагаю, вывели среднее между достаточно крупной цифрой, чтоб не оправдываться перед своими читателями, что мелочь попала на страницы газет, и цифрой настолько малой, чтобы участников процессии никак нельзя было назвать представителями значительной части населения.
Мы собрались перед стартом задолго до объявленного времени. Моей первой мыслью было: организовались они неплохо — на площади уже было полно народу. Но тут я с упавшим сердцем обнаружил, как много мужчин среди топтавшегося вокруг люда. Кажущиеся такими беззащитными на зеленом газоне посреди площади полсотни женщин и несколько сочувствующих им мужчин замерли в нервном ожидании.
Как только мы направились через площадь, нас остановил полицейский.
— Эй, если вы не уберетесь отсюда, я арестую вас за то, что мешаете проходу по тротуару, — сказал он Эмили.
Несколько наблюдавших за нами мужчин бурно зааплодировали.
— Я не на тротуаре, — спокойно сказала Эмили.
— А вот и на тротуаре, — сказал полицейский, грубо схватив ее и переместив на тротуар.
Эмили чуть не задохнулась от возмущения. И тут я услышал со стороны мужчин за моей спиной выкрики:
— Да пихни ты ее!
Кучка мужчин рванула вперед, сталкивая Эмили на мостовую.
Потрясенный я крикнул полицейскому:
— Неужели вы позволите им так обращаться следи?
Он взглянул меня равнодушно:
— Леди? А где она, леди?
Нас было не больше шестидесяти, когда мы наконец начали шествие, а с обеих сторон окружала толпа под двести человек. Некоторые грозили кулаками, некоторые выкрикивали оскорбления, но большинство просто глазело на женщин нагло, как на самок. Мало-помалу враждебность толпы переросла в действия. Две женщины несли развернутый транспарант, на котором был красиво вышито: «Комитет текстильщиц Чешира». На моих глазах трое мужчин ринулись к ним. Вырвав транспарант из рук женщин, они стали его рвать и топтать, пока от него не остались лишь плававшие в луже обломки древка и клочки материи. Несколько полицейских, стоя меньше чем в двадцати футах, молча наблюдали за происходящим.
В нашей процессии мужчин было немного, но толпа особенно ополчилась на нас. Сначала я никак не мог понять, откуда эти странные кудахчущие звуки, пока не расслышал сами выкрики:
— Куд-куда, подкаблучник!
— Ступай на кухню!
Я почувствовал, как Эмили на ходу взяла меня под руку.
— Не обращай внимания!
— Напротив, — сказал я. — Как раз подумал, как это приятно, что меня принимают за твоего мужа.
Когда мы дошли до Вестминстера, толпа начала в нас плевать. Некоторые активисты оказались на удивление меткими. Запускаемые со всех сторон сверкающие плевки, пересекаясь, летели в воздухе. Один шлепнулся на обшлаг жакета Эмили, повиснув слизистой, переливчатой брошью.
— Ничего умней не придумали, — угрюмо буркнула Эмили, вынимая носовой платок.
Мы вошли на Вестминстерскую площадь, подпираемые густой толпой. Впереди, перекрывая дорогу к Палате общин, встал конный полицейский заслон. Видно, нам не разрешалось все-таки передать свою петицию, но нам теперь и назад не было пути.
Повсюду вокруг завывание толпы усилилось, поскольку стоящие к нам ближе, воспользовавшись нашим замешательством, ужесточили свои издевательства. И вдруг без всякого предупреждения справа от нас группа мужчин, взревев, набросилась на участниц шествия, принявшись хватать женщин и валить их на землю.
— Почему полиция бездействует?
— Вон, зашевелились наконец. Смотрите!
И действительно: полицейские вынули свои дубинки. Но с упавшим сердцем я увидел, что они вовсе не оттаскивали бузотеров; их мишенью стали суфражистки. Женские крики заполнили площадь. Никуда скрыться мы не могли — метавшаяся в панике вокруг нас толпа была слишком густа, и хоть мы, как морские водоросли среди камней, проталкиваясь, пробивали себе путь вперед, нас неизменно относило на прежнее место. Синие мундиры и их дубинки были уже в двадцати — в десяти футах, уже достаточно им было дотянуться до нас рукой… Я видел прямо перед собой, как ближайший ко мне полицейский с красной, потной физиономией повалил женщину наземь. Она брыкалась, отбиваясь от него, он ударил ее дубинкой по ногам.
— Спрячься за меня! — сказал я Эмили.
— Это не поможет.
— Все равно: давай!
Повернувшись, я прижал ее к себе, подставив спину под синюю волну, уже готовую обрушиться на нас.
Весь в крови, в кровоподтеках долгие часы я сидел в камере: ждал и раздумывал над происшедшим.
Странная штука преданность. Она может быть сознательной — но также может быть и интуитивной, она может быть решением, вынужденным обстоятельствами. У меня не было причин радеть за женское движение. Но я стоял рядом с ними, когда на них напали, и теперь, совершенно внезапно, осознал естественную справедливость всех их попыток. Если, как утверждали газеты, их требования и в самом деле тривиальны, зачем же тогда властям в своем противостоянии доходить до таких крайностей? Если женщины и в самом деле такие хрупкие, бесценные создания, которых пропускают вперед при входе и ограждают от толпы на тротуарах, тогда почему при малейшем проявлении их несогласия надо избивать дубинками? И действительно ли они — слабый пол, или же этот миф придуман мужчинами, чтобы можно было соответственно с женщинами обращаться?
Я все задавал себе эти вопросы, не находя ответа, как вдруг дверь отворилась. В камеру заглянул полицейский и сказал:
— Пошли со мной!
Как был, в наручниках, я был препровожден по коридору в мрачную комнату, выложенную, как в ванной, белым кафелем. Супруг Эмили сидел за стальным столом. Рядом с ним сидел некто с суровым лицом и в черном костюме.
— Уоллис, — сказал Брюэр, презрительно оглядывая меня с ног до головы. — Мне следовало бы догадаться.
— Догадаться? О чем?
Он откинулся на спинку стула, засунув большой палец в жилетный кармашек для часов.
— Когда мне сообщили, что я арестован вместе с женой, естественно, я пришел в недоумение. Находиться одновременно в двух местах довольно сложно, а уж нарушать общественное спокойствие за пределами Палаты общин, одновременно находясь в ней, разумеется, нечто из ряда вон.
— Уверяю вас, в данной ошибке я неповинен.
— Верно. Вина моя. Я должен был понимать, что некто… или нечто… заразило мою жену этой дрянью.
Его слова показались мне настолько нелепыми, что я расхохотался.
Он мрачно взглянул на меня:
— Что тут смешного?
— Где она?
— Ее освободят по медицинским показаниям.
— Что? Она ранена?
— Это, черт побери, не ваше дело, — рыкнул тип в черном костюме.
— Она страдает истерией. Известно ли вам было об этом, когда вы потащили ее устраивать бунт?
— Истерией? Кто это сказал?
— Я сказал, — отозвался человек в черном.
— Доктор Мейхьюз ее лечащий врач. Выяснилось, что она с некоторых пор уже не посещает предписанные ей процедуры у специалиста. — Брюэр с отвращением смотрел на меня. — Так или иначе, она теперь не будет получать необходимое лечение.
— Если вы причините ей какое-то зло…
— Я отправлю ее в частный санаторий в сельской местности, — перебил меня Брюэр. — Свежий воздух и покой окажут на нее благотворное воздействие. Вы же впредь больше никогда ее не увидите. Надеюсь, я ясно выразился.
— Я намерен написать полный отчет о сегодняшнем шествии, включая незаконные действия полиции, и направить материал в газету, — сказал я.
— Извольте. И вы обнаружите, что ни один редактор в этой стране ваш материал не напечатает. Отведите его обратно в камеру, — кивнул Брюэр полицейскому.
Набравшись наглости, я произнес:
— Весьма сомневаюсь, Брюэр, что вы захотите, чтобы наши отношения с вашей женой стали достоянием общественности.
Я произнес слово отношения с особым акцентом. Я знал, как он это воспримет.
Его физиономия окаменела.
— Если вы будете держать ее взаперти, я разглашу о нашей связи с ней по всем клубам и кофейням Лондона.
Брюэр пришел в себя:
— Суфражисты не могут позволить себе такого рода скандал.
— Возможно. Но я не суфражист. И я не остановлюсь ни перед чем… ни перед чем… ради того, чтобы освободить Эмили.
— Ну, а если я ее отпущу, — медленно произнес он. — Что получу я взамен?
— Я ничего не предприму.
Он недоверчиво хмыкнул.
Я пожал плечами:
— Это единственная гарантия, которую вы можете от меня получить.
Наступила долгая тишина.
— Вышвырните этого типа вон, — проговорил Брюэр наконец. — Мы с вами, доктор, организуем лечение моей жены в Лондоне.
— Что? Повтори! — вскричала Эмили.
— Я сказал ему, что я буду молчать про нашу с тобой связь, если он тебя отпустит.
— Я только что видела его, — в ужасе проговорила она, — он ни словом об этом не заикнулся.
— Вероятно, он слишком потрясен.
— Нет, — сказала она. — Думаю, мы недооцениваем такую личность, как Артур. Насколько глубоко прячет он личные чувства. Потому-то подобные ему ни за что не уступят нам никаких полномочий, если только их не вынудят обстоятельства. — Она взглянула на меня. — Выходит, ты пошел на сделку, вовлекая меня?
— Не совсем так.
— Ты не имел никакого права так поступать. Даже если б это было правдой, все равно ты не имел бы права.
— Прости. Ничего лучше я придумать не смог.
— И как мне теперь каждый день смотреть Артуру в глаза? Ведь он не произнесет ни слова, но будет считать, что все так и есть… — Она вздохнула. — Что ж, я запятнала свою высокую моральную репутацию, но в этом моя собственная вина, и, возможно, самое лучшее для меня теперь вести себя чуточку Пристыженно.
— Есть, разумеется, возможность несколько это компенсировать… — отозвался я.
— Да? И как же?
— Раз твой муж считает, что мы с тобой спим, тогда уж лучше нам нашу вину утвердить практически.
— Уж лучше? Как это романтично с твоей стороны, Роберт! В жизни не получала предложения в столь лестной форме!
— Ведь есть же смысл? Что теперь остановит нас?
— Ничего, если не считать такой мелочи, как данное тобой слово и еще то, что мне придется каждое утро видеться с Артуром за завтраком. Да, и еще некоторое твое свойство отправляться на сторону и влюбляться в других женщин. При всей неотразимости твоего предложения, я нахожу в себе силы тебе отказать.
«Rio flavour» — тяжеловатый и грубоватый вкус, характерный для сортов кофе, произрастающего в Бразилии, в районе Риу, и иногда присутствующий даже в изысканных мягких сортах.
По мере того, как цены на кофе становились все выше, количество кофе, текущего из Бразилии и других латиноамериканских стран из потока превратилось в шквал. Теперь на горизонте замаячил призрак перепроизводства. Кто может выпить столько кофе? Правда, в магазине стандартизация упаковки постоянно сдерживала рост цен на готовый продукт. Но, безусловно, у расширения спроса был предел. Короткое время цены колебались, а поставки все росли, подогреваемые планами расширения плантаций, принятыми четыре-пять лет тому назад. Линкер, как ястреб, следил за рынком, ловя момент для атаки.
Правительство Бразилии объявило, что оно справится с любыми избыточными поставками и распорядится уничтожать избытки до их попадания на рынок. Фондовая биржа приняла это предложение, и неумолимый рост производства кофе, а также всевозможных сопутствующих латиноамериканских ценных бумаг и денежных потоков, не сбавлял темпов.
— Мне необходимо, Роберт, чтобы вы отправились в Бразилию, — сказал Пинкер.
Я взглянул на него с некоторым сомнением.
Он рассмеялся:
— Не волнуйтесь! На сей раз я не жду, чтоб вы занялись новой плантацией. Есть кое-что, что мне надо бы разведать, и я должен поручить это человеку, которому доверяю, — который способен видеть дальше своего носа.
Он пояснил: ему нужно, чтобы я тщательно проследил процесс уничтожения кофе и убедился, что на самом деле все происходит именно так, как представляется.
— В теории оно звучит убедительно. Уменьшить поставки, и тогда можно контролировать спрос. Но одно дело, если правительство запускает подобный закон. Те же, от кого требуется его выполнение, неизменно рискуют своим интересом. Для любого фермера это то же, что сжигать живые деньги. А я, Роберт, по собственному опыту знаю, что фермеры вовсе не такие альтруисты, как нам хотелось бы.
Едва ли я мог отказаться от этой поездки. Пароход из Ливерпуля добирался до Сан-Паулу за шестнадцать дней; я заказал на него билет.
Как это было не похоже на мое путешествие в Африку. Во первых, на судне не оказалось миссионеров — никаких проповедей стойкости духа или несения света во мрак. Цель у моих спутников была одна: кофе. Так или иначе, все мы были связаны с этой торговлей; пожалуй, единственной крупной торговлей, известной в Южной Америке.
Я не говорил никому, что у меня была и иная, побочная причина для путешествия. Перед моим отбытием из Лондона Пинкер вручил мне послание, которое предписывалось вручить лично тому, кому оно адресовано.
— Не секретарю, не лакею, ни даже кому-либо из членов семейства. Отдайте лично ему и по возможности задержитесь, пока он будет это читать. Я хочу, чтоб вы рассказали мне, как он отреагирует.
И Пинкер вложил мне в руки письмо. Конверт был запечатан: увидев на конверте имя, я изумленно вскинул брови:
Сэру Уильяму Хоуэллу
— И больше никому, Роберт, — повторил Пинкер, пристально глядя на меня. — Передайте это сэру Уильяму в собственные руки, и так, чтобы ни единая душа о существовании письма не узнала.
Сан-Паулу не был похож ни на одно из виденных мною мест. Это был город неукротимой энергии, повсюду высились новые здания; дворцы из камня и мрамора строились босоногими оборванцами, вместо строительных лесов использовавшими простые палки. Мне подумалось: ведь и Африка могла бы стать такой же; хотя верилось в это с трудом. Невозможно было представить, чтобы знойное африканское небо позволило бы развернуться таким замыслам, такой неутомимой, неукротимой деятельности.
Пинкер вручил мне рекомендательное письмо министру сельского хозяйства, который с чрезвычайной любезностью организовал для меня наилучшим образом показ того, как уничтожается кофе. Меня привезли в доки Сантуша, где стояла целая флотилия барж, груженных мешками.
— Все это будет сброшено в море, — сделав соответствующий жест рукой, сказал мне сопровождающий. — На будущей неделе такое же количество, через неделю — столько же. Как видите, у нас вооруженная охрана, чтобы никому не вздумалось растащить кофе.
— Могу я осмотреть мешки? — спросил я.
— Извольте.
Я прошел мимо охранников к куче мешков и развязал один. Вдохнул запах. Зерна были не обжаренные и не молотые, но сомнений быть не могло: это был грубый бразильский «арабика», тот самый, который тоннами экспортировался в Сан-Франциско и Амстердам. Я зачерпнул горсть и потер в пальцах, чтобы окончательно удостовериться. Потом подошел к другому мешку и убедился, что и в нем то же содержимое.
— Ну что? Вы удовлетворены? — спросил сопровождающий со слегка заметным раздражением.
— Вполне.
— Отлично. Теперь сможете заверить своего патрона, что у правительства Бразилии слово не расходится с делом.
Пинкер предоставил мне самому продумать, как лучше попасть к сэру Уильяму. В конце концов я решил, что просто напишу ему письмо, где укажу, что меня просили кое-что ему передать. Я указал в письме адрес своего отеля, но дал понять, что, возможно, к тому моменту, как он получит мое письмо, я уже буду на пути к нему.
От побережья в горы была проложена железная дорога — именно по ней кофе и отправлялся на экспорт. Локомотив был американский, последнего образца, спереди с заостренным скотосбрасывателем. Трое суток мы тряслись по бескрайним долинам и неисчислимым холмам. Необычно было то, что вид из моего окна всегда был один и тот же. Все холмы в этой стране, все долины, все просторы были схожи между собой. Устремляясь взглядом в бесконечную даль, как будто скользя по спиральному желобку граммофонной пластинки, не увидишь ничего, кроме ярких, темно-зеленых рядов кофе; кусты были подрезаны так, чтобы сборщик смог дотянуться до самой верхушки. И иногда можно было заметить какого-нибудь пеона,[65] обрабатывавшего посадки, но в основном громадные поля были зловеще безлюдны, точно пустыня — кофейная пустыня. Первозданный буйный лес был оттеснен к каким-нибудь оврагам или к иным неприглядным закоулкам, не пригодным к возделыванию. Между тем почва по мере нашего подъема в горы становилась густого кирпично-красного цвета и была так суха и рассыпчата, что легчайший порыв ветра вздымал эту пыль, и она стелилась над полями цветным облаком. Ряды кофе были настолько прямы и простирались на такие необъятные расстояния, что проезжающий мимо на поезде человек мог испытывать странные оптические иллюзии: иногда казалось, будто эти ряды мерцают и скачут, словно сами кусты приходят в движение, четким солдатским шагом устремляясь куда-то в глубь страны.
Когда мы делали остановки для пополнения запасов угля и воды, я болтал с машинистом.
— Это все мелочи, — говорил он, указывая на четко распланированный пейзаж, прикрывая рукой глаз от дыма зажатой в губах сигареты. — Там, куда мы едем, — выше на Дюпоне, — теперь настоящая фазенда. Вообразите — пять миллионов деревьев. У меня самого двадцать, и я считаю себя человеком богатым. А представьте-ка, если это пять миллионов!
— Вы, машинист, выращиваете кофе? — изумленно спросил я.
Он рассмеялся:
— В Бразилии все выращивают кофе. Я со своего жалованья взял в аренду небольшой участок, ну и вместо кукурузы посадил несколько бобов. На половину выручаемых денег покупаю маис; на остальное прикуплю еще земли и посажу еще кофе. Только так деньги и делаются.
— А вас не тревожит, что правительство уничтожает урожаи?
— Ведь они же компенсацию выплачивают. Так что мне без разницы.
Наконец мы прибыли на станцию, которая подходила к границам плантации Хоуэлла. Платформа была невелика; с противоположной стороны ожидал другой поезд, поменьше.
— Это Хоуэлла, — сказал машинист. — Должно быть, он за вами прислал.
Я вступил в роскошный Хоуэллский вагон, стеклянные двери которого были украшены изысканной гравировкой, как двери в каком-нибудь отеле в Вест-Энде. Носильщики отнесли мои чемоданы в багажное отделение, прозвучал свисток, и поезд заскользил вверх по склону.
Пейзаж по-прежнему был расчерчен бесконечными прямыми линиями. Но помимо кофе можно было разглядеть и признаки человеческой деятельности. Через поля были проложены дороги: по ним тряслись тракторы и повозки, вздымая клубы цветистой пыли. Группы людей шагали по полям — вероятно, бригады работников; но в отличие от одиночных поденщиков-пеонов, которые порой попадались мне на полях ниже по склону, эти были одеты в холщовые блузы, каждая бригада имела свой цвет, а бригадиры выделялись белыми головными повязками. В оросительных каналах поблескивала вода, и время от времени мы проезжали громадные террасы, где сушились промытые бобы. Я поймал себя на мысли: как же мелким фермам и даже такой, какую мы с Гектором пытались основать в Африке, конкурировать с подобным громадным хозяйством?
Поезд подходил к очередной станции. Здесь центральную площадь окружало несколько складов и конторских зданий. Носильщики уже выгружали мой багаж, я последовал за ними к длинному приземистому особняку с окнами, выходящими на поместье.
— Мистер Уоллис?
Меня окликнул маленький смуглый человек. Невзирая на жару, он был в полном облачении английского банковского служащего — крахмальный воротничок, темный костюм, очки-пенсне.
— Да? — откликнулся я.
— Сэр Уильям говорит, чтоб вы изложили мне свое дело.
— Увы, я имею послание лично сэру Уильяму.
— Его нет дома.
— В таком случае я его подожду.
Человек помрачнел:
— Наверное, так нельзя.
— Но ведь вы вряд ли сможете справиться, можно или нет, если его нет дома, верно? — бесцеремонно бросил я. — Так что лучше позаботьтесь, чтобы я смог где-нибудь расположиться до его возвращения.
— Я займусь этим, Новелли, — резко произнес кто-то за моей спиной.
Я обернулся. Навстречу нам шел молодой человек. Одет он был, пожалуй, менее чопорно, чем мой собеседник, но Новелли, послушно кивнув, удалился.
— Джок Хоуэлл, — представился молодой человек. — Потрудитесь, пожалуйста, сообщить мне, какого дьявола вам угодно?
— У меня письмо для вашего отца.
— Дайте, я ему передам.
Я отрицательно покачал головой:
— Вы можете сообщить ему, что письмо от Сэмюэла Пинкера. Но вручить его я должен ему лично.
Молодой человек, скривившись, удалился. Мне пришлось проторчать на том же месте примерно полчаса, пока он не вернулся.
— Следуйте за мной.
Я прошел за ним в особняк. В вестибюле, отделанном прохладным мрамором, окна были прикрыты ставнями от внешнего влажного воздуха. Мой провожатый постучал в одну из дверей.
— Войдите! — ответили изнутри.
Я узнал сэра Уильяма Хоуэлла по изображению на пачке «Высокосортного кофе с плантаций Хоуэлла».
В жизни он оказался менее солиден, чем я себе представлял: более худ и менее грозен.
— Прошу вас, мистер Уоллис, — сказал он, — прикройте дверь.
Повернувшись, чтобы исполнить его просьбу, я обнаружил, что путь мне преграждает его сын, явно не зная, по какую сторону двери ему оказаться.
— Я позову, если ты понадобишься, — резко бросил старик сыну.
Когда мы остались одни, сэр Уильям внимательно обозрел меня с головы до ног.
— Надеюсь, вы проделали такой путь не просто для того, чтобы увидеть, как выглядит настоящая плантация, — сказал он едко. — Боюсь, с обзором вы несколько припозднились.
Он явно был наслышан о моих жалких попытках выращивать кофе.
— У меня письмо для вас.
— От мистера Пинкера с Нэрроу-стрит? — с некоторым удивлением спросил он.
— Да.
Сэр Уильям протянул руку, и я вложил письмо ему в ладонь. Взяв с письменного стола канцелярский нож, он взрезал конверт и вынул содержимое — две странички, исписанные четким почерком Пинкера.
Прочтя письмо до конца, он хмыкнул — удивленно, как мне показалось. Затем, кинув взгляд на меня, прочел письмо еще раз. Теперь он, похоже, глубже вник в его содержание.
Опустив листки на стол, сэр Уильям устремил взгляд в окно. Я проследил за его взглядом. Из окна открывался вид на огромную, растянувшуюся на два-три десятка миль плантацию.
— Вы в самом деле не знаете, что в этом письме?
Должно быть, Линкер, отметил это в тексте, так как сам я насчет этого не обмолвился.
— Представления не имею, — кивнул я.
Сэр Уильям вдруг резко спросил:
— Что он за человек? Пинкер, я имею в виду.
— Он умен, — сказал я. — Но ум у него особого свойства. Он обожает мечтать — воображать всякие возможности, какие еще никому не приходили в голову. И в результате, чаще всего оказывается прав.
Хоуэлл медленно кивнул:
— Задержитесь на несколько дней. Джок покажет вам все наше хозяйство. Мой ответ вашему патрону потребует некоторых размышлений.
Слова у этих людей не расходились с делом. В течение трех дней мне было позволено обозреть все тонкости их производства, начиная с гигантских питомников, которые одни занимали площадь более ста акров, до громадных навесов, под которыми очищались и обрабатывались бобы. Даже солнечные террасы, на которых были рассыпаны бобы на просушку, были забетонированы, чтобы красная пыль не коснулась готовой продукции. Прохаживавшиеся среди зерен босиком с блестящими от пота спинами люди ворошили бобы огромными граблями.
Работников имелось два вида: негры и итальянцы. Негры были из бывших рабов, как сказал мне Джок, но после отмены рабства компания нанимала только итальянских иммигрантов. По его словам, итальянцы работают усердней; отчасти потому, что им приходилось оплачивать расходы по своей перевозке на другой континент, отчасти в силу расового превосходства. Если я правильно понял, имелось в виду, что цвет их кожи был ближе его собственной.
— Что стало с неграми, которых сменяли итальянцы? — спросил я.
Джок изобразил неопределенный жест. Из чего явно следовало: раз они теперь уже не рабы, теперь они особого интереса для него не представляют.
Работники размещались в специально построенных деревнях, называвшихся colonos, в каждой из которых имелась пекарня и магазин, где они могли тратить свое жалованье. Была даже и классная комната, где детей учили считать — бухгалтерии, уточнил Джок Хоуэлл, поскольку эти навыки особенно важны для пеона. Все дети любого возраста освобождались от школьных занятий, когда их родители были заняты сбором урожая. Сбор плодов с самых нижних веток, до которых могли дотянуться детские руки, обычно предназначался как раз для них. Сбор затягивался до глубокой ночи. Я неоднократно наблюдал, как пеоны семьями устало брели в ночи к своим деревням с огромными корзинами собранных бобов на головах, с привязанными к материнскому бедру сонными малыми детьми.
— Как много у вас тут детей, — заметил я.
— Разумеется. Отец всегда поощрял прирост в семьях.
— Он любит детей?
Джок искоса взглянул на меня:
— В некотором смысле. Эти дети — наши будущие работники. Да и работников весьма подстегивает к активному труду необходимость прокормить многочисленное семейство.
— Ну, а если у них это все-таки не получается?
— Мы не допускаем, чтобы они голодали, — заверил меня Джок. — Всякий пеон всегда может получить аванс наличными под будущие заработки семьи.
Я вспомнил Пинкера и его сделки на срок:
— И как же они выплачивают долг?
— При необходимости он вычитается из заработка детей.
— Получается, дети наследуют долги родителей?
Он развел руками:
— Это же лучше, чем рабство. Да и работники вовсе не страдают. Глядите сами.
Действительно, работники не выглядели недовольными своей судьбой, однако я отметил, что повсюду, куда бы мы с Джоком ни следовали, нас сопровождали capangas: охрана, вооруженная ружьями и мачете.
В особняке среди горничных и иной прислуги оказалось несколько белых женщин. Я выразил удивление, что хозяева способны нанимать жительниц из далеких городов.
Джок сдвинул брови:
— Они не белые, Роберт. Это цветные женщины.
— Я явно видел нынче утром белое лицо, когда мы проходили мимо кухни…
— Это Хетти. Ну, какая же она белая. Она мустифино.
Это слово не было мне знакомо, и Джок специально для меня разъяснил его смысл. Ребенок белого человека и цветной женщины называется мулатом; отпрыск белого и мулатки называется квартероном; отпрыск белого и квартеронки — это мусти, ну и так далее, вплоть до мустифинов, квинтеронов и октеронов.
— Так откуда же… — начал было я. И осекся.
В Дюпоне проживало всего одно английское семейство. Задавать возникший у меня вопрос было излишне.
— Вот, — сказал Джок, подводя меня к одному из колоссальных ангаров для обработки бобов, — это вам может быть интересно. Тут у нас сортируется кофе.
Внутри вдоль стен всего помещения тянулся змеей длиннющий стол. В глубине стола стоял раскрытый короб наподобие корыта. Прямо на столе сидело более сотни юных итальянок возрастом от десяти до двадцати лет. Каждая, потянувшись к коробу, выгребала полную пригоршню зеленых бобов, затем рассыпала их перед собой на столе. Осматривая, девушка выбирала негодные и отбрасывала их в другой короб позади себя, одновременно ссыпая хорошие бобы через дыру в стоявший под столом мешок. Большинство девушек были довольно хорошенькими, со страстными черными глазами и смуглой кожей, присущими итальянским крестьянкам. Когда мы с Джоком вошли в ангар, все подняли на нас глаза. Зарывшись пальцами босых ног в мешки с кофе, они, возобновили свою работу, но, как мне показалось, продолжали ощущать на себе наши взгляды.
— Каждая была бы рада, если б вы ее заприметили, — зашептал мне в ухо Джок. — Так что, если захотите у нас поразвлечься…
Случилось так, что мне весьма скоро этого захотелось. Но как я ни старался насладиться своей хорошенькой смуглой подружкой, мне никак не удавалось избавиться от воспоминания о Фикре, извивавшейся, оседлав меня, в притворном экстазе. И еще я не мог избавиться от тревожного ощущения: что за всеми моими действиями следит также с холодной иронией и Эмили: так-то ты развлекаешься со своими шлюхами и куртизанками!
По вечерам сэр Уильям с женой ужинали вместе с нами. Стол у них был обилен, с усердно прислуживавшими лакеями в униформе, наполнявшими нам хрустальные бокалы с выгравированной монограммой Хоуэлла: элегантной буквой «Н». Ну, а между тем, сэр Уильям рассуждал о проблемах, стоящих перед его страной.
— Взгляните на эту пищу, Уоллис! — говорил он, указывая на обилие яств перед нами. — Едва ли хоть что-то из этого произрастает в Бразилии. Даже для наших пеонов продукты доставляются на кораблях.
— Разумеется, в этом есть резон, — заметил его сын. — Судна, увозящие кофе, чтобы не возвращаться вхолостую назад, прекрасно могут доставлять сюда зерно.
— Таким образом, эта страна становится все более и более зависимой от кофе, — сказал его отец. — Каждый крестьянин выращивает по нескольку кустов. Если у нас и случается перепроизводство, то не за счет таких продуктивных хозяйств, как наше. Это все из-за крохотных маломощных производителей, защищаемых от конкуренции программой ревальвации. — Он отложил свою вилку. — Возможно, в конечном счете, он прав. Возможно, мы должны уничтожать все слабое, прежде чем построить нечто фундаментальное.
Мне не нужно было спрашивать, кого именно имел в виду сэр Уильям.
В другой раз он сказал:
— Знаете, Уоллис, я был одним из тех, кто поддерживал здесь движение за отмену рабства.
Это была для меня новость, в чем я ему и признался.
— Рабство в высшей степени неэффективный способ ведения дел на плантации — это как пытаться работать с ослами, а не с мулами. Нынешняя система много дешевле.
— Как это так? — изумленно вскинулся я.
— Если на вас работает раб, он сковывает ваш капитал. Это значит, вы должны кормить его, если он заболевает; платить тому, кто его сечет, если раб ленив; а также кормить его детей до того, как они подрастут и смогут пригодиться в работе. Аболиционизм — великая перемена, многие противостояли ему, потому что боялись перемен; но, как оказалось, он явился лучшим свершением Бразилии за все времена. — Некоторое время сэр Уильям молчал, уставившись в тарелку, потом произнес: — Мне кажется, ваш хозяин, как раз такой человек, кто знает толк в переменах.
— Вы правы, — сказал я, — его эта тема весьма занимает.
Сэр Уильямс забарабанил пальцами по скатерти.
— Я напишу ему ответ завтра. Вы сможете уехать в середине дня. Я велю Новелли заказать для вас поезд.
На следующее утро он вручил мне конверт, адресованный Сэмюэлю Пинкеру.
— Вы знаете, как с этим поступить.
— Безусловно, — сказал я, принимая письмо.
— И вот еще что… думаю, вам показывали кофе, который, как вас уверили, должен быть сброшен в море? — Я кивнул. — Вам следует знать, что наше правительство в высшей степени коррумпировано и чрезвычайно алчно, чтобы уничтожать то, что приносит деньги. Вглядитесь пристальней, Уоллис, и воспользуйтесь опытом, почерпнутым у мистера Пинкера.
Вернувшись в Сан-Паулу, я отправился к докам, на сей раз без правительственного сопровождающего, и провел некоторое расследование. В тот вечер армада барж должна была топить мешки в море. Я отыскал какого-то рыбака с небольшим яликом, щедро ему заплатил, чтоб он отвез меня к баржам.
Как и ожидалось, за две мили от пристани баржи подгонялись к торговому судну, где начинали выгружать свой груз в его просторные трюмы. Когда баржи справились с разгрузкой, торговое судно на всех парах поплыло на юг, ну а баржи возвратились к берегу. Мне удалось подплыть ближе, и я разобрал название грузового корабля — «Эс Эс-Настор» — и, едва оказавшись на берегу, тотчас принялся наводить о нем справки.
Судно было приписано к одному корабельному синдикату; и одним из боссов синдиката, как свидетельствовали мои изыскания, оказался здешний министр сельского хозяйства. Но еще более поразительным оказалось то, что это судно должно было отправиться в Великобританию через Аравию.
У меня никак не укладывалось в голове, почему судно с кофе должно отправиться из одной стран-производительниц кофе в другую. Правда, забрезжила одна догадка.
Я телеграфировал Дженксу, и он отследил перевозку кофе одного из предыдущих рейсов «Настора». Наши подозрения оправдались: на мешках могла быть наклеена этикетка «мокка», но находился в них бразильский кофе. «Эс Эс-Настор» перевозил бобы в Аравию, там после краткой стоянки его с новым грузом посылали в Британию, чтобы продать груз по цене ниже стоимости «мокка», но вполне подходящей для бразильцев.
Мое возвращение в Англию весьма подняло настроение Пинкеру — его интуиция снова не подвела.
— Вы должны поведать это всему миру, Роберт. У вас связи на Флит-стрит, отобедайте с кем-нибудь из этих, пусть они узнают, насколько правительство Бразилии свято выполняет свои обязательства. Но сделайте это тонко — чтобы не выглядело так, будто информация исходит от нас. Скажут, у нас свой интерес, а нам нельзя позволять, чтоб их цинизм затмил истинное положение вещей.
Я сделал все, как он велел, и когда появились статьи с критикой программы ревальвации, Линкер был этим явно вполне удовлетворен. Рынок заколебался — и мы воспользовались его неустойчивостью в полной мере.
Но больше всего, признаюсь, обрадовало Пинкера письмо от Хоуэлла. Я не знаю, что содержалось в этом письме, но новости явно были отличные.
— Вы, Роберт оправдали мои надежды, — так Линкер представил это мне. — Хоуэлл мог бы заподозрить всякое, направь я к нему кого-нибудь чересчур речистого. Вы же сказали ему правду, а это для него самое главное.
Если в кофе проникнет неприятный запах или нежелательная примесь, чужеродность начнет ощущаться уже в аромате свежезаваренного кофе.
За время моего отсутствия суфражистки изменили тактику действий, теперь они выкриками прерывали публичные выступления политиков. Они обычно прятали под пальто свои транспаранты, а вскоре наловчились брать с собой по два-три, так как именно транспаранты обычно в первую очередь подвергались нападкам, и рассаживались в разных местах зала, никогда вместе. Одна из женщин, поднявшись с места, выкрикивала свой вопрос, разворачивая транспарант; пока распорядители выталкивали ее из зала, в другой его части поднималась еще одна, и все повторялось снова.
В одну из подобных вылазок, целью которой было прерывать выступление одного из ведущих министров, я сопровождал Эмили. Вероятно, тот почувствовал что-то. Как бы то ни было, нам пришлось прождать полчаса, пока председатель собрания не объявил, что Важная Персона запаздывает в связи с парламентскими обязанностями, но вместо него выступит член Парламента мистер Артур Брюэр. Я метнул взгляд на Эмили. Она стала бледная, как полотно.
— Тебе не надо показываться! — сказал я ей. — Тут и без тебя достаточно активисток устраивать спектакль.
Она покачала головой:
— Что это за принципы, если они не выдерживают первого же испытания. Моим подругам необходимо мое участие.
Начались дебаты. Артур говорил превосходно — мое писательское чутье отметило и оценило отличный строй фразы, умело сформулированный вопрос и мгновенно следующий собственный ответ; то, как он расставлял акценты, ритмично, последовательно: «раз-два-три»; все премудрости ораторского искусства. Он говорил о свободе и безопасности, а также о том, что необходимо уравновешивать эти понятия, как не допустить того, чтобы так трудно завоеванные в Великобритании свободы были утрачены, и что первейшей обязанностью поборника свободы является ее защита…
Справа от меня поднялась с места маленькая фигурка в элегантном зеленом платье. Как всегда бесстрашная Молли Ален.
— Если вы так печетесь о свободе, — тоненько выкрикнула она, — почему приберегаете ее только для мужчин?
Она вынула и развернула свой транспарант:
— Право голоса женщинам!
Шум в зале. Тотчас трое распорядителей стали пробираться к Молли, но она намеренно выбрала себе место в самом центре ряда. Разъяренный священник, сидевший у нее за спиной, вырывал у нее из рук транспарант.
— Можете передать по рядам, — сказала Молли, разворачивая очередной транспарант. — У меня еще есть, если кто желает.
Но вот распорядители, каждый со своей стороны, добрались до нее, каждый потянул к себе, как в игре — кто перетянет.
На трибуне Артур, снисходительно улыбаясь, наблюдал за происходящим.
— Я вижу, леди почтили нас своим присутствием, — произнес он с улыбкой. — Но, как я уже сказал…
С места поднялась Джеральдин Мэннерс. Хрупкая, но такая боевая в свои почти пятьдесят. Это она вовлекла Эмили в ряды милитанток[66] после эпизода на Риджент-стрит.
— Ответьте! — выкрикнула она. — Предоставит либеральное правительство право голоса женщинам?
Распорядители кинулись к безобидной маленькой леди с такой яростью, будто это она с мячом для игры в регби в руках налетала на них. Джеральдин едва успела развернуть свой первый транспарант, как один из распорядителей выволок ее из зала.
Артур на своем возвышении сохранял полную невозмутимость. Этот человек был достоин восхищения: он старался придать физиономии миролюбивое выражение: но миролюбие это было явно натужным, фальшивым. Почувствовав, что сумеет перекричать гул в зале, Артур поднял руку и произнес:
— Сама леди, увы, поспешно удалилась. — Смех в зале. — Но и в ее отсутствие я не оставлю без внимания ее вопрос. Мой ответ — «нет». — Нарастающие аплодисменты. — Теперь вернемся к истинной теме дня, которая будет близка сердцам многих в этом зале. Количество рабочих мест…
Из глубины зала раздался голос Эдвины Коул:
— Почему вы взимаете с женщин налоги, если не даете им права голосовать?
Она подождала, пока все обернутся на ее голос, только тогда встала и подняла транспарант:
— Право голоса женщинам!
В своем рвении добраться до нее распорядители перелезали через кресла.
— Имейте уважение к нашему члену Парламента! — злобно выкрикнул мужской голос.
— Это не мой член Парламента, — парировала Эдвина. — Я женщина и члена не имею.
Раздались единичные смешки, но в целом присутствующие вознегодовали от такой грубой шутки. Женщину сбили с ног. Послышался крик: видимо, кто-то ее ударил.
Эмили по-прежнему была бледна.
— Тебе этого делать не нужно, — тихо сказал я.
Она не взглянула, не ответила. Поднялась, дрожа, как осенний лист. Вытащила транспарант. Долгий, полный жуткого ожидания миг; мне казалось, что ее вот-вот снесет ветром.
— Женщины! — вдруг вырвалось у нее. — Почему мы не имеем права голоса?
Брюэр увидел ее, и улыбка застыла у него на лице.
Несколько распорядителей, которым не удалось добраться до Эдвины Коул, бросились к нам.
— Ну что ж, — медленно произнес Артур. — Я за свободу голоса. И я отвечу на этот вопрос.
По залу прокатились хлопки, перемежаемые недовольными возгласами.
Распорядители продолжали пробираться к нам через толпу.
Артур засунул большой палец за кромку жилета.
— Ваши подруги, мадам, сослужили нам сегодня отличную службу, — презрительно произнес он. — Они ярче, чем смог бы я, продемонстрировали, как было бы опасно дать право голоса таким особам, как вы, — способным, не задумываясь, поставить под удар развитие демократии. — Аплодисменты и одобрительные выкрики из зала. — Они напомнили нам, что женщины, которые путем подобных выходок претендуют на право голоса, в случае своего успеха прибегнут к подобным же методам для достижения иных политических целей. Те, чье поведение недостойно добропорядочных граждан, не могут рассчитывать на гражданские права.
Дальнейшие аплодисменты, в шуме которых едва можно было расслышать выкрик Эмили:
— Другие методы бессильны! Мы избрали этот, потому что…
Но Брюэр уже полностью овладел ситуацией, и толпа слушала только его:
— Подобные особы не только стремятся достичь своей цели истеричными методами, они способны силой внедрить истерию в политическую жизнь нации. Они хотят получить право голоса для женщин — вместе с тем, они уже готовы предать свою женскую природу и все благородные свойства своего пола ради этой цели. Как это характеризует их? Какой пример подают они своим детям? Какие карты дают они в руки нашим недругам за рубежом?
Таким вот изящным путем Артур вернулся к отправной точке своего выступления — и собравшиеся аплодировали ему стоя, как раз в тот момент, когда распорядители уже грубо хватали руками его жену.
— Пошли прочь! — кричала Эмили на них, а они толкали и тянули ее вдоль ряда, не собираясь отпускать.
Она кинула транспарант на кресло. Я, не раздумывая, поднялся. Правда, никто в тот момент на меня не смотрел — все встали со своих мест, аплодируя славному защитнику их свобод: один мужчина в толпе мужчин был вряд ли заметен. Я выкрикнул, чтобы привлечь к себе внимание:
— Право голоса женщинам!
И как только среди гула образовалось временное затишье, я громко сказал:
— Как нам воспринимать ваш брак, Брюэр, если ваша собственная жена среди протестанток?
Наступила пауза. Публика попеременно бросала взгляды то на Брюэра, то на меня. В какой-то момент он растерялся, не зная, что сказать. Потом устало произнес:
— Я и так уже посвятил этому вопросу больше времени, чем он того заслуживает. Мы будем обсуждать поведение женщин или работать?
Последовал выкрик:
— Работать!
А после этого и меня распорядители вывели из зала и, воспользовавшись случаем, пару раз щедро наподдавали мне по почкам.
В тот же день вечером Эмили пришлось предстать перед мужем и иметь с ним то, что в те годы именовалось у нас mauvais quart d’heure.[67] К моменту ее возвращения он, поджидая жену, по-хозяйски расположился в гостиной в окружении своих бумаг. Казалось, он совершенно спокоен, но Эмили знала, по виду Артура невозможно определить его истинное состояние.
— Для меня было полной неожиданностью увидеть тебя сегодня на этом собрании, — наконец произнес он.
Эмили набрала в грудь побольше воздуха. Итак, им предстоит это обсуждать. И она собралась рассказать ему, почему поступила именно так, почему не смогла сдержаться. Высказать это было нелегко, труднее даже, чем на том собрании. Одно дело встать и прокричать призыв среди незнакомой толпы. Но женщине противостоять собственному мужу в его собственном доме было делом немыслимым.
Она произнесла, как и он, спокойно и ровно:
— Думаю, для тебя не были новостью мои политические убеждения.
— Мне было известно, что ты поддерживаешь крайние идеи. Но я не подозревал, что ты теперь принимаешь активное участие в нападках на ход развития демократии.
— Это никакая не демократия. Демократия предусматривает предоставление гражданских прав всем гражданам, не только мужской половине…
— Умоляю, — с раздражением произнес он. — Хватит с нас обоих на сегодня политических деклараций.
Она прикусила губу.
— Ты забываешь о главном, — сказал он, — такого рода твое поведение пятнает мое доброе имя.
— Вот уж не думаю, что…
— Во-первых, потому, что ты теперь его носишь, и как носительница имени Брюэр ответственна и за репутацию нашей семьи. Во-вторых, поскольку ты моя жена, твое поведение отражается и на мне. Если ты публично на меня нападаешь, люди могут подумать, что я дурно обращаюсь с тобой дома.
— Но это же смешно!
— Смешно? По-моему, тебя уже не было в зале, когда твой приятель Уоллис именно так все изобразил перед несколькими сотнями моих избирателей.
— Роберт не имел никакого права, — пробормотала Эмили. — Я его об этом не просила.
— Думаю, ты сильно преувеличиваешь свои возможности влиять на него. Такого рода публика всегда любой неосторожный жест использует в своих целях. Вот и он использует тебя, как ему угодно.
— Артур, ты все не так понял. Между нами ничего нет.
— Теперь, Эмили, это, пожалуй, не так уж и важно. Я уже принял кое-какие решения в этой связи. Я решил, что ты должна раз и навсегда порвать отношения с Уоллисом. И ты должна порвать с этим «Правом голоса женщинам».
— Что значит «порвать»?
— То и значит. Больше ты ни с чем подобным не будешь связана. Ни в каком виде.
— Артур… но я не могу с этим согласиться!
— А мне и не требуется уже твое согласие. Я отвергаю все твои протесты. Это мое решение, и как твой супруг я считаю, что ты должна ему подчиниться.
— А если я не подчинюсь?
— Ты моя жена…
— Но ты обращаешься со мной не как с женой! Ты обращаешься со мной даже не как с прислугой, как с рабыней…
— Хотел бы напомнить тебе об обетах, данных тобой при венчании…
— Ах, вот ты как заговорил! — вскричала Эмили. — Как будто я нарушила условия торгового контракта, и ты требуешь от меня компенсации?
— Со своей стороны, — невозмутимо продолжал Артур, — я отвечаю за каждое слово данного мной обета. Я произносил их перед Господом и буду чтить их до своего последнего дня.
Его слова прозвучали настолько искренне, что Эмили даже слегка растерялась:
— Что-то я не почувствовала этого, когда ты говорил со мной в таком оскорбительном тоне на глазах у всей этой публики…
— Не мне было выбирать для этого время и место, — сухо ответил он. — К тому же я пытался защитить тебя.
— Защитить меня?
— Если бы я тогда не обратился лично к тебе, распорядители обошлись бы с тобой куда круче. А так они вынуждены были выждать, пока я не закончу говорить. Это слегка их усмирило.
Эмили не понимала, правда ли это, или же просто манера политика трактовать события в свою пользу.
— И потом, — добавил он, — мне есть и еще кое о чем тебя уведомить.
— О чем же?
— О том, что прокричал Уоллис… Им был задан вопрос: что можно сказать о моем браке, если моя жена стала протестанткой. Он хотел лично уязвить меня… это весьма в его духе. Но я допускаю, что в его выпаде есть доля истины. Наши с тобой отношения… Возможно, я сам был недостаточно внимателен к нашим семейным проблемам.
Внезапно Эмили поняла, чем может обернуться разговор.
— Доктор Мейхьюз считает, что твое истерическое состояние можно поправить, если ты исполнишь цель, назначенную тебе природой. Разумеется, мимо моего внимания не прошло, что молодых матерей было почти не видно среди этих воительниц.
— Это потому, что молодые матери не могут оставить своих детей…
— Как бы то ни было. — Артур сделал паузу. — Я решил, что нам теперь самое время завести детей.
— Что?
— Доктор Мейхьюз полностью с этим согласен. Хотя ты несколько слаба здоровьем, но он утверждает, что часто сама природа укрепляет женский организм во время беременности, одновременно и просветляя умственные способности женщины.
— Это что, новая политическая программа? — спросила потрясенная Эмили. — Кто-то у вас решил, что ваша партия теперь отстаивает интересы семьи?
— Интересы семьи — цель всех партий. Дети — залог стабильности… в чем ты, несомненно, убедишься и сама, когда они у тебя появятся.
— Артур, я не могу сейчас иметь детей, я сейчас слишком занята.
— Вся твоя занятость отпадет, потому что ты откажешься от всей прочей деятельности, — уверил ее рассудительный Артур. — Мы начнем немедленно.
— Что? Прямо здесь? Сейчас? — в отчаянии заметалась Эмили.
— Ну, не будем так упрощать. — Он помолчал. — Ведь ты не откажешь мне?
— Разумеется, нет, — устало сказала Эмили. — Если ты позволишь, я пойду, скажу Энни, чтоб приготовила мне ванну.
— Я скоро освобожусь. — Он жестом указал на разложенные документы. — Нужно кое-что доделать, но это не займет много времени.
Мне невыносимо даже представить себе, что после этого между ними происходило. Да и она ни за что бы на эту тему со мной не заговорила. То немногое, что мне удалось узнать, промелькнуло в ее ответах на мои расспросы о том, как Артур воспринял ее появление в зале.
В конце рассказа она с легким придыханием и как будто с легким смешком сказала:
— Мы пытаемся сотворить ребеночка.
— Ты серьезно?
— Для Артура это очень серьезно. Ты даже представить себе не можешь, насколько… — ладно, неважно. — Она вздохнула. — Никак не пойму, то ли он хочет наказать меня беременностью, то ли искренне верит, что это излечит меня от нашего «Дела».
— И ты ему это позволишь?
— У меня нет выбора. Он мне напомнил, что я давала соответствующий обет.
— Уже давая тот обет, ты не имела иного выбора. Что ж, нельзя ведь нанять адвоката, чтобы заново переписать, один за другим, все брачные клятвы.
— Нельзя. Хотя, как было бы хорошо, имей мы такую возможность. Но, подозреваю, путаницы от этого возникло бы не меньше. Но все не так просто, как кажется.
— В каком смысле? — спросил я и тут же понял, что она имеет в виду. — Ты сама хочешь ребенка?
— Да. Я хочу иметь детей. Чему ты удивлен? Многие женщины хотят иметь детей. А Артур, раз он мой муж, — единственный, кто может мне в этом содействовать. Хотя бы в этом мне придется с ним выступить заодно.
— Но ты не сможешь быть одновременно матерью и активисткой движения.
На ее щеках вспыхнули красные пятна. Я не мог не понять, что это означает, — к тому времени я слишком хорошо ее знал.
— Это почему же? — вскинулась она.
— Ну… вспомним вчерашнее. Эти распорядители так грубо обошлись с тобой. Представь, что если бы ты была беременна.
— Возможно, если б я была беременна, до них бы дошло, как гадко они поступают.
— А если б не дошло?
Она сверкнула глазами:
— Если мужчинам нельзя верить, значит, они совершенно не имеют никакого права выталкивать нас со своих собраний.
— В принципе, Эмили, ты совершенно права — но что толку от твоих принципов, если ты угодишь в больницу?
— Ты хочешь сказать, что обязанности по воспитанию детей гораздо важней, чем мои убеждения?
— Ну, если угодно, да.
— Прямо-таки слышу слова собственного мужа! — вскричала Эмили. — Когда же ты, Роберт, вобьешь себе в свою самодовольную, тупую башку, что принципы это не какой-то там твой дурацкий пиджак: захотел надел, захотел снял!
— Признаться, — заметил я, — в данный момент пиджаков у меня не так уж много в виду скудного жалованья, которое я получаю за свой труд. Мой работодатель…
— Все равно, это ты во всем виноват! — парировала она.
— Я?! — изумленно выкрикнул я.
— Если бы ты так больно не уязвил Артура, никаких таких последствий не было бы.
— А!
— «А!» — это все, что ты можешь сказать? Уж я бы ожидала с твоей стороны гораздо более покаянных слов, чем твое «А!», если учесть, что за все это расплачиваться приходится мне.
— Эмили, ну прости меня!
— «Прости»! Что толку мне от твоего «прости»?
Если уж она злилась, остановить ее было трудно.
— Я не должен был говорить того, что сказал. Я хотел досадить ему. Наверное, все потому, что видел, как с тобой грубо обошлись, и в первую очередь он сам.
Эмили вздохнула. И уже иным тоном сказала:
— И еще я должна отказаться от тебя. И от «Дела» тоже. Он настаивает.
— Понятно. Что ж, вот это серьезно. Даже более чем, я бы сказал. — Я произнес это спокойно, но сердце у меня сжалось. — И как же ты намерена поступить?
— Я не могу оставить «Дело», — резко бросила она. — Я могла бы оставить тебя, наверное, но так как теперь ты и «Дело» слилось в одно и так как я уже решила быть политическим оппонентом своего мужа, то, полагаю, оставайся на своем месте.
— Означает ли это…
— Нет, Роберт. Не означает.
— Откуда ты знаешь, о чем я хотел спросить?
— Потому что об этом ты спрашиваешь всегда. И мой ответ всегда будет «нет».
Были еще и другие последствия того происшествия в зале. Как-то утром, когда я трудился в кафе, передо мной вырос весьма неряшливого вида субъект с блокнотом.
— Вы Роберт Уоллис? — осведомился он.
— Да.
— Генри Харрис, «Дейли Телеграф». Можете уделить мне пару минут?
Мы побеседовали о «Деле», и, понятно, он полюбопытствовал, почему я, мужчина, примкнул к этому движению. Затем спросил:
— Вы как будто причастны к тому скандалу в Уигмор-Холл?
— Да, я был там.
Он заглянул в свой блокнот:
— Это правда, что вы задали вопрос Артуру Брюэру насчет его брака?
— Правда.
— И что действительно именно его жену выдворили оттуда?
— Именно так, — сказал я.
Он сделал пометки в своем блокноте.
— Вы собираетесь это напечатать?
— Скорее всего, нет, — сказал он. — Брюэр все-таки член Парламента. Но у меня есть друзья в других газетах, там не сильно пекутся о респектабельности. Эти факты имеют шанс стать достоянием публики.
Газетчик оказался прав. Не на новостных полосах, а в обзорах недельных событий, в парламентских заметках, в рисунках стал мало-помалу появляться карикатурный образ некоего члена Парламента, противника суфражизма, жена которого активная сторонница движения. «Панч», недавно столь резко высмеивавший суфражисток, теперь с аналогичным ликованием издевался над властью. Помню одну смешную карикатуру с изображением семейной пары за завтраком:
Почтенный член Парламента: — Будь добра, дорогая, передай мне соль!
Жена Почтенного члена Парламента: — Будь добр, передай мне Закон о равном избирательном праве!
Что ж, наверно в то время это казалось смешным.
Что касается Эмили, то ей, разумеется, было не до смеха. Я вспоминал, как несколько лет тому назад она говорила мне, что брак — это разновидность узаконенного насилия. Во всех ее нынешних тяготах все-таки, думал я, было нечто светлое: я не мог допустить, чтобы Артур менее переживал происходящее. Я был уверен, что он просто полагает, что исполняет свой долг, не унижает ее ради своего удовольствия.
Со мной обсуждать она ничего не хотела. Пару раз я порывался тактично осведомиться, появились ли какие-либо признаки беременности — и каждый раз не без риска, что буря обрушится на мою голову.
Наиболее цензурной реакцией с ее стороны было:
— Как вонючая старая бабка, так и норовишь сунуть свой нос в грязное белье!
На подвижках в ценах кофе после обнародования истории с «Настором» Пинкер заработал больше, чем его «Кастл» принес ему за полгода. Нэрроу-стрит переживала тайный триумф, хотя и одновременно некоторое потрясение: думаю, мы все были поражены, насколько легким оказался этот новый способ наращивания капитала. Не понадобилось ни новых складов, ни новой техники, ни носильщиков, ни чернорабочих для сортировки, ни шелушения и поджаривания бобов; всего лишь несколько подписей на нескольких долгосрочных контрактах. Это была прибыль без затрат; прибыль, которая, казалось, преобразовалась из идеи, пришедшей в голову Пинкера, в реальные наличные деньги в банке без посредничества какого-либо иного фактора, кроме его собственной воли.
Пинкер щедро обошелся со своими служащими. Каждый получил свой бонус в соответствии со сроком службы. А те, кто, как Дженкс, работали на Пинкера многие годы, стали просто состоятельными людьми.
В отношении меня Пинкер оказался даже щедрее, чем я мог ожидать. Будучи вызван к нему в кабинет, я обнаружил его сидящим перед несколькими гроссбухами.
— А, Роберт! Я как раз просматриваю учетные книги, разбираюсь со всякими неувязками. — Он улыбнулся. — Как это приятно, ликвидировать старые ошибки одним росчерком пера.
Я кивнул, хотя не вполне понимал, что он имеет в виду.
— Собираюсь списать это эфиопское предприятие, — пояснил он. — Настало время оставить все в прошлом и снова заглянуть в будущее. Чистый бухгалтерский баланс — гладкая доска, ждущая, чтобы ее заполнили новые свершения. — Он отложил книги в сторону. — Вы ничего не должны мне, Роберт. Ваши долги аннулированы.
— Благодарю вас, — начал я, — но…
— Отныне вы будете получать такое же жалованье, как Дженкс или любой иной из моих старших помощников. И так же, как и они, вы будете ежегодно получать свой бонус в зависимости от того, насколько успешно продвигаются наши дела.
— Это весьма щедро с вашей стороны, но…
Он остановил меня жестом руки:
— Хотите сказать, что вы свободный художник. Я знаю. И именно поэтому, Роберт, я так высоко ценю вас и именно поэтому я хочу убедить вас остаться со мной. Не все в моем окружении, — он поджал губы, — не все способны рассмотреть крупное дело. Вернее, они его видят, но не способны оценить всю его красоту. Дженкс, Дэтэм, Барлоу… Иногда у меня возникает сомнение, хватит ли у них воображения двигать вперед такую компанию, как наша. Вы и я, Роберт, мы оба понимаем, что иметь продукт — это еще не все. Человеку необходимо предвидение.
— Вы имеете в виду свои политические цели? Трезвый образ жизни, социальные преобразования и прочее?
Линкер нетерпеливо махнул рукой, будто отгоняя от себя муху.
— Отчасти. Но это все не главное, Роберт, совсем не главное. Искусство не может быть нравственным или безнравственным. Оно существует ради самого себя. Вы ведь именно так считаете, не правда ли? Так вот: то же и в коммерции. Бизнес ради бизнеса! А почему нет? Почему бы предприятию просто не существовать с единственной целью — как явление выдающееся; остаться незыблемым, вызывать восхищение, и таким образом изменить образ мыслей человека, его жизнь, его деятельность… Вы сами, Роберт, со временем станете свидетелем этого. Вы увидите будущее величие нашей компании.
Казалось, он ждал, что я как-то отреагирую на его слова.
— Ну да, — вежливо отозвался я.
— Словом, вот что: я предлагаю вам пост главного моего помощника. В таких случаях обычно отвечают «да» или «нет».
Я колебался. Но, в сущности, решение напрашивалось само собой. Работа по-прежнему была мне нужна, никто мне ее больше не предлагал. Я не питал особых иллюзий в отношении радужных предвидений Пинкера: я вообще ни по какому поводу особых иллюзий не питал. Этот человек — новый Наполеон, но он был чертовски талантлив, к тому же платил приличные деньги.
— С удовольствием принимаю ваше предложение, — сказал я.
— Отлично. Значит, договорились. И, Роберт, в скором времени вы сможете распроститься с жильем на Кастл-стрит, нет возражений? Вы вправе позволить себе более комфортные апартаменты при жалованьи, которое я собираюсь вам платить. Да и у моей дочери, как я слышал, скоро появятся иные заботы помимо кофе.
Если Линкер считал, что этим он вынуждает меня сделать выбор между его дочерью и им в его пользу, то он ошибался. Хотя у меня и не было намерения пока покидать Кастл-стрит, Эмили я теперь почти не видел. Всю свою энергию она направила на политическую деятельность.
По мере того, как борьба суфражисток становилась все ожесточеннее, сама их организация принимала все более авторитарный характер. Прежде у них был некий устав, выборы руководящих лиц, решения принимались открытым голосованием. Теперь с уставом было покончено.
«Руководители должны руководить: рядовые члены должны исполнять их приказы», — писала миссис Панкхерст,[68] их председательница, или, как теперь она именовала себя: «Главнокомандующий Армией Суфражисток». «Мы никого не принуждаем вступать в наши ряды, но те, кто вступают, должны становиться солдатами, готовыми вступить в битву».
— Но разве это не прямая противоположность тому, что отстаиваешь ты? — спросил я как-то у Эмили в один из редких случаев, когда мы сошлись за чашкой кофе. — Разве может организация претендовать на демократию, если она отказывает в демократии своим же сторонницам?
— Важен результат, не средства его достижения. А я, как и призывает Панкхерст, вступила в организацию по собственной воле.
У меня создалось впечатление, что цели этого движения становятся куда важней, чем его принципы, хотя что я мог знать обо всем этом. Никогда не имея в жизни ни целей, ни принципов, я вряд ли имел право судить.
Эмили приказывалось выкрикивать лозунги в лицо какому-то министру; она подчинялась. Ей было приказано распространять в том или ином районе листовки; она подчинялась. Ей было приказано выступить на фабрике в Ист-Энде; она подчинялась, хотя в итоге ее забросали там гнилыми яйцами.
Противники суфражисток прибегли, в частности, к такой тактике: во время выступления суфражисток на сцену им подбрасывались мыши и крысы с прицелом на то, что их появление спровоцирует женский визг и тем самым повергнет в хохот слушателей. Я присутствовал на выступлении Эмили в Экстер-Холле, когда случилось такое. Она остановилась, не сбавляя шага, подхватила за хвост пробегавшую мимо мышь; подняв ее повыше, так чтобы в зале было видно, произнесла:
— Когда-то и я была такой же мышкой. Теперь же это Эсквит.[69] А вот это, смотрите! — Она указала на крупную серую мышь, пробегавшую по сцене, Эта — сам мистер Черчилль![70]
Я ей рукоплескал.
Но вдруг через несколько минут заметил, что Эмили пошатнулась. Сначала я отнес это за счет духоты, — в зале набилось много народу; в те бурные годы на всех собраниях было не протолкнуться. Повернувшись к председательствовавшей, Эмили спросила:
— Можно стакан воды?
Она страшно побледнела. Откуда-то принесли воду; но, принимая стакан, Эмили покачнулась снова, пролив воду себе на платье. Я расслышал, как председательствовавшая спросила озабоченно:
— Вам нехорошо? На вас лица нет.
Последовал ответ Эмили:
— Немного закружилась голова…
И не успев договорить, рухнула без чувств.
Ее вынесли со сцены. Я кинулся вокруг рядов к боковой двери, и увидел: она сидит в кресле и ее обмахивают.
— Это потому что очень жарко, — произнесла она, кинув на меня предупреждающий взгляд. — Здесь душно очень.
Я не стал возражать, но мы оба понимали, что она беременна.
— Может, уже хватит с тебя?
— Нет-нет, — замотала она головой.
— Если ты не прекратишь, ты повредишь своему здоровью.
— Глупости, Роберт. Женщины рожают детей вот уже миллионы лет, и им приходилось во время беременности проделывать куда более тяжелую работу, чем выступать с какими-то речами. Это просто первые месяцы так… говорят, дурнота обычно через пару месяцев проходит.
— Ты Артуру сказала?
— Пока нет. Они с доктором Мейхьюзом непременно захотят положить меня в больницу. Словом, пока я решила промолчать, вот так.
— Что-то мне это очень не нравится!
— Я никак не могу взять и все прекратить, Роберт. Сейчас как раз самый критический момент… еще поднажать и, я уверена, правительство рухнет.
Я-то лично считал как раз обратное — чуть поднажать и суфражистское движение сойдет на нет. Но вслух я этого не произнес.
Отчасти из эгоистических побуждений. Я понимал: когда ее беременность станет всем известна, она будет вынуждена, несмотря на все свои протесты, отойти от политики. И стоит только этому произойти, как сразу изменится и все остальное. Кафе на Кастл-стрит закроется. И, став матерью, Эмили неизбежно сделается добропорядочной супругой — такой, какой ее хочет видеть ее муж.
Со своим внезапно обретенным богатством я отправился на аукцион «Сотбиз», где приобрел несколько прелестных рисунков одного художника эпохи Ренессанса, в частности, головку молодой итальянки, напомнившей мне Фикре. Я устлал свои комнаты на Кастл-стрит турецкими коврами, увенчал свой стол изящным серебряным подсвечником и снова стал завсегдатаем теперь уже более дорогих отделов универмага «Либертиз». Казалось, моя жизнь наконец обрела нормальное течение. Я стал торговцем кофе, служащим компании, я работал на один из крупнейших лондонских концернов. В утешение мне оставались лишь искусство и развлечения.
Я заметил также, что в последнее время реклама «Кастла» явно изменила свой лучезарный тон. Наряду с улыбающейся, услужливой женщиной первых плакатов, все назойливей проступал новый тип жены — строптивой дамочки, предпочитавшей не кофе, а исключительно сливки. Женщины, не подававшие своим мужьям кофе «Кастл», подвергались на рисунках выговорам, шлепкам, а в одном из случаев оскорбляющий мужей напиток был даже вылит какой-то жене на голову, — и вся подобная реклама исходила от мужей, которые требовали полной покорности от жен, как в отношении кофе, так и в остальном. Новый девиз — Дом мужчины — его крепость! — сопровождал такие, например, подписи к рисункам: «Твое право пить отличный кофе: подавать его тебе — обязанность твоей жены. Не становись жертвой женской скаредности!» Один из рекламных рисунков даже изображал женщину с транспарантом — явно суфражистку, готовую бросить своего мужа и идти на демонстрацию, — подпись гласила: «Кто главный в семье? Мужчины, докажите свою власть! Если она не подает вам кофе „Кастл“, значит вы не мужчина!» Было очевидно, что противники заняли боевые позиции.
Горечь — привкус, допустимый лишь до определенной степени.
Началась подготовка к публикации сведений об урожае бразильского кофе в очередном году. Кошмарные слухи носились по Бирже — о том, что цифры будут чудовищные, что цифры будут шокирующие, и то ли заморозки, то ли порча, то ли политика, то ли война непременно сильно снизят урожай кофе. В какой-то момент возникла внезапная паника: будто бы с президентом Бразилии случился сердечный приступ. Цена подскочила на два цента за мешок, вынуждая бразильскую сторону вмешаться, после чего выяснилось, что слухи необоснованны.
Пинкер наблюдал все это с веселым интересом.
— Они занервничали, Роберт, торговцы понимают, что такое невозможно: просто они ждут, когда им скажут, в какую сторону бежать. Это льет воду на нашу мельницу.
— Кое-кто из моих друзей-журналистов интересуется, переменится ли рыночная конъюнктура.
— Правда? — Пинкер задумался. — Скажите им… скажите им, что, вы считаете, будет спад, хотя по какой причине, пока определить не можете. И еще, Роберт… если хотите, подскажите им, как занять короткую позицию[71] на Бирже.
— Но если я так им скажу, не будет ли это означать, что мы подталкиваем их вкладывать на будущее. Что если мы ошибемся?
— Такого быть не может. И, кроме того, что же тут плохого, если они будут иметь в этом деле свой собственный интерес?
Все больше и больше времени он проводил, совещаясь со своими банкирами за закрытыми дверями. А теперь у него начались встречи с субъектами совершенно иного рода — молодыми людьми в коротких клетчатых пиджачках с громкими, самоуверенными голосами.
— Спекулянты, — бросил Дженкс презрительно. — Одного из них я знаю — некто Уолкер; говорят, его часто можно встретить в Сити. По-моему, он приторговывает валютой.
— И что все это значит?
Дженкс развел руками:
— Старик скажет, если сочтет нужным.
Кроме того, Пинкер сосредоточенно интересовался прогнозами погоды и всякими непонятностями. Однажды я заметил у него на письменном столе «Альманах» Мура.[72] Все поля были исчерканы какими-то странными каракулями и знаками, напоминавшими алгебраические, но которые вполне могли носить астрологический характер.
— Ожидается еще одна демонстрация, — сказала Эмили. — Эта будет самой крупной, все суфражистские общества объединились, чтобы ее организовать. Созывается около миллиона участников, толпа заполнит все улицы от Гайд-парка до Вестминстера.
— И, я вижу, несмотря на свое положение, ты намерена пойти?
— Конечно.
— Отсутствие одного человека никто не заметит.
— Если так скажет каждая, тогда ни о каком «Деле» не может быть и речи. Послушай, Роберт, некоторые женщины идут на неимоверные жертвы, лишь бы участвовать в этой демонстрации, — служащие рискуют потерять работу, жены рискуют быть избитыми мужьями.
— Давай я пойду вместо тебя.
— Что?
— Если ты согласишься просто посидеть дома, я пойду вместо тебя. Но если ты настаиваешь на своем участии, я не пойду. Так что общее количество останется прежним.
— Неужели ты не понимаешь, — сказала Эмили, — что это совсем не одно и то же?
Я пожал плечами:
— Пожалуй, не понимаю.
— Это тебе не очки какие-нибудь подсчитывать. Мы — живые голоса, мы живые люди, которых должны услышать. — Она, посмотрела на меня и беспомощно развела руками: — Нет, Роберт, это уже просто несносно!
— О чем ты?
— После твоего возвращения из Африки, — сказала она тихо, — ты стал совершенно другим.
— Я повзрослел.
— Возможно. Но ты к тому же стал циничней и озлобленней. Куда подевался тот жизнерадостный позер и баловень судьбы, которого отец встретил в «Кафе Руайяль»?
— Он был влюблен, — сказал я. — Дважды. И оба раза не заметил, что оказался круглым идиотом.
Она тяжело вздохнула:
— Пожалуй, мой муж прав. Пожалуй, нам с тобой надо меньше встречаться. Тебе, наверно, это не просто.
— Я не могу отказаться от тебя, — резко бросил я. — Я освободился от той, другой, но от тебя освободиться не могу. Ненавижу себя за это, но не в силах ничего с собой поделать.
— Если я действительно причинила тебе столько горя, лучше тебе отойти.
Что-то напряглось в ее голосе. Я взглянул на Эмили: в уголках ее глаз блестели слезы.
— Это, наверно, из-за малыша, — всхлипнула она. — Из-за него у меня глаза постоянно на мокром месте.
Видя ее в слезах, я уже не мог перечить. Но и продолжаться так больше не могло. Она была права: ситуация была безысходная.
На Нэрроу-стрит я обнаружил, что со склада носильщики выгружают мешки.
— Что происходит? — спросил я у Дженкса.
— Похоже, мы продаем свои запасы, — сухо сказал он.
— Как — все? Почему?
— Меня не удостоили объяснениями на этот счет. Может быть, вам он скажет больше.
— А, Роберт! — выкрикнул Пинкер, завидев меня. — Идите сюда! Мы отправляемся в Плимут. Только мы с вами. Поезд отходит через час.
— Замечательно. Но почему в Плимут?
— У нас там встреча с другом. Не беспокойтесь, в надлежащее время вы все узнаете.
Мы расположились в первом классе и следили в окошко за проплывавшим сельским пейзажем. Пинкер был на удивление молчалив; в последние дни им произносились некие импровизированные лекции, но я отметил также, что, находясь в движущемся транспорте, он несколько стихает, как будто неистовое стремление поезда вперед каким-то образом утоляет в нем неутомимую жажду активности.
Я вытащил книгу.
— Что вы читаете? — спросил он.
— Фрейда. Довольно интересно, хотя порой совершенно невозможно понять, что именно он хочет сказать.
— О чем он пишет?
— В основном, о снах. — И вдруг что-то заставило меня злорадно добавить: — Правда, в этой главе об отцах и дочерях.
Пинкер вяло улыбнулся:
— Удивительно, что у него это заняло всего одну главу.
— Смотрю я на этих овец, Роберт, — сказал он позже, глядя в окно. — Забавная штука. Когда мимо них пролетает поезд, они пугаются, но всегда при этом бегут в том же направлении, в каком движется поезд, хотя куда логичней было бы бежать в другую сторону. Они бегут, видите ли, откуда поезд уже ушел, не туда, куда он идет; они не способны понять смысл его движения.
— На то они и овцы, — заметил я, не вполне понимая, куда он клонит.
— Все мы овцы. Кроме тех, кто ими быть не желает, — послышалось мне в его шепоте, обращенном к окну.
Должно быть, я задремал. Открыв глаза, я обнаружил, что Пинкер смотрит на меня.
— Каждый раз, когда мы покупаем и продаем на Бирже, мы получаем прибыль, — сказал он тихо, как будто просто продолжал беседу, начало которой я пропустил. — Но этого мало. Каждый раз бразильцы вынуждены вмешаться в процесс и скупать больше кофе, им приходится его хранить, а это стоит денег. Таким образом, каждая наша прибыль давит на них все сильней и сильней. Меньше всего они хотят теперь хорошего урожая — они не могут позволить себе хранить избытки, накопившиеся с прошлых лет. Заморозки могли бы спасти их, но заморозков у них не бывает. — Пинкер покачал головой. — Не могу поверить, что это случайность. Никак не могу. Но тогда как это назвать? Каким словом?
Я кивнул, но больше он ничего не сказал, и вскоре я задремал снова.
В Бакли, небольшом полустанке близ Плимута, нас ждал вагон. На дверях я увидел небольшую монограмму, геральдическое «Н». Я попытался вспомнить, где я видел ее раньше. И тут до меня дошло: это было то же транспортное средство, которое я видел на фазенде в Бразилии.
— Это же монограмма Хоуэлла! — удивленно воскликнул я.
Пинкер кивнул:
— Мы едем к нему в его английский дом. Мы оба с ним сочли, что здесь встретиться благоразумней, чем в Лондоне.
Английский дом Хоуэлла представлял собой особняк в елизаветинском стиле. По обеим сторонам длинной дороги паслись овцы: сквозь просветы деревьев громадного парка проглядывало далекое море. Садовники были заняты стрижкой живой изгороди, а егерь с терьерчиком в кармане куртки и с ружьем под мышкой снял шапочку, приветствуя нас, когда мы проходили мимо.
— Красивое поместье, — заметил Пинкер. — Сэр Уильям недурно устроился.
— Неужто вы никогда не подумывали, чтобы завести себе нечто подобное?
Спрашивать, может ли он сейчас себе это позволить, уже не было необходимости.
— Это не в моем вкусе. А, вот и наш хозяин идет нам навстречу!
Они удалились, закрыв двери, в гостиную на полчаса, потом позвали меня. Заседали, обложившись множеством бумаг: по виду, юридического свойства.
— Входите, Роберт! Входите и присоединяйтесь к нам! Сэр Уильям привез нам подарок. — Пинкер протянул мне большой конверт. — Взгляните!
Я вынул листы, просмотрел. Сначала я ничего не понял — это был список иностранных названий, около каждого какие-то цифры, а внизу какие-то промежуточные подсчеты.
— Это цифры урожая нынешнего года из пятидесяти крупнейших поместий Бразилии, — пояснил сэр Уильям.
— Как вам удалось их добыть?
— Такой вопрос уместней не задавать, — сказал он с улыбкой. — И, разумеется, на него уместней не отвечать.
Я снова взглянул на цифры:
— Но уже это превышает производство кофе в Бразилии за целый год.
— Пятьдесят миллионов мешков, — кивнул Пинкер. — Между тем, правительство Бразилии объявило только тридцать миллионов.
— И что же будет с остальным кофе? Его уничтожат?
Сэр Уильям покачал головой:
— Это бухгалтерский трюк, вернее, серия трюков. Они ввели ложные цифры потерь, уменьшили размеры некоторых хозяйств, выдумали несуществующие потери — короче, сделали все, чтобы создать впечатление, будто они производят кофе меньше, чем в действительности.
Спрашивать, зачем им вздумалось так поступить, не приходилось.
— Если на Бирже об этом узнают, то…
— Вот именно! — подхватил Пинкер. — Роберт, пожалуй, вам стоит отобедать с кем-нибудь из ваших приятелей газетчиков… Надо точно рассчитать время — нужно, чтобы новости начали публиковать с будущей недели. Не сейчас, упаси Бог. Нам надо посеять панику, а инвесторы обычно сильней ударяются в панику, когда понимают, что не в курсе реального положения вещей.
— Верны ли эти данные?
— Для наших целей вполне достаточно, — пожал плечами Хоуэлл. — Естественно, это требует основательной проверки.
— Вы просто должны сказать, Роберт, что ожидается громадный скандал, — продолжил Линкер. — Потом, когда в Палате общин в будущую пятницу будет сделано заявление…
— Откуда вы знаете, что в пятницу будет сделано заявление?
— Потому что знаю, кто его сделает и по какой причине. Но это все только начало. Потом будет объявлено о расследовании, произведенном министерством торговли и промышленности, и монопольная комиссия призовет к санкциям против Бразилии…
Мой мозг бешено заработал:
— Министерство торговли и промышленности — ведь это же вотчина Артура Брюера? И он же председатель этой комиссии!
В глазах у Пинкера вспыхнули искорки:
— Раз имеешь зятя в правительстве, почему бы не снабдить его информацией государственной важности? Но даже и тогда цифры эти мы не огласим — по крайней мере, не все: вы должны подкидывать разные порции данных из этого документа в разные газеты, чтобы ни у кого не возникла цельная картина. Они все будут гадать, строить домыслы, и домыслы будут множиться…
— На рынках поднимется паника.
— Рынки узнают правду: что они оказались слишком доверчивы. Бразильцы опубликуют свои данные во вторник. И их данные, мы можем это утверждать, окажутся очередной фикцией — громадным преуменьшением. Другое дело, что на сей раз всем это станет очевидно. — Скрестив ноги, Пинкер откинулся в своем кресле. — Вот он, этот момент, Роберт, — тихо сказал он, — я ждал его целых семь лет.
Он держался крайне невозмутимо, как, впрочем, и Хоуэлл. Я позже узнал, что все, что он делал, — все его спекуляции, овладение новыми финансовыми инструментами,[73] контакт с Хоуэллом, даже устройство моих связей с газетчиками — все было направлено на осуществление этой конечной цели. То, что я и рынки воспринимали как изменения тактики, на самом деле обернулось чудовищным, жестоким постоянством.
— Если рынок рухнет, он уничтожит и вас, — заметил я Хоуэллу.
— И я так думал, — спокойно сказал он. — Как любой, черт побери, недалекий мировой производитель кофе, я считал, что нам необходимо поддерживать цену на кофе. Но этого не нужно. Именно эти, маломощные производители, первыми и обанкротятся. Когда все это закончится и цены установятся, мои плантации по-прежнему станут приносить доход — пусть небольшой доход с акра, но нормальный после проведения всей этой операции. — Он кивнул на Пинкера. — Ваш хозяин и проделал эту арифметику.
— Это он и послал вам? — сказал я. — Так вот что было в том письме. Арифметика.
— С какой стати сэру Уильяму поддерживать фермеров, которые менее успешны, чем он? — сказал Линкер.
— Жить станет куда легче, если останутся только крупные фазенды. Мы можем вступать в деловые связи друг с другом: пусть вымогатели, засевшие в Сан-Паулу и сосущие нашу кровь, сами о себе позаботятся ради разнообразия.
— Будущее за небольшим количеством крупных компаний, — вставил Пинкер. — Я в этом убежден.
— А что будет с мелкими производителями? — медленно произнес я. — Что будет с совсем малыми? В течение двадцати лет их убеждали сажать кофе — вырывать с корнем то, что пригодно в пищу, и жить ради выращивания того, что можно только продавать. Должно быть, по всему миру таких миллионы. Что будет с ними?
Оба старика равнодушно смотрели на меня.
— Они вынуждены будут голодать, — сказал я. — Некоторые обречены на смерть.
— Роберт, — беззаботно произнес Пинкер, — мы ведь… мы вступаем в грандиозное начинание. Подобно тому, как всего поколение тому назад прозорливые и предприимчивые британцы освободили рабов от ига тирании, так и мы сегодня имеем возможность освободить рынки от засилья иноземного контроля. А те, о ком вы говорите, они подыщут себе для выращивания что-нибудь более подходящее, отыщут для выживания иные надежные способы. И будут себе процветать и благоденствовать. Освободившись от невыносимых пут фальшивого рынка, они предпримут новые попытки, новые инициативы. Возможно, получится не у всех. Но кое-кто сумеет изменить и обогатить свою страну куда успешней, чем посредством кофе. Вспомним нашего Дарвина: эволюционный прогресс неизбежен. И нам — нам троим, находящимся сейчас, в этой комнате, — выпала честь быть орудиями его осуществления.
— Было время, когда я проглотил бы весь этот вздор, — сказал я. — Оно прошло.
Пинкер вздохнул.
— Вы могли бы нажить целое состояние, когда произойдет коррекция рынка, — резко сказал сэр Уильям.
«Коррекция». Я отметил его выбор слова, как точно оно определяло безупречную правильность их поступков.
— Лишь нескольким людям во всем мире известно то, что теперь знаете вы. Если завтра вы займете короткую позицию по кофе…
Пинкер кинул на него предупреждающий взгляд.
— Дело, Роберт, не только в деньгах. Подумайте, какая возможность открывается перед вами. Представьте, каким уважением вы станете пользоваться в Сити! Мы с сэром Уильямом уже далеко не молоды; скоро закончится наш срок, и тогда на смену нам придет новое поколение. Почему бы вам, Роберт, не стать его представителем? У вас есть способности, я знаю. Вы такой же, как и мы: вы понимаете необходимость смелых действий, принятия крупных решений. Да, вы молоды, иногда заблуждаетесь, но мы всегда будем рядом, чтобы вас направлять. В своих успехах вы всегда будете чувствовать нашу дружескую поддержку, но принимать решения будете самостоятельно, открывать свои собственные, полные риска пути…
— И еще есть вкладчики, — сказал я. — Все те, кто вложил свои сбережения в кофейные акции. Они тоже потеряют все.
— Спекуляция дело рискованное. Эти люди уже получили приличный доход благодаря нашим предыдущим усилиям. — Пинкер развел руками. — Не о них я думаю. Я думаю о вас.
Оба в ожидании уставились на меня. На мгновение мне показалось, что они удивительно похожи на двух старых псов, которые, ощерившись клыками, только и ждут, когда я повернусь и подставлю им свою шею.
Я подумал об Эмили, готовую противостоять собственному мужу, отстаивая свою правоту. Я подумал о Фикре, купленной и проданной, как мешок кофейных зерен, только потому, что не там и не той родилась. И я подумал о жителях моей деревни, — о моем возрастном клане, — о тех, кто собирает кофейные ягоды бережно, горсть за горстью, во влажных джунглях абиссинских гор; тот самый кофе, который скоро ничего не будет стоить.
— Ничем не могу вам помочь, — сказал я.
— Помешать нам вы не сможете, — сказал сэр Уильям.
— Наверное. Но участвовать в этом я не хочу.
Я встал и вышел из гостиной.
Я шел обратно к станции по длинной живописной аллее. Мимо пасущихся овец, садовников и егерей — этого идиллического пейзажа, оплаченного потом сотен тысяч поденщиков. У Пинкера остался мой обратный билет. Обратно в Лондон я ехал третьим классом, среди мужчин, куривших дешевые сигареты; сидел на скамье, оставившей на моем дорогом костюме следы угольной пыли.
План, реализуемый Пинкером, был прост. На языке Биржи — он занимал короткую позицию. Он продавал не только то кофе, которое имел, но и то, которого у него не было, — создавая контракты на будущие поставки, ожидая, что к тому времени цены упадут, и он сможет скупить его по ценам ниже тех, по которым ему пришлось его продавать.
Но короткая продажа это не просто ставка, которая поведет за собой рынок. При достаточно крупных объемах короткая продажа сама создает переизбыток, который, в свою очередь, все сильнее давит на цену. Понятно, этот переизбыток не существует в реальности — скорее, это ожидание переизбытка: нигде кофе уже нет, но внезапно оказывается больше продавцов, чем покупателей. И торговцы, которые, в конечном счете, сами имеют денежные долги, возьмут все, что смогут достать, чтобы прикрыть свои позиции, — иными словами, закрыть свои бухгалтерские книги.
Если к этому давлению добавится и еще кое-что — например, паника на рынке, когда обычные вкладчики кидаются продавать, — тогда даже правительство не сможет купить достаточно продукта для поддержания цены. Пинкер обанкротит экономику Бразилии, а заодно и любой другой страны, по глупости ставшей на защиту Бразилии. И мировая цена — та, за которую продается кофе, от Австралии до Амстердама, — упадет.
Я не сомневался, что этим все не кончится. Спекулянты валютой и прочие господа из Сити непременно тоже последуют его примеру. Несомненно, были производные методы и соглашения об обмене обязательствами, займы и свои рычаги, к этому малому полю битвы катило все современное тяжелое финансовое вооружение. Но, по сути, все делалось совершенно в открытую, как в игре в покер. Пинкер со своими союзниками будут продавать кофе, которого у них нет: правительство Бразилии будет покупать кофе, которое ему не нужно. И победителем станет тот, у кого окажутся крепче нервы.
Вернувшись на Кастл-стрит, я обнаружил там Эмили, которая сворачивала очередной транспарант.
— Твой отец собирается обрушить рынок, — коротко бросил я. — Он в сговоре с сэром Уильямом Хоуэллом. Как и твой супруг. Они замышляют устроить панику на Бирже.
— Зачем это им? — спокойно сказала она, продолжая сворачивать транспарант.
— Они все наживут на этом состояние. Но, признаться, я думаю, что причина не только в этом. У твоего отца навязчивая идея оставить в истории свой след. Лишь бы только удалось, последствия его совершенно не волнуют. Эта мысль действует на него как наркотик. Ему неважно — разрушать или создавать, творить зло или добро, наживать деньги или терять, — не думаю, что его волнует что-либо, кроме одного: это сделал Пинкер.
Эмили вспыхнула:
— Какая жестокая несправедливость!
— Несправедливость? Когда мы с ним познакомились, он отстаивал трезвый образ жизни — может этому способствовать крушение цен? Потом он стал толковать об Африке, о том, как кофе будет содействовать обращению дикарей в христианство, — когда ты в последний раз слышала от него подобное? Это были пустые, взятые с воздуха идеи, из которых был до предела выжат весь сколько-нибудь имевшийся в них потенциал. По-настоящему он никогда не верил ни во что, кроме самого себя.
— Не смей так нагло чернить его, Роберт! — гневно сказала Эмили.
— Эмили, — со вздохом сказал я, — я знаю, лично я не слишком много принес пользы человечеству. Но я и не нанес ему большого вреда. То, что они делают сейчас, — это ужасно, это обречет на нищету множество людей.
— Рынки должны быть свободны, — упрямо отрезала она. — Если не отец, то этого добьется кто-нибудь другой.
— Скажи, неужели губить людям жизнь — свобода, а не надругательство над ней?
— Как ты смеешь, Роберт! — оборвала меня Эмили. — Оттого что сам в жизни ничего не достиг, ты хочешь умалить его достоинства! Я вижу, куда ты клонишь, ты хочешь унизить его в моих глазах!
— Господи, что ты говоришь!
— Ты всегда с завистью относился к тому, как я им восхищаюсь…
Мы опять разругались — не поспорили, разругались: каждый норовил побольней уязвить другого. Я, кажется, сказал ей, что она занимается своей политической деятельностью исключительно на деньги, нажитые на страданиях других людей; она сказала, что я не достоин даже чистить ее отцу ботинки; по-моему, я даже позаимствовал из Фрейда ряд оскорбительных выпадов. Но, видимо, сильней всего ее уязвило мое обвинение ее отца в том, что он попирает элементарные моральные принципы.
— Не желаю больше ничего слушать! Ты понял? Мой отец потрясающий, умнейший человек…
— Я не отрицаю его блестящих талантов, но…
— Он совестлив. Я уверена, он совестлив. Потому что, если нет…
И она вылетела вон, хлопнув дверью так, что петли заходили ходуном.
Я подумал: она вернется, и довольно скоро.
Не учел, до какой степени она упряма.
Пинкер, как потом рассказал мне Дженкс, после моего демарша вернулся назад на Нэрроу-стрит как ни в чем ни бывало. Передал Дженксу данные Хоуэлла и наказал ему вместо меня связаться с газетчиками. Журналисты были рады случаю угодить Линкеру; многие из них и сами, по моему совету, заняли короткую позицию и с готовностью взялись распространять слухи, которые могли бы обрушить рынок. Правильны ли были цифры Хоуэлла? Чем больше я над этим раздумывал, тем более сомневался, — хотя, он и сам заметил, что их необходимо подвергнуть более тщательной проверке.
Дженкс рассказал также, что Пинкер, отдав распоряжения, отправился на свой склад. К тому времени склад был пуст — каждый принадлежавший ему мешок до последнего зернышка был отправлен вон во имя битвы. Пинкер прошелся по громадному, отзывавшемуся эхом помещению и крикнул:
— Дженкс!
— Я тут, сэр.
— Продай это, ладно? Все продай.
— Что продать, сэр?
— Все это, дружище. — Пинкер, воздев руки кверху, круговыми движениями обвел все пустые углы хранилища.
— Но здесь ничего нет, сэр…
— Ты что, ослеп? А невидимое? Гипотетическое! Каждый альянс, каждую перспективную сделку, каждый цент, что сможем занять, каждый наш удачный контракт. Все продай!
В день, когда была назначена демонстрация, полил дождь — не легкий весенний дождик, а ливень, какие редко случаются в Англии, да такой сильный, что, казалось, боги сыплют пригоршнями камешки вниз на лондонские улицы. Вестминстерская площадь превратилась в сплошную трясину зловонной грязи. Невзирая на это, бесконечными рядами, заляпанные грязью, опустив под дождем головы, женщины двинулись в путь. В таких условиях подруги теряли друг дружку, и невозможно было даже ни до кого докричаться сквозь шум дождя, дождь слепил демонстранток, они не видели ничего, кроме вязкого месива под ногами…
В два тридцать в Палате общин Артур Брюэр поднялся, чтобы огласить свой вопрос. В руке он сжимал бумаги с данными сэра Уильяма об урожае кофе. Из-за шума дождя даже в Палате общин приходилось кричать, чтобы быть услышанным. Едва парламентские журналисты осознали суть выступления Артура — что слухи подтвердились, — они бросились к телефонам, а потом поспешили на улицу… Даже уважаемые члены Парламента, вложившие средства в кофе, кинулись разыскивать своих брокеров; не обнаружив, они также влились во всеобщий исход. Пинкер ожидал, что начнется паника, но даже он не смог предсказать, с какой скоростью она распространится.
Эмили не нужно было ходить. Это задним числом поняли все. Когда она рухнула в грязь, сначала даже никто и не заметил. Падали все женщины, скользя в своих сапожках и путаясь в длинных юбках; по улицам уже невозможно было пройти из-за возникшего столпотворения.
Может быть, ей следовало несколько поостеречься, тогда бы она не лишилась ребенка. Но кто это может сказать.
На Кастл-стрит я смотрел, как на моих глазах погода с ясной преображается в ненастье: черные, как подгоревшее мясо, облака собирались над городом. В этом виделось даже что-то живописное, но когда грянул ливень, мне показалось, что не дождь, а поток кофейных зерен грянул с небес на наши головы.
У меня не было желания наблюдать победу Линкера на Бирже, но закупщик Фербэнк туда отправился. Позже он рассказывал, что, когда все свершилось, когда правительство Бразилии все-таки признало свое поражение, и цифры пустились в свободное падение, — он наблюдал за выражением лица Линкера. Фэрбенк ожидал увидеть ликование. Но, как сказал он, физиономия Линкера не выражала ровно ничего: на ней лишь застыл вежливый интерес, когда Линкер, будто в трансе, следил за падением цифр.
По галерее для посетителей прокатилась волна аплодисментов. Те, кто не потерял, а нажил состояние, — предвидя, куда все пойдет, — рукоплескали стоя фантастическому успеху Линкера. Но даже и в этот момент он как бы этого не слышал. Взгляд его был сфокусирован на единственном мерцающем цифрами предмете — на черной доске внизу.
«Дегтярный» — погрешность во вкусе, придающая кофе неприятный горелый запах.
Дождь прекратился. Когда мы с Фербэнком переходили реку по Тауэрскому мосту, у причала Хэйс разгружались суда. Но вместо того, чтобы нести мешки с кофе в хранилище, грузчики сваливали их в громадную кучу на открытой площадке перед складами.
— Что это они делают? — озадаченно спросил Фербэнк.
— Непонятно.
Пока мы наблюдали за происходящим, с дальнего конца кучи показался легкий дымок.
— Они подожгли его, смотрите!
Должно быть, на сваленные мешки плеснули бензин: в мгновение ока пламя охватило всю кучу, как будто вспыхнул гигантский рождественский пудинг.
— Зачем же они его сжигают?
У меня перехватило в горле: я понял, что произошло.
— Новая цена. Теперь нет смысла его больше хранить. Дешевле сжечь, чтобы освободить суда для других грузов.
Я посмотрел вниз, на реку. Со стороны других пристаней вдоль берега — от причала Батлерс Уорф, дока Святой Катерины, Брамас и даже Канари Уорф — тянулись такие же облачка дыма. В воздухе запахло кофе: горьким, маняще сладким ароматом, который всегда ассоциировался у меня с запахом жаровен на складе у Пинкера. Теперь он неплотным пахучим туманом тянулся над Лондоном.
Потрясенный, я произнес:
— Они сожгут его весь…
Это происходило не только в Лондоне. Подобные костры горели по всей Европе — и даже в Южной Америке, потому что правительства покорились неизбежности и санкционировали массовое сжигание плантаций, у которых теперь не оставалось ни малейшего шанса приносить прибыль. Пеоны, беспомощно застыв, наблюдали за тем, как сгорает кофе.
В Бразилии некий журналист чувствовал запах горелых зерен, летя в самолете на высоте в полумиле от земли. Дым костров сбивался в большие тучи, плывшие к вершинам гор, и когда наконец грянули дожди, падавшая с небес влага пахла кофе.
Никогда не забуду этот запах и те дни.
Часами я бродил по улицам Восточного Лондона, не в силах оторвать глаз от происходящего. Это было похоже на какой-то кошмар. Воздух был наполнен сочными ароматами фруктов и цитрусов, паленого дерева и кожи. Мои легкие были настолько переполнены ими, что через какое-то время я уже не мог это больше воспринимать. Как вдруг, дразня, налетал ветер, порывом выдувало запах, прочищая глотку, и снова наполняя вернувшееся обоняние ароматом горящего кофе.
А вслед за этим ароматом надвигалось нечто темное: усиливалась горечь, по мере того, как зерна превращались в угли, и угли сгорали — потрескивая, тая, ссыпаясь в кучи горячей золы.
Я чувствовал, как бразильский, венесуэльский, кенийский, ямайкский кофе, даже «мокка» — все сгорает в этих кострах. Миллион чашек кофе, сожженных, будто бы ради подношения какому-то жуткому новому божеству.
В мою бытность в Эфиопии, когда я стал понемногу учить язык галла, деревенские дети поведали мне сказки, которые им рассказывали бабушки. Одна была про то, откуда взялся кофе, — не похожая на привычный арабский миф о пастухе, который заметил, что козы его сделались резвей обычного, а очень-очень древний.
Много столетий тому назад жила-была великая волшебница, которая умела разговаривать с зар, духами, которые правили нашим миром — вернее, вносили в него беспорядок. Когда эта волшебница умерла, небесный бог опечалился, потому что теперь не было никого, столь могущественного, чтобы держать этих духов в узде. Горькие божьи слезы окропили могилу волшебницы, и в том месте, куда падала слезинка, поднимался из земли кофейный куст.
Порой, когда жители деревни поили друг друга кофе, они как тост оглашали эту легенду.
Вода в реке подо мной, казалось, вот-вот закипит. Вкусим же и мы от горьких божьих слез.
К Пинкеру я больше не вернулся. Но недели через две, когда я уже запирал дверь кафе, в дверь кто-то постучал.
— У нас закрыто!
— Это я, — услышал я слабый голос.
Я открыл дверь. Она была в пальто, на тротуаре стоял ее саквояж.
— Я приехала на кэбе, — сказала она, — и уже отослала его. Можно мне войти?
— Конечно! — Я бросил взгляд на ее сумку. — Куда это ты собралась?
— Сюда, — сказала она. — Конечно, если ты меня примешь.
Я готовил кофе, а она рассказывала, что произошло.
— Мы с Артуром поскандалили. Каждый друг другу наговорил столько всего… Ну, ты сам знаешь, как я могу разойтись. Я сказала ему, что его целиком и полностью сделал мой отец, и впервые Артур вышел из себя.
— Он ударил тебя?
Она кивнула:
— Хоть и не так больно, но больше жить с ним я не хочу.
Я подумал: как это странно — после всего того, что случилось, после избиения женщин полицейскими, высокомерных речей, грубости парламентских распорядителей, после брачного насилия, — потребовалась всего лишь легкая, в сердцах нанесенная пощечина, чтобы наконец подвести черту.
Как будто читая мои мысли, она сказала:
— Понимаешь, он нарушил свой кодекс чести. Или я вынудила его нарушить.
— И как же ты теперь?
— Останусь здесь — если не возражаешь.
— Я? Разумеется, нет. Я даже очень этому рад.
— При этом, Роберт, надеюсь, ты понимаешь, отношения между нами должны быть строго корректными. Со стороны пусть болтают все что угодно, но мы по отношению друг к другу должны вести себя безупречно.
— Ладно, — вздохнул я.
— И не смотри на меня так! Кажется, в этой ситуации с Артуром, ребенком и доктором Мейхьюзом я наверное вообще ни на что не гожусь.
— Тебе надо отдохнуть. И тогда, после…
— Нет, Роберт. Не буду зря тебя обнадеживать. Если сочтешь, что тебе трудно быть мне просто другом, просто скажи, и я отправлюсь жить куда-нибудь в другое место.
— При чем тут доктор Мейхьюз? — позже спросил я ее.
— В каком смысле?
— Ты сказала, что в ситуации с Артуром и ребенком и доктором Мейхьюзом ты лишилась интереса к интимным отношениям. Первые два компонента я могу понять. Просто интересно, при чем здесь третий?
— А… — Она опустила глаза, но голос ее при этом не дрогнул. — Разве тебе не сказали, мне вынесли диагноз — истерия?
— Да, слыхал. Но это, разумеется, полный вздор. Более уравновешенной истерички я в жизни не встречал.
— Нет, Роберт. Ничего не поделаешь, они оказались правы. Я даже лечилась у одного специалиста.
— Лечилась? Каким образом?
Она не сразу ответила. Через некоторое время сказала:
— У них такая электромашина… основанная на принципе вибрации. Она освобождает от истерии. У пациента возникают такие… конвульсии. У врачей это называется пароксизм. Я чувствовала себя совершенно разбитой. По этому признаку они определяют, есть истерия или нет. Этот пароксизм — доказательство.
Я стал подробней расспрашивать ее, и мало-помалу начал понимать, что именно они с ней проделывали.
— Но Эмили, — сказал я, когда она закончила свой рассказ, — это вовсе не истерия. Это просто то, что должна ощущать женщина в постели с любовником.
— Не может быть.
— Ах, Эмили. Послушай…
— Нет, Роберт, честное слово, я больше не хочу говорить на эту тему.
Несмотря на ее запреты, несмотря на переполнявшее меня негодование к ее докторам за то, что они с ней проделывали, ее рассказ неожиданно вселил в меня некоторую надежду. Мне подумалось, что когда она оставит прошлое позади, то в один прекрасный день, возможно, вспомнив свои ощущения, она воспримет и меня уже несколько в ином свете.
Я проснулся среди ночи, меня разбудили рыдания.
Она сидела, свернувшись комочком в белой ночной сорочке, на ступеньках, ведущих вниз в кафе.
Я с удивлением отметил, что никогда еще не видел ее с распущенными волосами. Я подсел рядом с ней, обнял ее за плечи. Она была такая тоненькая, почти прозрачная.
— Я неудачница, — выговаривала она сквозь слезы. — Неудачница во всем. Я оказалась плохой женой, мне не удалось стать матерью, суфражистки из меня не получилось.
— Ш-ш-ш, — успокаивал я ее, — все будет хорошо.
И держал ее, застыв, не шевелясь, обхватив руками, а она до самого утра выплакивала мне свою несчастную душу.
«Тяжелый» — особенно относится к бразильским сортам.
Через месяц Линкер созывает экстренное общее собрание своего правления. Поскольку правление состоит из него самого, Эмили, Ады и Филомены, то собрание имеет вид званого обеда — призванного отметить, как считают дочери, выдающийся успех отца на Бирже.
Сестры уже давно не виделись, накопилось немало семейных новостей дня обсуждения. Лишь Эмили несколько тише обычного; но все члены семейства тактично делают вид, будто этого не замечают.
И только за кофе — который, понятно, не кофе «Кастл», а изысканный кенийский, с удлиненными зернами, который подается в излюбленном Линкером фарфоре «Веджвуд», — Линкер наконец переходит к теме дня, постучав ложечкой по стоявшей перед ним чашке, призывая этим к общему вниманию.
— Дорогие мои, — говорит он, окидывая взглядом сидящих за столом. — Сегодня у нас семейный праздник, но это также и заседание правления, на котором мы должны с вами обсудить несколько проблем. Я попросил Дженкса вести по такому случаю протокол. Пустая формальность, но мы должны ее соблюсти. Это не займет у вас много времени.
Входит секретарь и, приветственно улыбнувшись сестрам, подсаживается к столу. Пристраивает на коленях папку и вынимает перо.
— Это наш семейный бизнес, — начинает Линкер. — Поэтому мы можем устраивать собрания вот в таком виде. Теперь, боюсь, подобное считается весьма старомодным ведением дел. Открытые акционерные компании, зарегистрированные на Бирже, без утайки предоставляют свои фонды на благо огромных возможностей рынка, и именно потенциальные ресурсы и гибкость политики этих компаний позволит им в будущем распространиться по всему миру.
— Ты имеешь в виду, отец, что намерен пустить фирму в плавание по Бирже? — спрашивает Ада.
Теперь она — уверенная в себе молодая дама; брак с мужчиной, которого она обожает, сгладил в ней острые углы и озарил блеском ее глаза.
— Имей терпение, Ада, — снисходительно говорит Пинкер. — Эти компании, как ты, должно быть, заметила, могут также покупать и продавать друг друга. В Америке мы уже можем наблюдать возникновение того, что там именуется конгломератом, — компаний, владеющих более чем одним дочерним предприятием. И у нас тоже прежние недруги вынуждены создавать новые союзы. К примеру, Лайл и Тейт — два давних соперника теперь образуют отдельное объединение.
Пинкер помолчал.
— Я имел несколько бесед с одним из наших конкурентов, — продолжил он после паузы. — Богатейшим владельцем плантаций. Объединение интересов устраивает обе наши стороны. Наш «Кастл» представляет собой более устойчивый сорт и лучшее положение на рынке, а другая сторона компетентна по части производства самого сырья и знаний, которых с кончиной бедного Гектора мы оказались лишены. Этот человек располагает богатыми фондами, мы располагаем богатой наличностью. Я считаю, что вместе мы сможем создать компанию, способную приобрести мировое значение.
— Кто этот человек, отец? — спросила Ада.
— Это Хоуэлл, — сказал Пинкер. — Сэр Уильям Хоуэлл.
Следует гробовое молчание.
Первой паузу прерывает Филомена:
— Как ты можешь с ним сотрудничать? Вы же ненавидите друг дружку!
Пинкер хранит полную невозмутимость; более того, он даже улыбается, глядя на дочерей.
— Может быть, это вас удивит, но мы обнаружили, что по большинству проблем разногласий у нас нет. Сомневаюсь, что мы когда-либо станем близкими друзьями, но делать дело вместе мы, безусловно, сможем.
— Он обведет тебя вокруг пальца, — говорит Эмили.
Пинкер качает головой;
— Мы ему нужны даже больше, чем он нам. И не забудь, будущая компания будет зарегистрирована на Бирже. Будут и еще акционеры, чтоб поддерживать равновесие полномочий.
На этот раз тишина длится дольше.
— Завтра утром, как только откроется Биржа, мы объявим о своем решении. Вы должны понимать, что это будет означать конец семейной фирме «Пинкер». Новая компания будет управляться иным образом — это неизбежно, этого требует Биржа. Например, все акционеры получат право посещать общие собрания. — Пинкер обводит глазами комнату. — Сомнительно, чтобы все они разместились в нашей маленькой столовой.
Улыбок не последовало.
— Будем ли мы акционерами? — спрашивает Ада.
— Да, вы получите кое-какую долю. Но права голоса она вам не даст.
— Словом — фактически — нам предлагается продать акции? — Это реплика Филомены.
— Да, вы получите наличные деньги, очень много денег, от продажи своих акций новой компании.
— Не понимаю… — произносит Эмили.
— Я долго и тщательно все обдумывал, — твердо говорит Пинкер. — Если мы не хотим, чтобы нас проглотила какая-нибудь крупная американская фирма, мы сами должны стать крупной фирмой. — Он делает паузу. — Есть и еще один момент, который повлиял на это мое решение. У сэра Уильяма есть сын.
Дочери смотрят на отца во все глаза.
— Джок Хоуэлл посвящен во все тонкости дела своего отца. После того, как мы сформируем свою компанию, он непременно явится и примет на некоторое время часть обязанностей, разумеется под моим руководством, пока он полностью не освоит дело. Затем в свое время, когда мы с сэром Уильямом уйдем на покой, он уже вполне созреет, чтобы взять на себя и руководство всем объединенным предприятием.
— Ты собираешься отдать свое дело сыну Хоуэлла? — изумленно спрашивает Эмили.
— Разве у меня есть иной выбор? — спокойно отвечает Пинкер. — У него есть сын. У меня сына нет.
Дочери вдумываются в смысл сказанного, Пинкер поднимает свою чашку.
— Я, например, хочу еще кофе. Есть, чем наполнить?
— Значит, если у тебя были бы не дочери, а сын… — внезапно гневно произносит Эмили.
— Нет, нет и нет! — примиряющее произносит Пинкер. — Совсем не в этом суть. Ты же, например, замужем за членом Парламента, Ада и Ричард в Оксфорде, Фил больше всего интересуют балы и званые вечера. Разумеется, ни одна из вас не сможет возглавить фирму.
— Тебе стоило хотя бы спросить у меня, я бы согласилась, — говорит Эмили. — Я бы тогда от брака отказалась, если бы у меня был выбор…
— Все, хватит, — резко обрывает ее отец. — Не желаю слышать от тебя критических высказываний о твоем супруге. Хватит с нас и одного скандала.
— Как видно, ты мало что вообще намерен слушать, — с горечью говорит Эмили.
— Эмили, я не желаю, чтобы со мной говорили в подобном тоне.
Она закусила губу.
— Я выпью наконец кофе! — говорит Пинкер, указывая на чашку. — Спасибо, Дженкс, вы можете идти.
Дженкс закрывает папку и встает из-за стола.
— Погодите! — говорит Эмили.
— Эмили, что за причуды? Разумеется, он может идти.
— Мы должны проголосовать, — говорит она. И оглядывается на сестер. — Если у всех нас есть акции, мы должны проголосовать.
— Ну, не глупи! — говорит ее отец.
— Ведь так по-настоящему делаются дела, верно? — Она поворачивается к Дженксу. — Верно?
Дженкс неохотно кивает:
— Кажется, по процедуре так положено.
— И если мы проголосуем против, — говорит Эмили, обращаясь к сестрам, — никакого слияния не произойдет. А мы здесь представляем большинство.
— Да какой бес в тебя вселился? — гремит голос ее отца. — Прости, уважаемая, это тебе не какое-нибудь суфражистское сборище. Это моя компания…
— Это наша компания…
— Моя! — настаивает отец.
— Тебе не позволят твои акционеры так разговаривать с ними, если твою компанию зарегистрируют на Бирже, — замечает дочь. — Возможно, даже не и поддержат кандидатуру твоего Джока Хоуэлла. Или, возможно, он проголосует против тебя — ты об этом подумал?
В ярости отец молча смотрит на дочь.
— Кто против выдвинутого предложения? — говорит Эмили, поднимая руку.
— Хватит! — обрывает ее отец, приходя в себя. — Дженкс, можете идти. Запишите: предложение принято единогласно.
— Слушаюсь, сэр, — отвечает Дженкс.
И выходит из комнаты. Наступает долгая, мучительная пауза; и вдруг Эмили с рыданием выбегает вслед за Дженксом.
Она продолжала жить в комнате на Кастл-стрит; по мере того, как тревога все нарастала и нарастала, она все чаще и чаще засиживалась дома. Все эти дни я не помню, чтобы она хоть раз неуважительно отозвалась о своем муже или об отце. Собственно, о них она почти не упоминала. Мы с ней жили семейной жизнью, правда, не в традиционном смысле.
— Роберт?
Я поднял голову. На стойке бара стоял ящик из красного дерева. Эмили откинула крышку. Внутри рядами располагались стеклянные бутылочки, а также было там несколько чашечек и ложечек для дегустации.
Определитель.
Эмили выложила на стол четыре маленьких пакетика кофе и стала их раскрывать.
— Что это ты делаешь?
— Единственное, что нам осталось, — сказала она. — Это лучшие образцы нового кофе Фербэнка. Два сорта из Гватемалы и два из Кении.
Она осторожно полила кипятком первую порцию, взглянула на меня.
— Ну, что?
Я вздохнул:
— Это бессмысленно.
— Напротив, Роберт, в этом есть прямой смысл. Фербэнк утверждает, что это отличный, настоящий кофе. Те, кто выращивают его, не должны разоряться только потому, что вынуждены продавать свой кофе по той же цене, что и продукт, производимый Хоуэллом. В мире пока еще достаточно людей, кому не безразличен вкус кофе. Им просто необходим способ, чтобы отличить хороший кофе от скверного, — и наш Определитель будет бесполезен, если мы не осовременим его.
Она подвинула мне одну из чашечек.
— Чего ты от меня хочешь? — взмолился я.
— Чтобы ты попробовал, разумеется. Всоси, вдохни аромат и с силой сплюнь. Готов?
Мы с ней осадили гущу на дно и чуть отхлебнули из своих чашечек.
— Любопытный вкус, — задумчиво произнесла она.
Я кивнул:
— Пахнет бананом.
— А на языке слегка ощущается натуральная терпкость…
— Даже что-то от мускатного винограда.
Одинаковое ощущение во рту, на языке, на губах — у меня и у нее; оно лилось от нее ко мне и от меня к ней, как поцелуй.
— Черника или персик?
— Скорее слива. Или даже плоды терновника.
— И какая-то теплота… жареное мясо или, возможно, трубочный табак.
— Жареное мясо? Так не должно быть — иначе присутствовал бы специфический привкус. Пробуй еще.
— Я бы даже сказала — корочка свежеиспеченного хлеба.
— Отлично — сейчас запишу. Смени, пожалуйста, чашки!
— Знаешь, — сказал я, — мы могли бы уже просить Фербэнка приобретать для продажи здесь сорта кофе с африканских небольших ферм, не с крупных плантаций. Само по себе это мало что поменяет, но чем больше закупщиков это привлечет, тем очевидней даст возможность мелким фермерам не работать на белого человека.
— По-моему, идея замечательная.
— Конечно, кофе в результате станет дороже.
— Придется возмещать убытки?
— Кто его знает.
— Милый Роберт, ты же совершенно не представляешь себе, как вести дело.
— Наоборот — по моему опыту, именно деловые люди ничего в этом деле не смыслят.
— Ну, ладно, ладно… Напомни-ка мне ту африканскую поговорку, которую ты так любишь цитировать!
— «Одну паутину порвать легко, а тысячью паутин можно связать льва».
— Именно. Будем же пауками и начнем плести сеть.
— А вот этот, — сказал я, — напомнил мне Африку. Черника, глина и та отдающая пряностью бурая земля, на которой сушат зерна кофе.
— Но я ведь там не была, сказать ничего не могу. Хотя вкус пряностей могу определить — пожалуй, это лавр и куркума. И еще есть что-то — едва ощутимое…
— Да? Что именно?
— Не могу сказать. Какая-то сладость.
Из золы тех костров всколыхнулось едва заметным дуновением то, что нельзя упустить. Не просто надежда, даже не любовь, а что-то нежное, деликатное, воздушное, как дым. Что-то такое, что объединяло нас с Эмили здесь, в этой комнате, и одновременно объединяло нас с другими людьми — с Фербэнком и другими закупщиками кофе; с теми, кто неравнодушен к кофе и с кем-то еще. Понемногу разрастаясь, это неявное цепочкой посланий замерцало по всему миру.
И вот, как и предсказывала Эмили, настала пора, когда их движению потребовались мученики.
Решение суфражисток объявить голодовку изменило весь настрой их протеста, возбуждая к жизни кошмарную картину грядущих жертв: правительство уничтожает тех, кого само же провозглашало слабым полом.
Первые участницы голодовки были без огласки выпущены из тюрьмы по медицинским показаниям, но при нацеленности газет на эту тему ничто уже не могло оставаться тайным. Поэтому правительство, по слухам, под давлением самого короля, решило подвергнуть тех, кто отказывался от еды, к «больничному лечению»: что попросту означало — к принудительному приему пищи.
Это вызвало волну возмущения. Женщины, которые прежде не поддерживали милитанток, были и потрясены героизмом голодающих, и сильно напуганы тем, до каких крайностей готовы дойти мужчины ради сохранения собственного влияния. Что же касается суфражисток, насилие, применяемое к ним, заставило их действовать еще более агрессивно.
Правительство понимало, что если оно уступит сейчас, то это будет воспринято как его слабость. Оно понимало также, что уступка могла бы поднести на блюдечке другим партиям миллион новых голосов. А проиграть это соревнование правительство не могло себе позволить.
Такова была ситуация в сентябре, когда Эмили обязали бросить булыжник в окно в Палате общин.
— Не надо тебе туда ходить.
— Именно надо. К тому же я сама готова.
— Ведь есть же и другие…
— Как мне потом им в глаза смотреть, если кто-то пойдет вместо меня! — Она тряхнула головой. — Ты не понимаешь, Роберт! Если мне судьбой выпало попасть в тюрьму, это вовсе не жертва. Это… — Она подыскивала нужное слово. — Это мне выпала такая честь… я исполню свой долг, ради чего я столько работала.
— Неужели ты не видишь, — воскликнул я в отчаянии, — что ты все больше и больше становишься похожей на своего отца? Если что решила, тебя ничем не остановить.
На мгновение глаза ее гневно сверкнули. Но, взяв себя в руки, она сказала:
— Пусть так, Роберт. Да, я согласна, я такая. И именно поэтому там должна быть именно я и никто другой.
Ее арестовали при первой же попытке. После я все думал, не намеренно ли она старалась все делать на виду, не ловила ли специально момент, когда полицейский ее заметит.
Суд над ней был на удивление краток. Поскольку своей вины она не отрицала, выступлений в защиту не было. Производивший арест чиновник зачитал свои показания, прокурор произнес несколько слов, судья огласил приговор — десять шиллингов штрафа или три недели тюремного заключения.
— Я предпочитаю тюрьму, — спокойно сказала Эмили.
Ее слова были встречены аплодисментами собравшихся на галерее суфражисток. Судья стукнул молотком, призывая к тишине.
— Вы отказываетесь выплатить штраф?
— Я отказываюсь признать правомерность данного судилища, которое оплачено и моими налогами, но без моего согласия.
— Ну что ж. Уведите ее!
Я попытался подойти к ней, но меня не допустили. И я топтался среди ожидающих, надеясь хотя бы мельком увидеть ее, когда ее повезут в тюрьму Холлоуэй. Среди собравшихся я заметил Брюэра, одетого, как на похороны. Пробиваясь ко мне сквозь толпу, он надсадно прокричал:
— Теперь вы довольны, Уоллис? Или вам еще мало несчастий, которые вы навлекли на мою жену?
— Я не меньше вашего страдаю, что она попала в тюрьму, — в отчаянии произнес я.
Как раз в этот момент от здания суда отъехала «Черная Мария».[74] Автомобиль медленно пробивался сквозь массу народа, звоном колокола призывая людей освобождать дорогу. Эмили, сидящую сзади, увидеть было невозможно, но мы все громкими криками и рукоплесканиями старались подбодрить ее. Я все время представлял себя на ее месте и то, каково ей теперь.
Как вдруг я заметил еще одно знакомое лицо. Поспешив, чтобы не упустить ее, я выкрикнул:
— Ада? Ада Пинкер?
Она обернулась:
— Надо же, Роберт!
Она остановилась, а также и другая женщина рядом с ней.
— Я не предполагала вас здесь встретить.
— И я вас. Вы прибыли из Оксфорда? Эмили говорила мне, что вы замужем за тамошним профессором.
— Да. У нас там как-то нормальнее, нет такой дикости, как у вас в Лондоне. — Ада вздохнула. — Я в ужасе от всего этого.
— Я тоже. Эмили совершенно непреклонна. Подозреваю, что она предпочтет голодовку.
— Мы надеемся, что сможем ее повидать, — и Ада кивнула на свою спутницу. — Мы же все-таки одна семья.
Я повернулся к другой женщине:
— Кажется, я не имею удовольствия…
— Имеете, мистер Уоллис, — произнесла она голосом, показавшимся мне чем-то знакомым. — Хотя насчет удовольствия я сомневаюсь. Подозреваю, у вас сохранились обо мне не слишком радужные воспоминания.
Должно быть, мое лицо выразило явную растерянность, потому что Ада сказала:
— Филомена очень повзрослела с тех пор, как вы с ней виделись в последний раз.
— Боже милостивый… Лягушонок?
Юная женщина кивнула:
— Хотя теперь немногие меня так называют.
Я всмотрелся в ее лицо. И уловил лишь отголоски тех детских черт, что сохранились в памяти. Ее лягушачьи, с выпуклыми веками глаза преобразились. Вернее изменилось само лицо. И теперь глаза придавали ему необычное выражение, будто она только что проснулась.
— Я сохранила все ваши письма, — добавила Филомена. — Доводила сестер до исступления, приставала к ним: когда придет очередное. Я даже наизусть учила ваши письма.
— Весьма сомневаюсь, что их стоило перечитывать, — сказал я.
Мы шли от зала суда под гору вниз вместе с остальной толпой.
— «Можешь передать Аде, что, если хочет выйти замуж, то ей ни в коем случае не следует скалывать волосы на затылке», — процитировала Филомена. — «Здесь в этих целях принято выбивать себе парочку передних зубов, мазать бритую голову ярко-желтой краской и растленным ножом изрезывать зигзагами свой лоб. Только в этом случае вас признают красавицей и будут всегда приглашать танцевать». Вы, конечно же, помните эти свои слова?
— Боже милостивый, — пробормотал я снова. И перевел взгляд на Аду: — Неужели я был настолько бестактен? Прошу вас, простите меня!
— Не стоит извинений, — сухо сказала она. — Муж у меня этнолог, и бестактные сравнения с особями, чьи головы вымазаны ярко-желтой краской, меня уже не смущают.
У станции метро она остановилась.
— Нам в западном направлении. Дать вам знать, если узнаю что-нибудь об Эмили?
— Да, прошу вас! — Я вручил им свою визитку. — И, несмотря на печальные обстоятельства, было очень приятно снова встретиться с вами обеими.
— Взаимно, — тепло сказала Ада.
Мы обменялись рукопожатиями. Когда я пожимал одетую в перчатку руку Филомены, она сказала:
— Мне всегда было любопытно, мистер Уоллис, сочиняете ли вы еще свои нелепые стишки?
Я отрицательно покачал головой:
— Очень надеюсь, что полностью избавился от этого вздора. Правда, в последнее время столько всякого вздора исходит от нашего правительства.
— Это верно, — сказала Ада озабоченно. — Уж слишком они держатся за свои принципы. Очень надеюсь, что у Эмили все благополучно обойдется.
Камера была размером двенадцать на восемь футов, стены выкрашены серой, как внутри корабля, краской. В камере были газовая лампа, небольшое окно под самым потолком — не выглянешь, дощатая кровать и стул. На голых досках лежали две свернутые простыни и подушка. Под полкой в углу стояли два ведра с жестяными крышками. На полке — молитвенник, список правил поведения, небольшая грифельная доска и мел.
Эмили расстелила простыни на досках и стала обследовать ведра. В одном была вода, второе, очевидно, предназначалось для туалета. Подушка была набита соломой: из ткани торчали острые золотистые соломины.
Звуки гулким эхом, как в пещере, разносились по бесконечным тюремным коридорам. К Эмили издалека раскатами грома катился какой-то гул, постепенно подбираясь все ближе: клацанье дверей, голоса и шаги. Решетка на двери поднялась. Бесплотный голос произнес:
— Обед!
— Есть не буду, — сказала Эмили.
В дверном оконце появилась миска с супом. Эмили не двинулась с места. Через мгновение миска исчезла, оставив слабый запах жира и пропаренных овощей. Грохот укатился прочь. Газовая лампа со временем потухла — наверно, решила Эмили, снаружи было приспособление, чтобы надзирательница могла гасить лампу: даже в такой малости Эмили было отказано.
На следующее утро вопреки предписанию Эмили не встала с кровати. Загремела решетка.
— Еще не поднялись? — произнес удивленный голос. — Вот вам завтрак.
— Я объявляю голодовку.
Решетка снова закрылась.
Начался поток посетителей.
Капеллан, смотрительница, надсмотрщик — посыпались избитые фразы.
— Надеюсь, миссис Брюэр, — сказал капеллан, — что вы воспользуетесь предоставленным вам временем, чтобы мысленно стремиться к совершенствованию.
— Я не собираюсь совершенствоваться. Надеюсь, наш премьер-министр займется этим.
Капеллан был явно шокирован и предостерег Эмили, чтобы больше она не произносила оскорбительных речей.
Ее отвели в ванную: кабинка перегораживалась дверью в два фута высотой, и надзирательница, войдя следом, не спускала с Эмили глаз. Была там и уборная, но дверь в нее также оказалась в полвысоты, а цепочка отведена наружу, чтобы воду спускала не заключенная, а надзирательница.
Едва Эмили вернулась в камеру, явился начальник тюрьмы, высокий суетливый человек с внешностью банковского служащего.
— Не воображайте, что вам позволено устраивать здесь беспорядки, — пригрозил он ей. — Мы имеем дело с женщинами-убийцами и ярыми воровками. И свое дело знаем. Но если не станете доставлять нам неприятностей, вы снова сможете обрести свободу.
— Даже если выпустите меня отсюда, — ответила Эмили, — свободу дать вы мне не сможете. Я получу ее только тогда, когда женщины получат право голоса.
— Пока вы состоите под моим надзором, прошу не забывать называть меня «сэр», — со вздохом сказал он. Потом спросил, окинув Эмили взглядом: — Ваш муж ведь член Парламента?
Она кивнула.
— Если вам потребуются кое-какие мелочи для удобства, обращайтесь ко мне. Скажем, мыло, более удобная подушка…
— Я настаиваю, чтобы меня содержали как обычную заключенную.
— Отлично! — Начальник повернулся, чтобы уйти, но что-то остановило его. — Никак не могу взять в толк, миссис Брюэр. — Он резко шагнул от двери назад в камеру. — Если вы добьетесь успеха, если женщины получат право голоса, это может свести на нет галантность, существующую между полами, неужели эта мысль не посещала вас? Почему-то у мужчин сложилось особое к женщинам отношение?
— Так это из соображений галантности вы предлагаете мне мыло? — спокойно спросила Эмили. — Или из-за высокого положения моего мужа?
Явился обед — опять суп; правда, принесшая его служащая обозвала его похлебкой. Эмили есть отказалась. Пришел врач и спросил, когда она ела в последний раз. Эмили ответила.
— Вы обязаны сегодня поужинать, — сказал врач.
Эмили отрицательно покачала головой:
— Я есть не буду.
— В противном случае вас покормят силой.
— Я окажу сопротивление.
— Что ж, посмотрим. По моему опыту, многие, объявлявшие голодовку и тому подобное, выдерживали не более двух суток. После чего организм напоминал им об их неразумном поведении.
Врач ушел следом за остальными. Эмили ждала довольно долго. Наступил час разминки, прогулки во дворе: в одну шеренгу, в полном молчании.
Когда настало время ужина — хотя вечер еще не наступил, — надзирательница спросила, будет ли Эмили есть. Та ответила отрицательно.
В сумерки потушили свет. Эмили лежала на кровати, к тому времени от голода у нее уже кружилась голова.
Сквозь отдающийся эхом тюремный грохот она расслышала какое-то пение. На мелодию марша «Тело Джона Брауна». Слова были иные, но Эмили их знала: это был один из гимнов суфражисток. Она с радостью кинулась к дверной решетке. Опустившись у двери на колени, вытянула шею, направив взгляд в коридор, и присоединилась к общему пению:
Поднимайтесь, женщины, смелей вставайте в строй,
Предстоит нам славный и непримиримый бой.
Наше Дело правое — наш светоч, наш оплот,—
Нас оно зовет вперед!
Голоса поющих суфражисток казались далекими, но голос Эмили громко звучал в ее маленькой камере. Как вдруг кто-то поблизости прокричал:
— А ну-ка, молчать!
И Эмили оборвала песню.
Она пыталась уснуть, но боль не позволяла забыться больше чем на пару минут. На другой день Эмили отказалась от завтрака. Боль, кажется, уже стала тише, но не прекратилась. Порой Эмили впадала в отчаяние, порой ее внезапно с ног до головы окатывало волной сильного возбуждения. Я смогу, говорила она себе. Я справлюсь с голодовкой. Они могут лишить меня всего, но мой организм — моя собственность.
Позже утром кто-то просунул в ее камеру лоточек. В нем лежал свежеиспеченный кекс. Это была явно не тюремная пища. Кто-то специально принес его ей. Обхватив руками живот, чтобы умерить боль, Эмили к кексу не прикоснулась.
К вечеру она уже чуть ли не бредила от голода. Я легче воздуха, сказала она себе, и эти слова, казалось, блуждали эхом внутри ее пустой оболочки: Я легче воздуха… Я легче воздуха…
Иногда ей казалось, что она чувствует запах кофе, струящийся сквозь вентиляционное отверстие в потолке, но когда пыталась определить, что это за сорт, аромат рассеивался и исчезал, как блуждающий огонек.
Явился врач.
— Будете вы есть? — коротко спросил он.
— Не буду!
И не узнала собственного голоса.
— От вас начинает дурно пахнуть, знаете ли вы об этом? Это признак кетоза — то есть, ваш организм поедает сам себя. Если вы будете продолжать в том же духе, вы нанесете непоправимый урон своему здоровью, и прежде всего репродуктивным органам. Это значит, вы никогда не сможете иметь детей.
— Я знаю, что такое репродуктивные органы, доктор.
— Это пагубно скажется на ваших волосах, на вашей внешности, на вашей коже — на всем, что делает женщину привлекательной.
— Если это комплимент, то весьма замысловатый.
— Далее — вы нанесете ущерб своей пищеварительной системе, своим легким…
— Решения своего я не изменю.
— Отлично, — кивнул врач. — В таком случае, нам придется спасать вас от вас самой.
Теперь все ее чувства были на удивление ясны — обострены до предела. Она могла различать далекие запахи, могла даже сама вызывать их к жизни. Она уловила волнообразное, едва уловимое дуновение свежезаваренного кенийского кофе — чувствовала аромат кустов черной смородины; потом через мгновение — нежный запах ячменной стерни, оставшейся после жатвы. Фруктовое дуновение — исходящее от абрикосов, насыщенный запах абрикосового джема… Она прикрыла глаза, сделала глубокий вздох, и ей показалось, что боль стала тише.
Но вот в ее камеру вошли четыре надзирательницы. Специально выбрали женщин покрупней, чтобы сломить ее сопротивление.
— Пожалуйста, пойдемте с нами к доктору.
— Не пойду.
— Отлично. Хватайте ее!
Двое зашли сзади и подхватили Эмили под руки. Когда они приподняли ее, остальные две взяли ее за ноги. И так на весу они вытащили ее в коридор.
— Может, теперь сама пойдет? — спросила одна надзирательница.
Эмили почувствовала резкую боль под мышкой. Одна из женщин ущипнула ее за нежную кожу. Эмили вскрикнула.
— Ну-ка, пошли, дорогуша! — сказала женщина.
Ее толкали и тянули вперед к боковому крылу здания. Эмили видела, как сквозь дверные решетки на нее смотрят чьи-то лица. Когда их маленькая процессия проследовала мимо, арестантки принялись колотить в двери и кричать. Слов Эмили разобрать не могла: эхо поглощало все. Наконец они добрались до лазарета. Там был тот врач, который раньше заходил к ней, и еще один, молодой человек, у обоих поверх халатов были надеты резиновые фартуки. На столе лежала длинная трубка, воронка и миска с чем-то, по виду напоминавшим жидкую кашу. Еще стоял стакан с молоком. Все это показалось ей настолько нелепым, что, несмотря на страх, она едва не расхохоталась.
— Может, выпьете молока? — спросил доктор.
— Не буду!
— Сажайте ее в кресло.
Надзирательницы, произведя меж собой перестановку, стали подсаживать Эмили в большое деревянное кресло. Двое по обеим сторонам втаскивали ее за руки, остальные двое сгибали ей колени. Молодой врач зашел сзади, чтобы придержать ее за голову, другой взял в руки длинную трубку. Обмакнув пальцы в кружку с глицерином, он провел ими по оконечности трубки.
— Теперь крепче держите! — приказал он.
Эмили сомкнула челюсти, сжала зубы изо всех сил. Но трубка предназначалась не для рта. Врач ввел ее прямо в правую ноздрю Эмили. Ощущение было настолько омерзительным, что у Эмили в крике раскрылся рот, но, оказалось, она почти не способна издать ни звука, кроме нечленораздельных захлебывающихся клокотаний.
Еще на дюйм внутрь, еще. Теперь она чувствовала, что трубка где-то в глубине горла и перекрывает ей дыхание. Эмили дернулась было головой из стороны в сторону, но молодой врач крепко держал руками ее затылок. Слезы лились у нее по щекам; она ощутила острую боль в трахее, и вот с заключительным болезненным толчком эта штука вошла ей глубоко внутрь.
— Достаточно, — сказал старший врач, отступая от кресла. Он тяжело дышал.
Врач надел на конец трубы воронку. Взявшись за миску с жидкой кашей, он стал вливать ее в воронку, подняв всю эту конструкцию как можно выше. Теплая, удушливая жидкость заполнила трахею Эмили. Она закашлялась, попытавшись отрыгнуть, но горячая вязкая жидкость не сдвинулась с места. Эмили казалось, ее голова вот-вот взорвется — давило на глаза, стучало в ушах, как будто ее опустили глубоко под воду.
— Пищи прошло достаточно, — сказал врач.
Трубку тянули у нее из ноздри долгим, мучительно болезненным движением. Едва трубку вытащили, Эмили вырвало.
— Надо повторить снова, — сказал врач. — Держите ее крепче.
И снова повторилась та же чудовищная процедура. На сей раз они подождали несколько минут, прежде чем вынуть трубку. Врач понес трубку в раковину; Эмили, закашлявшись, отплевывалась, давясь рвотными спазмами.
— Несите ее назад в камеру.
— Пойду сама, — сказала Эмили. — Вы просто ничтожная мелкая тварь, если позволяете себе так обращаться с женщиной.
— Ах, так вы считаете, что с женщиной все-таки стоит обращаться иначе? — презрительно бросил доктор.
— Настоящий мужчина никогда бы себе такого не позволил.
— Не стал бы спасать вам жизнь, хотите вы сказать?
И врач махнул женщинам, чтобы те забрали Эмили.
В ту ночь она устроила в своей камере пожар, разорвав подушку и забросав соломой газовый фитиль. Потом забаррикадировалась, подтащив под дверную ручку дощатую кровать и заклинив дверь, чтоб ее невозможно было открыть. Им пришлось выбивать дверные петли, чтобы проникнуть внутрь. После этого Эмили связали и поместили в камеру с железной койкой, прикрученной к полу.
В ту ночь и весь следующий день каждые десять минут к ней наведывались. Сначала Эмили решила, что заходят просто поглазеть, и кричала на пришедших.
— За вами положено зорко следить, — было холодно сказано. — Поручено смотреть, чтоб вы ничего с собой не сотворили.
В обед явилась смотрительница со стаканом молока. Эмили пить отказалась.
— Попробуйте выпить, хоть немного, — уговаривала смотрительница.
Эмили отрицательно мотала головой.
Теперь, испытав, что это такое, она с замиранием сердца ждала повторения процедуры. Когда за ней пришли, чтобы снова отправить ее к врачу, она уже была сама не своя от страха. Но поделать ничего было нельзя. Врачи уже сообразили, как себя с ней вести, и трубку вводили быстро. Эмили заплакала от боли, слезы смешались с рвотой и кисловатым запахом каши. И она потеряла сознание.
Когда Эмили пришла в себя, врач с тревогой смотрел на нее.
— Лучше бы вас стошнило, — сказал он. — Вы женщина слабая, вы не приспособлены для таких операций.
— А есть приспособленные? — с горечью спросила она.
— Вы не привыкли к грубому обращению. Оно может пагубно сказаться.
— Вы же врач. Могли бы этого и не устраивать.
— Никому вы не нужны, — внезапно бросил он. — Это просто непостижимо! Вы сидите в тюрьме, такое над собой проделываете, а там, на воле, никто и ни малейшего понятия не имеет. Зачем тогда все это?
— Чтобы показать, что ваша власть распространяется только на тех, кто вам это позволяет…
— Избавьте меня от своих лозунгов! — Врач махнул надзирательницам. — Уведите ее.
Когда ее вели в камеру, одна из женщин тихонько шепнула:
— Они снимают налог с моего жалованья, по-моему, это неправильно, что я не могу голосовать. — Она украдкой взглянула на Эмили. — А вы молодец, храбрая.
— Спасибо, — тайком шепнула Эмили.
— И еще, это все неправда, что он вам сказал. О вас пишут во всех газетах. Без подробностей, но народ знает, что тут происходит.
В ту ночь у Эмили не получалось нормально дышать — что-то мешало в трахее, как будто там застрял сгусток крови. Потом ее снова вырвало, и она обнаружила в рвоте кровавые прожилки.
На следующий день у нее уже не было сил видеть эту трубку. Эмили взяла из рук смотрительницы стакан молока, съела немного супа. Но потом возобновила голодовку.
Я чистил в своем кафе кофеварочный аппарат, когда явился ее муж. Была середина утра — время тихое. Думаю, он намеренно выбрал эту пору.
— А, так вот где вы, Уоллис, распространяете свой яд, — произнес чей-то голос.
Я поднял глаза:
— Если вы имеете в виду мой кофе, он наивысшего качества.
— Я не ваш кофе имею в виду. — Он положил на стойку свою шляпу. — Я пришел поговорить с вами о моей жене.
— Ах, так!
Я продолжал свое занятие.
— Врачи сказали, что если она продолжит голодовку, это убьет ее.
— Это те самые, которые прежде объявляли ее истеричкой?
— Нет, другие. — Он помолчал. — Ее поранили. Попытка кормить ее насильно обернулась неудачей. Видимо, они повредили ей легкие.
Потрясенный, я уставился на него.
— Нам необходимо вызволить ее из тюрьмы, — сказал он. — Или хотя бы отвести от нее опасность.
Наконец я обрел дар речи:
— Так убедите же свое правительство предоставить женщинам право голоса!
— Вы же знаете, это не произойдет никогда.
Он провел рукой в перчатке по волосам. Внезапно я заметил, какой измученный у него вид.
— Правительство никогда не уступит. Кроме всего прочего, это будет превратно понято нашими недругами. Империя должна оставаться несокрушимой, но есть еще силы в Европе, которые готовы воспользоваться нашим внутренним кризисом… То, что делает Эмили, опасно для всех нас.
— Зачем вы мне все это говорите?
— Потому что вас она может послушать, даже если к моим просьбам остается глуха.
Я подумал: должно быть, ему стоило немалой смелости или, по крайней мере, железных нервов, чтобы прийти сюда.
— Сомневаюсь, — сказал я, качая головой.
— Но вы должны попытаться!
— Если я правильно понял, не она пожелала, чтобы ее отговаривали?
— Вы любите ее?
Было странно говорить об этом, и в первую очередь с ним. Но момент был необычный.
— Да, — ответил я.
— Тогда помогите мне ее спасти. Напишите ей, — не отставал Брюэр. — Скажите, что довольно с нее протеста, теперь в борьбу могут вступить и другие. Скажите ей, что вы не хотите, чтобы она пускала под откос всю свою жизнь.
— Если я ей такое напишу, — сказал я, — и мое письмо ослабит ее решимость, она мне этого никогда не простит.
— Но это просто необходимо сделать. Ради нее самой, пусть не для нас. — Он взял свою шляпу. — Есть еще нечто, что вам надо бы знать. В правительстве поговаривают о принятии нового законопроекта. Это позволило бы им на законном основании выпускать из тюрем тех, кто начинает голодовку.
— Для чего все это? — озадаченно спросил я.
— Разумеется, для того, чтобы голодающие не умирали в тюрьмах!
— Но ведь если они их выпустят, те выйдут на свободу и создадут еще большие волнения в народе?
— Только, если у них сохранится здоровье. И если оно у них сохранится, то их арестуют снова, и они снова попадут в тюрьму. И тогда, если они умрут, то умрут не как жертвы в тюрьме, а в больнице как инвалиды. Так что, как видите, ее протест в конечном счете ничего не изменит, даже для ее движения. Вы должны написать ей письмо. Вы напишете ей?
— Не могу вам обещать. Я подумаю над этим сегодня….
— И последнее, — перебил он меня. — Если вы убедите ее прекратить все это, я дам ей развод.
— Не думаю, что ей нужен развод, — медленно произнес я.
— Напротив, он ей нужен. Но я не с ней говорю об этом. Я говорю с вами. — Он смотрел на меня без тени волнения. — Если вы сможете убедить ее жить, Уоллис, она — ваша. В снимаю с себя ответственность за нее.
Он ушел, а я раздумывал над тем, что он сказал. У меня не было ни малейших иллюзий в отношении его мотивов. Хотя я не сомневался, что по-своему он любит Эмили, Брюэр принадлежал к такому типу людей, для кого любовь неотделима от его собственных интересов. Если все, что он сказал мне, правда, и Эмили обречена, это могло бы выставить его в дурном свете. Тогда сказали бы то, что сказал и я, — он позволил своему правительству убить собственную жену, в то время как все видел и бездействовал. В таком случае ему лучше всего бы с ней развестись.
Брюэр был политик: он нашел наилучший способ воздействия на меня. Что не умаляло очевидного: он был прав. Мое письмо, где бы я убеждал Эмили верно найденными словами, что она и так уже много сделала, смогло бы поменять ее решение. Пусть она упряма, но я слишком хорошо знал ее, чтобы найти для доводов верные слова.
Я не мог представить себе мир, в котором не будет ее. Я любил ее, я хотел, чтобы она жила. А станет ли она когда-нибудь моей женой или нет… Я слишком хорошо знал ее, чтобы поверить в такое. Но я мог хотя бы надеяться.
В конце концов, после стольких лет мы имели шанс стать счастливыми.
Я засиделся запоздно, выпивая кофе чашку за чашкой. Наконец, взяв бумагу и перо, уже перед самым рассветом я написал свое письмо.
Эмили умерла через четыре недели в Пэддингтонской лечебнице. Как и предсказывал Брюэр, правительство освободило ее по медицинским показаниям, чтобы не допустить ее смерти в тюрьме. Оставалась некоторая надежда, что при надлежащем лечении ей станет лучше. Но было слишком поздно.
К моменту ее кончины суфражистское движение, несмотря на все потуги правительства, добилось немыслимого успеха — большинством членов Парламента был принят Акт о примирении. И именно тогда, когда, казалось бы, победа уже не за горами, Эмили угасала.
Мне удалось несколько раз навестить ее в больнице, но она была уже очень слаба. Ей так и не удалось восполнить вес, потерянный в заключении: ее красивое лицо, когда-то такое свежее, полное жизни, стало кукольным, как у ангела, будто чей-то резец удалил прежние очертания. Ее волосы утратили блеск, и кожа сильно потемнела, — если приглядеться, можно было заметить, что вся кожа в еле заметных черточках, как лоскут старого муслина. Даже глаза у Эмили затуманились, ее голос, стихнувший почти до шепота, не справлялся со словами, как будто она, говоря, спотыкалась обо что-то засевшее в горле.
Однако ум ее был ясен, как всегда. Я принес ей цветы.
— Спасибо, — хрипло проговорила Эмили, когда я поднес их ей, чтобы она ощутила аромат.
— Прелестные цветы, Роберт. Но в следующий раз пообещай принести мне что-нибудь иное. Срезанные цветы умирают быстро, они заставляют думать о смерти.
— Что же тебе принести?
— Принеси несколько кофейных зерен и кофемолку, чтобы смолоть.
— А доктора позволят тебе?
— Нет, не пить. Но я хочу почувствовать аромат молотого кофе, а, может, ты при мне чашечку выпьешь.
— Такого заказа я в жизни ни от кого не получал! — со смехом сказал я.
— Для меня ты всегда связан с запахом кофе. И когда мы встретились тогда, после твоего возвращения, на Кастл-стрит, как-то все было не так, ведь от тебя тогда не пахло кофе. Но теперь снова пахнет, значит все в порядке.
— Пахнет?
На Кастл-стрит запах кофе был настолько привычен, что я его уже не замечал.
— Как там наше кафе? — спросила она.
— Отлично. Новый сорт кенийского очень хорош, как ты и предсказывала.
Эмили прикрыла глаза. Потом сказала чуть окрепшим голосом:
— Я получила твое письмо. Спасибо.
— Оно оказалось кстати?
Она кивнула.
— Я очень рад.
Ее рука протянулась к моей:
— Наверно, писать его тебе было нелегко.
— Проще простого.
— Врешь, — она вздохнула. — Я и сама написала тебе письмо. Ты получишь его, когда я умру.
— Что ты такое говоришь…
— Прошу тебя, Роберт. Не оскорбляй меня притворством. Доктора со мной вполне откровенны. Легкие практически отказали. Доктора дают мне настойку опия, чтобы облегчить боль, но от этого затуманивается мозг. Поэтому, когда жду посетителей, я его не принимаю. Потом приходит боль, а когда болит, я просто не могу ни с кем общаться.
— Тебе сейчас больно?
— Немного. Мне дадут капли после твоего ухода.
— Я немедленно уйду.
— Да, наверно, лучше иди. Я чуть-чуть устала.
— Но я приду опять. И в следующий раз принесу кофе.
В ту же ночь во сне она умерла.
Оно пришло по почте через пару недель после похорон в картонной коробке. Внутри коробки были бумаги, относящиеся к магазину. Письмо стряпчего, поясняющего: в связи с тем, что миссис Эмили Брюэр, по состоянию болезни полностью и окончательно освобождается от владения этой собственностью, его долг известить меня, что… и тому подобное. И потом — письмо, написанное ее почерком, мелким и решительным, как будто для этой цели она собрала воедино все свои силы.
Мой милый Роберт,
Я хочу, чтобы ты знал, что я оставляю это кафе моим сестрам. Наследство, прямо скажем, невеликое, если учесть сколь малый доход оно приносит, но у меня никогда не получалось, как у моего отца, избавиться от сантиментов в делах, мне было просто там хорошо. Надеюсь, что ты решишь остаться, хотя бы на некоторое время. Нашему Делу нужна Кастл-стрит, а Кастл-стрит нужен ты.
Я думаю, Роберт, что мужчины и женщины только тогда смогут по-настоящему взаимодействовать друг с другом, когда станут равными. Ты можешь сказать, что к праву голоса это не имеет никакого отношения, но равные права — это необходимый первый шаг к тому, что и есть самое главное.
Вот почему я должна кое-что сказать тебе, хотя выразить это в письме мне очень нелегко… Помнишь то утро, когда я сказала отцу, что хочу за тебя замуж и почему? Мне кажется, ты всегда думал, что причины, которые я тогда назвала, истинные. Это не так. Я сказала ему только то, что, как я думала, для него прозвучит более убедительно. Ведь до этого в истории с Гектором чуть не дошло до скандала… Могла ли я, глядя отцу в глаза, сказать ему, что на самом деле чувствовала, как сильно хотела тебя? Это и есть правда. Я всегда мечтала ощутить, как твое тело льнет к моему… Я так часто рисовала это в своем воображении…. Представляла себе, как покрываю твое тело поцелуями, как лежу с тобой в постели. Ну вот… Я это и сказала. Я всегда больше всего на свете желала испытать это с тобой, чтобы, проснувшись утром, почувствовать спиной твое тепло, твое дыхание у моей шеи, и знать, стоит потянуться рукой, и ты здесь, рядом…
Я стыдилась своих чувств. Нам женщинам не положены сильные страсти, ведь так? После того, что было с Гектором, я поклялась отцу, что этого не повторится, что я сумею сдерживать чувства, и все-таки я не смогла. Поэтому так много осталось невысказанным… Уже потом, с Артуром, когда, казалось, можно было бы сказать открыто… впрочем, теперь ты знаешь одну из причин, почему я молчала с ним, да к тому же я так сильно завязла, видимо, в плену своих принципов.
Ты еще полюбишь снова — я не сомневаюсь, такое еще случится. Если это произойдет, ты должен мне обещать кое-что. Расскажи ей все — обо мне и о себе, и о том, что было в Африке. Не скрывай от нее истинных своих чувств, и, возможно, наступит день, когда и она сможет открыть тебе свои желания.
И еще я хотела бы кое-что попросить тебя для меня сделать. Прошу, опиши все, что было. Напиши историю про нас. Я знаю, лучше тебя этого не сделает никто. Безусловно, что каждый человек испытывает в жизни наивысший свой пик, по существу, даже бесконечную череду таких сильных ощущений, — но мне кажется, что наша история, то, что происходит сейчас, ни в коем случае не должно быть забыто.
Расскажи все, как было, Роберт; расскажи без желчи. В конечном счете, что есть у нас, кроме истории жизни.
Порой, когда тоска по тебе была просто невыносимой, я говорила себе, что мужчины и женщины спят друг с другом тысячи лет; что миллионы в нашей стране спят друг с другом ежедневно. Но дружба между мужчиной и женщиной до сих пор редка и бесценна. Я люблю тебя, Роберт… но превыше всего я рада тому, что я твой друг.
Любящая тебя —
На дне коробки осталось еще одно письмо и маленькая шкатулка красного дерева. Я мгновенно узнал ее: скорее всего, это был последний сохранившийся экземпляр оригинального «Определителя Уоллиса-Пинкера».
Письмо было тем самым, которое я написал ей, с припиской стряпчего:
«Мистер Брюэр прост, чтобы я возвратил это вам».
Кастл-стрит, 28 апреля
Моя милая Эмили,
Ко мне приходил твой муж. Он — как и все мы, — обеспокоен состоянием твоего здоровья. Это не удивит тебя: но удивить тебя может то, что он сделал мне некоторое предложение ради твоего благополучия.
Он сказал, если ты прекратишь голодовку, он предоставит тебе свободу — не будет препятствовать твоему с ним разводу. Он поступает так, разумеется, исходя из ложного представления, что мы с тобой любовники и что, как только тебя освободят, мы поженимся. Он хочет, чтобы я склонил тебя к такому развитию событий.
Моя любимая Эмили, хочу, чтобы ты знала: нет для меня большего счастья в жизни, стоит мне представить, какая была бы радость стать твоим мужем. И все же я не намерен никак на тебя не влиять в ту или иную сторону. Я не буду призывать тебя ни бросить голодовку, ни продолжить сопротивление. Единственное, что я хочу тебе сказать: ты совершила грандиозный поступок; как бы ты ни решила поступать далее, я неизменно буду гордиться тобой. И вечно буду любить тебя.
Решение за тобой.
С безграничной любовью,
Компоненты вкуса, обнаруживаемые в послевкусии, могут обладать некоторой сладостью, вызывающей в памяти вкус шоколада; от могут напоминать дым костра или табачный дым; они могут походить на пикантные специи, скажем, гвоздику; они могут отдавать смолистостью, наподобие живицы; или же от могут воплощать любые комбинации названных свойств.
Пока длилось перемирие между правительством и воительницами, ни одной из сторон не было выгодно наживать политический каптал на гибели Эмили. Но, как и предполагал Брюэр, ее жертва в конечно счете не сделала погоды. В последний момент правительство прекратило поддерживать Акт о примирении. Разъяренные милитантки в ответ на это провозгласили Англию неуправляемой страной.
В результате последовал хаос. В почтовые ящики засовывались горящие тряпки, разбивались окна правительственных зданий и магазинов, поджигались крикетные павильоны и даже церкви. Много лет спустя суфражистки любили утверждать, что их бунт носил мирный характер; но тогда он вовсе не выглядел мирным. Главной их мишенью стал Эсквит. Суфражистки, когда тот играл в гольф, пытались сорвать с него одежду, но помешала им в этом его дочь Вайолет, которая своими собственными кулаками отбила атаку на отца. Когда автомобиль Эсквита притормозил, чтобы не наехать на лежавшую посреди дороги женщину, откуда ни возьмись возникла стайка суфражисток и принялась избивать Эсквита плетками, предназначенными для собак. Благодаря цилиндру голова его при этом уцелела… Неизвестный, которого ошибочно приняли за Эсквита, был избит на вокзале Юстон. Министр по делам Ирландии повредил колено, защищая Эсквита в Уайтхолле. Сидевшему рядом с Эсквитом в коляске члену Парламента от Ирландии досталось по уху тесаком. Одновременно почти двести женщин объявили голодовку.
Признаюсь, я, как и многие, считал, что правительство заслуживает подобного обращения. К тому моменту мы, мужчины, которые поддерживали женщин, образовали отдельный отряд. Я сам разбил несколько окон и поджег несколько безлюдных зданий, всякий раз будучи преисполнен гордости, что совершаю это в честь Эмили. Но — опять-таки, как и многие, — постепенно я обнаружил, что лишен страсти создавать конфликт, что было присуще лидерам женского движения.
Осознание этого пришло ко мне в тот день, когда мы должны были совершить налет на Национальную галерею. Планировалось, что мы пойдем туда вдвоем, как обычные посетители, затем одновременно вынем секачи и начнем полосовать картины. Основным объектом нашей атаки должна была стать «Венера» Роукби,[75] известная обнаженная Венера, недавно приобретенная Национальной галереей. К тому времени все общественные здания охранялись полицией: поэтому было решено направить в музей пару, мужчину и женщину, чтобы привлечь к себе меньше внимания.
До этого я не видел «Венеру». Она висела на видном месте в глубине галереи, освещенная дневным светом стеклянного потолка. Женщина возлежит на кушетке и смотрится в зеркало. Казалось, ее кожа отливает живым блеском и впадина на ее спине была так реалистично выписана, что, казалось, женщина лежит здесь, в этой комнате, рядом с нами.
Я подумал: она давно умерла — ее нет уже несколько столетий, а чувственная сила ее взгляда — как видел его Веласкес, человек и живописец, — останется жить века.
Мне вспомнилась строка из последнего письма Эмили — письма, которое до сих пор, свернутое, лежало в моем внутреннем кармане: «…чтобы, проснувшись утром, почувствовать спиной твое тепло, твое дыхание у моей шеи, и знать, стоит потянуться рукой, и ты здесь, рядам…»
Я молча стоял перед картиной, и когда часы церкви Сент-Мартин-ин-де-Филдз пробили четыре раза — сигнал к атаке, — я понял, что не двинусь с места. В этот момент женщина рядом со мной вскинула свой секач: с отчаянным воплем она полоснула ножом по изогнутой белой спине от плеча до талии, так что холст провис клочьями, и внезапно стало ясно то, что до того и в голову не приходило: Венера — всего лишь картина, иллюзия, нежная, хрупкая.
Суфражистку тотчас схватила охрана. Я все стоял перед изуродованным шедевром, на глаза навернулись слезы. Потом я повернулся и пошел прочь. Я закинул свой нож в фонтан на Трафальгар-сквер и зашагал себе. С тех пор больше в их движении я не участвовал.
Сахар
«Новый урожай» — свежий, легкий кофейный аромат и вкус, вбирающий естественные черты кофейного букета, проявляющийся главным образом в кисловатости вкуса.
Прошел год. Я наведывался на могилу Эмили. Я содержал кафе и бережно хранил Определитель. Я совершенно не вникал в политику и еще менее интересовался искусством. По правде говоря, я и кафе-то уделял не много внимания. Теперь посетителей было совсем мало — воительницам больше не требовалось место для сборищ, и так как я предпочитал, чтобы меня оставили в покое, меня мало интересовали те немногие, кто ко мне заходил.
Как вдруг однажды меня посетили Ада с Филоменой. Я вернулся поздно и застал их рассматривающими с несколько растерянным видом помещение. Ада проводила рукой в перчатке по столешницам, брезгливо изучая результат своего исследования.
— Чем могу служить? — спросил я сухо.
— А, Роберт, вот и вы! — сказала Ада. — Может, вы бы лучше угостили нас кофе?
— Я предложу вам «Яву», — грустно сказал я. — «Мокка» довольно лежалый.
Сестры переглянулись, но промолчали; я готовил им кофе. Мы не виделись с самых похорон. Тогда, понятно, сестры были в трауре. Теперь на них были платья из гофрированного, узорчатого шелка, с высоким воротником-жабо и широким шелковым поясом. Танцы типа Turkey Trot[76] требовали свободной одежды наподобие этой, при этом открывшиеся ноги изрядно шокировали старшее поколение.
— Вы в курсе, что мы теперь хозяйки этого кафе? — спросила Ада.
Я кивнул.
— Судя по скудности ведущихся записей, заведение терпит убытки?
— Местоположение выбрано неудачно, — парировал я. — Это жилой квартал. Рядом с домом такое заведение никому не нужно.
И снова сестры переглянулись.
— Понимаете, — сказала Филомена, — очень досадно было бы его закрывать.
Я промолчал. Мне тоже так казалось, но я не видел смысла высказывать свое мнение вспух.
— У Фил есть несколько идей на этот счет, — сказала Ада. — Вы не хотели бы их выслушать?
— Ну, почему же… пожалуйста, — развел я руками.
И подсел к ним поближе.
— По-моему, вы абсолютно правы, — начала Филомена, — здесь не самое лучшее место для кафе. Но ведь люди пьют кофе не только в кафе. Кофе можно пить и дома.
— Насколько я знаю, кофе дома никто не пьет, — фыркнул я. — Только эту гадость в пачках. Вроде «Кастл». Дешевые зерна, плохо прожаренные и плохо смолотые, которые потом хранятся в бумажных пакетах на полках у господ Липтона и Сейнсбери, пока последние остатки запаха окончательно не выветрятся.
— Что ж, вы правы, — сказала Филомена.
Она смотрела на меня своими сонными, едва пробудившимися глазами. И мне показалось, что в их глубине я улавливаю легкую смешинку.
— Мы тут думали, — сказала Ада, — почему бы нам не продавать людям качественный кофе?
Я в замешательстве уставился на сестер.
— Понимаете, мы выросли с кофе — с отличным кофе, — пояснила Ада. — Таким, какой теперь почти невозможно сыскать. — Она повела плечами. — Нам пришло в голову: что если не только мы теперь испытываем трудности в поисках такого кофе, что если эта проблема волнует не только нас. Пусть таких людей немного, но… — она прошлась взглядом по пустому и, должен признаться, несколько запущенному кафе, — может быть, их достаточно для поддержания бизнеса.
— То есть, вы предлагаете…
— Небольшой эксперимент, в духе раннего Пинкера, — продолжила за сестру Филомена. — По идее это магазин, где будет пара печей для обжарки зерен, причем не скрытых, а выставленных прямо напоказ, чтоб все видели.
Почти не глядя, она указала изящным пальчиком в сторону торцовой стены, возле которой, теперь я это ясно видел, имелось достаточно места для двух жаровен, установленных в ряд. — Сам процесс обжарки зерен создает особую атмосферу…
— Плюс аромат кофе, — вставила Ада.
— Плюс аромат кофе. Вообразите! — Филомена повела ноздрями. — Аромат жарящегося прямо тут «мокка»!
— Уж мне-то знаком запах жарящихся зерен, — сухо сказал я.
— Плюс дымоход, — сказала Ада, игнорируя меня.
И указала на угол, который в данный момент этим сооружением не обладал.
— И вот этот аромат течет на улицу… — кивнула Филомена.
— …так, что даже если вы не собираетесь покупать фунт «боготы» в дом…
—.. вы можете просто заглянуть в кафе и взять себе чашечку кофе…
— … или даже целый кувшин…
— Кувшин? — озадаченно переспросил я.
Филомена глянула на меня своими глазами. И я увидел, что ее сонливость это чистый обман зрения. Взгляд у нее был ясный, пытливый, цепкий.
— Ну да, покупают же кувшин пива к ужину. Почему не купить кувшин кофе к завтраку?
— Нечто похожее я видел в Африке, — кивнул я. — Там продавцы кофе с рассвета расхаживают по улицам Харара, и все к ним ходят и покупают у них кофе.
Филомена хлопнула ладошкой об Адину ладонь.
— Вот видишь? Роберт уже понял, что это сработает.
И с улыбкой посмотрела на меня.
— Словом, мы станем обжаривать и продавать зерна, — сказал я. — Но не будет ли это означать, что мы вступаем в прямую конкуренцию… — ну, скажем, с фасованным кофе? Например, с «Кастл»?
Ада кивнула:
— Да. Но так как теперь мы не владелицы кофе «Кастл», это вряд ли составит проблему. Но отдадим себе отчет: если наш кофе не будет качественнее «Кастла», тогда все пойдет прахом.
— И еще, — добавила Филомена. — Не будем тратить средства на рекламу, только на высокосортные зерна. Африканские, если хотите.
Открыв сумочку, она вынула несколько рисунков и фотографий.
— Надо ведь, чтоб у нас все было красиво оформлено.
И разложила передо мной картинки.
— Это несколько чайных, которые я недавно посетила в Глазго. Стиль называется art nouveau — это потрясающе! Я подумала, не сделать ли и нам что-то наподобие этого здесь. — Она описала рукой в перчатке вокруг. — С вашим обонянием и вкусом и с нашими вложениями я не вижу, почему бы нам не рассчитывать на успех этого предприятия.
— Придется закрыть кафе, — сказал я, рассматривая рисунки. — Переделка займет несколько месяцев.
— Три недели, — поправила меня Филомена. — И начнем послезавтра.
— Господи Боже. Кто это — «мы»?
— Мы берем на себя роль работодателей, — сказала Филомена, убирая рисунки и фото. — Надеюсь, у вас это не вызывает протеста. Я имею в виду то, что работодатель женщина?
— Но… едва ли все же эта работа подходит для дочерей Пинкера. Вы теперь женщины вполне состоятельные.
— Послушайте, Роберт, неужели мои сестры ничему вас не научили? Мы сами решаем, что нам подходит, а что нет.
— Вашего отца вряд ли такое обрадует.
— Напротив. Вы, Роберт, его недооцениваете. Больше всего его радует, что его дочери чего-то добиваются.
Помолчав, она добавила:
— Кстати, он передавал вам привет.
Я усмехнулся в ответ.
— Сейчас на Нэрроу-стрит нет ни единого кофейного зернышка, — сказала Ада. — Склад теперь превратился в мощную, громадную контору, никаких мешков, одни столы. Но, по-моему, отец все-таки тоскует по прежним временам. Вам бы как-нибудь навестить его.
— Вы что, считаете, что он вам поможет?
Сестры переглянулись.
— А для чего нам его помощь? — сказала Филомена. — Это же бизнес.
Когда они уходили, Филомена в дверях обернулась:
— Вы пишете что-нибудь про Эмили?
— С чего вы взяли?
— Ведь она просила вас. Я знаю, она мне говорила.
— Это не так-то легко, — сказал я, разводя руками.
— А вы пытаетесь? — не унималась Филомена.
— Ну, в общем, да. А что?
— А то, Роберт, что мне очень бы хотелось это прочесть, — искренне призналась она. — Так что продолжайте писать, хорошо?
Подойдя к окну, я смотрел им вслед. У Филомены явно уже возникли какие-то дальнейшие планы; она указывала пальцем в сторону уличного угла, потом снова в сторону кафе, и, повернувшись к сестре, о чем-то оживленно ей говорила. Я поймал ее лицо в профиль, самый краешек ее сонной улыбки…
И вдруг во мне что-то шевельнулось. Уж этого я совсем не ожидал.
«О, нет!» — подумал я. Боже мой, нет. Только не это. Хватит с меня.
Мы открыли магазин; мы влюбились друг в друга. Но это уже другая история, совершенно ничего общего с данной не имеющая. Хотя по-своему тоже довольно интересная; история со своим сюжетом, своими собственными неожиданностями, с прологом, с рефренами и внезапными поворотами судьбы. История, которая не может быть рассказана потому, что в отличие от нашей с Эмили истории, эта еще не завершилась.
«…но требовать от художника, чтобы он преследовал какие-то нравственные цели и задачи — значит этим портить его работу», — говорил Гете. Прежде я стал бы следовать этому высказыванию, как священной заповеди. Но теперь, подходя к завершению своих собственных кратких мемуаров, я чувствую, как викторианское начало во мне готово противиться отсутствию морали — или, возможно, справедливей будет сказать, некоторых выводов. И поскольку я пишу все это исключительно для себя самого, выводы, черт побери, я непременно представлю.
Что в результате я постиг?
Я узнал то, что должен узнать каждый и чему научить невозможно: что бы ни твердили поэты, любовь бывает разная.
Я имею в виду не только то, что каждая любовная связь не похожа ни на одну другую. Я хочу сказать, что сама любовь — это не одно чувство, а множество. Так же как кофе может одновременно иметь запах кожи и табака и акации, так и любовь это смесь различных чувств: одержимости, идеализма, нежности, похоти, стремления защитить или чувствовать защиту, желания вызывать восторг, дружбы, эстетического любования и еще тысячи разных составляющих.
Никаких схем, никаких кодексов не существует, чтобы помочь нам познать эти таинства. Что-то можно отыскать на краю света, а что-то во взгляде незнакомого человека. Что-то можно обнаружить в спальне, а что-то на шумной улице. Что-то сжигает вас пламенем, как мотылька, летящего на свет, а что-то согревает своим нежным сиянием. Что-то приносит вам наслаждение, что-то ощущение счастья, а если повезет, — и то и другое.
Смех женщины, запах младенца, сотворение кофе — это и есть разные ароматы любви.
Я собирался уже поставить здесь точку, но Фил, прочитав все эти страницы, сделала некоторые замечания. Вот такая получается проблема, если ваша жена к тому же ваш работодатель. Вы оказываетесь под двойным ее гнетом; я уже знаю: она от меня не отстанет, пока я с ней не соглашусь.
Итак, извольте видеть: оказывается, неправда, что я когда-то пообещал ей «весьма выгодную сделку — трижды уйти за два стиха». Кроме того, она утверждает, что стишок, который я тогда ей сочинил, был гораздо короче того, что я тут привожу, и совсем не так хорош: оказывается, и рифма была в нем слаба.
Еще Фил утверждает, что Гектор был куда более привлекательной личностью, чем я его здесь изобразил: что он был «весьма живой, романтичный человек, страстный искатель приключений, необыкновенно начитанный, блестящий знаток всевозможных языков, антрополог — еще до того, как этот термин был введен в употребление». Таким образом, я, вероятно, сослужил ему плохую услугу, — но если, как утверждал Оскар Уайльд, любой портрет есть точное изображение не изображаемого предмета, а своего создателя, то я чувствую за собой полное право оставить свой пристрастный этюд в первоначальном виде.
Кроме того, Фил считает, что я несколько односторонне выписал портрет Эмили, при этом истолковывает меня превратно: мол, вероятно, любовь сделала меня слепым к ее недостаткам. «Моя сестра была во многом личностью, достойной восхищения, — приписала Фил на полях, — но она также могла вести себя нетерпимо и прямолинейно. Она бы никогда не позволила себе гукать в моем присутствии из боязни спровоцировать, как она выражалась, мои дикарские замашки. Правда, Ада вспоминает, что в подростковом возрасте они с Эмили устраивали подобные соревнования. Но вот что я считаю самым важным: Эмили привлекли воинствующие суфражистки отчасти потому, что ее восхищала абсолютная автократия, — мне же всегда было противно слышать, как суфражистки называют Эммелин Панкхерст своим „вождем“. Ты нигде не указываешь, что существовали и умеренные суфражистки, не только воинственные, и что как раз именно они потом и завоевали для нас право голоса, и весьма скоро после событий, которые ты описываешь».
Что касается глав, посвященных Фикре, то Фил, — которая, разумеется, при этом не присутствовала, — исчеркала поля множеством восклицательных знаков —! и!! и даже!!!!. Правда, основной пунктуационный арсенал она приберегла для сцены, когда мы с Фикре впервые оказались в постели в доме французского купца и Фикре подавала мне кофе в виде любовного ритуала. К концу описания заметки на полях гласят: «Что?!!! По моим подсчетам четыре(!) раза, — или речь идет о каком-то другом Роберте Уоллисе???» Ну, поверит она мне или нет, ее дело, — но отвечая на ее вопрос, я скажу: да, это другой Роберт Уоллис. Тогда я был молод, а достоинства зрелого возраста не исключают также и некоторых недостатков.
«Расскажи им про Артура», — приписала Фил в конце последней страницы.
Собственно, я и собирался это сделать, но почему-то это с остальным никак не вязалось. После смерти Эмили, член Парламента Артур Брюэр претерпел совершенно неординарный переворот в своем мышлении и стал выступать с речами в защиту суфражистского движения. Можно было, разумеется, цинично заметить, что он почуял, куда подул ветер. Но ничего не стоило бы и занять более милосердную точку зрения: сказать, что кончина Эмили и все обстоятельства с этим связанные заставили его осознать, как гадко он поступил со своей женой. Собственные его публичные заявления на этот счет могли бы соответствовать любой из этих интерпретаций. Вот что он сказал в интервью «Дейли Телеграф»: «Моя работа — представлять взгляды моих избирателей в Парламенте. Теперь мне стало очевидно, что большинство их составляют женщины-суфражистки, пусть даже они используют методы, которые в значительной степени дискредитируют женское движение».
Кофе «Кастл» был еще некоторое время наиболее раскупаемым фасованным кофе в Англии. Но когда к руководству фирмой пришел Джок Хоуэлл, он совершил ряд ошибочных действий. Прежде всего, он не сумел предугадать, что после войны растворимый кофе внесет изменения в развитие рынка. Затем название «Кастл» было продано другому концерну, а тот вступил со своим конкурентом в жестокую битву за цену, которая под конец и разорила их обоих.
Между тем несколько мелких импортеров разрабатывали свою собственную версию дегустационного справочника, развивая и улучшая работу, которую мы проделали вместе с Эмили. Определитель Уоллиса-Пинкера уже не является уникальным произведением даже и среди самых подробных классификаций подобного типа. Но мне приятно думать, что если бы нашего Определителя не было, то последующие версии никогда бы не стали тем, чем они являются сейчас.
Стоит ли говорить, что наш кофейный магазин становился все солиднее день ото дня. Сестры Пинкер, посетив меня в тот день, не были со мною полностью откровенны. Я напомню вам крохотное, но весьма значимое, высказывание, слетевшее с языка у Фил, когда она спросила, не вызовет ли у меня протеста то, что мой наниматель — женщина. Обращаю ваше внимание на единственное число. Скоро выяснилось, что все планы и все стимулы к их исполнению принадлежали одной только Фил. Она попросила Аду пойти вместе с ней в то утро ради поддержки и — теперь она это признает, — так как уже подозревала, что ее взаимоотношения со мной будут преисполнены чувств, гораздо более сильных, чем деловые взаимоотношения.
Через два года мы открыли свой филиал, потом еще один, и еще… И тут мы сообразили: если не проявим осмотрительность, скоро оба возненавидим свой бизнес, если придется, чтобы оценить положение, больше полагаться на цифры, а не на аромат жарящейся «Явы» или глоток кенийского, или такой яркий, живой вкус свежезаваренного гватемальского в кофейной чашке. Поэтому мы на том и остановились, и теперь не планируем открывать новые магазины.
Признаюсь, я по-прежнему все-таки сноб в отношении смесей. Мне кажется, что некоторые сорта должны сохранять собственный вкус, а не такой, как нам бы хотелось: недостатки сорта — неотъемлемая часть его вкуса, как и его достоинства, и я бы, например, не стал их затушевывать. Но Фил настаивала, и я смягчил несколько сортов, и часть закрепилась у нас: теперь они у нас одни из лучших.
И вот, через пять лет после описанных здесь событий мы с Фил произвели на свет купаж собственного производства. От него пахло ванилью и меренгами, чуть подпаленными сливками и сухим хлебом и еще еле-уловимым запахом женщины, который овевает ароматом кожу новорожденного, едва он появляется на свет из материнского чрева. Она — чистое совершенство и с полным удовольствием носит имя Джеральдина Эмили Уоллис.
Определитель Уоллиса-Пинкера очень многим обязан нескольким справочникам по дегустации, как старым, так и новым, и в особенности «Справочнику дегустатора кофе» (The Coffee Cupper’s Handbook) Теда P. Лингла (Ted R. Lingle), изданным Главной Ассоциацией кофе Америки. Он также воздает дань собранию бутылочек с ароматами Le Nez du Café, созданному Жаном Ленуаром (Jean Lenoir), а также сопутствующим буклетом сенсорных определений Жана Ленуара в соавторстве с Давидом Гермонпрэ (David Guermonprez), переведенным с французского на английский Шарон Сатклифф (Sharon Sutcliffe).
Я обратился ко множеству книг, посвященным кофе, в том числе Uncommon Grounds Марка Прендергаста (Mark Prendergast), Black Gold Энтони Уайльда (Anthony Wild), The Devil’s Cup Стюарта Ли Аллена (Stewart Lee Allen) и Coffee: the Epic of a Commodity Хайнриха Джейкоба (Heinrich Jacob). Те небольшие сведения, которые я почерпнул о выращивании кофе в период правления королевы Виктории, взяты из книги Coffee: its Cultivation and Profit Лестера Арнольда (Lester Arnold), опубликованной в 1886 году.
Я слегка изменил пару дат в истории суфражистского движения, чтобы увязать со своим сюжетом, но сами события происходили в основном именно так, как я их описываю. В качестве первоисточников, включавших и подлинные отчеты о содержании суфражисток в тюрьмах и голодовкам, я прежде всего обращался к изданиям Votes for Women: The Virago Book of Suffragettes, под редакцией Джойс Марлоу (Joyce Marlow), a также Literature of the Women’s Suffragette Compaign in England под редакцией Кэролайн Кристенсен Нелсон (Carolyne Christensen Nelson).
Мое описание того, как лечили истерию на рубеже веков, почерпнуто из книги Technology of Orgasm: «Hysteria», the Vibrator, and Women’s Sexual Satisfaction Рейчел П. Мейнс (Rachel P. Maines). То, как автор это подает, звучит настолько странно для современного человека, что я взял на себя смелость вложить непосредственно в уста вымышленного мной доктора цитаты из источников того времени, цитируемые Мейнс.
Кое-какие мои зарисовки Лондона на рубеже веков, а также всевозможные меню, названия блюд и прочие наблюдения, тоже взяты из изданий того периода, как например: Scenes of London Life Генри Мейхью (Henry Mayhew) и Джона Бинни (John Binney) и Dinners and Diners подполковника Ньюхэм-Дейвиса (Lieut-Col Newnham-Davis), оба издания хранятся на замечательном сайте www. victorianlondon.org/.
Письма Роберта Уоллиса во время его путешествия по Африке основаны на дневниках путешественников викторианского периода, например, Гюстава Флобера и Мэри Кингсли, которые были куда более активными исследователями этого континента, чем Роберт. Особую благодарность я испытываю к книге Чарлза Николла (Charles Nicholl) Somebody Else: Arthur Rimbaud in Africa 1880–91 и, главным образом, к той ее части, где автор воспроизводит поездку Рембо из Адена в Харар, используя записки торговца кофе и искателя приключений Алфреда Барди.
Для описания работорговли в викторианский период я обращался к книге То the Heart of the Nile Пэт Шипмен (Pat Shipman). Это биография леди Флоренс Бейкер, которую на одном из таких торгов увидел исследователь Сэмюэл Бейкер и которая впоследствии стала его женой.
Я от всего сердца благодарен тем, кто прочел первые варианты этой книги. В особенности Тому Райи, Джудит Эванс и Элинор Купер: моим страстным защитникам, неустанно перечитывавшим части рукописи, а также строгим критикам. А еще Питеру Сатеру за рано проявленный интерес к книге, и моим агентам — Кэрадоку Кингу и Линде Шонесси — за помощь и преданную поддержку с первого до последнего дня. И, разумеется, — Джо Дикинсон и Кейт Мичак, моим редакторам в издательстве «Литтл, Браун и Ко» и затем в «Рэндом Хаус», без чьей помощи из моих «Ароматов кофе» мог бы получиться напиток совершенно иного свойства.
Книга «Ароматы кофе» посвящается моим сестрам — Клэр, Керолайн и Джейн.
Для знакомства с Reading Group Guide, интервью с Энтони Капелла и дискуссионным клубом читателей обращайтесь на сайт: www.anthonycapella.com
1
Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, стихотворный перевод, а также примечания переводчика. — O. K.
2
Патер (Пейтер, Уолтер (1839–1894) — ученик и последователь теоретика искусства, идеолога прерафаэлитов Джона Рескина (Раскина) (1819–1900); английский писатель, критик, эссеист.
3
Предметы (фр.).
4
Полусвет (фр.).
5
Ежеквартальный литературно-художественный журнал декадентского направления, сотрудником которого был, в частности, Оскар Уайльд; выходил с 1894 по 1897 гг.
6
Новый (фр.).
7
Изречение (фр.).
8
Горный район на юге Индии и, соответственно, сорт кофе.
9
Точное слово, «в точку» (фр.).
10
Небольшая возвышенность в северной части Риджентс-парка.
11
Лондонский вокзал, конечная станция Западного района.
12
«Ощущение (выявление, определение) ароматов кофе» (фр.).
13
Сэр Айзек Питман (1813–1897) — изобретатель стенографии.
14
Мокка, или мокко, — разновидность арабики. Название сорту кофе дал порт на Красном море — Моха (Mocha или Мокка).
15
В духе моды, модный (фр.).
16
Замок (англ.).
17
Одноконный экипаж с частично откидным верхом.
18
Ле Гальенн, Ричард (1866–1947) — английский поэт, тесно связанный с литературной жизнью Лондона в 1890-х гг. Позднее эмигрировал в США.
19
Пер. В. Микушевича.
20
Гомруль — Home Rule — движение английских националистов в последней трети XIX — начале XX века за ограниченное самоуправление Ирландии при сохранении верховной власти английской короны.
21
Крем-суп (фр.).
22
Котлеты из сефтонского барашка (фр.). Сефтон — небольшой город в Англии.
23
Молодая куропатка в жаровне (фр.).
24
Картофель со шпинатом «Анна», зеленые бобы по-английски, картофель «дофинуаз» (фр.).
25
Соус со взбитыми сливками (фр.).
26
В корзиночке (фр.).
27
Разнообразное печенье небольшого размера (фр.).
28
Villanelle (фр.), villanelle (ит.) — лирическое стихотворение-пастораль из девятнадцати строк с повторами некоторых и содержащая всего две рифмы. В русском стихосложении практически не встречается.
29
Женщины легкого поведения (фр.).
30
Нечто созвучное эпитету «душка» (шотландский диалект англ.) — прозвище лорда Альфреда Дугласа, любовника Оскара Уайльда.
31
В курсе (фр.).
32
Устрицы местные. Слоеные пирожки норвежские. Черепаха в прозрачном соусе. Крем Дюбари. Жареный омар в соусе Жюльен. Кусочки камбалы в соусе Жерманик. Суфле цыпленка в соусе Брийя-Саварэн. Филе барашка в соусе Гран-Вэнёр. Нежный зеленый горошек по-французски. Молодой картофель с петрушкой. Морская губка по-палермски. Йоркский окорок, тушеный в шампанском. Перепелка в соусе Краподин. Овощной салат. Спаржа зеленая на палочках в пенистом соусе. Пирожное «Литавры Марии-Луизы». Суфле-глясе Помпадур. Петифур ассорти. Десерт (фр.).
33
Легкое слабительное.
34
Настойка опия.
35
«Жики» (Jicky) — духи, созданные в 1883 году Эме Герленом в память о прелестной английской девушке, в которую он был влюблен в молодости, когда учился в Англии. Этот аромат явился началом новой эры в парфюмерии.
36
Данкаль, или адал (самоназвание афар), — арабское название группы кочевых племен, живущих в северо-восточных районах Эфиопии и на побережье залива Таджура.
37
Вади — превращенные в озерца сухие долины в пустынях Аравии и Африки, где периодически скапливается вода после долгих дождей.
38
Я (меня зовут) Роберт. Роберт Уоллис (фр.).
39
Да. Я знаю. Меня зовут Фикре (фр.).
40
Невмешательство, предоставление свободы действий (фр.).
41
Так арабы именовали европейских торговцев, а также людей с Запада. Видимо, слово восходит к персидскому «фаранги», что означает «иноземец».
42
Смесь (фр.).
43
Иначе: «испанский» или «королевский» жасмин.
44
Иначе: «арабский» жасмин.
45
Оскар Уайльд «Как важно быть серьезным». Пер. с англ. И. Кашкина.
46
…Не в этой ли ночи ты спишь, самоизгнанник,
Средь златопёрых птиц, Грядущих Сил прилив?..
…Но — я исплакался! Невыносимы зори….
…Ломайся, ветхий киль, — и я ко дну пойду… (фр.)
47
Хлородин — название одного из популярнейших в Великобритании больше столетия назад медицинского препарата. Он был изобретен в XIX веке доктором Джоном К. Брауном как сильное обезболивающее и седативное средство, особенно эффективное при лечении холеры и нервных расстройств. Основные ингредиенты — лауданум (спиртовой раствор опия), настой конопли и хлороформ.
48
Жаропонижающие средства.
49
В увидевшем свет в 1806 году «Естественном богословии» англиканский священник Уильям Пэйлин рассуждал так: предположим, что на прогулке в поле мы нашли часы. Ясно, что столь сложный и целесообразный механизм не мог возникнуть самопроизвольно, но был замыслен и изготовлен неким часовщиком. Но Вселенная и жизнь неизмеримо сложнее часов, поэтому должен быть и создавший их Мастер.
50
Проступок (фр.).
51
Ибога — вечнозеленый кустарник, произрастающий в тропических лесах Западной Африки. Желтые корни растения и главным образом его кора содержат вещество ибогин, которое в малых дозах оказывает стимулирующее воздействие на нервную систему, в больших дозах вызывает видения.
52
Гомруль — «home rule» — самоуправление (англ.). Движение за автономию Ирландии на рубеже XIX–XX вв. Либеральное правительство трижды выдвигало в Парламенте Билль о гомруле, и он трижды отклонялся палатой лордов. Независимость Ирландии была признана Англией только 6 декабря 1921 г.
53
Официально в Австро-Венгрии талер был заменен на крону в 1892 году. Однако талер с изображением императрицы Марии-Терезии продолжали чеканить, используя его в торговле с так называемыми странами Леванта — т. е. странами восточной части Средиземноморья (Сирией, Ливаном, Египтом, Палестиной, Турцией и пр.). В дополнение к кроне в Австро-Венгрии этого же периода выпускали еще и геллеры.
54
Не стоит при прислуге (фр.).
55
Диакритический знак над гласной в виде «домика», изменяющий ее звучание и встречающийся, в основном, во французском языке.
56
Очень влажное… Венерический приступ… (фр.)
57
Начальная буква английского слова «Vote» — голос, право голоса (избирательное право).
58
Скорее всего, это ошибка автора, речь, по-видимому, идет о Фашодском кризисе, во время которого Британия и Франция в 1898 г. решали проблему господства в Африке. Название произошло от населенного пункта Фашода на Верхнем Ниле.
59
Барри, Джеймс Мэтью (1860–1937) — шотландский драматург и романист, автор известной детской сказки «Питер Пэн».
60
Званые ужины (фр.).
61
«Верлибр», свободный стих (фр.).
62
Готтентоты (кой-коин) — этническая общность на юге Африки.
63
Зд.: «в легком жанре» (фр.).
64
Лондонский оптовый рынок фруктов, овощей и цветов.
65
Поденщик, батрак, преимущественно в странах Латинской Америки. (Слово испанского происхождения.)
66
Милитантки, или воительницы, — так называли наиболее воинствующее объединение суфражисток.
67
Краткий неприятный разговор (франц.) — дословно: «неприятные четверть часа».
68
Панкхерст, Эммелин (1858–1928) — британский общественно-политический деятель, лидер британского движения суфражисток.
69
Эсквит, Герберт Генри (1852–1928) — граф Оксфордский и Эсквитский, один из лидеров лейбористской партии, впоследствии премьер-министр Великобритании (1908–1916), который, в частности, позволил нации ввергнуться в Первую мировую войну.
70
Черчилль, Уильям Леонард Спенсер (1874–1965) — крупнейший политический деятель Великобритании, один из лидеров консервативной партии и — особенно в начале XX века — ярый противник феминистского движения.
71
То есть продажа без покрытия — игра на понижение, продажа ценных бумаг, товаров или валюты, которыми торговец на момент продажи не владеет. Один из видов биржевой спекуляции.
72
Печатается в Британии с 1697 г. Основан и впервые составлен неким Френсисом Муром, медиком и астрологом-самоучкой.
73
Финансовый инструмент — «квазиденьги», финансовый документ (валюта, ценная бумага, денежное обязательство, фьючерс, опцион и т. п.), продажа или передача которого обеспечивает получение денежных средств.
74
Тюремный автомобиль, окрашенный в черный цвет.
75
Имеется в виду полотно Веласкеса «Венера у зеркала», являвшееся частью коллекции Моритта из галереи Роукби в Йоркшире.
76
«Турецкий шаг» (англ.) — разновидность уанстепа, предшественник фокстрота.